Калидаса Род Рагху (Рагхуванша)
Введение, перевод с санскрита и примечания В. Г. Эрмана
Санкт-Петербург 1996
Калидаса. Род Рагху (Рагхуванша). — Пер. с санскр., введ. и прим. В. Г. Эрмана. - СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1996. — 336 с. («Памятники культуры Востока»).
ISBN 5-85803-018-1
ББК Ш5(5Ид)03-60.5
КАЛИДАСА. ОЧЕРК ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Чувство, чуждое священной обители, овладело мною», — говорит Шакунтала, героиня знаменитой драмы, в сцене первого акта, когда блистательный незнакомец предстает перед скромными девушками-отшельницами в саду уединенного лесного монастыря. Она произносит эти слова про себя, с робким удивлением, прислушиваясь к собственному сердцу и еще смутно догадываясь о природе охватившего ее волнения; но уже звучит в ее реплике тревожно-радостная нота, из которой рождается главная тема произведения — тема эта пронизывает все творчество великого поэта, автора бессмертной драмы. И поэзия Калидасы вступает в современную ей эпоху чудесной и неповторимой мелодией, выделяясь ясной гармонией и глубокой человечностью своего внутреннего содержания на фоне проникнутых духом аскетизма благочестивых легенд древней религиозной литературы Индии, ее величественных, но весьма громоздких, сложных и нередко противоречивых по содержанию памятников.
Это не значит, что творчество Калидасы представляет собой некое исключительное и чуждое явление в древнеиндийской литературе. Мир художественных образов и идей, который открывается нам в его поэзии, уходит корнями в индийскую почву. Имя Калидасы знаменует период высшего расцвета древней классической культуры, воплотившей в совершенных художественных формах духовные богатства, рожденные в древности творческим гением индийского народа. В начале классической эпохи, задолго до Калидасы, получают развитие новые для того времени жанры светской литературы. Создавая свои поэмы и драмы, он, несомненно, опирался на опыт предшествующих ему писателей; некоторые из них достигли в своем творчестве замечательных художественных свершений. И Калидаса, судя по всему, следует в своих произведениях выработанным до него и общепринятым литературным нормам, ничем не нарушая установившейся поэтической традиции.
И тем не менее в блестящей плеяде поэтов и драматургов «золотого века» древнеиндийской культуры фигура Калидасы возвышается над другими и занимает особое место. Среди писателей классической эпохи Калидаса, несомненно, выделяется размерами своего дарования; и поэзия его отмечена неподражаемым, только ей присущим звучанием, каждое произведение несет на себе печать его творческой индивидуальности. Не ломая освященных традицией канонов, Калидаса умеет найти новые и яркие краски для своих картин и образов, с удивительной изобретательностью использует в новых и неожиданных сочетаниях, в новых контекстах традиционные средства выразительности. Принимая как непреложные истины освященные религией воззрения своей эпохи на мироздание и на социальные и государственные институты, Калидаса тем не менее особенно глубоко и сильно выражает своим творчеством новый взгляд на мир и на человеческую личность, который отличает культуру классического периода от древнейших памятников литературы запечатлевших принципы господствовавшей в индийском рабовладельческом обществе идеологии.
Творчество Калидасы, по общему признанию, представляет собой вершину санскритской классической поэзии. Никто из предшественников его или последователей, чьи произведения дошли до наших дней, не достиг такой глубины проникновения в область сокровенных движений человеческой души и не сумел передать их самые тонкие проявления, трудноуловимые оттенки с такой точностью и изяществом поэтического выражения, никто не воспел так вдохновенно красоту природы родной страны и никто не отразил в своем творчестве так ярко и выразительно характерные черты индийского народного миросозерцания.
Знаменательно, что в новое время именно Калидасе суждено было первому из древнеиндийских писателей привлечь к себе внимание литературного мира Европы и что именно «Шакунтала», самое совершенное из его творений, явила западному читателю духовное богатство и своеобразие художественной культуры древней Индии (эта драма была одним из первых произведений санскритской литературы, переведенных на европейский язык непосредственно с оригинала в конце XVIII в.). Это соприкосновение с гением неведомой дотоле культуры открыло для европейской литературы новые горизонты, и таинственный Восток предстал для жителя Запада в новом свете. За пределами знакомого ареала античной и древнееврейской культурных традиций, там, где прежде рисовались взору экзотические земли, населенные варварами и дикарями, уже выступали очертания цивилизаций, богатством духовных ценностей не уступающих Древней Греции и Риму. Именно с этой поры литературы Индии, Китая, Ирана и других стран Азии вызывают особенный интерес исследователей, писателей, широкой читающей публики и становятся предметом пристального внимания и изучения в западных странах. Знакомство с ними обогащает арсенал европейской художественной культуры новыми образами, мотивами и сюжетами; духовное наследие народов Востока вливается, как общее достояние человечества, в сокровищницу мировой культуры[1].
В это общее культурное наследие входят и произведения Калидасы. И в наше время они не воспринимаются как мертвые памятники далекой и канувшей в вечность цивилизации, материал для текстологических и исторических штудий, интересный лишь узкому кругу исследователей. Они и поныне доставляют эстетическое наслаждение, поныне пленяют нас живой красотой своих образов, глубиной и искренностью поэтического чувства.
Но мы фактически ничего не знаем о создателе этих бессмертных творений. Личность крупнейшего поэта и драматурга древней Индии до сих пор остается для нас загадкой. Нам неизвестны ни годы его жизни, ни место его рождения, мы не знаем, кем он был и какое занимал положение в обществе, где провел детство и юность и где — годы творческой зрелости, что вдохновляло его на создание произведений, которым суждено было пережить века, имел ли он успех при жизни, был ли он богат или беден, кто принадлежал к его непосредственному окружению. На все эти вопросы мы, по-видимому, никогда не получим ответа. Древняя Индия не знала истории литературы в нашем понимании этого предмета, и биографический жанр в санскритской литературе не был развит во времена Калидасы. Не сохранилось никаких документов той эпохи, которые могли бы пролить свет на упомянутые вопросы, никаких свидетельств современников Калидасы или их ближайших потомков, ничего, что могло бы послужить материалом для достоверного жизнеописания. Только легенды, созданные народом и сохранившиеся в устной народной традиции, дошли до нас, но они не сообщают фактов реальной биографии поэта.
Можно было бы надеяться почерпнуть какие-то сведения о его жизни из его же произведений, сохранившихся до наших дней, но и они разочаровывают нас в этом отношении. В своих поэмах и пьесах Калидаса почти ничего не говорит о себе; во всем, что касается конкретных биографических данных, он оставляет нас на зыбкой почве догадок и предположений.
Голос великого поэта дошел до нас из глубины веков; нам известно его имя, о человеке же, который носил это имя, не сохранилось более никаких вестей. Он оставил нам только свои произведения. Фактов его биографии они не сообщают; но у нас нет иных источников и лишь по ним молено теперь получить какое-то представление о его личности, скрытой от нас непроницаемым туманом столетий, угадать черты его духовного облика.
Если мы ничего не знаем о фактах жизни Калидасы-человека, то творческая жизнь поэта открывается нам в его художественных образах, и современный читатель способен понять и оценить самобытность и остроту его художнического видения мира, его одухотворенное восприятие прекрасного, его страстное жизнелюбие и преклонение перед человеческой красотой. Личность писателя интересует нас прежде всего постольку, поскольку она проявляется в его творчестве и определяет характер его литературной деятельности, его художественный стиль. Известный современный индийский общественный деятель Ауробиндо Гхош в свое время говорил даже об этом отсутствии биографических данных как о «весьма счастливом обстоятельстве» для исследования и оценки произведений Калидасы; исторический материал, с его точки зрения, скорее мешает, чем помогает правильно понять творчество поэта[2]. Конечно, мы не можем присоединиться к такому мнению; обстоятельства жизни и условия окружения автора не могут не сказываться определенным образом на характере его литературной деятельности, и знание их обогащает наше понимание его художественного наследия. Но возможен и обратный путь: воссоздание по произведениям писателя - не биографических фактов (сами по себе они действительно не представляют принципиального интереса для исследователя литературы), но — внутреннего мира автора, его творческого портрета, его художественной индивидуальности. Эта задача, правда, значительно усложняется, когда речь идет о писателях древней эпохи или средневековья. Черты индивидуального стиля здесь гораздо менее ясно различимы, чем у авторов нового времени; и Калидаса, как упоминалось, следует без явных отклонений традиционным формам художественного выражения, традиционным образам и сюжетам. Печать его творческого гения, однако, достаточно ярко выделяет его произведения в общей массе санскритской литературы, и подлинность авторства Калидасы устанавливается относительно легко, хотя средневековая индийская традиция приписывает ему многие тексты, явно принадлежащие другим писателям.
Полное отсутствие достоверных биографических сведений, ненадежность указаний на авторство в древней санскритской литературе не исчерпывают, правда, тех трудностей, которые встают перед современным исследователем творчества Калидасы. Еще более усложняет его задачу общий недостаток датированных исторических документов, освещающих социальную и политическую жизнь Индии той эпохи. История древней Индии во многом остается для нас не обоснованной письменными источниками, не избавленной от существенных пробелов, и она насыщена легендами не только в области литературы; до сих пор не разрешены полностью многие проблемы, касающиеся социального и политического строя страны, ее государственных институтов, экономической жизни и т. д.
Нам неизвестны не только годы жизни Калидасы; не сохранилось и прямых свидетельств, которые позволили бы с полной уверенностью отнести творчество поэта к определенному веку. Все еще не прекращается полемика между исследователями по этому вопросу; предлагаемые решения колеблются в диапазоне более полутысячелетия[3].
Индийская традиция называет Калидасу в числе девяти «жемчужин» двора Викрамадитьи — девяти знаменитых писателей и ученых, процветавших под покровительством легендарного царя Удджайини (Западная Индия), который носил это имя. Основываясь на традиции, некоторые историки литературы датируют время жизни Калидасы I в. до н. э., поскольку с 58 г. до н. э. начинается летосчисление эры Викрама, будто бы установленное упомянутым царем в ознаменование его победы над вторгшимися тогда в Индию скифами. Датировка эта — до настоящего времени одна из самых распространенных (ее придерживаются преимущественно индийские калидасоведы), но основания ее крайне шатки. Прежде всего, определенно установлено, что девять знаменитостей, коих предание помещает при дворе легендарного Викрамадитьи, никак не могли быть современниками (время жизни некоторых известно более или менее точно)[4]. И сама личность царя Викрамадитьи, победителя скифов и покровителя поэтов и ученых, основателя новой эры, вызывает серьезные сомнения историков. Нет надежных подтверждений в первоисточниках тому, что царь, носивший такое имя, действительно существовал в I в. до н. э.; название эры впервые появляется в тексте X в. По существу, это не имя, а титул, который в престижных целях не раз присваивали себе индийские цари на протяжении раннего средневековья.
В частности, этот титул носил Чандрагупта II (380-413), при котором наивысшего могущества достигла империя Гуптов, последнее крупное государство, объединившее под своей властью значительную часть Индии в преддверии эпохи иноземных завоеваний (если не считать кратковременного существования империи Харши в VI в.). В настоящее время наибольшее признание получило предположение, что Калидаса был современником Чандрагупты II и именно этот царь был тем Викрамадитьей, покровителем поэта, которого связывает с последним средневековая индийская традиция. Во всяком случае, только эти две датировки — I в. до н. э. и V в. н. э. — рассматриваются сейчас более или менее серьезно в научной литературе, посвященной Калидасе.
Мы не будем останавливаться здесь подробно на аргументах, приводимых сторонниками той или другой датировки. В пользу датирования творчества Калидасы эпохой империи Гуптов говорит целый ряд доводов, каждый из которых в отдельности не может служить непреложным доказательством, но в совокупности они представляются наиболее основательными. Особенно обоснованно и убедительно они были разработаны еще в 40-х гг. в исследованиях индийского литературоведа Б.Ш. Упадхьяйи, который путем сложных сопоставлений, с привлечением чрезвычайно обширного исторического материала показал, что творчество Калидасы вероятнее всего приходится на годы царствования Чандрагупты II и его сына Кумарагупты I. В своих работах индийский ученый предпринял попытку определить время жизни Калидасы с максимальной точностью; и хотя выводы его могут показаться слишком смелыми (согласно Б. Ш. Упадхьяйе, Калидаса жил приблизительно в 365—445 гг.), они безусловно заслуживают внимания[5].
Мы не знаем, действительно ли Калидаса пользовался покровительством Чандрагупты II, принявшего титул Викрамадитья, хотя легенды единодушно называют Калидасу придворным поэтом (в ту эпоху профессиональная литературная деятельность неизбежно опиралась на покровительство богатых меценатов, обычно — царей); но известно, что правители династии Гуптов поощряли развитие литературы и искусства.
Отец Чандрагупты II Самудрагупта сам писал стихи и покровительствовал поэтам. Эту традицию, очевидно, продолжали и его преемники. Правда, творчество Калидасы связывают обычно с городом Удджайини (чему есть ряд внутренних свидетельств в самих его произведениях), между тем как столицей Гуптов была Паталипутра, расположенная в Восточной Индии; однако именно Чандрагупта II присоединил Мальву с ее центром Удджайини к своей империи. Весьма возможно, что этот город, славящийся своим богатством и архитектурными памятниками, был временной резиденцией царя, который мог оказывать щедрое покровительство местным поэтам, ученым и другим деятелям культуры.
Самудрагупта был подлинным основателем великой империи. При его сыне и преемнике могущество Гуптов достигло своего апогея. Чандрагупта II значительно расширил пределы своего государства; как полагают, его завоевательные походы нашли отражение в поэме Калидасы «Род Рагху», в описании побед и завоеваний легендарного царя Рагху из Солнечной династии. Помимо Мальвы Чандрагупта II, сокрушивший сильное государство Западных Кшатрапов[6], присоединил к своим владениям территорию современного Гуджерата на западе, Вангу (современная Бенгалия) на востоке; согласно некоторым источникам, он совершил также поход на северо-запад до пределов Бах-лики (современные Северный Афганистан и Южный Таджикистан). Вся Северная Индия фактически находилась в это время под властью Гуптов; кроме того, в вассальной зависимости от них оказались обширные территории на юге, Камарупа (современный Ассам) на востоке, Непал на севере.
Блестящая эпоха могущества Гуптов была недолговечной, и в ней уже рождались центробежные силы, приведшие к скорой гибели империи. Решающим фактором стал внешний толчок — иноземное нашествие. В конце царствования Кумарагупты I (возможно, еще при жизни Калидасы) государству начали угрожать набеги многочисленных внешних врагов, которые с большим трудом отражены были имперской армией под командованием сына престарелого Кумарагупты царевича Скандагупты. Уже после смерти Кумарагупты I, в царствование Скандагупты, на Индию обрушилось нашествие кочевых орд гуннов (так называемые «белые гунны» или эфталиты). Хотя Скандагупте удалось разгромить армию гуннов в 457 г. и отбросить их за пределы своей империи, могущество государства было в значительной степени подорвано. После Скандагупты, при его преемниках, империя начинает быстро клониться к упадку. В VI в. возобновившиеся вторжения гуннов довершают ее крушение. Еще через сто лет многие богатые и великолепные города Северной Индии, процветавшие во времена Калидасы, уже лежали в руинах. Наступала мрачная эпоха в истории страны, эпоха феодальной раздробленности, разрушительных иноземных завоеваний, упадка древней культуры, торжества реакционных и застойных традиций в социальной и культурной жизни Индии.
В преддверии этой эпохи, в период последнего взлета политического могущества древнеиндийского государства, обусловившего яркий, хотя и относительно недолговременный расцвет классической культуры, и жил величайший поэт и драматург Индии Калидаса. Творчество его явилось вершиной, но в то же время знаменовало в какой-то степени и завершение богатейшей и самобытной поэтической традиции «золотого века» классической культуры Индии. Черты упадка обнаруживаются в санскритской литературе уже вскоре после Калидасы; пора расцвета минует, и хотя в последующие века еще появляется ряд крупных и своеобразных художников слова, они постепенно уступают место эпигонам. На исходе I тысячелетия н. э. санскритская литература начинает вообще сходить со сцены, и ее постепенно сменяют уже нарождающиеся новые литературы на живых народных языках. Но в становлении своем и они опираются на древнюю традицию.
О творчестве Калидасы с неменьшим основанием можно сказать, что оно предшествует новой эпохе в культурной истории Индии, стоит у истоков новоиндийских литератур, существование свое продолжающих в наши дни. Во всяком случае, память о великом поэте не угасает на протяжении веков, и она живет не только в сочинениях ученых и писателей, в произведениях письменной литературы, но и в народных преданиях, заменяющих нам теперь отсутствующие документальные биографические данные.
Так же как в Древней Греции семь юродов спорили о праве называться родиной Гомера, так и в Индии родным городом Калидасы называют то Удджайини, то Бенарес, то Дхару; одни легенды сообщают о том, что он провел юные годы в Бенгалии, другие помещают ею на Шри Ланке, третьи переносят на север, в Кашмир, некоторые же, напротив, полагают, что поэт родился на юге, в Андхре; называют и другие местности и юрода. Известный индийский ученый Бхаодаджи еще в прошлом веке высказал предположение, что Калидаса был уроженцем Кашмира, и это мнение получило впоследствии распространение среди калидасоведов[7]. Кашмир, горный край, огражденный западными отрогами Гималаев, оставался независимым от Гуптов, но это была одна из процветающих областей страны, обладавшая развитыми культурными традициями, которая дала Индии многих выдающихся писателей и ученых во времена классической древности и раннего средневековья.
Легенды сообщают, что Калидаса был брахманом по происхождению. В произведениях самого поэта нет ничего, что безусловно подтверждало бы это, и ничего, что бы этому сколько-нибудь противоречило. Проповедь почтения к брахманам и признание брахманских привилегий — общее место в индийской литературе древней эпохи, и соответствующие декларации у Калидасы ничего не говорят о его кастовой принадлежности. Но подвергать сомнению данные традиции в данном случае нет оснований. В древней и средневековой Индии брахманы играли роль своего рода наследственной интеллигенции, и большинство известных нам деятелей культуры и науки действительно принадлежали к этому сословию.
Тем не менее брахманское происхождение само по себе уже не означало в те времена высокого положения в социальной иерархии. Те же легенды говорят, что Калидаса происходил из бедной семьи и в юные годы был пастухом (согласно некоторым преданиям, он осиротел в возрасте шести месяцев и был воспитан в семье пастуха). Все это может отражать реальные факты его биографии, хотя никакой уверенности в этом отношении у нас нет. Рассказывается также весьма маловероятная история о неожиданном возвышении Калидасы благодаря женитьбе на дочери богатого брахмана (или, согласно некоторым версиям, на бенаресской принцессе).
Эта девица, царевна или брахманка, слыла ученейшей женщиной и отказывала всем женихам на том основании, что они не могут равняться с нею в учености. Согласно одним версиям — отец, разгневанный ее упрямством (согласно другим — отвергнутый жених), поклялся проучить ее и выдать замуж за самого невежественного и глупого человека, какого ему удастся приискать. В поисках такого жениха отец невесты набрел однажды в лесу на некоего юношу, который пилил сук, сидя на нем лицом к дереву. Это и был Калидаса. Его привели в дом девицы, которая устроила ему экзамен. Юного пастуха между тем предупредили, чтобы он не раскрывал рта до свадьбы, невесте же объяснили, что приисканный ей жених — человек глубокой мудрости и образованности, но дал обет молчания; поэтому ученая дева ради испытания начала вести с ним диспут посредством жестов. Она показала ему один палец; это должно было означать что вселенная имеет единую причину своею существования. Калидаса показал в ответ два пальца; посвященные в заговор «ученики» жениха объяснили, что ответ его исполнен глубочайшего смысла, ибо в действительности происхождение и существование вселенной обусловливают два независимых начала - дух и материл. Невеста вынуждена была признать себя побежденной[8].
Вскоре после женитьбы, однако, она раскрыла обман; Калидаса выдал себя, согласно одной версии, заговорив во сне о коровах, которых он пас на родине; согласно другой, во время посещения картинной галереи он проявил полное невежество в изящных искусствах, выказав в то же время профессиональные познания, когда речь зашла об изображенных на одной из картин коровах. Далее одни легенды рассказывают, что, изобличив Калидасу, ученая жена прогнала его; согласно другим, она посоветовала ему обратиться к богине Кали и молить ее даровать бедному пастуху мудрость и ученость, тот отправился в храм Великой Богини, супруги Шивы, и она вняла ею молитве.
Еще по одной версии, изгнанный из дома жены, Калидаса по собственной инициативе поступил в школу, чтобы приобрести недостающие ему знания; но наука не давалась ему. Его соученики уговорили его провести ночь в храме грозной богини Кали, надеясь потом хорошенько позабавиться. Не думая об опасности навлечь ее гнев, простак согласился; чтобы представить доказательство своего пребывания в храме, он вымазал руку пеплом из священного очага и хотел оставить отпечаток на лице статуи богини. Та, чтобы избежать оскорбления, предстала перед смельчаком и обещала ему исполнить любую его просьбу. Он пожелал стать мудрейшим из людей. Богиня сказала ему, что он запомнит содержание всех книг, которые успеет перелистать за ночь, и будет всегда побеждать в диспутах. Калидаса всю ночь перелистывал книги в комнате своего учителя, где проходили обычно занятия, и под утро, усталый, заснул. Когда начался урок, он еще спал. Во время урока учитель сделал незначительную ошибку в санскритской речи, и сонный Калидаса, приведя всех в изумление, поправил его, сославшись на соответствующее место в грамматике великого Панини, которую, как было известно, он ранее совершенно не знал. Так он стал ученейшим человеком в стране и впоследствии попал ко двору царя Викрамадитьи, где собирались самые знаменитые ученые и поэты Индии. Именно тогда, говорят легенды, он получил имя Калидаса, что означает буквально «раб Кали». Приведенная легенда, вероятно, и возникла в связи с этимологическим толкованием имени Калидаса.
В преданиях о детстве и юности Калидасы он выступает как типичный герой народной сказки; образ удачливого «глупца», вызывающего насмешки окружающих, но в конце посрамляющего признанных умников, хорошо известен в фольклоре многих народов (Иванушка-дурачок в русском фольклоре, германский Эйленшпигель, Молла Насреддин у народов Средней Азии — достаточно характерные примеры). Возможно, однако, что Калидаса, как мы отмечали, действительно происходил из бедной семьи, об этом говорит большинство преданий. И тогда нетрудно понять, что только чудесным вмешательством божества могли объяснить неискушенные люди, как простой пастух, хотя бы и брахман по рождению, стал одним из об-
разованнейших людей своего времени (а об этом совершенно определенно свидетельствуют его произведения). Но даже если упомянутые легенды не отражают действительных фактов биографии поэта, они говорят о глубокой любви к нему народа, создателя этой легенды, в которой образ Калидасы сливается с образом популярного фольклорного героя.
Народные предания рассказывают далее о жизни Калидасы при дворе просвещенного царя-мецената, об интригах завистливых придворных, безуспешно пытающихся посеять раздор между царем и поэтом, которых связывают непринужденные дружеские отношения, — в этих рассказах Калидаса держится с могущественным монархом весьма независимо, по существу на равных, — об остроумных ответах Калидасы на головоломные задачи и загадки, которые царь задает ему по тому или иному случаю, стихотворных экспромтах, которыми поэт парирует коварные провокации своих соперников, разоблачает невежество самоуверенных выскочек или, напротив, выручает бедняков, попавших впросак под впечатлением блеска и великолепия непривычной для них дворцовой обстановки. Мы не знаем, что в этих рассказах может соответствовать в какой-то мере реальным фактам биографии поэта, если вообще они их сколько-нибудь отражают. Достоверность их ставит под сомнение уже то, что большинство подобных анекдотов связывает Калидасу с царем Бходжей, который жил на несколько веков позднее; имя Калидаса носили (или принимали) некоторые поэты-эпигоны раннего средневековья и упомянутые рассказы, как предполагают, могли быть порождены памятью о каком-либо из этих тезок великого писателя.
Того же происхождения могут быть сведения о пребывании Калидасы послом при дворе царя Шри-Ланки Кумарадасы. Согласно этим легендам, Калидаса и умер на Шри-Ланке, пав жертвой интриги корыстолюбивой куртизанки. Царь Кумарадаса, близкий друг Калидасы, рассказывает далее легенда, потрясенный его гибелью, покончил с собой, прибегнув к самосожжению. Однако Кумарадаса правил на Шри-Ланке в начале VI в., что не согласуется с доводами, датирующими жизнь и творчество Калидасы царствованиями Чандрагупты II и Кумарагупты I. Это предание тоже может относиться к какому-нибудь другому Калидасе. Если же великий поэт действительно кончил жизнь на Шри Ланке, это было, очевидно, в правление другого монарха.
Все эти сведения, сообщаемые легендами, слишком туманны и ненадежны, и мы должны обратиться от них к произведениям самого Калидасы. Извлечь из них материалов для биографии поэта не удается; можно лишь предполагать, что он действительно жил долгое время в Удджайини, что, по-видимому, много путешествовал и особенно хорошо знал Северную Индию; возможно, был шиваитом (во всяком случае, исповедовал индуистскую религию). Наконец, творчество Калидасы свидетельствует с несомненностью, что он действительно был глубоко и разносторонне образованным человеком.
В Индии классического периода обязательным требованием, предъявляемым к поэту, было глубокое знание не только литературы и ее теории, но и ряда смежных искусств и научных дисциплин, широкая образованность и эрудиция. И Калидаса в полной мере обладал требуемыми познаниями — необходимость их для поэта обосновывается в традиционных трактатах. Помимо грамматики и собственно поэтики санскритский писатель должен был хорошо знать логику, основные этико-философские доктрины, науку об управлении государством, теорию военного дела, а также науку о любви, он не мог не быть искушенным в музыке, в искусстве танца и пантомимы, должен был разбираться в теории театрального искусства.
Калидаса, очевидно, был хорошо знаком с философской мыслью древней и своей эпохи — с упанишадами, с учениями санкхья и йога. По-видимому, он читал «Артхашастру», древнейший известный нам трактат по науке государственного управления и политической экономии, авторство которого приписывается Каутилье, министру царя Чандрагупты Маурья, хотя окончательно он сложился, вероятно, значительно позднее, вобрав в себя многовековой опыт политической мысли древней Индии. Поэту были, несомненно, известны и «Натьяшастра», приписываемая Бхарате, и «Камасутра» Ватсьяяны. Теологические доктрины, популярные в его время, также были ему, разумеется, хорошо знакомы, равно как и пураны, религиозно-эпические поэмы раннего индуизма, но следует заметить, что собственно религиозной тематике Калидаса в своих произведениях уделяет очень мало внимания — не больше, чем это требовалось традицией, и гораздо меньше, чем, например, такой писатель, как Ашвагхоша, его предшественник, посвятивший свою поэзию пропаганде буддийского вероучения.
Из произведений Калидасы можно сделать вывод, что он был правоверным индуистом, причем принадлежал, по всей вероятности, к приверженцам шиваитского направления[9]. Он отдает дань благочестивым изречениям и декларациям и не подвергает сомнению общепризнанные «истины» индуистского вероучения, но религия как таковая мало его занимает. Он широко черпает из мифологии образы и сюжеты, в его произведениях находят отражение народные верования и обряды, но все это используется в чисто художественных целях, и в конечном счете религиозная идеология не накладывает значительного отпечатка на творчество Калидасы.
Очень мало можно добавить к тому, что сказано было о жизни и о личности Калидасы на основании косвенных данных, догадок и легенд, дошедших из глубины веков. Один из исследователей в нашем столетии, пытаясь восстановить облик Калидасы по его произведениям, пишет: «Можно быть уверенным, что он был красивым человеком... Несомненно, в нем было очарование, привлекавшее сердца женщин, и, в свою очередь, женщины привлекали его. Несомненно, его любили дети. Складывается ощущение, что ему никогда не пришлось испытать болезненных душевных потрясений, какие приносят с собой сомнение в вере или муки отвергнутой любви; что, напротив, его отношения с мужчинами и женщинами отличались искренностью и божественной грацией, и он прошел жизнь, не давая власти над собой страстям, но и не подавляя их, с душою и чувством, восприимчивыми ко всякой красоте в этом мире. Мы знаем, что его поэзия пользовалась популярностью при его жизни, и мы не можем сомневаться в том, что и личность его была в равной степени привлекательна для окружающих, хотя, возможно, никто из современников не понимал в полной мере его величия. Ибо натура его отличалась необыкновенной уравновешенностью, и он чувствовал себя одинаково в своей стихии и при блестящем дворе, и на дикой горной вершине, с людьми высшею круга и с простолюдинами. Таких людей никогда не оценивают полностью при жизни. Они продолжают расти в своем величии после смерти»[10]
Этому высказыванию американского индолога А. У. Райдера вторят индийские калидасоведы Г. В. Девастхали и Р. Ч. Маджумдар; предположив, что городом, воспитавшим великого поэта, был Удджайини, они далее пишут: «Сам он был человеком, одаренным всей ученостью своего времени, богатым, аристократичным, вращающимся исключительно в высшем обществе, знавшим и любившим жизнь в самой роскошной из столиц той эпохи...»[11]
Насколько верен портрет, нарисованный Райдером по впечатлению, возникающему при чтении произведений Калидасы, насколько близки к истине индийские авторы, основывающиеся на тех же косвенных данных и интуитивных догадках, мы, по-видимому, уже никогда не узнаем. Но нам известно, что далеко не всегда образ писателя, складывающийся при знакомстве с его творчеством, совпадает с впечатлениями современников, встречавшихся с ним в жизни (которых не хватает нам в данном случае). Судя по произведениям Калидасы, можно представить его баловнем судьбы, чья жизнь не знала трагических потрясений и протекала в аристократическом обществе в безмятежном созерцании красоты мира, благополучная и небогатая внешними событиями; но уверенными в этом мы быть не можем, тем более что внимательное знакомство с его творчеством не подтверждает такое впечатление безусловно: видимо, не столь уж безмятежным и идиллическим было его восприятие жизни хотя светлое жизнеутверждающее начало действительно определяет основную тональность его поэзии[12].
Мы можем только гадать о том, кто из индийских писателей, ученых, философов, исторических деятелей был современником Калидасы. О его предшественниках в области литературного творчества мы вообще ничего не знаем, хотя произведения его определенно венчают богатую традицию профессионального поэтического сочинения, доводя до совершенства разработанные на протяжении веков формы и приемы. У истоков санскритской классической поэзии воздвигаются два великих эпоса древней Индии — «Махабхарата» и «Рамаяна», неисчерпаемые источники сюжетов и образов для всей последующей литературы. Известно, что на дальнейшее развитие поэзии особенное влияние оказала «Рамаяна», называемая в индийской традиции «первой поэмой», авторство которой приписывается Вальмики, легендарному «первому поэту»; действительно, ее язык и стиль предвосхищают во многом характерные черты произведений эпохи расцвета; следы этого влияния усматривают и у Калидасы. «Рамаяна» в основной своей части была создана, по-видимому, около IV-III вв. до н. э. Но между Вальмики и эпохой, к которой принадлежит Калидаса, простираются века, покрытые туманом для современного исследователя истории древнеиндийской литературы. Наиболее известный поэт, писавший на санскрите, произведения которого дошли до наших дней и которого можно определенно отнести к этому промежуточному периоду, - Ашвагхоша, автор знаменитой поэмы «Жизнь Будды».
Он жил при императоре кушанской династии Канишке, то есть, по-видимому, в I —II вв. н. э., во время очередного подъема могущества индийской империи. В его произведениях мы уже находим полностью развитыми основные черты языка и стиля санскритской классической поэзии. В произведениях Калидасы можно обнаружить отголоски некоторых мотивов и стилистических приемов, характеризующих творчество этого выдающегося писателя[13].
Ашвагхоша является также первым санскритским драматургом, чьи пьесы сохранились до нашего времени (хотя только в отрывках). Как и его поэмы, они свидетельствуют о достаточно высоком уже развитии формы, завершившем сложение литературного жанра, и предполагают не одно столетие его становления, хотя более ранние классические поэмы и драмы до нас не дошли. Другим предшественником Калидасы в области драматургии был знаменитый Бхаса, время жизни которого относят к III — IV вв. н. э. (есть и более ранние датировки)[14]. До нас дошли тринадцать пьес, которые современные исследователи по ряду косвенных данных приписывают Бхасе; но полной уверенности, что все они принадлежат этому автору, у нас нет, поскольку в сохранившихся рукописях имя его не указано[15]. Почти бесспорно, что ему принадлежит знаменитая драма «Пригрезившаяся Васавадатта», выделяющаяся высокими художественными достоинствами; она несомненно оказала влияние на Калидасу. Из других его предшественников на поприще драматического творчества нам известны Саумилла и Кавипутра, но только по именам.
К IV в. н. э. относят творчество Арьяшуры, автора «Гирлянды джатак»[16], сборника коротких повестей, написанного прозой и стихами (стихи перемежают прозу и в других памятниках древнеиндийской повествовательной литературы), — и здесь обнаруживается влияние Ашвагхоши. Приблизительно к этому же времени можно отнести создание ранней версии знаменитого сборника басен и сказок «Панчатантры», авторство которого приписывается легендарному мудрецу Вишнушарману; многократно переработанный в последующие века, он дал начало популярнейшему в средневековой индийской и других восточных литературных традициях жанру «обрамленной повести»[17] и оказал огромное воздействие на мировую литературу. Незаурядными художественными достоинствами обладает также проза Ватсьяяны, автора знаменитого трактата «Камасутра» («Руководство в науке о любви»), содержащего помимо прочего ценные сведения о быте и общественной жизни эпохи; Ватсьяяна мог быть современником Калидасы или жить незадолго до него. Сам Калидаса в своем творчестве не обращался, по-видимому, к прозаическим жанрам, но упомянутые произведения были ему знакомы, и проза его драм была подготовлена в какой-то мере развитием повествовательной литературы в предшествующие века.
Названными именами почти исчерпывается все, что мы знаем о литературе раннеклассического периода, отделяющего Калидасу от великого родоначальника санскритской классической поэзии, автора «Рамаяны». Здесь нужно заметить, однако, что в классический период литература в Индии развивается не только на санскрите. Богатая литературная традиция создается на пракритах, среднеиндийских языках, восходящих к тому же источнику, что и санскрит (т. е. к диалектам древнеиндийского языка), родственных ему, но представляющих более позднюю стадию истории языка. В отличие от санскрита, который уже задолго до эпохи Калидасы оторвался от народной почвы и приобрел несколько искусственный характер как утонченный, «обработанный», «отделанный» (буквальное значение термина санскрит) язык образованных слоев общества, очищенный от вульгаризмов, пракриты в начале классического периода были, вероятно, значительно ближе к живой речевой стихии и доступнее для более широкой аудитории. Пракриты, впрочем, оказали на санскрит известное влияние. Стилизованные формы среднеиндийских языков употреблялись и в классической драме для речевой характеристики представителей низших слоев.
В раннеклассический период бурный расцвет переживает в Индии литература на пали, представляющем наиболее раннюю форму средне-индийского литературного языка. Развитие этой литературы тесно связано с буддийской традицией; большинство ее памятников включено в канон секты тпхеравадинов (так называемого южного буддизма), но среди них богато представлены и художественные жанры, в основном лирическая поэзия и повествовательная проза.
Правда, ко времени Калидасы литературная традиция на языке пали в Индии фактически прекращается, что связано определенным образом с упадком буддизма, постепенно вытесняемого за пределы страны победоносным индуизмом. Но художественные произведения создаются и на других среднеиндийских языках. Около II в. н. э. в Южной Индии появляется антология лирической поэзии на языке махараштпри «Саттасаи» («Семьсот строф»), стихи которой в основной части строятся на песенном фольклоре; составление ее приписывается царю Хале, правившему в ту пору в Андхре. Около III или IV в. н. э. был создан замечательный сказочный эпос на языке пайгиачи — «Великий сказ», его авторство приписывается Гунадхье; до нас не дошел оригинал этого памятника, но он оказал очень большое влияние на санскритскую литературу и породил многие версии и подражания в позднеклассический период.
Однако и санскритская, и пракритские литературы были, очевидно, значительно богаче, чем можно судить по тем произведениям, которые дошли до наших дней. Несомненно, что за века, отделяющие «Рамаяну» от Калидасы, в Индии появилось значительно больше памятников художественной литературы и значительно больше писателей, поэтов и драматургов участвовало в развитии классической литературной традиции, чем нам теперь известно[18]. Но большинство текстов раннеклассического периода не сохранилось, и мы как бы сразу вступаем в эпоху высшего расцвета, минуя подготовивший его период.
Переходя непосредственно к художественному творчеству Калидасы, мы сталкиваемся с еще одной проблемой. До нас дошло немалое количество произведений, приписываемых Калидасе, — всего около тридцати поэм и пьес, — но подавляющее их большинство принадлежать ему никак не может. Возможно, некоторые из них принадлежат писателям, носившим то же имя, о чем мы упоминали выше[19]. Но здесь надо учитывать также, что для историка древнеиндийской литературы установление действительного авторства представляет проблему далеко не всегда легко разрешимую. И дело не только в том, что древняя Индия не знала авторского права. Как в индийской, так и в других древних и средневековых культурах понятие индивидуального авторства во многом не совпадало с современным, сложившимся исторически относительно недавно[20].
Все же на основании анализа языка, стиля, художественных достоинств современные исследователи выделяют из приписываемых Калидасе поэм и пьес шесть, единодушно признаваемых его произведениями. Это две эпические поэмы - «Род Рагху» (Raghuvamca) и «Рождение Кумары» (Kumarasambhava), одна лирическая поэма -«Облако-вестник» (Meghaduta) и три драмы - «Малявика и Агнимитра» (Malavikagnimitra), «Мужеством добытая Урваши» (Vikramorvaci) и «Шакунтала, признанная по кольцу» (Abhijnanacakuntala)[21]. К ним добавляют иногда и седьмое — лирическую поэму «Времена года», относительно которой нет определенного мнения: одни ученые решительно отрицают принадлежность этого произведения Калидасе, другие не менее решительно утверждают, что поэма «Времена года» могла быть написана только Калидасой.
Добавим в заключение, что мы не можем с уверенностью сказать, известны ли нам все произведения Калидасы. Возможно, кроме названных шести или семи, он создал еще и другие, не сохранившиеся до наших дней. Мы не знаем продолжительности жизни Калидасы (хотя многие исследователи склонны приписывать ему долголетие, охватывающее несколько царствований). По стандартам нового времени шесть-семь сочинений не очень значительного объема — не слишком много для одного автора. Однако и от других санскритских писателей классического периода до нас дошло не более того; редко когда число произведений кого-либо из них превышает три или четыре (пример Бхасы с его тринадцатью пьесами остается сомнительным, как мы отмечали) — на этом фоне Калидаса может показаться достаточно плодовитым писателем, даже если он не создал ничего сверх того, что нам известно. Но следует иметь в виду, что до нас дошли, по-видимому, далеко не все произведения санскритской литературы эпохи расцвета, не говоря уже о текстах раннеклассического периода, почти полностью утраченных.
Поэмы Калидасы
Если поэма «Времена года» действительно принадлежит Калидасе, это, по всей вероятности, первое или одно из первых его творений. Исследователи, оспаривающие его авторство, ссылаются главным образом на художественное несовершенство отдельных частей поэмы, подражательный и условный характер многих метафор и других выразительных средств, определенную незрелость поэтической манеры. Их оппоненты возражают, что именно это и может объясняться неуверенностью юного поэта, еще только вступающего на стезю художественного творчества. Поэма тем не менее, кому бы она ни принадлежала, говорит о незаурядном даровании ее автора, отдельные слабости не заслоняют ее несомненных достоинств, истинного поэтического чувства, которым проникнуты содержащиеся в ней картины природы. И общий характер произведения, изображающего жизнь природы и человека в их внутреннем единстве, кажется глубоко родственным гению Калидасы, воплотившим это единство в своем творчестве наиболее ярко и выразительно; хотя черта эта свойственна вообще древнеиндийской поэзии.
Допуская авторство Калидасы, мы можем рассматривать «Времена года» как своего рода поэтическое введение ко всему его творчеству. Здесь впервые раскрывается перед нами все великолепие индийской природы в ее чудесных превращениях, в блистательной и чарующей игре красок. Впервые мы узнаем эту прекрасную цветущую страну, залитую солнечным сиянием, ее леса и воды, равнины, холмы и горы, среди которых развернется действие калидасовских поэм и драм и предстанут перед нами их герои и иные персонажи: могучие воители и тоскующие влюбленные, прелестные юные девушки, величественные мудрые отшельники и искушенные в мирских делах царедворцы, боги, наделенные человеческими чувствами и страстями, и люди, красотой подобные богам.
Картины природы в поэме проникнуты лиризмом, они даются чрезвычайно эмоционально через восприятие влюбленных, и американский индолог Райдер удачно, следует признать, характеризует ее содержание, замечая, что поэма «Времена года» могла бы называться «Календарь любви». Здесь мы находим многие образы и сравнения, характерные для Калидасы, как характерно для него и художественное воспроизведение мира природы, увиденного глазами поэта, плененного красотой своей возлюбленной. Все это, включая мотив разлуки, который неоднократно возникает на страницах «Времен года» в образе тоскующего путника, повторится потом в более совершенной и богатой поэтической форме в «Облаке-вестнике», зрелом создании гения Калидасы, признанном шедевре его лирического творчества.
Одним из наиболее значительных произведений Калидасы считается эпическая поэма «Род Рагху». Она особенно ценится традиционной индийской критикой как непревзойденный образец жанра «махакавья» — главного в санскритской классической поэзии.
Махакавья — большая эпическая поэма, воспевающая деяния богов или подвиги древних героев. Мы уже говорили, что у истоков классической поэзии древней Индии стоит великий эпос — «Рамаяна» Вальмики, которую индийская традиция называет «первой поэмой». Однако между «Рамаяной» и эпическими поэмами классического периода различие достаточно велико; авторы этих поэм ориентировались на «Рамаяну» (в меньшей степени на «Махабхарату»), что можно сравнить с ориентацией европейских поэтов эпохи классицизма на «Илиаду» и «Одиссею» Гомера. Современные исследователи санскритской литературы довольно точно определяют жанр «махакавья» как «искусственный» или «придворный» эпос. Сложение его знаменовало окончательный переход от устно-поэтической традиции, в которой создавались изначально «Махабхарата» и «Рамаяна», к «книжной» поэзии[22]. Первым дошедшим до нас произведением жанра «махакавья» была упоминавшаяся поэма Ашвагхоши «Жизнь Будды»; после Ашвагхоши следует пробел в несколько веков, и только поэмы Калидасы дают нам возможность судить о дальнейшем развитии жанра в эпоху расцвета.
Некоторые ученые считают «Род Рапсу» одним из относительно поздних произведений Калидасы, поскольку его поэтическое мастерство проявилось в нем с достаточно зрелой силой и завершенностью. Однако, при всем богатстве выразительных средств, которое Калидаса демонстрирует в своей поэме, «Род Рагху» слишком близко и тщательно следует традиционным канонам и, на наш взгляд, показывает меньше оригинальности в трактовке легендарных сюжетов, чем другая его эпическая поэма- «Рождение Кумары». Это самое большое по объему произведение Калидасы по существу наименее отвечает общему духу его творчества и оставляет местами впечатление поэтического упражнения на заданную тему — выполненного блестяще, но все-таки не вполне самостоятельного. И нам представляется, что «Род Рагху» — скорее опыт молодого честолюбивого поэта, задавшегося целью испытать свои силы в жанре, несвойственном лирической природе его дарования.
Тем не менее эта поэма действительно отмечена большими художественными достоинствами и содержание ее не сводится к варьированию предписываемых традицией тем и образов; какое бы место мы ни отвели ей в творческой биографии Калидасы, следует признать, что она достойна его таланта и высокая оценка, которую дает поэме традиционная критика, небезосновательна.
Как и другие авторы поэм махакавья классического периода, Калидаса следует великому образцу — «Рамаяне», и само содержание «Рода Рагху» частично перекликается с содержанием эпопеи Вальмики. Поэма Калидасы представляет собой легендарную хронику царей Солнечной династии, возводившей свое происхождение к Вивасвату, богу солнца; к этому мифическому роду принадлежал и знаменитый Рама, герой древнего эпоса, Рагху — один из наиболее прославленных предков Рамы, имя которого дало название всему роду; и в самой «Рамаяне» Солнечная династия несколько раз именуется «родом Рагху».
В эпических сказаниях, описывающих деяния царей Солнечной династии, а также представителей другого легендарного царского рода — Лунной династии (героям которого посвящена «Махабхарата»), в фантастическом преломлении отразились реальные исторические события древней эпохи. История междоусобной распри и великой битвы в «Махабхарате» воспроизводит перипетии борьбы между двумя народами — куру и панчалами — за гегемонию в Северной Индии в начале I тысячелетия до н. э.; в «Рамаяне» отразились воспоминания о раннем продвижении ариев в Южную Индию и об их военных столкновениях и союзах с племенами аборигенов. Разумеется, напрасно было бы искать в этих эпопеях, в течение веков передававшихся изустно из поколения в поколение, точного изложения исторических фактов; они насыщены мифологическим элементом, воспоминания о реальных исторических событиях и лицах тесно переплетаются в них с образами, созданными народной фантазией. Но, пожалуй, еще менее связаны с историей в современном понимании этого слова классические санскритские махакавья, подобные поэме Калидасы. Для автора «Рода Рагху», во всяком случае, изображение исторических деяний царей само по себе не составляло главной задачи, но было подчинено другим (в первую очередь художественным) целям.
Санскритские традиционные трактаты по теории поэзии предписывают для махакавьи мифические или исторические сюжеты, изображение битв и походов, подвигов героев царского рода, их побед и празднеств и т. п. — все это есть в поэме Калидасы; предписывается и введение описаний природы, времен года, свадеб, любовных сцен — и это мы находим в «Роде Рагху»; и более того, в поэме лирическое начало тоже занимает чрезвычайно большое место, оттесняя во многих песнях эпический элемент на второй план. Канва «исторического» повествования используется поэтом для демонстрации его искусства в живописании картин природы и любовных переживаний, поэма изобилует лирическими отступлениями.
Что касается самого повествования. Калидаса заимствует сюжеты древних преданий и легенд, содержащиеся в литературе пуран, а также в самой «Рамаяне»[23]. Поэма «Род Рагху» состоит из девятнадцати песней и излагает ряд эпизодов, последовательно рисующих деяния виднейших представителей славного рода.
Первая песнь «Рода Рагху» посвящена царю Дилипе, с которого поэт начинает историю династии; только коротко упоминает он при этом о Ману, ее родоначальнике, «первом из царей», сыне бога солнца; в индийской мифологии Ману играет роль прародителя всего человечества, он, подобно библейскому Ною, возобновляет род человеческий после потопа. Но Калидаса на этих мифологических сюжетах не останавливается, начиная с одного из ближайших потомков Ману[24].
Во второй песни необычное впечатление на европейского читателя производит эпизод с коровой — по-видимому, совсем не то, какое он должен был вызвать, по мысли автора, у современников, принадлежащих одной с ним культуре. Если нам трогательное ухаживание царя за коровой может показаться скорее смешным, совсем иначе это воспринималось индийцами, для которых с незапамятных времен корова была объектом благоговейного поклонения и почитания. Введение указанного эпизода в начало поэмы, по мнению индийского литературоведа К. С. Рамасвами Шастри, не случайно и исполнено глубокого смысла: корова — символ чистоты и невинности, и зашита ее означает воплощение идеала кшатрийской рыцарственности и благородства[25]. Образ Васиштхи, легендарного мудреца и подвижника, связывается во многих легендах с волшебной коровой «камадух», исполняющей все желания своего владельца; целый цикл сказаний в древней эпической литературе посвящен истории вражды Васиштхи с царем Вишвамитрой, тщетно пытавшимся отобрать у него чудесную корову Нандини[26].
Что касается мотива самопожертвования в той же, второй песни, он навеян, вероятно, популярной притчей о благочестивом царе Шиби, который, спасая голубя, искавшего у него убежища, и не желая причинить ущерба гнавшемуся за голубем соколу, коему природой определено питаться мясом, предлагает хищнику собственную плоть (сюжет встречается в «Махабхарате», в буддийском каноне, где этот мотив воплощается в различных версиях, также в других памятниках древнеиндийской литературы). Как и в легенде о Шиби, в «Роде Рагху» жестокий выбор, перед которым поставлен герой, оказывается в конце концов лишь испытанием его благочестия, ниспосланным богами. Лев, тщетно соблазнявший Дилипу откупиться от мудреца деньгами или другими коровами (долг кшатрия — спасать беззащитных от смерти, провозглашает царь), наконец исчезает — то была лишь иллюзия, сотворенная самой же божественной коровой; на голову героя падает с небес дождь цветов — знак благоволения богов. Царь получает прошение и возвращается в свою столицу, где его радостно приветствуют подданные.
Начало третьей песни описывает ожидание царственной четой ребенка, томление царицы, нежную заботу о ней царя, по велению которого свершаются предписанные обряды.
Третья песнь, где рассказывается о рождении, детстве и юности Рагху, содержит также знаменитый эпизод с похищением жертвенного коня[27]. Калидаса использует в этом эпизоде мотив, встречающийся в эпосе и пуранах, где, однако, мы не находим прямого соответствия рассказу о подвиге Рагху-богоборца. Похищение жертвенного коня связывается в истории Солнечного рода с именем прадеда Дилипы, царя Сагары, чьих сыновей в третьей песни «Рода Рагху» и упоминает Индра. Это сказание излагается в различных версиях в «Рамаяне» и в пуранах. Сыновья Сагары платятся за свою дерзость — осмелившиеся оскорбить Вишну, они обращаются в пепел разгневанным богом, и сводному брату их суждено продолжить род; его сын возвращает коня, заслужив милость Вишну благочестием и кротостью (в версии «Рамаяны» Дилипа - сын этого праведника, правнук Сагары, его же сын — не Рагху, а Бхагиратха, прославившийся тем, что низвёл на землю небесную реку Гангу, прибегнув для этого к жесточайшему умерщвлению плоти). Калидаса переносит жертвоприношение коня на несколько поколений вперед, и у него этот сюжет кардинально преобразуется: покорность божественной воле, сокрушающей строптивых, сменяется вызовом, прославлением мужества человека, одерживающего победу над судьбой.
Мотив богоборчества, который мы находим в ряде древних эпических памятников (Иаков в Ветхом Завете, Гильгамеш в шумерском эпосе), не чужд был и древнеиндийской литературе. Он встречается до Калидасы в «Махабхарате», где герой Арджуна сражается с богом Шивой, явившимся ему в облике дикого охотника; и в сказаниях о Кришне герой также бросает вызов Индре и даже побеждает его, однако сам он при этом обожествляется и выступает как аватара (воплощение) Вишну.
Как и в этих преданиях, у Калидасы в эпизоде единоборства Рагху с Индрой звучит вера в могущество человека, восхищение его отвагой и волей, когда он становится равен богу, отвергая рабскую покорность перед властью небесных сил. И сам Индра отдает должное мужеству смертного и, забыв о высокомерии небожителя, говорит с ним как с равным по окончании боя; образ бога здесь очеловечен так же, как возвышен образ человека. В поэме «Род Рагху», да и во всем творчестве Калидасы этот эпизод — одно из немногих мест, где поэт демонстрирует свое искусство в героико-эпическом жанре, но следует признать, что талант его проявляется здесь не менее ярко, чем в глубоко родственной ему и предпочитаемой обычно лирической стихии.
В четвертой песни поэмы описываются походы и завоевания Рагху, объединившего всю Индию под своей властью. Как уже упоминалось, по мнению многих исследователей, в лице Рагху здесь воспет Чандрагупта II, при дворе и под покровительством которого протекала, вероятнее всего, творческая деятельность Калидасы. Однако подробно эти войны не описываются. Поэта больше привлекают картины природы тех областей и уголков Индии, через которые прошла армия Рагху в своем походе; и в этой песни, где достаточно ярко проявляется мастерство Калидасы в эпическом роде поэзии, торжествует все же свойственный его творческой индивидуальности лиризм.
В пятой песни лирическое звучание поэмы усиливается, воинственно-героический тон ее меняется, следует поэтическое повествование о любви и сватовстве Аджи, сына Рагху, к прекрасной царевне Индумати[28]. Шестая песнь посвящена торжеству сваямвары[29], на которой Аджа затмил красотой всех своих многочисленных соперников, царей и царевичей из различных стран. В седьмой, где описывается проезд сына Рагху со своей новообретенной женой по главной улице столицы видарбхов[30], усыпанной цветами, — обращает на себя внимание сравнение с лотосами лиц дев, взирающих из окон на царевича, — здесь усматривают влияние Ашвагхоши, у которого в третьей песни поэмы «Жизнь Будды» во время проезда царевича Сиддхартхи, будущего Будды, по городу окна домов по обе стороны улицы точно так же расцветают лотосами — лицами любопытных красавиц. Нужно только заметить, что понятие об оригинальности поэтического стиля в древнеиндийской литературе отличалось от современного. Использование традиционных метафор и сравнений не осуждалось и не относилось к недостатку самобытности. Такие постоянные сравнения, как лицо-лотос, лицо-луна, взгляды-пчелы, ноги-лотосы, бедра-слоновьи хоботы и т. п., повторяются из строфы в строфу, из поэмы в поэму и у Калидасы, и у других санскритских поэтов. И яркие метафоры, найденные одним поэтом, охотно заимствуются другими, пополняя общее богатство выразительных средств. Мастерство писателя оценивается по умению распорядиться этими средствами в том или ином контексте, в искусстве нанизывать звучные и выразительные строфы, варьирующие столь же традиционные темы — описания природы в различные времена года (предпочтительно весной, осенью, в сезон дождей), описания женской красоты, героического единоборства, царских чертогов, лесной отшельнической обители, царской охоты и т. п.
Седьмая и восьмая песни, рассказывающие о любви Аджи и Индумати, отмечены особенно глубоким поэтическим чувством и художественной выразительностью. Здесь раскрываются наиболее сильные стороны лирического дарования Калидасы: мастерски построены описания свадебных обрядов, возвращения в Айодхью; картина боя между войсками Аджи и его соперников-царей в седьмой песни, очередная иллюстрация искусства поэта в эпическом жанре, сменяется затем опять лирикой поэтических сцен счастливой любви, завершающихся элегией — монологом Аджи, свидетельствующим о том, что поэзия Калидасы не сводится к одной мажорной ноте, воспеванию безоблачных радостей жизни, но не чуждается и трагического тона. Поэт оплакивает вместе со своим героем прекрасную Индумати, чей лирический образ, образ сказочной царевны, он рисует с любовью, мягкими и изящными штрихами. Трогательную хрупкость и грациозность героини он подчеркивает фантастическим эпизодом ее гибели: нежную Индумати убивает гирлянда небесных цветов!
Исполненное живого и искреннего чувства, отмеченное человечностью переживания, повествование о горе и смерти Аджи звучит не совсем обычно в санскритской поэзии той эпохи. Калидаса проявляет здесь определенную смелость, отступая от традиционных мотивов и моральных догм. В древнеиндийском обществе с его резко выраженной патриархальной идеологией самоубийство вдовы, восходящей на погребальный костер своего умершего супруга, считалось похвальным поступком (и для многих женщин не только любовь к мужу могла стать причиной добровольного самоубийства: участь вдовы в правоверной индуистской семье была более чем жалкой). Но обратные примеры почти не упоминаются в древней литературе; смерть из-за любви к женщине скорее осуждается как «недостойная» мужчины, хотя тема страданий в разлуке с любимой принадлежит к числу традиционных в санскритской классической поэзии — в творчестве Калидасы она занимает чрезвычайно важное место. Правда, с господствующей религиозной идеологией и моралью эпохи тема эта не вполне согласуется, ее истоки — в народной поэзии.
В девятой песни рассказывается о правлении царя Дашаратхи, сына Аджи. Начало песни производит впечатление контрастного перехода от вдохновленных поэтическим чувством строф предшествующей части к довольно стандартному набору панегирических стихов, в традиционной манере восхваляющих традиционные царские добродетели. Только бегло упоминает поэт о воинских подвигах Дашаратхи, принимавшего участие в битвах богов под предводительством Индры с асурами. Затем следует описание весны, занимающее значительную часть девятой песни. Весной царя увлекает в лес жажда охоты; и далее идет описание охотничьей экспедиции, во время которой Дашаратха поражает своими стрелами множество вепрей, буйволов, тигров, львов и других диких зверей. Эти охотничьи сцены могут показаться несколько неожиданными современному читателю поскольку они явно противоречат вступительным строфам песни где поэт восхваляет царя, в частности, и за то, что он был неподвластен страсти к охоте, одному из главных традиционно порицаемых пороков древних и средневековых индийских монархов. Эта непоследовательность лишний раз подчеркивает условность панегирических строф, предваряющих в поэме описания различных царствований.
Умолчать об охотничьей страсти царя Дашаратхи Калидаса не мог — именно она сыграла роковую роль в судьбе этого эпического героя. Девятая песнь завершается трагической сценой: царь, думая поразить слона, вместо этого смертельно ранит юного отшельника, пришедшего к реке за водой. Намерение убить лесного слона само по себе греховно для царя — убиение слонов воспрещалось, их следовало ловить живьем и приручать, на что существовала царская монополия. Поэт так объясняет поступок Дашаратхи: «Даже ученые люди, когда они ослеплены страстью, вступают на путь греха» (IX. 74). За этот грех царя постигает тяжкая кара.
Начиная с девятой песни Калидаса вступает на почву, уже возделанную до него великим поэтом, его предшественником. Отсюда начинается изложение сюжета «Рамаяны» Вальмики, ведь царь Дашаратха - отец великого героя древних сказаний Рамы. В «Рамаяне» эпизод с невольным убиением отшельника отнесен к другому месту: сам Дашаратха рассказывает перед смертью, уже после изгнания Рамы, об этом злосчастном своем поступке и о проклятии жене Каушалье. У Калидасы изложение событий упорядочено хронологически. Девятая песнь кончается возвращением Дашаратхи в столицу, десятая содержит историю рождения Рамы.
Некоторые исследователи считают песни, посвященные Раме, лучшими в поэме Калидасы[31]. Во всяком случае, они занимают в ней центральное место; Рама является величайшим из героев рода Рагху, ему уделено в поэме больше всего песней, и вся галерея царей, которая предстает перед нами в этом произведении, как бы ориентирована на ее центральный образ.
Калидаса, по-видимому, сам считал песни X —XV композиционным стержнем своей поэмы. Можно полагать, что именно эти части он отделывал наиболее тщательно. Здесь он проявляет особенную изобретательность, нанизывая метафоры, сравнения, мифологические аллюзии, хитроумную игру слов, демонстрируя весь арсенал традиционных поэтических средств выражения. Но, пожалуй, именно здесь он менее всего оригинален в своем поэтическом языке, и эти части более всего производят впечатление блестящего, но несколько искусственного варьирования вошедших в употребление клише, феерического представления традиционных образов и стилистических фигур.
Следует принять во внимание, что Калидаса находился в довольно трудном положении, когда приступал к описанию деяний Рамы. Едва ли уместно было притязать на соперничество с Вальмики, и такой задачи он себе, очевидно, не ставил. Обращаясь к этому знаменитому сказанию, Калидаса должен был проявить немалый такт, и он избирает тот путь, который подсказывает ему здравый смысл и поэтическое чутье: он не пытается затмить автора <Рамаяны», но, насколько это возможно, уклоняется и от рабского следования прославленному образцу.
Как известно, «Рамаяна» не дошла до нас в своем первоначальном виде. Помимо печати, которую наложила на ее текст многовековая устно-поэтическая традиция, отчасти несомненно сгладившая черты авторского стиля, обширные части канонической версии эпоса явно целиком принадлежат позднейшей эпохе, отдаленной от времени создания «первой поэмы». Из семи книг, составляющих окончательную ее редакцию, в которой «Рамаяна» сохранилась до наших дней, первая (во всяком случае, в значительной своей части) и последняя (целиком), по единодушному мнению исследователей, являются поздними добавлениями. Сейчас мы уже не можем установить, было ли утрачено (полностью или частично) оригинальное начало поэмы или Вальмики начал сразу со сцены отречения Дашаратхи от трона; но «Книга о детстве» (Bala-kanda) в целом определенно принадлежит не ему (даже если и содержит, как предполагают некоторые, отдельные части оригинального текста) и была добавлена, по-видимому, несколькими столетиями позднее сложения первоначальной версии. Поэма Вальмики кончалась возвращением Рамы в Айодхью, история же вторичного отречения его от Ситы, составляющая содержание седьмой книги, тоже была присочинена уже после создания основных частей «Рамаяны».
И здесь следует отметить знаменательное обстоятельство: из шести песней «Рода Рагху», излагающих сюжет сказания о Раме, две посвящены событиям первой (поздней) книги «Рамаяны», две повторяют историю изгнания Ситы, что же касается самой поэмы Вальмики, все ее содержание (II-VI книги «Рамаяны») умещено фактически в рамки одной песни «Рода Рагху» (двенадцатой). Представляется достаточно очевидным, что Калидаса знал о принадлежности первой и последней книг эпоса поздним авторам (они могли быть еще и не включены в поэму Вальмики). Трудно сомневаться в том, что Калидаса сознательно ограничился пересказом содержания поэмы Вальмики в пределах одной песни, зато основное внимание уделил тем преданиям о Раме, которые не были затронуты в древней версии «Рамаяны». Таким образом, если поэт и дерзнул с кем-либо соперничать в своем сочинении, то не с самим Вальмики, а лишь с ею анонимными продолжателями.
В десятой песни Калидаса рассказывает о торжественном жертвоприношении, предпринятом бездетным царем Дашаратхой ради обретения потомства; далее следует своего рода «пролог на небесах», предваряющий рождение главного героя.
Все это, как и следующая затем повесть о рождении Рамы, в котором воплотился бог Вишну, и далее, в одиннадцатой песни, рассказ о юных годах героя, соответствует содержанию первой книги «Рамаяны», «Книги о детстве». Калидаса, однако, в своем изложении значительно отклоняется от известной нам версии памятника[32]. В дошедшем до нас тексте «Книги о детстве» боги обращаются сначала к Брахме, и уже он направляет их за помощью к Вишну; Калидаса посредничество Брахмы опускает. У него вообще роль Вишну особенно подчеркнута и сам эпизод значительно развернут; сначала идет пространное славословие, с которым боги приближаются к Вишну, затем его столь же пространный и торжественный ответ. Шиваит Калидаса здесь как бы платит дань почтения божеству соперничающего культа и добросовестно воспроизводит характерную фразеологию вишнуитских гимнов. И это весьма знаменательно, поскольку в поэме Вальмики образ Рамы изначально, по-видимому, вообще не имел связи с культом Вишну; в древних частях эпоса герой выступает как смертный человек, и мотив воплощения божества в его образе отсутствует[33]. Ко времени Калидасы Рама был уже обожествлен как одно из земных воплощений Вишну; в «Роде Рагху» явственно выражена идея о его небесном происхождении.
В десятой песни Калидаса рассказывает о рождении у трех жен царя Дашаратхи четверых сыновей; в младших братьях Рамы тоже воплотились, хотя и частично, божественные силы. Значительных расхождений с версией «Книги о детстве» здесь не наблюдается, так же, как и в следующей, одиннадцатой песни.
Затем следует рассказ о том, как царевичи вместе с Вишвамитрой пришли в Митхилу, столицу Видехи[34], где царь Джанака выдавал замуж свою дочь Ситу.
История женитьбы Рамы на Сите занимает важное место в общем своде «Рамаяны», где ею завершается первая книга; Калидаса же излагает ее крайне сжато. Некоторые существенные моменты, как, например, чудесное рождение Ситы из борозды, только бегло упомянуты; с конца одиннадцатой песни Калидаса переходит к краткому пересказу содержания эпоса Вальмики, явно рассчитанному на читателя, уже знакомого с древней поэмой. Он не задерживается на деталях, многие важные перипетии сюжета и эпизоды упоминает вскользь, а некоторые вообще опускает. Так, в начале двенадцатой песни, соответствующей второй книге «Рамаяны», совершенно исключен образ злой и завистливой горбуньи Мантхары, чей наговор вызвал у царицы Кайкейи опасения за судьбу своего сына и побудил ее потребовать у Дашаратхи изгнания Рамы. У Калидасы Кайкейи сама приходит к этой мысли и в результате вина ее усугубляется; образ не злой, но легкомысленной и подверженной дурному влиянию женщины таким образом упрощается[35]. Воспользовался ли Калидаса другой версией «Рамаяны» или сам отклонился от сюжета поэмы Вальмики, он, несомненно, не имел намерения разрабатывать подробно содержание основной части эпоса о Раме и сознательно сокращал свое изложение, где это было возможно.
Так же бегло рассказывает он далее о жизни изгнанников в лесу, о явлении Шурпанакхи, сестры Раваны, влюбившейся в Раму, и о нанесенном ей оскорблении, о борьбе братьев с ракшасами[36], которых наслала на них мстительная демоница. Сцена похищения Ситы Раваной, занимающая также важное место в «Рамаяне», умещена Калидасой в пределы одной строфы.
Очень коротко рассказывается далее о скитаниях братьев в поисках Ситы, о дальнейших их приключениях, наконец, о великой битве между обезьянами и ракшасами на Ланке[37], в которой была сломлена мощь Раваны, его чудовищного брата Кумбхакарны и сына, чародея Индраджита, и о гибели Раваны от руки Рамы. Последний эпизод - поединок Рамы и Раваны, который составляет, собственно, кульминацию сказания, — дан несколько более развернуто: поэт описывает удары, которыми обменивались бойцы, небесную колесницу, посланную в разгар битвы Раме самим Индрой, волшебное оружие Брахмы, которым только и мог Рама, произнеся нужные заклинания, поразить Равану и снести ему все его десять голов, ликование богов, осыпавших победителя с высоты небес дождем благоухающих цветов (небесные цветы как награда богов - обычный мотив в древнеиндийском эпосе). В то же время Калидаса совсем не говорит, например, о победе Лакшманы над Индраджитом, а такой важный момент, как испытание Ситы огнем, упоминается лишь мимоходом, буквально в двух словах.
Зато в тринадцатой песни Калидаса развертывает в ряд роскошных красочных картин не имеющий существенного значения в сказании «Рамаяны» эпизод возвращения Рамы с его возлюбленной и соратниками в Айодхью. В посвященной творчеству Калидасы литературе уже отмечалось, что тринадцатая песнь «Рода Рагху» представляет собой любопытную параллель к другой его поэме - «Облако-вестник»[38]. И здесь, и там изображается природа Индии — ее леса и поля, горы и равнины, реки и озера, увиденные с высоты птичьего полета. Только в «Облаке-вестнике» это Северная Индия на пути от Деканского плоскогорья к Гималаям, а в «Роде Рагху» — юг, от океанского побережья в направлении к среднему течению Ганга, Мы не знаем определенно, какая из этих поэм была написана раньше; но если, как полагают некоторые ученые, «Облако-вестник» предшествует «Роду Рагху»[39], следует признать, что описание воздушного полета Рамы и Ситы в тринадцатой песни рассматриваемой нами поэмы свидетельствует о некотором снижении поэтического вдохновения, относительно бледном перепеве прошлой темы. Как бы то ни было, поэтическое мастерство Калидасы в «Облаке-вестнике» представляется нам более зрелым, более отточенным.
Тем не менее и в тринадцатой песни «Рода Рагху» встречаются Яркие и выразительные строфы, в которых проявляется свойственное Калидасе искусство живописания красоты природы и человека. Еще одна черта, сближающая эту часть поэмы с «Облаком-вестником», -усиление лирического начала в описании природы, которое в обоих произведениях строится сходным образом. И в той, и в другой поэме описание это дается от первого лица, вкладывается в уста героя, взволнованного сильным переживанием. В «Облаке» лирический герой сам описывает путь, по которому полетит его вестник с посланием к далекой возлюбленной; в «Роде Рагху» Рама показывает Сите расстилающуюся внизу страну, и почти всю эту песнь занимает его обращение ко вновь обретенной после разлуки подруге. Благодаря этому приему в обоих произведениях картины природы приобретают особое звучание, пейзаж одухотворяется и живет с человеком одной жизнью.
В этой песни «Рода Рагху», как и в «Облаке-вестнике», и как во всей поэзии Калидасы, важный элемент идейно-эмоционального содержания составляет мотив разлуки. В «Роде Рагху» эта разлука в прошлом; но, пролетая над теми местами, где он когда-то скитался в поисках утраченной возлюбленной, Рама вновь переживает минувшее и, обращаясь к Сите, вспоминает былые невзгоды и душевные терзания; знакомые картины природы доныне проникнуты для него чувством любовной тоски, как и тогда, повсюду видится ему образ подруги.
Четырнадцатая и пятнадцатая песни поэмы, как мы говорили, охватывают события, которые в «Рамаяне» описываются в седьмой книге — «Последней» (Uttara-kanda) - и которые присовокуплены были к сказанию, очевидно, уже после создания эпопеи Вальмики, заканчивавшейся возвращением Рамы в Айодхью. Это предположение косвенно подтверждается поэмой Калидасы, который, как отмечалось, уклоняясь, видимо, от соперничества с Вальмики, ограничивается крайне беглым пересказом оригинальной части эпоса (исключение составляет тринадцатая песнь, где он, напротив, развертывает тему, в поэме Вальмики имеющую лишь эпизодическое значение, пользуясь случаем проявить сильные стороны своего лирического дарования), содержание же последней книги излагает гораздо более подробно.
В двенадцатой песни он опускает полностью важный момент отречения Рамы от Ситы после взятия твердыни Ланки, упоминая только мимоходом об испытании огнем; в четырнадцатой песни вторичное отречение героя от супруги, скомпрометировавшей себя пребыванием, хотя и невольным, в доме Раваны, составляет главное содержание. Впрочем, у Калидасы это отречение нельзя назвать вторичным, поскольку он не рассказал о первом (у Вальмики, напротив, не было, очевидно, второго); не исключено, что он сделал это сознательно, смягчив таким образом ту черту бездушия и жестокости, которую вносит в образ Рамы эпизод повторного отречения от любящей и верной супруги.
Сочувствие поэта, несомненно, на стороне героини. Монолог Ситы, оставленной в лесу близ обители Вальмики по приказанию Рамы, выразительно рисует ее нежную и любящую, но в то же время гордую и стойкую натуру. Но Калидаса вслед за анонимными авторами «Последней книги» стремится оправдать и Раму, объясняющего свой поступок государственными интересами. Это решение, однако, нелегко дается герою; автор стремится вызвать к нему сочувствие, говорит о его душевных муках — тем сильнее подчеркивается его готовность пожертвовать личным ради общественной пользы, подчинить его чувству долга.
Вообще в четырнадцатой и пятнадцатой песнях поэмы Калидаса проявляет сравнительно мало оригинальности и довольно точно следует за текстом седьмой книги «Рамаяны». Изложение его здесь не более чем добросовестный пересказ содержания известного эпического памятника в стиле классической поэзии; и если в предшествующих песнях были отдельные отклонения от дошедшего до нас текста «Рамаяны», то эта часть поэмы не оставляет сомнений в том, что Калидаса пользовался именно общеизвестной версией «Последней книги».
Деяния Рамы «Последней книги», совершенные им под давлением «общественного мнения» якобы в интересах блага государства, рисуют нам его образ не с самой привлекательной стороны. Калидаса излагает их с эпическим бесстрастием; как мы заметили, он даже старается оправдать Раму, отрекшегося от Ситы, а эпизод с убийством шудры пересказывает внешне как будто одобрительно. Но в том, что сам поэт одобряет бесчеловечное поведение своего героя, мы не можем быть вполне уверены. В четырнадцатой песни он, во всяком случае, осуждает его устами мудрого Вальмики. «Я гневаюсь на старшего брата Бхараты, поступившего с тобою жестоко без причины», — говорит Вальмики, обращаясь к Сите (73). Заслуживает внимания, что этих слов нет в соответствующем эпизоде «Последней книги»[40] - единственное, может быть, место, где Калидаса значительно отклонился от своего первоисточника. И пусть слов прямого осуждения нет в эпизоде с казнью шудры, это деяние Рамы явно созвучно его отречению от Ситы как жертва, принесенная помимо воли, по требованию жреческой морали, которому не подчиниться невозможно.
В шестнадцатой песни поэмы примечателен эпизод ночного видения царя Куши, сына Рамы, в котором ему является божество города Айодхьи. Весьма вероятно, что картина покинутого города навеяна какими-то личными впечатлениями поэта. Хотя эпоха Гуптов, как известно, была временем расцвета городов, но уже и при них некоторые древние центры культуры лежали в развалинах, покинутые жителями и отданные во власть джунглей.
Божество Айодхьи, побуждающее царя опять перенести в этот город столицу династии Рагху, - образ мифологический, он не измышлен автором. Культ покровительствующего божества города был развит в Индии издавна - оно изображалось, как правило, в образе женщины. В одном из эпизодов «Рамаяны» Вальмики тоже выступает богиня, олицетворяющая город — Ланку, столицу ракшасов, победа над нею героя Ханумана предшествует падению самого города.
Далее фантастический элемент проявляется в эпизоде встречи Куши со змеиным царем. Змеиные цари, обитающие в реках, нередко выступают в древнеиндийских сказаниях то как враждебные, то как благосклонные к человеку существа. Наги - существа полузмеиной, получеловеческой природы — играют важную роль в индийской мифологии; нагини — змеиные девы — особенно славятся своей красотой, и некоторые герои индийских сказаний женятся на «змеях» — прекрасных женщинах сверхъестественного происхождения.
Некоторые ученые полагают, что поэма «Род Рагху» осталась незаконченной, — слишком неожиданно прерывается повествование[41]; между тем в пуранах после Агниварны следует перечисление еще многих правящих членов династии. В этом усматривают и еще одно основание считать «Род Рагху» последним произведением Калидасы: оно могло остаться незаконченным из-за смерти поэта. Однако едва ли можно согласиться с таким мнением. Совершенно ясно, что не случайно поэма заканчивается описанием царствования порочного и сластолюбивого Агниварны.
Изображая правление Агниварны, Калидаса явно противопоставляет этому царю его героических и деятельных предков. «Род Рагху» в большей своей части воспевает традиционные достоинства царей, членов славной династии, но поэму Калидасы нельзя равнять с многочисленными произведениями в панегирическом стиле, которые так хорошо знакомы восточной придворной поэзии. Не льстивый намек на современного поэту и покровительствующего ему монарха составляет содержание «Рода Рагху». В изображении Калидасой могучих и мудрых царей легендарных времен сквозь условную панегирическую форму рисуется идеальный, в представлении поэта, образ правителя государства. Проблема идеального государя не могла не волновать выдающиеся умы Индии в ту эпоху, когда сильная централизованная монархия, такая как империя Гуптов, представляла собой прогрессивное историческое явление. Отчасти эта проблема, как мы увидим, нашла отражение в драмах Калидасы. Несколько позднее другой выдающийся древнеиндийский писатель, Вишакхадатта, ставит ее в центр своего драматического творчества[42].
Эта идея и объединяет повести о различных царствованиях, каждая из которых представляет собой самостоятельное целое и которые все вместе составляют «Род Рагху» — своего рода портретную галерею царей[43]. Благочестивый Дилипа, готовый пожертвовать жизнью за священную корову; воинственный Рагху, отважно бросающий вызов богу; нежно и самозабвенно любящий Аджа; мудрый и смелый Дашаратха; Рама, могучий герой и суровый правитель, отринувший человеческие слабости, — эти величественные, но далекие от современной поэту действительности образы героев древних сказаний вызывают его восхищение (даже если не все их деяния он одобряет безусловно). Можно сказать, что мы выходим из тумана легенд и вступаем на историческую почву, начиная с Атитхи. Конечно, автор не изображает в посвященной ему песни историческую личность; но в образе Атитхи уже отчетливее выступают черты реального правителя государства, и, пожалуй, именно в нем Калидаса в наибольшей степени воплотил свой идеал монарха. По восшествии на престол Атитхи освобождает узников из тюрем, прощает осужденных на казнь (таков был древний обычай, но именно Атитхи у Калидасы отмечает им начало своего царствования). В дальнейшем он всецело посвящает себя государственным делам; каждый день его строго расписан по часам; уделяя сну и отдыху лишь необходимое время, он ежедневно собирает совет, вершит суд, разбирая поступающие иски и жалобы, неустанно заботясь о благе подданных, о строгом соблюдении закона в государстве; он знает все, что происходит в его владениях, через своих агентов, бдительно следит и за политикой соседних царств; он умножает свою казну и расширяет владения, но проявляет милосердие к покоренным, воздерживаясь от жестокости и грабежа; он щедр, он скромен и не любит лести. В описании его царствования нет уже места ни фантастике, ни романтическим любовным приключениям.
Калидаса ставит в пример современным ему правителям их знаменитых предков, легендарных героев древности, праведных царей былых времен. В образе Агниварны он показывает уже вырождение монархии и здесь, не исключено, воспроизводит черты каких-то реальных правителей, исторических личностей близкой ему эпохи. Калидаса жил, очевидно, в то время, когда в общественной и политической жизни страны уже наметились первые признаки грядущего упадка, приведшего к гибели империи Гуптов. Но все лее конец поэмы звучит оптимистически: ребенок, рождения которого ожидает царица, возродит былую славу династии и могущество государства; вера в лучшее будущее, в преодоление надвигающейся угрозы падения царства вдохновляет поэта.
Если «Род Рагху» можно условно назвать «исторической» поэмой, другое творение Калидасы в эпическом жанре — поэма «Рождение Кумары» — основано на чисто мифологическом сюжете. В первой поэме, как мы отмечали, в эпическое повествование на всем протяжении его вплетается пронизывающий все творчество Калидасы лирический элемент и в отдельных частях лирическое начало решительно преобладает, в еще большей мере это можно отнести к «Рождению Кумары».
Сюжет этой поэмы относится к центральным в шиваитской мифологии, и Калидасе он, по-видимому, был ближе, чем вишнуитские легенды, использованные в «Роде Рагху». Но в индийской литературе он появляется относительно поздно. Поэт мог заимствовать его из пуран или из какого-то другого, неизвестного нам источника. Трактовка этого сюжета у Калидасы ближе всего к мифу, изложенному в «Ваю-пуране», однако есть основания полагать, что зависимость здесь обратная — по-видимому, автор пуранической версии следовал Калидасе в построении и развитии сюжета. Сказание о рождении Кумары, бога войны, мы находим также в «Махабхарате», но здесь расхождения с классической поэмой слишком значительны.
Полагают, что поэма «Рождение Кумары» осталась незаконченной. До нас дошло только восемь песней ее, принадлежащих Калидасе (аутентичность восьмой песни к тому же оспаривается). Вторая часть произведения (песни IX—XVII) принадлежат анонимному автору позднейшей эпохи, решившемуся закончить творение великого поэта; она резко отличается от подлинных песней по языку и стилю и не равна им художественными достоинствами.
Калидаса, по существу, не довел повествование до центрального момента сюжета, давшего поэме название. Нам неизвестны причины, которые могли помешать ему закончить «Рождение Кумары», — было ли это последним его произведением и смерть прервала работу, отказался ли он от продолжения сознательно, полностью не исключена также возможность, что авторское окончание поэмы было утрачено и не дошло до наших дней.
Тем не менее и в незаконченном виде поэма «Рождение Кумары» представляет собой замечательное творение художественного гения Калидасы и причисляется традиционной санскритской критикой, как и «Род Рагху», к образцовым произведениям жанра «махакавья».
От деяний легендарных царей «Рода Рагху» Калидаса переходит в поэме «Рождение Кумары» в мир богов и иных мифических существ (или наоборот, если хронологическая последовательность написания этих произведений была обратной); но к жизни простых смертных он здесь значительно ближе, и на земной, человеческий характер образов и чувств, поэтически воплощенных в рассмотренных песнях, указывают почти все исследователи.
Некоторые из них видят в любовном союзе Шивы и Парвати символическое выражение идеи единения человека с природой, идеи, пронизывающей художественное содержание всего творчества Калидасы[44]. Другие (в частности, Р. Тагор) считают, что в «Рождении Кумары» поэт хотел показать величие возвышенной любви, преимущество духовного начала над чувственным. Внешняя красота Парвати не могла покорить Шиву; только подвижничество и очищение души помогли ей завоевать свое счастье[45].
Но какое бы из этих толкований внутреннего смысла поэмы мы ни приняли, главным остается то, что и это произведение Калидасы воспевает любовь. Красота и могущество любви, торжествующей после всех перипетий борьбы за нее победу над аскетическим отрешением от жизни, — именно это в конечном счете утверждается в поэме, внешне выдержанной в традиционном религиозном духе, но в действительности подспудно содержащей еретический протест против мертвящих догм индуистской морали. В ту эпоху, как и много столетий спустя, индийская женщина занимала в обществе положение униженное и зависимое; браки, как правило, заключались за детей их родителями, и обычно жених и невеста не виделись до самого дня свадьбы. В свете этих обычаев и моральных норм поведение Парвати, самоотверженно борющейся за свою любовь, действительно можно "Рассматривать как вызов, восстание против рабской покорности судьбе[46].
В этом отношении она предвосхищает образы героинь знаменитых драм Калидасы — Шакунталы и Урваши (если допустить, что поэма была написана раньше). Но важно отметить, что для изображения таких свершений во имя любви, утверждающих право на свободу проявления естественного человеческого чувства, поэт удаляется от земного мира в высшие сферы небожителей, в отдаленные времена мифического прошлого — в более близкой ему действительности, в жизни людей, простых смертных, подобным сюжетам, очевидно, не было места[47].
С другой стороны, весьма любопытна и знаменательна легенда, рассказывающая, что богиня Парвати (она же — Кали, давшая имя поэту), оскорбленная дерзостью автора «Рождения Кумары», осмелившегося раскрыть перед смертными сокровенные тайны ее любви, изобразившего небожительницу как земную женщину, прокляла Калидасу. Поэтому будто бы он и не смог закончить поэму и оборвал ее на восьмой песни[48], не дойдя до рождения Кумары, которое, судя по названию произведения, должно было стать центральным моментом его содержания. «Гнев богини» означает, по-видимому, реальную реакцию на поэму Калидасы ревнителей брахманской морали, шокированных скрытым за мифологическими фигурами, но явно ощутимым гимном человеческому чувству, одерживающему над этой моралью победу. Известно, что традиционная критика действительно порицала Калидасу за то, что он наделил богов человеческими чувствами[49]. Можно предположить, что эта критика и вынудила поэта оставить произведение незаконченным[50].
Написанное в стиле кавья классической санскритской поэмы, это произведение Калидасы, как и «Род Рагху», отличается большой виртуозностью и совершенством форм и стихосложения, искусным подбором слов, различными стилистическими украшениями, аллитерациями и другими поэтическими фигурами[51]. Но главную красоту поэме придает непосредственная искренность чувства, вложенного в изображение природы и любовных сцен. Мастерски написаны в поэме картины Гималайских гор в первой и шестой песнях, весенний расцвет—в третьей, жалоба Рати — в четвертой, вечер и ночь в горах — в восьмой и многие другие. Отметим в поэтической структуре поэмы гармоническое чередование контрастирующих эмоциональным содержанием стадий развития сюжета («света и теней», по выражению индийского калидасоведа Г. Ч. Джхалы[52]): описание величественного спокойствия горных вершин в первой песни сменяется смятением богов перед угрозой торжества сил зла во второй, в третьей яркие краски весеннего расцвета и пробуждения природы уступают затем место холодному сиянию горной обители отрешившегося от страстей великого бога, после чего в четвертой песни следует патетический взрыв исполненного горести и отчаяния монолога Рати, в пятой песни сцены сурового покаяния Парвати завершаются насмешливой речью Шивы, в которой проявляется еще одна черта дарования Калидасы — его тонкий и мягкий юмор, национальная черта, вообще в высокой степени свойственная индийскому художественному творчеству; юмор и далее вторгается в серьезные сцены сватовства и явления Шивы во дворец Хималайи, разряжая торжественную атмосферу шестой и седьмой песней, в последней, восьмой, эротика любовных сцен искусно оттеняется проникнутыми глубоким чувством картинами природы.
Во всей полноте лирическое дарование Калидасы раскрывается в его бессмертной поэме «Облако-вестник». Здесь гений Калидасы поднимается на недосягаемую высоту и проявляется в блестящей смене поэтических картин, несравненных по глубине и искренности чувства, по искусству проникновения в сокровенную жизнь природы, по богатству, яркости и тонкой нежности красок и оттенков, по изяществу и совершенной красоте художественного выражения. Это небольшое по объему произведение, состоящее всего из ста одиннадцати четверостиший[53], представляет собой поистине «бесценное сокровище»[54] индийской поэзии.
У священных вод в рощах горы Рамагири[55] давно томится в разлуке с любимой герой поэмы — якша, за некое упущение в исполнении своего долга осужденный на изгнание богом Куберой. Якши в индийской мифологии — горные духи, служащие богу Кубере, властителю северных гор; в эпоху Калидасы получил широкое распространение культ якшей, уходящий корнями в древние народные верования. Образы якшей играли весьма заметную роль в индийской литературе и искусстве классического периода; здесь они принимают облик прекрасных юношей и дев — сохранившиеся статуи и барельефы, их изображающие, пластичностью и гармонической стройностью соперничают с лучшими образцами античного искусства эпохи его расцвета. Некоторые из них могли бы служить иллюстрациями к поэме Калидасы, у которого образ якши, существа полубожественной природы, также в высшей степени очеловечен и исполнен поэтической красоты.
Однажды, в летний месяц ашадха, он, изнуренный любовной тоской, увидел облако у вершины горы — так начинается поэма.
Месяц ашадха (соответствующий июню-июлю европейского календаря) непосредственно предшествует сезону дождей, когда после иссушающего летнего зноя обновляется и буйно расцветает природа Индии. В этот сезон становится невозможным всякое передвижение по дорогам страны; все живое ищет укрытия до начала дождей; прекращается на время всякая деятельность под открытым небом. Люди, по каким-либо причинам оказавшиеся на исходе лета вдали от своей семьи, торопятся вернуться к домашнему очагу, пока их не застигли дожди. Очевидно, в связи с этим в индийской лирике время дождей ассоциируется с темой разлуки. Эта тема воплощается часто в описании переживаний верной жены, терпеливо дожидающейся возвращения супруга из военного похода, — на этом мотиве строится, в частности, один из распространенных жанров древнетамильской лирической поэзии — муллей[56]; или же, как у Калидасы, в центре оказывается образ героя, томящегося в разлуке с любимой. Истоки этих лирических жанров лежат в народной поэзии. Что касается поэмы Калидасы, некоторые исследователи как на один из источников, ее вдохновивших, указывают на «Рамаяну» Вальмики[57]. Переживания Рамы, страдающего в разлуке с Ситой, действительно занимают значительное место в поэме Вальмики; и Калидаса в первой же строфе своей поэмы вводит эти ассоциации, помещая героя в той местности, которая связана с именем Рамы, близ вод, освященных омовениями дочери Джанаки (т. е. Ситы). Однако ситуация в «Облаке-вестнике» совершенно другая, нежели в «Рамаяне».
Исследователи, усматривающие происхождение идеи «Облака-вестника» в «Рамаяне», указывают на эпизод полета Ханумана, сына Ветра, с вестью от Рамы к Сите (в пятой книге эпоса). Первым высказал предположение о влиянии этого эпизода на замысел поэмы авторитетнейший из ее средневековых комментаторов Маллинатха[58]. И сам Калидаса далее в тексте поэмы упоминает о полете Ханумана и сравнивает с ним облако-вестник. Но сходство здесь во всех отношениях слишком отдаленное, и есть основания полагать, что другие образцы послужили для Калидасы более непосредственными источниками вдохновения — и более всего таким источником могла быть народная поэзия, где и родилась, по-видимому, тема облака-вестника.
Основное содержание поэмы составляет замечательное описание стран и городов, лесов, полей, озер и рек, равнин и гор, над которыми пролетит облако на своем пути в Алаку, чудесный город якшей в северных горах, где живет возлюбленная героя. Это описание, как мы уже отмечали, перекликается с другим, в тринадцатой песни «Рода Рагху», где рассказывается о полете воздушной колесницы Рамы от острова Ланки до Айодхьи. Маршрут полета в «Роде Рагху» и в «Облаке-вестнике» разный; и мы уже упоминали, что в первом из названных произведений описывается в основном Южная Индия, во втором - северные области страны. Но оба описания объединяют мотивы разлуки (хотя в «Роде Рагху» она в прошлом, в воспоминаниях) и, что еще более примечательно, общий прием повествования от первого лица, который придает как тринадцатой песни «Рода Рагху», так и поэме «Облако-вестник» в целом драматический характер[59]. (Что касается самого описания, различие также в том, что в первой поэме оно в настоящем времени, во второй — в будущем).
Вся поэма представляет собой обращение влюбленного к облаку. Описание пути, который предстоит пролететь облаку, поэт влагает в уста лирического героя. Вследствие этого все картины и образы поэмы, преломленные через внутренний мир тоскующего влюбленного, пронизываются единым настроением, и в лирических описаниях областей и стран, отделяющих его от супруги, «раскрываются стремления, надежды, отчаяние, радость, печаль его смятенного сердца»[60]
Прекрасные картины природы ярко освещаются живым и страстным чувством, строфы поэмы звучат грустной и глубоко проникающей в душу мелодией.
Но эта грусть светла, она лишена безнадежности. Герой верит в грядущее соединение свое с возлюбленной. В «Облаке-вестнике», как и в других произведениях Калидасы, ярко проявляют себя жизнеутверждающее и светлое мировоззрение поэта, его любовное и радостное восхищение красотой природы, его восторженное преклонение перед человеческой красотой.
Природа Индии предстает в поэме во всем своем великолепии, в ее живом многообразии, в необычайном, сказочном богатстве ее непрестанно меняющихся красок. Герой видит, как облако-вестник пролетает над полем, благоухающим после пахоты, над лесными пожарищами, над горными склонами, покрытыми рдеющими рощами манго, над цветущими зарослями речных берегов, над ясными и спокойными или бурно волнующимися водами рек, над садами, ограды которых белеют распустившимися цветами кетака (пандана), над рощами джамбу (розовых яблонь), темнеющих созревшими плодами, над озером с золотыми лотосами, над снежными вершинами и скалами.
Калидаса рисует эти картины с необыкновенным искусством, он показывает явления природы с замечательной наглядностью и глубоким поэтическим проникновением; неожиданным и тонким сравнением он умеет воссоздать почти зрительно ощутимый образ, в короткой стихотворной строфе раскрыть внутреннюю сущность явления и чрезвычайно точно очертить его внешний облик. Если в других своих поэмах, о которых говорилось выше, Калидаса прибегает нередко к традиционным поэтическим фигурам, конвенциональным средствам выражения, то в «Облаке-вестнике» его лирический талант достигает полной зрелости и оригинальности; сравнения, метафоры, образы необычайно жизненны и достоверны и говорят о тонкой наблюдательности, о свежем и проникновенном поэтическом видении мира, они дышат живой непосредственностью восприятия, ничего искусственного, застывшего в принятых формах в них не ощущается.
Калидаса широко использует в своих сравнениях и образах различные мифологические и сказочные элементы, которые, однако, отнюдь не отрывают их от жизни. В «Облаке-вестнике», как и в других поэмах Калидасы, мир богов и других мифических и сказочных существ, созданных народной фантазией, существует бок о бок с реальным миром природы и сливается с ним, придавая ему своеобразное поэтическое очарование.
Выразительность и музыкальность строф «Облака-вестника» невоспроизводимы в переводе. Обусловленные свойствами санскрита возможности сжатого и многозначного выражения, вмещающего в немногих словах богатый и яркий образ, теряются в передаче средствами другого языка, при которой текст неизбежно развертывается в многословные и громоздкие периоды; лишь весьма отдаленно отражается в них поэтическая прелесть оригинала.
Определенные трудности представляет при переводе на другой язык и передача выразительных средств оригинала: метафор, сравнений, своеобразной игры слов, нередко лежащей в их основе. Исследователи отмечают высокий уровень организации поэтического текста у Калидасы, тонкое искусство воплощения художественного содержания в гармонически ему соответствующей форме. «В индийской поэзии, — отмечает С. Д. Серебряный, — высоко ценилось умение... охватить, объять одной словесной формой различные явления, различные планы бытия»[61]. Яркие образцы такого умения представляет гениальная поэма Калидасы.
Каждая строфа в поэме представляет собой законченное целое, своеобразную поэтическую миниатюру, содержащую мастерски нарисованную картину, яркий образ;, по выражению известного украинского индолога П. Г. Риттера, переводчика «Облака-вестника» на русский и украинский языки, Калидаса их «нанизывает один за другим, словно драгоценное ожерелье», создает «из этих пестрых и разноцветных камней роскошную мозаичную картину»[62]; не только маршрут полета облака, но и глубокое внутреннее единство идейно-художественного содержания связывает эти строфы.
Высокое совершенство стихотворной формы, богатство и выразительность поэтического языка отличают все рассмотренные нами поэмы Калидасы. Написанные на санскрите, сравнительно сложные по литературной форме, в свое время они доступны были, вероятно, только для образованных людей. Калидаса, однако, в этом отношении несравним с санскритскими поэтами позднеклассической эпохи с их изощренными и совершенно искусственными произведениями, рассчитанными только на узкий круг посвященных, избранных ценителей. Лирика Калидасы, как и его эпические поэмы, выгодно отличаются от этой литературы периода упадка простотой и искренностью художественного выражения и своей неутраченной еще связью с народным творчеством. Но высшую славу в своей стране и за ее пределами принесли великому индийскому поэту ею драматические шедевры.
Драмы Калидасы
Во времена Калидасы эпоху своего расцвета переживает санскритский классический театр. Драматургия в этот период становится преобладающим жанром. И не случайно именно в этом роде литературы достиг Калидаса вершин своего творчества.
Мы уже неоднократно отмечали лирический характер дарования Калидасы. С замечательным искусством использовал поэт драматическую форму для самого полного раскрытия сильнейших сторон своего таланта, для особенно глубокого и яркого изображения внутреннего мира человека, его тончайших душевных движений и переживаний. Калидаса достигает совершенства в жанре лирической драмы, своеобразном и до относительно недавнего времени необычном для европейского читателя виде драматической литературы, где в центре внимания— не бурные конфликты и столкновения характеров, но тонкая и трудноуловимая игра чувств и настроений, душевная жизнь героев, раскрывающаяся на фоне живых и поэтических картин природы.
Об истории индийской классической драматургии до Калидасы и о его предшественниках на драматическом поприще нам известно мало. Очевидно, по времени близко к Калидасе творчество знаменитых драматургов Бхасы и Шудраки. Шудрака, крупнейший после Калидасы драматический писатель эпохи расцвета, был, возможно, его старшим современником. Произведения Шудраки составляют контраст лирическим пьесам Калидасы бурным развитием действия, отсутствием сказочного элемента, некоторой приземленностью образов и драматических картин, ярко отражающих быт и нравы современного автору индийского общества. Видимо, более отдален от Калидасы во времени, но ближе по характеру творчества Бхаса, который своей знаменитой пьесой «Пригрезившаяся Васавадатта» и явился, как можно полагать, создателем жанра лирической драмы в древнеиндийской литературе. Совершенно очевидно, что именно эта пьеса вдохновила Калидасу на создание первого драматического произведения — «Малявика и Агнимитра»; недаром он в прологе среди своих предшественников называет Бхасу. Сюжет «Малявики» явно связан с сюжетом «Васавадатты», хотя Калидаса его разрабатывает совершенно в ином русле.
Сюжет и образы драмы Бхасы восходят к историческим источникам, герой ее — царь Удаяна, которого Калидаса упоминает в «Облаке-вестнике», правил в V в. до н. э. Действие своей первой пьесы Калидаса так же основывает на исторических событиях, но переносит его в эпоху более близкую своему времени. Герой произведения — царь Агнимитра из династии Шунга, правивший в середине II в. до н. э. О правлении его известно очень мало, и некоторые исследователи подвергают сомнению те сведения, которые можно извлечь из драмы Калидасы, поскольку в других источниках их не находят. Впрочем, и у Бхасы, и у Калидасы исторические события составляют только фон для романтической интриги.
В основе сюжета той и другой драмы — «карнавальный» мотив временного снижения социального статуса героини: царица или царевна становится служанкой у своей счастливой соперницы и живет при ее дворе неузнанной; развязка следует за сценой узнавания. Кульминация же в пьесе Калидасы связывается с обрядом дохады, восходящим к архаическому культу плодородия, — дева должна коснуться ногою дерева ашоки, чтобы оно расцвело[63].
Калидаса использует тот же «карнавальный» мотив, что и Бхаса, но значительно изменяет сюжетную структуру; самое же существенное - совершенно преобразует идейно-эмоциональное содержание драмы в рамках сходного сюжета. Тема человеческого страдания, приобретающая у Бхасы трагическое звучание, сменяется в «Малявике» комедийным мотивом женской ревности. При этом мотив военной угрозы, побуждающий героиню Бхасы к самопожертвованию, у Калидасы отдаляется на задний план, почти не занимая внимания зрителя.
Эта ранняя пьеса Калидасы отмечена высоким совершенством драматической формы. Заслуживает внимания искусное построение третьего акта, где на сцене одновременно три группы действующих лиц ведут каждая свой самостоятельный диалог; в центре — героиня и ее служанка, не подозревающие, что за ними наблюдают с двух сторон: с одной — царь и шут, с другой — соперница со своей служанкой. Переплетающиеся между собой, эти диалоги создают своего рода полифонию, образуемую различной эмоциональной реакцией каждой из подслушивающих сторон на диалог центральной группы. Подобное же сложное построение сцены имеет место в четвертом акте «Пригрезившейся Васавадатты» Бхасы (там действие так же происходит в саду, но подслушивающей стороной является героиня), и есть основание предположить сознательную ориентацию молодого драматурга на этот образец. Калидаса, однако, еще более усложняет сцену (у Бхасы — только две группы). Этот прием — его называют «сценой наблюдения» — незнаком древнегреческому театру, но появляется в римской комедии и полного развития, как указывают исследователи, достигает в структуре драмы эпохи Возрождения[64]. Значительно расширяющий возможности для различения внешнего и внутреннего драматических состояний (наряду с репликами «в сторону»), этот прием за много веков до европейского Возрождения не менее богатое развитие получает в древнеиндийской классической драме, именно в драме лирической (возможно, впервые — у Бхасы и Калидасы).
«Малявика и Агнимитра», пожалуй, больше других пьес Калидасы подходит по своей художественной форме под европейское понимание драмы. Санскритскую классическую драматургию западные исследователи издавна упрекают за слабое развитие действия («презрение к действию», «однообразие интриги»)[65]. В этой пьесе Калидасы интрига не слишком замысловата, но развита весьма искусно, действие движется легко и стремительно, не в пример большинству поздних санскритских драм, грешащих некоторой тяжеловесностью композиции; события естественно и свободно складываются в единую сюжетную линию, ярко и определенно обрисовывая характеры действующих лиц и им отвечая.
Мы отметили очевидную связь ранней пьесы Калидасы с «Пригрезившейся Васавадаттой» Бхасы. Но еще гораздо большее сходство в сюжете обнаруживают с самой «Малявикой» две пьесы, написанные, по-видимому, значительно позднее; это «Ратнавали» и «Приядаршика» Харши, датируемые VI в. н. э. Здесь зависимость от предшественника не вызывает сомнений, что уже давно было замечено исследователями; а сюжетное сходство представляет интерес, в частности, для определения жанровой природы драм Калидасы.
Древнеиндийская традиционная теория драмы дает дефиниции десяти основных жанров драматических произведений. Классификация эта в некоторых отношениях условна и не вполне совпадает с современным понятием жанра. В теории и в сохранившейся драматической литературе выделяются два главных традиционных жанра: патока и пракарана. В натаке герой — царственного происхождения, сюжет заимствуется из древних сказаний (исторический или мифологический), именно в рамках этого жанра получила становление древнеиндийская лирическая драма; к нему относят все пьесы Калидасы. В пракаране сюжет сочинен автором, героем может быть брахман, но действующие лица принадлежат обычно преимущественно к среднему сословию; европейские индологи сопоставляют пракарану с «буржуазной драмой». Наиболее значительная из сохранившихся пьес этого жанра - «Глиняная повозочка» Шудраки.
«Малявика и Агнимитра» обозначается в рукописях как натака; между тем упомянутые пьесы Харши, разительно схожие сюжетно, относят к жанру натика, принадлежащему к второстепенным (в число десяти основных он не входит) и сложившемуся, по-видимому, относительно поздно.
Указанное сюжетное сходство при традиционном различении жанров уже давно отмечалось исследователями, но только недавно в работе московского индолога Ю. М. Алихановой жанровая природа этих трех пьес освещена была в ее историческом становлении и вскрыта связь художественной структуры «Малявики и Агнимитры», послужившей образцом для натик Харши, с праздником весны, к которому в прологе к пьесе Калидасы не случайно приурочивается представление.
С этим издревле распространенным по всей Индии карнавальным празднеством типа римских сатурналий связано определенным образом и само происхождение древнеиндийского драматического театра, Ю. М. Алиханова основанием для обращения драматурга к празднику весны предполагает введение его в официальный культ при дворе Гуптов; Калидаса, по-видимому, и явился создателем нового жанра санскритской драмы, построенного на структуре этого праздника и получившего впоследствии наименование натика[66]. Важные моменты действия пьесы (как раз те, которые не зависят от сюжета «Пригрезившейся Васавадатты») определяются указанной структурой, прежде всего — обряд ради цветения ашоки, имеющий важное значение для развития сюжета. В то же время лежащее в его основе обращение царевны в рабыню, отвечающее карнавальной атмосфере того же праздника (временная инверсия социальных отношений составляет характерную черту последнего), непосредственно восходит к сюжету «Васавадатты» и звучит отголоском древней легенды о Шармиштхе, упоминаемой в самой пьесе.
Калидаса создает изысканную и легкую комедию придворной любовной интриги, не претендующую на глубину содержания и образов. Но за этими непритязательными сценами придворной жизни проступают черты древнейших зрелищных форм, порождения той народной культуры (так называемой «смеховой»), в недрах которой получил становление и образ шута, видушаки[67], занимающий, по существу, центральное место в пьесе. Необычное для классической драмы выдвижение шута на ведущую роль, возможно, связано с теми же обрядовыми истоками жанра.
Образ Гаутамы, в котором с особенным блеском проявился юмор Калидасы, движет действие пьесы, остроумие и энергия этого персонажа оживляют сцены и создают все новые возможности для развития интриги и поддержания драматического интереса. Он действительно оттесняет на второй план царственного героя, образ которого бледнее и пассивнее, хотя тоже очерчен с большим искусством. В ходе действия отчетливо вырисовывается добродушный, но легкомысленный и слабый характер царя, его галантное преклонение перед женской красотой, его способность к неожиданным и пылким, но вряд ли особенно глубоким увлечениям. Эти черты явственно вырисовываются за прозрачным покровом традиционных хвалебных характеристик, звучащих в пьесе, и придают образу несомненную жизненность. Влюбленный в Малявику царь совершенно беспомощен в осуществлении своих желаний, заботу об этом он возлагает на шута — ясно, что это человек безвольный, привыкший, чтобы за него действовали другие. И отражение военной угрозы царь возлагает на других; она его не слишком волнует и не мешает ему безмятежно предаваться любовным похождениям, в то время как судьбы государства решаются без него «за сценой».
Калидаса является прославленным мастером в создании поэтических и чарующих женских образов, примеры которых мы уже видели в его поэмах. Но в «Малявике и Агнимитре», пьесе, считающейся одним из ранних его произведений, талант его еще не проявляется в этом отношении в полной мере. Образ Малявики полон изящества и грации, но характер героини неглубок. Лирические сцены пьесы рисуют прелестную и робкую девушку, поглощенную своей любовью к царю, и этим исчерпывается все, что можно сказать о ней. Малявика под стать Агнимитре, совершенно неспособна к борьбе за свое счастье. В пьесе она тоже играет пассивную роль, события развертываются вокруг нее, но сама Малявика не принимает в них действенного участия. Тем не менее образ ее выписан с немалым художественным мастерством и отнюдь не лишен жизненного правдоподобия[68].
С неменьшим мастерством очерчены в «Малявике и Агнимитре» и второстепенные персонажи: ревнивая, но гордая и великодушная царица Дхарини, пылкая и капризная Иравати, мудрая и ученая монахиня Каушики, лукавая и веселая наперсница героини Бакулавалика и др.
Пьеса «Малявика и Агнимитра» представляет собой единственное произведение Калидасы, совершенно лишенное фантастического элемента (если не считать чудесного цветения ашоки в четвертом акте). Действие ее вращается исключительно в сфере придворного быта, изображенного достаточно реально и живо. Мы уже говорили об исторической основе пьесы. В свое время высказывались даже предположения (очевидно, впрочем, несостоятельные), что сам Калидаса жил при дворе Агнимитры. И уж во всяком случае, вряд ли следует искать черты исторического Агнимитры в образе героя пьесы; хотя известные реальные черты придворной жизни времен Калидасы могли, видимо, найти отражение в этом произведении[69].
Некоторые ученые считают «Шакунталу» последним по времени драматическим произведением Калидасы[70]; другие полагают, что «Мужеством добытая Урваши» показывает определенные черты упадка драматического таланта Калидасы, повторяя отдельные находки его наиболее значительной драмы[71]. Не вдаваясь в рассмотрение аргументов сторонников того и другого мнения, примем последовательность, предложенную в первом русском издании переводов драм Калидасы[72], и обратимся прежде к «Шакунтале».
«Шакунтала, узнанная по кольцу» — вершина художественного творчества Калидасы и всей древнеиндийской классической поэзии. «Из видов поэзии прекраснейший — драма, из драм прекраснейшая — ,,Шакунтала"», — говорит старинное санскритское изречение[73]. Это замечательное произведение Калидасы, шедевр индийского художественного гения, переживший века, всегда останется в числе драгоценнейших творений мировой литературы.
Сюжет драмы заимствован из древних преданий. Мы встречаем его в первой книге «Махабхараты», а также в «Падма-пуране». Неизвестно, заимствовал ли Калидаса сюжет из эпоса, или из пуран, или из какого-то иного, не дошедшего до нас источника. Центральный мотив его, отраженный в самом названии драмы, — возлюбленная, узнанная по кольцу, — отсутствует, во всяком случае, в версии «Махабхараты», хронологическое отношение сказания о Шакунтале в «Падма-пуране» к пьесе Калидасы остается неопределенным, очевиден только фольклорный характер этого сюжетного мотива.
Калидаса вводит также в сюжет эпизод с проклятием, ставшим причиной трагического перелома в судьбе героини. Проклятие мудреца — одна из важнейших тем индийской мифологии, играющая первостепенную роль в эпической поэзии древней Индии, а также используемая в классической драматургии; она соответствует той роли, которую в древнегреческой трагедии играет идея рока. Проклятие обрушивается обычно на героев древних сказаний за невольную, часто ничтожную вину; но действует оно с неотвратимой силой, даруемой магией подвижничества, вера в которую пронизывает архаическое мировоззрение. Проклятие отшельника губит Дашаратху в «Рамаяне» (этот эпизод включен Калидасой в девятую песнь «Рода Рагху»), великого героя Карну в «Махабхарате» (эта тема лежит в основе одноактной пьесы «Бремя Карны», приписываемой Бхасе), царя Парикшита в обрамляющем сказании эпоса «Махабхараты» — и многих других. Оно же служит драматическому повороту действия в «Шакунтале».
Знаменательно совпадение в оценках художественного содержания четвертого акта драмы в традиционной и в современной европейской критике. Мифологические образы духов леса и представления архаического культа плодородия, еще не утратившие в творчестве древнего поэта живой связи с породившим их мировосприятием, но уже очищенные от ритуальной обусловленности, обретают в картинах этой драмы непосредственно художественную функцию, мифологическая метафоричность эстетизируется, миф как бы на наших глазах преобразуется в поэзию. В этих сценах образ героини обретает наиболее яркое художественное воплощение в его естественном единстве с миром природы; она предстает здесь словно рожденная этой прекрасной цветущей страной, голосами птиц разговаривающей с ней, ветвями деревьев приветствующей ее, неотделимая, как кажется, от окружающей ее мирной атмосферы лесного монастыря, от родных ей ланей, птиц, лиан, цветов, деревьев. Печаль расставания предвещает грядущее крушение надежды на счастье.
И эта отмеченная редким изобразительным мастерством и глубоким поэтическим чувством картина четвертого акта не остается красивым лирическим отступлением в драме, но вписывается органически в ее действие, которое замедляет здесь ход, с тем чтобы в следующем акте, сменяющем контрастным переходом приветливый и отрешенный от суеты мир лесной обители на холодный блеск царского дворца, привести героиню к трагическому испытанию.
В пятом акте прекрасный и трогательный образ Шакунталы предстает в новом освещении. Простую и чистосердечную девушку, выросшую на лоне природы и в неразрывном единении с ней, мы видим в глубоко чуждой ей обстановке. «Музыка первых четырех актов внезапно стихает. О, глубокое молчание и одиночество, которые ее тогда окружают! - восклицает Тагор, разбирая это место драмы в своей статье о „Шакунтале". - Она, чье нежное сердце сделало родным себе весь мир пустыни, стоит теперь совершенно одна. Она наполняет эту окружающую ее пустоту своей великой печалью»[74]
Царь, околдованный проклятием, не узнает своей возлюбленной и отвергает ее. В интермедии перед этим в репликах второстепенных персонажей (канчукина, вайталиков — придворных певцов) описываются и особенно подчеркиваются величие и достоинство царя и его царского долга[75]. Это еще резче подчеркивает патетический характер последующей сцены отречения, предельно усиливающей драматическое напряжение, сцены катастрофы, подготовленной проклятием Дурвасаса.
Тема отречения восходит, по-видимому, к эпическому сказанию о Шакунтале, хотя нет уверенности в том, что именно оттуда заимствовал Калидаса сюжет своей драмы. Сцена повторяет также сюжетный мотив эпоса «Рамаяны», здесь использование его очевидно в перекличке с финалом седьмой книги эпопеи (знакомство с которой подтверждается четырнадцатой и пятнадцатой песнями «Рода Рагху» Калидасы) и особенно в обращении Шакунталы к Земле, явственно напоминающем об уходе Ситы к матери-богине, которому соответствует вознесение Шакунталы к своей небесной матери.
В конце пятого акта — характерное для поэтики древнеиндийской драмы введение комической интермедии после вершины трагедийного напряжения, разрешающегося катастрофой. Несомненно, драматург отчетливо оценивал в своем творческом воображении художественный эффект этого перехода и парадоксального воплощения счастливой судьбы в образе бедного рыбака, представителя одной из низших каст в социальной иерархии. Спасительный поворот событий, возвращающий героя и героиню к жизни и обретению счастья, определяется в сценке грубой перебранки фарсового характера, в которой комический эффект усиливается, видимо, «шепелявящим» магадхи, языком рыбака и городских стражников, ее участников.
Следом за этой сценкой, нарисованной очень живо и реалистично и исполненной юмора, начинается шестой акт, с новой силой и проникновенностью воплощающий господствующую в творчестве Калидасы тему разлуки.
С конца пятого акта в действие драмы все больше вторгается элемент чудесного. Сначала мы только слышим о демонах и небесных девах, но в шестом акте представители сверхъестественного мира уже появляются на сцене. Седьмой акт окончательно переносит действие в этот неземной мир, и перед зрителем встают величественные образы древних мифов.
Последние два акта драмы занимают в ее композиции особое место. Комическая интермедия, отделяющая трагический финал земной любви от явления небесной девы, отмечает кардинальный поворот в развитии сюжета драмы, разграничивая слагающие ее две части. Утраченную возлюбленную герой находит в ином, высшем мире. В мифической древности, к которой относится действие пьесы, мир земной и потусторонний еще не разделены глухой стеною, жизнь продолжается и за пределами земными, где Душьянта обретает сына, долженствующего продлить его род; тем не менее благополучная развязка в последнем акте не снимает трагедийного звучания первой части «Шакунталы».
В свое время европейская критика, смущенная особенностями древнеиндийской классической драмы, склонна была толковать их как признаки некоей неполноценности или ограниченности этого искусства, не достигшего высот, завоеванных античной трагедией, — мы упоминали выше упреки в «презрении к действию» и «однообразии интриги», которые обращали некогда к санскритской драме. К ним добавлялся тогда и упрек в «боязни трагических катастроф» (в цитированной книге С. Леви). В дальнейшем эту черту акцентируют обычно как одно из главных отличий индийской драмы от античной; причины этого недостатка усматривают в социальных, этических, религиозных и философских ценностях, признаваемых обществом, ее создавшим, и в других факторах; указывают также на диктат традиционного канона, сковывающий индийское драматическое творчество[76]. Однако именно «Шакунтала», вершина индийской драматургии, сосредоточившая в себе наиболее типичные ее характеризующие элементы, при внимательном прочтении опровергает расхожее мнение о неспособности индийского творческого духа возвыситься до трагедии.
Известно толкование Р. Тагора, видевшего в сказочно-мифологических мотивах злых чар проклятия и чудесного кольца-приметы в «Шакунтале» символическое отражение реальной душевной жизни человека. Герой драмы, по мысли Тагора, должен был пройти через очистительный огонь страдания, чтобы по достоинству оценить сокровища своей любви и возвысить свою душу от преходящей и мимолетной игры страстей до истинного и высокого чувства; проклятие отшельника оборачивается в конце концов высшим благом для любящих. Это толкование древней драмы великим поэтом нового времени освещает для нас неисчерпаемое богатство эмоционально-идейного содержания, отличающее немногие бессмертные творения мировой литературы. Можно, правда, усомниться в том, что для самого автора драмы и проклятие, и талисман были такими иносказаниями, какие отвечают восприятию произведения современным читателем. Метафора еще живет в поэзии Калидасы своей мифологической жизнью; герой действительно очарован в сцене отречения и действительно не узнает свою возлюбленную (в отличие от более «реалистического» в этом отношении сказания о Шакунтале в эпосе). И потеря кольца-талисмана, тоже определенная роком, лишает героиню защиты. Ее трагическая вина — забвение религиозного долга, заслоненного чувством, — влечет за собой неотвратимую кару судьбы.
Не царь Душьянта, а Шакунтала является главным действующим лицом драмы, не случайно названной ее именем. Ее судьба определяет разделение этой драматической поэмы на две части, первая из которых (акты с первого по пятый включительно) завершается трагическим финалом; ибо метафора, заключающаяся в основе ее сюжета, — вознесение героини, отмечающее этот финал, — есть, очевидно, метафора смерти.
В современном литературоведении получило признание выдвинутое американским театроведом X. У. Уэллсом положение о «равновесии» как принципе, определяющем художественную структуру санскритской драмы, в корне отличающем ее от европейского драматического искусства и обусловливающем, в частности, невозможность развития трагического жанра в этой литературе. Согласно этой концепции, действие в индийской драме отмечено «парадоксальным равновесием», достигаемым противостоящими силами, которые тяготеют в ней не к конфликту, но к гармонии; сюжет строится на разлуке и воссоединении, и действие принимает форму циклического движения, заканчивающегося у начальной точки[77].
Действительно, разлука и воссоединение, нарушение и восстановление гармонии составляют основу сюжета «Шакунталы», но заметим, что исключительность гармонического мировосприятия в индийской драме несколько утрируется западным исследователем и едва ли правильно выводить из него абсолютное отрицание трагедии, утверждать несовместимость с нею принципа равновесия. Близость характеров и содержания некоторых древнеиндийских драм европейской (гегелевской) концепции трагедии справедливо отметил в свое время П. А. Гринцер[78]. Именно Гегель в своей теории драматического искусства придавал первостепенное значение внутренней гармонии, определяющей глубинный художественный эффект трагедии[79]. В идейно-художественной структуре греческой трагедии восстановление нарушенной гармонии реализуется иначе, нежели в индийской драме, но в принципе не менее определенно. Страшная катастрофа «Эдипа-царя» находит разрешение во второй пьесе дилогии Софокла («Эдип в Колоне»). Той же эстетической цели служит, по существу, вторая часть (последние два акта) «Шакунталы».
Продолжая сравнение этих великих драм древней литературы, укажем, что в обеих в развитии сюжета важную роль играет фактор неведения или, точнее, неведения-узнавания (перехода от незнания к знанию, по определению Аристотеля). Неведением обусловлена трагедия Эдипа — в греческой драме переход «от незнания к знанию» означает катастрофу для героя. Неведение, порожденное проклятием, разлучает героя и героиню в «Шакунтале» — рассеяние его чар приводит героя через страдание к счастливому концу. Мы уже сопоставляли выше функцию проклятия в древнеиндийской литературе с идеей рока[80]; в трагедии Софокла проклятию в развитии драматического действия соответствует пророчество.
Можно сопоставить древнеиндийскую драму с греческой и в отношении так называемого понятия «трагической вины». И в той, и в другой судьба карает героев за вину невольную, обусловленную неведением, - здесь сказывается, видимо, неразличение понятий греха и несчастья в сознании древнего общества. Но в драме, знаменующей своим появлением определенный прогресс социального сознания, несправедливость этой кары уже очевидна для зрителя, чем обусловлено чувство сострадания, составляющее пафос художественного произведения.
Страдание героя в древнегреческой трагедии носит достаточно личный характер, что знаменует преодоление архаического мировоззрения, в котором личность еще не выделяется из окружающей природной и социальной среды. По существу то же можно сказать о патетике разлуки в индийской драме. В «Шакунтале» трагизм ситуации не достигает той остроты и непомерности душевного потрясения, доведенного до кошмара, которые поражают в «Эдипе», не разрешается леденящими кровь катастрофами, но для индийского драматурга трагедия любящего сердца, как мы можем убедиться, не менее значительна, чем крушение царств и гибель древних родов. Эта тема именно в индийской драме - в шедеврах Бхасы и Калидасы - получает впервые совершенное художественное воплощение, знаменуя одно из высочайших ее достижений, в котором она на много веков опережает европейскую драматургию.
Не случайно в связи с этим выдвижение в драмах Калидасы (как и в «Пригрезившейся Васавадатте» его предшественника Бхасы) на первый план женского образа. Мы уже отмечали, что именно Шакунтала занимает центральное место в драме; образ царя Душьянты, также играя ведущую роль в развитии действия, уступает по своему значению образу героини. Противостояние человека, сильного духом, удару судьбы достаточно выразительно представлено именно в ее образе в кульминационной сцене пятого акта. В своей гениальной драме Калидаса с несравненным мастерством рисует величие и благородство чистой женской души и создает в образе Шакунталы бессмертный символ самоотверженной любви.
Всеми исследователями отмечается особенно высокое поэтическое мастерство, проявленное Калидасой в создании «Шакунталы». Глубина содержания сочетается здесь с совершенной гармонией и изяществом художественной формы. Богатство языка и выразительных средств, блестящее и утонченное искусство драматического раскрытия образов ставят «Шакунталу» в число наиболее выдающихся высокохудожественных памятников мировой литературы.
Немногим уступает «Шакунтале» своими художественными достоинствами другой драматический шедевр Калидасы — «Мужеством добытая Урваши»; обе драмы написаны на мифологические сюжеты. Сюжет «Урваши» встречается, хотя в довольно туманной форме, уже в одном из гимнов «Ригведы»[81]; более подробно он излагается в «Шатапатха-брахмане» и позднее неоднократно используется в древнеиндийской литературе. Сказание о Пуруравасе и Урваши встречается в пуранах (в «Вишну-пуране», «Падма-пуране» и «Матсья-пуране»), в «Махабхарате» (в ее девятнадцатой, дополнительной книге, «Хариванше»), в «Великом сказе» Гунадхьи и в других литературных памятниках.
Драма Калидасы имеет более всею общих черт с версией «Матсья-пураны», и полагают, что именно оттуда заимствован сюжет. Но и в этом произведении Калидасы, как и в «Шакунтале», сюжет и образы древнего сказания наполнились новым содержанием.
Если «Малявика и Агнимитра», как мы отмечали, изображает вполне реальные события и лица, в «Шакунтале» уже вторгается элемент сверхъестественного, главным образом в заключительных актах (составляющих вторую часть), то последняя драма Калидасы с самого начала окутана атмосферой сказочного мира. Если Шакунтала -дочь небожительницы, живущая в мире смертных, то героиня последней драмы Калидасы сама принадлежит небесному царству, и действие первого же акта вовлекает зрителя в круговорот чудес.
Герой пьесы Пуруравас, хотя и смертный, ближе к этому сверхъестественному миру, чем к земле и повседневности. Отец его — Будха, сын Сомы, бога Луны, и сам — персонификация планеты Меркурий. Его мать — Ила, дочь Ману, прародителя человечества, героя индийской версии мифа о потопе. Действие в этой драме Калидаса переносит, таким образом, в глубокую мифологическую древность. Пуруравас — легендарный родоначальник Лунной династии, отдаленный предок царя Душьянты и его сына Бхараты, предка героев великого эпоса «Махабхараты».
В упомянутом гимне-диалоге «Ригведы» Пуруравас молит покинувшую его нимфу Урваши вернуться, та отказывает ему; диалог представляет собой как бы развязку (несчастливую) истории их любви, «вырванную из контекста». Сказание о Пуруравасе и Урваши в полном виде излагается в «Шатапатха-брахмане», но о спасении Урваши от демона там не рассказывается.
Действие драмы Калидасы начинается сразу бурно и динамично, со столкновения сил добра и зла, но сам бой Пурураваса с демоном на сцене не показан (традиционная теория драмы предписывала выносить за сцену поединки и битвы).
В «Натьяшастре», древнем трактате по теории драмы, среди десяти традиционных драматических жанров, о которых мы упоминали выше, описывается ихамрига, пьеса (по-видимому, одноактная), в основе сюжета которой — борьба героя с демоном за божественную деву. До нас не дошли пьесы этого жанра — по всей видимости, к эпохе расцвета классического театра он был вытеснен из драматургической практики вместе с некоторыми другими подобными же архаическими жанрами; но Ю. М. Алиханова, очевидно небезосновательно, видит в завязке «Урваши» Калидасы отражение сюжета древней ихамриги и свидетельство «преемственности» по отношению к ней классической натаки[82].
Но как в «Шакунтале» динамичная сцена охоты в начале драмы сменяется лирическими сценами в мирной обители, так и в «Урваши», использовав древнюю ихамригу в завязке, Калидаса переходит затем к основной теме своей драматургии, сосредоточивающей его внимание на внутренней жизни героев, внутреннем душевном переживании, зарождении и развитии чувства.
Как и в «Шакунтале, узнанной по кольцу», в драме «Мужеством добытая Урваши» особое место занимает четвертый акт. Он занимает особое место и во всем творчестве Калидасы, и во всей индийской классической драматургии. Здесь в драму входит властно и широко музыка, песенная стихия. Именно четвертый акт дает более всего оснований для верного замечания известного немецкого индолога А. Хиллебрандта, что «Урваши» для европейского читателя скорее напоминает оперу, чем драму[83].
Охваченный отчаянием, блуждает несчастный царь по лесам, долинам и горам в поисках потерянной Урваши. В звучных и патетических стихах выражает он тоску своего измученного разлукой сердца. Почти весь четвертый акт представляет собой монолог Пурураваса, в основном стихотворный, перемежаемый временами строфами на апабхранше, которые поются за сценой. Это своего рода лирическая поэма, органически вошедшая в структуру драмы, — ее можно сравнить с «Облаком-вестником». И в «Урваши», и в «Облаке» человеческое чувство раскрывается и изображается на фоне ярких картин цветущей природы; но если в поэме эти описания составляли главное содержание, то в драме картины природы действительно только фон, на котором чувство проявляется в динамичном устремлении героя к предмету своих исканий. Главное содержание четвертого акта драмы — поиски героем исчезнувшей возлюбленной, но происходят они в мире, реальность которого преломляется в его воображении, под воздействием обуревающего его горестного переживания.
Сюжет «Мужеством добытой Урваши» уходит своими корнями в народное творчество древней эпохи. Тема любви неземной девы к смертному, воплощенная в индийском мифе об Урваши, в античном сюжете о Мелузине, широко распространена в народных преданиях многих стран[84]; она неоднократно использовалась в мировой литературе (Снегурочка, Пери, Раутенделейн, андерсеновская Русалка и др.) Литературная обработка этой темы в драме Калидасы принадлежит к числу наиболее ранних и наиболее интересных в литературном отношении.
По сравнению с ведийской версией сюжет мифа в драме претерпел значительные изменения и преобразилась его героиня, небесная нимфа Урваши, которая в древнем мифе выступает как роковая соблазнительница, равнодушная к человеческим страданиям.
Эпизоды освобождения апсары (небесной девы) царем Пуруравасом из рук демона, представления драмы о Лакшми на небесах и последовавшего проклятия Бхараты, отсутствующие в ведийских версиях, Калидаса мог взять из «Матсья-пураны» (если зависимость здесь не обратная, что более вероятно, как мы уже предполагали относительно сюжетов «Рождения Кумары» и «Шакунталы»). Кроме того, и в «Матсья-Пуране», и в драме Калидасы смягчен трагический характер ведийской легенды, прибавлен счастливый конец.
В драматической интерпретации древнего сюжета Калидаса, верный себе, наполнил мифологические образы новым, человеческим содержанием. В своей драме он создал поэтический образ Урваши, в отдельных чертах сходный с героиней его лучшей пьесы, но в то же время совершенно от нее отличный. Урваши предается своей любви столь же глубоко и самозабвенно, как Шакунтала, но характер ее чувства иной — более бурный и пылкий. Ее порывистая и гордая натура более склонна к немедленному и решительному действию для достижения цели своих желаний. Женская робость и стыдливость, проявляемые Урваши в любовных сценах с Пуруравасом в первом акте, соединяются у нее со страстной энергией, которая побуждает героиню к решительным поступкам, когда дело идет о борьбе за свое достоинство и счастье. В то же время эта стремительность в характере Урваши в сочетании с некоторой капризностью избалованной и надменной небожительницы толкают ее на необдуманные действия, в которых ей приходится горько раскаиваться впоследствии. Из этих черт складывается ее образ, в высшей степени жизненный и яркий. В образе небесной девы Калидаса рисует земную женщину со всеми ее слабостями и недостатками и во всей ее живой и милой сердцу поэта прелести.
Образы героев у Калидасы обычно бледнее женских. Тем не менее характер царя Пурураваса обрисован в пьесе с большим искусством. Особенно ярко показана его глубокая и искренняя любовь к Урваши; с поэтической проникновенностью раскрыта она в знаменитом четвертом акте драмы. Внутренний облик героя изображается здесь не только литературными, но, можно сказать, и музыкальными средствами. В сценах любовного безумия царя, страдающего в разлуке, стихи Калидасы отличаются особенной мелодичностью, что подчеркивает лирический характер этого образа и этой картины в драме.
Драмы Калидасы в своей внешней форме следуют канонам и предписаниям современной ему брахманской традиционной поэтики. Строгие правила, изложенные в теоретических трактатах — в упоминавшейся выше «Натьяшастре» Бхараты и других, — влияли не только на внешнюю форму произведения, но и на его содержание. Из драматического произведения, в частности, предписывалось изгонять все, что может сколько-нибудь сильно воздействовать на зрителя: для ведущих жанров классической драмы безусловно запрещалось выводить на сцене, как мы уже отмечали, борьбу, битву, также лишение власти, изгнание, народные бедствия и т. п. Ничто не должно было отвлекать зрителя от безмятежного наслаждения поэтическими красотами языка и стиля драматического произведения. Существовали и другие предписания, сковывавшие фантазию автора и, по-видимому, жестко ограничивавшие его художественное творчество.
Как мы уже говорили, Калидаса жил во время высшего могущества древнеиндийского государства; но то был и канун его падения. За блистательным веком просвещенной монархии Гуптов надвигалась мрачная эпоха средневековья, феодальной раздробленности и застоя в общественной и культурной жизни.
Уже во времена Калидасы развиваются тенденции к подчинению общественной жизни строго установленным нормам. Создается множество ограничений и правил, определяющих права и обязанности отдельных сословий и профессиональных групп населения; с течением времени число этих ограничений все возрастает, характер их становится все более суровым и неумолимым. Складывается та жесткая кастовая система индийского феодализма, которая впоследствии на века тяжелым гнетом сковала жизненные силы индийского общества и его исторический прогресс.
Каноны теоретических санскритских трактатов по искусству театра и драматургии уже во многом отражали стремление консервативного брахманства ограничить общественную роль этого искусства, лишить классическую драму живого социального содержания. Эти принципы брахманской поэтики театра восторжествовали полностью в санскритской драматургии к концу I тысячелетия н. э., в эпоху, когда былое могущество и расцвет древнеиндийского государства сменились средневековой замкнутостью и упадком. В этот период классический театр совершенно отрывается от народной почвы и превращается в средство развлечения для немногих избранных из среды аристократии и брахманства. Драматическая литература позднеклассического периода, как уже отмечалось, характеризуется изощренным и нередко бессодержательным формализмом, художественный уровень ее резко снижается.
Основываясь главным образом на теоретических трактатах и на произведениях периода упадка, некоторые литературоведы приписывали всей древнеиндийской драматургии черты придворного искусства, оторванного от жизни и чуждого народу: изысканность художественных средств как самоцель, статичность, искусственность сюжета, схематичность образов и характеров, приглушенность эмоций и т. п. (некоторые из подобных суждений мы приводили выше).
Однако, обращаясь к творчеству драматургов, живших в эпоху расцвета классического театра, мы убеждаемся в несостоятельности этой критики.
Драматические произведения Калидасы, как и его поэмы, отличаются предельной отточенностью языка и стиля, высоким совершенством художественной формы; но нигде увлечение формой не идет у него в ущерб содержанию, как мы это видим у поэтов и драматургов более позднего периода. Высокое поэтическое мастерство, необыкновенное богатство и разнообразие выразительных средств неразрывно связаны в его творчестве с глубиной художественной идеи, жизненной правдой и неподдельной искренностью чувства.
В драматических произведениях Калидасы внутренняя гармония и ясность, родственные лучшим образцам античного искусства, сочетаются с психологической тонкостью и глубиной индивидуальной характеристики образа, оправдывающими нередко встречающееся сравнение великого индийского драматурга с Шекспиром. Могучий гений Калидасы преодолевает традиционную схематичность образов и сцен, предписываемых брахманской поэтикой театра. Сквозь известную условность формы в драмах его явственно видны живые люди, реальные, правдиво изображенные человеческие чувства и отношения. Вместе с Бхасой Калидаса явился создателем жанра лирической драмы, в которой приглушенность внешнего действия обусловлена не слабостью драматического начала, но сосредоточением на выражении чувства, раскрытии внутреннего переживания. Неведомая европейскому театру до нового времени, лирическая драма Бхасы и Калидасы имеет корни, очевидно, в самой природе индийской духовной культуры, отмеченной с древнейших времен доминирующим развитием психологического направления в различных ее сферах.
Близость драматургии Калидасы традициям народной поэзии и народной сцены более всего обнаруживается в четвертом акте «Урваши». Исследователи усматривают в его художественной форме прямую связь с древними народными обрядовыми играми в честь Кришны, которые и дали, очевидно, начало развитию театрального и драматического искусства в Индии[85].
Тяготение Калидасы к лирическому жанру в его драматическом творчестве, представляющееся особенно очевидным при сравнении с произведениями Шудраки и Вишакхадатты, других выдающихся древнеиндийских драматургов эпохи расцвета, с пьесами, значительно более динамичными сюжетно, объясняется, разумеется, не влиянием традиционной поэтики, а художественной индивидуальностью самого поэта. Как предполагает Неру, отмеченные черты его творчества могли быть в какой-то мере обусловлены неведомым нам жизненным путем поэта. «Калидаса, — пишет он, — принадлежал к числу тех баловней судьбы, с которыми жизнь обходится как с любимыми сыновьями и которым ее красота и нежность знакомы лучше, нежели ее острые шипы и шероховатые края. Его произведения говорят о его любви к жизни и преклонении перед красотой природы»[86]. Предположения о счастливой жизни поэта, как мы уже отмечали, нельзя теперь ни подтвердить, ни опровергнуть, но любовь к жизни и преклонение перед красотой природы и человека он действительно выразил в своем творчестве с необычайной художественной силой и глубиной.
В. Г. Эрман
Песнь I ПОСЕЩЕНИЕ ОБИТЕЛИ ВАСИШТХИ
1. Ради истинного проникновения в слово и его значение я склоняюсь перед Парвати и Высшим Владыкой, родителями вселенной, столь же тесно, как слово и его значение, слитыми в неразрывном союзе.
2—4. Что в сравнении с царским родом, ведущим свое происхождение от Солнца, ограниченный мой разум? Поистине, в ослеплении своем я вознамерился пересечь на хрупком плоту трудноодолимый океан! Несведущий, я подвергну себя только насмешкам, тщась обрести славу поэта, подобно карлику, простирающему из алчности руки к плоду, достижимому лишь для высокого человека. Но, может быть, в этот царский род, куда врата для слова уже были отверсты древними певцами, отыщется путь и для меня, как для нити в драгоценный камень, просверленный ранее алмазом.
5—10. Итак, тех, что хранили чистоту свою от самого рождения, доводили свои начинания до успешного завершения, властвовали над землею до самых берегов океана; тех, чьи колесницы беспрепятственно достигали небесных врат; тех, что свершали приношения Огню по правилам, одаряли просителей по их желаниям, карали по вине, восставали от сна в урочный час, что собирали богатства лишь для того, чтобы отдать их нуждающимся; немногословных ради правдивости, одерживавших победы ради славы, вступавших в семейную жизнь ради потомства; тех, что в детстве обретали знания, в молодости искали наслаждений, в старости становились отшельниками, а в час кончины уходили из жизни путем единения с Высшим, — царей рода Рагху воспою, хоть и скудны силы речи моей, их достоинствами, слух пленившими, вдохновленный на это дерзание. Тому да внемлют благие, способные различать благое и неблагое; ведь в огне проверяется золото — чистое ли или с примесью оно.
11—16. Был некогда царь по имени Ману, сын Вивасвата, почитаемый мудрыми, первый из властителей земли, как слог Ом[87] — из слов, слагающих священную речь. В роду его чистом рожден был чистейший — Дилипа, царь-месяц, месяцу подобный, возникшему из Молочного Океана[88]. С широкой грудью, плечами быка, высокий, как дерево сал, долгорукий, казалось — то был сам воинский долг, воплощенный в теле, достойном его деяний. Он высился, подобно горе Меру[89], осеняя собою землю, своей крепостью все побеждающий, блеском все затмевающий, возвышенностью все превосходящий. Его ум равен был по силе его длани, знания — под стать его уму, начинания — его знаниям, успех — его начинаниям. Царскими достоинствами, грозными и прекрасными, был он своим подданным равно и страшен и любезен, как океан — чудовищами и сокровищами своих глубин.
17—30. Ни на волос не отклонялись его подданные с пути, проложенного со времени Ману, как с колеи обод колеса у доброго колесничего. Для их же блага собирал он налоги со своих подданных, в чем подобен был солнцу, собирающему воду в облака, только чтобы сторицей излить ее обратно на землю. Войско было для него — как знак царского достоинства, а средств для достижения цели два: нетленная мудрость, заключенная в шастрах[90], и напряженная тетива его боевого лука. Предприятия его, чьи замыслы всегда покрыты были тайной и непостижимы облик и поведение, лишь в плодах своих становились явны, как в укоренившихся впечатленьях — деяния прошлых рождений. Он берегся, не ведая страха, блюл веру, не будучи больным, без алчности умножал богатство, без вожделения вкушал наслажденье. При великом знании — молчаливость, при великой мощи — снисходительность, при щедрости — неприятие лести, и казалось, что каждые оба достоинства в сочетании этом один имеют источник. Неприверженный к мирскому, прозревший науки до самого предела, он, черпающий радость в добродетели, обрел мудрость преклонных лет без сопутствующей им немощи. И для подданных своих, благодаря воспитанию в них смирения, защите их и заботе о них, был он подлинно отцом, меж тем как отцы их — родителями только. У него, мудрого, карающего заслуживших кару ради мира, женившегося ради потомства, даже Выгода и Желание обратились оба в одну Добродетель[91]. Он доил землю ради жертвоприношения, ради урожая Индра[92] — небо; так, обмениваясь богатствами, поддерживали оба порядок в обоих мирах. Не могли соперничать с ним другие цари в славе защитника людей, ибо при нем от чужого имущества бежавшее воровство только и осталось что в звучании слова. Ученого человека, даже враждебного, он приветствовал, как больной — целебную траву, порочного, даже друга, отсекал, как ужаленный змеею палец. Поистине, средоточием великих сил природы создал его Создатель, ведь только благу других служили все его достоинства. И он правил безраздельно землею, как единым городом, опоясанным как стенами берегами и как рвами океанами.
31—33. У него была жена именем Судакшина, благонравием прославленная, как у Жертвоприношения — Дакшина[93], вознаграждение жрецу, в роду царей Магадхи[94] рожденная. И хотя много было у него жен в дворцовых покоях, лишь благодаря ей и Лакшми, богине счастья, почитал себя истинно супругом повелитель земли. Мечтая о рождении сына у нее, которая была его достойна, он пребывал в ожидании исполнения своих желаний, уже затянувшихся.
34—35. И вот, чтобы совершить обряд для обретения потомства, он сложил с себя тяжкое бремя правления, поручив его своим советникам, и, почтив Создателя, царственная чета, благочестиво чающая рождения сына, отправилась в обитель святого наставника Васиштхи.
36—37. Они взошли вдвоем на одну колесницу, катящуюся с шумом ровным и гулким, подобные Молнии и Айравате[95], воспарившим на грозовой туче. Дабы не нарушить мир обители, слуг малое число они взяли с собою, но величие их осанки словно могучим войском их окружало.
38—47. В пути овевали их ласковые ветерки, напоенные благоуханием садовых деревьев и разносящие цветочную пыльцу, тихо колебля лесные заросли. Они слышат крики лесных павлинов, поднимающих головы на стук колес, радующие слух двойным различением голосов, в которых звучит шестерная нота. Они узнают глаза друг друга в глазах двух ланей, отбежавших немного от дороги и взирающих на колесницу. Где-то заставили их поднять лица к небу неясные, но приятные для слуха клики журавлей, вытянувшихся в вышине вереницами в гирлянды, а не на колоннах парящие над входом. И благоприятным веянием ветра, обещающим исполнение их желаний, избавлены были их волосы и головные уборы от пыли, которую поднимали их кони. Они вдыхают веющий с широких озер аромат лотосов, несущий прохладуот плещущих волн и уподобляющийся их дыханию. В деревнях, ими же дарованных жрецам, отмеченных жертвенными столбами, они принимают вслед за дарами гостям несчетные благословения от свершающих жертвоприношения. И от старейшин пастухов, приходящих к дороге, приемля свежее топленое молоко, они спрашивают о названиях лесных дерев, которые видят по сторонам ее. Одаренные неописуемой красотой, в светлых одеяниях, они блистали в пути, словно месяц и звезда Читра[96] в час их схождения, избавленные от мороза. И прекрасный обликом властитель земли, подобный планете Будха[97], указывая супруге то на то, то на это окрест, даже не заметил, как миновало время, которое они были в дороге.
48—53. К вечеру он, непревзойденный в славе своей, прибыл, сопровождаемый царицею, с усталыми конями в обитель великого мудреца и подвижника, которую заполнили тогда возвратившиеся из леса с дровами, травою куша и плодами отшельники, приветствуемые дымками, восходящими над священными огнями; где толпились у дверей хижин лани, привыкшие кормиться рисом из рук жен мудрецов, словно их дети; где дочери благочестивцев, полив деревца в саду, тотчас удалялись от них, дабы не спугивать птиц, слетающихся попить из лужиц у их корней; где после захода солнца сгребали в кучи дикий рис, а лани, жуя жвачку, возлежали в двориках у хижин; где клубы дыма, восходящего от святого огня, благоухающие от жертвоприношений, несомые ветерком, овевали, освящая, прибывших гостей.
54—56. Велев колесничему распрячь для отдыха коней, царь сошел с колесницы и помог сойти супруге. Вежливые пустынники, в обуздании страстей несравненные, воздали почести ему с царицею, своему защитнику, почестей достойному прозорливому правителю. И по завершении вечерних обрядов он узрел великого подвижника, восседавшего вместе с Арундхати[98], словно бог огня с богиней Свахою[99].
57—59. Их стоп коснулись, склонившись, царь с царицею Магадхийкой, и в ответ наставник с супругою приветствовали их любовно. И вопросил о благополучии царства мудрец мудреца, чьей обителью было это царство, утомленного тряской в пути на колеснице, но гостеприимством утешенного и воспрявшего. Тогда отвечал разумной речью лучший из красноречивых, покоритель вражеских крепостей, обращаясь к тому знатоку заклинаний:
60-64. «Благополучным будет государство мое во всех семи ведомствах[100], доколе ты отвращаешь от него несчастья, от богов или людей исходящие. Ведь ты, творец мантр, теми мантрами[101] укрощаешь врагов моих уже издали, посрамляя стрелы мои, которые могут поражать лишь зримые цели. Возлияния, свершаемые тобою, о жрец, на жертвенные огни, обращаются в благодатный дождь для иссушенных засухой посевов. И могущество святости твоей — причина тому, что подданные мои живут до предела жизни человеческой, не ведая страха и бедствий. Как же не благоденствовать мне безбедно, когда о счастии моем печешься ты, досточтимый потомок Брахмы?
65—69. Но не радует меня власть над землею с ее материками и со всеми ее сокровищами, пока нет у меня от этой невестки твоей достойного потомства. Ныне предки мои, предвидя прекращение даяний по моей кончине, не снедают вдоволь на поминальной жертве, в заботе о пропитании на будущее. И пьют пращуры воду возлияний, подогретую их вздохами, ибо после меня едва ли от кого-нибудь чают они ее получать. Потому, хотя очищают душу мою жертвоприношения, гнетет ее отсутствие потомства, и светел я, и мрачен, как гора Локаалока[102] между вечными светом и тьмою. Суровые обеты и щедрые дары ведут к блаженству на том свете, но дитя, отпрыск чистого рода, — и здесь, и по ту сторону вечная утеха.
70—72. Почему же, видя меня его лишенным, ты не скорбишь, о благодетель, как о бесплодном деревце в саду обители, тобой с любовью взращенном? Знай, о блаженный, что мне уже невыносима причиняемая этим последним долгом мука, как натертая цепью рана для слона, лишенного ухода. Сделай же так, чтобы избавить меня от этого, отче. Ведь разрешить все преткновения, что встают перед потомками Икшваку[103], только ты один способен!»
73—74. Когда царь ему о том поведал, застыл на мгновение в глубокую думу погруженный, сомкнувший вежды провидец, словно озеро, в котором не плещут рыбы. И, сосредоточившись, он узрел причину, по которой воздвиглась преграда продолжению рода владыки земли, и он открыл ему ее, возвысившийся душою.
75—79. «Некогда случилось так, что на пути у тебя, возвращавшегося после служения Шакре[104] с небес на землю, оказалась корова Сурабхи, возлежавшая в тени волшебного дерева[105]. Поглощенный мыслью о царице, свершившей в ожидании тебя омовение, из страха пренебречь своим долгом, ты не приветствовал ее, меж тем как должен был почтительно обойти ее слева направо[106]. И она закляла тебя: „Раз ты меня презрел, не будет у тебя потомства, пока мое потомство ты не умилостивишь". Ни ты, ни колесничий твой не услышали тогда это заклятие, заглушённое ревом потока небесной Ганги[107], в которой бушевали мировые слоны[108]. Знай же, что от того небрежения возникло препятствие твоему желанию, ибо противно благу неуважение к достойным уважения.
80—81. Сейчас ради дарования возлияний Прачетасу[109], свершающему долгое жертвоприношение[110], она пребывает в подземном мире[111], врата в который охраняют змии. Пусть дочь Сурабхи тебе ее заменит; очистившийся, вместе с супругой воздай ей почести; умилостивленная, и она может исполнить твои желания».
82—85. И только что молвил так жрец, пришла из леса корова по имени Нандини, чистейшая даятельница жертвенных возлияний, бледно-розовая, цвета нежного бутона, с изогнутым пятнышком из белых волосков на лбу, словно заря, увенчанная новою луною, с полным выменем, орошающая землю парным молоком, что чище очистительной жертвы, при виде теленка потоком струящимся; и пылинки, летящие из-под ее копыт, коснувшись тела властителя земли, приобщили его к той святости, что дается омовениями в водах в святых местах.
86. И узрев ее, чей облик был исполнен благодати, молвил великий подвижник, ведающий добрые знаки, вновь обращаясь к нему, достойному обрядов, обретшему надежду на исполнение своей молитвы:
87—91. «Считай, что скоро сбудется твоя мечта, о царь, ибо сразу же, когда ее назвали, явилась благая. Живи теперь в лесу и постарайся умилостивить ту корову неукоснительным служением ей, подобно тому, как обретаешь ты знание прилежными занятиями. Куда ни пойдет она, иди за нею следом, когда остановится, остановись тоже, ляжет — располагайся рядом, будет пить воду — выпей за нею. И твоя преданная жена пусть провожает ее, ублаженную, по утрам до священного леса и вечером пусть встречает. Так и служи ей верно, пока не умилостивишь ее, и да не будет тебе препятствий больше, и да встанешь ты, как твой отец, во главе всех обретших достойных сыновей».
92—93. «Да будет так», — внял наставлению учителя склонившийся благоговейно ученик вместе с супругою, ведающий должные место и время. Тогда премудрый сын Творца, правдивый в речах, отпустил на ночной покой того прославленного отвагой владыку народов.
94—95. Хотя и обладал он могуществом подвижничества, зная правила обрядов, мудрец предоставил царю ради соблюдения обета лесное жилище. И в хижине из листьев, указанной ему главою рода, со смиренною верною супругой на ложе из травы куша провел он ночь, об исходе которой возвестили ему звуки гимнов, возглашаемых учениками того мудреца.
Песнь II ДАР НАНДИНИ
1—2. И вот на рассвете повелитель подданных, богатый славою, выпустил в лес корову мудреца, когда отняли от вымени и привязали теленка, а супруга царя одарила ее благовониями и венками. И верная владыке людей царица, прославленная превыше всех праведных жен, последовала за нею по тропе, на которой пыль освящена была ее копытами, как следует Предание смыслу Откровения[112].
3—6. Но, сжалившись над возлюбленной женою, царь вернул ее и сам, увенчанный славой, пошел пасти дочь Сурабхи, словно Землю, принявшую образ коровы, с четырьмя океанами, обратившимися в соски на ее вымени. И, следуя за коровой во исполнение обета, он отпустил всю свиту; не нужно ему было никого другого, чтобы защитить себя, собственное мужество — защита для потомков Ману. Пучками лакомой травы, почесываниями отгоняя оводов, пуская пастись по воле без препятствий, умилостивлял усердно владыка царей священную корову. Останавливаясь, когда она останавливалась, ступая за ней, когда двигалась, застывая на месте, когда ложилась, жаждая, когда пила воду, — как тень, следовал по ее пути властитель земли.
7—14. Хотя сложил он с себя знаки царского достоинства, блистательным обликом он выдавал свое величие, подобный царственному слону, в срок являющему ярое стремление свое, не обнаруживая тока мускуса. С волосами, стянутыми в узел дикими лианами, он скитался по дебрям с луком наизготове, словно задавшийся целью под предлогом защиты священной коровы отшельника укротить всех злобных хищников леса. Ему, оставшемуся без спутников, равному богу, Носителю Петли[113], пели хвалебный гимн деревья по обе стороны тропы голосами заливающихся в восторге птиц; его, достойного почестей, подобного Огню, другу бога ветра, осыпали своими цветами колеблемые ветром молодые лианы, когда проходил он близко, как по обычаю горстями риса девы его столицы; и лесные лани, взирая на него, тешили взоры свои, по облику чуя бестрепетными сердцами грозного лучника милосердие. Он слышал, как в зарослях лиан под звуки наполняемых ветром стволов бамбука, играющих флейтами, громкими голосами поют ему славу божества леса. И ветерок, напоенный прохладою горных водопадов и благоуханием цветов, качая ветви дерев, овевал его, палимого зноем и лишенного зонта, очистившегося благочестивым служением. И без дождя угас лесной пожар, когда он углубился в чащу леса как его хранитель; на деревьях явилось изобилие цветов и плодов, и сильный среди зверей перестал обижать слабого.
15—18. И своим странствием освятив страны света, на исходе дня сияние солнца и корова мудреца, оба цветом багряные, как юная лоза, направили путь свой к ночному убежищу. За нею, дающей содержание обрядам в честь божеств, и предков, и гостей, последовал владыка срединного мира, и с ним, почитаемым праведными, она предстала, как воплощенная вера со свершением посвященных ей деяний. Он шел, и стада буйволов, покидающие тенистые пруды, павлины, устремляющиеся к деревьям для ночлега, олени, ложащиеся в траву на лужайках, являлись взору его в сумеречных лесах окрест. И красили оба дорогу из леса к обители плавным шествием своим — корова, отягченная бременем вымени, кормящего лишь одного теленка, и мощный станом царь.
19—22. Когда же, следуя за коровой Васиштхи, он вернулся из леса, жена не могла оторвать от него глаз, медленно смыкающих веки, утомленных долгим ожиданием. А корова, предшествовавшая царю, что держался в пути позади, встреченная благочестивою женой царя, блистала тогда меж ними, как заря меж днем и ночью. И, обойдя почтительно слева направо даятельницу молока, Судакшина с блюдом неочищенного ячменя в руках, преклонившись, почтила им ее голову между рогами — врата для исполнения заветного желания. Томящаяся по теленку, остановилась та, однако, и приняла поклонение; и возрадовались оба супруга, ибо знак благоволения к почитателям у таких, как она, означает скорое вознаграждение.
23—25. Пав в ноги наставнику и супруге его, затем, свершив вечерний обряд, Дилипа, могучей рукою врагов почти истребивший, почтил снова служением корову, что возлежала по завершении доенья. Вместе с женою близ нее расположившись, где были приношения и светильники, он отошел ко сну, когда она заснула, и восстал поутру, когда пробудилась она. Так, блюдя обет ради обретения потомства, царственный пастух, достойный славы, непреклонный избавитель угнетенных, провел с царицею трижды по семь дней.
26—29. Когда настал другой день, священная корова мудреца, желая испытать преданность своего почитателя, вошла в горную расщелину во владениях отца Гаури[114], поросшую свежей травою, там, где с гор низвергается Ганга. А царь, уверенный, что ни один хищник не вздумает посягнуть на нее, залюбовался красотою гор и не усмотрел, как внезапно ринулся на корову лев и схватил ее. Ее мычание, отраженное протяжно эхом в ущельях, заставило властителя, доброго к страждущим, оторвать взор от царственной горы, словно оттянуло его уздою. И увидел лучник льва на розово-коричневой корове, подобного цветущему дереву лодхра[115] на холме, рдеющем заключенными в нем залежами руды.
30—33. Тогда царь, защитник, могучий истребитель врагов, оскорбленный, извлечь хотел стрелу из колчана, дабы убить убиения достойного того царя зверей, царю зверей сам поступью подобный. Но замерла недвижно, как на картине, десница бойца и пальцы ее застыли на блеск ногтей отразившем древке стрелы, оперенной перьями цапли. Словно змей, укрощенный заговором и целебной травою, вскинулся царь, пылая гневом, от той препоны возросшим, не в силах испепелить представшего столь близко оскорбителя. И тогда лев, схвативший корову, молвил человеческим голосом ему, наделенному львиной мощью, опоре благородных, славе рода Ману, в еще большее удивление его повергнув, удивленного своим состоянием:
34—40. «Не утруждай себя, владыка земли, если бы и удался тебе удар тем оружием, тщетным он будет. Хватит силы ветру вырвать дерево с корнем, но не поколебать гору. Знай, что имя мое — Кумбходара[116], Никумбхе[117] равный, я — слуга Бога восьми воплощений[118], спина моя освящена стопами его, восходящего по ней на своего быка, белоснежного, как гора Кайласа[119]. Видишь этот деодар — он был усыновлен тем богом, что несет на знамени образ быка, и познал вкус молока, изливающегося, как из златого сосуда-кумбхи[120], из груди матери Сканды. Однажды лесной слон терся о него головою и ободрал ему кору; и огорчилась дочь Горы, как если бы демоны поранили в бою сына ее, Полководца[121]. С той поры назначил мне Носитель трезубца[122], превратив меня во льва, пребывать в этом горном ущелье, дабы отпугивать лесных слонов, а питаюсь я теми, кто забредет сюда. Теперь, в час, назначенный Верховным Владыкой[123], мне, проголодавшемуся, как раз кстати будет эта кровавая трапеза, как Врагу богов[124] — нектар луны. Потому оставь угрызения и возвращайся, достаточно явил ты преданности своему наставнику, как приличествует ученику. Не померкнет слава оружия воина, когда вверившегося его защите оружие защитить бессильно».
41—42. Выслушал царь людей ту дерзкую речь царя зверей, и отлегло у него от сердца, когда он узнал, что это властью Горного бога[125] отвращено было его оружие. Не в силах пустить стрелу — впервые выдалась его оружию неудача, — подобно Громовержцу, чей удар остановлен был взглядом Треокого бога, — он так отвечал ему:
43—45. «Наверное, тебе покажется смешным, о властелин зверей, то, что я, оцепенелый, смею вымолвить, но я все равно скажу, ибо ведомы ведь тебе все потаенные чувства живых существ. Того, кто есть причина творения, сохранения и гибели всего недвижимого и движущегося, я должен почитать, но не могу же я смотреть безучастно, как пропадет имение моего наставника, необходимое ему для поддержания священного огня. А потому изволь утолить свой голод моим телом и отпусти корову великого мудреца; уже томится о ней ее теленок на исходе дня!»
46. На это осклабился спутник Владыки существ, блеском клыков своих рассеяв на мгновенье мрак в глубине ущелий, и молвил:
47—50. «Безрассуден ты, я вижу, если хочешь отдать так много за такую малость, — и власть над миром под единой эгидой, и молодость свою, и свое прекрасное тело. Если так сострадателен ты ко всем существам, подумай: смерть твоя послужит во благо одной этой корове, между тем как оставшись в живых ты еще долго будешь ограждать от несчастий своих подданных, подобно отцу твоему. А если боишься, что провинность твоя навлечет на тебя гнев твоего наставника, у которого эта корова — единственная, разве не в твоей власти угасить сие пламя Кришану[126], даровав ему несметные стада коров — у каждой вымя с бадью? Так побереги свое тело, исполненное сил, оно еще дарует тебе много радостей. Говорят же, что процветающее царство — тот же рай Индры, только что на земле».
51. И когда, молвив это, умолк царь зверей, сама гора отозвалась эхом в ущельях, повторяя, как будто с ликованием, его слова хранителю земли.
52. Выслушав речь служителя бога, возразил ему владыка людей, еще большей жалостью проникшись к подмятой тем корове при виде испуганных глаз ее, на него устремленных:
53—58. «Поистине, высокое звание кшатры[127] в мирах славится защитой слабых от убиения. Тому, кто отступил от своего долга, зачем ему царство или жизнь, запятнанная бесчестием? И разве можно отвратить гнев великого мудреца дарованием других коров? Знай, что эта корова ничем не уступает самой Сурабхи, и это только могущество Рудры[128] позволило тебе посягнуть на нее! Поэтому она вполне достойна того, чтобы я спас ее от тебя, отдав свое тело взамен, и так и трапезе твоей, полагающейся после поста, не будет препятствия, и обряды мудреца отсутствием средств не нарушатся. Ведь и сам ты, повинуясь воле другого, с великим усердием охраняешь этот деодар, и потому поймешь, что невозможно предстать безнаказанно перед тем, кто вверил кого-то твоему попечению, а ты дал ему погибнуть. А если уж заботишься ты о том, чтобы остался я невредим, сжалься над славой моей, она же и есть мое тело. Не о плоти же пристало мне сокрушаться, из праха возникшей и обреченной кончине. Говорят, что из беседы рождается дружба; она и явилась ныне между нами, встретившимися здесь, в глубине леса. Так не отвергай же мою просьбу, о спутник Владыки существ, теперь, когда я стал твоим другом!»
59—61. «Да будет так», — молвил лев и отпустил корову, и царь, внезапно ощутивший свободу движений, сложил оружие и готов был отдать ему свое тело, как кусок мяса. Но в тот миг, когда опустил главу долу защитник подданных в ожидании страшного львиного прыжка, сверху пал на него дождь цветов, которыми осыпали его руки видьядхар[129]. «Восстань, сын мой» — вняв этим словам, сладостным, как нектар, поднялся царь и увидел перед собою, словно собственную мать, корову, источавшую молоко, и уже не увидел льва.
62—63. И сказала корова изумленному Дилипе: «О благочестивый, то был только призрак, созданный мною, чтобы испытать тебя. Благодаря могуществу мудреца сам бог смерти не в силах поразить меня, что уж говорить о каких-то хищниках! Я довольна твоей преданностью наставнику и твоим состраданием ко мне; выбирай же, какую хочешь ты милость от меня, знай, что я могу даровать не только молоко, но исполню любое желание ублаготворившего меня».
64. Тогда царь, благодетель просящих, сложил молитвенно руки, завоевавшие ему имя героя, и просил о сыне для Судакшины, который утвердил бы его род на земле и обрел бесконечную славу.
65. «Да будет так», — ответствовала дарительница молока, исполняя просьбу возжелавшего потомства царя, и повелела ему: «Подои меня, сыне, в сосуд из листьев и выпей молоко».
66. «Только с разрешения мудреца, мати, пожелаю я молока, что останется после твоего теленка и после того, как выделят потребное для обряда; так беру я шестую долю от охраняемой мною земли».
67. Еще больше довольна была корова Васиштхи этой скромной просьбою властителя земли и, сопровождаемая им, возвратилась, неутомленная, из долин Химавата в обитель.
68—69. С лицом ясным, как месяц, поведал владыка царей владыке о милости, ею дарованной, о коей возвещала уже радость его, и те же речи повторил возлюбленной супруге. И с соизволения Васиштхи царь, не ведающий упрека, благой к добродетельным, выпил, жаждущий, оставшееся после теленка и после доли для жертвоприношений то молоко Нандини, подобное его светлой славе.
70—71. На следующее утро, после трапезы по окончании обетного поста Васиштха, исполненный самообладания, благословил в дорогу до своей столицы супружескую чету. Обойдя слева направо жертвенный огонь, затем так же воздав почесть владыке и Арундхати и корове с теленком, царь, чье могущество еще возросло после обрядов благословения, пустился в обратный путь.
72—74. Радостным был обратный путь его с благоверной супругой — на колеснице, катящейся плавно, с приятным для слуха шумом, — словно несли его крылья сбывшегося желания. И когда, изнуренный своим обетом, он вернулся к своим подданным после долгого отсутствия, они не могли наглядеться на него, как смотрят после новолуния на восходящего на небо властелина растений[130]. Приветствуемый горожанами, блистая величием Сокрушителя городов[131], он вступил в свою столицу и в длань свою, мощью равную царю змиев, принял вновь бремя власти над землею.
75. Как небо взлелеяло возникшее из ока Атри[132] светило, как река богов приняла от Огня пылающий жар Владыки[133], так понесла тогда царица плод, заключивший в себе могучие силы всех хранителей мира[134], блага царского рода ради.
Песнь III ВОСХОЖДЕНИЕ РАГХУ НА ЦАРСТВО
1—6. В знак близящегося исполнения желания супруга, явила Судакшина вскоре беременности первые приметы, обещающие продолжение рода Икшваку, — как лунное сияние, радовали они взоры ее подруг. Снявшая лишние украшения с исхудавшего тела, с бледным, как цветок лодхры, лицом, она подобнастала ночи в предрассветный час, когда звезды редеют на небе в тускнеющем свете луны. И владыка страны, когда приближался к ней, не мог насытиться ароматом земли из уст ее, как слон, чующий близость пруда в лесу, благоухающем под ливнями из туч на исходе лета. Ведь как Вождь Марутов[135] над небом, так сын ее будет властвовать над землею — не потому ли более, чем к иным яствам, ее к этому прежде всего потянуло! «Чего бы хотелось царевне Магадхи? — из скромности не говорит она мне о своих желаниях» — так то и дело спрашивал заботливо у милых подруг ее властитель Северной Косалы[136]. И что бы, угнетаемая тяготами беременной она ни попросила то и являлось перед нею, ибо ничего не могла она пожелать что было бы недоступно для владыки земли стоило ему напрячь тетиву лука.
7—12. Постепенно тяготы эти преодолев, пополневшая, воссияла она. Так лиана, с которой осыпались увядшие листья, одевается новой чарующей листвою. Дни шли, и груди ее полные с потемневшими сосками затмили красоту расцветших лотосов с пчелами, льнущими к ним. И убедился царь, что, подобная опоясанной морями земле, заключающей сокровища в недрах своих, или дереву шами[137], таящему в себе огонь, несет царица дитя во чреве, как река Сарасвати[138] — поток, скрытый под землею. Тогда повелел он, мудрый, совершить как должно обряд ради рождения сына и другие обряды, которые были бы достойны его любви к супруге, благородства его души и богатств его, обретенных им в земных пределах. И, войдя в ее покои, царь с радостью взирал на нее, когда она поднялась ему навстречу с трудом, отягченная бременем, воплотившим мощь владыки богов, со слезами на глазах, еле в силах сложить приветственно руки в ладони. Меж тем как опытные врачи, искусные во взращивании дитяти, позаботились как должно о благополучии плода, возрадовался владыка, видя, что близка она к разрешению от бремени, подобная затянутому в конце лета облаками небу.
13—15. И в срок родила она, богине Шачи[139] равная красою, сына, чья высокая судьба предсказана была пятью планетами[140], что взошли к зениту, не возвращаясь в солнце[141]. Озарились страны света, повеяли благие ветры, священный огонь принял жертву, языки отклоняя вправо; все в этот миг обрело образ знамения счастья — ибо во благо мира бывает появление на свет подобных. Ночные светильники померкли внезапно и, казалось, превратились в собственные изображения на стенах, когда воссиял над ложем свет от самого новорожденного, благополучно явленного.
16—17. Когда же прислуга женских покоев возвестила царю о рождении сына, только три вещи в мире остались, которые бы он, упоенный той вестью, как нектаром, не был готов отдать за нее в награду—царский балдахин[142] и оба царских опахала. И, глядя взором неотрывным и невитающим, как цветы лотоса в безветрии, на милый лик своего сына, владыка земли не мог сдержать переполнявшей его радости, как океан своих вод при виде месяца в час прилива.
18—20. И когда были совершены все обряды рождения Васиштхою, родовым жрецом, подвижником, прибывшим для этого из лесной обители, еще ярче воссиял сын Дилипы, как драгоценный камень, извлеченный из недр, после шлифования. И услаждающие слух звуки праздничных литавр, что сопровождали радостные пляски избранных красавиц, доносились не только до чертогов государя, супруга Магадхи, но и до небесной стези богов. Не было узников в его царстве, которых он мог бы освободить в ознаменование рождения сына, и потому пришлось властителю довольствоваться тем, что себя самого освободил он от тех уз, что налагает долг перед предками.
21. Предвидя, что сын его дойдет до пределов учености и в войнах с врагами до земных пределов, царь, разумеющий значения слов, нарек ребенка именем Рагху, производным от глагола, означающего хождение.
22—24. Заботами отца, владетеля всех в мире богатств, возрастал ребенок в телесной красоте день ото дня, как молодой месяц, питаемый лучами солнца. И, как Ума и Шива Рожденному в тростниках[143], как Шачи и Сокрушитель крепостей Джаянте[144], радовались сыну царь и Магадхи, равному тем сыновьям равные тем родителям. А любовь, соединившая их сердца нерушимой связью, еще больше возросла между ними, только сыном единственным разделенными, как у неразлучных птиц-чакравак[145].
25—28, Вот ребенок только начал лепетать первые слова, которым научила его нянька, и ходить, держась за ее протянутые пальцы, и послушно склонял головку, когда его учили приветствовать старших, чем безмерно умножал радость своего отца, — тогда царь любил брать его на колени, наслаждаясь осязанием его, словно нектар проникал ему сквозь кожу, и прикосновение к сыну надолго погружало его, сомкнувшего веки, в состояние блаженства. И хранитель нерушимости царства в своем высокорожденном сыне черпал веру в продолжение рода своего, как Владыка творений в своем перевоплощении, заключающем в себе высшую природу, видит непреложность сохранения вселенной. После того как совершен был обряд пострижения, Рагху, отпустив длинные кудри, совместно с сыновьями придворных своего отца, своими ровесниками, выучил грамоту и вышел, словно из устья реки, на простор великого океана наук.
29—32. По совершении же в соответствии с правилами обряда посвящения его учители преподали знания ему, любезному учителям, и убедились, что нетщетны были их усилия, ибо оказываются благими плоды деяний, когда прилагаются они к достойным. Высокоумный, одаренный всеми способностями разумения, он, пользуясь ими, преодолел четыре Веды, подобные четырем морям, как проходит страны света Владыка лучей[146], направляя своих гнедых, быстротой превосходящих ветер. Одетый в священную оленью шкуру[147], он перенял искусство владения оружием у своего отца вместе с необходимыми в битве заклинаниями, ибо не только единственным повелителем, но и единственным, поистине, лучником был царь на земле. И, как теленок вырастает в могучего быка, как слоненок становится царственным слоном, так Рагху, став из дитяти юношей, возвеличился станом прекрасным, исполненным мощи.
33—34. Вслед за обрядом дарения коровы[148] справил отец для него свадебные торжества; и прекрасные царевны, что обрели доброго супруга, блистали, как дочери Дакши[149], выданные за Гонителя тьмы. Широкоплечий, с долгими, как колесничные оглобли, руками, с широкой, как створ врат, грудью, с могучей шеей, телесным совершенством самого отца своего превзошел Рагху, но так скромно держался, что рядом с ним выглядел ниже.
35—36. Тогда царь, желая облегчить тяжкое бремя правления, которое он нес уже так долго, видя вежество царевича, природное и развитое воспитанием, объявил его титул наследника царства. И богиня Шри[150], благосклонная к высоким достоинствам, перешла отчасти из прежней царственной обители в соседствующую, носящую имя наследного царевича, как переходит она, Красота, от одного лотоса к другому, расцветшему.
37—38. И как огонь разгорается от ветра-соратника, как солнце ярче блистает, когда рассеиваются облака, так царь еще неодолимей стал благодаря ему, как слон по вскрытии висков. Назначив того несравненного лучника охранять жертвенного коня, сопровождаемого другими царевичами, царь, Свершителю ста жертвоприношений[151] равный, беспрепятственно совершил без одного сто жертвоприношений коня.
39. Но когда в последний раз ради свершения обряда отпустил коня, разнузданного, жертвователь, Шакра, явившийся невидимо, похитил его прямо на глазах у охранявших его лучников.
40—43. Ошеломленное и павшее духом, пребывало в горести войско царевича, и тут предстала их взорам вдруг явившаяся Нандини, корова Васиштхи, известная своим волшебным могуществом. Тогда святой водой, излившейся из ее тела, промыл глаза сын Дилипы, и стали зримы для него и те предметы, что за пределами чувственного восприятия. Сын земного бога, он увидел на востоке бога, Того, кто отсек крылья гор[152], увлекающего за собою коня, привязанного уздою к его колеснице; он увидел, как то и дело осаживает того коня колесничий. Узнав в нем Красного Индру[153] по сотням его немигающих глаз и по красным коням его, воззвал к нему Рагху громовым голосом, достигшим небес, как преградой прерывая его бег:
44—46. «Первым из вкушающих долю от жертвы называют тебя мудрые, о властитель богов! Как же случилось, что прибег ты к нарушению обряда отца моего, нерушимо блюдущего обрядовые службы? Владыка трех миров, небесный прозорливец, кому назначено карать повсюду осквернителей жертвы, если сам ты станешь препятствием для обрядов благочестивых, погибнет Святой Закон! Потому соизволь, о Щедрый[154], отпустить этого коня, главного в великом жертвоприношении. Божества, указующие смертным пути святого откровения, не вступают на нечистую стезю?»
47. Услышав эту смелую речь от Рагху, властелин небожителей, удивленный, повернул колесницу и молвил в ответ такие слова:
48—50. «Верно то, что говоришь ты, царский сын, но берегущие славу свою должны защищать ее от тех, кто на нее посягает, отец же твой вознамерился своим жертвоприношением затмить свет моей всемирной славы. Пурушоттама, Высший Дух, — один Хари[155] так зовется, Махешвара, Великий Владыка, — это Треокий и никто иной, меня же мудрецы знают как Шатакрату, Свершителя ста жертвоприношений, и нет другого, кто носил бы мое имя. Вот почему, следуя деянию Капилы[156], я отобрал коня у твоего отца. Ты не должен здесь чего-то добиваться. Не вступай на путь сыновей Сагары».
51—52. Тогда засмеялся бесстрашный хранитель священного коня и снова молвил Разрушителю твердынь: «Берись за оружие, если таково твое решение; но пока ты не победил Рагху, не думай, что ты достиг цели». Так сказал он Щедрому, наложив стрелу на тетиву и отступив назад левой ногою, стал он, возвышаясь во весь рост, обратив лицо ввысь; прекрасен был облик его, словно подражающего великому Шиве[157].
53—56. Как будто оружием в грудь пораженный тем вызовом Рагху, взъярился бог, разверзающий тучи, и сам возложил бьющую без промаха стрелу на лук, ставший на миг тот радугой[158], знамением сбирающихся облаков. Глубоко вонзилась в широкую грудь сына Дилипы та стрела, привыкшая к крови страшных асуров, и напилась, любопытствуя, еще не отведанной ранее человеческой крови. И царевич, отвагою равный Кумаре, пустил стрелу, отмеченную его именем, и она вошла в руку Индры — листья, выведенные на щеках Шачи, отпечатались на той руке, а пальцы ее затвердели, натертые стрекалом, которым погоняет бог своего небесного слона. А другой стрелой, оперенной перьями павлина, Рагху сбил знамя грома с колесницы Шакры; еще больше разгневался тот на него, как если бы вырвал он дерзостно прядь волос у самой богини, хранящей счастье небожителей.
57—58. И был тогда яростный бой между ними обоими, жаждущими победы, летели стрелы остриями вверх и вниз, подобные страшным крылатым змиям, а царское войско и сиддхи, обступив, наблюдали за ними. Но и непрерывными ливнями стрел не мог угасить Предводитель Васу[159] пылавший в нем неодолимый боевой дух, как не может туча погасить водами извергнутый из себя огонь молнии.
59—62. И вот стрелою с серповидным острием рассек Рагху тетиву на луке в руке Индры, покрытой желтым сандалом, и взревел он страшно, как океан, когда пахтали его боги и демоны. С возросшим гневом, отбросив лук, подъял бог, чтобы сразить насмерть могучего противника, оружие свое, предназначенное для отсечения крыльев гор, бросающее окрест сверкающий отблеск. Пораженный в грудь сокрушительным ударом, пал Рагху наземь, вызвав слезы на глаза воинов; но, оправившись мгновенно, восстал под их же радостные клики. Истинное достоинство проявляется всюду — необыкновенное мужество его, столь долго стоявшего насмерть в жестоком противоборстве оружием, понравилось Победителю Вритры[160].
63—64. «Еще никогда и никто до тебя не мог противостать мощи моего оружия. Знай, что я доволен тобою, проси чего хочешь, кроме коня» — так молвил ему открыто Предводитель Васу. Тогда царский сын опустил обратно в колчан наполовину извлеченную стрелу, оперение которой окрасило в золото пальцы на его руке, и так отвечал благосклонному в речах богу:
65—66. «Если ты полагаешь, владыка, что конь уже не может быть возвращен, да обретет тогда мой отец, неукоснительно следующий обетам, плод того жертвоприношения в полной мере, как было бы по свершении его согласно предписаниям. И сделай так, о властитель миров, чтобы из уст твоего посланца услышал весть о том, восседая в совете, царь, воплотивший в себе частицу Треокого бога и потому неприступный для простых смертных».
67—70. «Да будет так», — молвил Индра, обещая исполнить просьбу Рагху, и вместе с Матали, своим колесничим, удалился тем же путем, каким пришел. И сын Судакшины, не очень довольный, возвратился в дом совета к царю. Властитель же, осведомленный уже посланцем Индры, с ликованием принял его и рукой, онемелой от радости, гладил тело его, покрытое шрамами от оружия бога. Так девяносто девятью великими жертвоприношениями, как девяносто девятью ступенями, проложил себе путь на небо, мечтающий вознестись после смерти, владыка земли. И теперь, отвратившийся душою от всего земного, он передал юному сыну в соответствии с законом свой белый балдахин как знак царского достоинства, а сам с царицею удалился под сень лесных дерев, как то пристало мудрецу, ибо таков был обет царей рода Икшваку в преклонные годы.
Песнь IV ЗАВОЕВАНИЯ РАГХУ
1—3. Наследовав царство отца, еще ярче воссиял он, как жертвенный огонь, озаренный светом восходящего солнца на исходе дня. Запылал огонь зависти, тлевший до того в сердцах царей-соперников, когда узнали они, что после Дилипы он взошел на трон. А подданные его вместе с детьми возрадовались возвышению царевича, как приветствуют обычно, возведя взоры горе, новое воздвижение стяга Индры[161].
4—25. Над двумя простер свою власть двоесильный — над отцовским троном и над вражьей землею. Богиня Лотоса, незримая, осеняла лотосом главу его, посвященного в сан верховного владыки, чудный ореол создавая над нею. Ему, заслужившему хвалу, воздавала должное хвалебными песнями Сарасвати[162], когда в назначенное время окружали его придворные певцы. И хотя со времен Ману владели уже землею высокочтимые цари, до него, казалось, не было еще у нее истинного властелина. Справедливостью кары завоевал он сердца подданных, подобный южному ветру, не приносящему ни холода чрезмерного, ни зноя. И превосходство его приглушило в народе скорбь о почившем его отце, как сожаление о цветах манго возмещается его плодами. Люди, сведущие в государственных делах, указывали молодому царю верные и неверные пути управления; но он в выборе не ошибался. Все обновилось, и даже свойства пяти стихий облагородились, казалось, когда он стал властителем земли. Как благая свежесть дает имя месяцу, а солнцу — греющий жар, так истинным царем его сделало счастье подданных. И как ни прекрасны были большие продолговатые очи его, не в них, а в науке заключалось его острейшее зрение, проницавшее цели государственных деяний. Как вторая богиня царской удачи, приходила к нему, обретшему в уверенном властвовании покой, увенчанная лотосами осень. И когда рассеялись, уступая путь, излившие дожди облака, испепеляющая мощь его, как и солнца, восторжествовала, покоряя страны света. Индра убрал с неба свой лук-радугу, Рагху взялся за свой победный лук — поистине, прибегали к оружию оба ради блага народа, каждый в свой черед. И осень с опахалом из белых лотосов и султанами из цветущей касы могла лишь подражать красе его и все же ее не достигнуть. Только на двоих мог тогда взирать с равным наслаждением имеющий очи — на царский лик благосклонный и на ясно сияющий месяц. В лебединых стаях, в звездах, в водах, лилиями покрытых, отражалась его беспорочно светлая слава. И пели славу государя-хранителя, с юных лет его воссиявшую, сельские девы, охраняющие посевы риса, кроясь в сахарных тростниках. И если очищаются воды при восходе блистающей звезды мудреца, что рожден был в кувшине[163], при восхождении Рагху замутились страхом души его врагов. Могучие и ярые горбатые быки, подрывая играючи речной берег рогами, словно являли тем царской бранной мощи образ, а его слоны, раздраженные опьяняющим запахом цветов семилистника, словно соперничая с ним, извергали мускус из семи отверстий на теле. Наступившая осень, когда реки стали доступны для переправы и высохла грязь на дорогах, побудила его к походу еще прежде, чем он осознал всю свою силу. И жертвенный огонь, вскормленный как должно, при обряде освящения оружия и коней, склонившись вправо, предсказал ему победу.
26—27. Укрепив столицу и обезопасив тыл, он выступил при счастливых приметах с войском шести родов на завоевание мира. И почтенные городские женщины, напутствуя, осыпали его жареными зернами риса, как некогда окутали белыми туманами Непреходящего[164] взбаламученные горой Мандарой[165] волны Молочного Океана.
28—34. Равный отвагой Владыке Востока[166], он выступил сначала на восток, веющими по ветру стягами грозя неприятелям, небо кроя пылью, поднятой колесницами, а землю — тучами тучам подобных слонов, ее обращая в небо, а небо — в землю. Отвага впереди, гром следом, дальше — пыль, а уж потом — колесницы и прочие — так четырьмя полчищами наступало войско. Он же могуществом своим творил воды в пустыне брод в судоходных реках, просеки в лесных дебрях. И он вел свою великую рать к Восточному океану, как некогда Бхагиратха[167] вел Гангу, ниспадавшую с перевитых волос Шивы. Сломленные, свергнутые, лишившиеся богатства плодов, пали на пути его другие цари, как деревья на пути слона, продирающегося сквозь чащу леса. И, так пройдя все восточные страны, победитель достиг наконец зеленеющих рощами пальм берегов великого океана.
35—37. От сокрушающего непокорных сухмы[168] спаслись, уподобившись тростнику, сгибающемуся под напором речного потока. Вангов[169] же, пытавшихся противостоять ему силою своего флота, полководец разбил наголову и воздвиг в память победы триумфальные колонны на островах в устье Ганги. Те же, что склонились к его стопам-лотосам, вновь возвращались к власти, одаряя Рагху своим богатством, как рисовые побеги, вырванные из земли и пересаженные на другую почву.
38—41 Он перешел с войсками Капишу по мосту из выстроившихся в ряд слонов и по пути, указанному ему в Уткале[170], двинулся на Калингу[171]. Он обрушил разящую мощь доблести своей на Махендру, как погонщик вонзает стрекало в голову норовистого слона. Царь Калинги, ведущий отряды слонов, встретил его градом стрел — так гора градом камней оборонялась от Индры, когда он отсекал ей крылья. Выдержав град железных дротиков и стрел, Рагху, потомок отважных, тем боевым омовением обрел благосклонность богини победы.
42—43. И ратники его, устроив там себе корчму, праздновали победу, осушая кубки из листьев бетеля, полные пальмового вина, словно выпивая досуха славу врага. А праведный царь-победитель взял богатство, но не страну властителя Махендры, которого, пленив, освободил потом.
44—48. Оттуда по морскому берегу, поросшему плодоносными бетелевыми лесами, он двинулся, легко одерживая победы в пути, в ту страну, куда удалился некогда Агастья[172]. Войско его искупалось в реке Кавери, понесшей воды, благоухающие слоновьим мускусом, в океан, и недоверчив стал к ней господин потоков[173]. Потом войска завоевателя, уже прошедшего дальний путь, расположились в долинах гор Малайя[174], покрытых зарослями перца, над которым вились стаи зеленых голубей. Там из-под копыт коней, давящих плоды кардамона, вздымалась и оседала на висках слонов, источающих мускус, пыльца, благоуханием сходная с ним. А сами грозные слоны,, способные порвать свои ножные узы, смирно стояли, привязанные за шею к сандаловым деревьям веревками, плотно обвивающими стволы их по бороздам, проложенным в коре змеями.
49—50. Даже солнце на Юге умеряет порою свой жар; но пылу Рагху там не могли противостоять цари рода Пандья[175]. Склонившись перед ним, они предложили дары — отборный жемчуг, собранный в той части великого океана, где в него впадает река Тамрапарни[176], — как воплощение скопленной славы своей.
51—57. Порадовавшись от души победе на склонах гор Малайя и Дурдура[177], поросших сандаловыми лесами, — как прекрасные перси, умащенные желтым сандалом, вздымались они над землею, — непобедимый герой перевалил через горы Сахья далеко от океана, как через бедра земли, откинувшие прочь свои покровы. А море, некогда отраженное вдаль стрелами Парашурамы[178], казалось, опять накатывается на Сахью волнами огромного войска, двигавшегося на завоевание западного побережья. И поднятая его ратью пыль умастила вместо шафрана волосы женщин Кералы, сбросивших в страхе с волос украшения. Для доспехов же его воинов стала даровым умащением пыльца с цветов кетаки, разносимая ветерками, веющими с реки Муралы[179]. И бряцание боевой сбруи коней, скачущих по лесным дорогам, заглушало шум ветра в ветвях арековых деревьев, а на виски слонов, привязанных к стволам смоковниц, слетали с цветов пуннаги[180] пчелы, привлеченные запахом выступающего на них мускуса.
58—59. Перед Рамой океан расступился поневоле, давая дорогу его войскам; Рагху он уплатил дань покорностью властителей Западного берега. И триумфальной колонной своей победитель сделал гору Трикута, на которой бивни его яростных слонов написали повесть о его доблести.
60—61. Опуда по дороге, ведущей в глубь страны, он двинулся на завоевание персов, как подвижник углублением в истину устремляется к одолению врагов, именуемых страстями. И приход его заставил поблекнуть разрумяненные вином лица женщин западной страны, как тучи на небе не по времени года кроют тенью розовеющие в лучах утреннего солнца лотосы.
62—65. Жестокой была битва его с обитателями Западного берега, сильными своей конницей, тучи пыли окутали сражающихся, и только по звону тетив угадывалось во мгле местоположение противостоящих. И усеяли землю брадатые головы, отсеченные его стрелами с наконечниками-лезвиями, словно медовые соты, покрытые пчелами. Уцелевшие же, сняв шлемы, сдались ему, ибо только покорность могла смягчить гнев великодушного победителя. А воины его отпраздновали окончание ратного труда в окрестных виноградниках, где земля была устлана отборными оленьими шкурами.
66—67. Оттуда Рагху повернул в страну Куберы[181], истребляя на пути северян своими стрелами, как солнце лучами осушает земные воды. И его кони отдохнули после долгой дороги на берегах Ванкшу; повалявшись на земле, они отряхнули приставшие к гривам листья шафрана.
68—70. Там деяния Рагху явили его могущество, внеся смятение во дворцы гуннских владык, — из-за них покраснели под потоками слез щеки обитательниц гаремов, чьих мужей он сразил. А Камбоджи не могли противостоять ему в битве и склонились вместе с деревьями анколла, что сгибали, натягивая цепи, привязанные к ним боевые слоны. Груды золота и множество отборных коней посылали властители той страны как дань царю Кошалы, но не добавляли ему тем гордыни.
71—76. Потом со своею конницей он взошел на великую гору — отца Гаури[182], чьи вершины, казалось, вознеслись еще выше, когда поднялись в небо из-под копыт тучи каменной пыли. Там горные львы, равные ему отвагой, обращали к нему бестрепетные взоры из своих пещер, не устрашенные шумом приближающегося войска; там, шелестящие в сухой листве берез и поющие в бамбуковых зарослях, овевали его в пути прохладой ветерки с Ганги, напоенные водяной пылью; там воины его отдыхали в тени элеокарпов на каменных плитах, умащенных мускусом полежавших на них оленей. А ночью полководцу светильником без масла было мерцание трав, отражающееся в блестящих ошейниках привязанных к стволам лиственниц слонов. А по уходе войска со стоянки сорванная цепями кора на деодарах возвещала жителям гор о росте его слонов.
77—80. И была там яростная битва между Рагху и горными племенами, в которой железные дротики высекали ударами искры и летели тучами камни из пращей. Своими стрелами прекратив празднества охочих до празднеств утсавасанкетов[183], мощью длани своей он заставил киннар[184] воспеть его победу. Когда же принесли царю дани, ему явились сокровища богатств Химавата, как горе —- сокровища его отваги. И на той вершине установив нерушимо памятник своей славы, он сошел в долины, выказав пренебрежение горе, которую ранее вырвал из земли сын Пуластьи[185].
81—84. Когда он перешел реку Лаухитья[186], властитель Страны Восточных Звезд[187] затрепетал, устрашенный, как задрожали и стволы черных алоэ, к которым привяжет своих слонов победитель; уже пыль от его колесниц, затмившая солнце и помрачившая ясный день без дождей, повергла в отчаяние несчастного — каково же ему было узреть воочию стяги наступающего войска? А правитель Камарупы, что другим завоевателям давал всегда отпор своими боевыми слонами, теми же слонами, источающими мускус из висков, уплатил дань покорности тому, кто превзошел в отваге Индру. И, как цветы к золотому подножию бога-хранителя, принес драгоценные камни к тени ног победителя склонившийся царь Камарупы.
85—88. Так покорив страны света, вернулся завоеватель в свою столицу, пылью от своих колесниц запорошив венцы царей, лишившихся царственного крова. Там он приступил к свершению обряда Всепобеждающего[188], в коем все раздается жрецам, — ведь для добродетельных, как для облаков, лишь ради излияния даров существует обретение. По завершении жертвоприношения потомок Взошедшего на Горб[189], друг своих советников, воздаянием высоких почестей смягчив для покоренных царей горечь поражения, отпустил их в свои города, где их заждались женщины гарема, истомленные долгой разлукой. И когда они прощались, на стопах милостиво принявшего их верховного властелина, отмеченных изображениями знамен, громовых стрел и царских зонтов, они оставили багряные следы от медвяных цветов, осыпавшихся с венков на их заплетенных волосах.
Песнь V СВАТОВСТВО АДЖИ
1—3. К властителю земли, на жертвоприношении Всепобеждающего истратившему на дары всю сокровищницу свою, явился Каутса, ученик Варатанту; завершив срок обучения, он искал теперь средства заплатить за него своему наставнику. В сиянии своей славы гостеприимный царь вышел встретить гостя, озаренного сиянием священного знания, сложив должные подношения за неимением златого сосуда в глиняный горшок. Сведущий в обычаях, почтив согласно обычаю его, воссевшего на почетное место, исполненный достоинства владыка народов, ведающий должное поведение, так молвил исполненному святого рвения подвижнику, сложив руки в ладони:
4—11. «О ты, чей ум острее священной травы куша[190]! Здравствует ли наставник твой, лучший из слагающих гимны, от кого обрел ты великое знание, как мир обретает жизнь от солнца? Надеюсь, не умалили никакие враждебные силы тройное сокровище подвижничества великомудрого, телом, речью и мыслью неустанно скапливаемое и тревожащее покой Индры. Ни буря, ни другие бедствия не погубили, надеюсь, деревья обители, чья сень дарует отдых, — окапывая их канавками и другие работы исполняя, не ухаживал ли ты за ними, как за родными детьми? И ничто не грозит, надеюсь, маленьким ланям, которых ласковые отшельники лелеют, едва родившихся, на коленях и которым потом разрешают пастись даже на жертвенной траве куша, нужной для обрядов. И мирно струятся там священные воды, в которых свершаются ежедневные обряды омовения и которые берут пригоршнями для возлияний предкам; и шестая доля сбора риса приносится на их песчаных берегах. И дикий рис, и плоды, и другие произведения леса, дающие вам пропитание, и все, что предлагают своевременно пришедшим гостям у вас, — да не потравит это пасущийся в окрестностях деревенский скот! Не дал ли тебе великий мудрец, удовлетворенный полученным тобою воспитанием, разрешения вступить в новую пору жизни? Ведь именно теперь наступило время для тебя войти во вторую ашраму[191], стать домохозяином, для всех благодетельным. Не довольно для души моей принять с почетом достойного гостя; я жажду исполнить твои веления. По указанию ли наставника или по собственной воле оказал ты мне честь твоим приходом сюда из леса?»
12. Выслушав Рагху, ученик Варатанту увидел по глиняному горшку, содержавшему дары гостю, что, хотя и благородна речь царя, но уже раздал он все свое богатство, и, разочарованный в своих надеждах, обратился к государю с такими словами:
13—17. «Знай, о царь, что во всем мы благополучны, и может ли быть иначе? Какие невзгоды могут постигнуть подданных, пребывающих под твоим покровительством? Может ли тьма ослепить очи людей, когда светит солнце? Почитание достойных передается в твоем роду по наследству, а ты, о блаженный царь, в этом превосходишь своих предков. Но огорчает меня, что пришел я к тебе просителем, когда уже поздно. Представ в сиянии лишь телесной своей красоты, раздаривший богатство свое достойным, ты прекрасен, о владыка народов, как стебель дикого риса, напитавшего лесных жителей. Эта бедность твоя, произошедшая от жертвоприношения Всепобеждающего, только делает честь тебе, верховному властителю земли. Убывание луны, выпиваемой постепенно небожителями, более красит ее, чем ее прибывание. А потому я, отрешившийся от всех дел, пока не вознагражу наставника своего, постараюсь достать деньги для уплаты ему у кого-нибудь другого. Да будет благо тебе! Ведь даже чатака[192] не станет просить о воде осеннее облако, пролившее все свои дожди».
18—19. Но царь остановил ученика великого мудреца — проговорив все это, тот уже собирался уйти — и так ему сказал: «Что хочешь ты отдать своему наставнику, о ученый муж, и сколько?» На что просвещенный брахмачарин отвечал, объясняя свою цель, лишенному высокомерия покровителю сословий и ашрам, принесшему жертву согласно правилам:
20—22. «Когда закончился мой срок обучения, я смиренно спросил великого мудреца о полагающейся ему плате. Но он уже заранее решил, что мое долгое неустанное служение и моя преданность — достаточное вознаграждение ему, и потому, разгневанный моей дерзостью, потребовал от меня наставник, пренебрегая скудостью моих средств, четырнадцать кроров[193] монет в соответствии с числом пройденных наук[194]. По этому глиняному горшку я вижу, что не осталось у тебя ничего, кроме царского титула. Когда так, я не смею настаивать на просьбе моей теперь же, ибо цена ученичества моего — немалая».
23. Услышав это от дваждырожденного[195], лучшего из сведущих в Ведах, молвил ему опять верховный властитель мира, дваждырожденному месяцу подобный красотою, чуждый прочих страстей:
24—25. «Да не скажут, что проситель, узревший пределы откровения, нуждаясь в деньгах для своего учителя, ушел от Рагху неудовлетворенный к другому даятелю, да не будет ни у кого повода осудить меня! Потому соизволь, о достойный, побыть в моем благом и почитаемом святилище Агни, подобно четвертому из жертвенных огней[196], и подождать там два или три дня, пока я постараюсь добыть нужное тебе».
26. «Да будет так», — молвил, принимая его твердое обещание, немало довольный им брахман; Рагху же, видя землю свою истощенной, вознамерился взять деньги у Куберы, бога богатств.
27—30. Его колесница силою заклинаний Васиштхи, окропившего ее святой водой, обрела, подобно облаку, чей союзник — ветер, дар беспрепятственного странствия по морю, поднебесью и горам. И вот храбрый Рагху, решившийся покорить силою владыку горы Кайласа, коего почитал всего лишь как вассального царька, приняв обет, вечером расположился на ней для сна, приготовив тут же должным образом и оружие. Рано поутру хранители царской сокровищницы, исполненные изумления, доложили ему, уже готовому выступить, что золотой дождь пролился внезапно с неба в ее помещение. Так получив эту груду чистого золота от Куберы, на коего он собирался идти войной, — она подобна была отрогу горы Меру, отколотому ударом перуна Индры, — царь всю отдал Каутсе.
31—32. У жителей Сакеты[197] поведение обоих вызвало заслуженное одобрение: просителя, поскольку он не захотел взять больше, чем он должен был своему наставнику, и царя, который дал ему больше, чем он просил. По велению государя сокровища погружены были на сотни верблюдов и лошадей. И великий мудрец Каутса перед тем, как отправиться в путь, обратился к царю с такими словами, коснувшись его, склонившегося перед ним, рукою:
33—34. «Что удивительного, когда земля дарует исполнение желаний властителю подданных, следующему истинной стезей? Но непостижимо, поистине, твое могущество, которое исторгает желанное даже у неба. Тебе, достигшему всего благого, всякое иное благословение будет излишним, но да обретешь ты сына, достойного твоих добродетелей, как твой отец обрел в тебе хвалы достойного сына!»
35—36. Благословив так царя, вернулся к своему наставнику перворожденный[198]. А царь вскоре же обрел от того благословения сына, как мир обретает свет от солнца. В час, посвященный богу Брахме[199], родила царица сына-царевича, равного сыну бога Кумаре, и в честь Брахмы отец дал ему имя Аджа[200], принадлежащее богу.
37—38. Тот же облик и та же мощь, тот же от природы величественный стан — ничем от отца не был отличен царевич, как свет от светильника, от которого он происходит. В должный срок учителя преподали ему необходимые знания, и чары юности еще возвеличили его красоту. И Царство[201] полюбило царевича беспредельно, но ожидало только согласия своего властелина, как смиренная дочь ждет согласия отца.
39—40. В то время Бходжа[202], царь кратхов и кайшиков[203], возымевший страстное желание пригласить царевича Аджу на сваямвару своей сестры Индумати, послал к Рагху верного гонца. Рагху счел такой союз желанным, и полагая, что сыну его уже пришла пора жениться, послал его со свитой в великолепную столицу страны Видарбхи.
41—49. В пути царевич останавливался на отдых в разных местах, где в царских шатрах, куда несли ему дары сельские жители, он наслаждался всяческой роскошью, обращающей лес в увеселительный сад. Пройдя часть пути, с уставшим войском и запылившимися знаменами он остановился на берегу Нармады, где деревья нактамала[204] весело качались на ветру, окропляющем их водяными брызгами. И вот появился из той реки дикий слон — вьющиеся над водой пчелы отмечали место его погружения. Виски его были чисты — с них смыло весь мускус, пыль сошла с бивней, испещренных голубыми линиями и затупившихся о камни горы Рикшават[205], когда он подрывал ее, играя. С шумом рассекая высокие волны хоботом, легко втягивающим и извергающим воду, слон, устремившийся к берегу, рвался, казалось, чтобы освободиться от невидимых цепей. И поднятая им огромная волна водопадом обрушилась на берег, прежде чем он сам достиг его, подобный горе, с кучей водорослей, свисающих с груди. Блистающий ток мускуса, остановленный водою, пока он пребывал в реке, опять заструился из его широких висков, когда появились другие лесные слоны. Почуяв невыносимое зловоние этих истечений, подобное тому, что исходит от млечного сока семилистника, повернули прочь, не слушая погонщиков, громадные слоны царевича; и великое смятение учинил в его стане явившийся из реки зверь; обрывая привязи, бросились прочь и кони, колесницы, в которые они были впряжены, опрокидывались с ломающимися осями, и воины тщетно пытались уберечь своих жен от ушибов.
50—52. Царевич, зная, что не подобает государю убивать лесного слона, натянул свой лук не в полную силу и ударил стрелою в лоб яростно стремящегося вперед зверя, только чтобы остановить его. И рассказывают, что едва коснулась его стрела, слон обратился в юношу неземной красоты и чудесное сияние явилось вокруг него — на глазах у воинов, с изумлением взиравших на происходящее. Волшебной силой он вызвал ливень цветов с райского древа, которыми осыпал царевича. И он обратился к нему со складной речью, а зубы его блеском добавляли сверкания великолепному жемчужному ожерелью на его груди.
53—58. «Проклятием мудрого Матанги, которое навлек я на себя собственной дерзостью, — молвил он, — я был некогда обращен в слона. Знай, что я — Приямвада, сын Приядаршаны, повелителя гандхарвов. Склонившись перед великим мудрецом, я мольбами побудил его смягчиться; вода нагревается от огня или жары, но от природы ей свойственна прохлада. И подвижник предсказал мне, что, когда Аджа из рода Икшваку поразит меня в чело своей стрелой с железным острием, тело мое вновь обретет прежнее величие. Долго ждал я этой встречи, и ныне, о храбрый, ты избавил меня наконец от проклятия. Если ничем добрым я не отблагодарю тебя за это, напрасным будет возвращение мое в свой образ. Потому, о друг, прими от меня в дар эту стрелу гандхарва[206], именуемую „Ошеломляющая", которую можно пустить в цель и вернуть обратно заклинаниями; тот, кто пустит ее, может победить врага, не убивая. Не нужно угрызений, ведь, поразив меня в одно мгновение, ты проявил несравненное милосердие ко мне. Не обижай меня, умоляющего, отказом».
59—60. «Да будет так», — молвил месяцу равный муж, искушенный во владении оружием, и затем, испив с ладони влаги из той реки, от месяца происходящей и очищающей, принял заклинание стрелы от того, кого он освободил от проклятия. Так волею судьбы вступили на стезю дружбы эти двое, встретившиеся по неведомой причине, после чего один удалился во владения Читраратхи[207], другой же продолжил путь в счастливую добрым царем Видарбху.
61—62. Царевич остановился у границы города, и властитель кратхов и кайшиков, исполнившийся великой радости при вести о его прибытии, вышел ему навстречу — так океан вздымается волнами навстречу месяцу. Он ввел его в город, указывая дорогу ко дворцу, и оказал ему царские почести, кланяясь ему так низко, что собравшийся там народ мог принять царя Видарбхи за гостя, Аджу — за хозяина дома.
63—65. С поклонами царедворцы проводили сына Рагху в воздвигнутый для него прекрасный павильон, где на возвышении против входа выставлены были полные водой кувшины, и он вошел в него, как входит бог любви в возраст, следующий за детством. Там ночью Сон, подобный робкой возлюбленной, нескоро снизошел к нему, мечтавшему о деве-красе, ради которой сошлись на сваямвару многие цари. Всю ночь, вдавивший серьги в широкие плечи, он проворочался на своем ложе, впитавшем благовония, сошедшие с его тела, а на заре его, прославленного мудростью, пробудили гимнами красноречивые придворные певцы, сыновья певцов, его сверстники:
66—74. «Ночь прошла, о лучший из мудрых, восстань с ложа! Лишь на двоих разделил Создатель бремя власти над миром; с одной стороны несет его твой отец неусыпно, другой же половины опора — ты. От тебя, отдавшегося во власть Сновидения, ушла за утешением к Месяцу Лакшми, свое томление по тебе подавляя, как ночью ревнивая жена, но и Месяц уже закатывается, расставаясь с красотой твоего лика. Да уподобится взаимно одно другому, да раскроются око твое с изящно движущимся зрачком посередине и лотос, в котором сидит черная медуница. Утренний ветерок, словно соревнуясь с дыханием твоих благоуханных уст, срывает увядшие цветы с деревьев и насыщается ароматом лотосов, раскрывшихся под лучами Аруны[208]. Капли росы, выпавшие на розовых снизу побегах деревьев, светлые, как омытые жемчужины ожерелья, напоминают о веселой твоей улыбке, обнажающей белые зубы, над нижней губой яснее сверкающие. Солнце, хранилище великого жара, еще не всходило, но Аруна уже спешит рассеять тьму; к чему же, о герой, когда идешь ты во главе воинов, отцу твоему утруждать себя самому истреблением врагов? Твои слоны покинули ложе, сгоняя сон с обоих боков, волоча гремящие цепи, — на их бивнях как будто осела красноватая пыль от руды, которую они рыли в горах, но это багряные лучи зари упали на них. Проснулись и упряжные кони из страны Ванаю[209], привязанные в больших шатрах, обращенных в стойла, и дыхание их туманит плиты каменной соли, что положили им лизать. Рассыпаются в прах увядшие жертвенные цветы, и тускнеют в сиянии утра светильники, и твой сладкогласный попугай подает голос из клетки, передразнивая пробуждающие тебя речи».
75—76. Так гимнами, в этом духе сложенными, прогнали его сон сыны певцов, и царевич покинул ложе, как восстает с песчаного берега Ганги слон богов Супратика[210], пробужденный сладкозвучным ликованием фламинго. И, совершив предписанные шастрами для встречи нового дня обряды, он, прекрасноокий, облачился с помощью искусных прислужников в подобающий наряд и отправился во дворец, в собрание царей, пришедших на сваямвару.
Песнь VI СВАЯМВАРА
1—2. Он увидел там на украшенном возвышении земных царей, восседавших на тронных сиденьях под балдахинами, — казалось, они переняли чары у богов, парящих на небесных колесницах. Но когда они узрели потомка Солнечного рода, подобного самому богу любви, которому Шива вернул бы телесный облик, склонившись на мольбы Рати[211], — надежда обрести царевну Индумати сразу покинула их.
3—7. По искусно сработанной лестнице юноша поднялся на возвышение, которое указал ему царь Видарбхи; так львенок, дитя царя зверей, восходит на вершину горы по разломам в скале. Воссевший на троне из драгоценных камней, покрытом роскошными коврами красивой расцветки, он выглядел подобным самому Богу пещеры[212], восседающему на павлине. А Богиня счастья сияла ослепительным блеском в том собрании царей, словно молния, отразившаяся бессчетно в стечении облаков. Но среди них, восседавших на превосходнейших тронах и облаченных в изысканнейшие одежды, сын Рагху один блистал в своем величии, несравненный, как дерево париджата[213] среди других райских деревьев. И взоры горожан, покидая других царей, устремлялись на него одного, как пчелы, слетая с цветущих деревьев, стремятся к ярому лесному слону, источающему запах мускуса.
8—10. Когда восславили царей Лунного и Солнечного родов придворные певцы, сведущие в истории их былых деяний, и восхитительные ароматные воскурения сандала поднялись дымками выше стягов победы, и благовест трубных звуков разлетелся во все края, усиленный ревом раковин и сопровождаемый пляской павлинов в садах, окружающих город, юная царевна, которой предстоял выбор жениха, в свадебном наряде села в паланкин и в нем, водруженном на плечи носильщиков, в сопровождении блистательной свиты появилась на просторной дороге, проложенной между украшенными возвышениями.
11—19. И все сердца устремились к этому чудесному созданию творца в образе девы — только тела царей остались на тронах, — и сотни глаз приковались к ней одной. И, как краса юных побегов на расцветающих деревьях, первые признаки любви явились в движениях и поведении властителей земли. Один из царей принялся вертеть цветок лотоса, который он держал в руках, так что от крутящихся лепестков отлетали пчелы, а в венчике образовался круговорот пыльцы. Другой игриво поднял, отвернув красивое лицо, и вновь возложил на место гирлянду, зацепившуюся за усеянные драгоценными камнями украшения на его плечах. А тот, потупив взор своих прекрасных очей, потирает подножье своего трона ногою, слегка скрючив на ней пальцы с поблескивающими ногтями. Положив левую руку на подлокотник, отчего чуть приподнялось плечо, некий царь беседует с другом, повернувшись к нему в полоборота, и гирлянда свесилась с его шеи. Иной юноша ногтями — ими бы гладить ему бедра возлюбленной — рвет желтый лист кетаки[214], вдетый в ухо серьгою — такою любит играть лукавая дева. Какой-то царь подбрасывал игральные кости на ладони, окрашенной в цвет красного лотоса и отмеченной очертаниями стяга, их же освещал блеск драгоценных камней на его перстнях. Иной растопыренными пальцами, промежутки между которыми озарялись сияньем алмазов, поправлял диадему, словно бы она плохо держится на голове его.
20. Тогда выступила вперед привратница Сунанда, смелая, как мужчина, ведающая деяния и родословные царей. Она подвела царевну поначалу к властителю Магадхи и сказала так:
21—24. «Вот царь, правящий в Магадхе, защитник ищущих защиты, духом неизмеримый Парантапа[215], имени своего достойный, обретший славу добротою к подданным. Средь тысяч царей его одного называет молва истинным властелином земли; ночь выводит на небо сонмы созвездий и светил, но озаряет ее только месяц. Неукоснительно свершает он обряды чередою, всякий раз призывая Тысячеокого[216] бога, так что Шачи, томясь в отсутствие супруга, забывает украшать цветами мандары[217] свои волосы, ниспадающие на ланиты. Если ты хочешь отдать свою руку этому царю, достойному быть избранным, ты, несомненно, порадуешь своей красою взоры дев Пушпапуры[218], которые будут ждать твоего прибытия у окон своих домов».
25. Когда она это сказала, стройная дева, чья гирлянда из медвяных цветов, перевитых дурвой, немного сбилась на груди, взглянула на сватающегося и, не произнеся ни слова, отвергла его прямым наклоном головы.
26—29. И как волны, поднятые ветром, несут лебедь на озере Манаса от одного лотоса к другому, так дева с жезлом привратницы в руках подвела царевну к другому царю и молвила ей: «Вот владыка Анги[219], чья юная красота пленила самих небесных дев, чьи слоны обучены ученейшими укротителями, чья власть равна власти Индры, хотя на земле он правит. Женам врагов он возвращает утраченный жемчуг ожерелий льющимися из очей их слезами-жемчужинами, только без связующей нити — ее уже сняли. В нем сходятся Шри и Сарасвати[220], богини, что так далеко одна от другой обитают; ты же, о счастливая, красотой своей и красноречием достойна войти к ним третьей».
30—31. Отведя взор от царя ангов, дева молвила спутнице: «Ступай дальше». Не то чтобы он не был привлекателен достаточно, не то чтобы она его не оценила, но у людей разные вкусы. Тогда, приставленная к вратам, указала Индумати на другого царя, грозу врагов, прекрасного обликом, как взошедший на небо молодой месяц:
32—35. «Вот властитель Аванти[221], долгорукий, широкоплечий, стройный и тонкий в поясе, он подобен пылающему светилу, словно сам Тваштар[222] обточил его тщательно на своем станке. Когда он, могущественный, ведет в поход свои войска, пыль от его коней, скачущих впереди, затмевает блеск драгоценных камней на венцах вассальных князей. Бог, чья обитель в Махакале[223], несущий месяц на челе, пребывает близ его дома; и потому даже в новолуние вечерами радуется он с возлюбленными женами лунному сиянию. Не благо ли будет тебе, о красавица, гулять с этим юным царем по садам, где ветви дерев колеблет веющий от волн реки Сипры ветер?»
36—37. Как ночная лилия не расцветает под лучами палящего солнца, так нежная царевна не могла отдать сердце ему, чья пылкая отвага озаряла друзей, словно лотосы, и иссушала, как сырую тину, врагов. И Сунанда приблизилась с царевной к государю Побережья[224] и опять обратилась к ней, чьи достоинства безупречны, светлой, как белый лотос, с белозубой улыбкой, прелестнейшему созданию творца:
38—43. «Был некогда подвижник по имени Картавирья[225], тысячу дланей явивший в битвах; на восемнадцати материках воздвиг он жертвенные столбы, и титул царя не делил он ни с кем из властителей. Если только грешная мысль возникала в уме его подданных, тотчас представал он перед ними с карающим луком в руке и предотвращал преступление. Им взят был в плен владыка Ланки, победитель Индры; со связанными руками, беспомощный, задыхающийся всеми своими устами, томился ракшас, пока он не смилостивился и не отпустил пленного. От Картавирьи и ведет свой род этот царь, носящий имя Пратипа, покровитель ученых мудрецов, что защитил богиню счастья от упреков в непостоянстве — ведь зависит оно только от пороков тех, кого она покидает. Говорят, сам бог огня, чьи черны следы, стал союзником его в войнах; и потому в ночи истребления кшатриев в остром лезвии топора Рамы[226] для него столько же угрозы, что в лепестке лотоса. Стань же богиней счастья для этого могучерукого царя в его объятьях, если хочешь любоваться из окон его дворца на красиво струящуюся Реву[227], словно поясом опоясывающую стены-бедра Махишмати».
44—45. Но, хотя и прекрасен был обликом тот властитель земли, ей он не пришелся достаточно по нраву, так же как полный месяц, даже когда расходятся осенью облака, его скрывающие, не чарует покрытое лилиями озерцо. И тогда хранительница терема так молвила царственной деве о Сушене, владыке шурасенов[228], чья слава прогремела даже в потустороннем мире и кто стал украшением обоих своих родов[229]:
46—51. «Этот царь, жертвователь, принадлежит к роду Нипа; в нем соединились даже те достоинства, что обычно несовместны, как сходятся звери у мирной обители святого. В его чертогах красота его услаждает взор, как хладный месяц в ночи, но следы его палящей отваги зримы во вражеских городах, где кровли покинутых дворцов поросли травою. От сандаловых умащений, которые река, дочь Калинды[230], смывает с грудей обитательниц его гарема, в ней купающихся, светлеют ее темные воды, и кажется, что, струящиеся у Матхуры, они уже смешались с волнами Ганги. Самого Кришну с его Каустубхой[231], кажется, посрамил он — бриллиант, на его груди блистающий, отдал ему в страхе перед Таркшией[232] змей Калия[233], обитающий в Ямуне. Потому удостой этого юного царя чести быть избранным тобою в супруги, и тогда, о красавица, пусть дарует тебе счастье твоя юность на цветочном ложе, покрытом нежными побегами, в садах Вриндаваны[234], не уступающих небесному саду Читраратхи ничем, и да будешь ты, восседая на окропленных водою и благоухающих ароматом горных цветов каменных плитах, любоваться пляской павлинов в пору дождей в живописных ущельях Говардханы[235]».
52—53. Но другому суждено ей было стать женою, и она, чей красивый пупок был речному водовороту подобен, миновала того царя, как река, впадающая в океан, минует гору, оказавшуюся на ее пути. После чего служанка обратилась к луноликой деве, когда они приблизились к Хемангаде, властителю Калинги, носителю браслета на предплечье, истребителю вражьих ратей:
54—57. «Вот зладыка страны, простершейся от Махендры до океана, и горе Махендре он равен величием, и в его походах словно Махендра сама идет впереди в образе рати ярых его слонов. На плечах его, предводителя лучников, чьи прекрасны длани, две борозды, натертые тетивами, — словно две тропы, омытые слезами, смешанными с сурьмою, что пролила богиня удачи его врагов, которых он пленил. Почивающего в своих чертогах, из окон которых виден океан, его пробуждает от сна рокочущий рев морских волн, заглушающий бой литавр во дворце, отмечающий время. Будь же счастлива с ним на морском берегу, где шелестят листвой пальмовые рощи и ветер приятно охлаждает разгоряченное тело, донося с отдаленных островов благоухание гвоздичных деревьев».
58—59. Но, хотя и соблазняла она так младшую сестру царя Видарбхи, что и сама влекла сердца своей красой, та от него отвратилась, как Лакшми, богиня счастья, отвращается от неудачника, сколь бы своим поведением он ни тщился привлечь ее. Затем привратница приблизилась к богоподобному владыке города, носящего имя змеи[236]. «О ты, чьи очи, как у чакоры[237], взгляни!» — обратилась она к сестре Бходжи и молвила:
60—65. «Перед тобою — царь Пандьи, благоухающим красным сандалом умастил он тело, и жемчужные ожерелья ниспадают с плеч его — он подобен царю гор, чьи вершины розовеют в лучах утренней зари и с чьих склонов сбегают чистые ручьи. Сам Агастья, к нему благосклонный, — тот, кто заставил склониться гору Виндхья[238], кто выпил досуха океан и его изверг из себя, — стал надзирателем за обрядом, омывшим его после жертвоприношения коня. Надменный царь Ланки в былые времена, опасаясь опустошения Джанастханы[239], заключил мир с этим властителем, получившим в дар от Хары[240] необоримое оружие, и только тогда отправился на завоевание царства Индры. Когда получит руку твою по свадебному обычаю этот царь высокого рода, ты станешь, подобно земле, его супругой вместе с южной страною, опоясанной морем, таящим сокровища, и часто соизволишь предаваться развлечениям в долинах гор Малайя, где землю устилает листва тамалы[241], где увиты лианами тамбула сандаловые деревья, а стволы бетеля — побегами тамбулы[242]. Темен царь телом, как синий лотос, ты же светла, как позолота, — пусть же оттенит одна красота другую, как темная синева тучи — молнию».
66—67. Но не нашли эти слова отклика в сердце сестры властителя Видарбхи, как лучи владыки созвездий не проникают внутрь дневного лотоса, смыкающего лепестки с заходом солнца. И лик каждого царя, которого миновала она в своем поиске жениха, тотчас покрывался бледностью, как ночью на городской улице меркнет стена дома, едва минет ее пламя факела в руках идущего мимо.
68—70. Когда же она приблизилась к сыну Рагху, неуверенность овладела им: выберет ли она его; но трепет, ослабивший узы браслета на правой руке[243], рассеял сомнение. А царевна подошла к безупречному станом Адже и уже не захотела обращаться ни к кому другому; так пчелиный рой, достигнув дерева манго в цвету, уже не опустится на иное. И Сунанда, знающая, как говорить в должном порядке, видя, к кому лежит душа у Индумати, прелестью лунного сияния одаренной, повела речь пространно:
71—73. «Говорят, был некогда царь Какутстха из рода Икшваку, возвышавшийся над всеми царями, отмеченный благими достоинствами. От него унаследовали славное имя Какутстха благородные правители Северной Косалы. Взойдя на великого Индру, принявшего образ быка, он, уподобившийся Носителю Пинаки[244], стрелами своими в битве согнал краску со щек овдовевших жен асуров. И когда Сокрушитель гор принял свой изначальный прекрасный образ, он занял место рядом с ним на троне, браслетом касаясь того браслета бога, что соскальзывает, когда наносит он удары слону Айравате.
74—75. Известно, что в роду его рожден был многославный царь Дилипа, светоч рода своего, что стал, дабы досадить Индре, свершителем девяносто девяти жертвоприношений. Когда он правил землею, даже хмельной девице, свалившейся на полпути к месту игрищ, можно было не опасаться, что хотя бы ветерок потревожит ее одежды, а уж кто бы посмел раздеть ее!
76—79. Теперь на престоле его сменил его сын Рагху, совершивший великий обряд Всепобеждающего и обративший богатства, завоеванные в четырех странах света, в запас, уместившийся в глиняном горшке. До вершин гор вознеслась его слава и низошла до дна океана, проникла в Паталу, обитель змей, и облетела небеса, вечна она и неизмерима. Им рожден этот царевич Аджа, как Джаянта был рожден владыкою небес, и вместе с отцом несет он тяжкое бремя царства, как бычок — ярмо, к которому должен быть приучен. Выбери же его, равного тебе рождением, красотой, молодостью и всеми достоинствами, со смиренности начиная, и да сочетается с золотом бриллиант!»
80—84. Когда закончила речь Сунанда, царская дочь, преодолев смущение, сияющим взглядом, который словно заменил ей венок, означающий выбор, уже избрала царевича. Сначала робость мешала деве выразить свою любовь, но чувство наконец прорвалось и пронизало тело кудрявой так, что затрепетали волоски на ее теле. Видя ее в таком состоянии, ее подруга-жезлоносица молвила ей с лукавой усмешкой: «Идем же к следующему, госпожа» — та ответила ей негодующим взглядом искоса. И руками своей няньки прекраснобедрая царевна возложила освященную розовым порошком гирлянду на плечи сына Рагху, для них предназначенную, в которой словно воплотилась ее любовь. И когда венок цветов благих знамений лег на его широкую грудь, показалось избранному жениху, что сама невеста, сестра младшая царя Видарбхи, обвила его шею руками.
85—86. Как с месяцем лунный свет, когда разойдутся тучи, как дщерь Джахну[245], соединившаяся с Океаном, предстала она с достойным ее женихом перед горожанами, изъявившими в один голос свое одобрение, — но невыносимо оно было для слуха собравшихся царей. И разделилось собрание: на одной стороне — ликующие сторонники жениха, на другой — круг царей, на чьи лики легла мрачная тень, — словно озеро на заре, когда дневные лотосы на нем расцветают навстречу солнцу, ночные же погружаются в сон.
Песнь VII ЖЕНИТЬБА АДЖИ
1—3. Тогда властитель Видарбхи направился в тот город, взяв с собою вместе с достойным женихом сестру, воочию подобную Девасене[246], сопровождаемой богом Скандой. Цари же, померкшие, как звезды на заре, вернулись к своим станам, обиженные за свою красу и облачения, и каждый был удручен неудачей своего сватовства к сестре Бходжи. И несомненно, только благодаря покровительству богини Шачи никто не нарушил порядка на сваямваре, и потому осталось мирным собрание царей, хотя и снедала их ревность к потомку Какутстхи.
4—12. Между тем жених с невестою достигли главной улицы, устланной свежими приношениями цветов, украшенной арками, блистающими, как радуги, и осененной знаменами, дающими укрытие от зноя. Тогда городские красавицы, оставив прочие свои заботы, поспешили к золотым окнам своих домов, любопытствуя взглянуть на него, и так повели они себя: одна, заторопившись вдруг, чтобы взглянуть наружу, бросила заплетать густые пряди волос, которые поддерживала рукою, и цветы, просыпавшиеся из распустившихся кудрей, усеяли пол, пока она бежала к окну; другая, выдернув ножку из рук служанки, покрывавшей лаком пятку, побежала, не дожидаясь, пока он высохнет, и оставила цепочку красных следов на полу до самого окна; третья только что успела подвести правый глаз сурьмою и, оставив левый ненакрашеным, направилась к окну с карандашом в руке; еще другая дева застыла, устремив взор чрез оконную решетку и придерживая рукой спадающее платье, узел на котором она не успела затянуть, и блеск драгоценных камней играет на ее полуобнаженном стане; а у той, вскочившей поспешно, не закончив завязывать пояс, на каждом заплетающемся шагу посыпались с него бриллианты, он же волочился за ней, зацепившись за пятку. И окна домов, сквозь решетки которых виднелись во множестве любопытные лица юных дев, чьи уста благоухали сладким вином, а глаза метали трепетные взгляды, подобные черным пчелам, казалось, украсились тысячью лотосов. Впиваясь глазами в сына Рагху, девы словно забыли о прочих предметах, другим чувствам доступных, — все они, можно было подумать, сосредоточились в зрении.
13—16. «Хорошо сделала сестра Бходжи, что не предоставила царям заочно выбирать ее, но сочла за благо сваямвару. Разве обрела бы она иначе столь достойного ее супруга, как Богиня Лотоса — Нараяну[247]. Если бы не соединил Творец этих двоих, наделенных несравненной красотою, напрасен был бы труд Владыки рожденных, эту красоту создавший. Поистине, то сами божественные Рати и Смара[248], ведь недаром выбрала царевна равного себе среди тысяч царей — помнит душа о событиях прежних воплощений», — внимая таким речам из уст горожанок, ласкающим слух, прибыл царский сын во дворец тестя, украшенный должным образом по случаю свадебных торжеств.
17—28. Немедля сошел он тогда со слонихи и, подав руку властителю Камарупы, вошел, ведомый Видарбхийцем, во внутренний двор, как в сердца дворцовых дев. Воссев на роскошно убранном троне, он принял дары для гостя — драгоценные камни, мед с молоком, шелковые одежды от Бходжи — вместе с чарующими взорами красавиц. Одетого в шелка, его провели к невесте смиренные стражи терема, как лучи молодого месяца приводят к берегу океан, сверкающий пеной волн. Там почтенный жрец государя бходжей принес в жертву огню — сам огонь в себе носящий — топленое масло и прочее и, призвав тот огонь в свидетели бракосочетания, соединил торжественно невесту с женихом. И царский сын воссиял еще ярче, когда с невестой они соединили руки, — так еще прекрасней становится манго, когда листва его перевивается лианой ашоки. Трепет, поднимающий волоски на теле, охватил руку жениха, и увлажнились пальцы на руке невесты; в этот миг соединения рук любовь их равно разделилась меж ними. И любовь вселила робость во взгляды обоих, — жаждущие приковаться к дорогому лицу, искоса они метались втайне, чтобы, встретившись ненароком, отпрянуть в испуге. Слева направо обошли они пылающий огонь, ныне связанные неразлучно, и блистательна была красота этой царственной четы, подобной дню и ночи в их шествии вокруг горы Меру. Тяжелобедрая, с очами томной чакоры, свершила робкая невеста, следуя указаниям родового жреца, приношение жареным зерном на священный огонь. И священный дым поднялся от огня, благоухающий возлияниями, листьями мимозы и рисовым зерном, завившись у щек ее, подобный лотосу над ухом ее; а на лице невесты, которое по обычаю обряда она подставила дыму, потекла сурьма у глаз, увяли цветы, украшавшие уши, и щеки покраснели. И царевич с царевною воссели на золотом сиденье, а горожане, царь с родичами и почтенные жены в установленном порядке посыпали их ливнями влажных неочищенных ячменных зерен.
29—31. После чего тот несметно богатый государь, светоч рода Бходжей, выдав сестру замуж, повелел своим сановникам почтить приемом каждого из других царей. Цари же, скрывая негодование под личиною ликования, подобные чистым на поверхности озерам, таящим крокодилов на дне, распрощались с владыкой Видарбхи и отбыли, как бы воздав за оказанные почести свадебными дарами. Но уже раньше все они вступили в заговор — с целью похитить при отъезде желанную деву они устроили засаду на пути Аджи.
32—33. Между тем правитель кратхов и кайшиков, справивший свадьбу своей младшей сестры, дав за нею в приданое полагающееся богатство, отпустил и сына Рагху; он отправился с ним проводить его, по миновании же трех привалов в пути расстался с Аджей, прославленным в трех мирах, как месяц, сблизившись с солнцем до предела, потом удаляется от него.
34—35. А каждый из тех царей уже обозлен был против властителя Кошалы, отобравшего у них дани, и потому не могли потерпеть заговорщики, чтобы сыну его досталось то сокровище среди женщин. И когда он с царевной бходжей приблизился к ним, надменный сонм царственных воителей преградил ему путь, как враг Индры[249] — богу Вишну на третьем его шаге, обретшему богатства от Бали.
36—49. Царевич поручил охранять ее отцовскому советнику с немалым войском, сам же встретил рать царей, как река Шона[250] бурлящими волнами встречает вторгающиеся в нее воды Ганги. Сошлись в бою пеший воин с пехотинцем, колесница с колесницей, конник с таким же всадником, воин на слоне с боевым слоном, — равный с равным. Гремели боевые барабаны, и шум битвы заглушал голоса лучников, потому не выкликали они имена родов своих, а только посредством стрел с вырезанными на них именами сообщали их друг другу. Пыль, поднятая копытами коней, еще гуще становилась от колесниц, и от хлопающих ушей слонов она вздымалась тучами, застлавшими солнце, словно покрывалом; и она оседала на развеваемых ветром знаменах с изображениями рыб, так что казалось — рыбы те пьют нахлынувшую помутившуюся воду. Только по стуку колес узнавалась колесница, по звону бубенцов — слон, и в облаках пыли только голоса, произносящие имена вождей, позволяли отличить соратников от врагов. Но потоки крови из нанесенных оружием ран на телах воинов, слонов и коней разрежали, словно солнце на заре, ту мглу, застилавшую взор на поле сражения. И столп пыли, коего подножье осело на землю, пропитанное кровью, а вершина отделилась, несомая ветром, уподобился дыму от огня, тлеющего понизу углями. Оправившись от нанесенных ударов, воины, уцелевшие на колесницах, порицая своих возничих, вновь поворотили коней в гущу боя, яростно сокрушая врагов, их ранивших прежде, которых узнавали по уже замеченным стягам. Стрелы искусных лучников, хотя полет их прерывали, рассекая надвое, вражеские стрелы, все же достигали цели своими железными наконечниками, увлекаемыми неудержимой скоростью. Когда острые, как бритва, лезвия пущенных стрел отделяли от плеч головы погонщиков слонов, волосы их запутывались в когтях налетавших коршунов, отчего не сразу они падали на землю Вот всадник нанес удар врагу, но не пользуется тем, что тот, припавший, уклоняясь, к конской шее, не может разить в ответ, и нового удара не наносит. Слоны, извергая из хоботов воду, тушили огонь, вспыхивавший от искр, высекаемых ударами об их огромные бивни обнаженных мечей отчаянно бьющихся латников. И поле сражения подобно было пиршественному чертогу Смерти, в котором кровь лилась, как вино, отрубленные стрелами головы были плодами, а кубками — свалившиеся с голов воинов шлемы.
50—54. Там жадная шакалица отбирает добычу у стервятников, терзавших с обоих концов отрубленную руку, но, расцарапав себе нёбо шипами наручника, выпускает ее из пасти. Вот воин, которому враг снес голову мечом, возносится тотчас на небесной колеснице в объятьях божественной девы[251], прильнувшей к нему слева, и видит с высоты собственный обезглавленный труп, танцующий на поле битвы. Другие воины, у которых были убиты колесничие, занимают их место, а когда лишаются коней, продолжают бой пешими на палицах, когда же ломается оружие, бьются голыми руками не на жизнь, а насмерть. И вот двое, поразившие друг друга и одновременно испустившие дух, уже как бессмертные души вступают в спор из-за апсары, низошедшей к ним обоим. И оба войска, вступившие в бой, одерживали победу и терпели поражение попеременно вследствие взаимных промахов, как две волны в океане, вздымаемые ветрами спереди и сзади.
55—58. Войско Аджи было разбито противником, но он, великомощный, сам обрушился на вражескую рать; ветер может развеять дым, но огонь остается там, где есть хворост для него. Одетый в латы, с луком и колчаном, доблестный герой на колеснице в одиночку остановил воинство царей, как Великий Вепрь[252] — воды океана, хлынувшие на землю в конце кальпы. В битве правой, левой ли рукой он успевал доставать из колчана стрелы — казалось, они сами возникают на тетиве, натянутой до уха, насмерть поражающие врагов. И головы врагов, отсеченные его крестообразными стрелами, усеяли землю — издающие воинственные клики, с губами, закушенными в ярости до крови, и нахмуренными бровями.
59—60. Всеми родами войск во главе с боевыми слонами, оружием всех видов, пробивающим латы, изо всех сил противостали ему в битве властители земли — все до единого. И только верхушка его стяга виднелась за тучею стрел, которыми осыпали его колесницу враги, как солнце, выглядывающее едва из предрассветной мглы.
61—62. Царевич же, сын верховного властителя, красотой подобный вооруженному цветами богу, употребил тогда против царей полученное им от Приямвады оружие гандхарвов, повергающее в сон, сам от сна отрешенный. И застыло все войско царей во власти сна — руки их не в силах были натянуть тетиву, сбились набок шлемы.
63—65. И тогда царевич приложил раковину к губам, на которых его возлюбленная запечатлела поцелуй; и он затрубил в нее, словно он пил из нее, несравненный герой, свою воплощенную славу. Заслышав знакомый голос трубы, вновь собрались на поле боя его воины и узрели его среди врагов, погруженных в сон, словно отражение месяца в пруду среди лотосов, сомкнувших лепестки. И на знаменах тех царей он начертал окровавленными остриями своих стрел: «Опять лишены вы славы сыном Рагху, но — из милосердия — не жизни!»
66. Положив руку на конец лука, он снял шлем, растрепав волосы, капли пота выступили от усталости на его челе. Подойдя к перепуганной возлюбленной, он молвил:
67. «Взгляни, о царевна Видарбхи, я разрешаю тебе здесь лицезреть врагов, у которых теперь и дитя без труда отберет оружие. Так пытались они в бою обрести тебя, но ты — под моею надежной защитой».
68—70. И лицо ее сразу прояснилось, когда страх, вызванный врагами, покинул ее, как снова ясным становится зеркало, когда сотрут с него влагу, нанесенную дыханием. Но, как ни обрадовалась царевна, из робости только устами подруг — не сама — поздравила она возлюбленного супруга с победой; так иссушенная земля благодарит облака за свежие капли дождя криками павлинов. Пыль, поднятая в бою колесницами и конями, запорошила ее кудри, и он, безупречный, ввел ее в дом свой как воплощенное божество своей победы.
71. Уже знавший обо всем, что произошло с ним в пути, Рагху приветствовал возвратившегося с достойной супругой и с победою сына. Возложив на него семейные заботы, он пожелал уйти от мира; ибо ничто не держит в доме потомков Солнечного рода, когда они знают, что есть кому принять бремя правления им.
Песнь VIII ЖАЛОБА АДЖИ
1—3. Еще не снял он с запястья свадебный браслет, когда царь отдал в его руки власть над землей, словно бы то была другая Индумати. И Аджа принял доставшееся ему царство. Ради обладания им даже к злодеяниям прибегают царские сыновья; он же сделал это не из жажды власти, но только во исполнение воли отца. И земля вместе с ним приняла омовение священными водами, излитыми Васиштхой на торжестве помазания его, и словно изъявила свое согласие белым паром, восходящим от нее.
4—6. После того как совершен был обряд наставником его, сведущим в заклинаниях Веды, он стал неодолим для врагов — поистине, союзу огня и ветра подобно укрепление силы оружия священным словом. Подданные же взирали на своего государя, словно то был сам Рагху, вновь обретший юность, ибо не только царство, но и все достоинства унаследовал он от отца. И еще лишь одно сочетание было столь же прекрасным, как соединение наследника с процветающим царством отца, — сочетание его молодости с его добродетелью.
7—9. Могучий царь, он землю, отданную только что во власть ему, берег милосердно, как юную невесту, дабы насилием в страх ее не повергнуть. Каждый из подданных думал, что только к нему столь благосклонен владыка земли; никого не презрел он, как океан не отвергает ни одну из сотен рек, стремящихся к нему. Не был он ни слишком суров, ни слишком мягок, избирая в политике средний путь; и вассальных царей он подчинял, не лишая их трона, подобно ветру, гнущему деревья, но не выкорчевывающему их из земли.
10—23. Тогда Рагху, видя, что сын его утвердился на царстве и подданные его почитают, отрешился, познавший сущность души, от стремлений даже к небесным радостям, тоже преходящим по природе. Ибо это было в обычае у потомков Дилипы — отрекаться в старости от власти в пользу достойных сыновей и уходить от мира, обуздав чувства, отшельниками в берестяных одеждах[253]. Но когда он собрался уходить в лесную обитель, сын, увенчанный царской короной, упал ему в ноги, умоляя отца не покидать его. Лицо его было залито слезами, и Рагху из любви к сыну склонился к его просьбе, но не принял обратно царской власти; так сброшенную кожу уже не станет носить змея. Рассказывают, что, вступив в последнюю пору жизни, он, отрешившийся от страстей, поселился близ города, почитаемый богиней царского счастья, как снохою, всецело преданной его сыну. И этот славный царский дом, в котором прежний государь удалился на покой и новый взошел на его место, подобен был небу в час восхода солнца, когда месяц еще не закатился. Рагху и сын его предстали тогда перед народом, отмеченные знаками один — отшельнической жизни, другой — царского достоинства, как низошедшие на землю два воплощения Закона, утверждающего и спасение души, и возвышение в могуществе. Аджа, ради обретения того, что еще не было завоевано, держал совет со своими сановниками, опытными в государственных делах, Рагху, стремящийся к избавлению, вел беседу с йогинами, что рекут лишь истину. Молодой царь воссел на троне вершить суд и решать дела своих подданных, престарелый владыка в уединении на освященном травою куша сиденье предался сосредоточению отрешенного духа. Один владычеством своим приводил к покорности соседних царей, другой глубоким размышлением подчинял пять жизненных сил[254], обитающих в теле. Новый царь, как в пепел, обратил плоды коварных замыслов врагов, а тот — на огне знания решился сжечь свои деяния. К. шести средствам государственной политики[255], с мира начиная, прибегал Аджа, тщательно проверяя их плоды, а Рагху, для кого глина и золото были одно, преодолел власть трех качеств, заключенных в природе[256]. Ни новый владыка, в действиях неуклонный, не отступался от своих предприятий до их завершения ни старый, стойкий в помышлениях не переставал углубляться в постижение истины до обретения видения Высшего Духа. И оба они были бдительны, один —— разрушающий происки врагов другой —— подавляющий жесточайше свои страсти, оба преданы были один —— мирскому процветанию, другой — конечному спасению души, и оба обрели совершенный успех в своих стремлениях.
24—26. Проведя так сколько-то лет в согласии с желаниями Аджи, Рагху, ко всем беспристрастный, обрел наконец через сосредоточение духа единение с нетленным Высшим Духом за пределами тьмы. О кончине отца услышав, долго лил слезы сын Рагху и свершил, возжегший священный огонь, вместе с другими отшельниками погребальный обряд, но без предания тела огню. Сведущий в обрядах почитания предков, он устроил должное погребение из сыновней преданности — для тех же, кто покинул мир таким путем, и не нужны те приношения.
27—31. Тогда утешили царя ведающие истину, указав, что не скорби достоин достигший высшего блаженства, — и он, напрягший лук свой, утвердил безраздельную свою власть над миром. Земля и супруга его Индумати равно почтили владыку своего — одна премного ему даровала сокровищ, другая — сына-героя, кого мудрые знали под именем, в коем «Десять» предшествует «Колеснице»[257], блеском равного светилу десяти сотен лучей, того, чья слава разнеслась по десяти сторонам света, отца победителя Десятиглавого[258]. Царь же, чтением Вед, жертвой и потомством долг отдавший провидцам, богам и вкушающим поминальные приношения[259], воссиял, как пламенеющее солнце, избавившееся от заключающего его в круг ореола. И телесная мощь его дана была ему для избавления страждущих от угрозы, как к почитанию ученых склоняли его глубокие познания, — и богатства, и добродетели государя одинаково служили благу других.
32—37. Радеющий о подданных и доброго сына породивший, однажды развлекался царь с царицею в городском саду, как супруг Шачи, владыка небожителей, в небесной роще Нандана[260]. В это время мудрец Нарада странствовал по небу путем, которым возвращается солнце с севера; он летел воспеть под звуки своей лютни Великого Владыку[261], пребывавшего тогда в храме Гокарны[262] на берегу Южного океана. И рассказывают, что бурный порыв ветра сорвал гирлянду с головки его лютни, ее украшение, словно возжелал тот ветер упиться ароматом неземных цветов; и увидели — слезу, черную от сурьмы, пролила оскорбленная насилием ветра лютня мудреца, окутанная роем пчел, устремляющихся за цветами. А небесная гирлянда, медвяным благоуханием не по времени года обычные цветы превосходящая, меж персей возлюбленной жены царя опустилась и там осталась. И ее, случайную их подругу, на своей груди узрела супруга героя, потрясенная, и сомкнула вежды, подобная померкнувшей в час затмения луне.
38—43. Она упала, бездыханная, и тем повергла во прах и супруга своего — когда стекает на землю масло светильника, не низвергается ли вместе с каплями его и пламя? В смятении закричали приближенные обоих, вспугивая птиц на лотосовом пруду, и те тоже подняли крик, словно вторя их сетованиям. Царя привели вскоре в чувство, обмахивая веерами и к другим средствам прибегая, она же оставалась недвижной; ибо лишь тогда помогают лекарства, когда жизнь еще теплится в теле. Ее, бесчувственную, словно лютню с расстроенными струнами, он поднял, любящий беззаветно, и прижал ее к сердцу, как это много раз было раньше. Но теперь с нею в объятьях, безжизненной и поблекшей, подобен стал супруг месяцу на заре, отмеченному бледным знаком оленя. Природная стойкость изменила ему, и голосом, прерывающимся от слез, он стал изливать свою горесть; ведь даже железо смягчается под воздействием огня, что же говорить о душе в бренном теле!
44—69. «Если даже цветы прикосновением к телу могут лишить его жизни — увы! — что не послужит оружием Рока, когда он захочет нанести удар? Или бог смерти предназначает для погибели нежного тоже нежное орудие? Если цветочная гирлянда может отнять жизнь, почему она не убила меня, когда была на моей груди? Поистине, по воле бога яд может стать нектаром, а нектар — ядом! Или злая моя судьба побудила творца обратить цветы в молнию? Дерево она не поразила, но сожгла прильнувшую к нему лиану. Даже к провинившемуся перед тобою ты никогда не выказывала ко мне пренебрежения — почему же теперь не удостаиваешь ни словом безвинного? О дева с ясной улыбкой, конечно, ты меня сочла неверным супругом, притворщиком в любви, если ушла от меня в иной мир, не простившись, чтобы уже не возвращаться! Проклята жизнь моя — устремившись вслед за возлюбленной, зачем вернулась она потом без нее? Пусть же терпит теперь заслуженную муку!.. Еще влажно лицо твое, хранящее память о любовном наслаждении, а сама ты мертва — о горе бренному телу человеческому. Даже в мыслях доныне не причинял я огорчения тебе, почему же ты покинула меня? Поистине, звание властителя земли для меня только пустой звук, душа моя прикована любовью к тебе одной. Ветерок шевелит твои темные кудри, украшенные цветами, словно черные пчелы вьются, о прекраснобедрая, и надежда на возвращение твое рождается в моей душе. Воскресни же, о любимая, и рассей мою печаль, как в ночи свет, исходящий от трав, рассеивает мрак в пещерах Снежных гор[263]! Сколь тяжко мне, о милая, взирать на лик твой с разметавшимися кудрями, на умолкнувшие навеки уста — словно то лотос, сомкнувший на ночь лепестки, в котором уже не слышно гудения пчел. Ночь возвращается к своему месяцу, чета чакравак, расставшись, воссоединяется вновь — так-то можно обоим претерпеть время разлуки, но ты, ушедшая навсегда, можешь ли пощадить меня?.. Нежное тело твое, о прекраснобедрая, даже на ложе из цветов претерпевало уколы — как же вынесет это тело возложение на погребальный костер? И спутник твой в уединении, любви посвященном, — твой пояс не звенит уже, вторя твоим шагам, вслед за тобою, уснувшей непробудным сном, и он умолк и омертвел от горя. От кукушек — сладкозвучный голос[264], плавная поступь — от фламинго, прелесть нежных взоров — от ланей, трепетность движений — от лиан, колеблемых ветром, все это было в тебе для меня одного, но ничто уже не утешит сердце мое в разлуке с тобою... Этому дереву манго и лиане приянгу[265] ты предназначила когда-то сочетаться браком — не должна ты уходить, пока мы не отпраздновали их свадьбу. Цветы, которые скоро появятся на ашоке[266], твоим касанием осчастливленной, — будь ты жива, они украсили бы волосы твои, — как я смогу принести их для похоронного обряда?! Теперь эта ашока оплачет тебя, о красавица, проливая слезы-цветы и вспоминая о благом прикосновении твоей ножки со звенящими браслетами, ее от других деревьев отличившем. О ты, чей голос певуч, как у киннари, почему уснула ты, когда мы с тобой еще не сплели для тебя поясок-гирлянду с цветами бакулы[267], благоухание которых дыханию твоему подобно? Твои подруги делили с тобою радости твои и горести, сын твой еще так юн, как месяц первого дня новолуния, я люблю тебя неизменно, — а ты от всей этой любви отказалась! Вся стойкость исчезла, нет больше радостей, время года лишилось своих красот, не нужны украшения, и ложе мое опустело сегодня. Ты — хозяйка дома моего, советница, подруга, возлюбленная, любимая ученица в изящных искусствах, тебя отняв, что оставила мне безжалостная смерть? О ты, чьи взоры опьяняют, после того как из уст моих пила ты, бывало, хмельное вино, как будешь пить в ином мире жертвенные возлияния водою, смешанной с моими слезами?.. И сколько бы ни было богатства, без тебя оно не принесет счастья Адже; не манили меня иные соблазны, вся радость моя была в тебе одной!»
70. Так сетуя о любимой, повелитель Косалы своими горестными речами даже деревья заставил проливать обильные слезы, каплями падающие с ветвей.
71—72. С трудом его близкие исторгли красавицу-жену из его объятий и возложили ее на погребальный костер, на котором те небесные цветы стали ее последним украшением. Он же не последовал за нею в огонь не потому, что ему жаль было расстаться с жизнью, но во избежание дурных толков — негоже царю умирать от горя!
73—75. Когда миновало десять дней поминок по прекрасной царице, наделенной всеми достоинствами, — их справили с великой пышностью, — царь, искушенный в обрядах, закончил поминальную службу в том самом саду за городом. И он вернулся в свою столицу без нее, подобный месяцу на исходе ночи, и словно избыток горести своей увидел в слезах, покрывавших лица горожанок. В то время наставник его, соблюдая обет перед жертвоприношением, оставался в своей обители, но, постигнув внутренним сосредоточением состояние царя, оцепеневшего от горя, через ученика своего передал ему наставление:
76—77. «Хотя знает мудрец о причине твоего горя, сам он не пришел помочь тебе обрести утраченное равновесие духа. Но держу я в памяти вкратце речь его, о добродетельный, выслушай же и сохрани ее в сердце, как сокровище, о прославленный своим могуществом!
78. Поистине, незамутненным оком знания провидит троицу мудрец — прошлое, настоящее и будущее — в трех шагах Нерожденного бога[268].
79—81. Рассказывают, что в былые времена Хари[269], встревоженный суровым подвижничеством Тринабинду, послал к нему небесную деву Харини[270], чтобы прервать сосредоточение его духа. Гнев одолел мудреца, вызванный тем препятствием подвигу, и захлестнул волною берег его душевного покоя, и он проклял ту, что явила ему свою чарующую прелесть: «Стань смертной женщиной!» — «Блаженный, не по своей же это было воле, так прости мне деяние, тебе неугодное!» — так взмолилась она смиренно, и он предрек ей оставаться на земле, пока не узрит божественный цветок.
82—90. Рожденная в роду Кратхакайшиков, стала она твоей царицей и вот обрела наконец избавление от проклятия, низошедшее на нее с небес, — рассталась с жизнью. Поэтому не горюй о ее кончине — все рожденные обречены смерти. Да пребудет под твоей защитою земля, ведь для царей земля — супруга. В счастии ты избежал упреков в заносчивости, и в самообладании твоем проявилось знание священного откровения; теперь, когда душа твоя омрачена несчастьем, вновь прояви те же достоинства. Разве ты возвратишь ее своими рыданиями? Даже если ты последуешь за нею, в смерти ты не обретешь ее снова — различны пути ушедших в иной мир, соответствующие их деяниям. Сними же бремя печали со своей души и почти супругу должными возлияниями воды. Истинно говорят, что потоки слез, проливаемые по умершим, палят его душу на том свете. Мудрые говорят, что смерть — в природе воплощенных, жизнь — от нее отклонение. И если хотя бы мгновение дышит рожденный — это дар ему, поистине. Неразумному утрата любимого человека представляется жалом, пронзающим сердце, для твердого ума она его из сердца извлекает, ибо открывает врата к вечному блаженству. Когда ведомы нам союз и разлучение плоти и воплощенного, скажи, почему расставание с внешними предметами должно удручать мудрого? О лучший из владеющих собою, негоже тебе отдаваться во власть горя, подобно обычному человеку. В чем будет различие между деревом и утесом, если начнут качаться от ветра оба?»
91. «Истинно так», — отвечал ему царь, выслушав эти речи премудрого наставника, и отпустил отшельника. Но в сердце, заполоненном горем, не нашли они места и словно отпрянули от него, возвратившись к учителю.
92—93. Еще восемь лет, перемогая себя, правил царь, правдивый и приветливый в речах, пока сын его не миновал пору детства. Созерцание портрета любимой и встречи с нею в сновидениях были для него единственными мгновениями утешения. Копье горести пронзило его сердце, как пробивает пол дворцовой террасы росток фигового дерева. Стремясь последовать за любимой, на все, что приближало его к кончине, он взирал как на благо, — и недуг его не излечить было врачам.
94—95. И когда наследник, хорошо воспитанный, уже способен был носить доспехи воина, царь возложил на него долг защиты подданных согласно законам, сам же, мечтая покинуть тело свое, обремененное болезнью, вознамерился голоданием довести себя до смерти. Наконец, расставшись с телом в святом месте у слияния вод Ганги, дочери Джахну, и Сарайю и приобщившись тотчас к сонму бессмертных, царь соединился со своей любимой царицей, принявшей образ, что стал еще прекрасней, и вновь предался с нею радостям в небесных чертогах посреди садов Нанданы.
Песнь IX ОХОТА
1—13. После кончины отца Дашаратха, великий колесничный воин, внутренним сосредоточением обуздавший страсти, властвовал над Северной Косалой, ему покорной, стоя во главе подвижников и царей. Мощью равный Разверзшему гору[271], он правил народами, населявшими его родовые владения, равно и жителями своей столицы, укрепляясь в добродетели. И только о двоих из исполнивших свой долг говорили потом мудрецы как о своевременно дары изливающих — о Победителе Валы[272] и о том владыке богатств, потомке жезлоносца Ману. И когда сын Аджи царствовал над землею, величием равный бессмертным и вкушающий душевный покой, она давала обильные урожаи, никакой мор не посещал страну, не говоря уже о вражеском вторжении. Земля, что цвела богатством при Рагху, завоевателе мира, а после него при Адже, теперь обрела властителя, не уступавшего им могуществом, и не могла не процветать, как прежде. В соблюдении справедливости владыка людей уподоблялся Яме, в щедрости дарений — Господину добродетельных[273], в суровости, с какой карал злодеев — Варуне, сиянием же — Солнцу, предшествуемому Зарею. И ни охотничьи забавы, ни страсть игрока, ни вино, отражающее в кубке луну, ни цветущая юность любимой не отвлекали его от забот о благосостоянии царства. Никогда не вымаливал он помощи у Индры, властвующего над ним, никогда не произнес он слова лжи даже в шутку и даже врагам не сказал ни одного оскорбительного слова. Вассальные цари от главы рода Рагху и милость видели, и сокрушение, ибо добросердечен был он к тем, кто не нарушал его велений, для непокорных же сердце его было из железа. На одной своей колеснице, напрягая тетиву лука, покорил он всю землю, окруженную океаном, войску же его, стремительно следующему за ним, со слонами и конями оставалось только возглашать его победу. Грозно ревущие моря стали его победными литаврами, когда на одной колеснице, снабженной щитом, с луком в руках он, богатством сравнявшийся с Куберой, завоевал мир. Сокрушитель твердынь укротил силу крыльев гор своим оружием со ста остриями[274], он же, лотосоликий, силу врагов подавил ливнями стрел, которые спускал с тетивы своего лука. Сотни царей склоняли головы к стопам непобедимого, и сияние бриллиантов на их венцах озаряло их, мешаясь с багряным блеском его ногтей, подобно тому как боги склоняются перед Свершившим сто жертвоприношений.
14—23. Он вернулся тогда с берегов великого океана в свою столицу, не уступающую великолепием Алаке[275], сжалившись над женами врагов, простоволосыми, отпустившими малых сыновей с советниками молить победителя о пощаде. Но хотя и возвысился он в кругу двенадцати царей[276] до верховной власти, Огню и Соме равный сиянием, и рядом с белым его балдахином ничей другой уже не воздвигся, он оставался бдителен, достоинство свое блюдя в завоевании незавоеванного. Сняв венец на время обряда, он, чья длань собрала великие богатства во всех странах, чуждый невежеству, украсил берега Тамасы[277] и Сарайю, воздвигнув на них жертвенные столбы из золота. Прошедший обряд посвящения[278], со шкурой черной антилопы и жезлом в руках, опоясанный из куши свитым шнуром, сдержанный в речах, с оленьим рогом он предстал в несравненном сиянии, которым одарил его овладевший его мощным станом Владыка Шива. Очистившись омовениями по завершении обрядов, обуздавший страсти, он достоин был войти в собрание богов и гордой главы ни перед кем не склонял, кроме Победителя Намучи[279], подателя дождей. Кроме него, потомка Солнечного рода, и Духорожденного[280], какому еще царю могла бы преданней служить Богиня Лотоса — кто более них был щедр к молящим? Великий колесничный воин, он стал соратником Магхавана в битвах, всегда впереди сражаясь, стрелы его оградили от угрозы божественных дев, и мощь его длани была ими воспета. И, мчась на колеснице в одиночку во главе воинства Индры с луком в руках, он, отважный, не однажды кровью божьих ненавистников окроплял пыль, поднятую в сражении, не давая ей скрыть своей завесой солнце. Как горные реки, устремляющиеся к океану, супруга обрели в нем, поражающем стрелами врагов, дочери владык Магадхи, Косалы и кекаев[281], и супруга они почитали, как бога. И с тремя прекраснейшими женами царь, гроза врагов, самому Индре был подобен, словно возжелал громовержец царствовать над смертными и воплотился на земле только с тремя богинями своими.
24—47. И вот пришла опять Весна с воскресшими цветами, дабы почтить единого властителя людей, мужеством прославленного и несущего бремя славы Ямы, Куберы, Владыки вод и Владыки грома[282]. Солнце, чей колесничий повернул коней на тропу к стране, где правит Податель богатств[283], покинуло гору Малайя, таянием инея просветленную на заре. Сначала расцвели цветы, потом выглянула свежая листва, жужжание пчел и пенье кокилы[284] послышалось — в такой последовательности воплотившись, явилась в лесную страну весна. Множество цветов, раскрывшихся по миновании холодов на кимшуке[285], украсили ее, словно царапинки, нанесенные на теле ноготками захмелевшей и робость отринувшей возлюбленной. Солнце пока только немного смягчило холод, от которого стынут закушенные губки дев, и сбрасывают они с бедер пояса, но совсем его не прогнало. Колеблемые ветром, налетающим с горы Малайя, лианы мангового дерева, покрывшиеся бутонами, словно исполняют пантомиму, пленяющую души даже тех, кто отрешился навсегда от гнева и желаний. Как толпы просителей тянутся к царской казне, наполняемой мудрым ведением государственных дел ради помощи добродетельным, так пчелы и водяные птицы стремятся к озеру, расцветшему лилиями с наступлением весны. Не только весенние цветы ашоки влекут сердца, но и свежие листочки, которыми украшают ушки прелестные девы и которые воспламеняют страстью их возлюбленных. Над курабакой[286], листья которой словно нарисованы на теле весны влюбленным божеством, вьются жужжащие рои пчел, которых она щедро поит нектаром. Цветы распускаются, окропленные вином из уст дев[287], чьи лица прекрасны, как эти цветы, и дерево бакула осаждают длинными вереницами пчелы, алчущие меда. На лесных опушках, пестреющих яркими цветами и сладко благоухающих, уже слышится первое кукование кукушки, мерное и неторопливое, словно некое повествование, льющееся из уст красавицы-скромницы. В садах побеги лиан колеблются от ветра, словно руки, движущиеся в такт нежному пенью — пчелиному гулу, услаждающему слух, и белые цветы на них блещут, как улыбки. Женщинам дарит радость вино, друг любви, и еще грациозней от него их милые игры с мужьями, не мешающие страстным их ласкам. Бассейны при домах, покрывшиеся расцветшими лотосами, над которыми звучат, как во хмелю, трели водолюбивых птиц, прекрасны, словно расцветшие улыбками лица дев, играющих, бренча, распущенными поясами. Дева-ночь, чей лик бледнеет в сиянии взошедшего светила холодных лучей, укрощенная весною, тихо тает, словно утратившая в разлуке радость свиданий с любимым. Месяц прохладными лучами гонит усталость от любовных ласк и заставляет бога, несущего на знамени дельфина[288], острее точить свои цветочные стрелы, и яснее становится лунное сиянье с минованием холодов. В волосы дев вплетают нежные цветы, яркие, как огонь жертвоприношений, — для лесной страны весною они заменяют украшения из золота. И дерево тилака[289] не красит ли собою этот край лесной, отмеченное роями взору приятных черных, как капли сурьмы, пчел, летящих на обилие цветов, как красит юную деву знак тилака на челе. Лоза жасмина, прелестная возлюбленная деревьев, радует взор своей смеющейся красой, а цветы ее смыкаются с листьями, как нижняя губка с верхней, распространяя медвяный запах, словно от вина, которым себя услаждает дева. Одежды алее зари, побеги ячменя, вплетенные над ушами, пение кокил — все это воинство Бога Любви идет на приступ сердец молодых гуляк, дабы отдать их в рабство красоте юных дев. Гроздья цветов тилаки, распустившихся и полных белой пыльцой, над которыми вьются роями пчелы, красотой подобны жемчужным сеткам на волосах прелестниц. И пыльца от цветов в саду, поднятая ветерком, привлекает рои медуниц, она —— как веющее в воздухе знамя вооруженного своим луком Бога Любви или прозрачное покрывало на лике лесной страны. На празднике весны молодые женщины радуются новым качелям и, мечтая обнять своих возлюбленных супругов, хватаются, словно бы ослабев, за поддерживающие канаты. «Оставьте, девы, ревнивые выходки, прекратите ссоры, пройдет и не вернется молодость, пора наслаждений» — словно слышится в куковании кукушек, голосом которых вещает Бог Любви, и девы возвращаются к своим развлечениям.
48—49. В обществе ветреных дев вдоволь вкусив радостей праздника весны, царь, подобный Сокрушителю Мадху[290] и Смущающему души, возжелал предаться веселью охоты. Охота же учит искусству метко поражать движущиеся цели, узнавать признаки ярости и страха в поведении зверей, закаляет тело в борьбе с усталостью, — и потому с разрешения своих советников царь отправился на охоту.
50—52. В охотничьем наряде, годном для скитания по лесу, с луком на могучих плечах властелин, подобный солнцу меж людьми, пылью, поднявшейся от конских копыт, словно пологом, покрыл небеса. С венком из лесных цветов, вплетенным в волоса, в одежде цвета листвы дерев, с серьгами в ушах, трясущимися от скачков его коня, мчался он по оленьим тропам. На пути его девы леса, воплотившиеся во вьющихся лианах, мечущие взоры пчелиными роями, взирали на прекрасноокого царя, справедливым правлением осчастливившего народ Косалы.
53—54. Тогда он углубился в лес, в который вошли перед ним его охотники с силками и сворами собак, а лес был очищен от разбойников и от опасности лесного пожара, проложены были дороги для коней, в нем были многочисленные озерца со свежей водой и изобиловали олени, птицы и гайалы. И тот лучший из мужей натянул лук, звон тетивы которого ввергал в неистовство львов, подобно тому как месяц бхадрапада[291] воздевает на небе лук тридцати[292] — радугу — с золотою тетивою-молнией.
55—56. Стадо, возглавляемое великолепным черным оленем, появилось перед ним — бег ланей замедлялся то и дело из-за детенышей-сосунков, рты их были полны травою куша. Преследуемые царем на быстром коне, лани рассыпались по равнине, бросая на охотника, уже вытащившего стрелу из колчана, испуганные взоры, и темные глаза их, влажные от слез, подобны были лепесткам синего лотоса, развеянным ветром по лесу.
57—58. Искусный лучник, равный самому Хари, он увидел вдруг, как олень загородил собой подругу, в которую нацелил он стрелу; сам любящий, царь был тронут состраданием и опустил уже натянутый было до уха лук. Он хотел пустить стрелы в других ланей, но ослабела твердая рука его, натянувшая тетиву, ибо напомнили ему их трепетные взоры, исполненные страха, томные очи его возлюбленных.
59—67. Затем царь устремился в погоню за стадом диких кабанов, выбравшимся перед тем из холодной грязи болота. Путь их был усеян полупрожеванными клочками травы, обозначившими длинную вереницу их влажных следов. Когда же, догнав их, он поражал их из лука, наклонившись с коня, кабаны, ощетинившись, тщились напасть на него, еще не сознающие, что пригвождены к деревьям его стрелами. Царь поразил потом стрелою в глаз дикого буйвола, яростно устремившегося на него, — пронизав тело животного и свалив его, стрела сама упала на землю с опереньем, оставшимся чистым от крови. Носорогов он разил острыми стрелами большей частью в голову, облегчая им бремя рога, который срезал; подавляя злонамеренных, царь не позволял врагам своим слишком возноситься, но жизнь их укоротить не стремился. Тигры бросались на него из своих логовищ, но бесстрашный охотник, чья рука обрела упражнением необычайную ловкость, вмиг обращал их словно в колчаны для своих стрел, которыми заполнял их пасти, так что они уподоблялись сучьям дерева асана, сломленным бурей. Охотясь на львов, залегших в зарослях, царь звоном тетивы, грозным, как громовые раскаты, вызывал их ярость, движимый, поистине, ревностью к их титулу царя зверей, который они заслужили своей отвагой. И убивая этих безжалостных врагов слоновьего племени, нанизавших жемчуга на свои скрюченные когти[293], тот потомок Солнечного рода мыслил, что отдает тем долг слонам, ему помогавшим в битвах. А повстречав где-то яков, он пускал коня скакать вокруг, осыпая их стрелами бхалла[294], но удовлетворялся тем, что срезал их белые пышные хвосты, их царские султаны. Но не направил он стрелу на павлина, хотя тот прыгал близ его коня с роскошным своим опереньем, —— когда он его увидел, вспомнились ему волосы любимой царицы с вплетенными в них пестрыми цветами, с узлом, распустившимся от любовной ласки.
68—69. Напоенный влагой росы лесной ветерок, разглаживающий молодые листочки, поцелуями осушал его лицо, покрытое каплями пота от усталости. Словно дева-обольстительница, увлекла охота властителя народа, заставляя его забывать о других царских делах; возложив бремя правления на советников своих, отдался он этой страсти, которая от того все более возрастала.
70—72. Без спутников провел где-то царь ночь, озаряемую лишь свечением волшебных трав, на ложе из мягкой листвы и цветов. Пробудившись на заре от шума, поднятого стадом слонов, хлопанье ушей которых подобно было оглушительному барабанному бою, он внимал некоторое время сладкозвучному щебетанию птиц, заменивших ему придворных певцов. Потом он пустился в лесу по оленьему следу, который не заметили его спутники, и конь его был в мыле от изнеможения, когда след привел его к берегу реки Тамаса, где жили отшельники.
73. С берега доносилось приятное журчание воды, какое производится наполнением кувшина, — он же принял его за голос слона и пустил стрелу из лука на звук.
74—75. Так нарушил Дашаратха непреложный для царя запрет — даже ученые люди, когда они ослеплены страстью, вступают на путь греха. Тотчас услышал он крик: «Ах, отец!» — и, бросившись, встревоженный, на голос в тростники, увидел там юного отшельника, пронзенного его стрелою, и рядом кувшин, и горесть овладела царем — словно стрелою, она его самого поразила в сердце.
76—77. Сойдя с коня, царь славного рода спросил лежащего на своем кувшине юношу о его роде, и тот прерывающимся голосом поведал ему, что он — сын отшельника, не принадлежащего к дваждырожденным. По просьбе его царь, не извлекая стрелы, отнес раненого к престарелым родителям его. Он рассказал им, утратившим зрение, как набрел он на их единственного сына, когда тот был скрыт тростниками, и по неведению совершил недоброе.
78—79. Горько оплакивая сына, супруги повелели его убийце извлечь стрелу из его груди, после чего жизнь покинула тело. Тогда старик, собрав в ладони пролитые слезы, силою их проклял владыку земли. «Да примешь ты, как я, смерть на склоне лет от горя о собственном сыне!» — на эти слова, которые произнес он, как извергает яд змей, прежде попранный ногою, властитель Косалы, перед тем согрешивший, отвечал так:
80—82. «Для меня, еще не глядевшего в милое, лотосу подобное лицо сына, даже проклятие из уст твоих, о святой, благословенно. Огонь углей, хотя и жжет почву, способствует прорастанию семени в ней». И когда владыка земли вопросил мудреца: «Что может сделать для тебя грешник, заслуживший принять смерть от твоей руки?» — тот попросил приготовить костер, на котором он бы последовал с супругой за сыном. Царь, к которому присоединились к тому времени его спутники, исполнил его желание, а затем возвратился в столицу с тяжелой душою, омраченной совершенным грехом, обремененный проклятием, предвещающим гибель, которое затаилось в его сердце, как огонь кончины мира[295] в глубинах океана.
Песнь X ВОПЛОЩЕНИЕ РАМЫ
1—4. Меж тем как тот владыка несметных богатств, Индре отвагою равный, правил землею, миновало почти десять тысяч лет. Но не озарил его жизнь свет, именуемый сыном, что рассеивает горестей мрак, избавляет от долга предкам. Долго ждал царь, не утрачивая веры в появление потомства, уподобляясь океану, хранящему сокровища до пахтания. Наконец Ришьяшринга[296] и другие праведные жрецы, что обрели совершенное самообладание, приступили к обряду, который должен был дать сына жаждущему продолжения рода.
5—15. В то самое время боги, угнетаемые Пауластьей[297], прибегли к Хари, как путники, измученные зноем, ищут избавления от него под сенью тенистого дерева. Как только они достигли океана, пробудился Предвечный — незамедление есть знамение грядущего успеха дела. Небожители узрели его, опирающегося на свое ложе — великого змея[298]; сверкающие бриллианты огромного клобука озаряли его стан, стопы же его покоились на коленях восседающей на лотосе Богини Счастья, покрытых шелковою тканью, на которую она опустила свои нежные, как побеги лиан, руки. С очами, точно расцветшие лотосы, в одеянии, блистающем, как восходящее солнце, он подобен был осеннему дню, благостному поутру. Камень Каустубха, воплотивший в себе стихию вод, — в него, как в зеркало, гляделась Лакшми — освещал своим блеском знак шриватса[299] на его широкой груди. И с простертыми руками он подобен был райскому дереву париджата, раскинувшему ветви, которое возникло из моря. Его победу возглашали одушевленные оружия его, кроющие бледностью разрумянившиеся от вина лица жен сраженных демонов; смиренный Гаруда служил ему, сложив руки в ладони, чье тело в шрамах от ударов перуна[300], — ради того он забывает природную вражду свою к Шеше; он же взором, просветленным после вселенского сна, явил милость свою Бхригу и другим древним провидцам, что пришли осведомиться, как он почивал. Тогда боги склонились перед ним, победителем божьих врагов, и восславили того, кого не постигнуть ни словом, ни мыслью:
16—32. «Хвала тебе, в трех ипостасях воплощенному, — все создавшему вначале, затем — вседержителю и после — разрушителю вселенной. Как небесная влага — одного вкуса исконно, — выпав на землю, в каждой стране свой вкус обретает, так и ты, неизменный, в различных состояниях проявляешься, с каждым из трех качеств сочетаясь. Неизмеримый, ты измерил миры, безучастный к желаниям, ты внушаешь желания, непобедимый, ты — победоносец, беспредельно непроявленный, ты — причина проявленной вселенной. Тебя называют пребывающим в сердце — и недостижимым, бесстрастным — и подвижником, исполненным сострадания — и не ведающим печали, древним — и нестареющим. Ты — всеведущий и непостижимый, ты — все породивший и несотворенный, ты — владыка вселенной, не превзойденный никем, ты — един и обладаешь всеми образами. В семи песнопениях воспетый[301], в семи океанах пребывающий, семью огнями разверзающий уста, ты провозглашен единой опорою семи миров. Знание четырех целей жизни[302], деление времени на четыре века, различение четырех сословий в мире — все это от тебя, четырехликого. Тебя, светозарного, в сердцах своих ищут ради спасения йогины, искусом отвратившие души от внешнего мира. Нерожденный, обретаешь ты рождение, чуждый стремлений, истребляешь врагов, в сон погруженный, бодрствуешь, — кто ведает истинную твою природу? Только ты можешь наслаждаться звуком и другими явлениями внешнего мира и одновременно предаваться небывалому подвижничеству, защищать рожденных и пребывать безучастным. Пути, ведущие к высшему совершенству, как бы различно ни указывались они в учениях, сходятся в тебе одном, как потоки Ганги сливаются в океане. Для тех, кто совершенно отрешился от желания мирских наслаждений, кто предан сердцем тебе и тебе посвятил свои деяния, ты есть убежище, где обретут они избавление. Твое величие, воплощенное в земле и в других стихиях, доступно восприятию чувств, но неизреченно; как выразить его словом, когда только через откровение и рассуждение возможно постичь тебя? Если ты даешь очищение тому, кто только вспоминает о тебе, прочим чувствам остается лишь выявить, что воспоследует из этого. Как неисчислимы сокровища океана, как неописуемы солнечные лучи, так и твои деяния словами не восславить. Нет ничего, чего бы ты не достиг, ничего, что еще остается достичь, и только из милости, к людям ты рождаешься и действуешь среди них. Воспев тебе хвалу, мы умолкаем, но от изнеможения только, не потому, что достоинства твои мы той хвалой исчерпали».
33—37. Так умилостивляли боги его, непостижимого для чувственного восприятия, и не восхвалением то было, а только изречением истины. Когда он ясно явил им свою милость, осведомившись об их благополучии, боги поведали ему об опасности, возникшей из потопа ракшасов, захлестнувшего берега еще до предопределенной кончины мира. Тогда господь обратился к ним с речью, и голос его в пещерах прибрежных гор, отозвался эхом, даже шум морских волн заглушившим. И та речь Первозданного пророка произнесена была с использованием различных мест образования звука, и потому, отчетливая и правильная, она достигла поставленной цели. Излившись из уст владыки, она блистала в сиянии его зубов, подобная потоку Ганги, а что осталось, вознеслось вверх из-под его стопы[303].
38—47. «Я знаю, что лишил вас власти и мужества ракшас, как первое и среднее качества[304] у смертных подчас подавляется качеством тьмы. И ведомо мне, что угнетает он три мира, как угнетает сердце добродетельного человека невольный грех, им совершенный. Участие в тех же деяниях объединяет меня с вами, Громовержец мог бы и не обращаться ко мне с этой просьбою. Ведь Ветер сам становится соратником Огня. Десятую голову ракшаса пощадил его меч[305], чтобы сберечь ее для моего диска[306]. Дерзость этого злодея терпел я до поры вследствие дара, пожалованного ему Творцом, как терпит сандаловое дерево обвившую его змею. Презрев смертных, ракшас просил у Создателя, умилостивленного его подвижничеством, неуязвимости от существ божественной природы только. Так стану же я сыном Дашаратхи и принесу в жертву на поле боя с помощью острых стрел все лотосоподобные головы демона. И в скором времени, о боги, вы опять будете получать свою долю от жертвоприношений верующих, должным образом совершенных и не оскверненных бродящими в ночи. Пусть же, странствуя по тропам ветров на своих воздушных колесницах, не приходят более в смятение небожители при виде Пушпаки[307] и не прячутся в облаках. Вы освободите плененных небо-жительниц, чьи волосы остались не тронуты насильником, — грозящее ему проклятие[308] охранило их от посягательств Пауластьи».
48—49. И, темной туче подобный, излив нектар своих речей на богов, как на поля, страждущие от засухи — Раваны, он исчез. А боги с Индрой во главе лишь долею своей последовали за Вишну, их дело взявшим на себя, как деревья посылают цветы вслед за ветром.
50—51. И вот на исходе обряда, совершавшегося для царя с известной целью, перед пораженными жрецами возникло из огня некое существо. В руках у него был сваренный в молоке рис в золотом сосуде — и даже для него тяжко было это бремя, ибо Первозданный Дух вошел в него.
52—54. И ту пищу принял царь от создания Владыки творений[309], как некогда Индра — квинтэссенцию[310] вод, отданную океаном. Таковы были достоинства этого царя, не доступные никому другому, — Тот, от кого произошли три мира, возжелал родиться его сыном. И это величие Вишну, воплощенное в жертвенном приношении, царь разделил между двумя своими супругами, как владыка дня обращает свои утренние лучи на небо и на землю.
55—57. Каушалья была почитаема им, а любимой женой была та, что происходила из царского рода Кекайя. И царь пожелал, чтобы обе поделились своей долей с Сумитрой. И обе жены владыки земли, всепонимающие, следуя желанию супруга, отдали ей по половине своей доли от приношения. Она же привязана была к обеим соперницам своим, как черная пчела равно стремится к струйкам мускуса на обеих щеках слона.
58—59. Они выносили ради блага людей тот плод, возникший из доли божества, как некогда солнечные лучи извлекли из вод сокровище, именуемое амритой. В одно время зачавшие его, побледневшие, они воссияли, как злаки, таящие в себе зерно.
60—65. И увидели они все во сне, что охраняют их карлики, вооруженные мечами, палицами, луками, дисками, с раковинами в руках; что они летят по небу на Гаруде, от золотых крыльев которого исходит сияние, и стремительный полет его увлекает за собой облака; что сама Лакшми прислуживает им с лотосовым опахалом в руках, с драгоценным камнем Каустубха меж грудей, помещенным туда ее супругом; и что семеро великих брахманов-провидцев, свершающие омовения в небесной Ганге и поющие гимны Веды, воздают им почести. Услышав от них об этих сновидениях, возрадовался царь, мня себя превыше всех вознесенным Владыкою вселенной. Вездесущий Дух нашел обитель во чреве каждой из его жен, разделив себя, единого, на разные образы, как месяц, отражающийся в ясных водах.
66—69. И вот главная царица, преданная супруга, обрела в должный срок родов сына, рассеявшего тьму горести, как травы ночью обретают свет, рассеивающий мрак. Красота его, радующая сердце[311], побудила отца дать ему имя Рама — самое благословенное имя в мире. Светоч рода Рагху, он сиянием, в котором не было ему равных, затмил блеск светильников в покое роженицы. А мать, похудевшая, с Рамою, покоящимся рядом с нею на ложе, блистала красотой, как Ганга осенью, когда волны ее спадают, с приношеньем лотосов на песчаном берегу.
70—71. У Кайкейи же родился сын по имени Бхарата; достойный, он стал украшением для матери своей, как благородное поведение украшает богатство. Сумитра родила двоих сыновей-близнецов, названных Лакшмана и Шатругхна, как наука, если следовать ей прилежно, порождает знание и добронравие.
72—77. И мир избавился от пороков и явил многие благословения; как будто само небо низошло вслед за Высшим существом на землю. Когда явлено было это воплощение в четырех образах, четыре страны света, чьих хранителей поверг в трепет Пауластья, равно угнетенные демоном, избавились от беды, словно свежий ветер их овеял, и они испустили вздох облегчения. Огонь стал бездымным, солнце — ясным, оба удрученные тем же демоном, они словно отринули от себя свое горе. Тогда же Удача[312] ракшаса пролила слезы на землю — как бриллианты из венцов на десяти его головах. Музыка, отмечающая рождение сына, зазвучала — и первыми загремели божественные литавры на небесах, и, открывая торжество, дождь из небесных цветов пролился на царские чертоги.
78—86. Для юных царевичей совершены были необходимые обряды, и, вспоенные кормилицами, они подрастали вместе на радость отцу, их опекавшему, словно был он им старшим братом. Природная скромность их доведена была до совершенства воспитанием, как от жертвенных возлияний еще ярче становится блеск огня. И братья, любящие друг друга, умножали незапятнанную славу рода Рагху, как времена года умножают красу райского сада. Но, хотя братская любовь была равной между ними, Рама и Лакшмана составили преданную друг другу чету, и такую же — Бхарата и Шатругхна. И единство помыслов каждой четы братьев не нарушалось никогда, как согласие меж огнем и ветром, между месяцем и океаном. Как дни на исходе лета, тенью облаков смягчающие, зной привлекали те царственные юноши сердца подданных своей отвагой и своим смирением. И потомство владыки земли, представленное в четырех ипостасях, подобно было образам Закона, Пользы, Желания и Избавления. Преданные отцу сыновья добрыми свойствами ублажали его, как четыре великих океана Владыку вселенной своими сокровищами. И царь земных царей со своими четырьмя сынами, долей божества воплощениями, подобен был слону богов с его четырьмя бивнями, о которые затупились демонские мечи; или науке о государстве с четырьмя средствами политики[313], оцениваемыми в согласии с успехом их применения; или самому Хари с четырьмя руками, долгими, как оглобли или как века.
Песнь XI ПОБЕДА НАД БХАРГАВОЙ
1—2. Однажды пришел к владыке земли Каушика[314] и просил его, чтобы он послал с ним Раму ради избавления от препятствий его обрядов; Рама еще носил тогда локоны, как вороньи крылья[315], но возраст — не помеха для могучего. С трудом обретенного, отпустил все же сына с мудрецом царь, покровитель ученых, и с ним Лакшману; никогда не отказывали в роду Рагху просящим, даже если речь шла о самой жизни.
3—5. И едва только царь повелел украсить улицы города в честь их отбытия, как облака тотчас же откликнулись вместе с ветрами, пролив на город цветочные дожди. Братья-лучники, повинующиеся велению отца, пали в ноги ему; и когда они склонились перед ним, слезы царя пролились на них, готовых отправиться в путь. И влага слез отца осталась на их волосах, когда, вооруженные луками, они последовали за мудрецом, а глаза горожан, провожавшие их взглядом, украсили улицу, как цветы висящих арками гирлянд.
6—7. Мудрец пожелал взять с собой вместе с Рамой только Лакшману — потому вместо войска царь послал с ними одни благословения — этого достаточно было для защиты обоих братьев. И, поклонившись в ноги матерям своим, оба ушли вслед за великим мудрецом, как месяцы мадху и мадхава[316] следуют пути светозарного солнца.
8—12. Шествие братьев подобно было течению реки Бурной и реки Крушащей[317], в пору дождей оправдывающих свои имена, — как грозные волны, двигались их руки, но юность скрашивала неистовство их движений. Хотя ноги их привыкли больше к ровным полам, выложенным драгоценными камнями, благодаря действию двух заклинаний, которым их научил мудрец, — «сила» и «пересила»[318] — оба чувствовали в пути не больше усталости, чем если бы они не покидали материнского крова. Рагхава с братом, обычно не пускавшиеся в путь иначе, чем на колеснице или на коне, теперь неутомимо шли пешком — словно на колеснице, несло их повествование древних легенд, которые знал превосходно друг их отца. В пути озера дарили им свежую воду, птицы — трели, услаждающие слух, ветер — пыльцу благоухающих цветов и облака дарили тень. А отшельникам, что встречались в пути, на них взирать было приятней, чем на воды, покрытые прекрасными лотосами, чем на деревья, чья тень прогоняет усталость.
13—14. Когда достигли лесной обители Маданы[319], чье тело испепелил Шива, сын Дашаратхи с луком в руках словно воочию представил там бога любви обликом, хотя и не делами. А когда дорога привела их к местам, обращенным в пустыню дочерью Сукету[320], повесть о проклятии которой им поведал Каушика, оба юных воина, поставив луки одним концом на землю, надели на них тетивы.
15—20. И заслышав звон тех тетив, явилась перед ними Тадака[321], темная, как ночь новолуния. Серьги из человеческих черепов качались в ее ушах, подобные вереницам журавлей, пролетающим под грозовой тучей. С ужасным воплем она устремилась на старшего брата, одетая в лохмотья от саванов, и деревья на пути ее задрожали, как от вихря, налетевшего с кладбища. Рагхава, видя, как приближается она к нему, опоясанная человеческими кишками, с подъятою рукою, подобной палице, пустил в нее стрелу, с которой ушло и его отвращение к убиению женщины. Стрела Рамы вошла в твердокаменную грудь Тадаки и разверзла в ней вход для смерти, до того не посягавшей на владения ракшасов. Пав на землю с пронзенным сердцем, демоница заставила содрогнуться не только окрестности своего леса, но и Удачу Раваны, неколебимую после его побед в трех мирах. Пораженная в сердце бьющей наповал стрелою Рамы, Тадака, бродящая в ночи, плавая в зловонной своей крови, отправилась прямиком в обитель смерти, как дева, чье сердце пронзила убийственная стрела бога любви, уходит ночью в дом возлюбленного умащенная благоуханным шафраном и сандалом.
21. И получил тогда победитель Тадаки от мудреца, довольного его подвигом, заклятое оружие против ракшасов, как жар, способный сжигать дрова, солнечный камень получает от светила.
22. Когда они миновали святую обитель, посвященную Карлику[322], о коем рассказывал им мудрец, задумчив стал Рагхава, хотя не мог он помнить деяния, совершенные в прошлой жизни.
23—24. Наконец мудрец достиг своей лесной пустыни, где община учеников его приготовила все для свершения жертвоприношений, где деревья приветственно простерли к нему свои ветви, отягощенные листвою, где лани, подняв головы, обратили к нему свои взоры. Там оба сына Дашаратхи стали на страже посвятительного обряда, к которому приступил провидец, ограждая его стрелами своими, как солнце и луна на восходе ограждают людей от тьмы своими лучами.
25—29. Тогда увидели жрецы, что священный алтарь осквернен, покрытый каплями крови величиною с цветок бандхуджива[323]; они прекратили обрядовые действия, и жертвенные ложки из дерева виканката[324] выпали у них из рук. Тотчас старший брат Лакшманы вынул стрелу из колчана; взглянув наверх, он увидел в небе полчище ракшасов; стяги их развевал ветер, раздуваемый взмахами крыльев стервятников. Сразу же он прицелился, но только в тех двоих, что предводительствовали ненавистниками жертвоприношений, — станет ли Гаруда, победитель великих змиев, тратить силы на водяных змеек? Искушенный во владении луком, он наложил на тетиву стремительную стрелу, посвященную богу ветра. И он сразил ею гороподобного сына Тадаки, словно то был увядший листочек. Затем знающий свое дело воин, пустив в ход острое, как бритва, оружие, рассек на части тело Субаху, другого демона, — тщетно, мечась по небу, тот прибегал к колдовским уловкам; и куски его плоти пошли на корм птицам, слетающимся к обители.
30—31. Жрецы, воздав хвалу отваге царевичей, отразивших угрозу для жертвоприношения, довели до конца в должной последовательности обряды, предпринятые главою рода, соблюдавшим тем временем обет молчания. Закончив очистительное омовение, рукою, оцарапанной травою дарбха, мудрец провел по телу каждого из братьев, благословив их, и они склонились перед ним, свесив локоны по бокам.
32—34. Случилось так, что царь Митхилы, собираясь совершить жертвоприношение, пригласил на него мудреца. Отшельник, обуздавший страсти, взял с собою в Митхилу обоих правнуков Рагху, чье любопытство возбудили слухи о луке Джанаки. Вечером они нашли пристанище в пути под сенью дерев той обители, где некогда супруга великого подвижника Гаутамы[325] стала на время женою Индры. И рассказывают, что прах от ног Рамы, очищающий от греха, вернул обращенной в камень супруге Гаутамы ее прежний прекрасный образ.
35—36. Услышав о прибытии мудреца с царевичами рода Рагху, Джанака, властитель народа, вышел с дарами навстречу тому, кто предстал тогда как воплощенный Закон, сопровождаемый Пользою и Желанием. Жители же Митхилы, затаив дыхание, пожирали глазами обоих царевичей, подобных двум звездам Пунарвасу[326], низошедшим с небес на землю.
37—42. Когда закончился торжественный обряд при жертвенном столбе, мудрец, умноживший славу рода Кушики, воспользовался случаем, чтобы уведомить царя Митхилы о желании Рамы увидеть знаменитый лук. Царь же, глядя на тонкий стан того отпрыска славного рода и зная, насколько трудно согнуть этот лук, пожалел, что назначил такое условие для жениха своей дочери. И он отвечал мудрецу: «О блаженный, не могу я позволить, чтобы тщился слоненок вынести то, что тяжело и для большого слона. Ибо уже многие цари, владеющие оружием, отче, посрамлены были в своих попытках осилить этот лук и уходили, потеряв веру в крепость рук своих, закаленных в натягивании тетивы, сетуя на свое бессилие». Провидец, однако, молвил ему: «Знай, что великою мощью обладает он, — нет нужды толковать о том». Ведая, что на слова его можно положиться, царь уверовал в силу Рагхавы, хоть и носил тот еще локоны вороньими крылами; можно поверить в силу огня, оставляющего черные следы, хотя бы то была лишь искра величиною со светлячка.
43—46. Тогда царь Митхилы отрядил несколько десятков слуг принести лук; так Тысячеглазый посылает тучи явить на небе его светозарный лук — радугу. Оглядев этот лук, грозный, как погруженный в сон царь змиев, лук, из которого некогда Шива пустил стрелу[327], летевшую вслед жертве, принявшей образ убегающего оленя, сын Дашаратхи взял его в руки. И на глазах у застывшего в изумлении народа он натянул этот лук, тяжкий, как гора, так же легко, как натягивает свой цветочный лук Бог любви. Но он натянул его слишком сильно, и лук сломался с оглушительным треском, подобным удару грома Индры, оповестив тем о возрождении кшатрийского рода ненавистника его Бхаргаву[328].
47—49. И царь Митхилы, восхищенный мощью Рагхавы, обещал ему руку своей дочери, не из чрева рожденной, воплощенной Богини счастья, — цену за нее определил лук Шивы. И, верный обещанию, выдал государь Митхилы тогда же дочь свою, не из чрева рожденную, за Рагхаву — исполненный огня подвижничества мудрец, как священный огонь, был свидетелем на том свадебном обряде. Блистательный же царь отправил своего досточтимого родового жреца к властителю Косалы с таким посланием: «Да соблаговолишь ты признать род Ними[329] смиренным твоим слугою, приняв мою дочь как свою сноху».
50—52. Представ перед владыкой с тем посланием, брахман поведал ему именно о такой снохе, какую тот себе желал; ибо как сразу созревает плод волшебного дерева, так осуществляется желание добродетельного. Выслушав речь брахмана, которого он принял с должным почетом, тот друг Индры, исполненный самообладания, пустился в путь в сопровождении войска, затмившего солнце поднятой пылью. Он достиг Митхилы, и воины его заполонили окрестности города, причинив немалый ущерб деревьям пригородных садов; так пришлось столице выдержать эту дружественную осаду, как женщине — натиск пылкого влюбленного.
53—56. Встретившись, оба государя, сведущие в обрядах и обычаях, равные один — Варуне, другой — Васаве, отпраздновали достойно своего величия свадьбы своих дочерей и сыновей. Наследник дома Рагху женился на дочери Земли, а затем Лакшмана — на Урмиле, ее младшей сестре. Двое других могучих братьев, младшие, женились на двух прекрасных дочерях Кушадхваджи[330]. И те трое братьев вместе с четвертым, обретшие жен, подобны были трем средствам политики отца своего — заключению мира, подкупу, сеянию раздора и войне, — обретшим каждое успех. А царские дочери с царевичами и те с ними обрели исполнение своих желаний, и брачный союз невест и женихов подобен был соединению аффиксов с основами слов.
57—61. Так поженив там всех своих четверых сыновей, после трех праздничных шествий Дашаратха простился с государем Митхилы и, ублаготворенный, отправился обратно в свою столицу. В дороге застигла их буря; сильный ветер задул навстречу, ломая деревья вдоль троп и приводя в замешательство войско, как наводнение захлестывает берега и затопляет, опустошая, сушу. Солнце со зловещим кольцом вокруг уподобилось тогда бриллианту, выпавшему из головы свернувшегося в кольцо змея, убитого сыном Винаты[331]. Посерели, как крылья ястребов, волосы-небеса стран света, словно оделись они в окровавленные одежды вечерних облаков, и отвратились от них взоры, как от женщин в пору месячных. И жуткий вой подняли шакалы, обратив морды к солнцу, словно призывая Бхаргаву, того, кто приносил поминальную жертву отцу[332] и предкам кровью кшатриев.
62. Когда поднялся противный ветер и другие недобрые знамения явились владыке земли, он, ведающий о предостережениях, спросил духовного наставника своего, чем предотвратить опасность; но тот успокоил его, предсказав, что все кончится хорошо.
63—66. И рассказывают, что пылающий столп света воздвигся внезапно впереди войска. Не сразу, но увидели воины, протирая в изумлении глаза, что он принял человеческий образ. Со священным брахманским шнуром, унаследованным от отца, с луком в руках, говорящим о кшатрийской мощи, материнском наследии, казалось, он являл собою единение луны с жарким солнцем, подобный сандаловому дереву, обвитому змеей с раздвоенным языком. Это был тот, кто, повинуясь воле отца, в гневе утратившего самообладание, одолел в себе любовь, отрубив голову устрашенной матери, а затем и земным царям. Из правого уха его свисали четки из ягод красноглазки, числом двадцать одна — столько раз истреблял он кшатриев на земле.
67—68. Царь, юными сыновьями сопровождаемый, растерялся от этой встречи с Бхаргавой. Ведомо ему было, что тот дал обет истребить род царей в отмщение за убиение своего отца. Имя Рамы, которое носили и сын его, и этот страшный враг, и дорого было его сердцу и приводило в трепет, как радует или страшит драгоценный камень, видишь ли его в своем ожерелье или на голове змея.
69—70. Не обращая внимания на царя, восклицавшего: «Добро, добро пожаловать!» — тот обратил свой ужасный взор на старшего брата Бхараты — глаза его, казалось, метали пламя — то было пламя его ненависти к кшатриям. Сжав лук в руке и между пальцев пропустив стрелу, он обратился, жаждущий боя, к Рагхаве, который бесстрашно стоял перед ним:
71—78. «Весь род кшатриев, причинивший мне зло, ненавистен мне. Многократно его низвергнув, обрел я наконец мир. Но молва о подвигах твоих воспрять заставила меня, словно спящего змея, потревоженного палкой. Говорят, что ты сломал лук царя Митхилы, который до тех пор не в силах был согнуть ни один царь. Когда я услышал об этом, показалось мне, словно ты сломал мою славу героя. До сей поры только меня знали в мире под именем Рамы. Позор мне, если теперь своим восхождением к славе ты дашь этому имени другой смысл. Я, против чьего оружия не устоит и гора Краунча[333], знаю двоих врагов, равно ненавистных, — то царь хайхаев, похитивший теленка нашей священной коровы, и ты, грозящий похитить мою славу. Потому, пока я не победил тебя, нет мне отрады в моей отваге, несмотря на истребление кшатриев, — величие огня тогда истинно, если может он пылать в океане, не только в дровах. Знай, что лук Владыки, сломанный тобою, лишен был силы властью Хари; когда корни дерева, стоящего на берегу, подмыты рекою, легкого ветерка достаточно, чтобы повалить его. Вот, надень тетиву на этот мой лук и, наложив стрелу, попробуй натянуть его. Если хоть это тебе удастся, я буду считать, что побежден тобою, раз равна сила рук наших. Но если тебе не хватает храбрости, если страшит тебя сверкающее лезвие моего боевого топора, сложи руки в ладони, моля о пощаде и защите, — значит, пальцы на тех руках напрасно натерты тетивою».
79—80. Когда Бхаргава, грозный обликом, произнес эти слова, ничего не сказал ему в ответ Рагхава, только взял, слегка улыбнувшись, его лук. С этим луком в руках, уже принадлежавшим ему в одном из прошлых рождений, он, поистине, чаровал взоры — прекрасно облако в небе и когда оно одно, но насколько прекрасней украшенное луком царя богов!
81—83. Когда же могучий воитель, поставив лук нижним концом на землю, натянул его, — побледнел враг царей; так дымом заволакивает гаснущий огонь. Люди взирали на них, сошедшихся лицом к лицу, — величие одного возрастало, меж тем как рушилась слава другого, словно то встретились ввечеру луна и солнце. Рагхава, подобный сыну Шивы[334], видя, что поколебалось мужество Бхаргавы, преисполнился состраданием к нему, но, полагая, что не должна пропасть стрела, наложенная на тетиву, молвил так:
84. «Хотя ты напал на меня, не хочу я разить тебя жестокосердно, ведь ты — брахман. Скажи, остановить ли мне тебя здесь этой стрелою или же лишить того царства, которое обрел ты обрядами?»
85—87. Мудрец отвечал ему: «Не думай, что не узнал я в тебе истинный образ Первозданного Духа. Но я нарочно решил тебя разгневать, чтобы увидеть, как ты явишь воплотившееся на земле могущество Вишну. Для меня, испепелившего врагов моего отца, но отдавшего достойным власть над опоясанной морями землею, даже поражение от тебя —Верховного Владыки — есть благо. Потому, о лучший из мудрых, пощади меня, чтобы мог я уйти к святым местам, к которым стремлюсь. А если не будет мне пути на небо, это не огорчит меня, от всех наслаждений отрешившегося».
88—89. На это молвил Рагхава: «Да будет так!» И, обратившись лицом к востоку[335], он пустил стрелу, которая для Бхаргавы стала неодолимой преградой на пути в небесное царство, несмотря на добрые его дела. Затем Рагхава коснулся стоп великого подвижника и просил его о прощении — смирение перед побежденным врагом лишь умножает славу могучего.
90—91. «Самое поражение мое, поистине, обратил ты в милость ко мне, непорочным плодом которой стало очищение от качества страсти[336], унаследованного от материнского рода, и возобладание к отцу восходящего мира в душе. Я ухожу. Да не будет преград на пути твоем в осуществлении божьего дела» — с этими словами, обращенными к Раме с Лакшманой, он исчез.
92—93. После его ухода отец с любовью, словно заново рожденного, обнял победоносного сына. Для пережившего тяготу обретение радости — все равно что дождь для дерева, которому грозил лесной пожар. И после нескольких дней пути, разбивая всякий раз для ночлега красивые новые шатры, царь со свитою, подобный Шиве, вступил в Айодхью, где окна в домах расцвели лотосами — лицами дев, жаждущих взглянуть на дочь царя Митхилы.
Песнь XII УБИЕНИЕ РАВАНЫ
1—2. И наступило время, когда он, насладившийся всеми земными радостями и достигший преклонных лет, приблизился к угасанию, как на заре огонь светильника, в котором кончается масло и фитиль почти догорел. Старость, одетая в седину, словно предчувствуя исходящую от Кайкейи угрозу, стала нашептывать ему, чтобы доверил он свое Царское Счастье Раме.
3—6. Слух о возведении Рамы на царство обрадовал горожан, которые все его любили; как оросительный ров, прорытый, дарует цветение всем деревьям в саду. Но жестокая Кайкейи прервала приготовления к помазанию его, вызвав горькие слезы из очей царя. Гневная, она в ответ на умиротворяющие речи супруга потребовала два обещанных дара — то были словно две змеи, извергнутые из нор ниспосланным Индрою ливнем. Воспользовавшись одним из этих обещаний, она отправила Раму в изгнание на четырнадцать лет, вследствие же другого пожелала Царского Счастья для своего сына — счастья, не принесшего ей ничего, кроме вдовства.
7—9. Рама же сперва со слезами принял бремя царства, возложенное на него отцом, но потом выслушал с радостью повеление уйти в лес. С удивлением люди увидели, что нимало не изменилось выражение его лица, когда сменил он царский наряд из шелка на берестяные одежды отшельника. Не желая, чтобы отец его нарушил свое слово, он покинул дом вместе с Ситой и Лакшманой и вошел в лес Дандака[337], как и в сердце каждого добродетельного человека.
10—12. А царь, страдающий в разлуке с сыном, вспомнил о проклятии, которое навлек на себя по собственной вине. И он счел, что только смертью может искупить свой грех. Когда он умер, царство, из которого изгнан был наследник, должно было стать легкой добычей для врагов, всегда подстерегающих случай, чтобы воспользоваться чужой слабостью. Оставшись без государя, подданные воззвали к Бхарате, гостившему тогда у своего дяди по матери; за ним отправились наследственные советники царя, но не сразу поведали они ему горестную весть.
13—19. Когда же сын Кайкейи услышал о том, как умер его отец, он отвратился не только от матери своей, но и от царской власти. В сопровождении войска он отправился за Рамой; жители святых обителей указали ему путь в лесу, и он пролил слезы, когда завидел деревья, под сенью которых поселились Рама и Лакшмана. В том лесу на горе Читракута[338], где жил Рама, он рассказал ему о кончине их отца и просил его вернуться за Лакшми, Царским Счастьем, коего он еще не вкусил. Сам же Бхарата, приняв власть над землею, когда старший брат ее не принял, счел бы себя преступившим закон — не должен младший брать супругу раньше. Но Рама отказался нарушить веление отца, ушедшего на небо; тогда Бхарата попросил у брата его деревянные сандалии[339], дабы оставались они в его отсутствие покровительствующими божествами царства. На это согласился Рама и отпустил его. Но в Айодхью Бхарата уже не вернулся; пребывая в Нандиграме[340], он стал править царством как наместник старшего брата. Преданный ему и чуждый жажды власти, он поступил так во искупление зла, причиненного его матерью.
20—23. И так же в мире жил с братом и царевной Видехи Рама, питаясь дикими плодами леса; не взирая на юный возраст он соблюдал обет, который потомки Икшваку принимали обычно в старости. Когда случалось ему немного утомиться, он засыпал, бывало, положив голову на колени Сите в тени дерева, которая благодаря его божественной силе не перемещалась. Однажды пернатый сын Индры[341] сверху ринулся на Ситу и разодрал ей грудь когтями, словно из зависти к ее супругу, оставившему на ней следы любовных ласк. Рама, когда его разбудила любимая, пустил тростниковую стрелу в птицу, которая, мечась в воздухе кругами, все же избегла смерти, отделавшись потерей глаза.
24—27. Но Читракута была еще недостаточно далека от столицы, и, опасаясь нового посещения Бхараты, Рама покинул ту местность, где лани, преследующие его тревожным взором, льнули к нему, ища защиты. Он направился на юг, останавливаясь в пути в обителях гостеприимных отшельников, как поворачивает к югу солнце после пребывания среди созвездий поры дождей. И дочь владыки Видехи следовала за ним, словно то была сама Лакшми, Богиня Царского Счастья, плененная его достоинствами невзирая на сопротивление Кайкейи. Благоухание от освященного умащения, дарованного Сите отшельницей Анусуйей, распространялось по лесу, и пчелы слетались к ней, покидая цветы.
28—30. Демон по имени Вирадха, багровый, как тучи на закате, стал на пути Рамы, как недобрая планета на пути Луны. Он выхватил между братьями бывшую деву Митхилы, как засуха похищает дожди между месяцами шравана[342] и бхадрапада[343]. За то оба потомка Солнечного рода сокрушили его насмерть; потом, опасаясь, что зловоние от его трупа отравит местность, они закопали его в землю.
31. По совету Рожденного в горшке Рама поселился в лесу Панчавати[344], где жил, не преступая пределов его, как некогда гора Виндхья осталась в прежнем своем положении по велению того же мудреца.
32—33. Там пришла к Рагхаве младшая сестра Раваны, снедаемая любовной страстью, как приходит к сандаловому дереву страдающая от зноя змея. Открыв происхождение свое, она посваталась к нему прямо в присутствии Ситы; когда женщину одолеет страсть, она забывает о времени, приличном для ее проявления.
34—36. «О дева, у меня уже есть жена, избери моего младшего брата» — так молвил сладострастной могучий Рама. Но и тот отверг ее, раз обратилась она сначала к старшему; тогда она опять прибегла к Раме, как река, мечущаяся между обоими берегами. Пока она сохраняла кротость; но ее привел в ярость смех девы Митхилы — так луна поднимает волны на безмятежном в тихую погоду океане.
37—41. «Смотри, поплатишься ты за эту насмешку надо мною! Знай, ты ведешь себя, как лань, которая вздумала бы оскорбить тигрицу», — молвив так деве Митхилы, в страхе приникшей к своему супругу, Шурпанакха, Когтистая, приняла свой истинный облик, отвечающий ее имени. Лакшмана, внимавший ее речам, вначале сладкогласным, как пение кокилы, а потом ужасающим, как вой шакалицы, распознал ее злобный нрав. С обнаженным мечом он ворвался в хижину и тотчас увеличил уродство демоницы. Она взлетела ввысь и погрозила им оттуда пальцем с изогнутым когтем — твердым, как ствол бамбука, был ее палец, более подобный стрекалу погонщика слонов.
42—43. Достигнув вскоре Джанастханы, она поведала Кхаре[345] и другим, какое оскорбление нанес ей Рама, о новом унижении племени ракшасов, от него исходящем. И демоны выступили в поход против него; но то, что Когтистую с ее изуродованным лицом они выставили во главе войска, было для них дурным предзнаменованием.
44—50. Завидев дерзких, наступающих на него с оружием наготове, Рама поручил Ситу попечению Лакшманы, сам же положился на свой победоносный лук. Сын Дашаратхи был один, демонов же — тысячи, но в начавшейся битве им представилось, что у него столько же воинов, сколько у них. Честно сражающийся, не пощадил потомок Солнца посланного в бой злыми духами Душану, как не потерпел бы он, добродетельный, поношения от злоязычных. На него, Осквернителя, и на Кхару с Триширасом обрушил он поток стрел, слетавших с лука его одна за другой, словно в единое мгновение. Острые стрелы его, пронзив всех троих, остались чисты, выпив только жизнь из них, кровь же выпили стервятники. И вскоре уже никто из этого огромного полчища ракшасов, не поднимался с земли, кроме пляшущих обезглавленных трупов. Все воинство ненавистников богов, вызвавшее на бой Раму, сыплющего ливни стрел, наконец уснуло смертным сном под сенью крыл хищных птиц.
51—56. Все ракшасы были иссечены на части оружием Рагхавы, одна Шурпанакха осталась в живых, чтобы принести горестную весть Раване. Оскорбление, нанесенное сестре, и избиение родичей так разгневали Равану, как если бы Рама попрал ногою все десять его голов. Введя в обман обоих правнуков Рагху с помощью демона, обернувшегося оленем, он похитил Ситу; всего на миг сумел задержать его, напрягая все силы, властитель птиц[346]. Того коршуна нашли братья, когда отправились на поиски Ситы; умирающий, он отдал дань дружбы Дашаратхе. Перед тем как испустить дух, со сломанными крылами, он поведал им связной речью, что деву Митхилы унес Равана; смертельные раны на его теле рассказали о его отваге. Братья, чье горе об умершем родителе пробудилось вновь, почтили его всеми полагающимися обрядами, начиная с погребального костра, как бы они сделали это и для родного отца.
57—65. Следуя совету Кабандхи[347], которого он, убив, избавил от проклятия, Рама подружился с обезьяньим вождем, товарищем по несчастью[348]. Герой сразил Балина и отдал Сугриве давно желанную ему власть, как будто заменил корень в слове. Обезьяны по велению своего царя отправились в разные страны на поиски царевны Видехи, словно разбежавшиеся мысли томящегося по ней Рамы. Сын Ветра[349], получив весть о ней от Сампати[350], пересек океан, как минует мирскую юдоль отрешившийся от желаний. Обыскав Ланку, он нашел дочь Джанаки, охраняемую демоницами, подобную целебному растению среди ядовитых лиан. Обезьяний вождь отдал ей кольцо в знак того, что послан ее супругом, и освежающие слезы радости пролила она, его приняв. Утешив Ситу вестью от возлюбленного супруга, он воспрял духом после победы над Акшей[351], потом на время был взят в плен врагами и наконец поджег Ланку. Достигший успеха в своем предприятии, вождь, вернувшись, показал Раме бриллиант, который тот должен был узнать; словно воплотилось в нем самое сердце Ситы и пришло к нему по своей воле. Прижав его к груди, Рама закрыл глаза от радости, рожденной его прикосновением, словно, не касаясь груди любимой, испытал счастье ее объятий.
66—73. Услышав вести о своей возлюбленной, Рама воспылал таким желанием немедленно соединиться с нею, что великий океан, опоясывающий Ланку, показался ему не более неодолимым, чем крепостной ров. И он выступил ради сокрушения врага в сопровождении ратей обезьян, которые в пути заполонили не только землю, но и самый воздух. Он разбил стан на берегу океана, и туда пришел к нему Вибхишана[352], словно богиня счастья ракшасов вдохнула в него мудрость из любви к гибнущему племени. Рагхава обещал ему власть над бродящими в ночи; средства политики, примененные вовремя, всегда приносят плоды. Он повелел обезьянам построить мост через соленый океан — и подобен был тот мост великому змею Шеше, как будто всплывшему из подземного царства Расатала[353], чтобы стать ложем Вишну. Перейдя океан по этому мосту, он осадил Ланку войсками желтых обезьян, которые словно окружили ее другой золотой стеной. И ужасная битва началась там между обезьянами и ракшасами, и далеко вокруг разнеслись победные клики, обращенные к потомку Солнечного рода и к Пауластье. В той битве древесные стволы ломали железные палицы, камни разбивали молоты, раны от когтей были глубже нанесенных оружием и скалы сокрушали боевых слонов.
74—75. Ситу, лишившуюся сознания при виде обезглавленного Рамы, привела в себя Триджата[354], открывшая ей, что был то обман зрения. Она отринула горе, узнав, что супруг ее жив, но мысль о том, что она осталась жить, после того как поверила в его смерть, наполнила ее стыдом.
76—79. Недолгим, как сон, оказалось смертное забытье, в которое погрузило обоих сыновей Дашаратхи оружие Мегханады[355], — явление Гаруды лишило его силы. Потом Пауластья поразил копьем в грудь Лакшману — и сердце Рамы, хотя оно избежало удара, готово было разорваться от горя. Рану Лакшманы исцелил чудесный корень, принесенный сыном Ветра, и опять он взял на себя долг наставника в науке плача для женщин Ланки, науке, которую преподал он своими стрелами. Он заставил умолкнуть воинственный клич Мегханады, а лук его — исчезнуть с поля боя, как осень лишает тучу грома и блистательного лука Индры.
80—81. Царем обезьян изуродованный, подобно тому как изуродована была сестра его, обрушился на Раму Кумбхакарна[356], словно утес, с которого камнерез срезал красный реальгар. «Так люб был тебе сон твой, и не вовремя разбудил тебя твой брат!» — с этими словами Рама погрузил его в вечный сон.
82—86. И другие ракшасы обрушивались яростно на несметные полчища обезьян, словно тучи пыли, поднявшиеся на поле боя и оседающие на потоки их крови. Вновь вышел из своего дворца на битву Пауластья — он решил, что либо Раваны, либо Рамы лишится сегодня мир. Видя, что Рама сражается пешим, между тем как владыка Ланки нападает на него на колеснице, Индра послал герою свою колесницу, запряженную гнедыми конями. Опершись на руку божественного возничего, Рама взошел на ту победоносную колесницу, знамя на которой развевали ветры, прилетевшие с небесной Ганги. Матали[357] одел его в доспехи великого Индры — стрелы ненавистников богов бессильны были против них, как лепестки лотоса.
87—94. Долго длился бой между Рамой и Раваной, в котором оба успели явить свою отвагу, и не закончился он бесплодно. Уже не окружали младшего брата бога богатств[358] родичи; но так много было у него рук, и голов, и бедер, что по-прежнему казалось — все материнское племя сопровождает его в бою. Высоко ставил Рама врага своего, победившего хранителей стран света, почтившего Шиву жертвоприношением своих голов и подъявшего гору Кайласа. Пауластья же, разъяренный, глубоко вонзил стрелу в его правую руку, трепетавшую в предвестии воссоединения с Ситой. Стрела, пущенная Рамой в ответ, пронзила грудь Раваны и вошла в глубь земли, словно она хотела принести благую весть змеям. И так обменивались они друг с другом ударами оружия, точно речами во время диспута, и все больше каждый жаждал одержать победу в этом бранном споре. Как двое ярых слонов, приблизившиеся к холму с обеих сторон, как бы владеют им совместно, так для обоих воителей удача в бою стала словно бы общей, ибо каждый попеременно являл в нем свою доблесть. И тучи стрел, которые посылали они друг в друга, не давали просыпать на них цветочные дожди богам и асурам, восхищенным — каждый из станов подвигами своего героя.
95—96. Ракшас метнул тогда свою грозную палицу, усаженную железными шипами, — он обрел ее в войне, и она подобна была адскому дереву бога смерти. Стрелами с серповидными наконечниками Рагхава рассек ее на лету и поверг — вместе с надеждами божьих врагов — так же легко, как он срубил бы фиговое дерево.
97—100. И тогда несравненный лучник наложил на тетиву бьющую без промаха стрелу Брахмы — то единственное средство, которое могло извлечь из сердца терзающий его шип тоски по люби-мой. Та стрела с пылающим острием, разделившаяся в воздухе на десять, подобна была телу великого змея с кольцом на клобуке. Должное заклятие было прочитано над нею, и мгновенно он снес ею весь ряд голов Раваны, так что они даже не успели почувствовать боли. И забагровели обрубленные шеи на теле демона, готовом рухнуть, как отражения солнца на заре, раздробившиеся в покрытых рябью водах.
101—102. В смятении духа не сразу уверовали в гибель демона небожители — хотя на глазах у них отсечены были его головы, — в страхе ожидая, не вырастут ли они снова. Но вот на главу противника Пауластьи, которой предстояло вскоре быть увенчанной царской короной, низвергся посланный богами ливень благоухающих цветов, а за ним устремились рои черных пчел, покинувших подобные стенам щеки мировых слонов, мускусом которых отягощены были пчелиные крылья.
103—104. Так выполнил Рагхава возложенное на него богами дело и опустил лук с ослабленной тетивою. Колесничий Индры простился с ним и увел ввысь запряженную тысячей коней колесницу, стяг на которой был иссечен стрелами Раваны, отмеченными его именем. А владыка дома Рагху, забрав свою возлюбленную супругу, очищенную огнем, и возведя своего дорогого друга Вибхишану на трон врага своего, взошел на прекраснейшую из небесных колесниц, которую завоевал своею дланью, и отправился в свою столицу в сопровождении Вибхишану, и сына Солнца, и сына Сумитры.
Песнь XIII ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ИЗГНАНИЯ
1. Тогда бог, носящий имя Рамы, поднялся на небесной колеснице в пределы той сферы, что служит распространению звука[359], — ее же покрыл он на заре времен своей стопою, — и, ведающий добро, окинув взором океан, он молвил негромко своей супруге:
2—15. «О царевна Видехи, взгляни на пенящийся океан, словно разрезанный надвое моим мостом, который протянулся до горы Малайя, как Млечный Путь протягивается по ясному осеннему небу, усыпанному блистающими звездами. Рассказывают, что предки наши еще расширили его, когда рыли землю в поисках жертвенного коня отца ради завершения обряда, коня, которого скрыл в подземном царстве мудрец Капила. Отсюда лучи солнца извлекают водный плод, здесь множатся сокровища пучины, он таит в себе огонь, питаемый водою, из него родилось дарующее усладу светило[360]. Далеко простирается он в десяти направлениях[361], и потому неопределимы ни природа, ни мера образа его, меняющегося от затишья до бури, как не поддаются определению природа и мера великого образа Вишну, вездесущего и меняющегося в различных состояниях. Погружающийся в сон йоги на исходе великой юги[362], возлежит на нем Первозданный Человек[363], после растворения миров воспеваемый первым творцом, восседающим в лотосе, растущем из его пупа. Когда Индра-сокрушитель отсек горам крылья, сотнями они искали убежища в том океане[364], как цари, преследуемые врагами, ищут его у справедливого и беспристрастного властелина. Чистые воды его, что взметнутся потопом в час кончины мира, служат пока покрывалом лика земли, подъятой некогда из глубин Первозданным[365]. С женами своими Океан обращается иначе, нежели другие, — искусный в лобзаниях губами-волнами, он пьет-целует реки, но и себя дает целовать им, без стеснения подставляющим ему уста. Посмотри на этих гигантских китов, в чьи разинутые пасти вливаются воды впадающих в океан рек вместе с обитающими в них рыбами, и бьют они потом вверх фонтаном из их ноздрей; посмотри на чудовищных крокодилов, плещущихся в пене прибоя, которая, обтекая их щеки, словно белыми султанами, вставленными в уши, их украшает. А эти огромные змеи, простершиеся на берегу, вдыхая морской ветер, неотличимы были бы от набегающих волн, если бы не бриллианты в их клобуках, еще ярче блистающие в лучах солнца. Волны смывают с отмелей раковины и швыряют их на коралловые рифы, цветом соперничающие с твоими губами, и, на коралловых ветвях застревая, они уже с трудом смываются обратно. Туча, пьющая воду из океана, тотчас закручивается вихрем над водоворотом, и кажется, что опять наступила пора пахтания вод горою. А берег соленого океана, темнеющий рощами тамал и пальм, выглядит издали как обод железного колеса, покрытый тонким слоем ржавчины по краю.
16—21. О прекрасноокая, ветер, веющий над морским побережьем, умащает лик твой пыльцой цветов кетака, словно он знает, что некогда ждать мне, жаждущему прильнуть к твоим губам, подобным плодам бимбы[366]. Вот быстролетная небесная колесница уже донесла нас до берега, на котором рассыпались жемчужины, выпавшие из раскрывшихся створок раковин, и рощи бетелей клонятся, обремененные плодами. О красавица с очами лани, взгляни, округлобедрая, океан остался позади, он уходит все дальше и дальше, и земля поднялась из него со своими лесами. Смотри, небесная колесница летит то по тропе богов, то по стране облаков, то в выси, где реют птицы; и в движении своем она, поистине, повинуется велениям моей мысли. В поднебесье ветер, напоенный благоуханием мускуса, источаемого слоном великого Индры, несущий прохладу тремя потоками текущей реки[367], осушает влагу на твоем лице в этот полуденный час. О милая, из любопытства ты высунула руку из окна колесницы и задела тучу, а она словно одела молнию-браслет на руку твою, как новое украшение.
22—25. Там, в Джанастхане, отшельники, одетые в рясы, зная, что избавлена их сторона от угрозы, возвращаются в давно заброшенные обители, каждый в свою, и начинают ставить новые хижины. Вот то место, где в поисках тебя я увидел браслет, который уронила ты с ноги-лотоса на землю, но он молчал тогда, горюя в разлуке с твоей стопою, а здесь, о робкая, безмолвные лианы указали мне из сострадания путь, которым унес тебя ракшас, протянув в том направлении свои ветви; и антилопы, забывшие о побегах травы дарбха, поведали мне, сбившемуся с пути, где ты, обратив к югу свои широко раскрытые глаза.
26—29. Вот вздымается к небу гора Мальяват[368], на склонах которой облака пролили свежие дожди на меня, проливавшего слезы разлуки. Здесь благоухание, исходившее от озер, освеженных потоками дождей, полураспустившиеся цветы кадамба и сладкозвучные крики павлинов были невыносимы для меня, разлученного с тобою; здесь тяжко было мне внимать раскатам грома из туч, отраженным эхом в горных пещерах, когда томили меня сладостные воспоминания о том, как, трепеща, бросалась ты, о робкая, в мои объятия; здесь мучительно мне было взирать на распустившиеся после ливней цветы кандали, подражающие красоте твоих глаз, когда их заволокло дымом от свадебного огня.
30—32. С огромной высоты мой взор достигает вод озера Пампа[369] с берегами, густо поросшими тростником, с едва различимыми отсюда стаями журавлей, и пробуждается былая грусть. Здесь, пребывая от тебя вдали, с тоской я взирал на пары неразлучных чакравак, стеблями лотоса заботливо питающих друг друга. А вот стройная ашока, склонившаяся на берегу озера, с гроздьями цветов, подобными твоим персям; ее пытался я обнять, приняв за тебя, вновь обретенную, и только Лакшмана удержал меня, сам проливая слезы.
33—35. Вот, заслышав звон золотых колокольчиков в выемках на кузове воздушной колесницы, поднимаются в небо от реки Годавари, словно встречая тебя, стаи журавлей. А вот и лес Панчавати, радующий мое сердце, — так давно я его не видел! — здесь взрастила ты молодые деревца манго, из полных кувшинов поливая их водою усердно, нежного тела своего не щадя; здесь черные антилопы, завидев нас, поднимали головы и устремляли на нас взоры; здесь, в уединении, в беседке из лиан на берегу Годавари, вернувшись с охоты, засыпал я, помнится, положив голову тебе на колени, и свежий ветерок, веющий от волн реки, прогонял мою усталость.
36—37. Вот место, которое избрал некогда для своей земной обители тот мудрец[370], которому стоило только нахмурить чело, чтобы низвергнуть Нахушу с трона Индры, и который обладает способностью очищать помутившиеся воды. Когда я вдыхаю запах дыма, поднимающегося столбом к тропе небесных колесниц от трех священных огней и напоенного благоуханием жертвенных возлияний, совершаемых тем мудрецом, чья незапятнана слава, — душа моя озаряется, очищаясь от качества страсти.
38—40. Вот, гордая дева, прелестное озеро, называемое Панчапсарас[371], берег которого избрал для отдохновения мудрец Шатакарни; рассказывают, что когда-то, странствующий среди оленей и питающийся лишь побегами травы дарбха, мудрец этот попал в западню красоты пяти апсар, посланных Индрою, которому внушило тревогу его подвижничество. Там, в его чертоге, скрытом под водою, музыка звучит непрестанно, и даже здесь, в комнатах верхнего яруса Пушпаки, отдаются эхом доносящиеся оттуда звуки литавр.
41—44. А там обитает другой отшельник, именем Сутикшна[372], ведущий воздержанную жизнь. Жестокому умерщвлению плоти предается он, стоя между четырьмя огнями, поддерживаемыми жертвенной пищей, в то время как бог солнца, несомый семью конями, пятым огнем опаляет его чело. Его, смутившего покой Индры, не могли, однако, совратить чары небесных дев — тщетно обращали они к нему трепетные взгляды и улыбки и под различными предлогами приоткрывали пояски на бедрах. Правую руку он простирает к нам, приветствуя меня, — этой рукой обычно гладит он ланей и обрывает острые концы стеблей куши, а другая у него всегда подъята. На мое приветствие он ответил легким кивком, соблюдая обет молчания, и опять обратил свой взор к лучезарному солнцу, которое уже не заслоняет от него наша воздушная колесница.
45-46. А это пустынь Шарабханги[373], святое убежище, где долго поддерживал он жертвенный огонь дровами и наконец отдал ему свое тело, освященное мантрами. Теперь приходящих странников приветствуют здесь деревья пустыни, которые можно счесть добродетельными отпрысками мудреца; дающие прохладную тень, в которой путник избавляется от усталости, они славятся своими плодами.
47—49. А там, о гибкая дева, взор мой приковывает гора Читракута[374]; рев водопадов отдается эхом в ее ущельях, облака громоздятся на ее вершинах, и она подобна зебу, из нутра которого вырывается гулкое мычание и на рогах застряли хлопья ила, вырытого на речном берегу. Внизу, близ горы, извивается река Мандакини, струящая свои чистые и прозрачные воды; издали она кажется совсем тонкой, словно жемчужная нить, украшающая грудь земли. И там, у горы, я вижу благородное дерево тамалу, с которого сорвал я когда-то благоуханный цветок, ставший украшением для твоей серьги, как ячменный колос, блиставший на твоей бледной щеке.
50—53. А вот священная роща Атри[375], предназначенная для подвижничества, — там дикие звери укрощаются помимо страха кары, там деревья рождают плоды, минуя пору цветения, тем являя великую мощь провидца. Там Анусуйя[376] ради омовений подвижников заставила протекать Гангу, реку трех потоков, что стала лентой в венце Треокого бога, — руки Семерых провидцев касаются на небе ее золотых лотосов. И деревья там над алтарями, где отшельники предаются созерцанию, приняв позу воина[377], застыли неподвижно в безветрии, словно погрузились в созерцание тоже. Там же высится баньян, называемый Темным[378], к которому когда-то прибегла ты с просьбой о помощи; покрытый плодами, он похож на гору изумрудов, смешанных с рубинами.
54—58. Взгляни, о дева со стройным станом, вот река Ганга, в течение которой вторгаются волны Ямуны; здесь она выглядит как ожерелье из жемчугов, чередующихся с затмевающими их изумрудами, там — как гирлянда, в которой белые лотосы сплетаются с голубыми; в одном месте она — как вереница лебедей, стремящихся к озеру Манаса вперемешку со стаей серокрылых гусей, в другом — как поверхность пола сандалового дерева с узором из листьев, выложенным черным алоэ; там она — как дорожка лунного света, испещренная тенями, там — как белое облако осенью, сквозь которое просвечивает синее небо; а в некоторых местах она подобна телу Шивы, умащенному золою и обвитому черными змеями. -Люди, очистившие души омовением в этих водах —— где сливаются воедино две супруги Океана, — даже и не постигшие высшую истину, по смерти уже никогда не ввергнуты будут в узы плоти.
59—63. А вот уже город владыки нишадов[379], здесь, сняв венец, я завязал волосы узлом, как подобает отшельнику, и Сумантра[380] начал тогда рыдать, восклицая: „О Кайкейи, ты добилась своего!" Вот река Сараю — достойные доверия люди говорят, что она вытекает из озера Брахмы[381], где пыльцой золотых лотосов умащаются жены якшей, как Непроявленное[382] проистекает из Осознания; с жертвенными столбами по берегам, она струит свои воды мимо нашей столицы, воды вдвойне священные, ибо великие цари рода Икшваку вступали в них ради омовений, сопутствующих жертвоприношению коня; ее почитаю я всей душою как кормилицу всех царей Северной Косалы, взлелеянных на песчаных берегах ее и вспоенных как молоком ее водою. Это — та самая река Сараю, разлученная тогда же, как и мать моя, со старым царем, отцом моим; уже издалека она раскрывает мне свои объятья, приветствуя меня налетающим от ее волн прохладным ветром.
64—67. Багровое, как вечерняя заря, поднимается от земли облако пыли там, впереди. Я думаю, это Бхарата, которому Хануман принес весть о нашем возвращении, вышел с войском нам навстречу. Несомненно, он, праведный, вернет мне царскую власть, которую верно охранял в мое отсутствие, — ведь я не отступил от данного отцу обещания, — как некогда Лакшмана оберегал тебя, пока я не вернулся, сразив в бою Кхару и других врагов. А вот и сам Бхарата в бедной одежде отшельника с дарами в руках идет в сопровождении престарелых советников — впереди наш родовой жрец Васиштха, а войско осталось сзади. Провозглашенный наследником, он ради меня не принял царской власти от нашего отца, хотя она легко давалась ему в руки. Блюдя тягчайший обет отречения, он не посягнул на нее все эти годы».
68—71. Когда молвил это сын Дашаратхи, небесная колесница, повинуясь его воле, поведанной ей покровительствующим божеством[383], спустилась с пути планет на глазах у изумленного народа, последовавшего за Бхаратой. Тогда Рама, опираясь на руку искусного в услужении царя обезьян, сошел с колесницы по мраморной лестнице, опустившейся до земли; Вибхишана шел впереди, указывая ему дорогу. Чистый душою и телом, он поклонился духовному наставнику рода Икшваку и, приняв почетные дары, со слезами радости обнял брата Бхарату, склонившего перед ним голову — голову, помазания которой на царство он не позволил из любви к Раме. Потом Рама благосклонно принял старых советников, отпустивших длинные бороды, делающие их похожими на баньяны со свисающими корнями.
72—73. «Это - царь медведей и обезьян, который был мне другом в час невзгоды, а это — отпрыск рода Пуластьи, в битвах всегда сражающийся в первых рядах» — так представил их с почетом Рагхава, и Бхарата приветствовал их, миновав Лакшману. Потом он обратился к сыну Сумитры[384] и склонил голову к его ногам. Тот поднял его и заключил в объятья, прижав к груди, что стала жестче от шрамов, нанесенных оружием Индраджита, отчего даже больно стало встретившейся груди.
74—75. Потом предводители обезьяньих ратей, приняв человеческий облик по желанию Рамы, воссели на спинах больших слонов, словно на горах, — потоки мускуса, ниспадающие сверху, напоминали им горные водопады. А властитель ракшасов и его спутники взошли на колесницы, подаренные им сыном Дашаратхи, — и оказались они красивее их собственных, хотя и созданных волшебством.
76—78. После этого Рагхава в сопровождении двоих своих братьев поднялся опять на небесную колесницу, и она взлетела, движущаяся по воле возничего, с флагами, развевающимися по ветру, — так владыка звезд восходит вечером на небо среди облаков при трепетном блеске молнии, сопровождаемый Будхой[385] и Брихаспати[386]. Там Бхарата приветствовал счастливую дочь царя Митхилы, освобожденную Рамой из тяжкого плена десятиглавого демона, — так Владыка миров избавляет землю от потопа, так сияние луны избавляется от завесы туч по миновании поры дождей. Он пал в ноги дочери Джанаки, и волосы на голове праведного, спутанные, как у старшего брата, коснулись прекрасных стоп ее, стойко отвергавшей домогательства владыки Ланки, — и те, и другие освящены были этим соприкосновением.
79. Еще полкроши[387] следовала Пушпака, замедлившая свой полет, за возвращавшимися горожанами, и наконец благородный потомок Солнца опустился в большом саду на окраине Сакеты, где уже были поставлены шатры по приказу Шатругхны.
Песнь XIV ОТРЕЧЕНИЕ ОТ СИТЫ
1—4. И оба сына Дашаратхи, вернувшиеся из изгнания, встретились с матерями своими, которые поникли после смерти супруга, как увядают лианы, после того как срублено дерево, дававшее им приют. Когда склонились перед ними блистательные герои, победившие своих врагов, они даже не могли рассмотреть их из-за слез, застилающих глаза, и только прикосновение, радостное сердцу, сказало им, что перед ними их сыновья. И как тающие снега Хималая, сойдя в согретые летним зноем воды Ганги и Сараю, охлаждают их, так жгучие слезы горя, что проливали обе вдовы, сменились облегчающими душу слезами радости. Исполненные сострадания, они касались перстами шрамов от ран, нанесенных оружием нечисти, на телах сыновей, словно они еще были свежи, и не нужно им было звания матери героя, столь желанного для супруги кшатрия.
5—6. «Перед вами злосчастная Сита, принесшая горе своему супругу!» — с такими словами приветствовала с равным почтением обеих цариц их сноха, памятуя, что свекор ее пребывает на небе. «Встань, дочь моя, не ты ли, напротив, своею добродетелью охранила супруга и брата его в том тяжком испытании, которое выпало им на долю!» — так отвечали они с искренней любовью той, что заслужила благое обращение.
7—9. Затем престарелые советники совершили обряд помазания на царство над тем стягом рода Рагху; воды для обряда из святых мест доставлены были в золотых кувшинах, но начат он был раньше того слезами радости цариц-матерей. Голова победоносного Рамы окроплена была водою, которую от рек, озер и морей принесли вожди ракшасов и обезьян, — так тучи орошают дождями вершину горы Виндхья. И царское облачение столь блистательного и в бедном рубище отшельника, ничего, казалось, не добавило к его красоте.
10—12. В сопровождении наследственных советников, ракшасов и обезьян, он вступил с войском под бой барабанов в столицу своих предков к радости собравшегося народа — улицы ее были украшены триумфальными арками и из окон белостенных домов низвергались на них ливни цветов. Он ехал на колеснице со своими младшими братьями — помахивая двумя опахалами из хвостов яков, овевал его Шатругхна, Бхарата держал зонт над его головою, и вместе они являли собою как бы живое воплощение четырех средств государственной политики. Облако от воскурений алоэ стлалось по воздуху, вылетая из окон дворца, и, разносимое ветром по воздуху, оно представлялось косою, которую столица-жена распустила[388] по случаю возвращения внука Рагху из лесов.
13—14. Складывая руки в ладони, делая так, чтобы их было видно из окон, приветствовали девы Сакеты супругу героя рода Рагху, которую несли в паланкине, одетую свекровями в красивое платье. Умащенная вечными румянами, что были дарованы ей Анусуйей[389], распространяющими сияние вокруг, она, казалось, опять представала в пылающем огне, посредством которого ее супруг доказал ее невинность народу.
15—20. Своих друзей дружелюбный Рама поместил в роскошно убранных домах, а сам вошел со слезами на глазах во дворец, хранящий еще жертвенные приношения его отца — но от него в нем остался лишь портрет на стене. Там он, утешая удрученную мать Бхараты, молвив ей, сложив в ладони руки: «Матушка, ведь, если подумать, в том, что отец наш не уклонился с пути, ведущего на небо, — твоя заслуга». Сугриву, Вибхишану и спутников их он потешил произведениями человеческого искусства, которые повергли в изумление даже их, привыкших творить всякие чудеса единым желанием. Он воздал почести божественным мудрецам, пришедшим приветствовать его, и они поведали ему повесть о свершившемся, начиная с рождения поверженного им врага, — повесть, раскрывавшую все величие его подвига. А когда удалились суровые подвижники, Рама распрощался и с вождями ракшасов и обезьян, которые среди развлечений не заметили, как прошло полмесяца; из рук самой Ситы получили они богатые дары. А Пушпаку, этот цветок небес, — ему стоило только пожелать, чтобы иметь ее в своем распоряжении, — отобранную у врага богов вместе с его жизнью, он отдал Пушпаку опять владыке Кайласы[390].
21—23. Так, проведя в изгнании годы, определенные велением отца, Рама обрел свое царство и делил власть над ним с младшими братьями, как с Законом, Пользой и Желанием. Ласковый по природе, он выказывал равное почтение матерям своим, как некогда предводитель воинства богов[391] равно приникал шестью ртами своими к сосцам шести вскормивших его Криттик. При нем, чуждом скаредности, стал жить богато народ, под его защитой люди могли свершать обряды беспрепятственно, и его заботою обрели в нем отца подданные, беспечальные благодаря ему, как сыну.
24—25. Уделив должное время народным нуждам, он предавался радости уединения с дочерью властителя Видехи, и казалось — сама Лакшми, жаждущая быть с ним, приняла прекрасный образ Ситы. И когда в дворцовых покоях они созерцали картины, изображающие их скитания в лесах Дандаки, даже былые невзгоды будили в них счастливые воспоминания.
26—28. А когда побледнел лик Ситы, как трава сара[392], и сияющие очи ее стали еще прекрасней, безмолвно поведав о ее беременности, великую отраду обрел в ней ее супруг. Она похудела и перси ее изменили цвет. Тогда однажды, посадив ее на колени, счастливый муж спросил ее, нет ли у нее какого-нибудь особенного желания. И она пожелала опять посетить рощи обителей на берегах Ганги, где земля устлана травою куша, где лесные животные приходят к хижинам кормиться приношениями дикого риса, где юные отшельницы были в те годы ей подругами.
29—30. Пообещав исполнить ее желание, герой рода Рагху в сопровождении приближенных взошел на кровлю своего дворца, касающуюся небес, чтобы с высоты бросить взгляд на Айодхью, счастливую под его правлением. И приятно ему было видеть главную улицу города с богатыми лавками, корабли под парусами на реке Сараю и сады на окраинах столицы, где веселые горожане развлекались в обществе юных дев.
31—32. Он, лучший из красноречивых, праведный, чьи мощные руки подобны были царственным змиям, победивший самого могучего врага, спросил тогда своего соглядатая Бхадру, какие речи он слышал в народе о своем царе. В ответ на настойчивые расспросы, тот отвечал неохотно: «Все деяния твои восхваляют горожане, о владыка людей, кроме одного — что принял ты к себе царицу после пребывания ее в чертоге ракшаса».
33—36. В самое сердце поразил супруга Ситы этот удар, как удар молота по раскаленному железу, — ибо невыносимо ему было бесславие, бросающее тень на его жену. Пренебречь ли ему этим оскорбительным для него поношением или покинуть невинную супругу свою — не зная, какое решение принять, он пребывал в смятении и мысль его колебалась, словно на качелях. Но, убедившись, что ничем другим не может быть предотвращено бесчестье, как только отречением от супруги, он все-таки решился это сделать. Те, для кого добрая слава превыше всего, готовы отречься от собственного тела, не говоря уже о земных радостях. Удрученный, он призвал младших братьев, чье благое расположение духа исчезло, когда они увидели, как изменился он. И он рассказал им о недобром известии и молвил им такие слова:
37—42. «Видите, как запятнал я род царственных мудрецов, происходящий от Солнца и прославленный своей чистотой и праведностью, — так затмевает поверхность зеркала ветер, насыщенный водяными парами. Я не могу потерпеть, чтобы распространялась эта клевета среди народа, как пролитое в воду масло по волнам, — могучий слон ведь не потерпит привязи. Чтобы предотвратить бесчестье, я откажусь от дочери владыки Видехи, несмотря на то, что близок срок рождения дитяти, как отказался я когда-то от власти над опоясанной морями землею по велению моего отца. Я знаю, что она невиновна. Но недовольство народа значит для меня больше. Народ ведь и тень земли на чистом лике месяца объявляет пятном. Не напрасно удалось мне убить ракшаса, ибо было это ради отмщения обиды. Разве из кровожадности жалит разъяренная змея поправшую ее ногу? По всему этому вы не должны противоречить моему решению из сострадания царице, если вы хотите, чтобы вырваны были из сердца моего шипы бесчестья и дни мои продлились».
43. На эти непреклонные и жестокие слова государя, решающие судьбу дочери Джанаки, никто из братьев не посмел возразить, но никто не мог и согласиться с ними.
44—45. Тогда обратил взор на Лакшмаиу старший брат его, чья слава была воспета в трех мирах, и, рекущий истину, ему, назвав его дорогим братом, такой отдал особый приказ: «Твоя невестка уже высказала мне желание беременной — она хочет посетить лесные обители; возьми же ее под этим предлогом на свою колесницу, отвези к обители Вальмики и там оставь».
46—50. По велению отца нанес Бхаргава[393] смертельный удар родной матери — зная об этом, Лакшмана повиновался старшему брату; ибо веления старших надо исполнять беспрекословно. На колеснице, запряженной ретивыми конями, которою правил Сумантра, он отправился в путь вместе с Ситой, с радостью принявшей весть о поездке. Любуясь красотою тех мест, по которым они проезжали, она радовалась мысли, что ее супруг всегда поступает согласно ее желаниям; и неведомо ей было, что из волшебного дерева счастья он обратился в адское с листьями-ножами. Лакшмана пока скрывал от нее великое несчастье, которое ей предстояло пережить, но предостерег ее внезапный трепет в правом глазу — уже не доведется ему видеть прекрасный образ ее супруга! И бледность покрыла ее лицо, подобное лотосу. Опечаленная недобрым знамением, она мысленно молилась о благополучии царя и его младших братьев.
51—52. Повинующийся воле старшего брата, помышлял сын Сумитры о том, чтобы оставить в лесу добродетельную жену его, — но тут, словно воспрещая ему это, преградила им путь дочь Джахну, вздымая к нему руки-волны. Возничий остановил коней на песчаном берегу, и Лакшмана помог невестке сойти с колесницы. На крепкой лодке, предоставленной им рыбаком-нишадом, сын Сумитры переправился с Ситой через Гангу и тем словно выполнил трудноисполнимое обещание.
53—55. Тогда он голосом, прерывающимся от перехвативших горло слез, с трудом подбирая слова, произнес повеление царя — словно каменный дождь обрушился из зловещей тучи. И Сита, как лиана, сорванная внезапно ветром-обидою, упала, роняя цветы-украшения, на землю, что произвела ее на свет. Но не приняла ее тогда земля в свои недра — она как будто не хотела верить, что праведный муж, отпрыск рода Икшваку, мог покинуть жену свою без причины.
56—57. Пока она была без сознания, она не чувствовала боли, но когда усилия сына Сумитры помогли ей прийти в себя, будто огнем опалило ей душу; и явь была для нее мучительней обморока. Благородная жена, она не сказала дурного слова о супруге, отрекшемся от нее без ее вины, но снова и снова проклинала себя как грешницу, обреченную на вечное страдание.
58—67. Младший брат Рамы постарался утешить ее, добродетельную супругу. Указав ей путь к обители Вальмики, он пал ей в ноги, восклицая: «Прости мне мою жестокость, государыня, подневольный, исполнял я веление владыки!» Сита подняла его и сказала такие слова: «Я довольна тобою, дорогой брат, да живешь ты долго. Как Вишну Индре, ты верен был своему старшему брату. Поклонись всем свекровям моим в должном порядке и скажи им, что я ношу во чреве дитя их сына, пусть пожелают они мне блага. И передай мои слова царю: „Достойно ли рода твоего и знания закона из-за людской молвы отречься от меня, очищенной от вины огнем в твоем присутствии? Но нет, не должно мне подозревать в жестокосердии тебя, благомыслящего. Это — возмездие за грехи, совершенные мною в прошлом рождении, поразило меня теперь как громом. Это из-за того, что раньше ты ушел в леса со мною, оставив Лакшми, Богиню Царского Счастья, тебя избравшую, — потом, когда я поселилась в твоем доме, она из ревности не могла потерпеть моего присутствия там. Некогда милостью твоею я могла оказывать покровительство женам отшельников, которым угрожали бродящие в ночи, — у кого же мне теперь, меж тем как ты живешь и здравствуешь, искать защиты? Не распроститься ли мне с несчастной жизнью моею, лишенной смысла из-за постоянной разлуки с тобою? Но препятствует мне в том твой ребенок в моем чреве, нуждающийся в заботе и охране. После рождения дитяти я предамся умерщвлению плоти, устремив неподвижный взор на солнце, чтобы в будущей жизни ты остался моим мужем неразлучно. Защита сословий и возрастов есть долг царя, предписанный ему Ману. Поэтому даже изгнанной ты должен дать защиту мне, как и другим отшельникам"».
68—69. Обещав передать ее слова, младший брат Рамы оставил ее. И когда он скрылся из глаз, она закричала во весь голос, как испуганная скопа, от чрезмерности своей душевной муки. Павлины прекратили свою пляску, деревья обронили цветы, а лани — пучки травы куша, которую жевали, — в лесу безутешно заплакали, разделяя ее горе.
70—71. Этот плач заслышал певец, вышедший собирать траву куша и дрова, тот самый, чей горестный возглас при виде птицы, пронзенной охотником, сложился в стих[394]; и он пошел на звуки плача. Сита, перестав плакать и вытерев слезы, застилавшие ей глаза, приветствовала его. Видя, что она беременна, мудрец благословил ее, пожелав ей рождения доброго сына, и так сказал ей:
72—78. «Внутренним сосредоточением я прозрел истину и знаю, что, уязвленный лживой людской молвою, твой муж отрекся от тебя. Не печалься же, царевна Видехи, ты пришла к дому отца в другой стране. И пусть он избавил три мира от злодея, пусть верен он своим обетам, пусть чужд хвастовства — я гневаюсь на старшего брата Бхараты, поступившего с тобою жестоко без причины. Преславный свекор твой был моим другом, твой отец — избавитель добродетельных от тяготы мирской юдоли, а ты — первая среди жен, почитающих мужа как единственное божество, как же мне не проникнуться сочувствием к тебе? Живи, не ведая страха, в этой лесной обители, где хищников укрощает миролюбие отшельников. Все очистительные обряды, полагающиеся по рождении твоего дитяти, будут совершены здесь, когда ты разрешишься от бремени. В реке Тамаса[395], избавляющей от тьмы, берега которой, с расположенными на них хижинами отшельников, не безлюдны, ты совершишь омовение, и душа твоя обретет покой, когда на тех песчаных берегах принесут жертву цветами и зернами. Дочери мудрецов будут собирать для тебя плоды и цветы, даруемые временем года, и зерна дикорастущих злаков для жертвоприношений и веселой болтовней своей будут отвлекать тебя от твоего горя, пока оно еще свежо. И взращивая молодые деревца обители, поливая их из нетяжелых для тебя кувшинов, ты испытаешь, несомненно, материнскую любовь еще до того, как родится у тебя сын».
79—82. С благодарностью она прибегла к нему, и Вальмики, чье сердце было исполнено сострадания, отвел ее в свою обитель, где вечером лани отдыхали близ алтарей и лесные звери пребывали в мире, чуждые тревоги. Он поручил ее, удрученную горем, заботам отшельниц, обрадованных ее приходом, как в ночь новолуния поручается травам последний отблеск луны, поглощаемый душами предков[396]. Вечером, после того как она была принята с почестью, ей отвели хижину, где горел светильник, заправляемый ореховым маслом, и ложе было устлано священной оленьей шкурой. И она поселилась там и жила, питаясь лесною пищей, в ожидании рождения дитяти своего супруга, носила берестяную одежду, совершала очистительные омовения и строго следовала предписаниям, принимая гостей обители.
83—84. А победитель Индраджита поспешил в столицу, жаждущий видеть, не раскаялся ли царь в своем решении. Он рассказал старшему брату о том, как выполнил его поручение, поведав и о сетованиях Ситы. Тотчас Рама залился слезами, как месяц, проливающий росу в месяц пауша[397]. Убоявшись сплетни, он изгнал ее из своего дома, но не из своего сердца.
85—86. Но подавил горестное чувство мудрый властитель и, бодрствующий, надзирая за сословиями и возрастами жизни, изгнав из души воздействие страсти, он продолжал править вместе с братьями своим процветающим царством. И Лакшми, пребывающая теперь с ним в теснейшем союзе, после того как он изгнал свою единственную супругу, невзирая на ее добродетель, воссияла, словно избавившись от соперницы.
87. Когда дошли до Ситы слухи о том, что после ее изгнания Победитель Десятиглавого не взял себе другой жены, что не расстается он с ее изображением, совершая обряды, — безмерно тяжело было ей выносить неодолимое горе изгнания.
Песнь XV ВОСХОЖДЕНИЕ БЛАГОСЛОВЕННОГО РАМЫ НА НЕБО
1—3. Оставив Ситу, правил владыка земли всею землею, опоясанной океаном, хранилищем сокровищ. Однажды пришли к нему отшельники, обитающие на берегах Ямуны, с просьбой о защите от демона Лаваны, нарушающего их благочестивые обряды. Зная, что Рама защитит их, они не стали убивать демона, пользуясь собственным могуществом; только когда нет иной защиты, прибегают подвижники к своему оружию — проклятию.
4—5. Потомок Солнечного рода обещал им уничтожить препятствия для жертвоприношений; ведь ради защиты священного закона и явился на землю Носитель Рогового лука[398]. Они же сообщили Раме, как можно убить врага богов: «Лавана непобедим, вооруженный своим трезубцем, ты должен захватить его врасплох, когда он будет без него».
6—7. Тогда Рагхава повелел Шатругхне принести им избавление, дабы имя его соответствовало своему значению[399]. Ибо любой из потомков Рагху, будучи грозою врагов, способен был противостоять их силе, как исключение из правила противостоит его применению.
8—11. И когда старший брат благословил его, бесстрашный сын Дашаратхи взошел на колесницу и отправился в путь, наслаждаясь в дороге красотой лесной страны, где деревья стояли в цвету, распространяя в воздухе чудное благоухание. Войско, которое последовало за ним по приказу Рамы, поставленной цели служило, как приставка к корню служит для придания слову нового смысла. Мудрецы указывали дорогу блистательному Шатругхне, следуя впереди его колесницы, как следуют валакхильи[400] впереди колесницы Солнца по его пути. Дорога привела его к лесной обители Вальмики, где олени подняли головы, заслышав издали стук его колесницы; там он остановился на ночлег.
12—13. Провидец принял с почетом царевича, чьи кони утомились в пути, ради гостеприимства прибегнув к чудесной силе, даруемой подвижничеством. И в эту самую ночь невестка гостя, что была на сносях, разрешилась от бремени, родив двух прекрасных близнецов, воплотивших в себе совершенство, как земля рождает царю столь же совершенные сокровищницу и войско.
14—17. Сын Сумитры рад был услышать о рождении у брата потомства. На следующее утро, со сложенными в ладони руками поклонившись мудрецу на прощание, он запряг лошадей в колесницу и продолжил свой путь. Когда он достиг Мадхупагхны[401], демон, рожденный из чрева Кумбхинаси, как раз вернулся туда из леса с ношею убитых им животных, словно с данью, из того леса исторгнутой. Серый, как дым погребального костра, издавая зловоние, словно от возлияний жира на огонь, с красными, как языки пламени, волосами, в сопровождении кровожадных бесов, подобных стервятникам, он предстал, словно поднявшийся с кладбища. Видя, что при нем нет трезубца, брат Бхараты тотчас напал на него; ибо успех сопутствует тем, кто умеет воспользоваться слабым местом противника.
18—23. «Видно, сам творец, побоявшись, что не хватит мне пищи, добытой сегодня, послал мне тебя на счастье» — с этими словами, грозя Шатругхне, демон, жаждущий убить его, вырвал из земли большое дерево, словно это была травинка мусты[402]. Он метнул дерево в Шатругхну, но на полпути рассек его на куски острыми стрелами сын Сумитры, и только пыльца с цветов долетела до него. Когда было разбито дерево, ракшас метнул огромный камень, подобный кулаку бога смерти, отделившемуся от его десницы. Но Шатругхна поразил его оружием, заклятым именем Индры, и камень раздробился на частицы мельче мельчайших песчинок. Тогда бродящий в ночи подъял правую руку, уподобившись горе с одинокой пальмой на вершине, которую сдвинула с места небывалая буря, и обрушился на него.
24—25. Падение врага, чье сердце пронзила стрела, заклятая именем Вишну, сотрясло землю и избавило от трепета сердца отшельников. Стаи стервятников опустились на голову поверженного демона — ливни цветов упали с небес на голову его противника.
26—27. Убив Лавану, отважный Шатругхна понял, что, поистине, рожден он той же матерью, что и могучий брат его, чья слава воссияла после победы над Индраджитом. Подвиг его воспели отшельники, чьи желания теперь исполнились; и величественной и скромной одновременно была его радующая взор осанка.
28—30. Прекрасный обликом, равнодушный к мирским благам, Шатругхна, чьим украшением была его доблесть, основал на берегу Калинди[403] город, получивший имя Матхура. И благое правление его принесло такое процветание жителям города, что казалось — он заселен был блаженными, оказавшимися в избытке на небесах. Восседая в своем дворце, он любовался видом на Ямуну с берегами, усеянными чакраваками, так что выглядела она, как заплетенная коса Земли с золотыми подвесками.
31—34. Между тем мудрый творец мантр[404], который был другом и Дашаратхи, и Джанаки, совершил должные обряды для обоих сыновей Ситы, любящий их. При родах околоплодную влагу удалили травою куша и лавой — шерстью коровьего хвоста, — и потому певец нарек близнецов: Куша и Лава. Когда они подросли, он преподал им Веды и вспомогательные науки и научил их петь песнь, им сочиненную, — то было первое произведение такого рода. И оба они пели матери сладкогласную песнь, повествующую о деяниях Рамы, тем смягчая для нее горечь разлуки.
35. И у других троих правнуков Рагху, блистательных, как три жертвенных огня, чьи жены возвышены были союзом с такими мужами, родились по два сына у каждого.
36—41. Когда Шатругхна пожелал вернуться к старшему брату, он передал власть над Матхурой и Видишей двоим своим высокоученым сыновьям; одну получил Шатругхатин, другую — Субаху. По дороге в Айодхью он миновал обитель Вальмики, где тогда лани внимали, замерев, песням, возглашаемым сыновьями царевны Митхилы; но он не стал надолго отвлекать подвижника от обрядов. И Шатругхна, обуздавший страсти, достиг города Айодхьи, и на его празднично украшенных улицах с почтением взирали на него горожане, слышавшие о его победе над Лаваной. В зале совета он встретился с Рамой, окруженным придворными. После изгнания Ситы земля осталась единственной супругой государя. И как Индра приветствовал некогда Вишну после убиения Каланеми[405], так Рама с радостью принял победителя Лаваны. Когда же царь осведомился о его благополучии, Шатругхна отвечал, что благополучен во всем; но он умолчал о рождении царских сыновей, повинуясь воле первого из поэтов, который намеревался сам вернуть их отцу в должное время.
42—43. Пришел к вратам дворца некий брахман из деревни. В руках он держал мертвое дитя и горестно причитал: «О земля, достойна жалости твоя участь! Миновало благое правление Дашаратхи, власть перешла к Раме, и горше горького стало бедствие, что постигло тебя!»
44—45. Узнав о причине его сетований, устыдился Рагхава, защитник подданных, ибо не посещала еще царство потомков Икшваку безвременная смерть. Утешая горюющего брахмана и уговаривая его потерпеть немного, он помыслил о колеснице Куберы, возымев намерение одолеть сына Вивасвата[406].
46—47. Взойдя на колесницу, вооруженный, отправился в путь правнук Рагху. Но тут прозвучали в воздухе слова, произнесенные незримой Сарасвати, богиней речи: «О царь, некое преступление творится меж твоих подданных, узнай о нем и воспрепятствуй ему — и ты достигнешь цели».
48—50. Вняв этой речи, достойной веры, Рама объездил страну из конца в конец на колеснице, стяг которой оставался недвижен из-за необычайной ее скорости, с целью воспрепятствовать нарушению закона сословий. И увидел потомок Икшваку некоего человека, предававшегося умерщвлению плоти; он висел на древесном суку головою вниз, с глазами, покрасневшими от дыма костра, разведенного под деревом. Когда царь спросил его о его имени и происхождении, человек, вдыхающий дым, ответил, что зовут его Шамбука и он — шудра, вознамерившийся возвыситься до чина божества.
51—53. Царь понял, что его следует обезглавить, ибо он и есть причина бед, постигших народ, — нет у него права предаваться подвижничеству; и он поднял свой меч. Он снес его голову с бородою, опаленной искрами огня, словно цветок лотоса с тычинками, тронутыми морозом, с шеи-стебля. И эта кара, которой подверг его царь, возвысила шудру до чина праведника, которого он не достиг бы самым суровым подвижничеством, нарушив закон сословий.
54—57. В дороге властитель дома Рагху встретил могущественного Агастью, который явился перед ним, как ясный месяц на осеннем небе. Мудрец, рожденный в горшке, наградил его достойным божества украшением, которое сам получил некогда от выпитого им океана как выкуп за освобождение. Умершее дитя брахмана вернулось к жизни прежде, чем Рама возвратился в столицу с украшением на руке, что уже не обнимала стан царевны Мит-хилы. Брахман, вновь обретший сына, отказался от порицаний, которые он высказал прежде, и восхвалил того, кто умел защитить даже от бога смерти.
58—62. Рама отпустил на волю жертвенного коня, и как облака проливают обильно дожди на посевы, так демонские, обезьяньи и людские властители осыпали его богатыми дарами. Великие мудрецы пришли из разных стран по его приглашению, оставив ради него не только земные, но и звездные обители. Их разместили под открытым небом в предместьях города, и Айодхья с ее четырьмя вратами-устами предстала подобной четырехликому Брахме, окруженному сотворенными им существами. И даже отречение от супруги прибавило здесь Раме славы, ибо, не взявший себе другой жены, он пребывал теперь в восточном обрядовом шатре[407], где вместо нее был с ним только золотой образ Ситы. И начался обряд, которому предшествовали приготовления, еще более обширные и торжественные, чем предписывалось правилами. И ракшасы на этом жертвоприношении, обычно враждебные обряду, стали его стражами[408].
63—68. А между тем оба сына царевны Митхилы, Куша и Лава, по велению своего наставника пустились странствовать по свету и повсюду они пели Рамаяну, которую восприняли от сына Прачетаса[409]. Деяния Рамы, творение Вальмики, голоса их, подобные голосам киннар, — что еще нужно было, чтобы очаровать сердца слушателей? От сведущих ценителей услышал Рама о красоте певцов и их пения и призвал их, исполненный любопытства, чтобы вместе с братьями посмотреть их и послушать. И собрание, затаив дыхание, внимало их пению, и слезы текли по лицам слушавших, как утренняя роса выпадает в лесной местности, замершей в безветрии. Люди, видя, что во всем, кроме возраста и одежды, они подобны Раме, застыли на месте, не сводя с них глаз. И не столько искусство певцов поразило всех, сколько безразличие их к богатым дарам, которыми щедро осыпал их царь.
69—71. «Кто учил вас пению и кем эта песнь сложена?» — когда царь задал им этот вопрос, они назвали имя Вальмики. Тогда Рама с братьями отправился к сыну Прачетаса и предложил ему свое царство и все, чем владел, за исключением себя самого. Открыв Раме, что оба сына царевны Мит-хилы — его родные сыновья, добросердечный поэт выбрал как дар — возвращение Ситы.
72—73. «Отец мой, невинность твоей воспитанницы засвидетельствовало воочию испытание огнем, но здешние жители не верят в нее, зная о злом нраве демона. Поэтому пусть царевна Митхилы убедит их в безгрешности своей, и тогда по твоему велению я приму ее обратно вместе с сыновьями».
74—78. Когда царь обещал это, мудрец распорядился, чтобы ученики его доставили дочь Джанаки во дворец, как доставили ему исполнение желаний его благие свершения. И на следующий день, созвав горожан, чтобы объявить им о происшедшем, потомок Солнечного рода послал за поэтом. И мудрец пришел к блистательному Раме с Ситой и обоими сыновьями, словно к богу солнца, с молитвой и должной звучностью и верностью ее чтения. О чистоте ее свидетельствовал сам исполненный мира облик ее, одетой в коричневые одежды, опустившей очи долу. И все отвели глаза от нее и стояли, потупившись, как рисовые посевы в пору урожая.
79—80. И в присутствии ее супруга мудрец, восседавший на почетном месте, повелел ей: «О дочь моя, рассей сомнения людей в добродетели твоей». И Сита, испив святой воды[410], пролитой ей в ладонь учеником Вальмики, молвила истинно:
81. «Если не нарушила я ничем свой долг перед супругом, ни словом, ни делом, о благая Земля, опора вселенной, — прими меня в свое лоно!»
82—85. И едва произнесла эти слова праведница, разверзлась земля, и поднялся из нее молнией столп света, распространивший сияние вокруг. И посреди этого сияния явилась сама Богиня Земля, опоясанная океаном, восседающая на троне, который вздымал на своем клобуке вселенский змей. Она приняла в свои объятия Ситу, устремившую взор на мужа, и унесла ее с собою в подземный мир, прежде чем Рама успел воскликнуть: «О нет, не надо!» Разгневанный, он схватил лук и хотел заставить Землю вернуть ему Ситу, но его умиротворил наставник, ведающий силу судьбы.
86—91. По завершении жертвоприношения Рама отпустил мудрецов и друзей своих, почтив их должным образом. С той поры свою любовь к Сите он перенес на ее сыновей. Опора подданных своих, он отдал по совету Юдхаджита[411] во власть Бхарате страну, называемую Синдом, а также часть своих богатств. Там Бхарата победил в битве гандхарвов и принудил их оставить оружие и обратиться к своим музыкальным инструментам. Помазав на царство, когда пришло время, обоих своих сыновей, Такшу и Пушкалу[412], в городах, названных по их именам, он опять вернулся к Раме. И Лакшмана, повинуясь воле брата, сделал своих сыновей, Ангаду и Чандракету, властителями страны, называемой Карапатха[413]. Так эти владыки возвели на троны своих сыновей, а потом совершили, как должно, погребальные обряды для матерей своих, которые удалились в ту страну, куда раньше ушел их супруг.
92—93. И пришла к Рагхаве Смерть в обличье отшельника и сказала: «Сделай так, чтобы под страхом лишения жизни никто не смел услышать нашу беседу наедине». — «Да будет так», — согласился царь, и тогда отшельник открыл ему свое имя и поведал, что по воле Высшего Духа Рама должен теперь вернуться на небеса.
94—96. В это время явился ко дворцу мудрец Дурвасас[414] и потребовал у Лакшманы, стоявшего на страже у входа, чтобы его немедленно допустили к Раме, и тот из страха, что подвижник проклянет его, прервал беседу царя с гостем, хотя знал о поставленном условии. Искушенный в йоге, он удалился затем на берег Сараю, где покинул бренное тело, дабы не нарушено было обещание, данное Смерти старшим братом. И когда ушла на небо четвертая доля божества, Рама, как Закон, оставшийся на трех ногах[415], ощутил, что уже нетвердо стоит на земле.
97—99. Он отдал во владение Куше, что для врагов своих был, как анкуш для слона, Кушавати[416]; Лаве, красноречием заставлявшему проливать слезы благочестивых, отдал Шаравати[417]; и затем, стойкий духом, в сопровождении младших братьев отправился на север, неся перед собой жаровню[418]. Все жители Айодхьи из любви к своему государю покинули свои дома, чтобы сопровождать его. И обезьяны, и ракшасы, зная о его решении, следовали за ним по дороге, орошенной слезами провожающих, крупными, как бутоны кадамбы[419].
100—102. Небесная колесница была ниспослана Раме, он же, милостивый к своим почитателям, сделал для них реку Сараю лестницей на небо. И множество народу тогда вошло в воду, словно стада коров плавали там, и потому впоследствии место это, почитавшееся как святое, стало называться Гопратара, Коровий Брод. А когда соратники Рамы[420], обладавшие божественной природой, вновь обрели свой исконный образ, для горожан, ставших небожителями, господь сотворил отдельное небо.
103. Так Вишну, завершив порученное богами, обезглавив десятиглавого демона, возведя на троны на Юге и на Севере Владыку Ланки и Сына Ветра[421], как два столпа в горах на память о его славе, вернулся в свой образ, в котором он дает убежище всем сотворенным.
Песнь XVI ЖЕНИТЬБА НА КУМУДВАТИ
1—3. Тогда семеро доблестных царских сыновей рода Рагху избрали Кушу, старшего и рождением, и достоинствами, верховным правителем, коему полагалась лучшая доля во всем; ибо наследственной была в том роду братская любовь. Хотя самыми различными были их предприятия — преимущественно то было строительство мостов, сельское хозяйство, приручение слонов, — ни один из них не преступал границы отведенных ему владений, как моря не выходят за пределы своих берегов. От долей четверорукого бога[422] вели они свое происхождение; теперь их стало восьмеро продолжателей рода, чьи неиссякаемы были щедроты, как неиссякаем мускус у восьмерых первозданных слонов[423], возникших из священных песнопений.
4—6. Однажды в полночь Куша пробудился в своей спальне. Слуги спали, светильники горели неярко. Он же увидел в покое деву, которую никогда не видел ранее; она была одета как жена, разлученная с мужем, находящимся в дороге. Она приветствовала его пожеланием победы и, смиренно сложив руки в ладони, стала перед царем, победителем врагов, равным Индре отвагой, чьи богатства принадлежали добродетельным, чьи родичи были безраздельно преданы ему. Сын Рамы, изумленный, приподнялся на ложе и обратился к ней, вошедшей во дворец через запертые на засовы двери, как образ, вошедший на поверхность зеркала отражением:
7—8. «Ты вошла в дом сквозь запертую дверь, хотя непохоже, чтобы ты обладала силой йоги. Подобная лотосу, побитому холодом, ты являешь удрученный вид. Кто ты, красавица, чья ты жена? Зачем ты пришла ко мне? Расскажи мне, но помни, что мыслям потомков Рагху, обуздавших страсти, чуждо посягновение на любовь чужих жен».
9—22. Она отвечала ему: «Знай, о царь, я, безвинная, — я и есть то божество, что хранит город, лишенный ныне властителя и покинутый жителями которые все ушли за твоим отцом на небо, когда он оставил земную жизнь. Я, что некогда затмила Алаку богатством, явленным в празднествах, справлявшихся в городе постоянно по царскому указу, низведена до жалкого этого состояния теперь, при твоем правлении, о могущественный отпрыск Солнечного рода! В городе, покинутом царем, обрушились сотни кровель и башен, обветшали крепостные стены, и подобна я теперь солнцу на закатном небе, на котором бурный ветер разметал облака. На главной улице, где некогда ночами спешили на свидания юные горожанки, звеня блестящими браслетами, рыщут теперь в поисках падали шакалихи и завывают, оскалив пасти. Воды прудов, где плескались руки красавиц, развлекавшихся игрою в час купанья, мутят теперь рога диких буйволов. Ручные павлины одичали и переселились с поломанных насестов на деревья, замолкли звуки тамбуринов, под которые они плясали в былые времена, и выгорело от лесных пожаров их роскошное оперенье. На ступенях лестниц, некогда отмеченных следами женских ножек, выкрашенных лаком, отпечатались теперь кровавые лапы тигра, растерзавшего только что оленя. На стенах изображения слонов, купающихся в прудах и получающих в дар от слоних стебли лотоса, исцарапаны когтями разъяренных львов, которыми виски их разодраны, словно стрекалами. На дворцовых колоннах поблекли изображения женщин и стерлась краска, а на груди у них повисла вместо покрова сброшенная змеиная кожа. Стены домов, когда-то сверкавшие, как жемчуг, в лунном сиянии, теперь не светятся, почерневшие от времени и заросшие ползучими травами. Мои садовые лианы, цветы с которых срывали, осторожно пригибая ветви, игривые девы, растерзаны ныне лесными обезьянами и дикарями. Из окон не светят по ночам огни, и не выглядывают из них лица красавиц; их затянула паутина, и не вьется из них дымок. И грустно мне глядеть на воды Сараю, куда уже не попадают благовония во время омовений, и на берегах уже не свершаются приношения богам, и покинутые стоят тростниковые хижины. Поэтому надлежит тебе оставить эту обитель и вернуться ко мне, твоей наследственной столице, как оставил отец твой принятый им образ человека и вернулся в образ Высшего Духа».
23—24. «Да будет так», — согласился на ее зов достойный потомок Рагху, почувствовавший к ней благорасположение. И воплотившаяся воочию богиня-покровительница города, выразив радость на лике своем, — исчезла. На следующее утро царь рассказал об этом необычайном событии брахманам, бывшим при его дворе, и они поздравили его с тем, что наследственная столица сама избрала его своим владыкой.
25—31. Передав власть в Кушавати брахманам, знатокам Вед, царь с обитательницами женских покоев дворца выступил в день, благоприятный для путешествия, направляясь в Айодхью, сопровождаемый войсками, как ветер облаками. В пути войско было ему столицей с садами из стягов, с игральными горками-слонами и домами-колесницами. И текло то воинство потоком к прежней их стране, предводительствуемое царем под белым зонтом, как стремится океан к своим берегам в час прилива, словно предводительствуемый белым месяцем. И земля, изнемогая под тяжкой поступью царских ратей, словно возносилась в небо вторым шагом Вишну в виде огромного облака пыли. Войско растянулось по дороге, и видел ли кто-нибудь его полки в тылу, выступающие в поход, или головные части, уже становящиеся лагерем, или движущиеся в середине, ему казалось, что оно все перед его глазами. А истечения мускуса у слонов и удары конских копыт по дороге обращали пыль в грязь и грязь опять в пыль попеременно. Когда же войско разбилось на колонны, продвигаясь по долинам и склонам гор Виндхья, шум, поднятый им, отдавался эхом в горных пещерах, соперничая с шумом реки Ревы.
32—34. Меж тем как покраснели колеса царской колесницы от размолотых ими на горных дорогах минералов и грохот барабанов смешался с топотом идущей рати, властитель миновал горы Виндхья, бросив лишь благосклонный взгляд на дары, принесенные лесными племенами. В святом месте, где он переправился через реку по мосту из выстроившихся в ряд слонов, о который разбивались волны потока, стаи белых лебедей, поднявшиеся в небо, словно стали сами собою белыми султанами для царя. И он склонился к водам реки трех потоков, которые бороздили многочисленные суда, той реки, что возвела в обитель бессмертных его предков, чьи тела испепелил гневный Капила.
35—37. И еще через несколько дней, в конце своего путешествия Куша достиг берегов Сараю и увидел сотни жертвенных столбов на квадратных подножьях, установленных для царей рода Рагху, покровительствующих обрядам в своих владениях. Ветер, веющий от садов его наследственной столицы, нежно колеблющий цветущие ветви деревьев, коснувшись прохладных вод Сараю, приветственно встретил его и его утомленное войско. И могучий царь, знамя своего рода, гроза врагов и друг своих подданных, стал с войском лагерем с развевающимися стягами в окрестностях города.
38—40. Он призвал цехи мастеров, чтобы заново отстроить этот город, пришедший в запустение, для чего снабдил их всеми необходимыми материалами. После же отважный потомок Рагху устроил торжественный обряд новоселья с жертвоприношениями животных; жрецы, искушенные в такого рода обрядах, выдержав предварительно пост, совершили их по правилам для столицы, в которой воздвигнуты были великолепные храмы. Он же вступил в новый дворец, получивший наименование царского, как образ влюбленного входит в сердце возлюбленной; и всем приближенным своим он отвел в городе чертоги сообразно их сану.
41—42. И столица с рядами лавок, где выставлены были в изобилии товары, с конями в стойлах, слонами, привязанными к столбам в должных местах, выглядела, как дева, должным образом и уместно украсившая стан свой драгоценностями. И сын царевны Митхилы, пребывая в этой обители рода Рагху, восстановленной в прежнем своем великолепии, не променял бы ее ни на град царя небес, ни на чертоги владыки Алаки.
43—53. Потом наступило лето, словно для того только, чтобы милых его сердцу дев одеть в нарядные платья, усыпанные драгоценностями, белую грудь украсить жемчужным ожерельем и накинуть тончайшую шелковую ткань, колышущуюся от легчайшего вздоха. Солнце приблизилось с той стороны, что отмечена знаком Агастьи[424], а север растопил снега на вершинах Хималая, словно проливших хладные слезы облегчения. День возрос значительно вместе со зноем, а ночь столь же значительно истощилась; и оба подобны стали мужу и жене, ведущим себя противоположно друг другу вследствие ссоры, за которой следует раскаяние. Вода в городских прудах заметно убыла, обнажив нижние ступени спусков, покрытые мхом, отчего поднялись стебли лотосов, и доходила женщинам только до бедер. В лесах пчела опускалась на каждый бутон цветущей по вечерам лозы жасмина, распространяющей благоухание из раскрывшихся лепестков, словно задалась целью их пересчитать. И цветок сириса над ухом девы поник, хотя не выпал совсем, приклеиваясь лепестками к щеке, на которой свежие царапинки заливает потом. Богатые горожане укрывались от зноя летних дней в тени, возлежа на плитах из лунных камней, покрытых сандалом, которые орошались искусственными дождями из установленных в домах душевых приспособлений. И Кама, чья власть пошла на убыль с минованием весны, возвращал ее себе в девичьих волосах, влажных и распущенных после купания, в которые, умащенные благовониями, вплетались потом вечерние цветы жасмина. Протянувшийся с ветви побег арджуны[425], порозовевший от цветочной пыльцы, выглядел, как тетива на луке бога, живущего в душе[426], надломленном гневом Шивы, испепелившего его тело. Опьяняющим благоуханием сорванной ветки манго, и старого вина, и расцветшей бегонии лето искупает все свои прегрешения против племени влюбленных. В самую знойную пору лета двое становятся особенно любы людям — царь на троне, почитание стоп которого спасает от нужды, и месяц на небе, лучи которого несут с собой прохладу.
54—57. Однажды царь решил развлечься с юными девами купанием в водах Сараю, столь привлекательной летом, когда резвятся в ее волнах фламинго и цветут лианы в прибрежных садах. И он, равный Вишну сиянием, затеял игры там, достойные его богатства и величия, меж тем как были разбиты шатры по берегам и рыбаки выловили из воды крокодилов. Девы, спускаясь толпами к воде, звоном браслетов ножных и стуком сталкивающихся ручных вспугивали стаи фламинго в реке. Царь же сел в лодку, чтобы полюбоваться оттуда, как они будут резвиться в волнах, брызжа водою друг в друга; и он обратился к служанке Кирате, сопровождавшей его с опахалом из волос яка в руках:
58—67. «Посмотри, сотни дев из моих дворцовых покоев взволновали воды реки Сараю, которые смывают сандаловые умащения с тел и потому окрашиваются в различные цвета, уподобляясь облакам на закате. Волны, бегущие по воде от лодок, смывают сурьму с лиц моих дев, но та же вода возвращает им красу, зажигая огонь в их очах. Опьяненные игрою, они лениво шевелят в воде руками, украшенными браслетами, от тяжести бедер и грудей им трудно держаться на волнах. И цветы сириса, смытые из их ушей во время игры в воде, крутятся в плещущих волнах, обманывая рыб, которые устремляются к ним, принимая за съедобные водоросли. Самозабвенно плеща руками по воде, не замечают девы, что рвутся гирлянды на их шеях и спадают среди брызг, как жемчужины их груди осыпающих. Для них, игривых, здесь, на реке, под рукою все сравнения, призванные оттенить их красоту: водоворотов — с пупками, волн — с бровями, чакравак, летающих парами, — с персями. И плеск волн под ударами их ладоней сладкозвучно сочетается с их пением, и певучая слаженность эта становится еще полногласней, переплетаясь с мелодичным воркованием павлинов, вздымающих пышное оперение на берегу. Украшенные пояса, намокшие в воде, уже не звенят, слипшиеся на бедрах с шелковым платьем, подобные созвездиям, блеск которых затмился сиянием луны. И у дев, вздымающих руками, красуясь, фонтаны и получающих от подруг такие же ливни в лицо, вода потоками, порозовевшими от шафрана, стекает с прямых прядей волос. Во время игры в воде волосы у девы распустились, румяна смылись, жемчужные серьги повисли на нитях, выпав из ушей, но лицо ее при том все равно прелестно».
68—71. И царь с гирляндою, качающейся на груди, выбрался из лодки в воду и стал там играть с ними, как могучий лесной слон с приставшей к плечу вырванной лилией со слонихами. И вместе с блистательным властителем еще прелестнее выглядели эти девы. Жемчужины и сами услаждают взор, но насколько ярче блистают они в сочетании с лучезарным сапфиром! Любовно опрыскали его девы разноцветными водами из золотых шприцев, и он прекрасен был, как царь гор, омытый потоками вод, насыщенных минералами. И, купаясь в этой лучшей из рек со своими придворными девами, царь подражал играм Вождя Ветров[427], развлекающегося с апсарами в небесной Ганге.
72—76. И в то время, когда он там купался, он обронил в воду, не заметив того, браслет-талисман, подаренный некогда Агастьей Раме, который передал его потом Куше вместе с царством. Но когда, накупавшись вдоволь с женами, он вышел из реки и направился к шатру на берегу — одеваясь, он тут же обнаружил, что дарующий победу браслет исчез с его руки. Этой утраты он снести не мог — не из любви к драгоценностям, для мудрого царя они не дороже цветов, но браслет носил его отец и он даровал победу. Царь тотчас повелел всем искусным ныряльщикам из рыбаков искать пропажу. Они принялись нырять в воды Сараю, но поиски были тщетны и наконец, не выказывая на лицах усталости, они молвили царю: «Государь, мы старались как могли, но не нашли твое украшение, оброненное в воду. Наверное, обитающий здесь, в омуте, змей Кумуда похитил его из жадности».
77—81. Тогда лучник, натянув тетиву, с глазами, покрасневшими от гнева, вышел на берег и взял стрелу, заклятую именем Великого Орла[428], предназначенную для истребления змей. Но едва он наложил ее на тетиву, забурлила вода и взметнулись волны-руки над тем глубоким омутом и ринулись на берег. Страшный рев раздался, словно дикий слон попал в яму-западню. И из омута, распугивая крокодилов, поднялся царственный наг, неся перед собою деву, — подобный древу царя богов, поднявшемуся с Лакшми из океана во время пахтания. Владыка племен увидел, что он приближается с тем украшением в руках, чтобы вернуть его, и опустил орлиную стрелу; ибо праведные не упорствуют в гневе, когда вызвавший его проявляет покорность. Кумуда, ведающий мощь той стрелы, приветствовал, однако, с гордо поднятой головою Кушу, сына Владыки трех миров, грозящего врагам своей отвагой, того, чьей головы коснулась вода обряда помазания, и так сказал ему:
82—85. «Ведомо мне, что ты — лишь иной образ того, кто воплотился под именем сына земного Вишну; неужели стал бы я мешать развлечениям твоим, высокочтимый? Но эта юная дева, играя, забросила вверх мяч и в поисках его увидела твой талисман победы, низвергнувшийся, подобно метеору, и она взяла его из любопытства. Пусть же он опять украсит твою могучую руку, спускающуюся до колен, на которой отпечаталась прочно полоса от тетивы и которая служит железной преградой, замыкающей врата земли. И более того, о царь, да удостоишься ты принять эту младшую сестру мою, зовущуюся Кумудвати, которая желает искупить свой проступок долгим служением у ног твоих».
86—88. С этими словами Кумуда отдал драгоценность и вместе с родичами своими заключил брачный союз с царем, который назвал его своим досточтимым свойственником; следуя закону, он выдал за него деву-невесту, рода своего украшение. И когда во время свадебного обряда перед вздымающимся ввысь священным огнем жених взял ее руку со счастливым шерстяным кольцом на запястье, звуки небесных литавр раздались, разносясь до пределов земли, и чудесные облака в вышине пролили дожди дивно благоухающих цветов. Так породнился наг с сыном царевны Митхилы, родным сыном Владыки трех миров, а Куша — с ним, потомком Такшаки[429] в пятом поколении. Один избавился от страха перед сыном Винаты, враждебным ему из-за смерти своего отца, другой, любимый подданными, стал править страною, где змеи были неопасны людям.
Песнь XVII ЦАРСТВОВАНИЕ АТИТХИ
1—2. Кумудвати родила отпрыску Солнечного рода сына, названного Атитхи, как рождает мысли просветление последняя стража ночи. Он, несравненный, сын доброго отца, даровал славу и очищение как отцовскому роду, так и материнскому, как солнце несравненным сиянием своим озаряет как северный, так и южный свои пути.
3—4. Отец его, лучший из разумных, сначала преподал ему науки, наследственные в их роду, потом же просватал ему достойных царских дочерей. Высокородный, отважный, собою владеющий Куша в нем — благородном, храбром и владеющем собою — видел второго себя.
5—7. Однажды, следуя обычаю своего рода, Куша пришел на помощь Индре в войне с демонами, и в битве он сразил дайтью[430] Дурджаю, но и сам был им убит. И Кумудвати, сестра царя нагов Кумуды, последовала за ним, неразлучная, как лунное сияние с месяцем, отрадою лотосов. И он разделил престол с Владыкою небес, она же стала подругою Шачи, разделив с нею владение чудесным древом Париджата.
8—11. Тогда престарелые советники, памятуя последний наказ царя, отданный им перед уходом на войну, возвели на трон его сына. По их распоряжению мастера построили шатер на четырех столбах с возвышением внутри для обряда помазания на царство. Там Атитхи воссел на великолепном троне, окруженный советниками, и золотые кувшины были наполнены священной водою. И приятно рокочущий бой барабанов, начавшийся вместе с обрядом, предсказал долгое и ненарушаемое благополучие его царствованию.
12—16. Прежде устроен был для него обряд освящения оружия[431], на котором старшие родичи его совершили приношения молодыми веточками, корой баньяна и стеблями ячменя и полевицы. Затем брахманы, возглавляемые родовым жрецом, начали торжественную церемонию помазания, окропляя его священной водою с чтением мантр из Книги Заклинаний[432], приносящих победу, — ему же суждено было быть победоносным. И та чудесная вода, обильными потоками изливаемая на его голову, была светла, как многоводная Ганга, ниспадающая на главу Врага Трипуры[433]. Восхваляемый придворными певцами, он выглядел в тот миг, как туча, изливающая дождь и приветствуемая чатаками. И величие царя, когда омывали его эти воды, освященные могущественными мантрами, проявлялось еще ярче, как молния, сверкающая сквозь потоки дождя.
17—20. По завершении торжеств посвящения на царство, он одарил всех молодоженов в городе — достаточно, чтобы они могли совершить для себя все должные обряды и заплатить жрецам. Но благословения, которые они, благодарные, на него призывали, ничего не могли прибавить к плодам тех добрых дел, что совершил он еще в прошлом своем существовании. Он повелел срезать узы с заточенных и выпустить их на свободу, помиловал осужденных на казнь, распорядился дать отдых вьючным животным и дойным коровам. И даже попугаи и другие птицы, содержавшиеся в клетках, были выпущены летать по воле.
21—26. Во дворе своего дворца, где для него поставлено было покрытое тканью чистое сиденье из слоновой кости, слуги облачили его в царские одежды. Прислужники с чисто вымытыми руками одели на него также различные украшения; в волосы его, подсушенные благовонными воскурениями, они вплели жемчужные нити и цветочные венки и украсили их ярко сияющими рубинами; его тело умастили сандалом и благоуханным мускусом и желтой краской вывели на нем узор из листьев. В шелковом одеянии с изображениями фламинго, с венцом на голове и разнообразными украшениями, он блистал красотою, как жених, обрученный с невестой — Царской Властью. И когда он посмотрелся в золотое зеркало, он предстал в нем со всеми украшениями, блистательный, как волшебное древо в сиянии солнца на вершине горы Меру.
27—29. Со знаками царского достоинства в руках, в сопровождении придворных, следовавших за ним на почтительном расстоянии и певших ему хвалу, он прошел в свои чертоги, не уступающие великолепием чертогу бессмертных на небесах. И он занял место на царском троне своих предков, осененном балдахином, — подножие его истерто было драгоценными каменьями в венцах других царей. И оснащенный предметами, сулящими счастье, большой зал дворца, любезного сердцу Шри, где пребывал он на троне, блистал, как грудь Кешавы[434], уснащенная талисманами и отмеченная знаком Шриватса с драгоценным камнем Каустубха посередине.
30—36. Обретший высшую власть едва выйдя из отроческого возраста, он воссиял, как воссиял бы полумесяц, вдруг ставший полным после новолуния. Его, чей лик всегда был благосклонным к приближенным и чьей речи, к ним обращенной, всегда предшествовала улыбка, они почитали воплощением доверия. И когда он, могучим станом подобный Индре, на слоне, силой равном Айравате, проезжал по улице, осененной стягами, как волшебными деревьями, город словно обращался во второе небо. Он был единственным, чью голову осенял белый царский зонт, ярко блистающий и смягчающий видом своим горе страны, утратившей прежнего государя. Пламя поднимается от костра вслед за дымом; лучи следуют восходу солнца; но он, превосходящий природу светил, воссиял всеми своими достоинствами одновременно. Прекрасные горожанки преследовали его своими взорами, которые светились любовью, как осенние ночи светлеют от блистающих созвездий, следующих за Полярной звездою. И божества Айодхьи, почитаемые в просторных храмах, благосклонно взирали на него, их милость заслужившего, очами своих статуй.
37—41. Прежде чем высохла священная вода на алтаре обряда помазания, его неодолимое могущество достигло пределов земли на морских берегах. Было ли тогда что-нибудь на земле, чего не могли бы достигнуть в единстве советы мудрого наставника Васиштхи и стрелы великого лучника? Друг добродетельных, он ежедневно сам с чрезвычайным тщанием разбирал запутанные дела истцов и ответчиков, возбуждавшие сомнения, которые требовали незамедлительного и точного решения. А что до просьб приближенных, скорое исполнение их они всегда могли предвидеть по тому, как милостиво он их выслушивал. Подданные, умножая состояние свое при его покровительстве, как реки прибывают в месяц шравана, достигали потом совершенного благополучия, как те же реки — многоводья в месяц бхадрапада.
42—57. Изреченное им никогда не было ложным; дарованное он никогда не отбирал обратно; единственный обет он нарушал — искоренения врагов, когда, победив их, возвращал им их владения. Можно законно гордиться юностью, красотой, богатством, но, хотя обладал он всеми этими достоинствами, они не наполняли его духом высокомерия. Как посаженное в землю дерево прочно укореняется в ней, так и этот государь, едва посажен был на царство, начал с каждым днем все глубже укореняться в сердцах своих подданных, исполняющихся все большей преданности ему; и тем он стал непобедим. А поскольку внешние враги были далеко и редко себя проявляли, он начал с того, что победил шесть внутренних врагов[435] в себе самом. И Богиня Царского Счастья, ветреная по природе, к нему пристала прочно, как золотая черта на пробном камне. Осторожность часто переходит в трусость; храбрость может повести путем, приличествующим диким зверям; он же в политике своей искал успеха в объединении той и другой. Ничто в стране не избегало его бдительного надзора, из конца в конец он освещал ее своими лучами-соглядатаями; так солнце видит все на земле, когда взор его не застилают облака. И все, что полагается делать государю в различные часы дня и ночи, он, чуждый сомнений, соблюдал неукоснительно. Каждый день он держал совет со своими советниками, но двери были закрыты надежно, и какие бы решения ни принимались, они не разглашались никогда. Хотя соблюдал он часы сна, но оставался постоянно бодрствующим благодаря соглядатаям своим, подосланным им и к врагам, и к друзьям, ничего друг о друге не знающим. Крепости его были неприступны, но врагов он готов был встретить в чистом поле — ведь не из страха отлеживается в горной пещере лев, гроза слонов. Его предприятия, имеющие целью процветание страны, всякий раз глубоко обдуманные и потому безошибочные, приносили плод незаметно, как посевы риса шали, созревающего внутри кожуры. Достигнув могущества, никогда не сбивался он на ложный путь, как и в час прилива только через устье реки сливает с нею воды океан. Хотя любое возмущение среди подданных он мог тотчас подавить, никогда не делал он того, что могло бы побудить его к этому. Хотя был он могущественным властителем, в поход он ходил только на доступных покорению — так лесной пожар, хотя и в союзе с ветром, на воды не посягает. Никогда не нарушал он долга ради богатства или страстей, но и не жертвовал закону пользой или желанием, не упускал пользы ради желания и не отказывался от желания ради пользы, блюдя справедливость относительно всех трех целей жизни.
58—75. Если друзей унижать, они не отплатят благодарностью, если возвысить чрезмерно, они замыслят мятеж, и потому в отношении дружественно настроенных соседей он всегда придерживался умеренности. Точно оценив военную силу, свою и врага, обстоятельства, сроки и прочее, он только тогда вторгался в его владения, если уверен был в своем превосходстве, иначе —— улаживал дело миром. «Царя почитают по казне его» — мысля так, он скопил несметные богатства; ведь только обремененное дождем облако станут приветствовать чатаки. Разрушая замыслы врагов, он осуществлял свои неуклонно; нанося врагам удары в уязвимые места он тщательно скрывал от них свои. Огромное войско царя, обуздавшего страсти, которое непрестанно увеличивал его отец, превосходно обученное владению оружием и предназначенное для войны только, было для него неотделимо от него же самого, так же воспитанного и обученного и посвятившего жизнь долгу воина. Врагу не отобрать было от него его тройную силу — мощь, отвагу и заклятие, — как не отобрать у змея драгоценного камня на его клобуке[436]; он же эту силу мог перетянуть от врага себе, как магнит — железо. В его царствование караваны миновали горы свободно, словно собственные дома, переправлялись через реки, как через ручейки, путешествовали по лесам, как по садам. Ограждая подвижничество от нарушений, а имущество — от грабителей, царь получал шестую долю доходов от обителей, как и от различных сословий, в соответствии с их возможностями. И земля воздавала ему достаточно за свою защиту, драгоценные камни приносили ему копи, зерно — поля, слонов — леса. Он, мужеством равный Шестиликому[437], был искушен в использовании шести средств политики[438] и шести родов войск[439] ради достижения поставленных целей. Прибегая к четырем обычаям царского правления[440], опираясь на восемнадцать облеченных саном[441], он постоянно добивался успеха. Богиня победы, всегда благосклонная к герою, устремлялась к нему, как влюбленная дева, ибо он сражался честно, хотя и знаком был со всякими военными хитростями. И враги сломлены были его доблестью, и уже не стало у него поводов выходить на бой; так слон во время течки уже издали отпугивает других слонов запахом мускуса, истекающего у него из висков. Месяц убывает, достигнув полноты, как и океан после прилива, он же, им подобный, ущерба уже не ведал. Обнищавшие благочестивцы шли за вспомоществованием к великому царю, как облака, истощившие дожди, к океану. Не творил он дел, хвалы не достойных, и все же не любил восхвалений, но слава царя, отвергавшего славословящих, все равно возрастала. Истребляя зло уже явлением своим, он рассеивал тьму невежества светом истины и даровал народу волю, как освобождает от гнета ночи взошедшее солнце. Лучи месяца не трогают дневные лотосы, как солнце не ублажает ночные лилии, достоинства же этого добродетельного царя находили отклик даже в сердце противника.
76—80. Чтобы устроить жертвоприношение коня, он возжелал завоеваний, но, хотя и было то притеснением для соседей, праведность его не умалилась. Так, обретя верховенство на пути, указанном шастрами, он стал царем царей, как Индра — царем богов. И называли его в народе — по сходству долга — пятым хранителем мира, шестым элементом мироздания[442], восьмым из великих горных хребтов[443]. Другие цари принимали его эдикты, покорно склоняя голову под отставленным зонтом, как принимают боги веления Индры. А по завершении великого жертвоприношения он одарил жрецов так щедро, что имя его стало как бы вторым именем бога богатств.
81. Индра посылал дожди в изобилии; Яма не дозволял распространяться болезням; Варуна устранял опасности на водных путях; Кубера, почитая предков царя, умножал его казну. Так хранители стран света служили ему, подобно покоренным его войсками вассальным царям.
Песнь XVIII РОДОСЛОВНАЯ ПОТОМКОВ
1—3. Царю Атитхи, к злодеям нещадному, родила жена, дочь Артхапати, царя нишадхийцев, сына, величественного, как гора Нишадха[444]; и по имени той горы его нарекли Нишадха. И отец весьма радовался доблестному сыну, способному охранить подданных от бедствий, как люди радуются посевам, обещающим богатый урожай после своевременного выпадения дождей. Насладившись чувственными радостями этого мира, сын Кумудвати передал на долгий срок царский титул своему сыну Нишадхе, а после того обрел небесное царство, которое заслужил деяниями своими, чистыми, как белые лотосы.
4—7. Внук Куши, чьи очи были подобны лотосам, чья мысль была глубока, как океан, кто был несравненным воителем на земле, чьи руки были крепки, как засовы на городских вратах, правил землей, окруженной морями, осеняя ее единственным имперским белым зонтом. После его смерти его сын Нала наследовал, блистательный, царскую власть рода своего; ликом подобный лотосу, он сокрушил рати врагов, как топчет слон заросли тростников. Этот царь, чью славу воспели небесные странники гандхарвы, обрел сына, чей облик был темно-голубым, как небо, чье имя было — Небо, Набхас, и кто мил был подданным, как месяц набхас[445]. Добродетельнейший царь передал могучему сыну власть над Северной Косалой, а сам удалился к оленям, достойным спутникам старости, чтобы уже никогда не возвращаться в телесные узы.
8—13. У царя Набхаса родился сын Пундарика, Лотос, неодолимый для других царей, как слон Пундарика[446] — для других слонов. После смерти отца Богиня Царского Счастья пришла к нему с белым лотосом, как некогда пришла она к лотосоокому богу. Царь Пундарика, чей лук не знал промаха, просил принять власть над землею сына своего Кшемадханвана, столь же усердного в заботе о благосостоянии подданных и стойкого в испытаниях, и предался, стойкий, суровому подвижничеству в лесах. И у того был богоравный сын, всегда возглавлявший свое войско в битвах, чье имя Деваника, означавшее — Бога Войско, было прославлено даже на небесах. И поскольку отец заслужил по праву такого сына, преданного ему беззаветно, ищущего милости его, то и о сыне можно было сказать, что он заслужил такого отца, столь доброго к своему сыну. Из них первый, не имевший равных в добродетели и преданности обрядам, возложил надолго бремя заботы о четырех сословиях на сына, который был достоин отца, а сам удалился в мир, принадлежащий преданным обряду. А сын его, владеющий собою, не только приверженцам своим, но даже врагам был любезен ласковой речью; ведь и пугливую лань приманит сладкозвучное пение.
14—19. Его сын Ахинагу правил землею, могучерукий и чуждый пагубных пороков с юных лет, ибо всегда избегал он общения с низкими. После смерти отца мудрый царь Ахинагу стал властелином четырех стран света, знающий людскую природу и искушенный в четырех средствах политики, словно то был Высший Дух[447], воплотившийся на земле. А когда этот победоносный царь отправился в иной мир, Лакшми стала служить его сыну Париятре, затмившему гордым величием своим гору того же имени[448]. У него же был сын Шила, благородный и несокрушимый, как скала. Он отразил вражье войско своими стрелами, но отверг потом даже хвалу за это деяние. Он, безупречный, насладился покоем, только объявив даровитого сына своего наследником царства, ибо чужда наслаждений жизнь царя, как жизнь пребывающего в оковах. И его, еще не насладившегося радостями, которые приносит страсть, и чувствительного еще к прелестям ветреных красавиц, забрала старость, сама равнодушная к наслаждениям и потому ревнующая напрасно.
20—33. У него был сын, прославивший свое имя Уннабха, наделенный небесной красотою; он, самому Вишну подобный, возглавил обширный круг царей. После него его сын Ваджранабха, отвагой равный Громовержцу — боевой клич его был подобен удару грома, — стал владыкою земли, украшенной россыпями сокровищ. Когда же он взошел на небо, которое обрел своими добрыми делами, земля до морских пределов вместе с дарами горных сокровищ перешла под власть его сына Шанкханы, искоренившего своих врагов. Когда же умер Шанкхана, его сын, блистательный, как солнце, и обликом подобный Ашвинам[449], взошел на трон своего отца; знатокам древности он известен под именем Вьюшиташва[450] — конницу свою он водил до морских берегов. Этот правитель земли умилостивил Всемогущего[451] и произвел на свет второго себя в образе сына своего, нареченного Вишвасаха, бывшего, поистине, всеобщим другом, способного охранить всю землю от беды. Когда же у него родился сын, названный Хираньянабха, в котором воплотился долею враг демона Хираньякашипу[452], он, искушенный в политике, стал неодолим для своих врагов; так деревья не могут противостоять огню, когда ему сопутствует ветер. Отдав долг предкам, почитая себя счастливым, в преклонные годы Вишвасаха посадил сына на царство, а сам, желая обрести вечное блаженство, облекся в мочальную одежду. У Хираньянабхи, бывшего украшением Солнечного рода, правителя Северной Косалы, извлекшего сок сомы на жертвоприношении, родным сыном был Каушалья, отрада очей для отца, воплощенный второй Сома. Царь Каушалья, чья слава достигла чертога Брахмы, возвел на свое место собственного сына Брахмиштху, постигшего суть Брахмана[453], и сам ушел в мир Брахмана[454]. И когда этот царь, который был венцом рода своего и сам имел добродетельного сына, правил благополучно и без гнета землею, запечатлевшей след его правления, подданные чтили его бесконечно со слезами радости на глазах. Его сын по имени Путра, лотосоокий, обретший достоинство в служении отцу, прекрасный, как бог, несущий на знамени Властелина Птиц[455], возвысил отца своего как первого среди воспитавших благочестивых сыновей. Отрешившийся от чувственных наслаждений, он, кому суждено было стать другом Индры, продолжатель рода, род свой утвердивший на земле омовением в Трех Озерах[456], приобщился к миру Тридцати[457]. Его супруга в день, когда на небе царило созвездие Пушья[458], родила сына, получившего имя Пушья. И когда он, блиставший ярче топаза, возвысился, словно второе созвездие Пушья, пышно расцвело благосостояние его народа. А благородный помыслами царь, отвратившийся от мирской юдоли, передав власть над землею сыну, посвятил себя служению мудрому Джаймини[459], постигшему тайну йоги, от которого он воспринял священное знание, освобождающее от новых рождений.
34—53. После этого сын Пушьи по имени Дхрувасандхи, поистине подобный Дхруве, Полярной звезде, стал править земным царством. К врагам, склонившимся перед ним, он проявлял неизменное миролюбие — оставаясь их владыкой и храня верность своему слову. Он, лев среди людей, оленеокий, предаваясь охотничьей забаве, принял смерть от льва, когда сын его Сударшана был еще дитя, обликом подобный месяцу по миновании новолуния. Сонм советников царя, ушедшего на небо, узрел жалкое состояние подданных, лишившихся государя, и единодушно провозгласил, согласно закону, властителем Сакеты того, кто остался единственной нитью, продолжающей род. И род Рагху при этом царе-дитяти, поистине, сравним был с небом, на которое взошел юный месяц, или с лесом, в котором остался одинокий львенок, или с озером, где плавает единственный бутон лотоса. Но раз уж принял он венец, народ смотрел на него как на равного отцу; облачко величиной со слоненка разрастается, когда дует ветер, и покрывает небеса. После венчания на царство горожане оказывали ему, шестилетнему, такие же почести, как отцу его, когда он проезжал по главной улице в роскошном облачении на слоне, на спине которого его поддерживал вожатый. Хотя он не занимал всего отцовского трона, величие сана его, блистательного, как золото, создавало впечатление, что он достиг нужного роста. Вассальные цари припадали к стопам его, марая свои драгоценные венцы красным лаком с его ног, хотя они свисали с трона не достигая его подножья. И как даже маленькому сапфиру яркий блеск его позволяет зваться сапфиром по праву, так и этому царю приличествовал титул махараджи, хотя он был еще дитя. И каждое веление, слетавшее с его уст, хотя щеки его, овеваемые опахалами из хвостов яков, обрамлялись еще детскими прядями, исполнялось беспрекословно по всей стране до берега моря. Тилак, нарисованный на челе его, осененном золотой диадемой, словно стер тилаки у жен врагов, как улыбка на его лице — улыбки на их лицах. Нежный, как цветок сириса, он утомлялся даже от ношения украшений, и в то же время природное величие помогало ему нести тягчайшее бремя правления государством. Стоило ему выучить все буквы алфавита, выведенные на доске, как он уже мог пользоваться всеми плодами науки государственного управления, которую преподали ему опытные в ней учители. Лакшми, не находя достаточно места, чтобы поместиться на его груди, ожидала, когда он подрастет, а пока, смущенная, отважилась лечь на нее лишь тенью от царского зонта. Рука его успешно охраняла землю, хотя еще не подходило ей сравнение с крепким брусом, не было еще на ней шрамов от тетивы и она еще не касалась меча. А с течением времени не только окрепли члены его тела, но и проявились его наследственные достоинства, любезные народу; вначале малозаметные, они обрели потом совершенство. Не доставляя огорчений своим наставникам, он легко постиг три главные науки — вероучение, науку хозяйства и науку управления — так, словно уже знал их в совершенстве с прошлого рождения, и возглавил совет наследственных министров. Обученный владению оружием, он выглядел блистательно, когда стоял, слегка вытянувшись, с завязанными узлом волосами, согнув левое колено и натянув тетиву лука до уха. И вот он вступил в пору юности —— мед для очей юных дев, цвет на древе любви, распустившийся на ветке страсти, природное украшение, в которое облекается все тело, вместилище любовных наслаждений. И юные царевны, которых приискали ему советники, заботящиеся о чистоте рода, еще более красивые, чем можно было судить по портретам их, доставленным заблаговременно свахами, присоединились к тем двум супругам, которые уже были у него — Царской Власти и Земле.
Песнь XIX ЛЮБОВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ АГНИВАРНЫ
1—2. В преклонные годы этот потомок Рагху, обуздавший страсти, из знатоков святого откровения не последний, возвел на трон сына своего Агниварну, исполненного огненного пыла[460], а сам удалился в лес Наймиша[461]. Поменяв бассейны для игр на воды святых мест, царское ложе — на подстилку из травы куша, дворец — на хижину, он предался подвижничеству без помышления о награде за него.
3—4. Сыну его управление царством, унаследованным от предков, не стоило большого труда, ибо отец утвердил его владычество на земле, разгромив врагов мощью длани своей — ради его спокойствия, не ради их подавления. И несколько лет этот сластолюбец сам вел дела государства, как то было в обычае его царского рода, но потом передал их в руки своих советников и посвятил свои юные годы безраздельно служению любви.
5—8. У него, сладострастного, окруженного сладострастными женщинами, празднество следовало за празднеством, одно роскошнее другого, в чертогах, оглашаемых звуками литавр. Даже одного мгновения не мог он прожить без чувственных наслаждений, и, проводя в своем дворце дни и ночи в беспрерывных развлечениях, он не хотел видеть никого из подданных, искавших у него аудиенции. И если, уступая настояниям советников, он соглашался показаться народу, желающему лицезреть его, он только высовывал для него ногу из окна дворца. И слуги кланялись и воздавали почести его ноге, окрашенной розоватым отблеском от его ухоженных ногтей, словно лотос, озаренный лучами восходящего солнца.
9—12. Поглощенный страстью, он проводил время в красивых искусственных водоемах, где лотосы покачивались на волнах, поднятых игривыми высокогрудыми девами, плещущимися в воде, под которой располагались покои для любовных развлечений. Там они всячески тешили его, плеща друг в друга водой, которая смывала сурьму с их глаз и розовую помаду с губ, так что они принимали естественный цвет. Потом вместе с ними отправлялся он в построенные для него питейные домики, влекущие сладким винным запахом, как слон с влюбленной слонихой устремляется к пруду, покрытому лотосами. И девы любили пить вино из уст его, пьянящее сильней, и он, уединяясь с ними, исполнял их желание и сам пил вино из их уст, жаждущий, словно дерево бакула во время обряда[462].
13—15. Две не покидали его колен, привыкшие постоянно здесь играть, — лютня, чьи звуки трогали его сердце, и сладкогласная подруга с томными очами. Он сам искусен был в игре на цимбалах, во время которой гирлянды и браслеты на нем тряслись и скользили, а пляшущие девы приходили в смятение и даже под надзором своих учителей танцев ошибались в движениях. Когда они в изнеможении кончали танцевать, он целовал их лица, на которых тилак стирался от пота, сам задыхаясь от страсти, и чувствовал себя тогда блаженней владык Амаравати[463] и Алаки[464].
16—17. Для ублажения своих страстей ему требовались все новые девы. Иногда он договаривался с ними через посредников, иногда сам отправлялся за ними. А когда он с ними наслаждался, старые любовницы иной раз портили ему развлечение неожиданным появлением. За обман девы грозили ему пальчиками, подобными нежным побегам, бросали негодующие взгляды из-под нахмуренных бровей, не раз связывали его своими поясками.
18—20. В ночи, предназначенные для любовных ласк, он подслушивал, бывало, спрятавшись в укромном месте, ведомом только служанке на посылках, жалобы жен, встревоженных его отсутствием. Иногда супруги задерживали его, меж тем как ему не терпелось вырваться к танцовщицам; он томился тогда в их обществе, чертя втихомолку фигуры любезных сердцу дев, пока стило не выскальзывало из вспотевших пальцев. Страстно любящие его царицы, ревнуя к другим женам, хвастающим предпочтением, которое выказывает им царь, подавляли, однако, обиду, и под предлогом какого-нибудь праздника добивались от супруга исполнения своих желаний.
21—24. Если он проявлял холодность к своим любовницам, он старался загладить вину, являясь к ним поутру с заискивающим видом, но облик его выдавал распутство минувшей ночи, и разочарованные им девы, оскорбленные его неверностью, огорчались опять. А когда ночью он произносил во сне имя соперницы, наложница без слов выражала свое возмущение, откатываясь от него, поворачиваясь к нему спиною, проливая слезы на одеяло, ломая в гневе свои браслеты. Иной раз он удалялся в беседку из лиан, где для него приготовлено было цветочное ложе, куда его сопровождали служанки; и он предавался там с ними любовным наслаждениям, трепеща, однако, в страхе, как бы не застигли его девы гарема. «Ты назвал меня именем своей возлюбленной, так я хочу разделить с нею ее счастье, страстно жаждущая твоей любви!» — так, бывало, обращалась к нему какая-нибудь из дев, когда он ошибался, путая их имена.
25—30. Ложе его, посыпанное коричневым шафрановым порошком, являло следы любовной игры, когда поднимался с него сластолюбивый царь, — порвавшиеся женские пояса и гирлянды валялись на нем, замаранном красным лаком. Он сам любил красить лаком стопы своих любовниц, только отвлекался непрестанно, устремляя взор на красивые бедра, на которых пояс не затягивал туго шелковое платье. И когда он, развлекаясь с юными девами, пытался поцеловать их в губы, они отворачивались шаловливо, отталкивали руку его, развязывающую пояс на бедрах, и всячески уклонялись от ласк его, разжигая только тем его вожделение. А когда дева гляделась в зеркало, рассматривая следы любовных ласк на своем теле, он в шутку подкрадывался сзади и появлялся вдруг в зеркале с нею рядом, улыбаясь умильно и заставляя ее прятать стыдливо лицо. А когда на исходе ночи он покидал ложе, дева требовала от него прощального поцелуя, обвивая его шею нежными руками, становясь носками на носки его ног. Сам же, глядясь в зеркало, юный царь не столько радовался роскоши царского одеяния, затмевающей наряд Индры, сколько выражению блаженства, красившему облик его.
31—34. Бывало, соберется он уходить под предлогом, что должен повидаться с другом по делам, — «Знаем мы тебя, плутишка, и уловки твои, чтобы улизнуть от нас», — поднимают крик девы и не пускают его, ухватив за волосы. Истомившиеся от излишеств любовной игры, девы засыпали на его широкой груди, с которой их пышные перси стирали сандаловую мазь при особенно тесных объятиях. Шел ли он ночью тайно на свидание — они выслеживали его, подсылая служанок, а потом, забежав вперед, преграждали путь: «Куда ты, милый, в темноте, неужели думал обмануть нас» — и утягивали в свои покои. Наслаждаясь ласками своих любовниц, словно лучами владыки звезд, он уподоблялся пруду, изобилующему белыми лилиями, бодрствуя ночью и засыпая днем.
35—36. Девы развлекали его музыкой, но трудно было им играть и на флейте — губы у них были им покусаны, — и на лютне — поцарапаны были бедра, — и они чаровали его лукавыми взглядами. А он их обучал тайком искусству танца, сочетающему телодвижения, выражение чувства и словесное сопровождение, а потом показывал их успехи перед друзьями, соревнуясь с признанными театральными постановщиками.
37—39. Осенью он, с гирляндами из цветов кутаджи[465] и арджуны[466] на плечах, умастив тело благовонной пыльцой кадамбы[467], затевал любовные игры на искусственных горках, на которых танцевали возбужденные павлины. Если ссорился он с любовницей и она отворачивала от него свой лик на ложе, он не спешил умиротворить ее, но ждал грома в облаках, который заставит ее повернуться в испуге и броситься в его объятия. А в месяц картика[468] ночами на верандах под навесами он наслаждался в обществе красавиц лучами луны на безоблачном небе, смягчающими усталость от любовных ласк.
40—42. Из окон дворца он любовался песчаными отмелями на реке Сараю, выступающими, как бедра, из вод; опоясанные стаями фламинго, они словно подражали игривым и манящим телодвижениям его возлюбленных. Шелестом надушенных благовониями шелковых платьев, в которые они одевались зимою, соблазняли его стройные девы и игрою золотыми поясами, и он устремлялся самозабвенно развязывать на них пояса и ленточки. В ветреные ночи уютные покои, удобные для его развлечений и укрытые от ветра, очами-светильниками со стен взирали на его безумные оргии.
43—46. Когда же южный ветер одевал деревья манго густой листвою и цветами, девы прекращали с ним любовные ссоры и всячески его старались улестить, страшась разлуки с ним, для них невыносимой. Тогда он садился на качели, а дев сажал себе на колени, и слуги их усердно качали; а девы отпускали веревки и, словно бы из страха упасть, тесней приникали к нему, крепко обнимая. И девы наряжались для него в летние одежды, умащая груди сандалом и украшая себя жемчужными ожерельями и жемчужными поясами, облегающими бедра. А он пил вино, настоенное для запаха на красных цветах бигнонии, с брошенными в него кусочками манговых веточек — от этого бог любви, изнуренный после ухода весны, обретал новые силы.
47—50. Так этот царь, всецело преданный удовлетворению своих страстей и забросивший все другие занятия, проводил времена года, каждое из которых запечатлевалось на его телесном облике. Несмотря на его пороки, другие цари не могли победить его, обладавшего высшим могуществом. Но недуг, порожденный страстью к любовным наслаждениям, начал постепенно пожирать его, как пожирает проклятие Дакши месяц[469]. Не слушая советов врачей, он не отказался от тех наслаждений, к которым был привержен, хотя обнаружились уже их дурные последствия, — увлеченные страстями на порочный путь с трудом его могут покинуть. Болезнь покрыла бледностью его лицо, убавила украшений на его теле, он теперь ходил, опираясь на слуг, голос у него пропал, и он исхудал, как влюбленный.
51—53. Царский род, глава которого страдает от недуга, подобен небу, на котором месяц убыл до последней доли, или пруду летом, наполненному вместо воды грязью, или светильнику, пламя которого обратилось в крохотный огонек. «Государь в эти дни, конечно, совершает обряд ради рождения сына» — так отвечали советники на расспросы встревоженных подданных, подозревающих, что с царем происходит недоброе, — его недуг они скрывали от народа. Не имея потомства, дарующего очищение, хотя и бывший супругом многих женщин, он стал жертвою недуга, против которого тщетны оказались усилия врачей; так огонь светильника бессилен против ветра.
54—57. Советники вместе с родовым жрецом, сведущим в исполнении последнего обряда, тайно предали его тело огню в саду его дворца. Они сделали это под предлогом совершения обряда отвращения зла от недужного. Потом, созвав незамедлительно старейшин, они передали царскую власть его законной супруге, у которой появились благие признаки беременности. И дитя во чреве ее было угнетено сначала жаром горьких слез, пролитых ею о супруге, но потом оживила его благодетельная прохлада от потока освященной воды, пролитой на ее голову из золотых кувшинов во время обряда помазания на продолжение рода. И царица вынашивала плод во чреве, как земля лелеет семена, посеянные в месяце шравана[470], ради блага подданных, которые ждали с нетерпением появления дитяти на свет. Восседая на золотом троне, царица правила царством своего супруга вместе с престарелыми наследственными советниками, следуя закону, и все ее веления исполнялись непреложно.
Примечания
1
Влияние Индии на европейскую литературу восходит к раннему средневековью, ко времени распространения по миру знаменитых сказочных циклов древнеиндийского происхождения, но только в новое время Запад оценил по достоинству, чем он обязан этой древней культуре.
(обратно)2
См.: Aurobindo. Kalidasa. A study of Kalidasa's age and his works. Calcutta, 1928. P. 8.
(обратно)3
Подробный обзор аргументов в пользу различных датировок жизни Калидасы можно найти в книге: Mirashi V. V. .ad Navkkar N. R Kalidasas Date, life and works. Bombay, 1969. P. 5-35.
(обратно)4
Согласно традиции, при дворе Викрамадитьи протекала деятельность поэтов Калидасы и Гхатакарпары, Дханвантари, автора медицинского словаря, лексикографов Амарасинхи и Кшапанаки, комментатора древних текстов Шанку, астронома Варахамихиры, грамматика и поэта Вараручи и некоего Веталабхатты, о характере творчества которого сведений не сохранилось. Но достоверно известно, что Варахамихира жил в VI в. н. э. (одна из немногих в истории индийской культуры дат, установленных довольно точно); а имя Вараручи упоминается уже в тексте II в. до н. э.
(обратно)5
См.: Upadhyaya Bh. S. India in Kalidasa. Allahabad, 1947. P. 360.
(обратно)6
Западные Кшатрапы были скифами по происхождению, и победа над ними Чандрагупты II согласуется с традицией, согласно которой легендарный Викрамадитья изгнал скифов из Удджайини. Калидаса в своих произведениях нигде не упоминает скифов; но царю Рагху он приписывает покорение Камарупы.
(обратно)7
См., напр., Радхакришна. Калидасасйа джанмабхух// Вишва-Самскргам, ,III № 4. С. 374-381 (с обзором различных теории).
(обратно)8
Толкование в духе дуалистической философской школы санкхъя. Мотив «языка жестов» распространен в индийском фольклоре, как и вообще в литературах Востока. Сцена диспута в рассказе о Калидасе напоминает сходный эпизод в «Пантагрюэле» Рабле; в самой индийской литературе еще больше сходства находим в сцене диспута Махосадхи и отшельницы Бхери в палийском романе «Повесть о большом подземном ходе» (см. рус. пер. в кн. «Повести о мудрости истинной и мнимой». Л., 1989. С. 490-491).
(обратно)9
Так полагают на основании того, что все три драмы Калидасы начинаются с обращения к Шиве во вступительном благословении. Высказывались, однако, сомнения в том, что эти традиционные благословения всегда принадлежат автору пьесы.
(обратно)10
Цит. по: Sastri К. S. Kalidasa: his period, personality and poetry. I. Srirangam, 1933. P. 91-92.
(обратно)11
См.: Devasthall G. V.. Majumdar В. С. The muse of Kalidasa// Indian inheritance. Vol. I. Bombay, 1955. P. 127.
(обратно)12
Мы можем спросить себя: какое представление сложилось бы у нас о жизни Моцарта, если бы мы были знакомы только с его музыкой?
(обратно)13
Впрочем, сторонники ранней датировки жизни Калидасы стараются доказать обратное хронологическое соотношение между обоими писателями и утверждают, что Калидаса влиял на Ашвагхошу.
(обратно)14
Сам Калидаса называет его в числе своих предшественников в прологе к своей пьесе «Малявика и Агнимитра»; в этом отношении по крайней мере мы стоим на твердой почве.
(обратно)15
Об этой проблеме см.: Гринцер П. А. Бхаса. М., 1979. С. 54-77. Автор ее, известный российский исследователь древнеиндийской литературы, безоговорочно приписывает Бхасе все 13 пьес.
(обратно)16
Джатака — своеобразный «жанр» древнеиндийской повествовательной литературы буддийской традиции, повесть об одном из бесчисленных прежних рождений Будды. (по закону кармы).
(обратно)17
См.: Гринцер П. А. Древнеиндийская проза (обрамленная повесть). М., 1963.
(обратно)18
Кроме того, до сих пор недостаточно изучено влияние на санскритскую классическую литературу современной ей тамильской, древнейшей из дравидийских литератур Юга Индии.
(обратно)19
См.: Krishnamacbariar At History of Classical Sanskrit literature. Delhi, ,970. P. 112-113.
(обратно)20
Как пишет в посвященной этой проблеме статье российский индолог С. Д. Серебряный, в отношении каждого индийского писателя, жившего до XIX в., «возникают... сложные вопросы атрибуции, т. е. вопросы о том, что именно из приписываемых ему произведении данный автор создал на самом деле» (Серебряный С. Д О некоторых аспектах понятия «автор» и «авторство» в истории индийских литератур // Литература и культура древней и средневековой Индии. М., 1979. С. 150).
(обратно)21
И в отношении этих текстов С. Д. Серебряный считает возможным говорить о «символическом авторстве» (см.: Указ. соч. С. 174).
(обратно)22
См.: Bowra С М Heroic poetry. London, 1952. P. 537.
(обратно)23
По-видимому, главными источниками Калидасы были «Ваю-пурана» и «Вишну-пурана»: изложенная в них история рода Рагху наиболее совпадает с его поэмой.
(обратно)24
Генеалогия царей Солнечной династии у Калидасы не совпадает с приведенной в «Рамаяне», где Дилипа — потомок Ману в двадцать третьем колене, не отец, а прадед Рагху; и в дальнейшем поэт «сокращает» родословную Рамы (по-видимому, сознательно).
(обратно)25
Sastri К. .. S. Op. cit. P. 198-1991
(обратно)26
Восприятие этого сюжета европейским читателем нашло отражение в насмешливом стихе Гейне: «О Koenig Wischwamitra, О welch ein Ochs bist du, Dass du so viel kaempfest und buessest Und alles fuer eine Kuh» - «О царь Вишвамитра, о, что за бычье у тебя упрямство, если ты столько сражался и постился, и все из-за какой-то коровы» (цит. по: Winternitz M. Geschichte der indiichen Liiteratur. Bd. 1. Leipzig, 1908. S. 346).
(обратно)27
Этот обряд (ашбамедха) в древней Индии, согласно преданиям, мог совершить только могущественный монарх, претендующий на верховную власть над обширными территориями, если не над всей страной. Избранного для жертвоприношения коня отпускали на год пастись на воле, за конем следовала царская рать, и земля, на которую ступала нога коня, объявлялась собственностью его господина; местным властителям и вождям предоставлялось на выбор — покориться и признать вассальную зависимость от победоносного завоевателя или пытаться отстоять свои владения в бою; по истечении года коня приносили в жертву, что знаменовало окончательную победу царя. Разумеется, девяносто девять таких жертвоприношений можно было совершить только в легендах, но считалось, что царь, совершивший сто ашвамедх, повторяет деяние Индры и потому становится равен Царю богов; по этой причине Индра всегда очень ревниво следит за честолюбивыми Царями земными, совершающими одно жертвоприношение коня за другим, и прилагает все усилия для того, чтобы не допустить сотой ашвамедхи.
(обратно)28
В канонической родословной династии в «Рамаяне» имя Аджа носит отдаленный потомок Рагху; Калидаса пропускает сразу одиннадцать поколений.
(обратно)29
Сваямвара (букв, «свой выбор») — одна из форм брака у древних индийцев, при которой невеста сама выбирала себе жениха на торжественном собрании претендентов, приглашенных ее отцом или братом; этот брачный обряд был в обычае у кшатриев. Сваямвара прекрасной царевны — одна из распространенных тем в памятниках древнеиндийской эпической поэзии.
(обратно)30
Видарбхи — народ, населявший область южнее верхнего течения реки Нармады.
(обратно)31
См., напр.: Sastri К. S. R. Op. cit. P. 196.
(обратно)32
Некоторые исследователи на этом основании выражают сомнение в том, что Калидаса был знаком с «Рамаяной» Вальмики. Действительно, ни в «Роде Рагху», ни в других своих произведениях он нигде не называет Вальмики по имени, однако трудно поверить, чтобы столь знаменитая поэма могла остаться ему неизвестной. В изложении сюжета «Книги о детстве» Калидаса мог, разумеется, сознательно обратиться к другому источнику; Г. Р. Нандаргикар полагает (см. его предисловие к изданию «Рода Рагху». 1897. С. 140), что это могла быть версия «Рамаяны», принадлежащая легендарному мудрецу Чьяване, однако о ней сохранились весьма смутные упоминания, и сомнительно, существовала ли она вообще. Но сюжет сказания о Раме безусловно использовался до Калидасы не только в поэме Вальмики.
(обратно)33
Сам образ Рамы и сюжет сказания восходят, несомненно, к мифу (см.: Гринцер П. .. Махабхарата а Рамаяна. М\, 1970), но о эпосе Вальмики мифологическое содержание уже преобразовано эстетически.
(обратно)34
Видеха (север совр. Бихара) — одно из наиболее сильных государств в среднем течении Ганга. Легендарный царь Видехи Джанака — по-видимому, историческая личность; упоминается в древней литературе как мудрый правитель и философ.
(обратно)35
Заметим, что в другом произведении санскритской классической литературы на сюжет «Рамаяны» — «Пьесе о статуе», приписываемой Бхасе, - царица Кайкейи, напротив, очищается от вины и изгнание Рамы представляется результатом рокового недоразумения (см. русский перевод этой драмы: Гринцер П. А. Бхаса. С. 246-296).
(обратно)36
В образах мифических ракшасов в «Рамаяне» и других произведениях древнеиндийской литературы отчетливо проглядывают черты реальных диких племен аборигенов, тревоживших своими набегами арийские поселения в Центральной и Южной Индии.
(обратно)37
Сказочные обезьяны «Рамаяны», как и ракшасы, несомненно, преображенные народной фантазией племена аборигенов Южной Индии, с которыми арии в продолжение ее завоевания вступали в военные конфликты либо заключали союзы.
(обратно)38
См.: Sastri К. S. R. Op. cit. P. 221.
(обратно)39
Sastri К. S. R. Op. cit. P. 201-2022
(обратно)40
На это указывает известный немецкий индолог В. Рубен, см.: Ruben W. Kalidasa. Die menschliche Bedeutung seiner Werke. Berlin, 1956. S. 49.
(обратно)41
См.: Ruben W. .p. cit. S. 525
(обратно)42
м.: Вишакхадаттаа Мудраракшасас или Перстень Ракшасы / Пер., ком-мент, и послесл. В. Г. Эрмана. М.: Л., 1959.
(обратно)43
Некоторые литературоведы критикуют эту поэму за рыхлость композиции, «бесформенный сюжет» (А. Райдер), что говорит, однако, об очевидном непонимании идейно-художественного замысла автора (см.: Sastri К. S. R. Op. cit. Р. 196)
(обратно)44
Aurobindo. Valmiki, Vyyaa and Kalidasa// Indian inheritance. Vol. I. Bombay, 1955. P. 123.
(обратно)45
Tagore R. Kumarasambhavam Sakuntalam ca// Manorama. VI. № 9-12. 1967. P. 220-233.
(обратно)46
См.: Ruben W. Op. cit. S. S.4
(обратно)47
См.: Алиханова Ю. М. Жанр натика в индийской классической драме // Теория жанров литератур Востока. М., 1985. С. 229.
(обратно)48
Исключение восьмой песни в некоторых рукописях могло быть обусловлено именно протестом против этого «оскорбления» богини.
(обратно)49
ак, Анандавардхана, знаменитый теоретик поэзии (IX в.), протестовал против описания любовных радостей персонажей божественного происхождения; однако Калидасе он это «прощал» как великому поэту {Анандавардхана. Дхваньялока «Свет дхвани» / Пер., введ. и коммент. Ю. М. Алихановой. М., 1974. С. 123).
(обратно)50
Не исключено также, что Калидаса сознательно закончил свое произведение счастливым соединением влюбленных, не доведя рассказ до рождения Кумары. Несомненно, поэма, заканчивающаяся до рождения героя, представляется довольно странным явлением в литературе (параллель можно усмотреть в творчестве автора совершенно иной культуры, отдаленного от Калидасы более чем на тысячелетие, -Стерна, не продвинувшегося в своем знаменитом романе далее первых дней жизни героя). В то же время рассматриваемая поэма, подлинными героями которой являются родители Кумары, Шива и Парвати, обладает определенной цельностью содержания (что отличает ее, в частности, от другой эпической поэмы Калидасы, «Рода Рапсу»). Эта цельность, несомненно, была бы нарушена, если бы автор продолжал свое повествование и перешел к описанию подвигов Кумары. Кроме того, в этой части, как замечает В. Рубен, мифологический материал плохо поддается поэтической интерпретации; история рождения Кумары, описываемая в пуранах, включает моменты слишком гротескные, диссонирующие с лирической повестью о любви в поэме Калидасы (см.: Ruben W. .p. cit. S. S.). Что касается названия поэмы, следует заметить, что слово sambhava точнее переводить не «рождение», а «происхождение». Все события, описываемые в поэме, связаны с Кумарой, но появление его — в будущем, ради которого и соединяются в любовном союзе божественные герой и героиня.
(обратно)51
Пример аллитерации в седьмой песни поэмы (49): Kbe khelagami tam uvaha vahah sacabdacamikarakinkinikah («Бык нес его по поднебесью, оглашая пространство бренчанием золотых колокольчиков»).
(обратно)52
См.: Jhala G. С Kalidasa. A study. 2d ed. Bombay, 1949. P. 45.
(обратно)53
В различных рукописях поэма содержит различное число строф, и последовательность их варьируется. Некоторые строфы в этих рукописях — явно позднего происхождения, включенные в поэму анонимными подражателями Калидасы.
(обратно)54
По выражению Л. Шредера, известного немецкого индолога прошлого века (Schroeder L Indiens Literatur und Cultur in historischer Entwicklung. Leipzig, 1887. S. 548). Эта поэма Калидасы является наиболее популярной и ценимой как в индийской, так и в европейской критике; в санскритских традиционных трактатах по поэтике она упоминается наиболее часто (Chand H. Kalidasa et Tart poetique de l'lnde. Paris, 1917. P. 238-239).
(обратно)55
Местоположение этой горы, где некогда, по преданию, проводили дни изгнания герои «Рамаяны» Рама, Сита и Лакшмана, точно не установлено. Некоторые исследователи идентифицируют ее с горой Рамтек (к северу от совр. Нагпура) (см.: Kalidasa. The Meghaduta / Ed. by Kale M. R. 7-th ed. Delhi(a. o.), 1,19. P. P)5
(обратно)56
См.: Дубянский А. M Ритуально-мифологические истоки древнетамильской лирики. М., 1989. С. 119.
(обратно)57
См.: Jhala G. С Op. cit. P. 50-51.
(обратно)58
См.: Jhala G. С Ibid.
(обратно)59
Менее талантливый поэт, замечает Г. Ч. Джхала, после обращения якши к облаку рассказал бы о том, как отправилось оно в путь по поручению влюбленного, как пролетело над страной и достигло со своей вестью Алаки. Прием, употребленный Калидасой, придает произведению более лирический, более проникновенный характер (Jhda G. .. Ср. cit. P. 52).
(обратно)60
Jhala G. С. Ibid.
(обратно)61
Серебряный С. Д К анализу поэтики санскритской кавьи (на материале поэмы Калидасы «Облако-вестник») // Восточная поэтика. Специфика художественного образа. М., 1983. С. 117. Автор приводит суждение известного английского исследователя древнеиндийской поэзии И. А. Б. ван Бейтенена, согласно которому сравнения Калидасы имеют «сверхзадачей» показать взаимосвязанность всего в мире, единство мира (Там же).
(обратно)62
Рiттер П. Хмара-вiстун (Megha-duta). Старо-индiйска елегiя Калiдаси и Переклад з санскрiтськоi мови з вступною сгаттею и примiтнами. Харкiв, 1928. С. 11.
(обратно)63
В основе — первобытная вера в связь между деторождением и плодородием растений.
(обратно)64
См.: Beckerman В. Dynamics so drama. New York, ,970. .P .2-226
(обратно)65
Levi S. .L theatre indienn. Paris, 1890. .P .8
(обратно)66
лиханова Ю. Л1 Жанр натика в индийской классической драме // Теория жанров литератур Востока. М., 1985. С 232—233.
(обратно)67
Некоторые исследователи без достаточных, на наш взгляд, оснований возводят образ видушаки к религиозному брахманистскому культу (см.: Kuiper F. В. J. Varuna and vidusaka // On the origin of the Sanskrit drama. Amsterdam, 1979. P. 223—232). Более убедительна аргументация известного немецкого индолога П. Тиме, предполагающая народное его происхождение (Thieme P. Das indische Theater// Fernoestliches Theater. Stuttgart, 1966. S. 26-30).
(обратно)68
Характеристику образов Агнимитры и Малявики см. в: Jhala G. С Op. cit. Р. 111-112.
(обратно)69
Исследователи отмечают, в частности, черты религиозной терпимости, характерной для эпохи Гуптов, в описании того почета, которым пользуется буддийская монахиня при дворе Агнимитры (см.- Риттер П. Г.. Указ. соч С. 22323 Между тем известно, что Шунги, возродившие после Маурьев главенство брахманистской религии в государстве, были ярыми гонителями буддизма. По-видимому, Калидаса уклонился здесь от следования исторической правде (которое он вряд ли и ставил себе целью).
(обратно)70
См., напр.: Jhala G. С. Op. cit. P. 27.
(обратно)71
См.: Huth G. Die Zeit des Kalidasa. Berlin, 1890. S. 63.
(обратно)72
Калидаса. Драмы. / Пер. К. Бальмонта. М., 1916.
(обратно)73
См.: Kalidasa. The Abhijnanasakuntalam / Ed. by M. R. Kale 10-th ed. Delhi, Varanasi, Patna, 1969. P. 13.
(обратно)74
Tagore R. Shakuntala/ Indian inheritance. Vol. I. P. .37.
(обратно)75
Здесь звучит тема идеального государя, занимающая столь важное место в поэме «Род Рагху» (см. выше).
(обратно)76
См.: Bhat G. К. Tragedy and Sanskrit drama. Bombay, 1974. P. 95-96. Санскритская теория драмы действительно предписывает натаке счастливую развязку.
(обратно)77
Wells H. W. The classical drama of India: Studies in its values for the literature and theatre of the world. Bombay, 1963. P. 42.
(обратно)78
Гринцер П. А. Бхаса С. .22.
(обратно)79
См.: Аникст А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М., 1983. С. 95.
(обратно)80
Идея эта, однако, не играет, по-видимому, той решающей роли в греческой трагедии, которую ей принято было приписывать (см.: Пропп В. Я. Эдип в свете фольклора // Пропп В. Я. Фольклор и действительность/ Избранные статьи. М.. 1976. С. 291).
(обратно)81
Это один из гимнов-диалогов «Ригведы» (X. 95), в которых некоторые исследователи усматривают зачатки драматического творчества в Индии; время их создания — около X в. до н. э.
(обратно)82
Алиханова Ю. М. «Хариванша-пурана» 11.93 и вопрос о сюжете ранней натаки // Санскрит и древняя культура. I. M., 1979. С. 17.
(обратно)83
Hillebrandt A. Kalidasa. Breslau, 1921. S. 48.
(обратно)84
Истоки этой мифологемы — в древнейших тотемистических верованиях.
в «Матсья-пуране», и в драме Калидасы смягчен трагический характер ведийской легенды, прибавлен счастливый конец.
(обратно)85
Gawronski A. Notes sur les sources de quelques drames indiens. Krakow, 1921. P. 19.
(обратно)86
Неру Дж. Открытие Индии. М., 1955. С .163
(обратно)87
Ом — священный слог, произносимый обычно в начале молитвы или ведийского текста; в индуизме ставится в начале любого религиозного текста. Предполагается, то он выражает цельность мироздания и что из него происходят Веды (впервые встречается в Упанишадах).
(обратно)88
Молочный Океан. — Имеется в виду миф о пахтании богами и демонами (асурами) Мирового океана, в результате которого из вод его вместе с напитком бессмертия - амритой — в числе различных сокровищ возникает луна.
(обратно)89
Меру — мифическая гора в центре мира, обитель богов, космическая ось.
(обратно)90
Шастры — священные книги, традиционные своды законов, излагающие предписания религиозной морали.
(обратно)91
Добродетель, Желание и Выгода — три «цели человеческой жизни» (триварга), концепция, лежащая в основе индуистской этики. Под Добродетелью (дхарма, иначе: священный закон, религиозный долг, главная из трех) подразумевается следование принципам вероучения, исполнение обрядов; под Желанием (кома) — исполнение почитавшегося священным долга продолжения рода; под Выгодой (артха, иначе: польза) - обеспечение материального благосостояния, необходимого для соблюдения первых двух.
(обратно)92
Индра - бог-громовержец, ниспосылающий дожди и обеспечивающий плодородие земли, царь богов и покровитель земных царей.
(обратно)93
Дакшина — вознаграждение жрецу за совершение обряда.
(обратно)94
Магадха — в древнейший период одно из могущественнейших государств на востоке Гангской долины (совр. Южный Бихар).
(обратно)95
Айравата — мифический слон Индры, олицетворение дождевой тучи.
(обратно)96
Читра — знак лунного зодиака, а в созвездии Девы.
(обратно)97
Будха - индийское название планеты Меркурий
(обратно)98
Арундхати — супруга мифического мудреца Васиштхи, олицетворение одной из звезд Большой Медведицы.
(обратно)99
Сваха — олицетворение ритуального восклицания при приношении жертвы, почитается как супруга бога огня.
(обратно)100
Семь ведомств — традиционные семь составляющих государства: царь, совет министров, союзник, территория, крепость, армия, казна.
(обратно)101
Мантры — магические заклинания, также гимны и ритуальные формулы, составляющие содержание Вед.
(обратно)102
Локаалока — мифический горный хребет на краю света, отделяющий видимый мир от царства вечной тьмы.
(обратно)103
Икшваку — сын Ману, родоначальник Солнечной династии.
(обратно)104
Шакра - букв. «Могучий», одно из имен Индры.
(обратно)105
Волшебное дерево- кальпатару, в индийской мифологии — древо изобилия, исполняющее все желания.
(обратно)106
Почтительно обойти ее слева направо — подразумевается прадакшина, обычай обходить того, кому выражается почтение, держась к нему правым боком.
(обратно)107
Ганга - в древнеиндийском название этой реки - женского рода; по представлениям древних, берет начало на небесах.
(обратно)108
Мировые слоны — мифические гигантские слоны, возглавляемые Айраватой (см. выше), поддерживающие землю с четырех (по более поздней версии - с восьми) сторон 80-81
(обратно)109
Прачетас — зд. имя мифического мудреца.
(обратно)110
Долгое жертвоприношение — диргхасатра, особый об-
ряд, длящийся не менее года.
(обратно)111
Подземный мир — Патала, обитель мифических змиев.
(обратно)112
Как следует Предание смыслу Откровения. — К Откровению индуистская традиция относит Веды и примыкающие к ним циклы религиозных текстов, которым приписывается божественное прохождение; последующая религиозная литература, продолжающая традицию Вед относится к Преданию (смрити) как созданная людьми.
(обратно)113
Носитель Петли — Пашабхрит, эпитет бога Варуны, хранителя Запада, божества моря и вод; петля для уловления согрешивших - его атрибут уже в ведийском пантеоне.
(обратно)114
Гаури — Дочь Гор, одно из имен богини Умы, супруги Шивы, почитающейся дочерью Химавата, персонификации Гималаев.
(обратно)115
Лодхра - дерево с желтыми цветами (Symplocos racemosa)
(обратно)116
Кумбходара — см. ниже.
(обратно)117
Никумбха — имя грозного демона, упоминаемого в «Махабхарате», или одного из демонических персонажей «Рамаяны».
(обратно)118
Бог восьми воплощений - Шива (подразумеваются восемь элементов мироздания, в которых он воплощается во вселенной: вода, огонь, воздух, эфир, земля, солнце, луна и жрец); он же — бог, что несет на знамени образ быка (белый бык- зооморфный атрибут Шивы).
(обратно)119
Кайласа — гора в Гималаях (хребет Бандарпуччха), почитавшаяся местопребыванием Шивы, а также Куберы, хранителя Севера.
(обратно)120
Кумбха — санскр. горшок. В тексте обыгрывается значение имени персонажа: Кумбходара букв, «брюхо-горшок»; тому же служит упоминание о Никумбхе
(обратно)121
Полководец — Сенани, эпитет сына Умы, бога войны Сканды.
(обратно)122
Носитель трезубца- Шулабхрит, эпитет Шивы.
(обратно)123
Верховный Владыка- зд. Шива.
(обратно)124
Враг богов — зд. эпитет Раху, демона затмений, по представлениям древних периодически заглатывающего солнце и луну, которая, по тем же представлениям, состоит из напитка бессмертия.
(обратно)125
Горный бог, Треокий бог - эпитет Шивы. Подразумевается эпизод из мифа о сожжении Трипуры, града демонов, когда Шива взглядом сковал десницу Индры -Громовержца (Ваджрапани).
(обратно)126
Кришану — Лучник, зд. одно из имен бога огня.
(обратно)127
Кшатра — воинское сословие.
(обратно)128
Рудра — древнее имя Шивы.
(обратно)129
Видьядхары — духи лесов и гор, подобные европейским эльфам.
(обратно)130
Властелин растений - эпитет Сомы, бога луны.
(обратно)131
Сокрушитель городов - Пурандара, эпитет Индры.
(обратно)132
Атри - божественный провидец и подвижник, сын Брахмы, отец Сомы (по некоторым версиям), которого он сотворил из своего ока.
(обратно)133
Река богов приняла от Огня пылающий жар Владыки. — Согласно некоторым версиям мифа о рождении бога Сканды, он произошел от семени Шивы (Владыки), которое тот обронил в огонь, а бог Агни, в свою очередь, бросил в воды Ганги, реки богов.
(обратно)134
Хранители мира — в индуистском пантеоне группа из четырех (или восьми) богов, каждому из которых отдается во власть одна из стран света (или промежуточных направлений); в иерархии пантеона занимает следующую ступень после верховной триады.
(обратно)135
Вождь Марутов — эпитет Индры, предводительствующего в битвах с демонами дружиной Марутов, богов ветра и бури.
(обратно)136
Северная Косала - центр владений Солнечной династии со столицей в Айодхье (северо-восток совр. штата Уттар Прадеш).
(обратно)137
Шами — дерево с твердой древесиной, из которого изготовлялись дощечки для добывания трением ритуального огня (Prosopis spicigera)
(обратно)138
Сарасвати — совр. Сарсути, река в северо-западной Индии; уже во времена Калидасы не достигала моря, теряясь в песках пустыни Тар
(обратно)139
Шачи — супруга Индры.
(обратно)140
Пять планет- известные древним Марс, Венера, Меркурий, Юпитер, Сатурн;
(обратно)141
возвращение в солнце означало их закат.
(обратно)142
Царский балдахин. — Белый балдахин или зонт считался символом царской власти.
(обратно)143
Рожденный в тростниках — эпитет Сканды, сына Шивы и Умы (см. примеч. к И. 75).
(обратно)144
Джаянта — сын Индры.
(обратно)145
Чакравака — казарка, в индийской поэзии — символ супружеской любви (как голубь в европейской); по поверьям, чета любящих чакравак вынуждена разлучаться в каждую ночь до рассвета.
(обратно)146
Владыка лучей- Солнце; бог солнца едет по небу на колеснице, запряженной гнедыми конями; в подлиннике зд. непереводимая игра слов, основанная на созвучии слов, означающих: «страна света» и «гнедой».
(обратно)147
Одетый в священную оленью шкуру. — Шкура черной антилопы почиталась священной и служила непременным атрибутом для брахмачарина, юноши, изучающего Веды.
(обратно)148
Обряд дарения коровы — совершался в возрасте от 16 до 18 лет, непосредственно перед женитьбой.
(обратно)149
Дакша - божественный мудрец, сын Брахмы, выдавший 27 своих дочерей, олицетворяющих «лунные стоянки», созвездия лунного зодиака, за Сому, бога луны, Гонителя тьмы.
(обратно)150
Шри - одно из имен Лакшми, богини красоты и счастья, покровительницы царской власти, олицетворяющей особенно счастье и удачу (Фортуна) царя. Лотос - ее основной растительный атрибут и ее обитель.
(обратно)151
Свершитель ста жертвоприношений — Шатакрату, эпитет Индры (см. в предисловии, с. 31).
(обратно)152
Тот, кто отсек крылья гор — Индра, согласно мифу, упоминаемому еще в Ведах, утвердивший на земле горы, до ТОГО летавшие по небу на крыльях.
(обратно)153
Красный Индра. -В подлиннике обыгрывается созвучие одного из имен Индры - Хари (букв. Красный) и слова, означающего «гнедой конь».
(обратно)154
Щедрый - Магхаван, употребительный эпитет Индры.
(обратно)155
Хари - зд. Вишну; далее следуют эпитеты Шивы.
(обратно)156
К а пил а — мифический мудрец; воплотившись в его образе, Вишну сжег сыновей Сагары.
(обратно)157
Словно подражающго.... Шиве — подразумевается миф о Шиве, пронзившем стрелой оленя, в котором воплотился бог-отец.
(обратно)158
Лук, ставший... радугой. - Радуга считается луком Индры.
(обратно)159
Предводитель Васу — Васава, эпитет Индры; Васу — группа богов, числом восемь, олицетворяющих различные явления природы.
(обратно)160
Вритра - дракон, олицетворение первозданного хаоса, победа над ним - главный подвиг Индры, воспеваемый в Ведах.
(обратно)161
Воздвижение стяга Индры — праздничный обряд, справлявшийся в конце сезона дождей (в сентябре). Роль «стяга Индры» исполняло срубленное культовое дерево.
(обратно)162
Сарасвати — богиня мудрости и красноречия, супруга Брахмы.
(обратно)163
Мудрец, что рожден был в кувшине - великий мудрец и подвижник Агастья, по происхождению, по-видимому, -олицетворение растения агасти (Agasti grandiflora); отожествлялся со звездой Канопус, восходящей в сезон дождей (в августе)
(обратно)164
Непреходящий- Ачьюта, эпитет Вишну.
(обратно)165
Мандара — мифическая белая гора, использованная как мутовка богами и асурами при пахтании океана (см. примеч. к I.11-16).
(обратно)166
Владыка Востока - Индра.
(обратно)167
Бхагиратха — древний царь Солнечной династии, низведший подвижничеством небесную Гангу на землю по волосам Шивы.
(обратно)168
Сухмы - жители страны Сухма (юг Западной Бенгалии).
(обратно)169
Ванги. — Ваша занимала территорию совр. Восточной Бенгалии (Бангладеш).
(обратно)170
Уткала - древнее название Ориссы.
(обратно)171
Калинга - историческая область южнее реки Маханади. Махендра - горный хребет на территории Калинги (по-видимому, Восточные Гаты).
(обратно)172
В ту страну, куда удалился некогда Агастья. — Агастья считался покровителем Южной Индии.
(обратно)173
Господин потоков —океан или олицетворяющий его бог Варуна.
(обратно)174
Малайя — Западные Гаты.
(обратно)175
Пандья — древнее государство на крайнем юге Индии и правившая в нем династия.
(обратно)176
Тамрапарни - небольшая речка, впадающая в Маннарский залив, отделяющий крайний юг Индии от Цейлона; славилась жемчужными отмелями.
(обратно)177
Дурдура- горы в южной части Западных Гат. Сахья - горный район в Западных Гатах.
(обратно)178
Море, некогда отраженно.... стрелами Парашурамы — подразумевается миф о герое Парашураме, которому Варуна, бог моря, обещал в Южной Индии столько земли, сколько покроет полет его стрелы.
(обратно)179
Мурала — предположительно совр. река Калинади в Керале. \
(обратно)180
Пуннага - растение Rottleria tinctoria или Calophylliim inophyllul
(обратно)181
Страна Куберы — Север Индии.
(обратно)182
71-76. Отец Гаури - см. примеч. к II. 26-29.
(обратно)183
Утсавасанкеты - полумифическое племя, обитавшее на севере Кашмира, букв, «празднующие».
(обратно)184
Киннары — мифические существа, полукони-полулюди, певцы и музыканты в царстве бога Куберы.
(обратно)185
Сын Пуластьи - Равана, царь ракшасов (см. ниже), некогда вырвал из земли гору Кайласу, хвастая своею силой.
(обратно)186
Лаухитья — местное название реки Брахмапутры в Камарупе (совр. Ассам).
(обратно)187
Страна Восточных Звезд — Прагджйотиша, древнее название Западного Ассама и Восточного Бутана.
(обратно)188
Обряд Всепобеждающего — Вишваджит, на котором приносящий жертву должен отдать жрецам все свое имущество
(обратно)189
Взошедший на Горб -Какутстха, имя одного из царей Солнечного рода; в битве с демонами он стоял на горбу обратившегося в зебу Индры; далее этот эпитет мы везде переводим: потомок Солнечного рода, или оставляем без перевода.
(обратно)190
Куша — или дарбха, священная трава с длинными и острыми стеблями, употреблявшаяся в индуистском ритуале (Poa cynosiroides).
(обратно)191
Вторая ашрама- вторая стадия сознательной жизни правоверного индуиста, следующая после первой — брахмачарина (см. примеч. к III. 29-32), ученичества; знаменовалась обрядом омовения и женитьбой, стадия домохозяина (грихастха).
(обратно)192
Чатака — птица, по представлениям древних питающаяся дождевыми каплями (Cucculus melanoleucus).
(обратно)193
Крор — индийская единица счета, десять миллионов.
(обратно)194
Четырнадцать- традиционное число отраслей священного знания, составляющих религиозное образование индуиста.
(обратно)195
Дваждырожденный — обычный эпитет брахмана (вторым рождением считался обряд посвящения); бог луны Сома считался покровителем брахманского сословия.
(обратно)196
Четвертый из жертвенных огней. - Важнейшей частью ведийского ритуала было поддержание трех жертвенных огней, сопоставляемых с тремя сферами мироздания (земля, воздушное пространство и небо).
(обратно)197
Сакета — другое название Айодхьи, столицы Солнечной династии, города на реке Сараю (Гхагхра) (в районе совр. Файзабада).
(обратно)198
Перворожденный - зд эпитет брахмана
(обратно)199
Час, посвященный богу Брахме — восьмая мухурта (мухурта — тридцатая часть суток).
(обратно)200
Аджа - букв. Нерожденный; ;дин ни эпитетов Брахмы.
(обратно)201
Царство. — В подлиннике: Шри (см. примеч. к III. 35—36).
(обратно)202
Б ходжа - этноним, название страны и народа (юг совр. Гуджарата), также правившей там династии.
(обратно)203
Кратхи и кайшики - племена, обитавшие на той же территории.
(обратно)204
Нактамала- Pongamia glabra.
(обратно)205
Рикшават — Медвежья, гора на территории Гондваны, упоминаемая в эпосе.
(обратно)206
Гандхарвы — небесные певцы и музыканты
(обратно)207
Читраратха - царь гандхарвов.
(обратно)208
Аруна — бог зари
(обратно)209
Ванаю — область в северо-западной Индии, древний центр коневодства.
(обратно)210
Супратика — имя мифического слона.
(обратно)211
Рати — Наслаждениее
(обратно)212
Бог пещеры — или Тайный (Гуха), эпитет бога Сканды; павлин - его главный зооморфный атрибут (вахана - «носитель»).
(обратно)213
Париджата — коралловое дерево, одно из сокровищ, добытых при пахтании океана, вознесенное на небеса Индры.
(обратно)214
Кетака — дерево Pandanus odoratissimus.
(обратно)215
Парантапа — букв. Испепеляющий врага.
(обратно)216
Тысячеокий — Сахасранетра, эпитет Индры.
(обратно)217
Мандара — мифическое дерево в царстве Индры на небесах.
(обратно)218
Пашпапура — или Паталипутра, столица Магадхи.
(обратно)219
Анга-страна к юго-востоку от Магадхи (совр. Западная Бенгалия).
(обратно)220
Шри и Сарасвати. - Богиня счастья и богиня мудрости нередко противопоставляются одна другой как малосовместимые.
(обратно)221
Аванти — страна к северу от реки Нармады, со столицей в Удджайини.
(обратно)222
Тваштар- божественный мастер, индийская параллель античному Гефесту или Вулкану; согласно мифу, обточил бога солнца, чтобы умерить его жар (в послеведийской литературе чаще именуется Вишвакарман).
(обратно)223
Махакала — знаменитый храм Шивы в Умжайини. Сипра — река близ Улджайини, приток Чамбала.
(обратно)224
Побережье - Анупа, зд. страна хайхаев к северу от верхнего течения реки Нармады.
(обратно)225
Картавирья — Арджуна Картавирья, мифический царь хайхаев, тысячерукий великан, победивший и взявший в плен Равану, владыку Ланки.
(обратно)226
Рама — зд. подразумевается герой Парашурама (см. примеч. к XI. 43-46, 57-61).
(обратно)227
Рева - Ревущая, другое название реки Нармада, на которой стояла столица хайхаев Махишмати (предположительно несколько ниже совр. Джабалпура в штате Мадхья Прядет).
(обратно)228
Шурасены — жили на востоке территории, занимаемой совр. Раджастханом, и в районе Матхуры.
(обратно)229
Стал украшением обоих своих родов - т. е. отцовского и материнского.
(обратно)230
Дочь Калинды- подразумевается река Ямуна (Джамна), текущая от горы Калинда.
(обратно)231
Каустубха — магический камень, украшающий грудь Вишну (Кришны), добыт при пахтании океана.
(обратно)232
Таркшия- одно из имен Гаруды, царя птиц и грозы змей.
(обратно)233
Калия — водяной змей, обитавший на дне Ямуны (Джамны), был побежден Кришной.
(обратно)234
Вриндавана- местность на левом берегу Ямуны близ Матхуры, прославленная тем, что в ней, спасаясь от преследований, провел среди пастухов свои юные годы Кришна.
(обратно)235
Говардхана - гора во Вриндаване.
(обратно)236
Город, носящий имя змеи - Нагапаттана (букв. Змеиный город), древний город в Тамилнаде.
(обратно)237
Чакора — птица, род куропатки, по поверьям питающаяся лунными лучами.
(обратно)238
Заставил склониться гору Виндхья — один из подвигов Агастьи, воспрепятствовавшего этой горе преградить путь Солнцу и Луне.
(обратно)239
Джанастхана — лесная местность на берегу реки Годавари, часть леса Дандака, принадлежавшая ракшасам.
(обратно)240
Хара - одно из имен Шивы.
(обратно)241
Тамала - дерево Xanthochymus pictorius.
(обратно)242
Тамбула — зд. род лианы, вьющейся на бетеле.
(обратно)243
Трепет, ослабивший узы браслета на правой руке. - Дрожь в правой руке почиталась приметой, предвещающей счастье в любви.
(обратно)244
Пинака - лук Шивы.
(обратно)245
Дщерь Джахну — Ганга, некогда поглощенная и извергнутая святым Джахну, ставшим как бы родителем ее.
(обратно)246
Девасена — букв. Войско богов, персонифицировалась как супруга бога войны Сканды.
(обратно)247
Нараяна - одно из имен Вишну.
(обратно)248
Смара — одно из имен Камы, бога любви.
(обратно)249
Враг Индры. — Неясно, кто здесь имеется в виду и какова его роль в мифе о Вишну, тремя шагами отобравшем вселенную у царя демонов Бали; комментаторы расходятся во мнениях; некоторые называют Вритру (см. примеч. к III. 59-62).
(обратно)250
Шона - река Сон, впадающая в Гангу (выше совр. Патны).
(обратно)251
В объятьях божественной девы. - Апсары, небесные танцовщицы и куртизанки, сопровождали павших на поле битвы героев в царство своего повелителя Индры.
(обратно)252
Великий Вепрь — Вараха, одно из воплощений Вишну, поднял клыком землю из вод потопа.
Кальпа — эон, период существования вселенной.
(обратно)253
Отшельниками в берестяных одеждах. —Отшельники носили одежду из обработанной особым образом древесной коры.
(обратно)254
Пять жизненных сил. — Традиционно подразумеваются: дыхание, зрение, слух, речь, мысль.
(обратно)255
Шесть средств государственной политики— рекомендуемые в традиционных трактатах: мир, война, поход, отсиживание в крепости, сеяние раздора (в стане врагов), поиск могущественного союзника (т. е. подразумевается прежде всего военная политика).
(обратно)256
Три качества, заключенные в природе — так называемые гуны; три реальности, определяющие природу материальных объектов: саттва, качество света и радости, раджас -страсть, страдание, активное начало, тамас — качество тьмы и инерции.
(обратно)257
«Десять» предшествует «Колеснице» — Дашаратха, имя сына Аджи, означает букв. «Десять колесниц».
(обратно)258
Десятиглавый — имя-эпитет царя демонов Раваны.
(обратно)259
Вкушающие поминальные приношения — предки, тени усопших.
(обратно)260
Нандана — сад в царстве Индры, где растет париджата (см. примеч. к VI. 3-7).
(обратно)261
Великий Владыка — Шива,
(обратно)262
Гокарна - одно из святых мест его почитания (совр. Гокарн на Малабарском берегу).
(обратно)263
Снежные горы — Гималаи.
(обратно)264
От кукушек — сладкозвучный голос. — В индийской поэзии роль кукушки-кокилы соответствует роли соловья в европейской.
(обратно)265
Дереву манго и лиане приянгу. - Представления о браке деревьев и лиан восходят к архаическим культам плодородия.
(обратно)266
Цветы... на ашоке, твоим касаньем осчастливленной — см. в предисловии, с. 54.
(обратно)267
Бакула — дерево с душистыми бледно-зелеными цветами (Mimusopselengi).
(обратно)268
Нерожденный бог - Аджанман, зд. Вишну.
(обратно)269
Хари - зд. имя Индры (чаще - имя Вишну).
(обратно)270
Харини - букв. «Лань», созвучие имен введено намеренно.
(обратно)271
Разверзший гору — зд. эпитет Сканды, пронзившего копьем гору Краунча в Восточных Гималаях.
(обратно)272
Победитель Валы - Индра, так же разверзший гору в борьбе с Валой, Демоном Пещеры (упоминается еще в «Ригведе»).
(обратно)273
Господин добродетельных - Пуньяджанешвара, эпитет Куберы.
(обратно)274
Оружие со ста остриями — ваджра, перун Индры.
(обратно)275
Алака - мифическая столица Куберы в северных горах (см. в предисловии).
(обратно)276
Круг двенадцати царей — подразумеваются 12 «типов» царей соседних государств в классификации традиционных трактатов по политике («друг», «враг», «союзник врага», «нейтральный» и т. д.).
(обратно)277
Тамаса — река, впадающая в Гангу с севера, близ слияния ее с Ямуной.
(обратно)278
Прошедший обряд посвящения — зд. подразумевается торжественный обряд жертвоприношения сомы, совершаемый многими жрецами в несколько этапов, ниже указываются атрибуты приносящего жертву (для кого совершается обряд).
(обратно)279
Намучи - демон, побежденный Индрой (ведийский миф).
(обратно)280
Духорожденный — зд. эпитет Вишну.
(обратно)281
Кекаи — воинственное племя, обитавшее на территории, занимаемой совр. Пенджабом, между Доабом и Сатледжем.
(обратно)282
Владыка вод и Владыка грома — эпитеты соответственно Варуны и Индры; названы четыре главных хранителя мира.
(обратно)283
К стране, где правит Податель богатств — т. е. на север, в страну Куберы.
(обратно)284
Кокила — см. примеч. к VIII. 44—69.
(обратно)285
Кимшука- дерево с красными цветами (Butea frondosa).
(обратно)286
Курабака — красный амарант.
(обратно)287
Цветы распускаются, окропленные вином из уст дев — древнее поверье о цветении бакулы (ср. подобное же об ашоке, расцветающей от прикосновения ноги девы).
(обратно)288
Бог, несущий на знамени дельфина. — В подлиннике: макара, полумифическое морское животное, отождествляемое с дельфином, было эмблемой бога любви Камы.
(обратно)289
Тилака - дерево Clerodendrum phlomoides; то же слово имеет значение: «украшение»; построенная на этом игра слов встречается уже в эпосе.
(обратно)290
Мадху — имя демона, побежденного Вишну, имеет также значение «Весна»; Смущающий души - Манмажа, эпитет тога любви; на этих созвучиях и игре слов строится стих в оригинале.
(обратно)291
Бхадрапада — месяц индийского лунного календаря, соответствующий августу-сентябрю, приходится на сезон дождей
(обратно)292
Лук тридцати — т. е. лук богов, радуга; тридцать — традиционное число богов индуистского пантеона.
(обратно)293
Нанизавших жемчуга на... когти. — По поверьям, в головах крупных слонов рождались жемчужины.
(обратно)294
Бхалла — «благие», род стрел с наконечником особой формы.
(обратно)295
Огонь кончины мира. — Представление о космическом огне, таящемся на дне океана, чтобы вырваться из него и испепелить мир в час его кончины, принадлежит индуистскому учению о цикличности вселенной.
(обратно)296
Ришьяшринга — мифический мудрец, сменивший Васиштху в роли верховною жреца при царе Дашаратхе.
(обратно)297
Пауластья — родовое имя Раваны, царя ракшасов, внука божественного мудреца Пуластъи, сына Брахмы.
(обратно)298
Великий змей - космический змей Шеша, на котором покоится Вишну посреди Мирового океана.
(обратно)299
Шриватса — «счастливый» знак на груди Вишну, изображается обычно как завиток волос.
(обратно)300
Гаруда служил ему, сложив руки в ладони, чье тело в шрамах от ударов перуна. - Гаруда изображается обычно как полуптица-получеловек; шрамы он получил в битве с Индрой во время борьбе за амриту, напиток бессмертия
(обратно)301
В семи песнопенях... -Традиционные комментарии перечисляют упоминаемые здесь ритуально-мифологические седьмицы. Так, к семи мирам относятся: Земля, воздушное пространство, небесное царство Индры (между Солнцем и Полярной звездой), сфера над Полярной звездой, обитель Санаткумары (сына Брахмы), обитель святых мудрецов и мир Брахмы (Брахмалока, высший).
(обратно)302
Четыре цели жизни. - К традиционным трем целям (см. примеч. к I. 17-30) добавляли иногда четвертую, потустороннюю: Избавление (мокша), т. е. обретение вечного блаженства.
(обратно)303
Вознеслась вверх из-под его стопы. — Речь Вишну отождествляется здесь с небесной Гангой, которая, согласно некоторым версиям мифа, истекает из левой его стопы, возносясь до Полярной звезды.
(обратно)304
Первое и среднее качества — см. примеч. к VIII. 10—23.
(обратно)305
Десятую голову ракшаса пощадил его меч. — Равана, совершая свое великое подвижничество, принес в жертву Шиве девять из десяти своих голов, после чего бог исполнил его желание.
(обратно)306
Диск - (чакра) главное оружие Вишну, называемое Сударшана.
(обратно)307
Пушпака- воздушная колесница Раваны.
(обратно)308
Грозящее ему проклятие. — Равана был проклят своим родичем Налакубарой за насилие над его женою, вследствие чего в дальнейшем насилие над женщиной грозило царю демонов смертью.
(обратно)309
Создание Владыки творений - зд. подразумевается Васиштха, сын Брахмы (по некоторым версиям), хотя перед этим речь шла о Ришьяшринге.
(обратно)310
Квинтэссенция вод — амрита, напиток бессмертия, добытый из океана.
(обратно)311
Красота его, радующая сердце. — Имя Рама возводится к корню рам, означающему«радовать(ся)».
(обратно)312
Удача - Шри (см. примеч. к III. 35-36).
(обратно)313
Четыре средства политики— умиротворение, подкуп, кара (война), сеяние раздора.
(обратно)314
Каушика — родовое имя Вишвамитры.
(обратно)315
Локоны, как вороньи крылья — традиционная прическа юноши (особенно воинского сословия), оставлявшая по три или пять локонов на висках.
(обратно)316
Месяцы мадху и мадхава — обычно называемые чайтра и вайгиакха, соответственно: март-апрель и апрель-май.
(обратно)317
Бурная и Крушащая — соответственно: Уддхья и Бхидья, реки, нередко упоминаемые в поэзии, но определенно не локализованные.
(обратно)318
«Сила» и «пересила» — бала и атибала соответственно.
(обратно)319
Мадана- Опьяняющий, одно из имен бога любви.
(обратно)320
С у к е т у — царь якшей, горных духов, чья дочь проклятием мудреца Агастьи была обращена в демоницу.
(обратно)321
Тадака - дочь Сукету.
(обратно)322
Карлик - Вамана, ипостась Вишну.
(обратно)323
Бандхуджива- красный цветок Pentapetes phoenicea.
(обратно)324
Виканката -дерево Flacourtia sapida, древесина которого употреблялась для изготовления ритуальной утвари.
(обратно)325
Гаутама- великий подвижник, о соблазнении его супруги Ахальи богом Индрой повествуется в эпосе. Через тысячу лет Рама освободил Ахалью от проклятия, обратившего ее в камень.
(обратно)326
Звезды Пунарвасу — Кастор и Полидевк в созвездии Близнецов.
(обратно)327
Шива пустил стрелу — см. примеч. к III. 51—52.
(обратно)328
Бхаргава — т. е. потомок Бхригу, родовое имя героя Парашурамы, грозы кшатрийского рода; как и Рама, считается одним из воплощений Вишну, но связан также с шиваитским культом. Парашурама — букв. «Рама с топором».
(обратно)329
Ними - сын Икшваку, давший начало ветви Солнечного рода, правившей в Видехе.
(обратно)330
Кушадхваджа - младший брат царя Джанаки.
(обратно)331
Сын Винаты - Гаруда (см. примеч. к VI. 46-51).
(обратно)332
Кто приносил поминальную жертву отцу. — Парашурама истреблял кшатриев, мстя за убийство своего отца царем Картавирьей (см. примеч. к VI. 38-43). Ниже упоминаются деяния этого героя, отец которого был брахманом, мать же принадлежала к кшатрийскому роду.
(обратно)333
Краунча — см. примеч. к IX. 1 — 13. По некоторым версиям, проход в горе Краунча разверз Парашурама.
(обратно)334
Сын Шивы — зд. Сканда.
(обратно)335
Обратившись лицом к востоку — т. е. в сторону царства Индры на небесах.
(обратно)336
Качество страсти — см. примеч. к VIII. 10—23. Качество страсти (раджас) считалось присущим преимущественно воинскому сословию
(обратно)337
Дандака — под этим названием известны были в древности обширные леса, простиравшиеся на юг от гор Виндхья до реки Кришна и от Восточной Видарбхи до границ Калинги; иногда под ним подразумевается только Джанастхана (см. примеч. к VI. 60-65).
(обратно)338
Читракута — гора, на территории совр. Бунделькханда.
(обратно)339
Деревянные сандалии - Использование обуви как символа власти известно не только в Индии (например, в средневековой Германии).
(обратно)340
Нандиграма- деревня, близ совр. Давлатабада.
(обратно)341
Пернатый сын Индры - зд. ворона (в соответствующем эпизоде в «Рамаяне» она так не именуется).
(обратно)342
Шравана - июль-август,
(обратно)343
бхадрапада см. примеч. к IX. 53-54
(обратно)344
Панчавати- часть леса Дандака у истоков Годавари.
(обратно)345
Кхара - младший брат Раваны, далее приводятся имена других ракшасов.
(обратно)346
Властитель птиц - Джатаюс, коршун (или ястреб), друг Рамы, безуспешно пытавшийся спасти Ситу от Раваны.
(обратно)347
Кабандха — чудовищный демон, безголовый, с единственным глазом на животе, убитый Рамой, после чего обратился в гандхарва.
(обратно)348
Товарищем по несчастью. -Обезьяний царь Сугрива тоже лишился супруги, которую вместе с царством отобрал у него его брат Балин.
(обратно)349
Сын Ветра- Ханумай, сын бога Ваю.
(обратно)350
Сампати - брат Джатаюса (см. примеч. к XII. 51-56), встретившийся ему и указавший путь.
(обратно)351
Акша - сын Раваны, убитый Хануманом.
(обратно)352
Вибхишана - брат Раваны, добродетельный ракшас, перешедший на сторону Рамы.
(обратно)353
Расатала — нижний из семи ярусов подземного мира.
(обратно)354
Ситу... привела в себя Триджата — отклонение от канонической версии «Рамаяны», где это делает Сарама, супруга Вибхишаны, а Триджата, другая добродетельная ракшаси, утешает Ситу в другой ситуации, когда она узнает о победе Индраджита над Рамой и Лакшманой.
(обратно)355
Мегханада — имя сына Раваны, более известного под эпитетом Индраджит, Победитель Индры. В начале битвы на Ланке он поразил насмерть заколдованными стрелами-змеями Раму и Лакшману, но героев спасает явление Гаруды, разрушающего чары.
(обратно)356
Кумбхакарна - страшный великан, погруженный богами в сон ради спасения мира от него, был разбужен Раваной во время великой битвы; в битве Сугрива, взятый им на время в плен, откусил ему нос.
(обратно)357
Матали — колесничий Индры.
(обратно)358
Младший брат бога богатств - Равана, сводный брат Куберы.
(обратно)359
Сфера, что служит распространению звука — традиционно под этим понимается поднебесье, сфера эфира (акаша)
(обратно)360
Дарующее усладу светило — месяц.
(обратно)361
Десять направлений — включают страны света, промежуточные направления, зенит и надир.
(обратно)362
Великая юга — махаюга, время существования вселенной от сотворения до растворения миров (пралая), сочетание четырех мировых периодов — юг (ср. с четырьмя веками греческой космогонии), в промежутках между которыми Вишну пребывает в состоянии сна йоги — отрешения от внешнего мира.
(обратно)363
Первозданный Человек - Пуруиша образ ведийского мифа, отождествляемый здесь с Вишну, который в поздней индуистской мифологии и иконографии изображается обычно возлежащим на великом змее Шеше посреди Мирового океана; Брахма, бог-творец, восседает на цветке лотоса, растущем из пупа Вишну.
(обратно)364
Искали убежища в том океане — по-видимому, подразумевается обычное для древней поэзии отождествление гор с облаками. См. примеч. к III. 40-43.
(обратно)365
Земли, подъятой... Первозданным - подразумевается воплощение Вишну в образе Вепря (см. примеч. к VII. 55-58).
(обратно)366
Бимба - плоды Momordica monadelpha, в индийской поэзии обычно сравниваются с губами красавиц.
(обратно)367
Тремя потоками текущая река — Ганга, подразумевается, что она протекает по небу, земле и подземному миру.
(обратно)368
Мальяват - мифическая гора на восток от горы Меру (см. примеч. к I. 11-16).
(обратно)369
Пампа - озеро в Южной Индии, между реками Кришной и Тун-
габхадрой.
(обратно)370
Тот мудрец — Агастья (см. примеч. к IV. 4—25), низверг с неба нечестивого царя Нахушу из Лунной династии, узурпировавшего трон Индры (этот миф излагается в эпосе).
(обратно)371
Панчапсарас- букв. Озеро Пяти Нимф; упоминаемая история излагается в третьей книге «Рамаяны», но там имя героя не Шатакарни, а Мандакарни.
(обратно)372
Сутикшна- отшельник, в обители которого Рама гостил некоторое время на своем пути в изгнание (упоминается в «Рамаяне»).
(обратно)373
Шарабханга- мудрец, вознесшийся в мир Брахмы после посещения его обители Рамой (на пути к Сутикшне, в лесу Дандака).
(обратно)374
Читракута - гора (на территории совр. Бунделькханда), где некоторое время пребывал в изгнании Рама.
(обратно)375
Священная роща Атри - Рама посетил ее, покинув Читракуту.
(обратно)376
Анусуйя — чаще Анасуйя, супруга Атри (см. примеч. к II. 75).
(обратно)377
Поза воина — поза стоящего на страже, выпрямившись.
(обратно)378
Баньян, называемый Темным — священный баньян, которому Сита молилась о благополучном возвращении Рамы, на пути из Айодхьи к Читракуте («Рамаяна», II).
(обратно)379
Нишады - неарийские племена Северной Индии; их владыка -Гуха, друг Рамы, близ его столицы Шрингаверапура на Ганге они встретились на пути Рамы из Айодхьи к Читракуте.
(обратно)380
Сумантра- колесничий царя Дашаратхи, провожавший Раму в изгнание до этого места.
(обратно)381
Озеро Брахмы — священное место паломничества в Гае (совр. Бихар), считалось источником всех рек (расположено далеко от Сараю).
(обратно)382
Непроявленное - авъякта, под этим термином в философии санкхья понималась изначальная материя; возведение ее здесь к Осознанию (буддхи) означает эволюцию понятия в идеалистическом духе.
(обратно)383
Покровительствующее божество - подразумевается дух
волшебной колесницы, управляющий ею по воле владельца.
(обратно)384
К сыну Сумитры - т. е. к Лакшмане.
(обратно)385
Будха - см. примеч. к I.
(обратно)386
Брихаспати - планета Юпитер.
(обратно)387
Кроша — мера длины, около 3,5 км.
(обратно)388
Косою, которую столица-жена распустила — имеется в виду обычай заплетать волосы в одну косу по уходе мужа из дома и до его возвращения.
(обратно)389
Анусуйя — см. примеч. к XIII. 50—53.
(обратно)390
Отдал Пушпаку опять владыке Кайласы -т. е. богу Кубере, у которого ее когда-то отобрал Равана.
(обратно)391
Предводитель воинства богов - Сканда (см. примеч. к II. 75 и к III. 22-24), изображался шестиликим; согласно мифу о его рождении, лишенный матери, был вскормлен шестью нимфами Криттиками (олицетворяющими созвездие Плеяд).
(обратно)392
Сара - вид тростника Saccharum sara.
(обратно)393
Бхаргава — Парашурама, см. примеч. к XI. 43—46.
(обратно)394
Певец... чей горестный возглас... сложился в стих — Вальмики, «первый поэт», согласно легенде, излагаемой в начале «Рамаяны», создал стихотворный размер шлока непроизвольно, о чем здесь упоминается.
(обратно)395
В реке Тамаса, избавляющей от тьмы - игра слов, построенная на созвучии Тамаса и тамас, «тьма».
(обратно)396
Поручается травам последний отблеск луны, поглощаемый душами предков -имеются в виду фосфоресцирующие ночью травы; по представлениям древних, месяц убывает от того, что боги и тени предков поглощают нектар — сому, из которого он состоит, и прибывает, наполняемый солнцем.
(обратно)397
Пауша - декабрь-январь, в подлиннике более редкое название этого месяца: сахасъя; луна источает холодную росу или иней.
(обратно)398
Носитель Рогового лука — Шарнгин, эпитет Вишну, к атрибутам которого принадлежит чудесный лук Шарнга («сделанный из рога»).
(обратно)399
Дабы имя его соответствовало своему значению. — Шатругхна, букв. «Истребитель врагов».
(обратно)400
Валакхильи - мифические мудрецы, сопровождающие колесницу Солнца, с палец величиною, но обладающие великим могуществом.
(обратно)401
Мадхупагхна - Обитель Мадху; согласно комментариям, Мадху — имя отца демона Лаваны, Кумбхинаси, мать Лаваны, сестра Раваны; имеется в виду местность близ Матхуры (28-30).
(обратно)402
Муста - трава Cyperus rotundus.
(обратно)403
Калинди - зд. другое название Ямуны.
(обратно)404
Мудрый творец мантр — имеется в виду Валъмики.
(обратно)405
Каланеми — демон, воплотившийся на земле в образе злого царя Камсы и убитый Кришной (Вишну).
(обратно)406
Сын Вивасвата — Яма, бог смерти.
(обратно)407
В восточном обрядовом шатре. — В постройке на восток от места жертвоприношения должен пребывать с женою тот, ради кого совершается обряд.
(обратно)408
Ракшасы... стали... стражами. — В подлиннике непереводимая игра слов.
(обратно)409
Сын Прачетаса - зд. Вальмики.
(обратно)410
Испив святой воды. - Вода из рук брахмана очищала и ограждала от лжи.
(обратно)411
Юдхаджит - царь кекаев, дядя Бхараты по матери.
(обратно)412
Такша и Пушкала - сыновья Бхараты, основатели, соответственно, городов Такшаишла - в древности крупнейший город северо-западной Индии (на месте совр. Таксилы в Пакистане), и Пушкалавати - город в Гандхаре (совр. Западный Пенджаб), в древности — столица страны.
(обратно)413
Карапатха. — В «Рамаяне» Карупатпха приблизительно определяется как западная часть совр. Уттар-Прадеш.
(обратно)414
Дурвасас — грозный мудрец, проклявший Шакунталу (см. в предисловии).
(обратно)415
Закон, оставшийся на трех ногах. — Священный Закон {дхарма) в индуистских текстах воплощается в образе коровы, стоящей на четырех ногах в эру Крита-юги (Золотой век), но затем утрачивающей по одной ноге в каждую последующую югу.
(обратно)416
Кушавати - город в Южной Косале, в восточных отрогах гор Виндхья.
(обратно)417
Шаравати отождествляется с Шравасти, одним из крупнейших городов древней Индии, куда перенесена была столица страны из Айодхьи (в районе совр. границы Индии и Непала).
(обратно)418
Неся перед собой жаровню. - Вдовец должен был всюду носить с собой огонь домашнего очага.
(обратно)419
Кадамба - дерево с оранжевыми благоухающими цветами (Naucleacadamba).
(обратно)420
Соратники Рамы — имеются в виду мифические обезьяны, которым приписывалось божественное происхождение; взойдя на небеса, они не оставили достаточно места для бывших жителей Айодхьи.
(обратно)421
Владыка Ланки и Сын Ветра — Вибхишана и Хануман соответственно.
(обратно)422
Четверорукий бог— Вишну.
(обратно)423
Восьмеро первозданных слонов - созданы были Брахмой из скорлупы Мирового Яйца (зародыша вселенной), над которой он пропел семь священных песнопений - саманов.
(обратно)424
С той стороны, что отмечена знаком Агастьи — см. примеч. к IV. 44-48.
(обратно)425
Арджуна — род миробалана.
(обратно)426
Бог, живущий в душе — Манобхава, эпитет Камы, бога любви.
(обратно)427
Вождь Ветров — Марутват, эпитет Индры.
(обратно)428
Великий Орел - Гарутмат, зд. эпитет Гаруды (см. примеч. К VI. 46-51).
(обратно)429
Такшака- мифический змей, сын прародительницы змей Кадру.
(обратно)430
Дайтьи — род демонов-асуров, врагов богов.
(обратно)431
Обряд освящения оружия — нираджана, совершался царями в месяц ашвина (сентябрь-октябрь) или в месяц карттика (октябрь-ноябрь), перед выступлением в поход.
(обратно)432
Книга Заклинаний -«Атхарваведа», более других Вед связанная с царскими обрядами.
(обратно)433
Враг Трипуры — Шива, одним из главных подвигов которого было разрушение города демонов Трипуры.
(обратно)434
Кешава - Прекраснокудрый, имя-эпитет Вишну или Кришны.
(обратно)435
Шесть внутренних врагов — согласно комментариям: вожделение, гордость, опьянение, гнев, алчность, желание.
(обратно)436
Как не отобрать у змея драгоценного камня. -По поверьям, змей-наги носили драгоценные камни на клобуках.
(обратно)437
Шестиликий - бог Сканда (см. примеч. к XIV. 21-23).
(обратно)438
Шесть средств политики — см. примеч. к VIII. 10—23.
(обратно)439
Шесть родов войск — согласно комментарию Хемадри: основные силы, наемники, союзные, «земельные» (видимо, призванные на время войны), вражеские (т. е. присоединенные к своему войску после завоевания чужой страны), лесные (племена).
(обратно)440
Четыре обычая царского правления — подразумеваются четыре средства военной политики, см. примеч. к X. 78—86.
(обратно)441
Восемнадцать облеченных саном — традиционно сюда относились: главный советник, верховный жрец, наследник трона, военачальник, привратник, смотритель внутренних покоев и др. высшиечиновники-царедворцы.
(обратно)442
Шестой элемент мироздания — после воды, огня, воздуха, эфира и земли.
(обратно)443
Восьмым из великих горных хребтов. — Семь горных хребтов, названные в комментариях: Махендра, Малайя, Сахья, Шактимат, Рикшават, Виндхъя, Париятра.
(обратно)444
Нишадха — страна в Центральной Индии, локализуемая в верхнем течении реки Нармада, однако под горой Нишадха подразумевается некий горный хребет на юг и восток от мифической горы Меру, и упоминаемую в эпосе под этим названием страну комментаторы склонны помещать на севере, в Гималаях.
(обратно)445
Набхас - другое название месяца шравана (июль-август).
(обратно)446
Пундарика - букв. Лотос, один из восьми мировых слонов (см. примеч. к I. 75-79), поддерживающий землю с юго-востока (страна Сурьи, бога солнца); в других текстах не выделяется.
(обратно)447
Высший Дух- или Первозданный Дух, зд. Вишну.
(обратно)448
Гору того же имени — Париятра — см. примеч. к XVII. 76—80; по-видимому — западная часть горного хребта Виндхъя.
(обратно)449
Ашвины - Конники, божества утренних и вечерних сумерек, изображались как двое братьев-близнецов, вечно юные и прекрасные.
(обратно)450
Вьюшиташва - можно перевести как «Населивший конями».
(обратно)451
Всемогущий — Вишвешвара, зд. эпитет Шивы, далее имена и эпитеты созвучны повторением битва — все.
(обратно)452
Хираньякашипу - царь демонов, сокрушенный Вишну, имя (букв. «Одетый в золото») созвучно Хираньянабха - Золотой пуп.
(обратно)453
Постигшего суть Брахмана - т. е. Мировой Души, воплощением которой является окружающий мир.
(обратно)454
Мир Брахмана— мир вечного блаженства, откуда уже не возвращаются к земному существованию.
(обратно)455
Властелин Птиц - эпитет Гаруды (эмблема Вишну).
(обратно)456
Омовением в Трех Озерах — подразумеваются три священных места паломничества.
(обратно)457
Мир Тридцати - см. примеч. к IX. 53 — 54.
(обратно)458
Созвездие Пушья — восьмая «лунная стоянка», соответствует трем звездам в созвездии Рака; название восходит к корню пуш, «процветать», на чем основывается игра слов в тексте оригинала.
(обратно)459
Джаймини — легендарный мудрец древности.
(обратно)460
Агниварну, исполненного огненного пыла. — В подлиннике игра слов: Агниварна букв. Огнецвет.
(обратно)461
Лес Наймиша — священное место на левом берегу реки Гомати (восточнее совр. Лакхнау).
(обратно)462
Дерево бакула во время обряда. — Чтобы расцвести, оно должно быть опрыскано вином из уст юной девы.
(обратно)463
Амаравати — Город бессмертных, мифическая столица Индры на небесах.
(обратно)464
Алака — см. примеч. к IX.
(обратно)465
Кутаджа- растение с белыми цветами, Wrightia antidysenterica.
(обратно)466
Арджуна - см. примеч. к XVI. 43—53.
(обратно)467
Кадамба - см. примеч. к XV. 97-99.
(обратно)468
Месяц картика — соответствует октябрю-ноябрю.
(обратно)469
Как пожирает проклятие Дакши месяц - Согласно мифу, месяц обречен убывать вследствие проклятия Дакши, божественного мудреца, отца 27 жен бога луны Сомы (воплощающих созвездия лунного зодиака), обиженных невниманием супруга.
(обратно)470
Шравана -В подлиннике: набхас (см. примеч. к XVIII. 4-7)
(обратно)
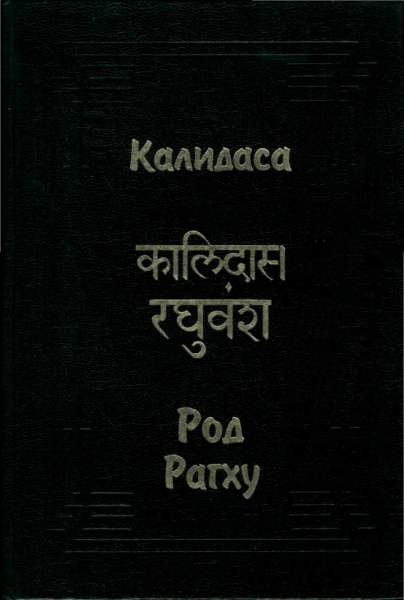

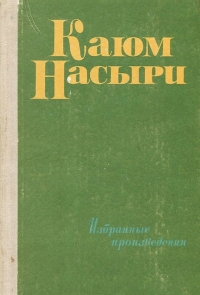


Комментарии к книге «Род Рагху», Калидаса
Всего 0 комментариев