Анар Расул оглу Рзаев Деде Коркут
Данное издание осуществлено при поддержке Фонда Марджани с целью возрождения культурного наследия, развития сотрудничества в области культуры и образования, укрепления дружбы и взаимопонимания между народами России и СНГ. Президент Фонда Рустам Сулейманов.
© Анар Расул оглу Рзаев, автор переложения
© Тогрул Нариманбеков, иллюстрации
© Халык Короглы, вступительное слово
© Татьяна Аникеева, Дмитрий Васильев, послесловие и комментарий
© «Издательский дом Марджани»
© Suleiman Collection
* * *
Доктор филологических наук X. Короглы Об этой книге и ее истоках
В 1815 г. немецкий востоковед Диц (1751-1817) опубликовал в переводе на немецкий язык одно из двенадцати сказаний огузского героического эпоса «Книга моего деда Коркута», рукопись которого была обнаружена в Национальной библиотеке города Дрездена. Перевод вызвал настоящую сенсацию. Огузский Тепегёз (Темя-глаз), главный персонаж памятника, являл собой родного брата циклопа Полифема из «Одиссеи» Гомера.
Возникает вопрос: какова связь между древнегреческим мифологическим образом и столь же мифологическим персонажем эпоса огузов, переселившихся из Центральной и Средней Азии на территорию Азербайджана и Малой Азии в XI веке? Для выяснения этого вопроса обратимся сначала к древнегреческому путешественнику и историку Геродоту (V в. до н. э.). После описания исседонов – одного из многочисленных племен Центральной Азии – он сообщает: «..А выше его, по рассказам исседонов, живут одноглазые люди и стерегущие золото грифоны. Со слов исседонов повторяют это скифы, а от скифов знаем мы, почему и называем их по-скифски аримаспами. Словом „арима“ скифы называют „один“, а „спу“ на их языке – „глаз“». Территория аримаспов, судя по древним источникам, находилась где-то между Восточным Уралом и Алтаем. Для нас особенно ценен тот факт, что миф этот бытовал в тех местах, где обитали «аримаспы» Геродота. В самом деле, в XIX в. казахский этнограф Ч.Ч. Валиханов (1835-1865), а вслед за ним русский востоковед П.В. Остроумов записали в киргизско-казахских степях миф об одноглазых великанах, сюжет которого в главных чертах совпадает с мифом о Полифеме в «Одиссее», в особенности со сказанием о Тепегезе «Книги моего деда Коркута».
А кто же были огузы? Так именовали себя объединенные тюркоязычные племена, жившие еще в VI–VIII вв. на Алтае и в Центральной Азии, а до X в. – в Средней Азии и Поволжье. С конца X по XIII в. они проникали в Закавказье, оседали там или вели кочевой образ жизни. В течение длительного времени эти племена играли одну из главных ролей в этногенезе азербайджанцев и стали основной составляющей этого народа. Огузы обладали богатым фольклором, в частности эпосом, который из поколения в поколение передавался изустно. На новой родине, в Азербайджане, очевидно, в XIII в., они синтезировали двенадцать народных сказаний о древних богатырях, мифических персонажах типа упомянутого Тепегеза, расцветили их многими событиями из собственной жизни уже на территории Закавказья и Малой Азии, создав, таким образом, великолепный по языку и стилю эпический памятник – «Книгу моего деда Коркута», дошедший до нас в рукописи XVI в.
Огузские сказания, включенные в упомянутый памятник, разнотипны и не связаны между собой ни темой, ни сюжетом. Общими для них являются лишь имена героев и персонажей, а главное – образ древнетюркского старца, певца подвигов огузских богатырей Деде Коркута.
Являясь эпической историей народа, сказания памятника в первую очередь ярко выражают межплеменную сплоченность перед опасностью нападения врагов. Многие из них насыщены бытовыми и этническими деталями. Красочно описаны в памятнике всевозможные приключения огузских богатырей, свадебные обряды, единоборство героев с силами зла. В сказаниях отражены и социально-нравственные черты огузов, родоплеменные связи и взаимоотношения в семье. Только в одном, двенадцатом, сказании говорится о разногласиях и распре среди огузов. Весьма вероятно, что это сказание складывалось в период борьбы между огузскими беками за власть.
По мотивам «Книги моего деда Коркута» азербайджанский писатель Анар создал повесть, которая предлагается вниманию читателей. Свою повесть Анар назвал «Деде Коркут». Он построил ее так, что в ней освещены почти все сюжеты, сюжетные линии, эпизоды и даже отдельные мотивы памятника далекой старины. В то же время повесть эта – оригинальное произведение. В ней очень рельефно подчеркнуто все то положительное, чем жило огузское общество и что увековечено сказителями. Основной пафос повести Анара составляет стремление огузов жить в мире и согласии между собой и с соседями. Анар проявил большое умение, создав композиционно целостное произведение из разносюжетных сказаний первоисточника. Фактически он синтезировал эпическую историю огузов, художественно переосмыслив все то, что происходило с ними, чем они жили, какими идеалами руководствовались.
События повести развиваются в совершенно ином плане, чем в «Книге моего деда Коркута». Автор начинает свое повествование с междоусобиц давно минувших дней, когда огузские беки уничтожали друг друга, а погибая, оборачивались грудой камней. Это очень удачный ракурс, напоминающий нам о реально существующих памятниках – надгробных камнях и каменных фигурах (балбалах), воздвигнутых над могилами древнетюркских, в том числе древнеогузских богатырей. Ими богаты просторы Сибири и Енисейской поймы. Этот своего рода эпиграф, вмонтированный писателем в ткань эпических сказаний, во многом разъясняет, почему огузские племена покинули свою родину и пустились в бесконечные дали, пока не добрались до Кавказских гор и малоазийских степей, принося с собой и передавая из уст в уста песни о подвигах и поражениях своих далеких предков. Новаторством писателя является и то, что он ввел в повесть известную легенду о бегстве Деде Коркута от смерти. Этой легенды нет в огузском памятнике, но она очень популярна среди тюркоязычных народов. Мотив бегства проходит сквозь всю повесть, делая тем самым Деде Коркута свидетелем всех событий, которые и побудили его сложить и спеть свои сказания. В повести значительно переосмыслен миф об Одноглазом. Он превращен в увлекательный рассказ о грабителях караванов. В эпическом плане выдержано описание борьбы этого чудища с одним из самых обаятельных героев памятника – Бейреком, победившим одноглазого великана и освободившим купцов из плена.
Повесть Анара написана в стиле эпических произведений. То романтично-лирические, то суровоэпические, то фантастические, увлекательные сюжетные линии, занимательные сцены и эпизоды делают ее привлекательной не только для юношества, которому она адресована, но и для всех любителей художественного слова.
* * *
Зеленогрудые древние горы такой схватки не знали. Глубокие тесные ущелья такого побоища не ведали.
Был тот день тяжким для огузов. Друг сражался с другом, родич с родичем, брат с братом, отец с сыном. Откуда грянула на головы племени огузского кровавая беда?
Пусть придет праотец народа, мудрый прорицатель Деде Коркут, возьмет в руки кобзу, слово молвит, песнь затянет, поведает о том, что было, что миновало.
Но Деде Коркут песни не заводил, кобзы не трогал. Говорили шестоперы, гремели мечи, свистели стрелы, ржали кони. Кто уловил бы хоть слово, кто стал бы слушать кобзу? Деде Коркут с увещеванием подходил к огузским конникам, призывал прекратить братоубийство, но никто на него не взглянул, никто не вслушался. У воинов, никогда не вынуждавших Деде Коркута повторять что-либо дважды, сегодня пылали глаза, мутился разум.
Двое джигитов во весь опор гнали коней навстречу друг другу. Сшиблись. Кони взвились на дыбы. Один всадник, схватив другого за пояс, швырнул его наземь. Но смерть настигла и того, кто сбросил его с седла. Стрела со свистом вонзилась в грудь его. Он простер руку, обнял шею своего коня, соскользнул на землю. Еще одна шальная стрела попала в коня. Конь вытянулся рядом с джигитами.
Ратники истребляли друг друга: рубили мечами, сокрушали дубинами; кто прицеливался стрелой, кто нападал с копьем, кто, раскрутив аркан, сбрасывал всадника с седла…
Погибая, джигиты и кони застывали, обращались в камень. Возгласы, стоны, ржание слышались все реже.
Под конец никого не осталось и ничего не слышалось. Поле брани было заполнено каменными телами. Каждый застыл в том движении, в каком застигла его смерть.
Среди этих каменных истуканов горестно брел седой старец – Деде Коркут, ведя в поводу жеребца с белой звездой во лбу.
Он взобрался на вершину утеса, посмотрел вокруг. Каменные изваяния утратили четкость линий. Теперь это были уже не люди, не лошади, а просто похожие на них причудливые скалы. Камни, камни, груды камней – только это и осталось от кровавой бойни! Только это и осталось от огузских племен!
Камни, скалы, утесы… И ни единого звука, ничего живого…
Вздохнул Деде Коркут, заплакал, дернул за узду своего жеребца с белой звездой во лбу, двинулся в путь, прошел горы и ущелья, вышел к лесу. Был этот буковый лес кладбищем. Казалось, буки, словно кроты, выбирались из могил. А на могилах стояли каменные бараны. Будто целое стадо превратилось в камень в этом лесу.
Деде Коркут посмотрел на каменных баранов, посмотрел на могилы и услыхал какой-то звук. Обернулся и увидел, что молодой парень в черных штанах копает землю.
– Парень, – окликнул его Деде Коркут, – что это ты роешь?
Парень искоса взглянул на Деде Коркута. На лице его и в глазах мелькнуло что-то зловещее, но он спокойно сказал:
– Могилу рою, Деде.
– Кому?
– Тебе.
Вздрогнул Деде Коркут. Парень продолжал свое дело.
Отлетали в сторону комья земли, рос холмик на краю ямы, углублялась могила. Страх охватил Деде Коркута. Опешил он, остолбенел, но послышался новый звук. Он поднял голову. Щебетавшие на дереве птахи, как маленькие камушки, посыпались с веток на землю. Их никто не сбивал – они сами вдруг попадали. Попадали и застыли. И само дерево вдруг высохло, зеленые листья пожелтели, опали, и понес их ветер.
Ветки оголились.
Росистые луговые травы расти перестали.
Журчащие родниковые воды течь перестали.
Быстрокрылые птицы на лету остановились.
Быстроногие олени на бегу замерли.
Куда ни смотрел Деде Коркут, везде он видел смерть.
Из чащобы с шипением выползла пестрая змея, обвила ногу Деде Коркута и, подняв головку, приготовилась ужалить его.
Деде Коркут встрепенулся, метнулся в сторону, вскочил на своего жеребца с белой звездой во лбу. Конь фыркнул, сорвался с места, помчался в горы, унося Деде Коркута от могилы, от смерти.
Но и парень не оставил работы. Долго он смотрел вслед исчезающему всаднику, потом усмехнулся и вновь стал копать.
Деде Коркут перевалил гору Газылык, на которой и летом не тают снег и лед, пролетел по отвесным скалам через бурные реки, через долины и ущелья. Его белая одежда стала бурой. Явился он в другие края.
Оказался Деде Коркут на берегу бескрайнего моря. Берег был пуст. Он спешился. Набрал в горсти морской воды, ополоснул лицо, посмотрел на солнце, улыбнулся, лицо его посветлело. Вдруг, уловив неясный звук, он прислушался, осмотрелся, увидел вдали какую-то тень, направился к ней. Подошел поближе – мужчина в зеленых штанах землю роет. Деде Коркут поздоровался.
– Что это ты роешь, добрый человек? – спросил он.
– Тебе могилу рою, Деде, – сказал мужчина и, распрямившись, взглянул на него.
Облик мужчины, годы его и лицо были иными, но глаза все те же – зловещие глаза давешнего парня.
Деде Коркут наклонился, заглянул в могилу. Могила была глубже, чем прежде, и бугор на краю ее повыше.
Деде Коркут вскочил на коня, стегнул его плетью. Конь унес его прочь.
Они неслись через камыши, через болота, по непроходимым топям, сквозь густые леса, пили быстротекущую голубую воду. Попадали под дождь, под град, под снег. Добрались до белого края, где на все четыре стороны только лед, снег да иней. Ни голоса человеческого, ни следа. И конь устал, и Деде Коркут устал.
Спешился Деде Коркут, посмотрел направо, посмотрел налево и вдруг услышал неясный звук. На белом поле виднелась тень. Человек преклонных лет, в синей шубе, топором рубил лед. Деде Коркут подошел к нему. Человек, распрямившись, посмотрел на Деде.
– Мало осталось, Деде, – сказал он. – Ты же знаешь, что мужчине могила должна быть по колено. А по колено – что тут осталось?..
Деде Коркут взглянул – глаза были те же, и могила во льду глубока. Что там осталось, чтоб по колено?
Деде вскочил на жеребца с белой звездой во лбу, пришпорил его. И конь был утомлен, и всадник.
Поскакали, помчались – и из этого края ушли. Вновь перевалили гору Газылык, на которой и летом не тают снег и лед, – и вдруг увидели, что вернулись туда, откуда ушли. Тот самый буковый лес, те же каменные бараны. Тот же парень. Нет, не парень, какой там парень! Согнувшийся дугой старец стоял по колено в яме. Увидел Деде Коркута, вылез. Был он очень стар, волосы у него поредели, но глаза были все те же.
– А, Деде, – сказал он, – ты вернулся? Понял, что от смерти не убежишь? Могила готова. Ну, давай ложись!
Старец вошел в лес и исчез среди деревьев.
Деде Коркут слез с коня – у него не осталось сил бежать от смерти. Присел он на бугор на краю могилы. Из чащобы с шипением выползла пестрая змея, извиваясь, подползла к Деде. Деде увидел ее, но не двинулся с места. Безмолвно сидел и ждал.
Мертвые птицы рассыпались по земле. Трава, цветы пожухли. Ветки были голые. Словно и мир покорился смерти.
Деде Коркут горестно огляделся по сторонам, посмотрел на своего жеребца с белой звездой во лбу, понурившего голову, посмотрел на кобзу, привязанную к седлу. Встал, вытащил кобзу из мешка, прижал к груди, помолчал. Перед его мысленным взором прошли огузские джигиты, кровавая битва, каменные истуканы, а потом – обломки скал, безликие глыбы камней…
Змея доползла до Деде Коркута. Еще мгновение – и ужалит. Вдруг Деде Коркут провел пальцами по струнам, зазвенели струны, и под звуки кобзы он заговорил:
– Где те гордецы, что кричали, будто мир принадлежит им? Смерть взяла, земля скрыла, а бренный мир и без них стоит. Преходящий мир, смертный мир! Старый Коркут, ты уже мертв, знай это! Караван ушел, ты опоздал, знай это! Сколько ни живи, конец – смерть, исход – разлука…
Деде Коркут играл на кобзе. Пестрая змея хотела его ужалить – и вдруг остановилась. Под звуки кобзы свернулась она, поползла назад, исчезла.
Деде Коркут играл на кобзе. С земли взлетели птичьи стаи – сели на ветки, защебетали.
Деде Коркут играл на кобзе. Выпрямлялись деревья, ветви покрывались листьями, на склонах приподнимали головки цветы, оживали травы, в иссохших руслах зажурчала студеная вода.
Деде Коркут играл на кобзе – и жизнь пробуждалась вновь, а сам Деде позабыл и могилу, и смерть, и вечную разлуку. Вновь жил он в прекрасном мире, воскрешенном струнами кобзы, в мире отважных джигитов, великодушных воинов. Деде Коркут играл – и под звуки кобзы рассказывал о том, что приключилось с огузами. Послушаем, что он рассказывал.
– Однажды хан ханов Баяндур-хан проснулся рано поутру и повелел, чтобы на Высокой горе развели костер.
И вот на вершине Высокой горы пылает костер. И на других вершинах, далеких-далеких, один за другим загораются костры. Говорит Деде Коркут:
– У огузского племени был обычай. Когда созывали огузских джигитов и дев на празднество, на вершине Высокой горы разжигали костер. Увидев огонь, на других горах тоже разводили костры, и так все люди узнавали, что надо одеться понарядней и пойти на пир. Если загорались два костра, все знали, что над племенем нависла опасность, грозит нашествие, – и тогда джигиты вооружались, собирались все вместе.
Собираются огузы на праздник. Перед ними зеленая-зеленая равнина, а на ней яркие разноцветные палатки, шатры, навесы, пологи. На лугу расстелены пестрые шелковые ковры.
По гобустанскому валуну, именуемому Гавалда́ш, четверо бьют круглыми гладкими камнями. В другой стороне гулко звучат большие барабаны, поют золотые трубы, звуки зурны устремляются в небо.
В небо летит дым костров, разведенных в семи местах. В семидесяти семи местах поставлены изукрашенные глиняные кувшины с холодной водой, с красным вином. Сверкают под солнцем медные блюда и казаны. На крючьях висят мясные туши.
Говорит Деде Коркут:
– Баяндур-хан велел поставить свой сирийский полог, велел поднять до небес свой пестрый шатер, велел разложить тысячу шелковых ковров, велел зарезать гору баранов, велел налить озеро вина. Раз в году Баяндур-хан задавал пир и угощал огузских джигитов.
Джигиты по одному подъезжали, слезали с коней, подходили к большой островерхой палатке, приветствовали сидящего на возвышении Баяндур-хана. Рядом с Баяндур-ханом стоял его визирь Алп Ару́з-Лошадиная морда. Как все огузские богатыри, Алп Аруз был громаден. Шуба из девяноста шкур не доходила до пят, папаха из девяноста шкур не налезала на уши. Алп Аруз провожал гостей в палатки. Палатки были трех цветов: белые, золотистые, черные.
Огузские джигиты Бейбура́ и Бейбеджа́н прибыли на пир вместе. Сошли с коней, поздоровались с Баяндур-ханом.
Аруз вышел им навстречу.
– Пройди, Бейбеджан, – сказал он, провожая Бейбеджана в белую палатку. Когда Бейбура тоже хотел войти в белую палатку, Аруз преградил ему путь.
– Бейбура, – сказал он, – твое место в черной палатке.
Бейбуру и тех, кто прибыл с ним, отвели в черную палатку. Пол в черной палатке был застлан черным войлоком, и все здесь было черным-черно – и скатерть, и посуда. И слуги были в черных одеждах. В белой палатке – все белое, а в золотистой – все золотое… Бейбура нахмурился:
– Аруз, – молвил он, – почему ты привел меня сюда?
Аруз отвечал:
– Таково повеление Баяндур-хана!
Бейбура еще пуще расстроился:
– А чем я Баяндур-хану не потрафил? – молвил он. – Моим ли мечом, моим ли столом? Людям ниже меня он белую палатку отвел, золотистую палатку! В чем моя вина, что меня он в черную палатку послал?
Аруз отвечал:
– Баяндур-хан повелел: у кого сын – разместить в белой палатке, у кого дочь – в золотистой. А у кого нет ни сына, ни дочери, того, сказал он, поместите в черной палатке, постелите ему черный войлок, поставьте перед ним мясо черного барана. Станет есть – пусть ест, не станет – пусть идет куда хочет. У кого нет ни сына, ни дочери, того Бог невзлюбил и мы любить не станем.
Бейбура вскочил с места, обратился к своим людям:
– Джигиты мои, уйдем отсюда! Этот стыд постиг меня либо по моей вине, либо по вине моей жены.
Бейбура и его люди пошли прочь из черной палатки. Из других палаток выглядывали, смотрели на них пирующие. А Бейбура ни на кого не глядел, ни с кем не заговаривал. Ни с кем не простившись, вскочил он на коня и бросил Арузу:
– Аруз, – молвил он, – я у тебя в долгу не останусь!
Бейбура разрезал воздух плетью, стегнул коня, конь взвился, сорвался с места. Вслед поскакали люди Бейбуры, удалились, исчезли в пыли.
Владения Бейбуры располагались в цветущей местности Баят. С одной стороны – отвесные горы, с другой – река, а еще – луг, а еще – лес. Шатры и хижины веселили взор. Дым от очагов таял в голубом небе. На берегу реки детвора играла в прятки, в ловитки, в горелки.
Перед одной из хижин стояла Фатьма Брюхатая. Около нее вертелась стайка малышей, и снова она была беременна. Уперев руки в боки, Фатьма кричала:
– Эй, Зулейха́! Зибейда́! Урида́! Что я, помирать уходила? Что с вами стало б, если бы приглядели за моим домом? Воришка-щенок забрел, все вверх дном перевернул…
Из другой хижины вышла женщина, что-то ей отвечала.
Послышался топот копыт. Появились Бейбура и его люди. Перед своим шатром Бейбура спешился, вошел внутрь. Увидев его угрюмым, встревожилась жена его Айна Мелёк.
Бейбура молвил:
– Жена моя, знаешь ли ты, что случилось? Визирь Баяндур-хана Алп Аруз-Лошадиная морда опозорил меня перед всеми. Говорит, нет у тебя ни сына, ни дочери – значит, невзлюбил тебя Бог и мы не полюбим. Ты ли виновата? Я ли? Почему Аллах не даст нам крепкого сынка? За что наказание?
Бейбура чуть не плакал.
– Не гневайся на меня, – отвечала Айна Мелек, – не говори мне столь горьких слов. В чем твоя вина? В чем моя? Значит, судьба наша такая…
Айна Мелек заплакала, заголосила. Бейбура не мог этого вынести и вышел вон. Тяжело шагая, дошел он до границы селения. Играющие дети испугались, что он такой, разбежались. Бейбура тоскливо и долго смотрел им вслед. Топот копыт отвлек его от грустных мыслей. Прискакавший Бейбеджан соскочил с коня, подошел к Бейбуре.
– Бейбура, – сказал он, – не убивайся! Увидишь голодного – накорми, увидишь раздетого – одень, увидишь обремененного долгами – выплати за него. Может быть, настанет еще такой день, когда ты на пиру у Баяндур-хана будешь сидеть в белой палатке как отец своего сына. А если мне Бог пошлет дочь, клянусь, она еще в колыбели будет обручена с твоим сыном!
Бейбура и Бейбеджан обнялись.
Айна Мелек тайно вышла из своего шатра и пришла в хижину Фатьмы Брюхатой.
Фатьма Брюхатая ела. Раздавила в пятерне большую луковицу и захрустела крепкими зубами. Айна Мелек поведала ей свое горе. Фатьма слушала, не переставая жевать. Иногда в хижину заглядывали ее дети, она им совала в руку луковицу и отсылала прочь.
– Что я могу? – сказала она. – В этой развалюхе ни муки, ни отрубей. Верблюд с мельницы не вернулся! Провались он, этот дом! С тех пор, как вышла замуж, ни разу не ела досыта, губы мои не смеялись, ноги мои не видели обуви, а лицо – покрывала. Вот подох бы мой непутевый – вышла бы за другого, может, больше бы повезло…
Айна Мелек опять принялась за свое:
– Муж истаял, как свечка, очень уж горюет. Не знаю, в чем наша вина, что Господь не дает нам ребенка.
Фатьма сказала:
– Эх, пепел на голову и мужей, и детей! Вон у меня девять, – она показала на свой живот, – и десятый в пути! Ну и что? Хорошо мне живется, что ли?.. Ладно, не убивайся так, – добавила она. – Я знаю, тебя заворожили. От колдовства я тебя избавлю, но надо, чтобы ты сделала все, что я скажу.
Среди ночи Фатьма и Айна Мелек пошли на кладбище. В лунном свете могильные камни отбрасывали причудливые тени. Фатьма оторвала от одежды Айны Мелек лоскут и закопала его подле могильного камня.
К утру Фатьма и Айна Мелек пришли к раскидистому дереву. У дерева стояла каменная статуя верблюда. Это было святое место. На ветвях висели лоскутья, тряпицы. Фатьма оторвала от платья Айны Мелек лоскут, намотала на палочки, сделала крохотную люльку, повесила ее на ветку. Три раза обвела Айну Мелек вокруг дерева. Потом, раскачивая люльку, пропела заклинание.
Под вечер Фатьма вышла из хижины, вынесла мужнины шаровары, взялась за штанины. Велела Айне Мелек пройти под одной штаниной, потом под другой…
Бейбура по совету Бейбеджана кормил голодных, наделял раздетых, резал баранов, раздавал их тушами. Люди приходили к дверям Бейбуры с пустыми руками, уходили нагруженные.
Но мечта мужа и жены не сбывалась. Грустно смотрели они друг на друга.
Деде Коркут играет на кобзе, приговаривает:
– О ком поведать вам? О Бекиле? Бекил был стражем огузского племени. Обосновался он на вершине Высокой горы. Охранял он весь край – от крепости Алынджи, от Гянджи и Барды до Железных ворот – Дербента. И радостную весть, и печальную сообщал он всем, зажигая костры.
На самом высоком пике Бекил собрал дрова, подготовил костер, но не зажег. Вооруженный, снаряженный, собрался он на охоту…
Бекил слыл непревзойденным охотником. Он не натягивал тетивы, не выпускал стрелы: догонял джейрана, накидывал аркан ему на шею, доставал нож, прокалывал ему ухо и отпускал. Джейран жил с меткой Бекила.
И вновь Бекил сделал так, улыбнулся довольно, стегнул коня и пустился за другим стадом джейранов. Заарканил еще одного, и ему проколол уши, и его отпустил.
В хижине Фатьмы Брюхатой тихо плакала Айна Мелек.
– Видно, и вправду невзлюбил нас Бог, – говорила она.
Фатьма Брюхатая, по своему обыкновению жуя что-то, поставила на стол арбуз.
– Не грусти, сестрица, – молвила она, – поешь вот арбуза.
– Не хочется, – отвечала Айна Мелек. – Мне все кисленького да солененького хочется.
Фатьма сперва не обратила внимания на эти слова, а потом вдруг вскочила.
– Что?! – крикнула она. – Солененького? Подошла к Айне, они пошептались.
– Да, да, да, – повторяла Фатьма, радостно хлопая ладонью о ладонь.
Айна Мелек онемела от радости. Фатьма быстро срезала верхушку арбуза, разделила его на четыре части и кинула на землю – две упали на одну сторону, две – на другую.
– Мальчик! – сказала Фатьма.
Айна Мелек понесла. Она лежала в своем шатре, Фатьма была рядом с ней.
– Смотри, не ешь зайчатины, а то ребенок будет с заячьей губой, – говорила она. – И ежевику не ешь – беспокойный будет. В зеркало смотрись, на луну гляди, чтобы ребенок был, как молодой месяц.
Бейбура и Бейбеджан вышли на охоту. Они гнали по равнине джейранье стадо. Бейбура натянул тетиву, прицелился, послал стрелу. Подскакали они к раненому джейрану. Стрела вонзилась ему в бок, но Бейбура увидел, что ухо его продырявлено, показал Бейбеджану.
– Видишь, Бейбеджан, – молвил он, – это из джейранов Бекила. Он продырявил ухо и отпустил самца.
– Надо отправить его Бекилу, – отвечал Бейбеджан. – Его добыча!
– Пусть будет так, – сказал Бейбура и дал джейрана одному из своих людей: – Отнесите Бекилу!
В это время подъехал к ним всадник.
– Магарыч, Бейбура! – крикнул он. – У тебя родился сын!
Лицо роженицы Айны Мелек было усталым и счастливым. Около нее стояли треножник и медный таз, полный воды. По древнему поверью, с ними женщина рожает легко. Фатьма Брюхатая покрыла таз чистой тряпицей. В одеяло Айны Мелек, в ее одежду она воткнула иголки – защита от сглаза. Потом Фатьма положила в банку луковицу, отнесла ее к дверям. Под подушкой Айны Мелек спрятала кусок хлеба и мяса.
Бейбура и Бейбеджан скакали. И опять перед ними появился всадник. Окликнув Бейбеджана, он сказал:
– Магарыч, Бейбеджан! У тебя родилась дочь. Бейбура обнял друга.
– Бейбеджан, уговор дороже золота, – сказал он. – Смотри, твоя дочь с колыбели нареченная моему сыну!
Перед Бейбурой стояли три купца.
– Купцы, – сказал Бейбура, – слушайте меня. Судьба подарила мне сына. Я щедро награжу вас. А вы соберитесь в дорогу. День ли, ночь – не глядите. Пройдите черные горы, красные воды, именитые города из края в край до конца земли – и доберитесь до страны греков. К возмужанию сына моего добудьте ему добрые гостинцы.
Потом Бейбура обратился к джигитам:
– А вы, мои джигиты, отправляйтесь к Бекилу. Пусть разожжет костер на Высокой горе, возвестит всему нашему краю: у Бейбуры из рода львов, у Бейбуры с повадкой барса родился сын. Пусть соберутся все воины с открытой душой. Будет большой пир в честь моего сына!
На Высокой горе пылал костер. И на вершинах далеких-далеких гор горели такие же костры.
Бейбура задал большой пир. Гремел Гавалдаш. Взрывались хлопушки. В сорока местах развели огонь, в сорока местах расстелили пестрые ковры. В восьмидесяти местах стояли узкогорлые золотые графины, широкогорлые золотые кувшины. В девяноста местах были сооружены разноцветные палатки – белые палатки, золотистые палатки, черные палатки.
Бейбура молвил жене:
– Хана ханов Баяндура я отведу в золотистую палатку: у него нет сына, только дочь. Алп Аруза пошлю в черную палатку: у него нет ни сына, ни дочери. Бог его невзлюбил, и мы не полюбим…
Джигиты прибывали по одному. Бейбура весело встречал их, провожал в палатки. Алп Арузу он показал черную палатку. Ни он не сказал ни слова, ни Аруз. Аруз вошел – это была такая же палатка, как на торжестве у Баяндур-хана – на полу черный войлок, посуда черная, слуги в черном. Аруз молча сел. Лицо его словно застыло. Но вдруг с усов его закапала кровь. За Алп Арузом это водилось: когда он злился, с усов его капала кровь.
На другом конце становища Айна Мелек встречала женщин. Среди женщин была юная красавица, высокая, с тонким станом, в богатом платье: это была дочь Баяндур-хана – статная Бурла-хатун. Ей исполнилось пятнадцать лет.
Бурла-хатун украдкой, воровато поглядывала в ту сторону, где собрались молодые джигиты.
Молодые джигиты стояли, прислушивались к беседе своих отцов, дядьев, сидящих на коврах.
Невдалеке была огороженная площадка. Через некоторое время на эту площадку обратились все взоры. На нее выпустили быка и верблюда с налитыми кровью глазами. Они были выучены для боя. Трое мужчин справа, трое слева удерживали быка на железной цепи. Вывели быка на середину. С другой стороны шестеро мужчин привели верблюда.
Внезапно бык сорвался с цепи и кинулся не на верблюда, а к изгороди. Все со страху сгрудились в одном углу. Бык налетел на изгородь, разрушил ее и вышел вон.
Люди в смятении натыкались друг на друга, а бык сразу помчался на женскую половину, нацелился рогами на красное платье Бурлы-хатун, ринулся прямо на нее. Испуганная девушка прижалась к палатке. Бык совсем было добежал до нее. Все растерялись, стояли, не шелохнувшись.
Вдруг один из молодых джигитов – парень лет семнадцати – в мгновение ока выскочил вперед, встал перед быком, преградил ему путь, ударил быка кулаком по лбу. Бык остановился как вкопанный. Потом отступил назад и со всей силы кинулся на парня. На этот раз юноша уперся кулаком в бычий лоб. И так оба застыли. Бык не мог одолеть парня, парень быка. У парня взбухли жилы. Бык был сильнее. Вдруг парень убрал кулак и отскочил в сторону. Бык не удержался на ногах, упал на рога. Не упустив минуты, парень выхватил нож и отсек быку голову.
Выпрямился молодой джигит, улыбнулся побледневшей Бурла-хатун в красном платье. А Бурла-хатун, понемногу приходя в себя, улыбнулась молодому джигиту.
Баяндур-хан сказал:
– Молодец! – И, обращаясь к воинам, добавил: – Дайте этому парню добрый меч: он силен. Дайте ему бедуинского коня: он смел. Дайте ему кафтан с вышитой на плече птицей: он быстр. Пусть придет Деде Коркут, даст парню имя.
И вот Деде Коркут стоит в логове льва, на вершине белой скалы, а молодой парень перед ним на коленях, с опущенной головой. Деде Коркут дает джигиту новое имя, приговаривает:
– Сын мой, ты славно сражался, показал себя, одержал победу. Пусть вся жизнь твоя будет победной. И имя пусть будет тебе Газа́н-победитель. Имя я дал, годы пусть судьба даст!
Гости захлопали в ладоши, имя всем понравилось. Бурла-хатун посмотрела на Газана, Газан – на Бурлу-хатун, в сердцах их запылал огонь любви.
Баяндур-хан обратился к Бейбуре:
– Бейбура, пусть наступит день, твой сынок вырастет, проявит себя храбрецом, мы так же порадуемся, а Деде Коркут и ему имя даст!
…Деде Коркут играет на кобзе, продолжает сказ:
– У коня ноги быстрые, у певца язык проворней. Прошли месяцы, утекли годы. И умирали в огузском племени, и рождались. Статная дочь Баяндур-хана Бурла-хатун вышла замуж за Газана, большую для них свадьбу сыграли, большая радость была. У Газана, у Бурлы-хатун родился сын по имени Тура́л. Бейбеджан покинул белый свет, его предали черной земле. Вырос сынок Бейбуры, стал бравым джигитом.
И вот сын Бейбуры, пятнадцатилетний Бейре́к, выехал верхом на прогулку. Он направил коня далеко, к Высокой горе.
По склону горы пешком шел могучий богатырь, сын охотника Бекила, Гараджа Чабан – Черный Пастух.
Праща Гараджа Чабана – сына охотника Бекила – сшита из шкуры трехлетнего теленка. На шитье пошла шерсть трех козлов. Всякий раз он метал камень весом в двенадцать батманов. Брошенный им камень на землю не возвращался. А уж если падал, выбивал яму как для костра и рассыпался в пыль. А там, где падал камень, три года не росла трава. Когда Гараджа Чабан сердился, он хватал большой камень, сжимал его в руке, превращал в прах и пускал прах по ветру. Была у Гараджа Чабана большая пастушья палка. Когда Гараджа Чабан шел, волоча свою палку, по земле тянулась полоса, словно вспаханная сохой. Если смотреть на Чабана сзади, казалось, движется гигантское раскидистое дерево, потому что на голове он нес вязанку толстых сучьев, похожих на древесные стволы. Прыгая по камням, перешагивая расщелины, перескакивая через скалы, он взобрался на вершину Высокой горы. Выбрал место в стороне, стал разводить костер. Отец его, охотник Бекил, сказал:
– Сынок, Чабан, зачем тебе столько деревьев, зачем ты их сюда приволок?
Гараджа Чабан ответил:
– Сегодня у нас в гостях сын Бейбуры. Из этих деревьев я костер разведу, шашлык приготовлю, будем пить и есть, будем гостя угощать!
– Приятного вам угощения, – сказал Бекил. – Зажги огонь кремнем. Огонь от кремневого удара лучше горит.
Сын Бейбуры скакал к вершине Высокой горы, к Гараджа Чабану. А в это время из далеких краев шел верблюжий караван. Караван тех самых купцов, которых много лет назад Бейбура послал в страну греков. Прошел караван через древние города, крепости, руины. Тяжело нагруженные верблюды шагали раскачиваясь. И купцы были усталые, недоспавшие.
Сын Бейбуры и Гараджа Чабан сидели у костра, ели шашлык, приятно беседовали.
Караван спустился в узкое ущелье и с трудом продвигался вперед. Ущелье это называлось Кровавым. По дну Кровавого ущелья текла река.
Огромный человек сидел на склоне горы и, наклонившись, пил воду прямо из реки, текущей по дну ущелья. Лицо этого дикого великана было уродливое, жуткое: у него был всего один глаз – на темени. Теменной глаз-Тепегёз был разбойник. Он останавливал и грабил караваны. С горы скатилась большая скала. Тепегёз подставил плечо и отпихнул скалу.
Через реку, текущую по дну ущелья, вел неширокий мост. Караван направлялся к мосту.
Тепегёз пил воду из реки, услышал перезвон бубенцов и, не поднимая головы, увидел караван. Своим единственным теменным глазом посмотрел он на тяжело нагруженных верблюдов. Караван почти достиг моста, как Тепегёз испустил ужасающий рык. От рыка этого затряслись окрестные горы, покатились камни.
– Эй вы, людишки, – молвил Тепегёз, – остановитесь, разгружайте верблюдов!
Старый купец отвечал:
– Как ты ужасен! Увидев тебя, глаза наши ослепли, руки опустились, губы похолодели, кости размякли. Чего ты хочешь от нас?
– Эй ты, глупец, – сказал Тепегёз, – тебе лицо мое не нравится, а я отнял жизнь у многих красавиц – светлоликих, ясноглазых. Я отнял жизнь и богатство у многих мужчин – белобородых и чернокудрых. И ваше добро заберу, и вас убью. Мясо ваше кину на съедение птицам и червям, а кости – моим щенкам. Ну-ка побыстрее слезайте на землю да тащите груз в мою Азыхскую пещеру!
Тепегёз сдвинул с места огромную скалу и покатил ее на верблюдов. Верблюды испугались. Купцы слезли с верблюдов, начали отвязывать тюки.
Склон горы весь был в рытвинах. Пещеры, норы, берлоги были, как разинутые пасти хищных зверей. Азыхская пещера Тепегёза зияла необъятной пустотой. В ней стояла полутьма, пламя больших светильников, горевших по углам, отбрасывало чудовищные тени. Свисающие с потолка, вытягивающиеся из земли ледовые и известняковые столбы походили на невиданные существа. На стене висели полосатые тигровые шкуры. Повсюду белели кости – человечьи кости, звериные кости. То тут, то там лепились свечные огарки. На каменных выступах стояли человечьи черепа. В стенах были трещины. От писка летучих мышей, гнездившихся в щелях, закладывало уши.
Вошедшие в пещеру купцы тряслись от страха. Тепегёз наклонился, откусил ухо у одного молодого купца, сжевал и проглотил. Купец закричал. Кровь зажурчала, как дудка.
– Быстрее, быстрее развязывайте тюки! – подгонял купцов Тепегёз.
Купцы, дрожа, начали развязывать тюки. Тепегёз рассматривал дорогие товары – шелковые ткани, золото и серебро, каменья, драгоценности, оружие.
– Пах, пах, – говорил он, беря в руки изукрашенный меч, – если уж вы привезли такой прекрасный меч, придется этим мечом срубить ваши головенки.
Среди привезенных купцами даров был и Серый жеребец. Он стоял вместе с верблюдами у входа в пещеру. Молодой купец выбрал удачную минуту, вскочил на спину Серого жеребца и ускакал.
Сын Бейбуры простился с Гараджа Чабаном, сел на коня, спустился с горы на равнину.
Мало ли, много ли скакал молодой купец, а домчался до той же равнины, увидел сына Бейбуры, подскакал к нему, поздоровался. Лицо его было окровавлено. Сын Бейбуры молвил:
– Эй, смельчак, кто ты, откуда? И кто залил тебя кровью?
– Джигит, – отвечал молодой купец, – мы честные купцы. Много лет назад вместе со старшими братьями покинули мы этот край. Ходили в далекие страны, накупили дорогих товаров. Близ Железных ворот Дербента, в Кровавом ущелье, преградил нам путь разбойник. Туловище у него человечье, но на темени всего один глаз. Он отнял у нас товары. Говорит – и жизнь отниму. Откусил мне ухо и проглотил его, забрал моих братьев в плен. Я вырвался, прибежал к тебе. Помоги, джигит! Юноша пришпорил коня.
– Поезжай вперед, указывай дорогу, – молвил он.
Молодой купец отвечал:
– Джигит, этот разбойник очень зол! Может, ты повернешь назад, не захочешь, чтобы слетела с плеч твоя чернокудрая голова, чтобы вытекла твоя алая кровь, не допустишь, чтобы твой белобородый отец, седовласая мать плакали и причитали «сынок, сынок…»?
Юноша молвил:
– Зачем же ты мне обо всем рассказал? Если уж рассказал, я должен пойти: чтобы позор не пал на мою голову, чтобы грязь не забрызгала мне лицо. Что делать? Умру – земля полюбит, останусь жив – народ полюбит.
Они добрались до Кровавого ущелья.
– Эй, Тепегёз! Выходи, сразимся, поборемся, подеремся! Я хочу вырвать добрых людей из лап твоих!
Из темного входа пещеры выглянул единственный глаз Тепегёза. Он посмотрел на юношу, стоящего на дне ущелья, и захохотал.
– Парень, парень, ах ты плутишка этакий, паренек! – молвил он. – На жеребчике рыжем худенький паренек! С коротким мечом паренек, с обломанной пикой паренек, с тонкими стрелами паренек, с запавшими глазами паренек! Предо мной джигит удалым не бывает, как полынь-трава твердой не бывает! Пропащий глупец, сын глупца! Пока я не дотронулся до тебя ни рукой, ни ногой, поди прочь отсюда!
Юноша отвечал:
– Не болтай попусту, паршивый Тепегёз! Что тебе не нравится в моем рыжем скакуне? Увидев тебя, он запляшет. Что тебе не нравится в моем булатном мече? Он с маху разрубит твой щит. Чем тебе моя пика не нравится? Она выпустит дух твой в небо. Моя белая пыльная тетива застонет, мои девяносто стрел изрешетят твою кольчугу. Не запугивай честного воина – выходи, сразимся!
Тепегёз издал рык и вышел из пещеры. От его рыка содрогнулись горы, семь скал семь раз отозвались, камни на склоне горы сдвинулись и покатились. Тепегёз взял в руки палицу и кинулся на юношу. Тот поднял щит, защищаясь от палицы. Тепегёз ударил сверху. Щит раскололся; юноша был ранен, но не упал.
Тепегёз выхватил свой меч, парень – свой, начали они биться, не могли одолеть друг друга. Пиками кололись; лбами сшибались; боролись, хватая друг друга за пояс. Пики ломались, земля разверзалась, а они не могли одолеть друг друга.
Тепегёз зарядил лук, прицелился, выстрелил, ранил юношу в плечо, пролил его алую кровь, поднял свой меч, кинулся на юношу, хотел срубить ему голову, но юноша вывернулся, отскочил, зацепился арканом за ветку большого дерева, сам ухватился за другой конец, раскачался, перепрыгнул на ту сторону реки. Когда Тепегёз повернул голову и хотел посмотреть на него своим единственным глазом, юноша снова перепрыгнул на веревке на этот берег. Так он мотался на веревке туда-сюда, а Тепегёз своим единственным глазом не мог уследить за ним. Но вот юноша подпрыгнул очень высоко и, в воздухе прицелившись, послал стрелу прямо Тепегёзу в глаз. Тепегёз прижал руку к глазу и завопил:
– О-о, мой глаз, о-о, мой глаз! Мой единственный глаз, о-о, мой глаз! Ослепший Тепегёз махал палицей-шестопером направо, налево.
От ветра, вздымаемого этими взмахами, едва не валились с ног верблюды.
Юноша добежал до входа в пещеру, окликнул скорчившихся в углу купцов.
– Выходите, – сказал он. – Я ослепил Тепегёза.
Купцы вышли из пещеры. Старый купец, дрожа от стонов Тепегёза, молвил:
– Сынок, ведь там, в пещере, остались наши товары, наше добро!
– Сейчас я вытащу ваше добро из пещеры, – отвечал юноша и вошел в пещеру.
Тепегёз это услыхал.
– Парень, – сказал он, – ты вошел в мою пещеру. Больше ты из нее не выйдешь. Теперь я тебя так запру, что ты, как баран курдюком, пол пещеры вымажешь.
Тепегёз кинулся в пещеру. Юноша снял с каменного выступа человечий череп и сунул его в руку Тепегёзу. Тепегёз решил, что это голова парня, и крепко схватил ее. Парень выскользнул вон и вытащил за собой товары.
Тепегёз молвил:
– Парень, ты вырвался?
Юноша ответил:
– Вырвался.
Тепегёз едва не лопнул от злости. Он ухватился за известняковый столб и начал его трясти. Задрожали стены пещеры. Юноша, купцы, караван были уже на дне ущелья. Вдруг как будто землетрясение началось. Тепегёз расшатал потолок, обрушил его себе на голову. Поднялся немыслимый грохот, рухнуло полгоры. Тепегёз остался под камнями, под землей.
Караван прошел Кровавое ущелье, вышел на равнину. Старый купец молвил:
– Храбрец! Ты спас нас от смерти. Выбери себе, что пожелаешь.
Юноша мельком взглянул на шелк, на кумач, на драгоценности и ответил:
– Купцы, добро ваше мне не нужно. А вот этот лук, эту палицу и этого серого жеребца я бы взял.
Купцы смутились. Юноша заметил это и усмехнулся:
– Что, много запросил?
Старый купец сказал:
– Нет, джигит, не много. Но у нас есть один покупатель. То, что ты пожелал, он задумал подарить своему сыну.
Юноша спросил:
– А кто же этот покупатель?
– Из Баятского края, Бейбура-бек, – отвечали ему. – Для его сына везем. Юноша улыбнулся, ничего не сказал, стегнул своего коня и ускакал.
Купцы, опешив, смотрели ему вслед.
– Ей-богу, добрый джигит, совестливый, благородный, – сказали они.
Бейбура сидел в своем шатре, и сын рядом с ним. Прошел слух, что прибыли купцы. Отец с сыном ждали их.
Купцы пришли к шатру. Наклонили головы, поздоровались, увидели, что их избавитель, джигит, сидит справа от Бейбуры, кинулись к нему, стали целовать ему руку. Бейбура нахмурился:
– Что это значит, невежи? – молвил он. – При отце прилично ли целовать руку сыну?
Старый купец спросил:
– Этот джигит – твой сын?
– Да, мой сын.
– Так не сердись, Бейбура, что мы сперва ему руку поцеловали. Если б не твой сын, и товары бы наши пропали, и жизни бы мы лишились. Твой сын – храбрец, он сражался за нас.
Бейбура сказал:
– Достаточно ли этого, чтобы дать ему имя?
– Да, и даже больше, – отвечали они. Пришел Деде Коркут.
– Слушай меня, Бейбура, – молвил он. – Пусть сын твой будет опорой племени. Если он будет переправляться через снежную гору, пусть Бог даст ему перевал; если будет переходить через бурную реку, пусть даст переправу. Ты зовешь его ласкательно Бамсы. Пусть имя его будет Бамсы Бейрек, владелец Серого жеребца! Имя я дал, годы пусть судьба даст…
Баяндур-хан умирал. Рядом с ним были Алп Аруз, Аман, Газан, Карабудаг, Дондар, Бейбура, Бейрек и другие джигиты. Баяндур-хан лежал на ложе своем и говорил через силу:
– Джигиты, послушайте меня, услышьте слово мое. Я должен покинуть сей мир. Не оттого я плачу, что не насладился жизнью, не натешился властью. Не оттого я плачу, что не на коне погиб, не в битве с врагами, а умираю дома, в постели. Я оттого плачу, джигиты, что нет у меня сына, нет брата. Видно, Всевышний оставил меня, джигиты. Кто мне наследует?
Алп Аруз, Газан и другие в волнении слушали Баяндур-хана. Баяндур-хан говорил:
– Джигиты, выслушайте мое последнее слово, узнайте мой завет. Дабы после смерти моей не пропала страна, не распалась держава, а недруги, увидев наш народ без главы, не двинулись на нас, нужно, чтобы мой венец и мои земли унаследовал удалой джигит.
Алп Аруз весь напрягся. А Баяндур-хан закончил так:
– Завещаю мой венец и земли зятю моему Газану, сыну Салора. У Алп Аруза с усов закапала кровь.
Баяндур-хан смежил веки. Газан вложил ему в руку большой камень. Из последних сил Баяндур-хан сжал в ладони этот камень и умер. Его накрыли черным покрывалом и положили на грудь его зеркало.
Заговорил Гавалдаш. На вершине Высокой горы Бекил развел два костра. Скорбная весть полетела от горы к горе. На вершинах загорались двойные костры.
Тело Баяндура подняли, на его место положили камень. На могиле зажгли свечи, запалили огни.
В логове льва у Белой скалы собрались джигиты. Газан на буром коне стоял лицом к лицу с огузскими всадниками. Джигиты накинули на шею Газану шелковый аркан, скинули его с коня на землю. Газан забарахтался. Джигиты ухватились за концы аркана и стали тянуть. Газан чуть не задохся. Но – таков обычай. Таков обряд избрания хана.
В глазах одного из тянувших веревку – Алп Аруза – была такая злоба, будто он и в самом деле готов был задушить Газана. Напротив, Бейрек делал это нехотя. Наконец джигиты немного ослабили петлю и спросили Газана:
– Сколько лет сможешь быть нашим ханом?
Газан прохрипел:
– Сколько у меня на лбу написано.
Сняли с шеи Газана петлю, посадили его на войлок, подняли высоко над головами, трижды прокрутили под солнцем. Завершая каждый круг, кланялись ему. Звуки Гавалдаша сопровождали обряд.
Газана отнесли и посадили на трон Баяндура.
Газан сказал:
– Да будет Бейрек моим визирем!
В стороне злобно следил за всем этим Алп Аруз. Он торопливо вытирал усы. С усов его капала кровь.
…Когда стемнело, Алп Аруз шептался в развалинах с человеком под черным башлыком, что-то ему бормотал. Человек под черным башлыком покивал головой, соглашаясь, воровато подкрался к хлеву, содрал с копыт одной из лошадей подковы, перековал ее наоборот, потом сел на коня и тихо удалился. На земле остались следы. Любой, глядя на эти следы, подумал бы, что всадник не отсюда выехал, а сюда приехал.
Кыпчак Мелик был предводителем половцев. Его лагерь размещался на недосягаемой вершине и напоминал орлиное гнездо. У людей этого племени был грозный вид. На них были шубы из шкур диких зверей, на головах – косматые папахи, лица же безволосые. У Кыпчак Мелика тоже было безволосое лицо, а висящая ниже подбородка ленточка бороды делала его похожим на козла.
Трон Кыпчак Мелика помещался на высоком помосте. Помост был очень широкий. Здесь был и трон Кыпчак Мелика, и его ложе. На этом помосте, кроме самого Кыпчак Мелика, было еще девять черноглазых, светлолицых, длиннокосых красавиц. Руки их до запястий были выкрашены хной, пальцы тонкие, шеи длинные. Кыпчак Мелик веселился с ними. Девушки подавали ему вино в золотых кубках.
Кыпчак Мелик никогда не сходил с помоста. Когда надо было куда-то отлучиться, коня подводили к помосту, и он прямо с трона спрыгивал коню на спину. Сидящие внизу воины стелились под ноги коню Кыпчак Мелика и, пока вождь не проезжал по их спинам, они не поднимали лиц от земли.
Помост был богато изукрашен. Столбы были отделаны дорогими каменьями, края – павлиньими перьями. Всюду висели змеиные шкуры. Племя поклонялось змеям.
Возвращаясь после набегов, Кыпчак Мелик ел и пил с девятью наложницами, развлекался и наслаждался на глазах у всех воинов племени.
Всадник под черным башлыком прискакал сюда. Он не убрал с лица черной накидки, не снял одежды, но обувь снял – пред Кыпчак Меликом можно было предстать только разутым.
Всадник под черным башлыком поклонился Кыпчак Мелику и сказал:
– Эй, Кыпчак Мелик! Что ты праздно сидишь? Хан ханов Баяндурхан приказал тебе долго жить…
Кыпчак Мелик, оторвавшись от губ черноглазой красавицы, обронил небрежно:
– Знаю! На венец и земли метил Алп Аруз-Лошадиная морда, но занял их сын Салора Газан. Аруз хочет отомстить Газану, поэтому послал тебя ко мне. Но ты скажи Арузу, что время еще не пришло. Если мой змей будет благосклонен ко мне, погублю я Газана, потушу его очаг, свяжу его белые руки за спиной, отрежу его чернокудрую голову, выпущу его алую кровь, разрушу и разграблю его дом и весь край, уведу табуны его коней, стада его верблюдов, отары его овец; красивых девушек приведу сюда, затащу к себе на ложе! Пусть только время придет…
Когда задули прохладные рассветные ветры, запели сереброгорлые жаворонки, заржали бедуинские кони, когда было не темно и не светло, когда солнце едва коснулось прекрасных гор, Бейрек встал, сел на своего Серого жеребца, выехал на охоту.
Неожиданно перед Бейреком пробежало стадо джейранов. Бейрек кинулся вслед, долго за ними гнался и оказался на Фиалковой поляне – Гыз-Беновша́. Смотрит – какое место! Цветы кругом. Лебеди, журавли, турачи, куропатки… Студеные воды, рощи, луга…
Видит, в этом-то прекрасном месте, на зеленой траве стоит красный шатер.
– Господи, чей бы это мог быть шатер? – подивился Бейрек.
Он не знал, что этот шатер был пристанищем ясноокой девы. Не знал этого Бейрек, но подогнал свою добычу прямо к шатру. Пристрелил джейрана.
Банучичек увидела это из шатра и сказала няне своей, Гысырджа Енгя:
– Няня, не хочет ли джигит показать нам свое мужество? Пойдите, потребуйте у него доли, посмотрите, что он скажет.
Гысырджа Енгя вышла из шатра, поздоровалась с Бейреком.
– Эй, джигит, – молвила она, – удели нам часть этого джейрана.
Бейрек отвечал:
– Я не охотник. Берите себе всего джейрана. Это ваша добыча. Но не в обиду будь спрошено, чей это шатер?
Гысырджа Енгя молвила:
– Джигит, это шатер дочери Бейбеджана – Банучичек.
Кровь Бейрека закипела, жилы вздулись, но он учтиво повернул назад. Гысырджа Енгя положила джейрана перед Банучичек. Банучичек молвила:
– Няня, что это за джигит?
Гысырджа Енгя отвечала:
– Ей-богу, госпожа, этот воин на сером жеребце – добрый джигит.
Банучичек молвила:
– Эх, няня! Мой покойный отец говаривал: я выдам тебя за Бейрека на Сером жеребце. А вдруг это он и есть? Позови его, я расспрошу, кто он таков.
Гысырджа Енгя позвала, Бейрек вошел. Банучичек закрылась чадрой, стала спрашивать:
– Откуда ты родом, джигит?
– Из края Баят – страны огузов.
– В краю Баят кто ты таков? Кто твой отец?
– Я сын Бейбуры – Бамсы Бейрек.
– За каким делом ты пришел, джигит?
– У Бейбеджана есть дочь, пришел на нее поглядеть.
Банучичек молвила:
– Не такая она девушка, чтобы показаться тебе. Но я – няня Банучичек. Давай выедем вместе на охоту. Если твой конь обгонит моего коня, он обгонит и ее коня. Вместе выпустим по стреле. Если твоя стрела мою обгонит, то и ее стрелу обгонит. А затем поборемся с тобой. Если ты меня одолеешь, то одолеешь и ее.
Сели на коней, выехали на простор, пустили коней вскачь. Конь девушки обошел коня Бейрека. Выпустили стрелы. Стрела девушки обогнала стрелу Бейрека.
Девушка молвила:
– Знай, джигит, никто еще не обошел моего коня, никто не опередил моей стрелы. Теперь давай поборемся.
Бейрек спешился. Схватились они. Обхватили друг друга подобно двум богатырям. То Бейрек поднимает девицу, хочет бросить ее на землю – девушка выворачивается. То девушка поднимает Бейрека, хочет бросить его на землю – он высвобождается.
Бейрек подумал: «Если эта девица одолеет меня, то среди огузов уделом моим будут насмешки и обиды». Он крепко обнял девушку, прижал к груди. Она противилась, но Бейрек обхватил ее стан, достал кинжал, приблизил острие к ее горлу.
Девушка молвила:
– Джигит, я дочь Бейбеджана – Банучичек!
– Эх, госпожа! Когда среди наших девушек-невест зайдет разговор, ты небось встанешь и начнешь хвастать: мол, я обогнала коня Бейрека, моя стрела обогнала стрелу Бейрека – и опозоришь меня. Глаз мой от тебя отвернулся, сердце отошло. Убью тебя!
Банучичек молвила:
– Мой джигит! Хвастать муж должен, он – лев! Хвастать женщине не пристало. Похваставшись, женщина мужчиной не станет. Под одним кровом я с тобой не спала, под красным пологом не шепталась. Пусть знает земля, пусть знает небо: я – твоя нареченная, пожалей меня, джигит!
Бейрек рассмеялся:
– Красавица моя с тонким станом, да разве я смогу убить тебя? Себя убить позволю, тебя – нет. Я тебя испытывал!
Так он сказал, трижды поцеловал ее, снял с пальца золотое кольцо, надел его на палец девушке.
– Да будет это порукой между нами, ханум! – молвил он.
Девушка говорит:
– Раз уж так получилось, надо идти вперед, джигит.
Бейрек отвечает:
– Что ж, ханум, я готов.
Банучичек сорвала пучок травы и протянула Бейреку.
– Возьми, – сказала она, – это полынь-трава. Понюхав ее, вспомни обо мне.
Бейрек пришпорил коня, поскакал. Банучичек смотрела ему вслед. Бейрек на коне летел как на крыльях, глаза его блистали. Он напевал:
– Счастье мое, красный угол моего дома! Когда выбегает из дому, не приминает земли. Черные волосы обвивают лодыжки.
Съест миндалину – словно отяжелел тонкий стан, Сросшиеся брови напоминают лук, Рот не вмещает сразу двух гранатовых зерен, Алые губы – точно капли крови на снегу! Любимая, красавица, невеста…
Перед глазами его оживала Банучичек: то на коне скачет, то стрелу выпускает, то полынь срывает…
Бейрек стоял перед отцом своим Бейбурой.
– Сын мой, – сказал Бейбура, – что ты видел сегодня любопытного среди огузов?
– Что мне видеть, дорогой отец? У кого есть сын, тот его женит, а у кого есть дочь, тот выдает ее замуж.
– Может, и тебя женить, сын мой?
– Да, дорогой отец.
– Чью дочь взять за тебя?
– Отец, возьми за меня такую девицу, чтобы не успел я встать, а она уже на ногах; не успел сесть на коня, а она уже в седле.
– Сын мой, ты хочешь себе не девицу! Ты желаешь себе джигита, чтобы за его спиной есть, пить, веселиться.
– Да, родной отец, я так хочу. Неужто жениться мне на какой-нибудь неженке, чтобы она падала от ветерка?
– Сын мой, тогда девушку найди ты, а я устрою все остальное.
– Я уже нашел, отец.
– Кто она?
– Дочь Бейбеджана – Банучичек. Бейбура задумался.
– Сынок, – сказал он, – мы еще в колыбели обручили тебя и Банучичек. Но Бейбеджан умер, власть над девушкой перешла к ее брату Коча́ру. А он какой-то шальной. Его так и зовут – Дели Кочар. Он поклялся: мол, не отдам сестру замуж. И всех убивает, кто хочет жениться на ней.
– Что же нам делать?
Бейбура снова погрузился в раздумье:
– Кто может пойти сватать ее? Только Деде Коркут, если возьмется. Может быть, Дели Кочар уважит кобзу Деде. Давай посоветуемся с Деде Коркутом.
Деде Коркут молвил:
– Пошлете меня – пойду. Но вы и сами знаете, что Дели Кочар не различает, кто молодой, кто старый. Приведите мне хотя бы двух быстрых коней. Будет бегство и погоня – на одного вскочу, другой в поводу пойдет. Так и спасусь.
Деде Коркута одобрили. Привели двух коней. Деде сел на одного, другой пошел в поводу.
– Да поможет нам Бог! – сказал Деде и ускакал.
…Шатер Дели Кочара стоял подле русла высохшей реки. Кочар перебросил мост через безводную реку и принуждал путников по этому мосту проходить. С проходящих он брал тридцать монет, а с мимо идущих битьем выколачивал сорок.
Вот и сейчас он избивал какого-то купца. Купец, плача, приговаривал:
– Ай, джигит, зачем ты так поступаешь, зачем заставляешь с прямой дороги сворачивать на этот негодный мост?
Дели Кочар орал:
– Что ты сказал, сам негодный и сын негодного? Есть ли кто-нибудь яростнее меня, сильнее меня, чтобы мне перечить! Моя богатырская слава дошла до Греции, до Сирии! Десять тысяч врагов мне в забаву. Двадцать тысяч мне для разминки. Тридцать тысяч для меня трава. На сорок тысяч я прищурюсь. Пятьдесят тысяч – с места не тронусь. Шестьдесят тысяч – не вскинусь. Восемьдесят тысяч – не дрогну. Девяносто тысяч – не умолкну. Сто тысяч – не растеряюсь, возьму в руки свой непреклонный меч, взмахну мечом, снесу им головы, а уж тогда остановлюсь. Есть ли такие удалые джигиты, как я?
Кочар избивал купца и повторял:
– Не хотите проходить по мосту, черт с вами, но платите тогда сорок монет.
Купец спросил:
– Хорошо, а сколько ты возьмешь, если мы пройдем по мосту?
Дели Кочар молвил:
– Если пройдете по мосту – тридцать.
Купец высыпал деньги на ладонь Дели Кочара, погнал верблюдов по мосту.
Дели Кочар расхохотался, глядя им вслед, потом выпил огромный кувшин вина – вино лилось ему на усы, на подбородок, на шею.
Он все пил и пил. В это время подъехал Деде Коркут, спешился, поздоровался.
Дели Кочар, все еще не отрываясь от кувшина, посмотрел на Деде Коркута, потом отвечал насмешливо:
– Ну, здравствуй!
Еще немного отпил и закричал:
– Эй, ты, чей ум расстроен, чьи поступки нелепы, на чьем лице Всемогущий написал приговор! У кого есть ноги, тот сюда не идет. У кого есть губы, из моей реки не пьет. Что с тобой? Или настал твой смертный час? Что тебе здесь делать?
Деде Коркут молвил:
– Я пришел подняться на твою отвесную гору. Я пришел переправиться через твою многоводную реку. Я пришел быть сжатым твоей тесной пазухой, быть придавленным твоим широким сапогом. Ту, что светлее месяца, ту, что чище воды, сестру твою Банучичек пришел я сватать за Бамсы Бейрека.
Дели Кочар остолбенел. Некоторое время он дико смотрел на Деде Коркута, потом вскочил с места как ужаленный и завопил:
– Эй, кто там! Оружие мое несите, черного жеребца ведите!
Привели черного жеребца, принесли оружие, Дели Кочар вскочил на коня, выхватил меч. Деде Коркут тоже не медлил – поскакал. Дели Кочар кинулся в погоню. Один жеребец под Деде Коркутом устал, он перескочил на другого. Дели Кочар настиг Деде Коркута, занес над его головой меч и хотел уже поразить его. Деде Коркут молвил:
– Да засохнет нечестивая рука!
И рука Дели Кочара застыла в воздухе.
– Помоги! Помоги! – вскричал Дели Кочар. – Деде, исцели мне руку, я отдам сестру за Бамсы Бейрека!
Деде Коркут молвил:
– Хорошо, опусти руку!
И рука Дели Кочара стала здоровой. Он опустил ее и сказал:
– Дадите ли вы мне то, чего потребую за сестру?
– Дадим! Скажи, чего ты хочешь?
– Тысячу верблюдов, никогда не видавших самки. Тысячу жеребцов, никогда не покрывавших кобылы. Тысячу баранов, никогда не знавших овцы. Тысячу бесхвостых и безухих псов. Да еще тысячу блох.
– Чего? Блох?
– Да, блох! Тысячу! Если хоть на одну будет меньше, я тебя убью.
Деде Коркут вернулся в дом Бейбуры.
Бейбура спросил:
– Деде, парень или девчонка?
Деде ответил:
– Парень.
– А как ты спасся из рук Дели Кочара?
– Да уж спасся! И девушку высватал.
Деде Коркут передал условия Дели Кочара. Они посмеялись, но Бейбура задумался.
– Хорошо, Деде, – сказал он. – Если я все устрою, блох ты добудешь?
– Добуду.
Табуны жеребцов, стада верблюдов, отары овец двигались к Дели Кочару.
Дели Кочар стоял подле моста, тянул вино из кувшина и пересчитывал их.
– Три по тридцать, пять по тридцать, десять по тридцать…
Наконец он пересчитал и собак:
– Тысяча! – сказал он и вдруг обернулся к Деде Коркуту: – Деде! А где мои блохи?
– Ах, Кочар, сынок, я собрал всех блох в одном месте. Пойдем отберем тех, которые пожирнее, а худых оставим. Ступай за мной.
Деде Коркут привел Кочара на скотный двор.
– Раздевайся, – сказал он.
– Зачем? – спросил Кочар.
– Ну как же! А то они спрячутся в складках одежды – и многих недосчитаемся.
Дели Кочар разделся догола. Деде Коркут ввел его в загон, закрыл дверь. Загон был полон блох. Блохи впились в тело Дели Кочара. Кочар видит – сил нет выдержать, завопил в голос:
– На помощь, Деде, спасай! Ради бога, отвори, дай мне выйти!
Деде Коркут стоял снаружи и усмехался:
– Кочар, сынок, что ты шумишь? Ведь ты просил об этом. Пересчитай, их ровно тысяча! Может, не нравятся? Жирных возьми, тощих оставь.
Дели Кочар выл:
– Увы, Деде, взял бы Господь и жирных, и тощих! Выведи меня отсюда, Деде! Да буду я твоей жертвой! Ой!..
Вопли Кочара поднимались до небес. Деде Коркут открыл дверь. Голый Кочар выскочил из загона, его облепили блохи, лица не было видно. Он упал к ногам Деде.
– Ради бога, помилуй меня, – твердил он, – всех баранов зарежу в твою честь!
Деде Коркут сказал:
– Беги, сынок, в воду окунись.
Дели Кочар помчался к реке, кинулся в воду. Деде Коркут прискакал в край огузов. Издалека он начал кричать:
– Магарыч! Магарыч!
Бейбура вышел ему навстречу, разбил яйцо о лоб его коня.
В доме Бейбуры начались приготовления к свадьбе.
Из тканей, предназначенных для невесты, связывали узлы, составляли тюки. Чулки, обувь, уголь, дрова, луковицы, полотенца – все это отложили в сторону, ибо это знаки бедности, темноты, холода, голода, разлуки.
Бараньи рога обвивали красной лентой, морды и ноги красили хной. На шеи коням вешали кисточки. Украшали верблюдов бубенцами.
Банучичек в своем шатре шила Бейреку белый кафтан.
Фатьма Брюхатая клала хну на головы, руки, ноги матери Бейрека – Айны Мелек и трех его сестер – Гюна́й, Айсе́ль и Гюне́ль.
Гысырджа Енгя клала хну на голову, руки и ноги Банучичек, подкрашивала щеки румянами, глаза и брови – сурьмой…
Утром Бейрек с товарищами вышел на равнину, примыкающую к земле огузской.
Джигит, когда женился, должен был пустить стрелу. Где падала стрела, там ставили свадебный шатер.
Бейрек тоже натянул лук, пустил стрелу. Где упала стрела, он поставил свой свадебный шатер.
Джигиты начали скачки.
В группе молодых наездников Бейрека был Ялынджык. Хотя лицо его улыбалось, в сердце у него запеклась черная кровь.
Прискакали всадники от Банучичек, привезли тюки с подарками. Дали Бейреку сшитый Банучичек белый кафтан. Бейрек вошел в свой шатер, вышел оттуда в белом кафтане. Один из дружков молвил:
– Поздравляю, носи на здоровье!
Бейрек отвечал:
– Отчего вы такие грустные?
Другой дружок молвил:
– Как нам не грустить? Ты в новом кафтане, а мы – в старых.
Бейрек отвечал:
– Что из-за таких пустяков огорчаться? Сегодня я надел, завтра ты наденешь. Семь дней, семь ночей будет свадьба, каждый день пусть кто-либо из вас надевает, а потом отдадим бедному.
Семь дней, семь ночей длилась свадьба. Джигиты стреляли в быков, козлов, оленей, выбитых на скалах Гобустана, скакали на конях, бились на мечах, боролись, водили хороводы. И каждый день белый кафтан Бейрека красовался на одном из его молодых друзей.
А на Фиалковом эйла́ге Гыз-Беновша тоже кипела праздничная суматоха. На Банучичек надевали свадебное платье. Гысырджа Енгя держала перед ней зеркало, мать повязывала ей красный тюрбан.
Джигиты постарше собрались в шатре Бейбуры. Здесь были и Газан, и Алп Аруз, и Аман, и Карабудаг. Деде Коркут играл на кобзе и пел:
– Ах, госпожа моя! Сколько б ни сыпал снег, к весне растает; Цветами-травами покрытый луг к осени пожелтеет; Из вешних вод моря не получится; Из пепла холма не насыпать; Из старого хлопка холста не соткать; Из старого врага друга не сделать; Если девушка у матери не научится, чести не сбережет; Если сын у отца не научится, стола не накроет; Сын создание отца. Один из двух его глаз.И еще пел Деде Коркут. Послушаем, что он пел:
– Ах, госпожа моя! Чем булатный меч в нечистой руке, лучше безоружность; Чем высокий дом без добрых гостей, лучше бездомовье; Чем горькие травы, которых конь не берет, лучше пустыня; Чем горькие воды, которых человек не пьет, лучше безводье; Чем негодный сын, отцово имя уронивший, лучше бездетность; Чем дурное семя в материнской утробе, лучше бесплодье. Ах, госпожа моя!Кончил петь Деде Коркут, джигиты разошлись по одному, по два, каждый двинулся к себе домой.
…На краю стойбища были развалины; ночью, в лунном свете они отбрасывали причудливые тени. Здесь выли бродячие собаки, ухали совы. К одной из стен прижались двое. Их можно было узнать по теням: один из них – Алп Аруз, другой – человек под черным башлыком.
Говорил Алп Аруз:
– Кыпчак Мелик не торопится, ждет случая. Значит, надо найти другой путь. Договоримся с каганом крепости Бейбурд. Поскорее скачи, отнеси весть в крепость Бейбурд. Скажи кагану, что Дели Кочар обещал свою сестру его племяннику, а сам изменил слову: отдал девушку Бейреку на Сером жеребце. Завтра ночью они войдут в свадебный шатер. Скажи: если уберут Бейрека, Газан тоже пропал. Его опора – Бейрек.
Человек под черным башлыком вскочил на коня. Когда он скакал, не было слышно стука копыт. Всадник растаял в темноте, исчез с глаз долой.
Банучичек лежала в своем шатре, через открытую дверь смотрела в небо, на утреннюю звезду, нюхала брошенные у подушки вороха полыни. Сон не шел к ней.
Бейрек в своем шатре тоже нюхал полынь, смотрел на звезду, думал. Понемногу сон сморил его, он смежил веки, заснул.
Свадебный шатер Бейрека стоял посреди пустынной бескрайней степи. На расстоянии семи деревьев не видать искорки, не слыхать шороха. Только откуда-то доносится пение птицы Иса́г-Муса́г. Серый жеребец Бейрека далеко, в табуне. У Серого жеребца была привычка: как почует запах врага, начинает бить копытом, пыль поднимает столбом. Вот и теперь он стоял и рыл копытом землю, фыркал, ржал, но никто его не слышал.
Под покровом ночи восемь всадников тихо сошли с коней и, оглядываясь, подошли к свадебному шатру. Семеро с толстым арканом вошли в шатер, а один стоял в засаде. Из шатра послышался глухой стон, и вскоре семеро вышли оттуда. Выволокли связанного Бейрека с заткнутым ртом, кинули его на спину коня и ускакали так же тихо, как появились. Семеро ускакали, один остался. Оставшийся был под черным башлыком. Только всадники скрылись, он выхватил меч и с безмерной злобой начал кромсать шатер. Злоба его не остывала, он вскочил на коня и стал топтать остатки шатра копытами. Сровнял его с землей и ускакал.
В доме Газана собрались джигиты. Был здесь и Деде Коркут.
Газан молвил:
– Деде, что посоветуешь?
Деде Коркут ответил:
– Что под землей делается – змея знает, что на земле – человек. Пошли джигитов на четыре стороны света, пусть принесут весть – жив Бейрек или мертв.
Газан молвил:
– Аман пусть отправится на восток, Дондар – на запад, Карабудаг пусть принесет весть с южной, солнечной стороны горы Аладаг; Ялынджык – с северной, теневой стороны горы Газылык. Тому, кто проведает, что Бейрек жив, дам богатство. Кто удостоверит, что он мертв, получит Банучичек.
Джигиты сели на коней, поскакали на четыре стороны света.
Оставшиеся ждали. Ждал Газан. Банучичек не отрывала взора от дороги. Отец Бейрека, его мать и сестры стояли на перекрестке.
Аман вернулся, покачал головой.
– Не нашлось никого, кто сказал бы, что видел Бейрека, – молвил он.
Дондар вернулся, потупил взор:
– Нет никаких следов.
Карабудаг вернулся:
– Не нашел я следов Бейрека.
Ялынджык появился, спешился и зарыдал.
– О Бейрек, милый брат… – приговаривал он. – Мой друг, не достигший желанного…
Газан сказал:
– Ялынджык, что за весть ты принес?
– Какую весть я мог принести, хан Газан? Лучше б я ее вовсе не приносил. Презренный враг выкрал Бейрека, разрезал на части, разбросал по горам и долам на добычу воронам и ястребам…
Газан сказал:
– А как ты узнал об этом?
Ялынджык, плача, достал из сумки окровавленный белый кафтан Бейрека, тот самый, что шила ему Банучичек.
– Вот кафтан Бейрека, – молвил он, – невеста шила.
Газан сказал:
– Мы его не узнаём. Отнесите к невесте. Раз шила, узнает.
Кафтан принесли Банучичек. Увидев его в крови, Банучичек громко зарыдала:
– Увы, мой царь, мой джигит! Увы, мой сокол-джигит, властитель моих алых губ, отрада моих очей, опора моей головы! Не насмотрелась я досыта на твое лицо, хан мой, джигит! Куда же ты ушел, оставил меня одну, о, Бейрек!
Стеная, она разорвала ворот, вонзила острые ногти в белое лицо, стала бить себя, стала раздирать алые щеки, подобные осеннему яблоку.
В край огузский пришло горе. Бейбура бросил наземь чалму, оделся в черное, разорвал ворот, зарыдал, приговаривая:
– Сын, сын мой!
Айна Мелек рвала на себе волосы. Сестры плакали и кричали, приговаривая:
– Увы, брат, милый брат! Наш единственный брат, не достигший желанного!
Сняли сестры белую одежду, надели черную. Газан-хан снял белую одежду, надел черную. Друзья Бейрека, все огузские джигиты сняли белое, надели черное. Они устали надеяться.
Мать Бейрека, сестры, Банучичек положили перед собой одежды его и стали плакать, причитая:
– О, сын, о, брат, о, Бейрек! Как луна ты родился, как солнце ты закатился. Да буду я жертвой твоей равнины, твоей горы, где пасутся козы! О, Бейрек, под ним Серый жеребец, в руке – черная плеть, спина – как утес, за плечами – девяносто стрел, кинжал серебряный, меч стальной, разрывающий грудь врага! О, Бейрек, львиное сердце, барсова хитрость! О, Бейрек, фиалковые усы, ростом с кипарис, торсом, как стальные врата, грудь широкая, о, Бейрек! Глаза – ловцы девушек, язык – услада девушек, куда ты ушел, Бейрек! Путь твой далек, не уходи, слезы наши льются, не уходи, о, Бейрек! Исчезнувший брат, пропавший сын, вай!..
У Серого жеребца отрезали хвост, положили ему на круп одежду Бейрека, его окровавленный кафтан, поверх – черное покрывало. Отец Бейрека, его мать, сестры, Банучичек впереди коня обошли весь край, пришли к поверженному шатру.
Айна Мелек сказала:
– Дитя мое, свадебный шатер стал твоей могилой! Господь и могилой тебя обделил…
Вдруг Серый жеребец фыркнул, скинул одежду Бейрека и ускакал. За ним никто не погнался. Конь скакал, удалялся из глаз, исчез совсем…
Крепость Бейбурд стояла высоко в горах, выше облаков. По извилистым тропам взбирались семеро всадников. Впереди брел пеший – руки связаны за спиной, ноги в цепях. Это был Бейрек. Открываются железные ворота, отряд входит внутрь, железные ворота запираются…
…Деде Коркут играет на кобзе:
– История Бейрека очень длинна, есть у нее продолжение. А теперь о ком расскажу? О Бекиле…
Однажды Бекил снова вышел на охоту, и тут прискакал к нему гонец Газан-хана, пригласил Бекила в дом Газана.
Бекил продырявил уши пойманных джейранов, взял с собой добычу, преподнес джейранов Газану.
Газан же приказал дать Бекилу меч, дубину, резвого коня и добрый кафтан. В это время появился Дондар. Он тоже возвращался с охоты, джейранов поймал. Положил их перед Бекилом.
– Бекил, по праву добыча твоя, – сказал он, показывая на продырявленные уши.
Джигиты посмеялись. Алп Аруз сказал:
– Чья же это заслуга – Бекила или его коня?
Аман сказал:
– Конечно, Бекила!
Крепкое, семилетней выдержки красное вино ударило Газану в голову. Газан сказал:
– Если б конь не трудился, Бекил бы не гордился. Заслуга – коня!
Бекил встал и, обращаясь к Газану, сказал:
– Ты облил меня грязью перед лицом джигитов.
Положил Бекил перед Газаном его подарки, вышел вон. Подали ему коня, он сел и поскакал домой. Жена вышла ему навстречу:
– Мой джигит, – сказала она, – ты отправлялся в дом Газана веселый, а возвращаешься мрачный, в чем причина?
Бекил молвил:
– Взоры Газана от нас отвратились. Собирайтесь, уйдем в Грузию. Я в обиде на Газана.
Жена отвечала:
– Мой джигит, не говори так, не решай поспешно. Если в душу закралась обида, ее разгонит вино. Выпей вина! С тех пор как ты ушел, на Пестрых горах охоты не было. Выйди на охоту, развеешься!
Бекил увидел, что слова жены справедливы, сел на коня, поехал на охоту.
Поохотился, изловил птиц. Вдруг перед ним проскочил раненый джейран. Джейран прыгнул с высоты, Бекил не смог удержать коня и вслед за джейраном упал с обрыва. Его правое бедро наткнулось на скалу и сломалось. Бекил крепко стянул ногу под кафтаном. Конь довез его до дома.
Вышел навстречу сын его Гараджа Чабан. Видит, отец бледен, а чалма спустилась на шею.
Гараджа Чабан спросил:
– Что с тобой, отец?
Бекил ответил:
– Приболел немного. Сними-ка меня с коня, сынок, снеси на постель.
Гараджа Чабан снял отца с коня, снес на постель, укрыл шубой, затворил дверь.
Бекил никому не сказал, что ногу сломал, но стонал на постели, охал.
Жена не знала, что и думать.
– Мой джигит, – молвила она, – что с тобой приключилось? Телу твоему на коня не подняться, стопе твоей в стремя не вступить, глазам твоим не узнать и жену! Пять дней не выходишь из дому. Ты не отступал перед лицом врага, не склонялся, когда в бедро тебе впивалась стрела. Что с тобой? Неужели нельзя открыть тайну лежащей на твоей груди супруге?
Бекил отвечал:
– Я упал с коня, сломал ногу.
Жена заахала, рассказала сестре, сестра рассказала привратнику. Что вышло из-за тридцати двух зубов, распространилось по всей орде. Всадник под черным башлыком понес весть врагу.
…В крепости Бейбурд у кагана Кара́ Арсла́на собрались беки: беки правой руки справа от трона, беки левой руки – слева. И смотрели в руки кагану. Перед Кара Арсланом на медном подносе лежал целиком зажаренный ягненок. Кара Арслан длинным ножом делил мясо и давал каждому беку кусок – зависимо от его места и положения. Кара Арслан и беки приступили к трапезе. Каган дал знак:
– Привести пленника.
Привели Бейрека. Глаза у него запали, лицо осунулось, волосы смешались с бородой. И одет Бейрек диковинно: штаны – до колен, рукава рубашки – по локоть. Такова одежда пленника. Руки у Бейрека связаны. Смотрел Бейрек на чавкающих беков. Он уже несколько дней не ел, но высоко держал голову перед врагами.
Кара Арслан сказал Бейреку:
– Это ты Бамсы Бейрек, который победил великана Тепегёза?
– Я.
Знаешь ли ты, зачем мы тебя похитили? Желаем, чтобы ты жил с нами. Что ты видел в огузской стране? Жизнь в поле, в степи, с зимовья на эйлаг, с эйлага на зимовье, все время на коне. Что в этом хорошего, джигит? Да будет здесь твое пристанище. Оставайся, живи во дворце, спи на шелках-кумачах, ешь сладко, пей, развлекайся. Но есть у нас одно условие. Прежде ты должен с шеститысячным войском пойти на землю огузскую. Никто лучше тебя не знает путей-дорог по тем горам и долам. Разгроми племя огузов, возвращайся – сделаем тебя беком, дадим тебе земли, золото, девиц. Проводи жизнь в богатстве и наслаждениях. Согласен?
Бейрек помолчал, посмотрел на смачно жующих беков, потом тяжело, холодно вымолвил:
– Деде Коркут говорил: если черного осла взнуздать, он конем не станет. Достойный сын чужим для своей земли не станет. Не буду я бесчестить свой род, свой корень. Не отрекусь я от своего племени. Пока у меня есть дом, не постучусь в чужую дверь. Раз я попал тебе, злодею, в руки, убей меня. Обнажи меч, отруби мне голову. Не боюсь ни меча твоего, ни кинжала.
Кара Арслан гневно выкрикнул:
– Уведите его и бросьте в колодец! Пока не начнет просить-умолять, не выпускайте. Пусть там сгниет, пусть подохнет!
Бейрека увели, сбросили в глубокий мрачный колодец. Вход прикрыли мельничным жерновом. Через отверстие в каменном жернове давали ему кусок хлеба с ладонь величиной и глоток воды.
Однажды в дом Газана пришли Ялынджык и Дели Кочар, преклонили колена, склонили головы. Ялынджык сказал:
– Да продлится жизнь державного хана! С того дня, как исчез Бейрек, минул год. Ты пообещал, что Банучичек достанется тому, кто принесет весть о Бейреке. Весть принес я. И брат ее согласен. Теперь слово за тобой.
Газан обернулся к Дели Кочару. Дели Кочар знаком подтвердил слова Ялынджыка. Газан спросил у Дели Кочара:
– А что говорит сама девушка?
Дели Кочар ответил:
– Девушка и верит в смерть Бейрека, и не верит. Просит отсрочки. Говорит: я буду ждать его год; не придет через год – два буду ждать; не придет через два – три буду ждать. Если через три года не придет, пойду, за кого велите.
Газан молвил:
– Да будет так. Год уже миновал. Еще год пройдет – справите малую свадьбу. А еще год пройдет – и большую свадьбу справите.
У дороги, на земле, на камне, сидел сгорбленный, ослепший старик. Это был Бейбура. Послышался звон колокольчиков. Бейбура поднял голову. Устремил слепые очи неведомо куда.
– Приходящий или уходящий? Кто ты, откуда, куда идешь? – спросил он.
Старый купец ответил:
– Это мы, Бейбура, торговые люди. Уходим в далекое странствие. Ялынджык посылает нас за товарами. Он получил разрешение на свадьбу.
Бейбура молвил:
– Купцы, судьба играет нами! Если вы перейдете высокие горы, если пройдете мимо именитых городов, если дойдете до дальних стран, спросите о моем сыне единственном. Может быть, где-то в местах недоступных кто-либо знает, жив он или мертв. Принеси мне весть, купец. Да будет твоей жертвой моя побелевшая голова, купец.
Старый купец отвечал:
– Будь покоен, Бейбура, мы везде станем спрашивать о Бейреке. Найдем – так найдем. Не найдем – Бог дал, Бог взял. Что поделаешь?
Купцы отправились в путь, звуки бубенцов удалялись. Бейбура, устремив слепые очи вослед каравану, шептал:
– Свет моих ослепших глаз, сынок! Опора моего белого дома, сынок! Где ты, сынок?
В глубоком колодце крепости Бейбурд глаза Бейрека привыкли к темноте. Но что здесь можно было увидеть, кроме сырых стен? Бейрек сжался в комок, сидел не шевелясь. Погладил он ладонью камень стены и вдруг почувствовал, что камень – мокрый. Откуда-то сочилась вода. Бейрек раскачал камень, камень выпал, и вода полилась. Бейрек вытащил еще несколько камней, и открылся ход. А ход этот вел к подземной реке. Бейрек протиснулся в лаз, попал в реку, поплескался в воде, и вода отнесла его к другому лазу. Бейрек проник в него – и попал в огромный подвал. Здесь был склеп. Здесь стояли такие же могильные камни, как на наземных могилах. Здесь были похоронены родичи кагана.
Осматривая могилы, Бейрек услышал звук шагов, спрятался в углу. Вдруг видит – спускается супруга кагана Кара Арслана, Деспине́-хату́н. Подошла она к одной из могил, поднесла мясо, молоко, вино и все это положила у могилы. Обращаясь к могиле, молвила Деспинехатун:
– Дедушка, родной, сегодня я принесла тебе подрумяненный кусок жертвенного барашка. Ведь ночью, во сне, ты у меня мясо молочного барашка просил. Принесла и семилетнего вина. Что тебе захочется – во сне ночью мне скажешь, я принесу. Да не останется у тебя неисполненного желания!
Деспине-хатун наклонилась, поцеловала могилу и медленно удалилась. Бейрек вышел из укрытия. Вначале он удивленно огляделся, потом, поняв все, рассмеялся. Понял Бейрек, что здешние люди верят, будто мертвые едят, пьют вино. Долго смеялся Бейрек, устал, с аппетитом поел дедовы кушанья, выпил вина, лег, поспал, потом, заслышав шум, осторожно, через лаз, вернулся в свой колодец. Сверху ему спустили кусок хлеба и глоток воды.
Наутро, в то же время, тем же путем Бейрек пробрался в склеп, притаился. Вскоре Деспине-хатун принесла воду и вино. Видит, на могиле остались только кости и пустой кувшин, обрадовалась.
– Дедушка, родной, как хорошо поел! – молвила она. – Молодец! Как это ты умудрился? Кажется, тебе понравились блюда, которые я готовлю своими руками. Теперь я всегда сама буду готовить. Видно, не по вкусу тебе, как готовит служанка. Ешь, пей на здоровье!
И Деспине-хатун поднялась из-под земли наверх. Бейрек с аппетитом ел.
Однажды Деспине-хатун принесла крепчайшего вина. Бейрек выпил, охмелел, улегся прямо близ могилы, а когда открыл глаза, увидел стоящую у него в головах Деспине-хатун. Женщина в ужасе не могла глаз отвести от его лица. Бейрек увидел, что сердце у нее сейчас разорвется от страха, и торопливо сказал:
– Не бойся, ханум, я не мертвец и не вурдалак-кровосос, я живой человек, пленник твоего мужа, кагана, Бамсы Бейрек.
Деспине-хатун увидела рассыпанные вокруг куриные косточки, пустой кувшин и все поняла.
– Это ты ешь долю моего деда? – спросила она.
Бейрек ответил:
– Да, ханум, ем.
Деспине-хатун сказала с досадой:
– И давно?
У женщины был такой несчастный вид, что Бейреку стало жаль ее.
– Ханум, – сказал он, – твой дед сам отдает мне свое угощение. Говорит: «Я стар, зубов нет у меня, и вина не пью». Но мед и каймак я ему оставляю.
Деспине-хатун немного приободрилась.
– Все-таки совесть у тебя есть, – сказала она. – Не лишаешь старика последних крох. Скажи по правде, где лучше – здесь или на земле?
Бейрек молвил:
– Ну что ж, здесь тоже неплохо! – и указал на могилы. – Мертвецы хорошо мне служат. Одни стирают мне, другие купают меня, третьи возят на себе.
Говорил Бейрек, а Деспине-хатун могилы оглядывала.
– Как! Моя тетя стирает тебе, а дядя купает тебя? – воскликнула она. – А возит тебя, парень, на спине своей не моя ли старая бабушка?
Бейрек молвил:
– А как же? Из ваших мертвецов нет ее резвее. Я частенько на ней езжу.
Деспине-хатун стала бить себя по голове.
– Вай, лопни твои глаза! – запричитала она. – Нет от вас, огузов, покоя ни живым на земле, ни мертвым под землей!
И Деспине-хатун побежала к кагану.
– Помилуй, великий каган! – кричала она. – Вытащи этого огуза из колодца. Он сломает хребет моей бабушке! Оказывается, под землей он на ней ездит! И остальных наших мертвецов заставляет служить себе! Все, что я приносила деду, он отнимал и ел сам. С ним не сладит никто из наших – ни живой, ни мертвый. Ради бога, вытащи его!
Бейрек в своем колодце сидел. И вот тюремщик опустил лестницу и позвал Бейрека:
– От кагана пришло повеление, чтобы ты вышел на землю.
И Бейрека бросили в темницу на земле. Узенькое оконце было зарешечено железными прутьями.
По ночам Бейрек сквозь эту железную решетку смотрел на звездное небо.
И еще одна пара глаз глядела на звезды. Глаза, полные слез. Тоскующие глаза Банучичек. Далеко от Бейрека Банучичек! За высокими горами, за бурными реками лежала она в шатре на эйлаге Гыз-Беновша. Искала в небе звезду Бейрека.
На краю земли огузской и Бейбура устремлял слепые очи в звездное небо…
В лунном свете извилистыми путями шел караван. Купеческий караван. Понемногу светало, различалось темное и светлое…
Бейрек не смыкал ресниц. Едва рассвело, он из узкого своего оконца увидел страшное: далеко, на шпиле высокой башню, торчал человеческий череп. Ухватившись за прутья, Бейрек подтянулся, глянул вниз и увидел большую площадь. С четырех сторон ее высились башни, усаженные человечьими черепами.
Бейрек окликнул тюремщика:
– Эй, послушай, чьи это головы? Каких несчастных? И почему они там торчат?
Тюремщик молвил:
– У кагана Кара Арслана есть красавица-дочь, называют ее Сельджан-хатун-Желтое платье. Влюбленные в нее джигиты со всего света съезжаются сюда, сваты толпятся у ворот. А у кагана есть лев, есть черный бык и черный верблюд есть, да какие! Каждый – настоящее чудище. И каган поставил условие: кто сватается к девушке, должен этих чудищ побороть. Если джигит их одолеет – возьмет в жены Сельджан, если его одолеют – голову с плеч. И вот пока еще ни одного из трех чудищ никто не осилил. И те тридцать два черепа, что торчат на башнях, были головами тридцати двух джигитов. Ни один льва и верблюда даже не увидел: в первой же схватке нашли смерть на бычьих рогах.
Бейрек отвечал:
– Да разве справедливо, чтобы молодые джигиты погибали на бычьих рогах? И из-за чего? Из-за девчонки! Пойди скажи кагану: пусть выпустит меня на площадь, я перебью чудовищ и избавлю добрых воинов от бесславной смерти.
Известили кагана. Забили барабаны, затрубили трубы. Беки правой руки, беки левой руки, вельможи, эмиры и все высокородные вышли на площадь. В отведенной ей беседке сидела дочь кагана Сельджанхатун-Желтое платье. Ее окружали семь миловидных девиц.
Привели на площадь Бейрека.
Каган сказал:
– Разденьте-ка этого храбреца, оставьте его, в чем мать родила!
Бейрек разделся, намотал на бедра тонкую холстину. Девушка смотрела из беседки. Как увидела она Бейрека, влюбилась в джигита и сказала своим девушкам:
– Вразумил бы Господь моего отца, выдал бы он меня за этого джигита! Ну не жалко ли, чтобы такой парень погиб от этаких зверюг?
Вывели на цепях быка на площадь. Двигался он ползком, и рога его вспарывали мраморные плиты, словно сыр. Поглядел направо Бейрек, поглядел налево и сказал:
– Сельджан-хатун-Желтое платье из беседки взирает. На кого падает ее взор, того огонь любви пробирает. Во имя любви к Деве в желтом платье – а ну!
И, выкрикнув: «А ну!» – Бейрек кинулся на быка. Быка спустили с цепи. Он наставил на Бейрека рога свои, словно алмазные копья, и ринулся в бой.
Бейрек так стукнул быка кулаком по лбу, что тот присел, потом упер кулак ему в лоб и, толкая, заставил пятиться до края площади. Долго они боролись. Ни бык не мог одолеть, ни Бейрек. У быка морда пеной покрылась. Бейрек быстро отскочил в сторону. Бык упал вперед, на свои рога. Бейрек схватил его за хвост, поднял, три раза крутанул и бросил наземь. У быка все кости переломались и в крошево превратились. Бейрек сдавил шею быка, задушил его, достал нож, отрезал голову, понес и бросил перед каганом. Сельджан-хатун от радости вскочила с места.
– Глаза мои выбрали этого джигита, сердце мое пожелало его, – сказала она.
Каган молвил:
– Властелин зверей – лев. Поиграй-ка с ним!
Привели льва. Лев был такой страшный, что все кони, сколько их было на площади, помочились кровью. Сельджан-хатун сказала девушкам:
– Бедняга избавился от быка, но как он справится со львом?
Бейрек сказал:
– Неужто отступлю я перед каким-то львенком? Во имя любви к Деве в желтом платье – а ну!
Лев пошел прямо на него. Бейрек сорвал бурку с одного из охранников, обмотал ею руку, шлепнул льва по лапам, а потом так стукнул его кулаком по лбу, что тот заметался. Бейрек перебил ему хребет и кинул труп его перед каганом.
Сельджан-хатун сказала девушкам:
– Ей-богу, этого джигита выбрали глаза мои, пожелало сердце мое!
Каган молвил:
– Предводитель зверей – верблюд. Поиграй-ка с ним!
Привели верблюда. Бросился на Бейрека верблюд, схватил его. Бейрек покрутился – вырвался. Но он уже дважды боролся, сильно устал и стал как пьяный. Шестеро палачей окружили Бейрека, подняв обнаженные мечи.
Верблюд снова схватил Бейрека, дотащил его до беседки Сельджан-хатун. Бейрек упал и, глядя снизу вверх, увидел, что Сельджан-хатун делает ему знаки.
Наклонилась Сельджан и шепнула Бейреку:
– Джигит, ты что, не знаешь, какой у верблюда нос чувствительный?
Бейрек собрал последние силы, схватил верблюда за нос. Верблюд замычал, не устоял на ногах, упал. Бейрек наступил на него, проколол ему горло в двух местах, вырезал из кожи его два пояса и кинул их перед каганом.
Каган молвил:
– Отдаю дочь за этого джигита!
Бейрек отвечал:
– Не нужна мне твоя дочь. Я хотел избавить добрых воинов от твоих страшилищ, а на родине у меня есть невеста, которую я полюбил с первого взгляда.
Очень озлился каган на дерзкие слова.
– Схватите неблагодарного, бросьте его обратно в застенок, – молвил он.
Ночью Бейрек лежал, уткнувшись в угол. Вдруг дверь темницы осторожно отворилась. Вошел человек в воинских доспехах. Повесил меч на стену, стал снимать одежды одну за другой. Это была Сельджан-хатун.
Разделась Сельджан и легла рядом с Бейреком. Вскочил Бейрек, схватил меч Сельджан, вынул его из ножен, положил меж собой и девушкой.
Сельджан молвила:
– Убери меч, джигит! Возьми меня, будь моим! Обнимемся!
Бейрек отвечал:
– Нет, дочь кагана. Тяжко мне. Два года я в плену. Тоскую по отцу, по матери, по милым друзьям, по ясноокой возлюбленной моей.
Сельджан молвила:
– Джигит, они далеко, я близко. Они давно забыли тебя, и невеста твоя давно замужем. Возьми меня, обнимемся, прижмемся друг к другу.
Бейрек отвечал:
– Пусть я разверзнусь, как земля, рассеюсь, как песок, буду разрублен своим же мечом, пронзен своей же стрелой! Пусть не будет у меня сына, а будет – пусть десяти дней не проживет, если я, не повидавшись с отцом, с матерью, с возлюбленной, возлягу с тобой на этом ложе.
Сельджан-хатун встала и начала одеваться.
– Хорошо, я уйду, – сказала она. – Но знай, что ты навеки пленник этой крепости. Никогда ты не увидишь ни отца, ни матери, ни возлюбленной. Они – далеко, я – близко! Каждую ночь я буду приходить к тебе.
– А я каждую ночь буду класть меч между нами.
– Ну что ж, посмотрим, кто кого переупрямит. Когда-нибудь настанет ночь, и ты оставишь меч в ножнах.
Деде Коркут играет на кобзе, приговаривает:
– Купцы – в пути, взоры Банучичек – в дороге, Бейрек – в плену. О ком же нам рассказать? О сыне Газана – Турале…
По зеленому склону горы Газылык рассыпались ярко-красные маки. Шестнадцатилетний Турал рвал цветы на маковом поле. Был Турал ясноокий юноша, словно месяц на четырнадцатую ночь. Собрал Турал букет, спустился с горы на равнину, пошел к роднику, бьющему в ивняке.
У родника среди ив собирались девушки, невесты. Обвязывали девушки ниткой большой палец, перепрыгивали источник, обрезали нитку и кидали ее в воду. Так выражали они сокровенное желание – поскорее выйти замуж. Младшая сестра Бейрека, Гюнель, тоже была у родника. Но она грустно стояла в стороне, ждала очереди, чтобы наполнить кувшин. Подошла к ней Фатьма Брюхатая.
– Гюнель, – молвила она, – как матушка твоя?
Гюнель отвечала:
– Как ей быть? Плачет, стенает, совсем глаза выплакала.
Фатьма вздохнула:
– Значит, судьба. Видно, Бейреку на роду так написано, – сказала она. – А знаешь, нынче осенью кончается срок помолвки у Банучичек. Брат выдает ее за Ялынджыка.
Гюнель промолчала, глаза ее наполнились слезами. Отвернулась она и горько заплакала. Фатьма поняла, что растравила болящую рану, и заговорила о другом.
– Взгляни-ка, Гюнель, – сказала она. – Сюда идет сын Газан-хана Турал.
Гюнель вздрогнула, обернулась, посмотрела. Фатьма, хитро улыбаясь, молвила:
– В иной час его сюда и не заманишь. А как ты здесь, он непременно бродит вокруг. Э, девушка, ты что покраснела? Или причина есть? Скажи всю правду, я на таких вещах поседела. Что стесняешься? Каждой девушке нужен парень. Ну, а уж этот – такой молодец, такой красавчик, да еще ханский сын. Правда, не в отца пошел, не такой широкоплечий богатырь, и застенчив, как девушка, и слишком уж молод. Совсем еще мальчишка, что он понимает?
Гюнель, наполняя водой кувшин, то и дело поглядывала в ту сторону, где стоял Турал. А Фатьма Брюхатая так и сыпала:
– Пошла бы навстречу, не заставляй беднягу столько ждать! Гюнель направилась к дому. Турал приблизился к ней.
– Здравствуй, Гюнель, – молвил он и протянул ей букет маков.
Гюнель отвечала:
– Какие красивые маки!
Турал молвил:
– На северном склоне горы Газылык их полным-полно. Гора нынче красная-красная, взгляни туда.
Гюнель обернулась, поглядела, но, обращаясь лицом к горе, так закрылась чадрой, что виднелись только глаза. Турал молвил:
– Гюнель, почему ты, глядя на гору, всегда закрываешь лицо чадрой?
Гюнель улыбнулась:
– Этому меня матушка научила, – отвечала она. – А ей это бабушка наказала. Говорят, пик Газылыкский для нас, огузянок, словно свекор. Перед ним мы должны закрывать лицо.
Турал тоже улыбнулся. Потом они немного помолчали. Лоб Турала покрылся каплями пота. В сердце у него было много слов, хотел он их высказать, но не умел. Они уже почти дошли до дома. Наконец Турал сказал:
– Гюнель, я хочу тебе слово молвить. Я хочу, чтобы эти высокие горы были для тебя эйлагом. Холодные родники были для тебя питьем. Мой белый шатер был для тебя тенью. Гюнель, я люблю тебя. Теперь говори ты.
Гюнель сказала:
– Ах, Турал! Чем назовут меня дурной сестрой, лучше пусть назовут старой девой; чем «бесстыжая», пусть лучше скажут «несчастная». Какое для меня замужество? Я и мои сестры поклялись: пока своими глазами не увидим Бейрека живым или мертвым, если полюбим джигита, выйдем замуж, пусть нас ужалит желтая змея. Если станем резвиться на высоких горах, пусть там могила наша будет. Если разоденемся в шелк и кумач, пусть они нам на саван пойдут. Если сядем под белым паланкином, пусть он наши трупы осенит.
Они пришли. Гюнель вернула маки Туралу.
– Не гневайся, Турал, – сказала она. – Маки очень красивы, но как я войду с ними в наш скорбный дом, как посмотрю в глаза родителям…
Гюнель повернулась и ушла. Турал грустно смотрел ей вслед. Из дома слышался тихий плач.
В стороне, на камне, сидел Бейбура, его слепые очи не отрывались от дороги.
В доме Газан-хана рядами сидели джигиты, ели и пили. Газан с гордостью оглядывал их. Посмотрит направо – улыбнется, взглянет налево – порадуется.
– А где сын мой Турал? – спросил он.
Алп Аруз сказал:
– Нынче видели его на склоне горы Газылык: цветочки рвал!
Газан нахмурился:
– Господь дал мне не сына, а дочь в облике мужа, – молвил он.
И тут вошел Турал с букетом маков. Увидев его, Газан еще пуще насупился. Это ни от кого не укрылось, и, заметив это, Турал растерялся. Он молвил:
– Отец мой, повелитель, ты сидел такой веселый, а увидел меня – нахмурился. В чем причина, скажи мне, да будет моя голова твоей жертвой, отец!
Газан отвечал:
– Мой послушный сын! Посмотрел я направо – увидел брата моего Карабудага. Он сносил головы, проливал кровь, заслужил имя. Налево посмотрел – увидел дядю моего Алп Аруза. Он сносил головы, лил кровь, завоевал имя. Прямо посмотрел – тебя увидел. Ты уже шестнадцать лет отсчитал – ни голов не сносил, ни крови не пролил. Каждый из сидящих здесь завоевал право на свое место мечом, стрелою. Ты же заходишь ко мне, когда пожелаешь, расталкиваешь джигитов, садишься, где захочешь, а какую доблесть ты выказал?
Турал молвил:
– Отец, я не понимаю тебя. Сносить головы, проливать кровь – доблесть ли это? Или жестокость?
– Да не о том речь, сын мой! Ты доселе не проявил себя как джигит. Не охотился, птиц не ловил, тетиву не натягивал, стрелу не пускал. Вот, полюбуйся, в руке у тебя не меч, а цветы. А что как я завтра умру? Ведь не отдадут тебе ханского венца. Чувствую это, думаю о конце – и горюю!
Турал молвил:
– Полно, сын ли учится доблести у отца или отец у сына? Ты хоть раз брал меня на охоту, учил натягивать тетиву, пускать стрелу, управляться с мечом?
Газан ударил ладонью о ладонь, расхохотался:
– Джигиты, а ведь парень верно подметил, в точку попал. Верно, что мы отлеживаем бока, встаем – спина не разгибается. Возьму этого парня на охоту. Птиц наловим, лосей, оленей постреляем. А вернемся – и вместе станем есть, пить и веселиться!
Карабудаг сказал:
– Мудрая мысль, господин мой Газан!
Аман сказал:
– Верное решение, хан Газан!
Алп Аруз сказал:
– Правильно, Газан, но в девяти туманах отсюда стоит войско Кыпчак Мелика. Ты уходишь, а кому поручаешь свою землю?
Газан отвечал:
– Хватит ли у Кыпчак Мелика смелости напасть на мою землю? В небе высоком стану черным облаком и прольюсь на врага, белой молнией стану и ударю в него, вспыхну огнем и сожгу его, как камыш, – девятерых поодиночке пересчитаю.
Алп Аруз молвил:
– Тебе лучше знать!
Газан отвечал:
– Я отведу этого парнишку туда, где сам сражался, преломлял копье, обнажал меч. Это ему еще понадобится!
…Газан и сын его Турал вооружились, сели на коней. Бурла-хатун вышла из своего шатра. «Первая охота моего мальчика!» – сказала она. Благословила его, выплеснула вслед коню ковш воды.
Вслед Газану и Туралу смотрела еще одна пара глаз – враждебно, злобно, с ненавистью, – глаза Алп Аруза.
Газан с Туралом скрылись, и Алп Аруз сказал джигитам:
– Не подобает нам, джигиты, без Газана сидеть, есть и пить в его доме. Он уехал – давайте и мы разъедемся по своим землям. А когда Газан с сыном будут возвращаться с охоты, выедем им навстречу.
Джигиты это одобрили.
В развалинах Алп Аруз говорил всаднику под черным башлыком:
– Коню приделай птичьи крылья. Путь семидневный проскочи в семь мгновений ока. Отнеси весть Кыпчак Мелику. Газан с сыном сейчас на охоте в Сурмели, в Дара-шаме. Отправились вдвоем. Скажи: такого случая больше не будет.
Всадник под черным башлыком понесся как ветер.
Газан с Туралом славно поохотились. Разбили привал на опушке леса, у источника. Разожгли костер, приготовили шашлык.
Ели Газан с Туралом шашлык, пили семилетнее вино. Крепкое вино ударило Газану в голову, свалил его сон, малая смерть. Когда огузские джигиты засыпали, спали они по семь суток, и поэтому сон их называли малой смертью. И вот Газан сказал:
– Сын, глаза мои смыкаются. Я немного посплю, а ты меня постереги!
Заснул Газан, от храпа его сотрясались горы. Турал охранял отца. Вдруг ловчий сокол взлетел с его руки в небо, сел на дерево в чаще леса. А было так, что Кыпчак Мелик устроил в этом месте западню. Согнал сюда летящих гусей и куропаток, бегущих оленей и зайцев. Юнец, что он знает? «Пока отец встанет, наловлю птиц. Отец проснется – увидит, обрадуется», – сказал он себе, сел на коня и направился в лес. Только въехал, как с четырех сторон накинули на него сеть, шестьдесят вооруженных воинов связали ему руки-ноги, заткнули рот. На шею его, на лодыжки надели тяжелые цепи. Били его, пока из белого тела не хлынула красная кровь. Со связанными руками и опутанной шеей повели впереди себя. Турал стал пленником.
Враги в черной одежде, окованные голубым железом, набрели на спящего Газана. Крепко спал Газан, храп его поднимался до небес. Шестьдесят человек накинулись на Газана, крепко скрутили ему руки-ноги, положили Газана в арбу, привязали веревкой. Газан не только не проснулся, он и не пошевелился, храпеть не перестал. Арба двинулась в путь.
На земле Газана никто ничего не знал. Одна из девушек, увидев вдалеке клубы пыли, молвила Бурле-хатун:
– Стадо оленье проходит, смотри, какую пыль подняло!
Бурла-хатун взглянула в ту сторону и отвечала:
– Если б это были олени, клубилось бы одно-два облачка. Знайте, это враги!
Пыль засверкала, как солнце, заколыхалась, как море, потемнела, как лес. Шесть тысяч вражеских всадников с собачьими стременами, в войлочных шапках, с черными сердцами, с ястребиными ликами, с нечестивыми словами напали на землю Газана.
Они растоптали белые дома Газана, его шатры и пологи. Заставили кричать девушек, похожих на лебедей. Вскочили на его быстрых, как соколы, коней. Угнали ряды его красных верблюдов. Разграбили его богатую казну, его обильное добро. Статная Бурла-хатун и с ней сорок стройных дев были уведены в плен.
Кыпчак Мелик сказал:
– Перебили мы Газану хребет.
Один из всадников Кыпчак Мелика сказал:
– Еще одно горе осталось причинить Газану.
– Какое?
– У огузов в Железных воротах, в Дербенте, есть десять тысяч баранов. Если бы мы увели и тех баранов, причинили б Газану последнее горе.
Кыпчак Мелик сказал:
– Пусть шестьсот всадников пойдут и уведут баранов.
Шестьсот всадников направились к Железным воротам, к Дербенту.
Турал со связанными руками шел впереди коней…
Статная Бурла-хатун и с ней сорок стройных дев шли в плен…
Газан храпел в арбе…
Гараджа Чабан сидел на скале, на одной из вершин Высокой горы. Вдруг увидел он вдалеке клубы пыли.
Туча пыли разрасталась, обволакивала все вокруг и час от часу приближалась. Словно веяли черные ветры самума и, крутясь, приближались к Высокой горе. Гараджа Чабан пришел к отцу своему Бекилу. Дряхлый Бекил целыми днями лежал на постели.
Гараджа Чабан сказал:
– Отец, взгляни-ка, что это – черное, накатывающееся, как море, светящееся, как огонь, сверкающее, как звезда? Что это? Объясни мне, отец, да будет твоей жертвой моя чернокудрая голова.
Бекил приподнялся на локте, посмотрел вдаль, увидел, что идет враг.
– Подойди ко мне, лев, сын мой, – сказал он. – Как верно, что море вскипает у берега, так верно, что это враг, сын мой.
– А кто это – враг, отец?
– Ах, мой сын, ах, сынок! Враг – это Кыпчак Мелик. У него есть такие стрелы, что из трех ни одна не промажет. У него есть такие палачи, что, не охнув, срубают сто голов. У него есть такой повар, что готовит жаркое из человечьего мяса. В худую минуту подстерег нас враг. Мощь спины моей ослабела. Враг узнал, что я отделился от огузских джигитов, узнал, что я одряхлел, узнал, что ты еще не закален в битвах, и пошел на нас. Сын мой, встань, разожги на вершине два костра, извести обо всем огузских джигитов. А сам беги к Газан-хану, поцелуй ему руку, скажи – отец твой согнулся, захирел. Скажи, пусть Газан-хан соберет джигитов и поспешит нам на помощь. Не то враг растопчет нашу землю, уведет наши стада, оставит людям голод.
Гараджа Чабан отвечал:
– Что ты говоришь, отец? Надрываешь мое сердце и душу! Не буду я молить о помощи. Не стану целовать руку Газану. К чему это? Силу свою, мощь свою берег я для такого дня, и вот этот день настал. Мускулы на руках копил я для такого дня, и вот этот день пришел. Имя мое честное хранил я для такого дня, и вот этот день грянул.
Бекил прослезился.
– Да умру я за твои уста, сын мой, – молвил он, – да умру я за твой язык, сынок. Дай Бог силы твоим рукам!
Гараджа Чабан закрыл ворота кошары, насыпал три холма из камней, взял в руку пращу с пестрой рукояткой.
И вдруг появились шестьсот вражеских всадников. Они сказали:
– Эй, пастух! Мы потоптали земли, мы сокрушили жилища Газанхана. Его богатую сокровищницу мы увозим, она наша. Статную Бурлухатун и с ней сорок стройных дев мы уводим, они наши. Слушай, пастух, подойди сюда, опусти голову, прижми руку к груди, покорись нам. Собери всех баранов огузского племени и приведи их. Мы тебя не убьем: отведем тебя к Кыпчак Мелику, он даст тебе бекство, сделает тебя амир-ахуром – главой пастухов.
Гараджа Чабан закричал с вершины горы:
– Не говори пустых речей, собака! Я ни к кому на поклон не пойду! Раз уж ты здесь, увидишь! Что ты хвалишься своим пегим конем? Ему не сравниться с моей козой-пеструшкой. Что ты хвалишься своим копьем в шестьдесят тутамов? Ему не сравниться с моей кизиловой дубиной. Что ты хвалишься своим мечом? Ему не сравниться с моей кривоносой палкой. Подойди-ка сюда, узнай, каков мой удар, и ступай прочь!
Услыхав эти слова, враги хлестнули коней, выпустили стрелы.
Гараджа Чабан заложил большой камень в пращу и метнул его. Бросая один камень, он сокрушал двоих или троих. Два камня – троих или четверых. Неприятель затоптался на месте.
Кончились камни у пастуха, и он закладывал в пращу баранов, коз, сокрушая сразу четверых или пятерых. Мир земной стал для врага тесен. Еще и вечер наступил. Тьма – глаз выколи. За это время Гараджа Чабан настругал стрел, обмотал их концы тряпками, поджег – и во мраке ночи ливнем посыпал на головы врагов.
Враги стали совещаться:
– Этот пастух всех нас перебьет. Будь он проклят вместе со своими баранами! Бежим, пропади все пропадом!
И побежали. Но Гараджа Чабан тоже был ранен. Ударил он по огниву, развел огонь, опалил на нем клок бурки, приложил к ране, явился к отцу. Видит – отец умирает. Оказывается, шальная стрела попала в Бекила. Собрав последние силы, Бекил заговорил:
– Сын мой, ты вершина моей Высокой горы! Да пойдут тебе впрок материнское молоко, отцовский хлеб! Ты выказал доблесть и мужество. Но услышь меня и никогда не забывай моего последнего наказа. Как бы ты ни был силен, знай, что из одной ладони хлопка не получится. Можно обидеться на Газана, но от народа отворачиваться нельзя. Сила народа – сила вешних вод. Я, поняв это, умираю. Ты пойми это – и живи. Завещаю тебе свои костры. И в хорошие дни, и в плохие дни разжигай костры, шли вести огузам, дели с ними радость и горе.
Последний вздох вылетел из груди Бекила. Гараджа Чабан закрыл ему глаза и зарыдал. Вопли его устремились в горы, отозвались эхом.
Гараджа Чабан причитал:
– Газан, Газан, ай Газан! Где ты, ай Газан? Жив ли ты, мертв ли ты, знаешь ли ты обо всем об этом?
На подъеме, на извилистой тропе, у арбы отскочило колесо. Арба накренилась, колеса заскрипели, остановились. Газан встрепенулся, открыл глаза, хотел потянуться, видит – руки-ноги связаны. Он расхохотался.
Один из всадников спросил:
– Чего ты смеешься?
Газан еще громче рассмеялся и ответил:
– Ей-богу, только что я видел хороший сон. Вижу, что я грудной малыш и лежу в зыбке. Оказывается, эта арба показалась мне зыбкой. А вас я принял за румяных ласковых кормилиц.
Всадник молвил:
– Хорошую спальню ты себе нашел. По пути в могилу стоит ли спать, глупец?
Газан спросил:
– А вы кто такие?
– Мы воины Кыпчак Мелика.
– Вон оно что! Значит, вы меня спящим захватили?
– Да.
– Любая беда нападает на огузских джигитов во сне. Если б я не проснулся, проспал бы семь дней и семь ночей. Ну да ладно, а куда вы меня везете?
– Голову твою везем в дар Кыпчак Мелику.
Газан-хан задумался, потом огляделся:
– Хорошо, ведь со мной был сын, с ним-то что сталось?
Всадники не ответили, переглянулись с усмешкой. И тут шутливо настроенный Газан вдруг рассвирепел:
– Поганые, что вы сделали с моим сыном? – крикнул он. – Да я вас всех сейчас перебью!
Всадники посмотрели на связанные руки и ноги Газана и, увидев, что слова его расходятся с делом, рассмеялись. Газан еще грознее молвил:
– Если с головы моего сына упадет хоть волосок, я вас уничтожу!
Один из всадников отвечал:
– Ты о своей голове позаботься, Газан. Кыпчак Мелик повесит твою голову рядом с головой твоего сына.
– Что? – Газан издал устрашающий рык, в мгновение ока, напрягшись, разорвал путы, в мгновение ока скинул с коня одного из всадников, выхватил его меч, вскочил на его коня, накинулся на остальных.
Всадники растерялись.
Газан уложил двоих, выхватил палицу, подскочил к четвертому, схватил его за грудки:
– Где мой сын? – крикнул он. – Скажи, не то я оторву тебе голову, как птице.
Побледневший всадник дрожащими губами выговорил:
– О, Газан, да буду я твоей жертвой, не убивай меня, твой сын жив-здоров.
– А где он? – И говоря это, Газан накинулся на другого всадника.
Этот не растерялся и быстро соврал:
– О, хан, у сына твоего – птичье сердце. Увидев нас, он испугался, удрал к своей матери.
И тут же остальные загомонили:
– Да, едва завидев нас, он так помчался, что и след простыл.
Газан поверил в это.
– Горе! – сказал он. – Господь дал мне дурного сына! Пойду, оторву его от матери, разрублю на шесть кусков и раскидаю по шести дорогам. Чтобы никто никогда не бросал товарища в беде!
Газан-хан хлестнул плеткой коня и, удаляясь, прокричал всадникам:
– А с Кыпчак Меликом я еще посчитаюсь!
Пришпорил Газан коня, перемахнул через ущелья, через горы, доскакал до своей земли.
Видит, жилище его разрушено, шатры разодраны, очаги погашены, деревья обуглены, земля пошла комьями, луга истоптаны конскими копытами.
Черные прищуренные глаза Газана кровавыми слезами наполнились, грудь сжалась, сердце застучало, он сказал:
– Откуда к тебе явился враг, мое прекрасное жилище? Где сидела моя престарелая мать, осталась подстилка; где пасли коней мои джигиты, осталась пустошь; где стояла жаркая кухня, осталась зола. О, моя поруганная земля, о, мое прекрасное жилище!
В развалинах бродила черная собака. Увидев Газана, она подбежала к нему. Газан сказал:
– С наступлением темного вечера ты громко лаешь. Когда проливается вкусный айран, ты громко чавкаешь. Моя черная собака, может быть, ты знаешь, что сталось с моей землей?
Как могла собака подать ему весть? Она бросилась под ноги коню Газана, заюлила. Газан погладил ее, оттолкнул. Собака убежала прочь. Газан тоже поскакал по дороге, подъехал к подножию Высокой горы, позвал Гараджа Чабана:
– Эй, пастух! – крикнул он. – Видел ли ты, пастух, как пало мое жилище, скажи мне?
Пастух отвечал:
– Умер ли ты, сгинул ли ты, Газан? Где ты гулял? Не вчера – третьего дня пало твое жилище. Твоя престарелая мать, статная Бурла-хатун и с ней сорок стройных дев прошли здесь плененными.
Услышав такие слова, Газан испустил тяжкий вздох, ум в его голове помутился, мир перед глазами его покрылся мраком.
Он молвил:
– Да иссохнут твои уста, пастух! Да сгниет твой язык, пастух!
Пастух отвечал:
– За что ты меня проклинаешь, Газан? На меня ринулись шесть сотен. Триста я убил, трижды меня ранили, белобородого моего отца убили! Я один остался, но не отдал врагам ни единого барана, в том ли моя вина? Дай мне своего каурого коня, дай мне свой пестрый щит, дай мне свой черный меч, я пойду на врага. Если умру – умру за отца, жив останусь – отомщу за него и твоих домашних освобожу.
Газан молвил:
– Не мели языком, пастух! Что со мной сталось, что ты будешь моих домашних выручать?
Газан хлестнул коня плетью и пустился вскачь. Гараджа Чабан поглядел ему вслед – Газан удалялся по извилистой дороге, вздымая пыль. Пастух сам вскочил на коня, поскакал за Газаном. Газан его не видел.
Однако перевалив через хребет, Чабан вдруг остановился, вернулся, поднялся на вершину Высокой горы. Как завещал ему отец, собрал два костра, запалил огнивом. Костры разгорелись. Гараджа Чабан вновь поскакал за Газаном.
Кыпчак Мелик сидел под балдахином, ел-пил, развлекался с девицами. Внизу сидели его люди. Турала с вытянутыми руками, простертыми ногами положили у входа, накрыли епанчой. Каждый входивший и выходивший топтал его. Входящий топтал, выходящий топтал.
Турал, сжав зубы, терпел, ни стона не издавал, ни звука не испускал. Кыпчак Мелик, выпив вино до дна, бросил пиалой в Турала. Он совсем опьянел, глаза его стали красными, как чаши с кровью.
Кыпчак Мелик, обратившись к своим, сказал:
– Знаете, что надо сделать Газану? Приведите сюда ко мне жену его, Бурлу-хатун!
Услышав эти слова, Турал зашевелился. Один из охранников стегнул его кнутом по лицу, по глазам.
Бурла-хатун вместе с сорока стройными девами сидела в темнице. В слезах была Бурла-хатун:
– Где ты, Газан, где ты, Турал? Неужто вы не знаете, что с нами сталось? Где вы?
Вошел стражник:
– Эй, кто из вас жена Газан-бека?
Наступила тишина. Бурла-хатун тревожно взглядывала то на стражника, то на девушек. Одна из девушек сказала:
– Я!
И в ту же минуту другая подхватила:
– Я!
Со всех сторон звенел хор сорока девичьих голосов:
– Я!
Стражник изумился. А девушки повторяли все звонче:
– Я! Я! Я!..
Их крики заполнили темницу. Стражник заткнул уши и выскочил вон.
Кыпчак Мелик, сидя под балдахином, выслушал стражника и нехорошо рассмеялся.
– Тогда мы вот что придумаем, – сказал он. – Подведите-ка сюда сына Газана.
Турала подняли с земли и поставили перед Кыпчак Меликом.
Кыпчак Мелик, устремив свои глаза без ресниц прямо в его ясные очи, молвил:
– Сын Газана Турал, слушай и запоминай! Я вздерну тебя на крюк, а потом, отделив кусок за куском твое белое мясо, прикажу приготовить черное жаркое. Жаркое поставлю перед сорока девами. Кто поест – не родня тебе, кто не тронет – та твоя мать. Приведу ее сюда, своей наложницей сделаю.
Турал заерзал, державшие его с четырех сторон еще сильнее стянули веревки, парень весь облился алой кровью.
Кыпчак Мелик продолжал:
– Но и оставить тебя в живых я могу. Брошу тебя в темницу, а ты уговори мать: пусть не скрывается, выйдет. Так и быть, не возьму ее в наложницы. Пусть разносит нам вино в наших золотых пиалах!
Турал сказал:
– Хорошо, сажай меня в темницу.
Турала подвели к темнице, втолкнули в застенок. Бурла-хатун, увидев своего залитого кровью сына, хотела закричать, но Турал быстро отвернулся и, глядя на другую, сказал:
– Смотри, мать, не выдай себя! Бурла-хатун смешалась с девушками.
Турал начал говорить. Говоря, он обращался ко всем девушкам, и нельзя было разобрать, кому он говорит. Бурла-хатун и остальные сорок слушали его в слезах и смятении. Турал говорил:
– Мама, мама, знаешь ли ты, что готовится? Враги наши говорят нехорошее. Посадите, говорят, Турала на кол, из его белого мяса сготовьте черное жаркое, отнесите еду сорока женщинам. Кто не станет есть, знайте: это Бурла-хатун, и ведите ее сюда!
Бурла-хатун в ужасе закричала, но тут же закричали и остальные. Закричали, заплакали. Турал, по-прежнему обращаясь к ним ко всем, продолжал:
– Не плачь, мама! Я сказал тебе это, чтобы ты ненароком не выдала себя. Берегись, матушка! Не подходи ко мне, не плачь надо мной. Пусть режут меня. Если другие по куску съедят, ты два съешь, только б не уронила ты чести отца моего, Газана!
Бурла-хатун и сорок дев зарыдали, запричитали, стали царапать лица, разодрали щеки, изорвали свои черные волосы. Бурла-хатун заговорила:
– Сынок, сынок! – сказала она, и тут же девушки повторили, стеная:
– Сынок, сынок!
Все сорок причитали над Туралом, каждая повторяла свое, и всякий раз люди Кыпчак Мелика считали ту, что говорила, Бурлой-хатун. И Бурла-хатун смогла поплакать среди общего плача.
Сорок женщин рыдали по Туралу, словно было у него сорок матерей. Сорок подхватывали причитания единственной. И все они ласкали Турала, и среди них – Бурла-хатун:
– Сынок, сынок, мой сынок, Остов моего дома, опора моего жилища, сынок, Цветок дочери моей – невесты, сынок, Девять месяцев я тебя во чреве носила, Через девять месяцев на свет породила, С пеленок к груди своей прижимала, С колыбели к солнцу на руках своих поднимала…Турал сказал, обращаясь ко всем сорока:
– Матушка моя! Что ты плачешь, что горюешь? Что терзаешь душу мою? Зачем напоминаешь мне минувшие дни? Ох, мама, мама! Разве от арабских коней не родится жеребенок? Разве от красных верблюдов не родится верблюжонок? Разве от белых баранов не родится ягненок? Будь здорова, мать моя, да будет здоров мой отец! И разве у вас не родится сын, подобный мне?
Женщины снова зарыдали. Турал обратился к врагам:
– Я в последний раз увидел лик матери моей, и в сердце у меня не осталось тоски. Теперь ведите меня, вешайте на крюк.
Они ничего не поняли.
– А кто из них твоя мать? – спросили они.
Турал отвечал:
– Любая!
Газан скакал во весь опор.
Поодаль от него, в том же направлении скакал Гараджа Чабан.
На вершине Высокой горы пылали два костра. Где-то далеко-далеко, на вершине другой горы, тоже загорелись два костра: и туда достигла весть с Высокой горы.
Газан скакал…
Близ лагеря Кыпчак Мелика росло могучее ветвистое дерево. Палач перекинул веревку через толстый сук, стянул крепким узлом.
Другой палач подтащил связанного по рукам и ногам Турала к виселице.
Турал молвил:
– Пока не замер мой последний вздох, принесите мою кобзу, я сыграю. Кыпчак Мелик позволил, и принесли кобзу.
Турал взял кобзу, поцеловал, приложил к глазам, прижал к груди, заиграл, запел:
– Жаль мне коня, ржущего, что остался с пустым седлом!
Жаль мне отца и мать, стонущих, приговаривая: «Сынок, сынок!»
Жаль мне Гюнель, плачущую о брате и о возлюбленном!
Жаль мне самого себя, от жизни не уставшего, молодечеством не утомленного!
Кыпчак Мелик на помосте своем расхохотался, люди его рассмеялись. Глядя из окна темницы, сорок женщин горько плакали.
Теперь уже на многих горах, далеко-далеко горели по два костра. Весть облетала народ.
Припадая к гриве каурого коня, мчался Газан – и вдруг натянул узду. Он достиг стойбища Кыпчак Мелика. Огляделся Газан, поправил снаряжение.
Оглядываясь вокруг, увидел Газан столб пыли на дороге. Пригляделся – и узнал догнавшего его всадника: это был Гараджа Чабан. Газан молвил:
– Зачем ты здесь, пастух?
Чабан отвечал:
– Я здесь, чтобы тебе опорой быть.
Газан молвил:
– Пустое говоришь, пастух! Кто ты, чтобы опорой быть мне, Газан-хану? Хочешь, чтобы джигиты на свадьбе или на поминках говорили, что Газан сам не в силах спасти свой дом, что ему на помощь пришел пастух? Слезай с коня!
Пастух огорчился, но не хотел гневить Газан-хана, спешился. Газан молвил:
– Поди сюда, стань под дерево.
Метнул аркан и крепко привязал пастуха к толстому стволу. Пастух сказал:
– Зачем ты так, Газан?
Газан ответил:
– Враг напал на мой дом, я и буду с ним биться. Сокрушу врага – освобожу тебя. Погибну – оставайся и ты здесь, на корм птицам и червям! Может, поймешь, что, не испросив позволения, сражаться с чужим врагом – постыдное дело у нас в народе.
Газан вскочил на коня и поскакал дальше.
…Палач надел петлю Туралу на шею. Турал вновь заиграл на кобзе:
– Дерево, дерево, большое дерево! От тебя мосты через бурные реки, дерево! От тебя корабли на синих морях, дерево! Погляжу вверх – не видно твоей верхушки, дерево! Погляжу вниз – не видно твоего корня, дерево! Повесят меня – ты ли выдержишь тело мое, дерево! Если выдержишь, поплатись за юность мою, дерево!Кыпчак Мелик сделал знак, палач отнял у Турала кобзу, швырнул ее на землю, кобза разлетелась на куски. Палач дернул веревку – Турал повис в воздухе.
Глядящая из окна темницы Бурла-хатун закричала:
– Сын мой, Турал!
Кыпчак Мелик и его люди поняли, кто из дев Бурла-хатун, перекинулись жадными взглядами.
И тут ветвь обломилась. Турал упал на землю. Он остался жив. Кыпчак Мелик завопил:
– Жена Газана Бурла-хатун – вон та высокая! Живо ко мне ее! – Потом указал палачу на Турала: – А ему руби голову мечом, не тяни дела!
Палач занес меч.
Вдруг в воздухе просвистела стрела и вонзилась в руку палача. Меч упал.
На вершине холма, сидя в седле, Газан второй раз натянул тетиву и уложил палача навеки.
Враги, обернувшись, увидели Газана, растерялись. Кто на коня садился, кто меч пристегивал, кто кольчугу затягивал.
Кыпчак Мелик засуетился на своем помосте. Подвели ему коня, он сел в седло.
Газан закричал:
– Эй, Кыпчак Мелик! Подлый сын подлеца! Теперь я покажу тебе, чем кончается вероломство! Если ты мужчина, выходи на площадь, узнаешь, как сладка жизнь, будешь рвать кровью. Я один против вас. Если ты не выйдешь мне навстречу, пусть вся твоя орда знает, что ты не мужчина, а баба с птичьим сердцем. Повяжи на голову платок, сводник!
Люди Кыпчак Мелика смотрели на него, не отрываясь – ждали ответа.
Кыпчак Мелик не ударил в грязь лицом, вооружился, снарядился, поскакал прямо на Газана.
Газан пустил стрелу – Кыпчак Мелик уклонился, стрела пролетела мимо. Кыпчак Мелик пустил стрелу – Газан отстранился, стрела пролетела мимо.
Начали они драться на палицах – ни один не мог одолеть. Перетягивали друг друга – ни один не мог одолеть. Привязанный к дереву Гараджа Чабан смотрел на битву.
Люди Кыпчак Мелика тоже смотрели, как сражается их предводитель. Вооруженные, снаряженные, стояли они наготове.
Теперь уже на всех высотах земли огузской пылали двойные костры. Узнав о несчастье, джигиты мчались со всех сторон, но еще очень далеко были они от поединка Газана и Кыпчак Мелика.
Газан одним ударом сбросил Кыпчак Мелика с коня, выхватил меч, кинулся на него.
Зашатался Кыпчак Мелик, чуть не упал, но в этот миг посланная из его лагеря стрела задела веко Газана, полилась кровь, залила глаз, и Газан перестал что-либо видеть. Тут Кыпчак Мелик ударил его палицей по голове, белое лицо Газана коснулось черной земли, изо рта, из носа хлынула кровь. Меч выпал из руки Газана.
Лежал Газан на земле. Со всех сторон к Газану сбегались враги. Кыпчак Мелик обнажил меч.
…Гараджа Чабан видел беду Газана, но он был привязан к дереву. Что мог он сделать? Напрягал все силы Гараджа Чабан, но не мог разорвать путы, однако толстое дерево пошатывалось. Наконец, когда люди Кыпчак Мелика бросились к лежащему на земле Газану, когда Кыпчак Мелик обнажил меч, Гараджа Чабан дернулся и вырвал дерево с корнями. Бегущие к Газану люди запнулись, остановились, попятились: на них двигалось дерево – огромное, раскидистое.
Ветви и листья скрывали привязанного к стволу Гараджа Чабана, и казалось, будто движется само дерево.
А Кыпчак Мелик еще не видел его. Согласно обычаю своего племени, он перепрыгивал через тело поверженного врага с обнаженным мечом в руке, выкрикивал какую-то дикую песню.
Наконец Кыпчак Мелик закончил обряд. Он нацелил острие меча прямо в лоб Газану, но вдруг был отброшен в сторону ветвью дерева. Гараджа Чабан раскачивал дерево из стороны в сторону и бил им Кыпчак Мелика. Удивителен был этот поединок дерева с человеком! Кыпчак Мелик кое-как вскочил на коня и удрал.
Гараджа Чабан вместе с деревом остановился подле раненого Газана. Лежащий на солнцепеке Газан теперь очутился в тени ветвей. Гараджа Чабан вместе с деревом стоял, охраняя Газана. Легкий ветерок шевелил листья. Люди Кыпчак Мелика, привязав к наконечникам стрел горящую паклю, стали осыпать дерево стрелами. Загорелись ветви, пламя понемногу продвигалось по стволу к Гараджа Чабану.
Дерево, пастуха и хана с четырех сторон окружили всадники с копьями, с обнаженными мечами; кольцо их сужалось, сжималось. Гараджа Чабан раскачивал дерево и ударами ветвей сбрасывал врагов наземь по пяти, по десяти разом. Но он и сам уже занялся огнем.
И тут послышались конское ржание, крики воинов. Огузские джигиты доскакали.
Справа в толпу врезался Карабудаг, слева – Дондар. Зазвенели мечи, засвистели стрелы, засверкали копыта, засновали палицы-шестоперы.
Огузские джигиты глядели грозно, рубили сплеча. Враг был разгромлен. Как будто на узкой тропе выпал град. В ущелье и на холмах на трупы слетались ястребы.
Развязанный Гараджа Чабан направил своего коня прямо на Кыпчак Мелика. Он отломил ветвь от своего дерева, и когда Кыпчак Мелик въезжал через ворота внутрь лагеря, так хватил его ветвью по голове, что голова Кыпчак Мелика шлепнулась на землю, как мяч.
Бегущих огузские джигиты не преследовали. Просивших пощады не убивали. Они вошли в лагерь, изрубили мечом знамя и жезл врага, освободили из плена Турала и Бурлу-хатун вместе с ее сорока стройными девами. И направились к себе домой.
Хоть и с обвязанной головой, Газан сидел на коне очень прямо. Рядом с ним – сын его Турал. Газан молвил:
– Сынок, Турал! Ты увидел, что в этом мире невозможно не рубить головы, не проливать кровь. Теперь ты понял, как я был прав?
Турал ответил:
– Нет, дорогой отец, теперь я понял, что в этом мире нет ничего хуже рубки голов и пролития крови!
Газан нахмурился, ничего не сказал, повернулся налево, к брату Карабудагу.
– Карабудаг, – молвил он, – что-то не видать моего дяди Аруза.
Карабудаг ответил:
– Мы известили его, но он сказал, что упал на охоте, сломал ногу и не может прийти…
Добрались до подножия Высокой горы. Газан сказал Гараджа Чабану:
– Пастух, поднимись на вершину, погаси один костер, а другой пусть горит – костер веселья. Пусть джигиты соберутся на празднество, пусть придет Деде Коркут, споет нам, поведает о подвигах огузов.
Пастух повернул коня на вершину.
Один костер на вершине Высокой горы погас, второй остался. И на другой горе один из двух костров погас, второй остался, и на третьей, и на четвертой.
Теперь уже на каждой горе пылало по одному костру – праздничному костру.
Алп Аруз злобно глядел из своего жилища на эти костры. С усов его капала кровь.
У Газана был друг Гылбаш. Бывалый человек, он много видел на свете. Гылбаш прискакал к Алп Арузу.
– Аруз, – сказал он, – праздничный костер горит, разве ты не видишь? Отчего ж ты не идешь к Газану на пир?
Алп Аруз, с трудом подавив злость, ответил:
– Я как раз собирался.
Гылбаш сказал:
– Понимаешь, наш праздник трауром обернулся. Только уничтожили мы Кыпчак Мелика, как напал на нас Шеклю Мелик. Разрушил жилище Газана, увел в плен его дочь-невесту, ранил мечом ослабевшего Газана, сбросил его с коня на землю. Газан при смерти, послал меня к тебе, сказал: пусть придет мой дядя Аруз, поможет мне.
У Аруза радостно заблестели глаза:
– Так вот какие дела, Гылбаш! Когда в хорошие дни Газан выбирал себе приближенных, раздавал им богатство, не считал он Аруза дядей. Теперь же, в черный день, он просит о помощи? Пусть беда падет на его голову! Пусть попомнит дядю своего Аруза! Прежде был я Газану тайный враг, а с этого дня – открытый враг, и пусть он это знает! – Алп Аруз простер руки к небу: – Слава тебе, Господи, что воздал Газану за меня! От этой раны Газан не оправится!
И Аруз, довольный, забегал по своему шатру, потирая ладони. Гылбаш потихоньку вышел из шатра, вскочил на коня, поднял плеть и только тогда позвал Аруза.
– Эй, Аруз, – молвил он, – старый глупец! Газан-хан здоров, бодр, весел. Никто на него не нападал, никто его не ранил. Триста шестьдесят всадников – бравых джигитов собрались у него, едят, пьют, веселятся. Меж едой и питьем вспомнили джигиты о тебе. Я сказал: съезжу-ка, узнаю, в чем дело. Я проверял, друг ты или недруг, и убедился, что ты Газану враг. Прощай!
Он стегнул коня и ускакал.
Аруз остался стоять, глядя ему вслед. С усов его капала кровь.
В крепости Бейбурд Бейрек по-прежнему томился в темнице. Каждую ночь Сельджан приходила к нему в одежде воина, вешала меч на стену, раздевалась. Каждую ночь Бейрек снимал меч со стены, вынимал из ножен, клал между собой и девушкой. Сколько ночей так прошло, сколько дней, сколько месяцев?
Может быть, в эту ночь небо было чернее, звезды тусклее, ветер заунывнее. И в эту ночь Сельджан пришла в одежде воина, разделась, повесила на стену меч. Но в эту ночь рука Бейрека не поднялась, чтобы снять его со стены.
Наступило утро. Сельджан уже не было. Но двери темницы были распахнуты. Бейрек встал, подошел к двери – и стражника не было. Бейрек вышел и оказался внутри крепости. Прогуливаясь, он подошел к белобашенной ограде, увидел крепостные ворота, приблизился к ним. Ворота тоже были открыты. Стражники отставили свои копья. Бейрек сначала удивился, потом медленно прошел через ворота, очутился по ту сторону ограды. Здесь был простор, здесь было поле, здесь он был свободен. Бейрек не верил в свое освобождение; он огляделся вокруг, потом, почувствовав устремленный на него взгляд, поднял голову: со стены, из белой башни на него смотрела Сельджан. Она знала, что Бейрек никуда не уйдет. Бейрек повернулся и пошел обратно.
Мимо крепости Бейбурд проходили купцы. Бейрек бродил у башен и стен, здоровался, отвечал на поклоны. Он стал здесь своим. Он уже снял одежду с обрезанными рукавами и штанинами – знаком неволи – и носил обычную одежду. Но каждые три или пять дней Бейрек поднимался на самую высокую из башен и в тоске, в печали, в тайной надежде смотрел вдаль, в сторону своей утерянной отчизны.
Однажды Бейрек вышел погулять за крепостной стеной. У стены лежал камень, он сел на камень. Место это напоминало скалу близ Шуши, отсюда были видны извилистые дороги.
Тяжело поднимался в гору караван. Он достиг камня, на котором сидел Бейрек. Это был караван из огузских краев. Однако ни купцы не узнали Бейрека, ни Бейрек их – прошло три года!
Поздоровались. Бейрек спросил:
– Из каких вы земель, купцы?
Купцы отвечали:
– Из огузских земель.
Чтобы скрыть замешательство, Бейрек отвернулся, но взял себя в руки и молвил:
– Спрошу я вас про сына Салора, Газана, из огузских земель. Жив ли он? Спрошу я вас про Карабудага, Дондара, Амана, Гараджа Чабана. Живы ли они? Про Бейбуру спрошу, про жену его, про дочерей. Живы ли они? Дочь Бейбеджана Банучичек дома или в могиле?
Старый купец отвечал:
– Если спрашиваешь про сына Салора, Газана, про джигитов его, то они живы. Если спрашиваешь про Бейбуру, про жену его и дочерей, то живы и они: сняв белое, надели черное из-за пропавшего без вести Бейрека. Банучичек мы видели плачущей на развилке семи дорог, стонущей: «О, мой Бейрек!..» А ты, джигит, случаем, не из огузов? Не слыхал ли чего о сыне Бейбуры, Бамсы Бейреке?
Бейрек молвил:
– Нет, купцы, я не из огузов. Я странник – бездомный, безродный. Но когда вы вернетесь обратно, в огузские земли, скажите белобородому отцу Бейрека, его седовласой матери, сестрам его, а еще дочери Бейбеджана Банучичек – пусть не ждут Бейрека, он не вернется. Пусть отец заколет его жеребца, приготовит из него плов, мать и сестры пусть снимут черное, наденут голубое, справят последний траур по Бейреку. Пусть найдут жениха его невесте: кто ей понравится, кого она полюбит, пусть за того выходит. А Бейрек, скажите, ушел туда, откуда не возвращаются.
Старый купец отвечал:
– Бедный Бейрек! Умер на чужбине!
Потом он достал из хурджина узелок и протянул его Бейреку.
– Странник, – молвил он, – может, путь твой пройдет мимо могилы Бейрека. Тогда положишь на нее вот это. Это наша земля. Жизнь торговых людей проходит в чужих краях, вот мы и возим нашу землю с собою: если придется умереть на чужбине, пусть на нашу могилу бросят хоть горстку родной земли. Возьми и будь здоров!
Караван удалился.
Бейрек долго смотрел ему вслед, потом развязал узелок. Уткнулся лицом в землю в своей горсти, задохнулся, прошептал:
– Запах полыни!
И вдруг понял он, что больше не может здесь оставаться. Сорвался с места и как безумный побежал. Перепрыгивал через откосы, обрывы…
Со стены из белой башни Сельджан-хатун увидела убегающего Бейрека, заметалась, как раненая птица. Она готова была взлететь с ограды. Хотела позвать стражников, чтобы они догнали Бейрека, поймали, вернули. Но поняла, что все напрасно – не вернуть Бейрека! И Сельджан-хатун с бесконечной тоской смотрела вослед любимому, исчезающему вдалеке.
Бейрек добежал до ущелья, огляделся вокруг. Увидел невдалеке табун лошадей. От табуна отделился конь, подбежал к нему. Бейрек посмотрел – и узнал своего Серого жеребца. Когда Бейрек попал в плен, Серый жеребец чутьем разыскал хозяина, прибился к табуну Кара Арслана, стал добровольным пленником.
Серый жеребец издалека учуял Бейрека, подскакал к нему и, встав на дыбы, заржал. Поднял он голову, поднял одно ухо и встал перед Бейреком. Бейрек обнял коня. Поцеловал его в оба глаза, вскочил ему на спину.
– Я не назову тебя конем – назову братом. Ближе брата – товарищем назову! Товарищ мой, отвези меня в родные края, – молвил он и помчался как ветер.
В крепости хватились Бейрека, узнали, что он сбежал, хотели догнать, но когда направились к воротам, Сельджан-хатун потянула за веревку, ворота закрылись, всадники остались внутри ограды.
А Бейрек на Сером жеребце скакал много дней, много ночей и добрался наконец до земли огузской. Первым ему встретился озан – певец. Бейрек сказал озану:
– Озан, у кого что болит, тот о том и говорит. Скажу и я. С кобзой на груди из края в край, от племени к племени ходит озан. Кто мужествен, кто слаб – знает озан. Да будет место озану в нашем народе всегда!
Озан отвечал:
– Спасибо, джигит, да будет и твоя жизнь радостной, чело – ясным. Да обойдет тебя любая беда!
Бейрек спросил:
– Озан, куда ты идешь?
Озан отвечал:
– Джигит, на свадьбу иду.
– А чья свадьба?
– Сын Яртаджыка Ялынджык берет в жены невесту пропавшего Бамсы Бейрека Банучичек.
– Ялынджык?
– Да. – И озан рассказал Бейреку, что тут к чему.
Бейрек молвил:
– Озан, уступи мне кобзу. Я в залог оставлю тебе коня. Сохрани его – я приду, заплачу тебе, а коня заберу.
Озан отвечал:
– Добро! Голоса я не лишился, горла не простудил, да еще и конем обзавелся.
Озан дал Бейреку кобзу, и Бейрек продолжал путь.
Дошел он до подножия Высокой горы и увидел, что Гараджа Чабан набрал у дороги груду камней и продолжает набирать их. Бейрек его узнал, а Гараджа Чабан Бейрека не узнал.
Бейрек молвил:
– Да будет светел твой лик, пастух, да будет благословен хлеб, который ты делил с Бейреком.
Оттуда Бейрек прибыл в свой удел – на окраину земли огузской. Пришел к роднику, под ивы. Видит, у родника – его младшая сестра Гюнель, пришла по воду.
Гюнель плакала и причитала:
– Бейрек, брат мой, свадьба твоя омрачилась!..
Нашла тоска на Бейрека, слезы закапали из глаз. Заиграл он на кобзе, заговорил. Послушаем, что он говорил:
– Скажи, девица, о чем ты плачешь, о чем стонешь? Душа моя горит, нет мне покоя! Что же случилось? Или твой брат погиб и сердце охвачено болью? О чем ты так плачешь, причитаешь, кого оплакиваешь, девушка?
Гюнель отвечала:
– Не играй, озан, не пой, озан. К чему это мне, несчастной девице, озан? Видишь ли эту гору? Там росли яблони моего брата Бейрека. Видишь ли эти воды? Из них пил мой брат Бейрек. Видишь ли табун? На тех конях ездил мой брат Бейрек. Скажи, озан, когда переходил ты лежащую напротив гору, не встретил ли джигита, чье имя – Бейрек? Лишилась я единственного брата, озан, а ты, не знаешь! Верное мое сердце ранено, высокие мои утесы обрушились, тенистое мое дерево срублено, озан, а ты не знаешь! Не играй, озан, не пой, озан! К чему это мне, несчастной девице, озан? Вон там, невдалеке, свадьбу справляют. Проходи, иди туда, озан!
Бейрек прошел мимо, подошел к дому. Видит, сестры его Айсель и Гюнай одеты в черное, плачут.
Бейрек сказал:
– Девушки, нет ли у вас простокваши или каймака, лаваша или хлеба? Три дня я в дороге, накормите меня. Не пройдет и трех дней, как я вас обрадую.
Гюнай принесла еду. Накормила Бейрека досыта. Бейрек молвил:
– Во имя вашего брата дайте мне старый кафтан, если есть: я пойду на свадьбу. Если на свадьбе мне достанется кафтан, я верну ваш.
Айсель пошла, принесла кафтан Бейрека, дала ему. Бейрек взял, надел, кафтан пришелся ему впору, полы по росту, рукав по руке. Старшей сестре Айсель он напомнил Бейрека. Глаза ее, окруженные черной каймой, наполнились кровавыми слезами. Она молвила:
– Если б не запали твои глаза, окруженные черной каймой, назвала б я тебя Бейреком. Не закрыла бы лицо черная борода, не побелели бы руки, назвала б я тебя Бейреком. И походкой, и повадкой, и взором напоминаешь ты мне Бейрека. Оживил ты мои воспоминания, озан, обрадовал ты меня, озан!
Гюнай молвила:
– О, мой озан, откуда ты пришел? С тех пор, как исчез Бейрек, сюда ни один озан не приходил, кафтана не просил.
Бейрек подумал:
«Девушки едва не узнали меня в этом кафтане. Так и огузские джигиты узнают. Пусть до поры не узнают: посмотрю, кто мне друг, кто враг».
Он стянул с себя кафтан, бросил его девушке, сказал:
– Да ну вас с вашим Бейреком! Дали мне один драный кафтан – заморочили голову!
Нашел он старый мешок из верблюжьего вьюка, сделал в нем дыру, надел себе на шею, притворился безумным, пришел на свадьбу.
На свадебном пиру стучал Гавалдаш, гулко грохали нагара, пели золотые трубы, разносились звуки зурны. Одни джигиты водили хоровод, другие пускали стрелы. Свадебное пиршество было в скалах Гобустана, и мишенью для стрелков были выбитые на скалах изображения быков, коз, оленей. Сейчас все целились в изображение быка на большой скале, вернее, в перстень, прилепленный клейким саккызом прямо посередке.
Притворяясь безумным, одетый в рубище, Бейрек подошел, встал в стороне, стал наблюдать за стрелками.
Как выпустит стрелу Карабудаг, Бейрек приговаривает:
– Да не ослабеет десница твоя!
Как выстрелит сын Газана, Турал, Бейрек приговаривает:
– Да не ослабеет десница твоя!
Аман, Дондар стреляли – Бейрек приговаривал:
– Не ослабеют десницы ваши!
Дошла очередь до Ялынджыка. Выстрелил Ялынджык – Бейрек сказал:
– Да отсохнет десница твоя, да сгниют персты твои! Свинья, сын свиньи! Разве пристало свинье пускать стрелу в быка?
Услышав эти слова, джигиты рассмеялись, а Ялынджык вспыхнул и сердито молвил:
– Эй, безумный озан, откуда ты взялся? Кто ты таков, что смеешь говорить мне это?
Бейрек ответил:
– Да будешь ты жертвой джигитов! Стрелять не умеешь – чего ж лезешь вместе с другими? Разве лук так натягивают?
Ялынджык молвил:
– Ладно, безумный, поди – натяни мой лук, посмотрим, как ты это сделаешь. А не натянешь – убью тебя.
Бейрек взял лук, натянул, лук разломился пополам. Бейрек бросил обломки перед Ялынджыком:
– На ровном месте стрелять в жаворонков он годится, – молвил Бейрек.
Ялынджык еще пуще разозлился, но виду не показал.
– Лежит без дела лук Бейрека, подите принесите безумному, – сказал он.
Принесли. Увидев свой лук, Бейрек опечалился, взял его в руки, поцеловал.
– Джигиты, – сказал он, – из любви к вам натяну я лук, пущу стрелу.
Одной стрелой попал он в перстень, расколол его. Увидев это, джигиты захлопали в ладоши, рассмеялись. Сидящий в сторонке на высоком месте Газан велел привести Бейрека. Бейрек подошел, наклонил голову, прижал руку к груди, приветствовал хана.
Газан молвил:
– Эй, безумный озан! Нам понравилось, как ты стреляешь. С тех пор, как ушел Бейрек, никто не мог натянуть его лук. Раз ты выказал такую доблесть, проси чего хочешь. Одежду или шатер, золото или деньги, баранов, верблюдов, лошадей проси. Все дам!
Бейрек отвечал:
– Повелитель! Я прошу у тебя одного: позволь мне пойти туда, где готовят пищу, я голоден.
Газан рассмеялся:
– Безумный озан отверг богатство, – молвил он и обратился к джигитам: – На сегодня я уступаю ему свое главенство. Пусть идет куда хочет, делает что хочет.
Бейрек пошел, заглянул в котлы, позвал слуг:
– Отнесите, раздайте еду беднякам, сиротам, – сказал он. – Где женщины? Отведите меня к ним!
Один из слуг пришел к Газану:
– Повелитель, – молвил он, – безумный озан раздал еду беднякам и сиротам. А теперь хочет пойти к девицам.
Газан отвечал:
– Пусть делает что хочет. Хочет пойти к девицам – пусть идет. Он не выглядит обидчиком.
Бейрек пришел к шатру, где сидели девушки, женщины, прогнал зурначей, барабанщиков.
– Я сам буду играть, – сказал он, достал из-под рубашки кобзу, сел у входа в шатер.
Статная Бурла-хатун гневно молвила:
– Эй, безумный! Пристойно ли без спроса идти туда, где сидят женщины и девицы?
Бейрек отвечал:
– Госпожа, мне позволил это сам Газан-хан. Никто не смеет мне перечить.
Бурла-хатун молвила, обращаясь к женщинам:
– Раз ему позволил Газан, пусть сидит. – Потом спросила у Бейрека: – Будь по-твоему, безумный озан, но чего ты хочешь?
Бейрек отвечал:
– Госпожа, я хочу сыграть на кобзе и хочу, чтоб невеста сплясала.
Банучичек, закрывшая лицо красной вуалью, сидела за занавеской, ее не было видно. Женщины пошептались. Бурла-хатун шепнула Гысырдже Енге:
– Гысырджа Енгя, встань, спляши! Откуда ему знать, безумному, кто невеста?
Гысырджа Енгя встала, сказала:
– Играй, безумный озан! Играй, я буду плясать, я – невеста.
Бейрек заиграл на кобзе. Гысырджа Енгя пошла в пляс. Играя на кобзе, Бейрек приговаривал:
– Из-за угла на тебя смотрят погонщики, следят, в какое ущелье ты пошла, смотрят, по какой дороге ты вернешься. Иди к ним, они исполнят твое желание. Я же поклялся, что не буду ездить на бесплодной кобыле.
Женщины тихо пересмеивались под своими чадрами. Бейрек продолжал:
– Гысырджа Енгя, к чему ты мне? Пусть встанет та, что выходит замуж, пусть хлопает в ладоши и пляшет, а я буду играть на кобзе.
Гысырджа Енгя сказала:
– О, каков безумец! Говорит так, будто все видит насквозь.
Одна женщина прошептала Фатьме Брюхатой:
– Встань, спляши!
На лицо Фатьмы Брюхатой накинули белую вуаль, скрыли лицо ее. Фатьма вышла на середину и сказала:
– Играй, безумный озан, я спляшу, я – невеста!
Бейрек, перебирая струны кобзы, заговорил:
– Да разве за домом твоим не ущелье? Да разве пса твоего зовут не Бераджу́к? Да разве тебя не зовут Брюхатой Фатьмой, у которой дюжина ребятишек? Ступай, садись на место! Я-то хорошо тебя знаю и поклялся, что не сяду на жеребую кобылу. Пусть встанет невеста, я буду играть на кобзе, а она пусть хлопает в ладоши и пляшет.
От таких слов Фатьма вышла из себя:
– О, этот безумец всех нас опозорит! – воскликнула она и обратилась к Банучичек: – Встань, девица! Будешь плясать – пляши, не будешь – хоть в аду гори! Ты знала, что после Бейрека тебе добра не будет!
Бурла-хатун молвила:
– Встань, девушка, спляши. Что тут делать?
Банучичек встала, спрятала руки в рукава, чтобы чужой не увидел кольцо на пальце – кольцо Бейрека, вышла на середину и сказала:
– Играй, безумный озан, это я выхожу замуж. Играй, я спляшу.
Бейрек отвечал:
– Да, это ты. А зачем ты прячешь руки? Наверное, по воду ходила, был мороз, и пальцы у тебя обмерзли и отвалились. Руки у тебя безобразные, вот ты их и прячешь. Беспалая девица, тебе выходить замуж – позор!
Банучичек нахмурилась.
– Эй, безумный озан, – молвила она, – кем я опозорена, что ты уличаешь меня?
Она открыла свою белую, как серебро, кисть руки, блеснул перстень, надетый Бейреком.
Бейрек узнал свой перстень, сказал:
– С тех пор как ушел Бейрек, поднималась ли ты на вершины высоких холмов, девица? Смотрела ли ты на дальние дороги, девица? Рвала ли ты свои черные как ночь волосы, девица? Проливала ли ты горькие слезы из своих ясных очей, девица? Спрашивала ли ты у мимо идущих о Бейреке, девица?
Банучичек, плача, отвечала:
– Рыдала я, озан, причитала, озан, сколько лет ждала, озан, – не вернулся мой сокол! Не замуж я выхожу, озан, в могилу ухожу. Пощади, озан, не растравляй мою рану…
Бейрек молвил:
– Девица, кто подарил тебе золотое кольцо, что у тебя на пальце? Дай его мне. Я знаю его.
Девушка отвечала:
– Нет, золотое кольцо не твое. У золотого кольца много примет. Их знает тот, кто дарил. Ты не можешь их знать.
Бейрек снова заиграл на кобзе и заговорил:
– Светлым утром не сел ли я на Серого жеребца? Не пригнал ли я к твоему шатру джейрана? Не позвала ли ты меня к себе? Не скакали ли мы конь о конь, не пускали ли стрелы, не боролись ли с тобой? Не обнял ли я тебя крепко? Не поцеловал ли я тебя трижды? Не надел ли тебе на палец золотое кольцо? Не я ли Бамсы Бейрек, которого ты полюбила?
Банучичек подняла накидку, побледнела, губы ее задрожали, в смятении и страхе посмотрела она на постаревшее лицо Бейрека, на его запавшие глаза, поседевшие волосы. Как завороженная сделала к нему два шага. Бейрек протянул ей руку, раскрыл ладонь – на ладони была полынь, смешанная с землей. Запах полыни ударил в ноздри Банучичек. Она прошептала:
– Запах полыни!
Кинулась она к Бейреку, потом вдруг остановилась, выбежала из шатра, вскочила на коня.
Банучичек вскочила на коня, хлестнула его плетью, поскакала мимо гостей, собравшихся на свадьбу, мимо джигитов, собравшихся на стрельбище, мимо удивленно взиравших на нее Газана, Турала, Карабудага, пронеслась над лежащим поодаль пьяным Дели Кочаром, мимо растерянного, ошеломленного Ялынджыка, по полям и лугам доскакала до удела Баят.
Ослепший Бейбура и жена его Айна Мелек, как обычно, сидели на камне у границ удела. Банучичек проскочила мимо них, дернула коня за уздечку. Конь встал на дыбы. Банучичек крикнула:
– О, мои свекор и свекровь! Ваша гора обрушилась – поднялась она наконец! Ваши воды пересохли – зажурчали они наконец! Ваш сын Бейрек пропал – вернулся он наконец! Свекор, свекровь, что вы дадите мне за радостную весть?
Бейбура вскочил с места:
– Да умру я ради твоего языка, невестушка! Если твои слова ложны, пусть станут правдой, невестушка!
Тут прискакали джигиты и сам Бейрек. Газан молвил:
– Магарыч, Бейбура, сын твой вернулся!
Бейбура отвечал:
– Как я узнаю, мой ли это сын? Пусть он порежет мизинец и смажет кровью мои глаза. Если они откроются, то это мой сын Бейрек.
Бейрек быстро полоснул себя ножом по мизинцу, помазал кровью глаза отца, и глаза Бейбуры открылись. Бейбура сказал:
– Сын, свет моих очей, сила моих рук, опора моего жилища, сын!
Айна Мелек сказала:
– Цветок моей дочери-невесты, сын!
Отец, мать, сестры обнимали Бейрека, плакали и смеялись, смеялись и плакали.
Газан, поглядев на Банучичек, на Бейрека, молвил:
– Ну что ж, достигайте цели своих стремлений!
Бейрек ответил:
– Нет, есть у меня еще одно дело. Пока его не свершу, не достигну цели. Где Ялынджык?
Бейрек повернул коня обратно. Джигиты поскакали за ним.
Ялынджык тоже вскочил на коня. Он бежал. Он скакал, оглядываясь назад. Бейрек настигал, Ялынджык убегал. Конь Ялынджыка скакал быстрее, и расстояние между ними увеличивалось. Вот уже Бейрек остался позади, исчез из виду. Но как раз в тот момент, когда Ялынджык достиг подножия Высокой горы, Гараджа Чабан стал забрасывать его камнями. Конь Ялынджыка споткнулся, упал. Ялынджык соскочил с коня, побежал, влетел в заросли камыша, укрылся там.
Бейрек доскакал сюда. Не нашел Ялынджыка. Гараджа Чабан сказал:
– Не тревожься. Он в камышах. Сейчас вытащим его оттуда.
Гараджа Чабан ударил по огниву, высек огонь, поджег камыши. Пламя охватило заросли. Оттуда послышались вопли. В обгоревшей, висящей лохмотьями одежде, покрытый хлопьями сажи, Ялынджык, хромая, выбрался из камышей. Подоспевшие джигиты, увидев его такого, расхохотались. Теперь Ялынджык не был страшен, он был жалок. Он упал в ноги Бейреку.
Бейрек обнажил меч. Ялынджык заплетающимся языком прошептал:
– Пощади, не убивай меня!
Бейрек сказал:
– Я не убиваю тебя, глупец, встань! Пройди под моим мечом!
Ялынджык прошел под мечом Бейрека. Бейрек сказал:
– Уходи. Я прощаю тебя.
Деде Коркут говорит:
– Бейрек вернулся из плена, сыграл свадьбу, привел Банучичек в свадебный шатер. Сестру Бейрека Гюнель обручили с сыном Газана, Туралом. Гараджа Чабан тоже женился, у него родился сын. Мы отпраздновали это, мы играли и пели. Нам казалось, печальные дни огузского племени позади. Откуда нам было знать, что самая большая беда еще впереди? Откуда нам было знать, что на головы наши свалится еще столько бед, что наша земля увидит еще столько горя…
…В шатре Алп Аруза человек под черным башлыком сообщал ему новые вести, а у того с усов капала кровь. Аруз хлопнул в ладоши, позвал слугу:
– Пошлите людей ко всем джигитам, которые в кровном родстве со мной. Пусть приедут. Пусть приедет Аман, Денё Билмёз, Дюлёк Вуран, Дели Кочар.
Джигиты приехали, вошли в шатер Алп Аруза. Вечно пьяный Дели Кочар, шатаясь, слез с коня, вошел шатаясь. Алп Аруз приветствовал джигитов и молвил:
– Джигиты, знаете ли вы, для чего я вас созвал?
Отвечали:
– Не знаем.
Алп Аруз молвил:
– Из всех огузов я вызвал только вас, мою кровную родню. В такой час сердце мое доверяет только вам. Вы знаете, что мой племянник Газан никогда меня не любил, а теперь стал мне открытым врагом. Значит, он и ваш враг. Вот и Бейрек вернулся. Сила Газана возросла вдвое. Бейрек на свадьбу нас не позвал, прямо выказал неприязнь к нам. Что же вы скажете, джигиты? Что собираетесь делать?
Дели Кочар мутным взглядом посмотрел на Аруза, ответил:
– Что мы скажем? Раз ты Газану враг, значит, и мы – враги!
Аруз молвил:
– Джигиты, поклянитесь!
Джигиты воздели руки:
– Твоему другу – друзья, врагу – враги! – сказали они. Дели Кочар заснул.
Взглянув на него, Алп Аруз заметил:
– Бейрек взял у нас девушку, он – зять Дели Кочара. Но он – правая рука Газана. Давайте напишем ему письмо от имени Кочара: мол, приезжай, помири нас с Газаном. Завлечем его сюда. Захочет быть с нами – хорошо. Нет – я схвачу его за бороду, а вы рубите мечами! Так избавимся от Бейрека. А там и с Газаном справимся.
Написали Бейреку письмо. Полусонного, полупьяного Дели Кочара заставили поставить подпись. Отправили письмо. В край Баят от Аруза прибыл человек, вошел к Бейреку.
– Джигит, Аруз шлет тебе привет! Сказал: пусть Бейрек сделает милость, приедет, помирит нас с Газаном, – молвил он. – А вот письмо от Дели Кочара.
Бейрек отвечал:
– Ладно!
Сел на коня, приехал к Арузу, вошел в шатер, где сидели джигиты, поздоровался, сел рядом с Арузом. Аруз сказал Бейреку:
– Знаешь ли ты, Бейрек, зачем мы тебя позвали?
– Зачем?
Аруз продолжал:
– Все сидящие здесь джигиты восстали против Газана и поклялись в том. Поклянись и ты!
Бейрек огляделся, увидел настороженные, недобрые взгляды, воздел руки и сказал:
– Клянусь, что никогда не восстану против Газана. Много я питался милостями Газана. Если не признаю этого, пусть они встанут перед оком моим. Много я ездил на коне Газана. Если не признаю этого, пусть седло будет мне гробом. Много я надевал кафтанов Газана. Если не признаю этого, пусть будут они мне саваном. Дом Газана я считал своим домом, его очаг – своим очагом. Когда он плакал, плакал и я, когда он смеялся, я смеялся с ним. Не отрекусь от Газана, так и знайте!
Аруз схватил Бейрека за бороду. Бейрек не шелохнулся, не двинулся с места. Аруз посмотрел на джигитов, сделал им знак. Джигиты обнажили мечи, но никто не поднял руки на Бейрека.
Бейрек молвил:
– Аруз, знал бы я, что ты сотворишь со мной такое, надел бы железную броню, препоясался булатным мечом, взял с собой яснооких джигитов. Знал бы я – разве так пришел бы к тебе? Обманом захватить мужа – дело женщины. От своей ли жены научился ты этому?
Аруз отвечал:
– Не мели попусту! Не проливай свою кровь, как воду. Поклянись, как тебе велят.
Бейрек молвил:
– Голову сложу за Газана. Сколько лет был я пленником – от друзей своих, от народа не отрекся. И теперь не отрекусь. Хоть на сто кусков меня разруби!
Аруз посмотрел на джигитов – видит, никто не трогается с места, сам обнажил свой черный меч, ударил Бейрека по правому плечу, облилось оно кровью. Голова Бейрека опустилась. Джигиты тихо разошлись. Каждый сел на своего коня. Бейрека тоже посадили на его коня, сзади него посадили человека, он поддерживал тело Бейрека, довез до его удела, положил на землю, укрыл буркой и ускакал.
Бейрек застонал, Банучичек прибежала на стон. Увидела залитого кровью Бейрека, обмерла. Бейрек тяжело дышал. Он спешил поведать о происшедшем.
– Любимая, – молвил он, – не медли. Скачи в дом Газана, скажи: Бейрек приказал тебе долго жить. Скажи, пусть не прощает мою кровь дяде своему – предателю Арузу. Скажи: пока Аруз со своими мерзавцами не явился сюда, не разграбил и не разрушил все, пусть Газан сам к нему нагрянет. Я ухожу, оставляю Газану тебя, сестер моих, старого отца моего и мать, пусть он это знает.
Так сказал Бейрек и закрыл глаза. Банучичек, рыдая, упала на труп.
…И Газан рыдал, утирая глаза рукавом. И джигиты плакали рядом с ним.
На вершине Высокой горы плакал Гараджа Чабан, осыпая себя камнями.
У родника, под ивой, плакала Гюнель. Турал хотел утешить ее, но не мог.
Газан удалился к себе и велел никого не пускать.
Турал подошел к Гылбашу.
– Гылбаш, отец семь дней не выходит, – молвил он. – Может, ты бы к нему вошел?
Гылбаш отвечал:
– Ты сын, ты и войди!
Они вошли к Газану вдвоем. Турал молвил:
– Отец, мы лишились славного джигита. Он сложил свою голову за нас. Завещал тебе не прощать его крови, отомстить за нее. Что выйдет из плача? Пойдем посчитаемся со злодеями, отомстим за кровь Бейрека!
Газан поднял голову:
– Да, кровь за кровь, сын мой! – отвечал он. – Теперь и ты говоришь это. Значит, быть посему. Гылбаш, скачи, пусть вьючат на коней запасы оружия. Пусть джигиты будут готовы.
И джигиты вооружились, снарядились, сели на коней. Подвели каурого коня – Газан сел в седло. Запели трубы, ударили барабаны. Не различая дня и ночи, шло войско. Газан наклонился к сыну.
– Сын мой Турал, – молвил он, – эта битва будет роковой. Или они нас, или мы их. Нужно, чтобы в этой битве ты проявил доблесть, был мне опорой, заменил Бейрека.
Турал оглянулся. Плачущая Гюнель вышла за пределы края Баят и смотрела вослед Туралу.
До Аруза и его людей дошла весть. И они вооружились, снарядились, сели на коней, выехали навстречу Газану. Началась битва. Зеленогрудые древние горы такой схватки не знали. Глубокие тесные ущелья такого побоища не ведали.
Стоявший на вершине холма Деде Коркут умолял джигитов прекратить братоубийственную бойню. Никто не слушал его. Алп Аруз погнал коня навстречу Газану, закричал:
– Эй, Газан, ты мой противник! Ступай сюда, я снесу тебе голову и брошу псам!
– Эй, Аруз, ты мой противник! – крикнул Газан. – Ступай сюда, я покажу тебе, как подлым коварством губить храбрых мужей!
Аруз ударил Газана мечом, но даже не ранил его – промахнулся. Дошла очередь до Газана. Острым копьем он пронзил грудь Аруза, сбросил его с коня на землю, обнажил меч, хотел отрубить ему голову, как вдруг взор его упал на Турала. Газан увидел полные ужаса глаза сына и в ту же минуту принял решение. Указав на Аруза, он произнес:
– Сын мой Турал, голову ему отрубишь ты!
Газан ускакал, врезался в гущу боя: будто в стаю черных гусей ворвался сокол.
Турал слез с коня, поднял меч, но опустить не смог. Он увидел глаза Аруза, молящие о пощаде, вложил меч в ножны, вскочил на коня, поскакал. Аруз медленно приподнялся на локте, из последних сил наложил стрелу на лук, прицелился в удаляющегося Турала. Выстрелил. Стрела задела спину Турала, полилась алая кровь. Он обнял коня за шею, приник к его гриве, ноги его не оставили стремян, он остался на весу… Конь вынес раненого хозяина с поля битвы, поскакал в сторону гор. Увидев, что стрела достигла цели, Аруз довольно улыбнулся, но от боли рот его искривился, голова склонилась набок, он испустил дух.
На поле гибли джигиты. И конь Газана, и сам Газан были ранены.
Карабудаг погиб, Аман погиб, Дондар погиб.
И джигиты, и кони падали один за другим.
…Всадник под черным башлыком все еще вертелся на поле боя. Ему навстречу выехал джигит под белым башлыком, ударил его мечом, скинул с коня, хлынула кровь. Когда всадник под черным башлыком свалился на землю, башлык с его лица упал. Это был Ялынджык. Собрав последние силы, он вонзил копье в спину джигита под белым башлыком. Джигит упал с коня, растянулся на земле. Ялынджык умирал, но в смертный час он хотел узнать, кто убил его и кого убил он. Слабым движением руки он отвел с лица противника белую накидку. Это была Банучичек. Она умерла.
В тот же миг и Ялынджык испустил дух и, упав у ног Банучичек, стал недвижим.
Людские тела, конские туши каменели, превращались в статуи.
Однако и статуи теряли очертания, превращались в груды камня. Теперь на широком поле не осталось ничего, кроме причудливых каменных глыб.
Стоящий на вершине холма Деде Коркут плакал, закрыв лицо руками.
Конь Турала скакал, уносил хозяина далеко в горы.
Меж каменных груд на поле бродили плачущие девушки, женщины, старухи с распущенными волосами. Среди них была и статная Бурлахатун, и Гюнель. Женщины выкрикивали имена джигитов и причитали:
– О, Газан! О, Аруз! О, Аман! О, Карабудаг! О, Турал!..
Деде Коркут, сидя у своей могилы, играл на кобзе. Его повествование подошло к концу. Деде Коркут говорил:
– Где славные джигиты, о которых я поведал? Где те, кто твердил: весь мир – мой? Смерть взяла, а земля скрыла. За кем остался тленный мир? Земная жизнь, ты приходишь и уходишь. Твой конец – смерть, о земная жизнь! Старый Коркут, ты умираешь, знай это. Караван ушел, ты опоздал, знай это. Сколько ни живи, конец – смерть, исход – разлука…
Деде Коркут кончил говорить, отложил кобзу, спокойно посмотрел на свою могилу, медленно вошел в нее, лег. Из чащи лесной выползла пестрая змея и, шипя, поползла к могиле. Деде Коркут, закрыв глаза, ждал. Вдруг издалека послышались голоса, он поднял голову.
К нему шли старая женщина и юная девушка. У обеих волосы были растрепаны, обе плакали, причитали. Одна из них была статная Бурла-хатун, другая – Гюнель. Бурла-хатун заклинала:
Текут воды твои, гора Газылык. Пусть остановятся! Растут травы твои, гора Газылык. Пусть остановятся! Бегут олени твои, гора Газылык. Пусть остановятся! И природа покорялась материнскому заклятию: текущие воды пересыхали, травы желтели, цветы увядали, олени падали на бегу. Бурла-хатун говорила:
– Где ты, мой сын, мой Турал? Среди мертвых я тебя не нашла, среди раненых не сыскала. Рухнул ли ты с отвесных скал? Стал ли добычей льва в камышовых зарослях? Сын мой, сын, о, мой сын, где ты, знала бы я! Травы-чеснока я не вкушала, а утроба моя горит. Желтая змея меня не коснулась, а белое тело мое чахнет. Единственного сына моего не видать – рвется моя печень! Мало ли мне было горя с Газаном! Дал мне Господь горевать и о сыне. Стада красных верблюдов прошли. Прошли и их верблюжата с ревом. Моего верблюжонка я лишилась, реветь ли и мне? Табуны кавказских коней прошли. Прошли и их жеребята с ржанием. Моего жеребенка я лишилась, ржать ли и мне? Отары белых овец прошли. Прошли и их ягнята, блея. Моего ягненка я лишилась, блеять ли и мне? Сын мой, о, Господи, куда девался? Ответь хоть ты!
Они подошли к Деде Коркуту. Но Деде Коркут не смотрел на них. Деде смотрел – по ту сторону горы вороны и ястребы то взвивались в небо, то снова падали вниз. Деде Коркут сказал Бурле-хатун:
– Ханум, пойдем на солнечную сторону горы.
Они поднялись на вершину, спустились в долину. Увидели, что Турал лежит в ущелье. И конь с ним рядом.
Вороны-стервятники, привлеченные запахом крови, пытаются сесть на парня, но конь, брыкаясь, отгоняет их.
Бурла-хатун бросилась на тело своего сына.
Деде-Коркут осмотрел рану Турала.
– Ханум, не бойся этой раны, – молвил он. – От такой раны парень не умрет. Материнское молоко и горный цветок – вот снадобье для его раны.
Потом он сказал Гюнель:
– Дочка, поднимись на гору, нарви цветов, принеси и приложи к ране жениха.
Гюнель, прикрываясь от взоров горного пика чадрой, вскарабкалась по склону. Грудь горы была совершенно голой – ни травинки, ни цветочка. Сколько ни ходила Гюнель, ничего не нашла.
Бурла-хатун сдавила грудь, давно не знавшую молока. Молока не было. Снова сдавила. Молока не было. В третий раз сдавила. Закапало молоко, смешанное с кровью.
Мать брызнула три капли на губы Турала.
Обращаясь к утесу, на котором не росло ни травинки, ни цветочка, Гюнель взмолилась:
– Мой высокий утес, мой прекрасный утес! Матушка моя говорила, что ты для всех нас, огузских девушек, – свекор. Не пожалей для раненого джигита травы и цветов, гора Газылык!
В тот же миг утес покрылся цветами и травами, зеленое смешалось с желтым, желтое – с красным. Гюнель стала рвать траву, собирать цветы, подбежала к Туралу, выжала из цветов сок, капнула две-три капли на рану Турала.
Турал медленно открыл глаза, в тумане увидел свою мать, увидел возлюбленную, увидел Деде Коркута, увидел своего верного коня, цветущие долы, чистое небо, увидел мир, улыбнулся.
Деде Коркут, Бурла-хатун, Гюнель и Турал спустились с горы. На поле битвы все изменилось.
Гараджа Чабан перекатывал безликие камни в сторону. На очищенной от камней пустоши на паре быков люди вспахивали землю, покрикивая: «Холава́р!» Гараджа Чабан в тяжком поту очищал землю от каменных осколков. Ему помогал сын его, подросток.
Деде Коркут молвил:
– Чабан, друг мой, что ты такое делаешь?
Гараджа Чабан отвечал:
– Очищаю землю, Деде Коркут. Ты знаешь, что сказал мне мой сынок? Полно, говорит, отец, кочевать, воевать. И я подумал: а ведь он прав! Обоснуемся на этой земле раз и навсегда, будем пахать эту землю, сеять, жать, есть, пить. Как по-твоему, Деде?
Деде Коркут молвил:
– Чабан, ты прав! Земля наша вынесла много горя. Много погибло наших воинов-джигитов. Я было совсем помирать собрался – вижу, не все мы погибли! Мы еще живы и будем жить, останемся, умножимся. Сын у тебя, как львенок, он тебе опора, защита!
Чабан спросил:
– Деде, этот мальчик заслужил ли имя?
Деде Коркут отвечал:
– Да, он достоин имени. На этом поле большая рать полегла, малая рать уцелела. И видишь, оставшиеся борются! Среди них твой сын. Я даю ему имя Азёр – «малая рать». Пусть будет больше Азеров, пусть дадут они жизнь этой земле!
Деде Коркут взглянул на Азера и еще сказал. Послушаем, что он сказал.
– Сынок, Азер, знай: чтобы земля стала отчизной, стала отечеством, нужны два дела. Первое: в эту землю надо сеять, с этой земли собирать. И второе: надо ее защищать от врагов. Землю, которую ты не смог защитить, не стоит засевать, на ней не пожнешь урожая. А землю, которую ты не засевал, не стоит защищать.
Гараджа Чабан молвил:
– Сын мой, Азер, крепко запомни эти слова!
Деде Коркут продолжал:
– Чабан, ты затеял большое дело, хорошо за него взялся. Поднимись на гору, разведи на вершине три костра. Когда горит один костер, на пир народ собирается; когда два костра – защищаться от врага собирается. Пусть теперь, увидев три костра, все с сохой собираются. Пусть знают, что время идти работать!
Гараджа Чабан сел на коня, поскакал на вершину. Деде Коркут молвил работающим людям:
– Удачи вам! Да будет земля наша плодородна! Деревья наши тенистые да не иссохнут! Воды наши журчащие да не иссякнут! Чтобы не иссякала наша надежда! Чтобы не обламывались наши крылья! Пусть огонь наш горит вечно!
На вершине Высокой горы пылали три костра. Гараджа Чабан стоял у костров и радостно смотрел вокруг.
У подножия горы Деде Коркут, Бурла-хатун, Турал, Гюнель, Айсель, Азер и все, кто остался в живых, радостно смотрели на эти костры.
На вершине дальней горы тоже загорелись три костра.
И еще на одной горе.
На вершинах далеких-далеких гор пылало по три костра. Люди, горы огнями своими перекликались друг с другом.
Д.Д. Васильев, Т.А. Аникеева «Книга моего деда Коркута» как памятник огузского эпоса
«Книга моего деда Коркута» (полное название – «Книга моего деда Коркута на языке племени огузов», или «Китаб-и дедем Коркут») – единственный сохранившийся памятник книжного эпоса (т. е. эпос, некогда бытовавший в устной форме, но впоследствии записанный) у тюрков-огузов. По мнению многих исследователей, «Книга моего деда Коркута» является письменной обработкой устных сказаний («былин», по В.В. Бартольду), которые исполнялись озанами – сказителями огузских племен. Они создавались в разное время и на территории Средней Азии, и позже – в Закавказье (на территории Азербайджана) и Малой Азии. Сказания «Книги моего деда Коркута» отразили как космологические воззрения огузов, так и исторические события, происходившие в далекие времена. Именно поэтому они всегда представляли особый интерес и для ученых-тюркологов, и для всех интересующихся героическими событиями в истории тюркских народов. Эти сказания можно поставить в один ряд с важнейшими памятниками языка огузов – орхонскими памятниками рунического письма, известным словарем Махмуда Кашгарского «Диван-и лугат-ит-тюрк» (XI в.), а также «Легендой об Огуз-хане» («Огуз-наме») – записанным повествованием о происхождении огузов (периода существования огузского государства на Сырдарье в VIII–X вв.).
В конце VIII в. огузы (или токуз-гузы, узы, гузы) – объединение тюркских племен – обитали в низовьях Сырдарьи и на побережье Аральского моря, постепенно продвинувшись туда из Южной Сибири и двигаясь далее на запад вплоть до Каспийского моря. Как подчеркивают многие средневековые арабские историки, огузы не были однородны по своему составу и по языку. Уже в Средней Азии кочевые племена огузов смешивались с другими тюркскими племенами и ираноязычными народами. На западе они вели войны с хазарами и волжскими булгарами. В X в. могущество огузов возросло, их кочевья охватывали значительные территории в северном Туркменистане и юго-западном Казахстане, которые получили соответствующее название – «гузские степи» (перс. дешт-и гузан).
Именно в это время в результате раздора между различными племенами, входившими в объединение огузских племен, усилилась группа под предводительством Сельджука, принявшего ислам. Эти огузские племена начали свое продвижение на запад через Закавказье, Иран и Малую Азию в первой половине XI в. и внесли основной вклад в этногенез современных турок и азербайджанцев. Другая часть огузских племен осталась в Средней Азии в Приаралье и в дальнейшем послужила этническим субстратом туркмен и в какой-то мере узбеков. Примерно к этому же времени исследователи относят сложение и циклизацию некоторых сказаний, позднее вошедших в состав «Книги моего деда Коркута», о чем косвенно свидетельствует и «век Коркута», легендарное время, упомянутое в эпосе, соответствующее IX–X вв.
В 1077 г. на территории Малой Азии образуется государство Сельджукидов со столицей в Конье, которое прекратило свое существование в XIII в. в результате нашествия монголов. Конийский султанат становится вассалом Хулагуидов (1243 г.), а потом распадается на мелкие независимые бейлики[1]. В начале XIV в. один из этих бейликов под властью Османа становится основой будущего Османского государства, начав завоевательные походы против окружающих его немусульманских земель и соседних анатолийских бейликов. Приблизительно в это время происходит письменная фиксация сказаний-огузнаме о подвигах бегов-богатырей, доселе бытовавших преимущественно в устной форме. Таким образом, в «Книге моего деда Коркута» нашли отражение и события ранней тюркской полулегендарной истории, и более поздние, связанные с распространением их могущества на территории Малой Азии и контактами с Византией.
Титульная страница Дрезденской рукописи «Книги моего деда Коркута»
На сегодняшний день известно о двух рукописях «Китаб-и дедем Коркут» – это так называемые Дрезденский и Ватиканский списки. Дрезденский список был обнаружен в Дрезденской королевской библиотеке в 1815 г. немецким востоковедом Г. Дицем, который и опубликовал одно из двенадцати сказаний «Книги Коркута». В 1859 г. Теодор Нёльдеке снял копию с рукописи и подготовил перевод на немецкий язык, но работа его не была закончена; свои материалы он передал В.В. Бартольду, который в течение 1894-1904 гг. опубликовал четыре сказания, и в 1922 г. им был закончен русский перевод всей рукописи. Однако перевод этот с комментариями Г. Араслы и М.Г. Тахмасиба увидел свет лишь в 1950 г. в издании Академии наук Азербайджанской ССР, которое, как отмечает В.А. Жирмунский, «не получило широкого распространения».
Так называемый Ватиканский список «Книги моего деда Коркута» был обнаружен в библиотеке Ватикана, переведен и опубликован в 1950 г. итальянским ученым Этторе Росси. Данный список состоит из шести сказаний (сказание о Богач-хане, сказание о Бамси-Бейреке, сказание о разграблении дома Салор-Казана, сказание о пленении Уруз-хана сына Казана, сказание о Йегенеке, сыне Казылык-Коджи, сказание о смерти Бейрека) и озаглавлен «Рассказ Огуз-наме о Казан-беке и других». Ватиканская рукопись, хотя и не обнаруживает больших расхождений с Дрезденской, по сравнению с ней содержит меньше ошибок, внесенных переписчиками. Кроме того, в Ватиканской рукописи были проставлены огласовки, что позволило исследователям уточнить многие неясные места в тексте памятника.
Обе рукописи не датированы, однако приблизительные даты можно установить по именам их владельцев и сопутствующим датам. На обложке Дрезденского списка имеется дата – 1585 г. (993 г.х.); и, согласно палеографическим данным, действительно именно XVI в. является временем составления этого списка «Книги моего деда Коркута». На Ватиканской рукописи также проставлена дата и имя ее владельца; после этого – в 1615–1616 гг. – третьим владельцем рукописи был некий Мустафа-эфенди, о чем также свидетельствует отметка на ней.
Что касается публикаций обеих рукописей и изданий вместе или по отдельности сказаний «Книги моего деда Коркута», то помимо уже упомянутых изданий В.В. Бартольда и Г. Дица, Т. Нёльдеке и Э. Росси, необходимо отметить издание Килисли Рифата 1916 г., Хюсейна Намыка Оркуна, Мухаррема Эргина и Орхана Шаика Гёкъяя. По мнению В.М. Жирмунского, работа турецкого ученого Мухаррема Эргина по изданию «Книги моего деда Коркута», осуществленная им в 1958 г., носит «завершающий характер», так как в его книге приведены фототипическим образом обе рукописи, дана транскрипция всего текста памятника в турецком новом алфавите, приведены материалы издания О.Ш. Гёкъяя, осуществленного по Дрезденской рукописи. Однако, несмотря на то, что работа над публикацией памятника осуществлялась Орханом Шаиком Гёкъяем только по одной из рукописей, данное издание является одним из основных в области изучения «Китаб-и дедем Коркут».
Страницы Дрезденской рукописи «Книги моего деда Коркута»
Б.Урманче. Иллюстрация к сказке. Музыкант на ковре по волнам. 1940-е
Б., акв… 31×37
Стоит отметить также и многочисленные (как правило, турецкие) издания «Книги моего деда Коркута», ориентированные прежде всего на массового читателя или на детское чтение. Как правило, это в значительной степени адаптированные тексты отдельных сказаний, составляющих «Китаб-и дедем Коркут». Все подобные издания отличает максимально упрощенный и переработанный язык и стиль изложения при сохранении общей сюжетной канвы эпоса. Они, в отличие от ряда других фольклорных тюркских текстов, широко издаются в Турции и по сей день, что, несомненно, свидетельствует о популярности и актуальности огузского эпоса, который не без оснований в современных Турции и Азербайджане считается «национальным». Реликты эпоса о Коркуте есть и в народной памяти каракалпаков, туркмен, узбеков и казахов, сохранившей множество легенд об «отце Коркуте» (Коркут-ата). Казахи почитали мазар Коркут (Хорхут) – ата в низовьях Сырдарьи (Казалинск) как мусульманского святого (аулие) и приписывали этому мазару свойство исцелять от всех болезней; в фольклоре каракалпаков Коркут-ата считается создателем кобыза[2] и покровителем озанов-сказителей.
Говоря об издании «Книги моего деда Коркута» в России, прежде всего необходимо упомянуть единственную научную публикацию перевода, сделанного В.В. Бартольдом (см. выше), подготовленную В.М. Жирмунским и А.Н. Кононовым и вышедшую в академической серии «Литературные памятники» (М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1962). Помимо перевода текстов сказаний и примечаний в это издание вошли статьи В.В. Бартольда «Турецкий эпос и Кавказ», Ю.А. Якубовского «„Китаб-и Коркуд“ и его значение для изучения туркменского общества в эпоху раннего средневековья» и В.М. Жирмунского «Огузский героический эпос и „Книга Коркута“». В 2007 г. издательством «Наука» (СПб., 2007) в этой же серии было осуществлено репринтное переиздание.
«Китаб-и дедем Коркут» для исследователей представляет собой в первую очередь источник по истории тюркских огузских племен, а также их географической локализации и расселению в Малой Азии. Начало серьезному изучению этого памятника положила прежде всего публикация Ватиканского и Дрезденского его списков, осуществленная, как уже было сказано, Этторе Росси в 1950 г. Существует также довольно обширная турецкая традиция исследования этого памятника, развивавшаяся параллельно с европейской. Турецкими исследователями (среди которых Пертев Наили Боратав, Абдулькадир Инан, Фуад Кёпрюлю), чьи работы внесли значительный вклад в изучение «Китаб-и дедем Коркут», он рассматривался прежде всего как памятник своего национального прошлого. Большая часть этих трудов посвящена языку и художественным приемам, историческому фону эпоса и анализу его именно как исторического источника. Сейчас можно сказать, что эти исследования составляют целый раздел тюркологии.
«Книга моего деда Коркута» состоит из двенадцати песен-сказаний, повествующих о подвигах огузских богатырей. Основным сюжетообразующим стержнем, лейтмотивом, объединяющим эти сказания, является борьба тюрков-огузов против немусульман-византийцев (гяуров, кяфиров) на землях Малой Азии, а также многочисленные внутренние междоусобицы в среде самих огузов.
Сказания, составляющие «Книгу моего деда Коркута», довольно четко группируются вокруг определенных героев этого эпоса – Салор-Казана (или Казан-бека, здесь – Газана), так называемых «младших богатырей» (Амрана, Иекенка). Первое сказание «Китаб-и дедем Коркут» повествует о том, как сын Дерсе-хана Богач-Джан был взят в плен; во втором сказании речь идет о разграблении гяурами имущества и семьи Салор-Казана. Двенадцатое сказание («Песнь о том, как внешние огузы восстали против внутренних и как умер Бейрек») посвящено распрям в среде самих огузов.
Б. Урманче. Молодой Коркут. 1942
Б., акв. 24,5×28,5
В центре третьего сказания («Рассказ о Бамси-Бейреке, сыне Кан-Буры») – богатырь Бамси Бейрек, попавший сначала в плен и затем – неузнанным – на свадьбу к своей суженой. Сказание о Бамси-Бейреке относится к наиболее древним в «Книге моего деда Коркута» и в сюжетном отношении тесно связано с эпической традицией многих тюркских народов Поволжья, Закавказья, Средней и Центральной Азии, где его главный герой известен под именем Алпамыш. О популярности эпоса об Алпамыше свидетельствует то, что он известен во множестве версий – узбекской, каракалпакской и казахской редакциях эпоса («кунгратская» версия), так называемой «кыпчакской» версии (она объединяет современные башкирские народные сказки, казанско-татарскую сказку «Алпамша», а также казахские, где герой носит другое имя)[3]. В основе эпического сказания об Алпамыше лежит богатырская сказка, элементы сюжета которой широко распространены в сказочном эпосе тюркских и монгольских народов Южной Сибири и Центральной Азии: ее герой, имеющий сверхъестественное происхождение, отправляется за своей невестой в далекие страны. В «Бамси-Бейреке» присутствует множество архаических, древних элементов этой богатырской сказки.
Б.Урманче. Коркут № 2.1975
Б., тушь, гуашь. 49×39,5 см
Пленение и освобождение из плена другого огузского богатыря – Уруз-бека – образует сюжет и четвертого сказания.
Сюжет пятого сказания «Рассказ об удалом Домруле, сыне Дука-коджи» близок греческим легендам: Домрул пытается убить ангела смерти Азраила, но впоследствии раскаивается в своем обмане. Это сказание по своему сюжету стоит несколько особняком от остальных в традиции тюркского эпоса. По мнению исследователей, в этом рассказе объединены два сюжета, распространенные прежде всего в новогреческом фольклоре: борьба богатыря со смертью, ангелом смерти (связанный с византийским эпосом о Дигенисе Акрите, борющемся с Хароном[4]) и жена, отдающая свою жизнь как выкуп у смерти за мужа (после того как это отказываются сделать мать и отец богатыря). По всей видимости, источником пятого сказания «Книги моего деда Коркута», действительно, являются новогреческие сказания и песни о Дигенисе Акрите.
Сказание шестое повествует о Кан-Турали и его сватовстве; оно, как и предыдущее сказание о Домруле, относится к наиболее поздним сказаниям «Книги моего деда Коркута», сложившимся уже на территории Закавказья. Отец Кан-Турали, «разумный муж» Казылык-Коджа, со своими джигитами отправляется на поиски подходящей невесты для сына: «вошел в землю (внутренних) огузов, не мог найти девицу; обратился в другую сторону, вошел в землю (внешних) огузов, не мог найти девицу; обратился в другую сторону, пришел в Трапезунд». Кан-Турали решает сватать дочь трапезундского тагавора[5] Сельджан-хатун, и для того чтобы получить ее, он должен побороться с охраняющими ее свирепым львом, черным быком и черным верблюдом; после этого он вступает в битву и с самим тагавором. Победив при помощи Сельджан-хатун в битве войско тагавора, Кан-Турали вместе с ней возвращается в стан огузов к своему отцу. По словам В.В. Бартольда, «Песнь о Кан-Турали, сыне Казылык-Коджи» тесно связана с Трапезундом и Византией[6] не только поворотами сюжета, но и с точки зрения литературной преемственности: по всей видимости, сюжет сватовства Кан-Турали тесно связан со средневековыми европейскими рыцарскими романами, в которых прославлялась красота трапезундских невест[7]. С другой стороны, мотивы поиска невесты, борьбы со зверями, сна богатыря, сражения невесты вместе с ее женихом против отца, вышедшего в погоню, свойственны и всему тюркскому героическому эпосу, а роль отца как свата также восходит к древним тюркским обычаям (см. комментарии).
Сказания с VII по X повествуют о подвигах «младших богатырей» – Уруза (Уруз-бека), Иекенка, Секрека, Амрана и Богач-хана – то есть второго поколения героев огузского эпоса. К этому же поколению относятся и упоминаемые в тексте памятника (но не имеющие посвященных им отдельных сказаний) Кара-Будаг, сын Кара-Гюне, удалой Дундаз и другие. В «Песне об Иекенке, сыне Казылык-Коджи» (VII) молодой Иекенк (тур. Yigenek) не знает о том, что его отец, Казылык-Коджа, находится в плену. Узнав об этом случайно[8], он предпринимает поход для поисков отца. Его отряд, состоящий из беков, терпит поражения в борьбе с тагавором, однако Иекенк все же побеждает его и освобождает своего отца. В девятом сказании «Книги моего деда Коркута» – «Песни об Амране, сыне Бекиля» – речь также идет о подвигах молодого богатыря, отец которого, Бекиль, был обижен самим Баюндур-ханом. Амран (Emren в ватиканском списке)[9] совершает подвиг – выехав на отцовском коне, побеждает военачальника гяуров и тем самым «реабилитирует» свою и отцовскую честь.
Сюжет VIII сказания («Песнь о том, как Бисат убил Депегёза») наиболее подробно отражен в данной книге – оно повествует о битве огузского богатыря с Тепегёзом, одноглазым великаном. Этот сюжет выделяется из всей «Книги моего деда Коркута» своим содержанием. Надо отметить, что существование самого сказания о Тепегёзе (Депегёзе) среди тюрков-огузов подтверждается начиная приблизительно с XIV в.: историк тюркского происхождения Абу-Бекр, писавший на арабском языке и живший в Египте, упоминает его в своем сочинении «Дуреру-т-тиджан» (1310 г.) и сообщает, что у огузов существует много сказок о Тепегёзе. Собственно говоря, сам сюжет – богатырь уничтожает одноглазого великана-людоеда – является одним из самых широко распространенных сказочных сюжетов, существующих у многих народов мира (например, в «1001 ночи» – в сказке о Синдбаде-мореходе и о Сейф аль-Мулуке, в нартовском эпосе на Северном Кавказе – у осетин, кабардинцев, абхазов, у народов Средней Азии – казахов, киргизов, туркмен). Однако, по всей вероятности, одним из самых древних и самых известных его отражений является рассказ о том, как Одиссей ослепил Полифема в «Одиссее» Гомера (VIII в. до н. э.).
Б. Урманче. Коркут. 1975
Б., тушь, гуашь. 50 × 38,5 см
Б. Урманче. Коркут. Эскиз картины. 1942
Б., акв., гр. кар. 26 × 32 см
Десятое сказание («Песнь о Секреке, сыне Ушу», X) повествует о Секреке, сыне Ушун-Коджи, отправившемся спасать своего брата Экрека из плена тагавора. Экрек же был вынужден отправиться на подвиги после замечания одного из огузских джигитов, Терс-Узамыша, о том, что «рубить головы, проливать кровь – доблесть», так как каждый из сидящих в диване Баюндур-хана беков, кроме самого Экрека, добыл это место не по праву рождения, но «ударами меча, раздачей хлеба». Секрек женится по воле отца, стремящегося отговорить его от похода на гяуров; он кладет меч между собой и своей невестой, обещая вернуться к ней только после того, как освободит старшего брата.
В XI песне («Песнь о том, как Салор-Казан был взят в плен и как его сын Уруз освободил его») также речь идет о подвигах Уруза, освобождающего из плена своего отца, знаменитого Салор-Казана. Салор-Казан оказывается в плену у гяуров на долгие годы, тем временем его подросший сын считает своим отцом Баюндур-хана. Случайно он узнает о том, что Баюндур-хан является его дедом, а его отец – Казан – жив и находится в плену в крепости Туманан. Во время битвы между огузскими беками под предводительством Уруза и гяурами Казан поначалу остается неузнанным своим сыном, полагающим, что он борется в поединке с гяурским воином; Уруз ранит Казана. После того как они узнают друг друга («Тут Казан громким голосом говорит своему сыну – посмотрим, хан мой, что он говорит: „Сын мой, вершина моей черной горы! сын, свет моих темных очей! витязь мой, Уруз!.. не губи своего белобородого отца!“»), вражеское войско терпит поражение, беки с Казаном и Урузом возвращаются «к народу остальных огузов».
Можно заметить, что сказания о «младших богатырях» объединены рядом общих эпических мотивов, которые являются как довольно древними и свойственными тюркскому эпосу (как, например, освобождение отца из плена), так и поздними, проявившимися в тех сказаниях, что, по всей вероятности, были созданы уже на территории Малой Азии, под влиянием местных традиций (прежде всего греческой, армянской и грузинской).
«Книга моего деда Коркута» хронологически неоднородна: принято разделять более ранние и относительно поздние сказания. К наиболее поздним по времени сложения текстам, по-видимому, относится, наряду с упомянутым уже «Рассказом об удалом Домруле, сыне Дука-коджи» (V), и «Рассказ о Кан-Турали, сыне Канлы-коджи» (VI). Оба сказания, сложившись уже на территории Малой Азии после переселения огузов в Закавказье, по словам В.М. Жирмунского, «по содержанию… связаны с малоазиатскими сказаниями с центром распространения в греческом Трапезунте» [Жирмунский, 1974. с. 575]. Кроме того, в этих сказаниях отсутствуют упоминания и о Баюндур-хане, и о Салор-Казане, что, по мнению В.В. Бартольда и В.М. Жирмунского, также свидетельствует о чисто формальном включении их в «Китаб-и дедем Коркут» (ibid.). В то же время наиболее ранним и сохранившим в себе следы архаической сказки можно считать «Рассказ о Бамси-Бейреке, сыне Кан-Буры» (III) [Жирмунский, 1974, с. 584]. По-видимому, сказание о Бамси-Бейреке вошло в огузский эпический цикл приблизительно в IX–X вв. Столь же древним можно считать и сказание о Салор-Казане, в основу которого легли воспоминания об исторических событиях, имевших место в действительности: борьба между огузскими племенами и печенегами, происходившая в IX в., «веке Коркута».
Сложение рассказов-песен о «младших богатырях» (Урузе, Иекенке, Амране) относится к более позднему времени, чем тексты о подвигах их отцов. Кроме того, огузские беки объединены вокруг фигуры эпического певца Коркута, которому отводится роль мудреца и «патриарха племени»: он нарекает одного из героев именем (Деде Коркут дает джигиту новое имя и приговаривает: «Сын мой, ты славно сражался, показал себя, одержал победу. Пусть вся жизнь твоя будет победной. И имя пусть будет тебе Газан-победитель. Имя я дал, годы пусть судьба даст!»), сватает невест, дает мудрые наставления и произносит благопожелания.
Таким образом, в сказаниях «Книги моего деда Коркута» достоверно прослеживается связь как с общетюркской литературной традицией, так и с греческим, византийским, местным малоазиатским фольклором. Надо сказать, что вплоть до самого недавнего времени некоторые сказания, относящиеся к этому эпическому циклу, продолжали бытовать на территории современных Турции и Закавказья. К таковым сказаниям относится, к примеру, уже упомянутое многократно сказание о Бейреке (этот сюжет является одним из самых распространенных среди тюрков и известен во многих версиях) или рассказ о великане Тепегёзе. Черты, отличающие эти произведения, свойственны совершенно иному, более позднему жанру турецкой и тюркской традиционной словесности – жанру народной повести, в рамках которого, на наш взгляд, и происходит дальнейшее бытование текстов цикла «Книги моего деда Коркута». Иными словами, цикл сказаний «Китаб-и дедем Коркут» тесно связан с другими жанрами турецкой литературы, получившими гораздо более позднее развитие и просуществовавшими вплоть до недавнего времени.
Несмотря на то что сказания о подвигах огузских богатырей были записаны, в «Книге моего деда Коркута» повсеместно встречаются выражения, которые, будучи по сути обращениями сказителя-озана к своей аудитории, прямо указывают на некогда сугубо устный характер бытования эпоса: Görelüm Hanum ne soyladı («Посмотрим, хан мой, что он сказал» или: «Послушаем, что он рассказывал»). С большой долей вероятности можно утверждать, что в тексте этого памятника сохранены фрагменты, восходящие к древней устной тюркской традиции. К подобным фрагментам прежде всего можно отнести пословицы и поговорки, часто встречающиеся в эпосе: «У кого есть ребра, тот поднимается, у кого есть хрящи, тот вырастает» (X, Песнь о Секреке, сыне Ушун-Коджи); «Один в поле джигит витязем не станет; дно пустого сосуда крепким не станет» (IX, Песнь об Амране, сыне Бекиля); «Нога коня хрома, язык певца проворен», «что под землей делается – змея знает, что на земле – человек»; «… если черного осла взнуздать, он конем не станет. Достойный сын чужим для своей земли не станет. Не буду я бесчестить свой род, свой корень. Не отрекусь я от своего племени».
Или:
«Сколько б ни сыпал снег, к весне растает; Цветами-травами покрытый луг к осени пожелтеет; Из вешних вод моря не получится; Из пепла холма не насыпать; Из старого хлопка холста не соткать; Из старого врага друга не сделать; Если девушка у матери не научится, чести не сбережет; Если сын у отца не научится, стола не накроет; Сын – создание отца, один из двух его глаз. И еще пел Деде Коркут. Послушаем, что он пел: – Ах, госпожа моя! Чем булатный меч в нечистой руке, лучше безоружность; Чем высокий дом без добрых гостей, лучше бездомовье; Чем горькие травы, которых конь не берет, лучше пустыня; Чем горькие воды, которых человек не пьет, лучше безводье…»Б. Урманче. Иллюстрация. Коркут. 1947
Б., акв. 21×25 см
Со сказкой как с жанром сугубо фольклорным, существующим только в устной форме, «Книгу моего деда Коркута» связывает не только сходство сюжетов и мотивов некоторых ее сказаний (например, уже упомянутые сказания о Бейреке или о Кан-Турали), но и композиционное сходство диалогов героев, например перечисление препятствий и опасностей на пути героя к цели (что нередко встречается в тюркских и монгольских сказках). Вообще, так называемое ступенчатое развитие действия, то есть сходная композиция последовательных этапов повествования, является основным принципом построения любого фольклорного – и сказочного, и эпического – сюжета: так, три подвига должен совершить богатырь, чтобы получить дочь Кара-Арслана, Сельджан (побеждает трех чудовищ): «…У кагана Кара Арслана есть красавица дочь, называют ее Сельджан-хатун-Желтое платье. Джигиты со всего света влюблены в нее, сваты толкутся у ворот. А у кагана есть лев, есть черный бык и черный верблюд есть, да какие! Каждый – настоящее чудище. И каган поставил условие: кто сватается к девушке, должен этих чудищ побороть. Если джигит их одолеет – возьмет в жены Сельджан, если его одолеют – голову с плеч».
По такому же «ступенчатому» принципу могут быть построены и отдельные эпизоды, для чего используются стилистические повторы и параллелизмы:
«Притворяясь безумным, одетый в рубище, Бейрек подошел, встал в стороне, стал наблюдать за стрелками.
Как выпустит стрелу Карабудаг, Бейрек приговаривает:
– Да не ослабеет десница твоя!
Как выстрелит сын Газана Турал, Бейрек приговаривает:
– Да не ослабеет десница твоя!
Аман, Дондар стреляли – Бейрек приговаривал:
– Не ослабеют десницы ваши!
Дошла очередь до Ялынджыка. Выстрелил Ялынджык – Бейрек сказал:
– Да отсохнет десница твоя, да сгниют персты твои…»
«Китаб-и дедем Коркут» является не только историческим, но и ценнейшим этнографическим источником. Источником информации подобного рода в данном случае можно считать как содержание текста сказаний (описаний обрядов наречения именем, обряд избрания хана, заключение брака, сватовство), так и отдельные фрагменты, содержащие термины родства, благословения, проклятья, клятвы и так далее. В этом эпосе сочетаются и древние, архаические, восходящие к древним тюркам мотивы, и новые, связанные с исламом, который огузы приняли приблизительно в XI в. Можно сказать, что «Китаб-и дедем Коркут» отражает сложную и многокомпонентную картину мира огузов, которая складывалась и развивалась у западных тюркских племен в процессе их исламизации и постепенного продвижения из Центральной Азии на запад вплоть до Малой Азии.
По мнению многих исследователей, в традиционном мировоззрении даже и современных турок мусульманские черты часто носят поверхностный характер, и в целом мировоззрение турок характеризуется сложностью и мозаичностью, в которой непросто разобраться.
В «Книге моего деда Коркута» присутствует не только множество различных стилистических клише, повторов, пословиц и поговорок, но и, кроме того, ритмизованных отрывков, к которым относятся прежде всего обращения эпических героев к различным объектам природы – воде, дереву:
«…Турал вновь заиграл на кобзе: – Дерево, дерево, большое дерево! От тебя мосты через бурные реки, дерево! От тебя корабли на синих морях, дерево! Погляжу вверх – не видно твоей верхушки, дерево! Погляжу вниз – не видно твоего корня, дерево! Повесят меня – ты ли выдержишь тело мое, дерево! Если выдержишь, поплатись за юность мою, дерево!..»Река, крепкое дерево, черные горы, шатер – все эти объекты имеют определенный круг значений в обрядах и мифологических преданиях почти всех тюркских народов. Культ гор у тюрков был неотъемлемой частью культа Земли-Воды (Йер-Су). А почитание священных вершин зафиксировано еще у древних тюрков – оно было частью общего культа Земли-Воды. Вообще, чрезвычайно распространенное у многих тюркских народов почитание гор носит ярко выраженный родовой характер[10]. Дерево, как и гора, на вершине которой оно росло, также было одним из важнейших родовых культов у тюрков Южной Сибири. Иногда даже говорят об «одержимости» тюрков идеей дерева: «В представлениях тюрков Южной Сибири гора и дерево заменяют и дополняют друг друга» [Традиционное мировоззрение…, 1990, с. 32]. Примеров тому много, наиболее характерные обнаруживаются в обрядовом фольклоре тюрков Южной Сибири. Основной функцией этих знаков (горы и дерева) в самом широком культурном контексте тюркской традиции является маркировка социального устройства, родовой принадлежности[11]. Эта функция очень устойчива и существует не только у тюркоязычных народов Южной Сибири, но и в Средней Азии, где сохраняется «под видом» почитания мусульманских святынь. В «Китаб-и дедем Коркут», как мы видим на примере прорицаний, гора (daǧ), дерево (aǧaç) и река (su) также в первую очередь очерчивают родовое (следовательно, и личное) пространство. В тексте «Китаб-и дедем Коркут» есть прямое указание на это: «брат, вершина моей черной горы!» (X, Песнь о Секреке, сыне Ушун-Коджи; Книга Коркута), «Сын, вершина моей черной горы! Сын, разлив моей обагренной кровью реки!» – Kara daǧun yüksegi oǧul Kanlu suyun taşkunu oǧul (IV, Песнь о том, как сын Казан-бека Уруз-бек был взят в плен).
Сестра Бейрека причитает по брату: «Не играй, озан, не пой, озан. К чему это мне, несчастной девице, озан? Видишь эту гору? Там росли яблони моего брата Бейрека. Видишь эти воды? Из них пил мой брат Бейрек. Видишь табун? На тех конях ездил мой брат Бейрек. Скажи, озан, когда переходил ты лежащую напротив гору, не встретил ли джигита, чье имя – Бейрек? Лишилась я единственного брата, озан, а ты не знаешь! Верное мое сердце ранено, высокие мои утесы обрушились, тенистое мое дерево срублено, озан, а ты не знаешь! Не играй, озан, не пой, озан!..»
Согласно представлениям древних тюрков, весь мир и населяющие его люди были неотделимы от тюркского государства (эля) и составляли его, а каган мыслился как повелитель мира. Нарушение же миропорядка, согласно представлениям орхонских тюрков, влечет за собой потрясения и нарушения жизни государства, общества; мятеж бегов[12] приравнивается к космической катастрофе [Кляшторный, 1981]. У тюрков конец света понимался как крах социального устройства, основой которого был род, кодирующийся в культуре через определенные объекты окружающего мира, в свою очередь выполняющие ту же функцию в «Китаб-и дедем Коркут». Это иллюстрируют и примеры из остального текста «Китаб-и дедем Коркут»: «Твоя черная гора шаталась, шаталась и обрушилась; (вновь) поднялась она наконец! Твои обагренные кровью воды иссякли; (вновь) зажурчали они наконец! Твое крепкое дерево засохло; (вновь) зазеленело оно наконец!..» (III, Песнь о Бамси-Бейреке, сыне Кан-Буры); «Банучичек крикнула: „О мои свекор и свекровь! Ваша гора обрушилась – поднялась она наконец! Ваши воды пересохли – зажурчали они наконец! Ваш сын Бейрек пропал – вернулся он наконец! Свекор, свекровь, что вы дадите мне за радостную весть?“» Таким образом, упомянутые в прорицаниях Коркута объекты отсылают к традиционной тюркской социальной картине мироустройства (родовой), и в то же время в самом благопожелании реконструируется эсхатологическая модель древней тюркской мифологической системы.
Другим важным архаическим мотивом, унаследованным этим эпосом из древности, является мотив богатырского сна, который принято относить к числу основных мотивов тюркского эпоса вообще. Сны героев в «Китаб-и дедем Коркут» содержат в себе многие элементы традиционной тюркской картины мира и воспроизводят традиционные тюркские мифологемы, которые, по всей видимости, и являются одной из самых ранних и устойчивых составляющих текста памятника. В них влияние ислама отражено в минимальной степени, оно практически не прослеживается. Толкование сна может быть уподоблено своеобразному «словарю» традиции. Надо сказать, что у многих тюркских народов существовала и сохранилась до настоящего времени в рамках более общей мантической традиции развитая древняя традиция толкования снов, нашедшая свое отражение в различных формах их фольклора. Отношение к сну как к способу получения знаний о будущем, по всей видимости, является универсальным для тюркских народов. Так, в Южной Сибири состояние сна рассматривается как получение вещих знаний и сопоставимо с шаманским трансом; это, в свою очередь, связано с одной из основных характеристик традиционной тюркской культуры: «Для носителей мифологического сознания мир, понимаемый как „ты“, являлся полноправным участником диалога» [Традиционное мировоззрение…, 1990, с. 104]. Верование, что в состоянии сна возможно предвидеть будущее, несомненно, отражено и в существовавшем у древних тюрков обычае символического удушения кагана перед его интронизацией, о котором сообщается во многих источниках, – едва ли не до смерти удушая шелковым платком претендента на престол, его спрашивали, сколько лет ему суждено царствовать.
Другой важной составляющей традиционной картины мира, отраженной в эпических сказаниях, является система пространственной ориентации, которая частично сохраняется и в «Китаб-и дедем Коркут». Известно, что у древних тюрков существовало (а у некоторых тюркских народов сохраняется в ряде случаев и по сей день), несколько линейных способов ориентации в пространстве (помимо цветовой геосимволики), характеризующихся позицией относительно солнца: лицом к восходящему солнцу (на восток), лицом к полуденной стороне (то есть к тому месту, где солнце в зените, кÿн орту, – на юг), лицом к полуночной стороне, туда, где ночь в зените, – тÿн орту. Например, в орхонских надписях (VIII–X вв.) направление «вперед» означало направление на восток, а «назад» – соответственно «на запад». Также у тюрков существовал способ определения позиции на местности по вертикальной линии «верх-низ», который, как пишет А.Н. Кононов, соединил в себе две идеи[13]: восток и запад определяются по вертикали (вверх-вниз), юг и север – по горизонтали (вперед-назад), путем обращения к полуденной стороне небосклона. Этот способ ориентации сохранился в современном туркменском языке, у сарыг-югуров (желтых уйгуров), саларов и хакасов, то есть, как мы видим, у народов, принадлежащих к совершенно разным тюркским языковым группам. Можно сказать, что «Китаб-и дедем Коркут», сохранила некоторые указания на последний способ вертикальной ориентации, что подтверждается приведенными ранее текстами и связью рассмотренных словосочетаний с пространственным местоположением («оглядываясь назад, ты поднялся…», «Место, где я остаюсь, откуда поднимаюсь, – Гюн-Ортач»). В то же время в памятнике практически отсутствует ориентация по сторонам света, связанная с исламом – то есть в сторону Мекки//Кыблы[14], как отсутствуют и географические образы, связанные с мусульманской мифологией, – такие как, например, гора Каф[15]. В другом огузском эпическом памятнике, в туркменском «Гёр-оглы», получившем, конечно, более позднее оформление, этот образ, равно как и ориентация на Кыблу, занимает значительное место:
«– Видишь вон ту крепость, сын мой?
– Вижу.
– Коли видишь [знай: ] это гора Кап. Достиг ты [своей цели], сын мой, не щадил ни себя, ни коня… Войдешь в ворота, обращенные к кыбле, [и увидишь], что порог [пери] охраняет дракон» [Гёроглы…, 1983, 168-169, с. 438].
«В стороне кыблы (кыбласында) есть у него озеро Айдын-коль, куда он выезжает на охоту» [там же, 362, с. 492].
Наряду с традиционно тюркскими элементами картины мира, о которых шла речь выше, «Книга моего деда Коркута» содержит и множество сугубо мусульманских составляющих. К ним прежде всего нужно отнести образы, характерные для мусульманской моралистической литературы, и специфическую лексику эпоса, заимствованную из арабского и персидского языков.
Арабские лексические заимствования свойственны «Китаб-и дедем Коркут»; все они входят в устойчивые словосочетания, некоторые из них почерпнуты непосредственно из Корана. Так, противопоставление земной жизни, т. е. тленного, бренного, преходящего мира, и той жизни, находящее выражение в словосочетаниях fani dünya[16] (т. е. тленный мир, человеческая жизнь) или hayat-at-dünya (т. е. земная жизнь) и Ahır (т. е. «Жизнь последняя», Вечность), очень распространено в Коране. В прорицаниях Коркута, как уже отмечалось, они встречаются неоднократно, как и dünya в значении «земной мир». В некоторых прорицаниях Коркута присутствуют не только лексические заимствования из арабского языка (которые не всегда могут быть связаны с Кораном и коранической лексикой), но и явно мусульманские по своему происхождению образы или метафоры, очевидно вошедшие в памятник под влиянием мусульманской мифологии, – Нимрод, Хасан и Хусейн, Айша и Фатима. Другой чертой, свойственной мусульманской дидактике, является то, что жизнь и поступки человека трактуются как преходящее, тленное, тогда как неизменной представляется вера во Всемогущего Бога.
В целом же все мусульманские элементы в картине мира огузов, отраженной в «Китаб-и дедем Коркут», не были привнесены непосредственно исламом на территории Малой Азии, где окончательно оформились и были записаны сказания, составляющие памятник, а складывались на протяжении всего длительного периода миграции огузских племен на запад.
Безусловно, «Китаб-и дедем Коркут» как памятник тюркского фольклора и литературы требует дальнейших исследований самого различного характера – исторических, антропологических и лингвистических, учитывая многосоставность картины мира тюрков-огузов, отраженной в нем.
В данном издании представлена повесть, созданная Анаром по мотивам эпических сказаний «Китаб-и дедем Коркут». Двенадцать сказаний «Книги моего деда Коркута», как было сказано выше, зачастую не связаны между собой логикой последовательного повествования, так как они создавались в разное время и несут в себе различные культурные пласты. В повести Анара заново изложенные огузские легенды обрели композиционную целостность.
Особенность издания заключается в том, что Анаром были сохранены, хотя и творчески переосмыслены, и главные сюжетные ходы сказаний «Книги моего деда Коркута», и практически все основные моменты, характеризующие жизнь тюркского огузского общества соответствующего исторического периода. Например, претерпел изменения сюжет о битве с одноглазым великаном Депегёзом (Тепегёзом): Бейреку рассказывают о том, что Тепегёз грабит купеческие караваны, забирает в плен и поедает честных купцов-путников, и тогда богатырь решает сразиться с ним («…я должен пойти: чтобы позор не пал на мою голову, чтобы грязь не забрызгала мне лицо»). Кроме того, значительный акцент сделан на фигуре самого Коркута как сказителя, мудреца: он предстает уже не как второстепенный герой, но как одно из главных действующих лиц эпоса. По замечанию известного тюрколога Х.Г. Короглы [см.: Анар, 1980, с. 7], новаторство писателя заключается еще и в том, что он ввел в текст своей повести весьма известную среди тюрков, но отсутствующую в самом «Китаб-и дедем Коркут», легенду о бегстве Коркута от смерти[17] («сам Деде позабыл и могилу, и смерть, и вечную разлуку…»). Герои книги Анара – «хан ханов» Баяндур-хан, богатыри Бейрек, Газан, Турал и другие – предстают как храбрые воины своего племени, борющиеся против врагов и, что самое важное, выступающие против междоусобиц внутри племени. Начинается же повествование с рассказа о прошлом тюрков-огузов, их междоусобных битвах, «кровавой беде», а заканчивается традиционным благопожеланием Коркута, возвещающего о новой, мирной и оседлой жизни племени.
Живое и увлекательное изложение сказаний «Книги моего деда Коркута» свидетельствует о том, что тюркский эпос и по сей день представляет собой большой интерес не только для специалистов-филологов и историков, но и для самого широкого круга читателей.
Список литературы
Аверинцев С.С. Византийская литература IX–XII вв. // История всемирной литературы: В 8 т. / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького; Т. 2. М.: Наука, 1984.
Анар. Деде Коркут. М.: Детская литература, 1980.
Бутанаев ВЛ. Традиционный шаманизм Хонгорая. Абакан: Изд-во Хакасского гос. ун-та, 2006.
Гёр-оглы. Туркменский героический эпос / Сост. и пер. Б.А Каррыева при участии Е.А. Поцелуевского. М.: Наука; ГРВЛ, 1983. (Сер. Эпос народов СССР)
Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. Л.: Наука, 1974.
Кляшторный С.Г. Мифологические сюжеты в древнетюркских памятниках // Тюркологический сборник. 1977. М.: ГРВЛ изд-ва «Наука», 1981.
Книга моего деда Коркута. Огузский героический эпос / Пер. акад. В.В. Бартольда. Изд. подготовили В.М. Жирмунский, АН. Кононов. М.-Л: Изд-во АН СССР, 1962 (Сер. Литературные памятники).
Кононов А.Н. (пер. и коммент.). Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-Гази, хана хивинского. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1958.
Кононов A.M. Способы и термины определения стран света у тюркских народов // Тюркологический сборник. 1976. М.: ГРВЛ изд-ва «Наука», 1978.
Крачковский И.Ю. Арабская географическая литература. [Перепеч. с изд. 1957 г.] М.: Вост. лит., 2004.
Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак и ритуал. Новосибирск: СО Наука, 1990.
Д.Д. Васильев, Т.А. Аникеева Комментарии
Географические названия
Азыхская пещера – пещера у села Азох в Нагорном Карабахе, одна из стоянок так называемой ашельской культуры (ранний палеолит): в ней обнаружены остатки древнейших жилищ и каменные орудия.
Алынджа (Алынджак) – крепость, располагавшаяся на территории современного Азербайджана, на месте Нахичевани. Стояла в 20 км выше эстуария одноименной реки, впадающей в р. Аракс, на вершине высокой горы. Название крепости встречается во многих исторических источниках и географических сочинениях начиная с XIII в. По словам В.Ф. Минорского, играла важную роль в тимуридский (конец XIV–XV в.) период истории Закавказья.
Байбурд (Бейбурт) – крепость, располагавшаяся на северо-востоке Анатолии на р. Чору, на высоте приблизительно 1500 м над уровнем моря (ныне Байбурт – город на северо-востоке Турции). Байбурт всегда играл важную роль в турецкой культуре и воспевался озанами и народными поэтами. Турки-сельджуки захватили этот регион в 1054-1055 гг., а после битвы при Манцикерте в 1071 г., когда византийцам было нанесено поражение, крепость Байбурт окончательно перешла в руки сельджуков. В XIII–XIV вв. Байбурт, оказавшийся в составе Сельджукского султаната Рума, а затем под властью Ильханов, процветал, находясь на торговом пути, ведущем из Трапезунда в Эрзурум и далее в Табриз.
Барда (Berde, арм. Partav) – некогда столица Аррана, древней Албании, и самый большой город на Кавказе. Название «Барда» арабы объясняли из персидского bärda-dar, то есть «место, где держали пленников». Барда, как и Гянджа, располагалась вне «области огузов».
Во времена Сасанидов (251-651 гг.) в этом месте была построена высокая крепость, охранявшая от набегов с севера и с запада. Впоследствии, во время арабского завоевания, по сообщениям ал-Истахри (932 г.), это был самый большой город на всем пространстве от Хорасана в Ираке до Рея в Иране. Мечеть, сокровищница, дворец находились внутри крепостных стен, а базары располагались в окрестностях. Барда славилась своими фруктовыми садами и шелком, который оттуда экспортировали в Хузистан и Иран. Однако вскоре, в 943 г., город был сожжен русами, и после этого уже полностью не восстановился. В период монгольского завоевания был частично отстроен заново, хотя упоминания о нем в исторических источниках становятся крайне редкими: о нем говорят лишь как о городе, расположенном в 9 фарсахах от Гянджи.
Гораздо позднее Барда представляла собой небольшую деревню и развалины крепости в 20 км от Текер Суйу, притока Куры.
Железные ворота, Дербент (Kapılar Dervendi; в средневековых арабских источниках – Баб ал-абваб, «Главные ворота», перс. дарбанд означает «запор на воротах») – крепость, расположенная на берегу Каспийского моря.
В период сложения «Книги моего деда Коркута» Дербент находился в составе Арабского халифата (VII–XIII вв.). Само название крепости – «Железные ворота» – возникло вследствие географического расположения Дербента: город с крепостью находился на узкой трехкилометровой прибрежной полосе на западном побережье Каспийского моря на устье р. Самур, тем самым закрывая территории, расположенные к югу от него, от набегов гяуров – хазар, алан. С 1067 г. город несколько раз пытались завоевать турки-сельджуки, а в начале XIII в., в 1239 г., Дербент, как и все государство Ширваншахов (существовавшее в Северном Азербайджане в 861-1500 гг.), в состав которого он входил с XII в., был захвачен монголами.
В XVI – начале XVIII в. Дербент вошел в состав Сефевидской державы. После смерти Надир-шаха Афшара в 1747 г. хан Дербента провозгласил свою независимость, однако она была недолгой: вскоре Дербент был присоединен к Кубинскому ханству. В 1813 г. Дербент окончательно вошел в состав Российской империи.
Предметы, термины
Газылык – гора. Считается, что Казылыком (Газылыком) именуется в огузском эпосе собственно весь Кавказский хребет[18]. Как уже было сказано в заключительной статье, горы играют особую, важную роль в «Китаб-и Коркут». Образ горы Газылык (Казылык) в огузском эпосе отражает древнейшее и распространенное у многих тюркских народов представление о горе как об общем родовом предке, восходящее еще к древним тюркам: «Турал молвил:
– Гюнель, почему ты, глядя на гору, всегда закрываешь лицо чадрой?
Гюнель улыбнулась:
– Этому меня матушка научила, – отвечала она. – А ей это бабушка наказала. Говорят, пик Газылыкский для нас, огузянок, словно свекор. Перед ним мы должны закрывать лицо».
По словам многих исследователей-тюркологов, поклонение священным вершинам, восходящее к глубокой древности, у тюрков было неотъемлемой частью главного культа Земли-Воды (Йер-Су). А собственно культ священных вершин был зафиксирован еще у древних тюрков.
Наряду с горой Казылык (Газылык) в сказаниях «Книги моего деда Коркута» упоминаются также горы Карадаг и Аладаг.
Гобустан (букв. «страна оврагов») – гористая равнина, расположенная примерно в 60 км от Баку между юго-восточным склоном Большого Кавказского хребта и Каспийским морем. Гобустан известен своими древними наскальными изображениями, петроглифами, которые изображают сцены охоты, животных и созвездия.
Гянджа – город у подножия гор Малого Кавказа, на притоке Куры, реке Гянджачай, основанный в середине IX в. (859 г.). После падения Барды был столицей Аррана.
В XII столетии город был почти полностью разрушен землетрясением, затем отстроен заново и, по словам историков, считался одним из красивейших городов Западной Азии. В это время в Гяндже родился и жил великий поэт Низами Гянджеви (1141 – ок. 1209). Арабский историк Ибн ал-Асир (1160-1233) называл Гянджу «матерью городов Аррана».
Однако в XIII в., как и Дербент, Гянджа была завоевана и разорена монголами. После этого удара город потерял свое былое значение: при Ильханах Арран (и Гянджа как его столица) стал лишь одной из провинций государства Хулагуидов[19]. Со времени правления Исмаил-шаха из династии Сефевидов (1487-1524) Гянджа входила в состав Персии.
В 1804 г. Гянджа вошла в состав Российской империи и получила название Елизаветполь; с 1918 г. – находится в составе Азербайджана (с 1935 г. носила название Кировабад).
Дара-Шам (Дерешам, Dereşam) – область в северном Азербайджане, в Карабахе. На старых картах располагалась напротив Алынджи и Нахичевани, местность рядом с р. Акчай и Кызылчай и Аракс.
Страна греков – страна румов (греков), располагавшаяся на западе от населенной огузами земли, воспринималась ими как предел известного им мира.
Сурмели (Сюрмели, Сурмари, Sürmelü) – крепость, некогда расположенная на правом берегу р. Аракс. Название Сурмари происходит от армянского названия церкви Святой Мариам (Сурб Мари), находившейся там. Ныне – город Сурмалу и одноименная низменность на территории Турции в иле Карс.
Гавалдаш (букв. «камень-бубен») – находящийся в Гобустане большой плоский камень, постукивая по которому другим камнем, можно извлечь музыкальные звуки разной тональности.
Кобза (кобуз, комуз) – струнный щипковый музыкальный инструмент, двухструнная скрипка с полым резонатором. На кобзе играют и озан-сказитель, и огузские богатыри (Салор-Казан, Дерсе-хан и неузнанный родными Бамси Бейрек, притворившийся народным певцом на свадебном пиру). По мнению исследователей тюркского эпоса, кобза, пользующаяся особым уважением в сказаниях «Книги моего деда Коркута», понимается как магический предмет наделенного вещим даром сказителя – Коркута.
Эйлаг – летнее пастбище, луг в горах (альпийской и субальпийской зон гор) Кавказа (эйлаг, яйлак) и Крыма (яйла).
Батман – мера веса, значение которой в разное время колебалось от 2,5 до 10 кг.
Гяур – искаж. араб. (тур. kafir), «неверный», т. е. немусульманин. В «Книге моего деда Коркута» гяуры выступают в качестве главных противников огузов (за исключением сказаний о внутренних распрях).
Каган – хан, верховный правитель у тюркских народов.
Саккыз – фисташковое, или ладанное, скипидарное, кевовое дерево, дающее камедистую смолу, которую жуют. Саккыз произрастает главным образом в сухих степных местностях и у опушек лесов.
Нагара (азерб. naǧara, перс.) – азербайджанский двусторонний ударный музыкальный инструмент наподобие литавры, обычно парный. Распространен также в Узбекистане, Таджикистане, Азербайджане, Армении, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Мифологические, религиозные воззрения
Озан (узан) – сказитель, певец у тюркских народов. Озан пользуется большим уважением среди своих слушателей как хранитель знания, эпического предания, памяти предков. Само слово «озан», обозначающее сказителя, в настоящее время неупотребительно, заменено бахши у казахов и ашугом у азербайджанцев и турок.
В «Книге моего деда Коркута» таким хранителем традиции, выраженной в форме эпических сказаний, выступает собственно старец-патриарх Коркут. Коркут предстает и как исполнитель и создатель эпических сказаний, и в то же время как один из главных действующих героев огузского эпоса. Коркут мыслится и как легендарный покровитель озанов, и как прорицатель, наделенный даром предсказывать будущее.
Наставления, своеобразные «прорицания», или же благословения Коркута, обращенные к хану, являются необходимой структурообразующей частью композиции сказаний «Китаб-и дедем Коркут» (им часто отводится композиционная роль завершения сказания). По словам В.М. Жирмунского, в основе прорицаний Коркута, «может быть, сохранились архаические, домусульманские по своему происхождению мотивы магического заклинания, но они перекрываются формулами, подсказанными вероучением ислама»[20]. Упомянутые в прорицаниях Коркута крепкое дерево, высокая гора (имеющие определенный круг значений в тюркских языках) отсылают к традиционной тюркской социальной картине мироустройства (род).
Избрание хана:
«…В логове льва у Белой скалы собрались джигиты. Газан на буром коне стоял лицом к лицу с огузскими всадниками. Джигиты накинули на шею Газану шелковый аркан, скинули его с коня на землю. Газан забарахтался. Джигиты ухватились за концы аркана и стали тянуть. Газан чуть не задохся. Но – таков обычай. Таков обряд избрания хана…» Здесь отражена существовавшая еще у древних тюрков традиция условного удушения кагана перед его интронизацией, о которой сообщается во многих источниках: едва ли не до смерти удушая шелковым платком претендента на престол, его спрашивали, сколько лет ему суждено царствовать.
Представление о сне:
«…Крепкое вино ударило Газану в голову, свалил его сон, малая смерть. Когда огузские джигиты засыпали, спали они по семь суток, и поэтому сон их называли малой смертью…»
В целом мотив сна играет весьма важную роль в турецком и – в целом – тюркском фольклоре. Наиболее часто встречающимся является мотив засыпания эпического героя крепким, «богатырским», сном на семь дней – он присутствует и в эпической традиции многих тюркских народов, и в сказках. О мотиве сна как одном из основных мотивов в тюркском эпосе упоминают некоторые турецкие исследователи. Так, О.Ш. Гёкъяй в своем исследовании, посвященном «Книге моего деда Коркута», пишет, что мотив сна героя является одним из важнейших мотивов в сказаниях данного эпического цикла[21]. Сновидения рассматривались всегда как структурообразующая часть сюжета, исходя из их функции (например, распространенный во многих жанрах тюркского фольклора мотив: герой видит во сне красавицу, влюбляется в нее и отправляется на ее поиски).
В сказаниях «Книги моего деда Коркута» встречаются и повествования о вещих снах главных героев эпоса. Это сон Салор-Казана (II, Повесть о том, как был разграблен дом Салор-Казана) и сон Иекенка (VII, Песнь об Иекенке, сыне Казылык-коджи). В своем сне[22] Салор-Казан видит, как всевозможные бедствия происходят с ним самим, его домом и его людьми. Иными словами, масштаб этих бедствий во сне также обретает практически вселенский характер. Возможно, из-за отношения ко сну как к способу получения знания о будущем, выраженности традиции снотолкования (дурное сновидение Салор-Казана сбывается), сон для эпического героя предстает как «малая смерть», может приносить беду («Любая беда нападает на огузских джигитов во сне»).
Можно говорить о том, что тема сновидения в турецкой/тюркской фольклорной системе существует в двух жанровых разновидностях, хотя, по всей видимости, восходит к одной общей традиции (тюркские гадательные книги и снотолкователи). В турецких народных повестях и некоторых эпических произведениях (таких как распространенный у многих тюркских народов эпос «Кёр-оглы»[23] или туркменский «Саят и Хемра»), где наиболее четко прослеживается влияние ислама, сновидение становится важным структурообразующим элементом сюжета и характеризуется определенным набором признаков, позволяющих возводить его к обряду шаманской инициации (см., например, исследования Башгёза). В эпосах некоторых тюркских народов («Китаб-и дедем Коркут», «Манас»[24]) наряду с первым типом присутствует более, на наш взгляд, архаический тип повествования об увиденном сне, не играющий значимой роли в сюжете, но в символической форме предвещающий будущее героя (как правило, беду); образная система такого сна тесно связана с мифологическими представлениями тюркских народов.
Представление о том и этом мире:
«…Где те гордецы, что кричали, будто мир принадлежит им? Смерть взяла, земля скрыла, а бренный мир и без них стоит. Преходящий мир, смертный мир! Старый Коркут, ты уже мертв, знай это! Караван ушел, ты опоздал, знай это! Сколько ни живи, конец – смерть, исход – разлука…»
Такие текстовые фрагменты выражают специфически исламское осмысление течения жизни, связанное с центральным для ислама понятием такдира – предустановленности порядка вещей, божественной детерминированности происходящих в мире явлений, включая человеческие действия. Жизнь человека и весь вещный мир воспринимаются как тленное, преходящее (в арабском языке, в Коране, а затем и в турецком языке этот мир обозначается словом dünya, обозначающим все обитаемое, «человеческое», постижимое пространство); их смерть неизбежна. В «Китаб-и дедем Коркут», по крайней мере в прорицаниях Коркута, есть некоторое противоречие: с одной стороны, эпос прославляет героев-богатырей, сражающихся с гяурами, с другой – подвиги огузских бегов все же принадлежат миру тленному, то есть diinya. Такое понимание мира подкрепляют также образы, характерные для мусульманской моралистической литературы (т. е. книжные по происхождению), и специфическая лексика, заимствованная из арабского и персидского языков.
Так, противопоставление земной жизни, т. е. тленного, бренного, преходящего мира, находящей выражение в словосочетаниях fani diinya (т. е. тленный мир, человеческая жизнь) или hayat-at-dünya (т. е. земная жизнь) и той жизни – Ahır (т. е. «жизнь последняя», вечность), очень распространено в Коране. В прорицаниях Коркута, как мы уже заметили, это встречается неоднократно, как и diinya в значении «земной мир». В некоторых фрагментах эпоса присутствуют не только лексические заимствования из арабского языка (которые не всегда могут быть связаны с Кораном и коранической лексикой), но и явно мусульманские по своему происхождению образы или метафоры. К ним прежде всего относится метафора жизни как каравана: «Дед мой Коркут сложил песнь, сказал слово; эту былину он сложил, он составил. Так он сказал: они пришли в этот мир и прошли; так караван останавливается и снимается; их похитила смерть, скрыла земля; за кем остался тленный мир?» (Anlar dahı bu dünyaya geldi geçdi; kervan gibi kondu göçdü. Anları dahı ecel aldı, yer gizledi. Fani diinya kime kaldı). По мнению исследователей, источники этих образов различны, но большинство происходит из письменной книжной литературы (хадисы, моралистическая литература. Эта же метафора жизни как каравана встречается и у Абу-л-Гази в «Родословной туркмен»: «Подлинно, этот мир похож на караван-сарай, [а] чада Адамовы похожи на караван: одни кочуют, другие останавливаются на стоянку» –
بو دنيا بر رباطفه اوخشار آدم فرزندلار
كارواتفه اوخثارلار بري كوجار بري قونار
(Родословная туркмен, 332-334[25]).
Образ земной жизни как мимолетного в сравнении с вечностью существования не является новым для тюркской литературы: практически такие же формулировки, что и в «Китаб-и дедем Коркут» обнаруживаются в поэме дидактического содержания «Подарок истин» Ахмеда Югнеки: «Сколько ни есть земли, не вмещаются мужи ее! Мужи ее (т. е. земли) ушли, и осталась только сухая земля» –
نيجا يير بار اردي سيفيشماز
اري باردي قالدتي قوروغتاك بيري
Поэма датируется приблизительно XI–XII вв., однако, как отмечается исследователями, существуют основания относить этот текст к более раннему времени.
Чертой, свойственной мусульманской дидактике, является то, что жизнь и поступки человека трактуются как преходящее, тленное, тогда как неизменной представляется вера во всемогущего Бога.
Ориентация по сторонам света:
«…Газан молвил:
– Аман пусть отправится на восток, Дондар – на запад, Карабудаг пусть принесет весть с южной, солнечной стороны горы Аладаг; Ялынджык – с северной, теневой стороны горы Газылык. Тому, кто проведает, что Бейрек жив, дам богатство. Кто удостоверит, что он мертв, получит Банучичек…»
Как уже говорилось во вступительной статье, у древних тюрков и у некоторых тюркских народов сохраняется в ряде случаев и по сей день несколько способов ориентации в пространстве, которые характеризуются позицией относительно солнца: лицом к восходящему солнцу (на восток), лицом к полуденной стороне (то есть к тому месту, где солнце в зените, кÿн орту, – на юг), лицом к полуночной стороне, туда, где ночь в зените, – тун орту. Известно, что в ряде тюркских языков северная сторона ассоциируется с понятием темноты, обозначаясь словом «тÿн» – «ночь». Одно из значений слова «dün» в тюркских языках – север (наряду с основным – ночь), что связано с одним из традиционных способов ориентации у тюркских народов. В «Огуз-наме» северная сторона также обозначается как «сторона ночи»: андан со учагусу та capı а бардıлар, такı ÿчäгÿ сÿ capı а тÿн бардшар («и затем трое из них пошли по направлению восхода, еще трое отправились в сторону ночи»[26], то есть на север).
Ориентация на солнце в зените, то есть на юг, по мнению некоторых исследователей, является отражением древнего культа Юга у тюркских народов, вытеснившего (не полностью) культ Востока, восходящего солнца.
«Не проливай свою кровь, как воду»: Наставления Коркута содержат ряд стилистических клише, которые достаточно распространены в «Китаб-и дедем Коркут» в целом и, возможно, восходят к древнетюркским памятникам. Даже если судить о прямой связи нельзя, то можно сказать, что они находятся скорее в контексте литературной тюркской, доисламской традиции. См., например: «Китаб-и дедем Коркут»: «Пусть даст переправиться через обагренные кровью реки» – Kanlu kanlu sulardan ge it versün; памятник Кюль-Тегину: «Кровь твоя бежала как вода» – Qanyƞ subča Jügürti[27]. В памятнике, относящемся к более позднему периоду, «Огуз-наме» («Легенда об Огуз-хане»), представляющем собой записанный текст легенды о происхождении огузов (этот текст относят ко времени существования огузского государства на Сырдарье, то есть к периоду VIII–X вв.), говорится при описании битвы: «Схватки, сраженья были такими жестокими, что воды Итиль-реки стали красными-красными, подобно киновари» (Огуз-наме 19, III–IV). Связь воды и крови, которая находит воплощение в различных фигурах речи (метафоре, гиперболе), видимо, является достаточно устойчивой в тюркской литературе в целом.
«Высокие мои утесы обрушились, тенистое мое дерево срублено…» – Как уже подчеркивалось в заключительной статье и комментариях (см. Газылык), основной функцией этих знаков (горы и дерева) в самом широком культурном контексте тюркской традиции является маркировка социального устройства, родовой принадлежности. Эта функция очень устойчива и существует как у тюркоязычных народов Южной Сибири, так и в Средней Азии, где сохраняется «под видом» почитания мусульманских святынь. В «Китаб-и дедем Коркут», гора (daǧ), дерево (aǧaç) и река (su) также в первую очередь очерчивают родовое (следовательно, и личное) пространство. В тексте «Китаб-и дедем Коркут» есть прямое указание на это: «Брат, вершина моей черной горы!» (X, Песнь о Секреке, сыне Ушун-Коджи; Книга Коркута), «Сын, вершина моей черной горы! Сын, разлив моей обагренной кровью реки!» – Kara daǧun yüksegi ogul Kanlu suyun taşkunu ogul (IV, Песнь о том, как сын Казан-бека Уруз-бек был взят в плен).
Согласно представлениям древних тюрков, весь мир и его человеческие обитатели образовывали тюркское государство, а каган мыслился как повелитель всего мира. Нарушение же миропорядка, согласно представлениям орхонских тюрков, влечет за собой потрясения и нарушения жизни государства, общества; мятеж бегов (беков) приравнивается к космической катастрофе: «Миф о космической катастрофе в памятниках Орхона представлен намеками, в постулируемой связи между неурядицами среди людей и потрясениями в окружающем мире. Всякое нарушение мирового порядка влечет за собой потрясения в государстве… Еще худшие последствия, гибель государства, могут повлечь за собой два события – мятеж бегов и народа или бедствие, когда небо „давит“, а земля „разверзается“. Здесь мятеж приравнен к космической катастрофе, представление о которой выражено традиционной формулой мифологического повествования»[28]. Конец света представляется алтайцам следующим образом: земля будет сожжена огнем, идущим изнутри, воды наполнятся кровью, горы сокрушатся, небеса разверзнутся. В телеутских и «урянхайских» (то есть тувинских) рассказах о конце света говорится о нарушении общественного порядка как об одном из первых его признаков: «Когда придет кончина века, Небо затвердеет, как железо, Земля, как мощь, будет тверда, Царь на царя восстанет, Народ на народ будет злоумышлять. Твердый камень сокрушится, Крепкое дерево раздробится, Все народы возмутятся… Отец дитя свое не спознает, Сын не будет узнавать отца», «Наследство и родство пресекутся»[29]. У тюрков конец света понимался как крах социального, основой которого был род, кодирующийся в культуре, как мы уже показали ранее, через определенные объекты окружающего мира.
Это иллюстрируют и примеры из остального текста «Китаб-и дедем Коркут»:
«Твоя черная гора шаталась, шаталась и обрушилась; (вновь) поднялась она наконец! Твои обагренные кровью воды иссякли; (вновь) зажурчали они наконец! Твое крепкое дерево засохло; (вновь) зазеленело оно наконец!..» (III, Песнь о Бамси-Бейреке, сыне Кан-Буры)
Жена Казана Бурла-хатун говорит своему мужу:
«Повернувшись, мою черную гору ты сокрушил, Казан; мое тенистое крепкое дерево ты срубил, Казан; взяв нож, ты разрезал части решетки моего шатра, Казан; моего единственного сына, Уруза, ты погубил, Казан» (IV, Песнь о том, как сын Казан-бека, Уруз-бек, был взят в плен).
Эти же формулы (только как бы в «перевернутом» виде), являясь своего рода метафорами, передают социальную ситуацию (в первом случае – возвращение Бамси-Бейрека «в орду своего отца» из плена, во втором – предполагаемую гибель сына).
«Посмотрим, хан мой, что он сказал» – Такими словами обозначается участие в повествовании самого сказителя-певца, обращающегося к аудитории, к хану. Подобные слова «от лица сказителя», часто предваряющие прямую речь эпических героев, присутствуют во многих произведениях тюркского фольклора и указывают на древнее устное бытование эпических сказаний.
«Dede Korkut» («Dada Gorgud»), a story by the Azerbaijani writer Anar, is based on the Turkic (Oguz) epic «The book of my grandfather Korkut». One of its twelve heroic tales was first published in German in 1815 and became a major sensation, as Tapagoz (Goggle-eye), one of the main characters of the epic, turned out to bear great resemblance to Polyphemus (a Cyclops) from Homer's «Odyssey» Anar, a modern Azerbaijani author, told an original story. However, his book incorporated most storylines, episodes and even some minor motifs of the epic. The heroic stories, while being populated by typical larger-than-life characters, are often funny and give a good sense of the life of the Oguz. The striving of the Oguz people for living in peace and amity with their neighbors figures prominently in «Dede Korkut».
The book comprises two introductory essays. The first essay by H. Koroglu, Ph.D., offers a detailed analysis of Anar's story, emphasizing its originality, as well as its organic links with the ancient Oguz epic. The other one – by D. Vassiliev and T. Anikeeva – focuses on the historical background and literary features of the "Kitab-I Dede Korkut" epic as a brilliant piece of the Turkic folklore. The previous editions of the book are described with great precision. The authors summarize all twelve parts of the epic, which undeniably gives an insight into traditions and customs of the Oguz. The edition is supplied with notes, explaining Turkic terms, religious beliefs of the Oguz, as well as geographical names, mentioned in the book.
The stories told in Anar's "Dede Korkut" testify to the inimitable style of the Turkic epic. They belong to a variety of genres – from romantic episodes to fairy tales, and this versatility makes the book very readable to different audiences.
This edition of the book aims at preserving and popularizing cultural heritage of Turkic peoples and was published under the auspices of the Mardjani foundation.
Сноски
1
Бейлик (тур.) – княжество, удельное владение.
(обратно)2
Кобыз – струнный смычковый музыкальный инструмент.
(обратно)3
Можно упомянуть и некоторые другие эпические произведения у тюрков Средней Азии, которые в сюжетном отношении также связаны с «Алпамышем»: например, хорезмско-туркменская повесть «Юсуф и Ахмед», киргизская поэма «Джаныши Байыш», казахский эпос «Козы-Корпеш и Баян-Сулу».
(обратно)4
Сказания о Дигенисе Акрите были чрезвычайно широко распространены на территории Малой Азии и Закавказья. Поэма «Дигенис Акрит» – памятник византийского героического эпоса, дошедший до нас в нескольких вариантах; скорее всего, в основе ее лежит обработка фольклорного материала. Первоначальная версия, по-видимому, восходила к концу X – началу XI в.; ряд напластований в сохранившихся версиях указывает на различные эпохи от второй половины XI и до XIV в. Дигенис (греч. «Двоерожденный») уже своим происхождением связан с Востоком: это сын гречанки и принявшего из любви к ней крещение сирийского эмира [Аверинцев, 1984]. Известно также и об армянском сказании о Кагуан Арслане и невесте Маргрит, представляющем собой вариант песни о Дигенисе и его борьбе с Хароном [Книга моего деда Коркута…, 1962, с. 199].
(обратно)5
Тагавор (арм.) – «правитель».
(обратно)6
Трапезундская империя – греческое государство на севере Малой Азии, просуществовавшее с 1204 по 1461 гг. со столицей в Трапезунде (совр. Трабзон). В 1204 г. потомки византийского императора Андроника I Комнина заняли Трапезунд и окрестные прибрежные земли. В 1461 г. Трапезундская империя окончательно прекратила свое существование, будучи завоеванной Мехмедом II.
(обратно)7
См., например, «Калоандро» Джованни Амброджо Марини, где речь идет о сватовстве туркменского царевича Сафара к Леонильде, наследнице престола Трапезунда [Книга моего деда Коркута… 1962, с. 191; В.М. Жирмунский ссылается здесь на В.В. Бартольда и Фалмерайера: Fallmeraer J.P. Geschichte des Kaiser-tums von Trapezunt. Munchen, 1827].
(обратно)8
Мотив «случайного узнавания» о судьбе своего отца или брата, находящихся в плену, из насмешек сверстников также чрезвычайно распространен в тюркском фольклоре [Книга моего деда Коркута… 1962, с. 228].
(обратно)9
Само имя Амрана, равно как и Бекиля, не упоминается в других сказаниях «Книги моего деда Коркута», что свидетельствует о новизне и имени, и рассказа [там же, с. 230], скорее всего оно имеет кавказское происхождение (ср. Амиран в грузинском фольклоре).
(обратно)10
Например, в фольклоре хакасов, согласно их верованиям, гора, с одной стороны, была местом рождения эпических и сказочных героев, местом обитания горных духов, а с другой – объектом поклонения сёока (рода), гора в хакасском фольклоре является местонахождением жизненной силы рода [см.: Бутанаев, 2006]. Гора также, что важно, связывалась с изобилием, воспринималась как «средоточие всего принадлежащего роду имущества» [ibid., с. 90].
(обратно)11
Существует мнение, что картина мира у народов Центральной Азии (т. е. у тюрков и монгольских народов) – едина по своим основным структурным элементам, из которых образы Мировой Горы и Мирового Древа являются важнейшими.
(обратно)12
Бег, бек (тюрк.) – властитель, господин.
(обратно)13
Кроме того, при обозначении стран света по вертикали возможны две исходные позиции: на восток (верх – восток, низ – запад) и на юг (верх – юг, низ – север) [Кононов, 1978, с. 84]. Эта система ориентации сохранялась еще в XX в., в частности, в Восточном Туркестане, например, в записях текстов саларского фольклора, сделанных Э. Тенишевым в конце 1950-х гг.: «…Этот юноша подумал: „У меня нет ни отца, ни матери, ни старшего, ни младшего брата, ни старшей, ни младшей сестры. [Пойду-ка] я на юг – (букв. вверх) поищу старшего брата и на север (букв. вниз)“ (курсив мой. – Т. А.)».
(обратно)14
Мекка упоминается в «Китаб-и дедем Коркут» несколько раз: во вступлении к памятнику, которое, несомненно, появилось гораздо позднее, чем сами сказания («В низком месте построенному дому Божьему – Мекке слава!»), и далее по тексту, но нигде связь со способом ориентации в пространстве не прослеживается.
(обратно)15
Этот образ, предположительно имеющий иранские корни, играл важную роль как в собственно мусульманской мифологии и арабском фольклоре (также и в персидском, и у ряда тюркских народов), так и в арабской географической традиции: «впоследствии, когда у арабов, главным образом, в космографически-сказочной литературе, появилось шедшее, вероятно, из иранских кругов представление о горной цепи Каф, окружающей землю, делались попытки обосновать его кораническим учением о горах…» [Крачковский, 2004, с. 45].
(обратно)16
В арабском языке персидское по происхождению слово diinya имеет значение «мир, вселенная, вся Земля», мирское существование. В том же значении оно было заимствовано в некоторые тюркские языки. В сущности, словосочетание fani diinya является в некотором роде тавтологией, так как заимствованное из арабского прилагательное fani в староосманском языке имеет значение: нечто «имеющее конец, заканчивающееся, смертное», и выражение âlem-i fani/fani âlem (âlem – араб. «вселенная») равнозначно diinya – мир, в котором мы сейчас живем. См. также комментарии.
(обратно)17
Например, среди казахов в 1867 г. В. Вельяминовым-Зерновым была записана легенда, согласно которой аулие (святой) Коркут увидел во сне, как ему роют могилу. Желая избежать смерти, он переселился на другой конец света, но страшный сон настиг его и там. Куда бы он ни пошел, всюду его преследовало это видение. Тогда Коркут перебрался жить на воду, на реку Сыр (Сырдарью), где и просидел 100 лет до своей смерти. По другому, киргизскому, варианту легенды, Коркут бегал от смерти на сказочном верблюде-джилмае – сотню лет, пока не вернулся обратно на берег Сырдарьи, на то место, где его и настигла смерть.
(обратно)18
Бартольд В.В. Турецкий эпос и Кавказ // Книга моего деда Коркута. Огузский героический эпос / Пер. акад. В.В. Бартольда. Изд. подготовили В.М. Жирмунский, А.Н. Кононов. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1962 (Сер. Литературные памятники). С. пб.
(обратно)19
Хулагуиды – монгольская династия, середина XIII – середина XIV в.
(обратно)20
Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. Л.: Наука, 1974, с. 535.
(обратно)21
Dedem Korkudun Kitabı. Hazırlayan Orhan Şaik Gökyay. Istanbul: Milli eǧitim basımevi, 2000, с. CCCI.
(обратно)22
В ответ на просьбу Салор-Казана истолковать сон его брат, Кара-Гюне, отвечает: «Ты говоришь о черной туче – это твое счастье; ты говоришь о снеге и дожде – это твое войско; волосы – забота, кровь – черное (бедствие); остального истолковать не могу, пусть Аллах истолкует» (пер. В.В. Бартольда, II, Повесть о том, как был разграблен дом Салор-Казана).
(обратно)23
Если проводить параллели с другими тюркскими эпосами, то, например, в туркменском «Гёр-оглы» сон эпического героя предстает как обряд посвящения и дарования герою знаний и благодати/благоволения от высших сил: «Я в забытьи лежал – пришли эрены. „Встань и очнись“, – они сказали Открыл глаза я и весь мир узрел. „Вон там стоит Шахимердан“, – сказали». (Гёр-оглы, 74, с. 416–417).
(обратно)24
Сны, предвещающие гибель Манаса, снятся Каныкей перед его походом [Жирмунский В.М. Указ. соч., с. 41], вещий сон видит Акылай, дочь Шорук-хана.
(обратно)25
Кононов А. Н. (Пер. и коммент.). Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-Гази, хана хивинского. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1958, с. 45.
(обратно)26
Щербак А. М. (Пер. и коммент.). Огуз-наме. Мухаббат-наме. Памятники древнеуйгурской и староузбекской письменности. М.: ИВЛ, 1959.
(обратно)27
См.: Малое С.Е. Памятники древнетюркской письменности. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1951; Orkun Н.М. Eski Türk yazıtları. Ankara: 1987.
(обратно)28
Кляшторный С.Г. Мифологические сюжеты в древнетюркских памятниках // Тюркологический сборник. 1977. М.: ГРВЛ изд-ва «Наука», 1981, с. 123.
(обратно)29
Вербицкий В.И. Алтайские инородцы. М.: Изд. этнограф. отдела Имп. об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии, состоящего при Московском университете, 1893.
(обратно)


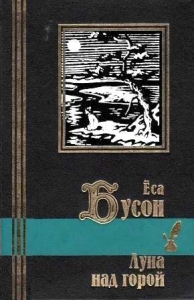

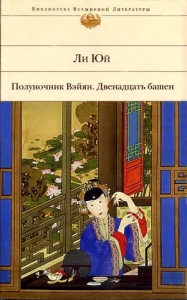
Комментарии к книге «Деде Коркут», Анар
Всего 0 комментариев