РЕЧИ
1. Речь в защиту Секста Росция из Америй [В суде, 80 г. до н. э.]
Осенью 81 г. богатый римский гражданин Секст Росций, живший в муниципии Америи, сторонник Суллы и нобилитета, связанный дружескими отношениями со знатью, был убит в Риме на улице. Его родственники, жившие в Америи, Тит Росций Капитон и Тит Росций Магн вступили в соглашение с любимцем Суллы, влиятельным вольноотпущенником Хрисогоном, и убитый был задним числом внесен в проскрипционные списки, хотя они были закрыты 1 июня 81 г. (см. прим. 28). Его имущество было конфисковано и продано с аукциона, причем Хрисогону достались десять его имений, а Капитону — три. На жизнь Секста Росция-сына были совершены покушения, но неудачно, и он укрылся в Риме, в доме у Цецилии, родственницы диктатора Суллы. Чтобы устранить сына убитого, его обвинили в отцеубийстве; обвинителем выступил некий Гай Эруций. Секст Росций предстал перед постоянным судом по делам об убийствах, председателем которого был претор Марк Фанний; в случае осуждения ему грозила так называемая «казнь в мешке» (см. прим. 36). Обвиняемый встретил сочувствие и поддержку у многих представителей нобилитета, но единственным человеком, согласившимся защищать его в суде, был Цицерон, которому тогда шел 27-й год. Суд оправдал Секста Росция. Это было первое выступление Цицерона в уголовном суде.
См. Цицерон, «Брут», § 312; «Оратор» § 107; «Об обязанностях», II, § 51; Авл Геллий, «Аттические ночи», XV, XXVIII, 3: Плутарх, «Цицерон», 3, 2.
(I, 1) Вы, конечно, удивляетесь, судьи, почему в то время, когда столько выдающихся ораторов и знатнейших людей сидит спокойно, поднялся именно я, хотя ни по летам своим, ни по дарованию, ни по влиянию я не могу выдержать сравнения с этими вот, сидящими здесь людьми. Все те, кто, как видите, находится здесь[1], полагают, что в этом судебном деле надо дать отпор несправедливости, порожденной неслыханным злодейством, но сами они дать отпор, ввиду неблагоприятных обстоятельств нашего времени[2], не решаются. Вот почему они, повинуясь чувству долга[3], здесь присутствуют, а, избегая опасности, молчат. (2) Что же следует из этого? Что я — всех смелее? Ничуть. Или что я в такой степени превосхожу других своим сознанием долга? Даже эта слава не настолько прельщает меня, чтобы я хотел отнять ее у других. Какая же причина побудила меня более, чем кого-либо другого, взять на себя защиту Секста Росция? Дело в том, что если бы кто-нибудь из присутствующих здесь людей, влиятельных и занимающих высокое положение, высказался и произнес, хотя бы одно слово о положении государства (а это в настоящем деле неизбежно), то было бы сочтено, что он высказал даже гораздо больше, чем действительно сказал. (3) Если же я выскажу без стеснения все, что следует сказать, то все же речь моя никак не сможет выйти отсюда и широко распространиться среди черни. Далее, слова этих людей, вследствие их знатности и известности, не могут пройти незамеченными, а любое неосторожное выражение им не простят ввиду их возраста и рассудительности; между тем, если слишком свободно выскажусь я, то это либо останется неизвестным, так как я еще не приступал к государственной деятельности[4], либо мне это простят по моей молодости; впрочем, в нашем государстве уже разучились не только прощать проступки, но и расследовать преступления[5].
(4) К этому присоединяется еще вот какое обстоятельство: может быть, с просьбой защищать Секста Росция к другим людям обращались в такой форме, что они имели возможность согласиться или отказаться, не нарушая своего долга; ко мне же с настоятельной просьбой обратились такие лица, чья дружба, милости и высокое положение для меня слишком много значат, и я не имел права ни забывать об их расположении ко мне, ни презреть их авторитет, ни отнестись к их желанию небрежно. (II, 5) По этим причинам я и оказался защитником, ведущим это дело, — не первым, избранным предпочтительно перед другими за свое особое дарование, а, напротив, последним из всех, так как могу говорить с наименьшей опасностью для себя, — и не для того, чтобы Секст Росций нашел во мне достаточно надежного защитника, а дабы он не остался вовсе беззащитным.
Быть может, вы спросите, какая же страшная, какая чудовищная опасность препятствует столь многим и столь достойным мужам выступить с речью в защиту гражданских прав и состояния другого человека, как они это обычно делали. Неудивительно, если вы до сего времени не знаете этого, так как обвинители преднамеренно не упомянули о том, из-за чего возникло это судебное дело. (6) В чем же оно заключается? Имущество отца присутствующего здесь Секста Росция, оценивающееся в 6.000.000 сестерциев, купил у знаменитейшего и храбрейшего мужа Луция Суллы[6], — чье имя я произношу с уважением[7], — человек молодой, но в настоящее время, пожалуй, самый могущественный в нашем государстве, — Луций Корнелий[8] Хрисогон, заплатив за него, как он сам говорит, 2000 сестерциев. И вот он требует от вас, судьи, чтобы вы — так как он совершенно беззаконно завладел огромным и великолепным чужим имуществом и так как, по его мнению, само существование Секста Росция мешает и препятствует ему пользоваться этим имуществом — рассеяли все его опасения и избавили от страха. Хрисогон думает, что пока Секст Росций жив и невредим, ему не удастся навсегда присвоить себе обширное и богатое отцовское наследие ни в чем не повинного человека, но если Секст Росций будет осужден и изгнан, то он сможет прокутить и промотать все, что приобрел путем злодеяния. Вот он и требует от вас, чтобы вы вырвали из его сердца это опасение, грызущее его душу день и ночь, и сами открыто признали себя его пособниками в этом преступном грабеже. (7) Если его требование вам, судьи, кажется справедливым и честным, то и я, в ответ на него, выдвигаю требование простое и, по моему убеждению, несколько более справедливое.
(III) Во-первых, я прошу Хрисогона удовлетвориться нашим богатством и имуществом, а нашей крови и жизни[9] не требовать; во-вторых, я прошу вас, судьи, дать отпор злодеянию наглецов, облегчить бедственное положение ни в чем не повинных людей и разбором дела Секста Росция устранить опасность, угрожающую всем гражданам. (8) Но если возникнет либо основание для обвинения, либо подозрение в том, что преступление действительно совершено, или же если станет известно какое-нибудь обстоятельство, хотя бы самое ничтожное, которое позволит думать, что у наших противников все же были какие-то основания подать жалобу[10], наконец, если вы найдете любой другой повод к судебному делу, помимо той добычи, о которой я говорил, то мы идем на то, чтобы жизнь Секста Росция была предана в их руки. Если же все дело только в том, чтобы удовлетворить этих ненасытных людей, если ныне они бьются только из-за того, чтобы осуждением Секста Росция как бы завершить захват богатой, великолепной добычи, то, не правда ли, после многих возмутительных фактов самым возмутительным является то, что вас сочли подходящими людьми для того, чтобы ваш вынесенный после присяги приговор закрепил за ними то, чего они обычно достигали преступлениями и оружием; то, что тайные убийцы и гладиаторы[11] требуют, чтобы люди, за свои заслуги избранные из числа граждан в сенаторы, а за свою строгость — из числа сенаторов в этот совет[12], не только освободили их от наказания, которого они за свои злодеяния должны со страхом и трепетом ожидать от вас, но еще и выпустили их отсюда обогащенными и как бы награжденными славной боевой добычей[13].
(IV, 9) Не чувствую в себе сил ни достаточно изящно говорить об этих столь тяжких и столь ужасных преступлениях, ни достаточно убедительно жаловаться, ни достаточно свободно выражать свое переживание. Ибо для изящества речи мне не хватает дарования, убедительности мешает моя молодость, ее свободе — нынешнее положение дел. Кроме того, меня охватывает необычайный страх, что объясняется и моей природной застенчивостью[14], и вашим высоким положением, и силой моих противников, и опасностью, угрожающей Сексту Росцию. Поэтому я прошу и заклинаю вас, судьи, отнестись к моим словам с вниманием и благожелательной снисходительностью. (10) В надежде на вашу честность и мудрость я взял на себя бремя более тяжкое, чем то, какое я, по моему мнению, могу снести. Если вы, судьи, хоть сколько-нибудь облегчите мне его, я буду нести его по мере своих сил, с усердием и настойчиво; но если вы, против моего ожидания, оставите меня без поддержки, я все-таки не паду духом и, пока смогу, буду нести то, что на себя взял. И если я не смогу донести его до конца, то скорее паду под бременем долга, чем предательски брошу или малодушно откажусь от доверенного мне.
(11) Также и тебя — Марк Фанний, я настоятельно прошу — каким ты уже давно проявил себя по отношению к римскому народу, когда председательствовал именно в этом постоянном суде[15], таким покажи себя нам и государству в настоящее время. (V) Какое великое множество людей собралось, чтобы присутствовать при этом суде, ты видишь; чего ожидают все эти люди, как они желают справедливых и строгих приговоров, ты понимаешь. После долгого перерыва сегодня впервые происходит суд по делу об убийстве[16], а между тем за это время были совершены гнуснейшие и чудовищные убийства. Все надеются, что этот постоянный суд, где претором являешься ты, будет по заслугам карать за злодеяния, происходящие у всех на глазах, и за ежедневное пролитие крови.
(12) С тем воплем о помощи, с каким при слушании других дел к судье обычно обращаются обвинители, ныне обращаемся мы, привлеченные к ответственности. Мы просим тебя, Марк Фанний, и вас, судьи, возможно строже покарать за злодеяния, возможно смелее дать отпор наглейшим людям и помнить, что, если вы в этом судебном деле не покажете, каковы ваши взгляды, то жадность, преступность и дерзость способны дойти до того, что не только тайно, но даже здесь на форуме, перед твоим трибуналом[17], Марк Фанний, у ваших ног, судьи, прямо между скамьями будут происходить убийства. (13) И в самом деле, чего другого добиваются посредством этого судебного дела, как не безнаказанности таких деяний? Обвиняют те, кто захватил имущество Секста Росция; отвечает перед судом тот, кому они не оставили ничего, кроме его несчастья. Обвиняют те, кому убийство отца Секста Росция было выгодно[18], отвечает перед судом тот, кому смерть отца принесла не только горе, но и нищету. Обвиняют те, кому непреодолимо захотелось убить присутствующего здесь Секста Росция; перед судом отвечает тот, кто даже на этот самый суд явился с охраной, дабы его не убили здесь же, у вас на глазах. Коротко говоря, обвиняют те, над кем народ требует суда; отвечает тот, кто один уцелел от злодеяния убийц. (14) А чтобы вам легче было понять, судьи, что все происшедшее еще более возмутительно, чем можно думать на основании моих слов, я расскажу вам с самого начала, как все это случилось, дабы вам легче было представить себе и несчастье, постигшее этого, ни в чем не повинного человека, и дерзость тех людей, и бедственное положение государства.
(VI, 15) Секст Росций, отец моего подзащитного, был уроженцем муниципия Америи[19], по своему происхождению, знатности и богатству, пожалуй, первым человеком не только в своем муниципии, но и во всей округе; кроме того, он был известен благодаря своему влиянию и узам гостеприимства, соединявшим его со знатнейшими людьми. Ибо с Метеллами, Сервилиями и Сципионами его связывали не только узы гостеприимства, но и близкое знакомство и общение. Имена их я называю, как подобает, памятуя их высокое звание и положение. Из всех его преимуществ сыну досталось одно только это; ибо состоянием его отца владеют разбойники-родичи, захватив его силой; но доброе имя и жизнь ни в чем не повинного человека защищают гостеприимцы и друзья его отца. (16) Так как Росций-отец всегда сочувствовал знати, то и во время последних потрясений[20], когда высокому положению и жизни всех знатных людей угрожала опасность, он более, чем кто-либо другой, ревностно отстаивал на своей родине их дело своим примером, проявляя свою преданность им и используя свое влияние. Ибо он действительно считал правильным бороться за почетное положение тех, благодаря которым он сам достиг такого большого почета среди своих сограждан. После того как победа была одержана и мы отложили оружие в сторону, когда начались проскрипции и всюду стали хватать тех, кто считался противниками знати, Секст Росций часто бывал в Риме и ежедневно появлялся на форуме на виду у всех, дабы видно было, что он ликует по поводу победы знати, а не страшится каких бы то ни было печальных последствий для себя самого.
(17) Он давно был не в ладах с двоими Росциями из Америи: один из них, вижу я, сидит на скамьях обвинителей; другой, как мне известно, владеет тремя имениями моего подзащитного. Если бы его отец сумел оградить себя от их вражды настолько же, насколько он ее опасался, он был бы жив. Ведь не без основания он опасался этой вражды, судьи! Ибо двое этих Титов Росциев (прозвание одного из них — Капитон, а этого, присутствующего здесь, зовут Магном[21]) — вот какие люди: первый считается испытанным и известным гладиатором, стяжавшим немало пальмовых ветвей; второй, присутствующий здесь, избрал его своим ланистой[22]; и тот, кто до этого боя, насколько мне известно, был новичком, без труда превзошел своей преступностью самого́ своего учителя. (VII, 18) Ибо, когда присутствующий здесь Секст Росций был в Америи, то этот вот Тит Росций был в Риме; когда сын безвыездно жил в имениях и, по желанию отца, посвятил себя управлению поместьями и сельскому хозяйству, этот, напротив, постоянно находился в Риме, и именно тогда Секст Росций-отец при возвращении с обеда и был убит возле Паллацинских бань[23]. Уже одно это обстоятельство, надеюсь, не оставляет сомнений, на кого может пасть подозрение в злодеянии; но если сами факты не сделают очевидным того, что пока еще только вызывает подозрение, можете считать моего подзащитного соучастником в преступлении.
(19) После убийства Секста Росция первым принес в Америю это известие некий Маллий Главция, человек бедный, вольноотпущенник, клиент и приятель Тита Росция, и принес его не в дом сына убитого, а в дом его недруга, Тита Капитона. И хотя убийство произошло во втором часу ночи, уже на рассвете гонец прибыл в Америю; за десять ночных часов он пролетел на одноколке пятьдесят шесть миль[24] не только для того, чтобы первым доставить недругу убитого желанную весть, но и чтобы показать ему свежую кровь его недруга и нож, только что извлеченный из его тела. (20) На четвертый день после этого события о случившемся сообщают Хрисогону в лагерь Луция Суллы под Волатеррами[25]. Его внимание обращают на огромное состояние Секста Росция, упоминают и о ценности поместий (ведь убитый оставил тринадцать имений, которые почти все лежат на берегах Тибра), о беспомощности и беззащитности его сына: указывают, что если Секста Росция-отца, человека блистательного[26] и влиятельного, убить было так легко, то ничего не будет стоить устранить его сына, человека неискушенного, выросшего в деревне и неизвестного в Риме; предлагают свою помощь в этом деле. Скажу коротко, судьи: «товарищество» было создано[27].
(VIII, 21) Хотя проскрипций уже и в помине не было, хотя даже те, кто ранее был в страхе, возвращались обратно и считали себя уже вне опасности, имя Секста Росция, горячего сторонника знати, было внесено в списки[28]. Все скупил Хрисогон; три, пожалуй, самых лучших имения перешли в руки Капитона, который владеет ими и ныне; остальное имущество захватил Тит Росций, как он сам говорит, уполномоченный на это Хрисогоном. Это имущество, стоившее 6.000.000 сестерциев, было куплено за 2000 сестерциев. Я знаю наверное, судьи, что все это было сделано без ведома Луция Суллы. (22) И нет ничего удивительного в том, что он, залечивая раны прошлого и в то же время обдумывая планы будущего и один ведая вопросами мира и войны, когда на него одного обращены все взоры и один он управляет всем, когда он обременен столькими и столь важными делами, что ему и вздохнуть некогда, — что он чего-нибудь и не заметит, тем более, что такое множество людей следит за его занятиями и старается улучить время, чтобы совершить какой-нибудь подобный поступок, сто́ит ему хотя бы на миг отвернуться. К тому же, как он ни счастлив[29] (а это действительно так), все же никто не может быть настолько счастливым, чтобы не иметь среди своей многочисленной челяди хотя бы одного бесчестного раба или вольноотпущенника.
(23) Тем временем этот вот самый Тит Росций, честнейший муж, доверенный Хрисогона, приезжает в Америю, врывается в имения моего подзащитного и его, несчастного, убитого горем, еще не успевшего полностью отдать последний долг умершему отцу[30], судьи, выбрасывает из дома раздетым догола, отталкивает его от родного очага и богов-пенатов[31], а сам становится хозяином огромного имущества. Человек, живший на свои средства в крайней скудости, оказался, как это часто бывает, наглецом, когда стал жить на чужие; многое он открыто унес к себе домой, еще больше забрал тайно; немало раздарил щедро и без разбора своим пособникам; остальное продал, устроив торги.
(IX, 24) Это так удручающе подействовало на жителей Америи, что по всему городу слышались плач и жалобы. И в самом деле, их воображению одновременно представлялось многое: мучительная смерть Секста Росция, человека, пользовавшегося их глубоким уважением, столь незаслуженная нищета его сына, которому из богатого отцовского достояния этот нечестивый разбойник не оставил даже права прохода к могиле отца[32], позорная покупка имущества, захват его, воровство, хищения, раздачи. Всякий предпочел бы решиться на все, лишь бы не видеть, как Тит Росций кичится, хозяйничая в имении Секста Росция, прекрасного и достойнейшего человека. (25) И вот, декурионы немедленно постановили, чтобы десять старейшин отправились к Луцию Сулле, объяснили ему, каким человеком был Секст Росций, заявили жалобу на злодеяние и беззакония этих людей и попросили его взять под свою защиту доброе имя умершего отца и имущество ни в чем не повинного сына. Прошу вас ознакомиться с этим постановлением [Постановление декурионов]. Посланцы приезжают в лагерь. Становится очевидным, судьи, все то, о чем я уже говорил: эти гнусные злодеяния совершались без ведома Луция Суллы. Ибо Хрисогон немедленно отправился к ним сам, подослал к ним знатных людей просить их не обращаться к Сулле и обещал им, что он, Хрисогон, сделает все, что они захотят. (26) Он так перепугался, что согласился бы умереть, лишь бы Сулла не узнал о его проступках. Посланцы, люди старой закалки, судившие о других по себе, поверили ему, когда он дал им честное слово, что вычеркнет имя Секста Росция из проскрипционных списков и передаст его сыну имения полностью, а когда Тит Росций Капитон, бывший в числе десяти посланцев, тоже обещал им, что это так и будет, они возвратились в Америю, не заявив жалобы.
Сперва начали изо дня в день откладывать и переносить дело на завтра, затем стали все больше затягивать его да еще издеваться и, наконец, как это было легко понять, подготовлять покушение на жизнь присутствующего здесь Секста Росция, полагая, что им не удастся долее владеть чужим имуществом, пока его собственник жив и невредим. (X, 27) Как только Секст Росций узнал об этом, он, по совету друзей и родных, бежал в Рим и обратился — имя ее я произношу с уважением — к Цецилии, сестре Непота, дочери Балеарского, которую хорошо знал его отец. Эта женщина, судьи, по свидетельству всех, являясь образцом для других, даже ныне хранит в себе черты древней верности долгу[33]. Она приняла в свой дом Секста Росция, обнищавшего, лишенного крова и выгнанного из его имений, бежавшего от покушений и угроз разбойников, и пришла на помощь человеку, связанному с ней узами гостеприимства и покинутому всеми. Ее благородству, верности и усердию мой подзащитный обязан тем, что его внесли живым в список обвиняемых, а не убитым в проскрипционный список.
(28) И вот, когда эти люди поняли, что жизнь Секста Росция охраняется чрезвычайно заботливо и что у них нет никакой возможности убить его, они приняли в высшей степени преступное и дерзкое решение — привлечь его к суду по обвинению в отцеубийстве[34] и найти для этого какого-нибудь ловкого обвинителя, который мог бы что-нибудь наболтать даже о таком деле, которое не дает никаких оснований для подозрений; наконец, не имея никаких данных для обвинения, они решили использовать положение дел в государстве. Люди эти говорили так: «Коль скоро так долго дела в суде не слушались, тот, кто первым предстанет перед судом, непременно должен быть осужден; Хрисогон очень влиятелен, и Сексту Росцию защитников не найти; о продаже имущества и о “товариществе” никто даже не заикнется; одного слова “отцеубийство” и такого ужасного обвинения будет достаточно, чтобы убрать его с дороги, так как никто не возьмется его защищать». (29) Руководимые этим замыслом или, вернее, охваченные этим безумием, они отдали этого человека, которого сами они, при всех своих стараниях, не смогли убить, на заклание вам.
(XI) На что мне сперва заявить жалобу, судьи, с чего именно мне лучше всего начать, какой и у кого мне просить помощи? Бессмертных ли богов, римский ли народ, вас ли, обладающих в настоящее время высшей властью, умолять мне о покровительстве? (30) Отец убит злодейски; его дом захвачен недругами; имущество отнято, забрано, расхищено; жизнь сына в опасности и ему не раз уже грозили нож и засада. Какого еще преступления недостает в этом длинном ряду злодеяний? Но все же эти преступления они хотят еще увенчать и усугубить другими, неслыханными; они придумывают невероятное обвинение и обвинителей Секста Росция и свидетелей против него нанимают на его же деньги; они предоставляют несчастному следующий выбор: либо подставить свою шею под удар Титу Росцию[35], либо умереть позорнейшей смертью, зашитым в мешок[36]. Они думали, что у него не найдется защитников; да, их не нашлось; но человек, готовый говорить открыто, готовый защищать по совести, — а этого в настоящем деле достаточно, — такой человек нашелся, судьи! (31) Быть может, я, взявшись вести это дело, поступил опрометчиво в своем юношеском увлечении; но раз я уже взялся за него, клянусь Геркулесом, пусть мне со всех сторон угрожают всяческие ужасы, пусть любые опасности нависнут над моей головой, я встречу их лицом к лицу. Я твердо решил не только говорить обо всем том, что, по моему мнению, имеет отношение к делу Секста Росция, но говорить об этом прямо, смело и независимо; ничто не заставит меня, судьи, из чувства страха изменить своему долгу. (32) И в самом деле, кто дошел до такой степени нравственного падения, что смог бы промолчать или остаться равнодушным, видя все это? Отца моего, хотя его имя и не было внесено в списки, вы умертвили; убив его, вы внесли его в проскрипционные списки; меня вы из моего дома выгнали; имуществом моего отца вы завладели. Чего вам еще? Неужели вы и к судейским скамьям пришли с мечами и копьями, чтобы здесь или убить Секста Росция или добиться его осуждения?
(XII, 33) Самым необузданным человеком из тех, какие за последнее время были в нашем государстве, был Гай Фимбрия[37], совершенно обезумевший человек, в чем не сомневается никто, кроме тех, кто и сам безумствует. По его проискам во время похорон Гая Мария был ранен Квинт Сцевола[38], благороднейший и наиболее выдающийся муж среди наших граждан; о его заслугах здесь не место много говорить; впрочем, о них нельзя сказать больше, чем помнит сам римский народ; узнав, что Сцевола, возможно, останется в живых, Фимбрия вызвал его в суд[39]. Когда Фимбрию спрашивали, в чем именно будет он обвинять того, кого даже восхвалить в меру его заслуг не возможно, этот неистовый человек, говорят, ответил: «В том, что он не принял удара меча по самую рукоять»[40]. Римский народ не видел зрелища более возмутительного, чем смерть этого человека, которая была столь важным событием, что смогла поразить и погубить всех граждан; ведь именно теми, кого он хотел спасти путем примирения, он и был убит. (34) Не напоминает ли наше дело всего того, что говорил и совершал Фимбрия? Вы обвиняете Секста Росция? Почему же? Потому, что он выскользнул из ваших рук; потому, что не дал убить себя. Преступление Фимбрии, коль скоро оно было совершено над Сцеволой, вызывает большее негодование; но разве можно примириться и с данным преступлением потому, что его совершает Хрисогон? Ибо — во имя бессмертных богов! — зачем в этом судебном деле нужна защита? Имеется ли какая-нибудь статья обвинения, для опровержения которой от защитника потребовалось бы дарование или от оратора — красноречие? Позвольте, судьи, развернуть перед вами все дело и рассмотреть его, показав его вам воочию. Таким образом вам легче будет понять, что именно составляет суть всего судебного дела, о чем придется говорить мне и чего следует держаться вам.
(XIII, 35) Насколько я могу судить, Сексту Росцию ныне угрожают три обстоятельства: обвинение, предъявленное ему его противниками, их дерзость и их могущество. Выдумать преступление взялся обвинитель Эруций; роль отважных негодяев потребовали для себя Росции; Хрисогон же (тот, кто наиболее могуществен) пускает в ход свое влияние. Обо всем этом мне, как я понимаю, и надо говорить. (36) Но как? Не обо всем одинаковым образом: рассмотреть первое обстоятельство — мой долг, разобрать два другие римский народ поручил вам. Мне лично надо опровергнуть обвинение, вы же должны дать отпор дерзости и при первой же возможности искоренить и уничтожить губительное и нестерпимое могущество подобных людей.
(37) Секста Росция обвиняют в отцеубийстве. О, бессмертные боги! Ужасное, нечестивейшее преступление, равное всем другим злодеяниям, вместе взятым! И в самом деле, если дети, по прекрасному выражению мудрецов, часто нарушают свой долг перед родителями уже одним выражением лица, то какая казнь будет достаточным возмездием тому, кто лишил жизни своего отца, за которого, в случае необходимости, законы божеские и человеческие велят умереть? (38) Обвиняя кого-либо в этом столь тяжком, столь ужасном, столь исключительном злодеянии, совершаемом так редко, что в случаях, когда о нем слыхали, его считали подобным зловещему предзнаменованию, какие же улики, Гай Эруций, по-твоему, должен представить обвинитель? Не правда ли, он должен доказать исключительную преступную дерзость обвиняемого, дикость его нравов и свирепость характера, его порочный и позорный образ жизни, его полную безнравственность и испорченность, влекущие его к гибели? Между тем ты — хотя бы ради того, чтобы бросить упрек Сексту Росцию, — не упомянул ни о чем подобном.
(XIV, 39) Секст Росций убил своего отца. — «Что он за человек? Испорченный юнец, подученный негодяями?» — Да ему за сорок лет. — «Очевидно, испытанный убийца, отчаянный человек, не впервые проливающий чужую кровь?» — Но об этом вы от обвинителя ничего не слыхали. — «Тогда его на это злодеяние, конечно, натолкнули расточительность, огромные долги и неукротимые страсти». По обвинению в расточительности его оправдал Эруций, сказав, что он едва ли был хотя бы на одной пирушке. Долгов у него никогда не было. Что касается страстей, то какие страсти могут быть у человека, который, как заявил сам обвинитель, всегда жил в деревне, занимаясь сельским хозяйством? Ведь такая жизнь весьма далека от страстей и учит сознанию долга. (40) Что же в таком случае ввергло Секста Росция в такое неистовство? «Его отец, — говорит обвинитель, — недолюбливал его». Отец его недолюбливал? По какой причине? Для этого непременно должна была быть основательная, важная и понятная всем причина. Ибо, если трудно поверить, что сын мог лишить отца жизни без очень многих и очень важных причин, то маловероятно, чтобы сын мог навлечь на себя ненависть отца без многих причин, важных и основательных. (41) Итак мы снова должны вернуться назад и спросить, какими же такими тяжкими пороками страдал единственный сын, что отец не взлюбил его. Но всем ясно, что никаких пороков у него не было. Следовательно, безумен был отец, раз он без всякого основания ненавидел того, кого произвел на свет? Да нет же, это был человек самого трезвого ума. Итак, конечно, уже вполне ясно, что, если и отец не был безумен, и сын не был негодяем, то не было основания ни для ненависти со стороны отца, ни для злодеяния со стороны сына.
(XV, 42) «Не знаю, — говорит обвинитель, — какова была причина ненависти; что ненависть существовала, я заключаю из того, что раньше, когда у него было два сына, он того, который впоследствии умер, всегда держал при себе, а этого отослал в свои поместья». Мне при защите честнейшего дела приходится столкнуться теперь с теми же трудностями, какие выпали на долю Эруция при его злостном и вздорном обвинении. Эруций не знал, как ему доказать свое вымышленное обвинение; я же не нахожу способа разбить и опровергнуть такие неосновательные заявления. (43) Что ты говоришь, Эруций? Секст Росций, желая сослать и покарать своего сына, поручил ему вести хозяйство и ведать столькими и столь прекрасными, столь доходными имениями? Что скажешь? Разве отцы семейств, имеющие сыновей, особенно муниципалы из сельских областей, не желают всего более, чтобы их сыновья возможно усерднее заботились о поместьях и прилагали возможно больше труда и стараний к обработке земли? (44) Или он отослал сына для того, чтобы тот жил в деревне и получал там только свое пропитание, но не имел от этого никаких выгод? Ну, а если известно, что мой подзащитный не только вел хозяйство в поместьях, но, при жизни отца, также и пользовался доходами с определенных имений[41], то ты все-таки назовешь такую жизнь ссылкой в деревню и изгнанием? Ты видишь, Эруций, как несостоятельны твои доводы, как они далеки от истины. То, что отцы делают почти всегда, ты порицаешь, как нечто необычное; то, что делается по благоволению, ты, в своем обвинении, считаешь проявлением ненависти; то, что отец предоставил сыну, дабы оказать ему честь, он, по-твоему, сделал с целью наказания. (45) И ты прекрасно понимаешь все это, но у тебя так мало оснований для обвинения, что ты считаешь нужным не только выступать против нас, но также и отвергать установленный порядок вещей, обычаи людей и общепринятые взгляды.
(XVI) Но, скажешь ты, ведь он, имея двух сыновей, одного из них не отпускал от себя, а другому позволял жить в деревне. Прошу тебя, Эруций, не обижаться на то, что я тебе скажу, так как я сделаю это не для осуждения, а с целью напомнить тебе кое о чем. (46) Если на твою долю не выпало счастья знать, кто твой отец[42], так что ты не можешь понять, как отец относится к своим детям, то все же ты от природы, несомненно, не лишен человеческих чувств; к тому же ты — человек образованный и не чуждый даже литературе. Неужели ты думаешь (возьмем пример из комедий), что этот старик у Цецилия[43] любит сына своего Евтиха, живущего в деревне, меньше, чем другого — Херестида (ведь его, если не ошибаюсь[44], так зовут), и что второго он держит при себе в городе, чтобы оказать ему честь, а первого отослал в деревню в наказание? (47) «К чему переходить к этим пустякам?» — скажешь ты. Как будто мне трудно назвать тебе по имени сколько угодно людей — чтобы не ходить далеко за примерами — или из числа членов моей трибы или же из числа моих соседей, которые желают видеть своих сыновей, притом самых любимых, усердными сельскими хозяевами. Но на людей известных ссылаться не следует, так как мы не знаем, хотят ли они быть названными по имени. Кроме того, ни один из них не известен вам лучше, чем этот самый Евтих; наконец, для дела совершенно безразлично, возьму ли я за образец этого молодого человека из комедии или же какого-нибудь жителя области Вей[45]. Ведь поэты, я думаю, создают образы именно для того, чтобы мы, на примерах посторонних людей, видели изображение своих собственных нравов и яркую картину нашей обыденной жизни. (48) А теперь, пожалуйста, обратись к действительности и подумай, какие занятия больше всего нравятся отцам семейств не только в Умбрии и в соседних с ней областях, но также и здесь, в старых муниципиях, и ты, конечно, сразу поймешь, что ты за недостатком улик вменил Сексту Росцию в вину и в преступление то, что было его величайшей заслугой.
(XVII) Но ведь и сыновья поступают так, не только исполняя волю отцов; ведь и я, и каждый из вас, если не ошибаюсь, знаем очень многих людей, которые и сами горячо любят сельское хозяйство, а эту жизнь в деревне, которая, по-твоему, должна считаться позорной и служить основанием для обвинений, находят почетнейшей и приятнейшей. (49) Как, по твоему мнению, относится к сельскому хозяйству сам Секст Росций, присутствующий здесь, и насколько он знает в нем толк? От этих вот родственников его, почтеннейших людей, я слыхал, что ты в своем ремесле обвинителя не искуснее, чем он в своем. Впрочем, по милости Хрисогона, не оставившего ему ни одного имения, ему, пожалуй, придется забыть свое занятие и расстаться со своим усердным трудом. Как это ни тяжело и незаслуженно, все же он перенесет это стойко, судьи, если сможет благодаря вам остаться в живых и сохранить свое доброе имя. Но невыносимо одно — он оказался в таком бедственном положении именно из-за ценности и большого числа своих имений, и как раз то усердие, с каким он их обрабатывал, более всего послужит ему во вред, словно для него недостаточно и того горя, что плодами его трудов пользуются другие, а не он сам; нет, ему вменяют в преступление, что он вообще обрабатывал свои имения.
(XVIII, 50) Ты, Эруций, право, был бы смешон в своей роли обвинителя, родись ты в те времена, когда в консулы избирали прямо от плуга. И в самом деле, раз ты считаешь земледелие унизительным занятием, ты, конечно, признал бы глубоко опозорившимся и утратившим всякое уважение человеком знаменитого Атилия[46], которого посланцы застали бросавшим своей рукой семена в землю. Но предки наши, клянусь Геркулесом, думали совсем иначе — и о нем и о подобных ему мужах[47] — и поэтому государство, вначале незначительное и очень бедное, оставили нам огромным и процветающим. Ибо свои поля они возделывали усердно, а чужих не домогались с алчностью. Этим они, покорив государству земли, города и народы, возвеличили нашу державу и имя римского народа. (51) Привожу эти факты не для того, чтобы сравнивать их с теми, которые мы теперь рассматриваем, но дабы все поняли, что если во времена наших предков выдающиеся мужи и прославленные люди, которые во всякое время должны были бы стоять у кормила государства, все же отдавали сельскому хозяйству некоторую часть своего времени и труда, то следует простить человеку, если он заявит, что он деревенский житель, — раз он всегда безвыездно жил в деревне, — в особенности если он этим более всего мог угодить отцу, и для него самого именно это занятие было наиболее приятным и, по существу, наиболее достойным.
(52) Итак, Эруций, сильнейшая ненависть отца к сыну видна, если не ошибаюсь, из того, что отец позволял ему жить в деревне. Разве есть какое-нибудь другое доказательство? «Как же, — говорит обвинитель, — есть; ведь отец думал лишить сына наследства». Рад слышать; вот теперь ты говоришь нечто, имеющее отношение к делу; ибо те твои доводы, как ты и сам, думается мне, согласишься, несостоятельны и бессмысленны. «На пирах он не бывал вместе с отцом». — Разумеется; ведь он и в свой город приезжал крайне редко. — «Почти никто не приглашал его к себе». — Не удивительно; ибо он не жил в Риме и не мог ответить на приглашение.
(XIX, 53) Но все это, как ты и сам понимаешь, пустяки. Обратимся к тому, о чем мы начали говорить, — к тому доказательству ненависти, надежнее которого не найти. «Отец думал лишить сына наследства». Не стану спрашивать, по какой причине; спрошу только, откуда ты знаешь это; впрочем, тебе следовало назвать и перечислить все причины; ибо непременной обязанностью обвинителя, уверенного в своей правоте, обличающего своего противника в столь тяжком злодеянии, было представить все пороки и проступки сына, которые могли возмутить отца и побудить его заглушить в себе голос природы, вырвать из своего сердца свойственную всем людям родительскую любовь, словом, забыть, что он отец. Все это, думается мне, могло бы произойти только вследствие тяжких проступков сына. (54) Но я, пожалуй, пойду на уступку: я согласен, чтобы ты прошел мимо всего этого; ведь ты своим молчанием уже соглашаешься признать, что ничего этого не было; но желание Секста Росция лишить сына наследства ты, во всяком случае, должен доказать. Какие же приводишь ты доводы, на основании которых мы должны считать, что это было? Ты не можешь сказать ничего; ну, придумай же хоть что-либо сколько-нибудь подходящее, дабы твое поведение не казалось тем, что оно есть в действительности, — явным издевательством над злоключениями этого несчастного человека и над высоким званием этих вот, столь достойных мужей. Секст Росций хотел лишить сына наследства. По какой причине? — «Не знаю». — Лишил он его наследства? — «Нет». — Кто ему помешал? — «Он думал сделать это». — Думал? Кому он говорил об этом? — «Никому не говорил». Что это, как не происходящее в корыстных целях и ради удовлетворения прихотей злоупотребление судом, законами и вашим достоинством — обвинять таким образом и ставить в вину то, чего не только не можешь, но даже и не пытаешься доказать? (55) Каждый из нас знает, что между тобой, Эруций, и Секстом Росцием личной неприязни нет; все понимают, по какой причине ты выступаешь как его недруг, и знают, что тебя соблазнило его богатство. Что же следует из этого? Как ни велико твое корыстолюбие, тебе все-таки надо было бы сохранять некоторое уважение к мнению этих вот людей и к Реммиеву закону[48].
(XX) Что обвинителей в государстве много, полезно: чувство страха должно сдерживать преступную отвагу[49]; но это полезно лишь при условии, что обвинители не издеваются над нами. Допустим, что есть человек, не виновный ни в чем; однако, хотя вины на нем нет, подозрения против него все же имеются; как это ни печально для него, но все же тому, кто его обвинит, я мог бы простить это. Ибо, раз он может сообщить нечто подозрительное, дающее какой-то повод к обвинению, он не издевается над нами открыто и не клевещет сознательно. (56) Поэтому все мы согласны с тем, чтобы обвинителей было возможно больше, так как невиновный, если он и обвинен, может быть оправдан, виновный же, если он не был обвинен, не может быть осужден; но лучше, чтобы был оправдан невиновный, чем чтобы виноватый так и не был привлечен к суду. На кормление гусей обществом сдается подряд, и в Капитолии содержат собак для того, чтобы они подавали знак в случае появления воров[50]. Собаки, правда, не могут отличить воров от честных людей, но все же дают знать, если кто-либо входит в Капитолий ночью. И так как это вызывает подозрение, то они — хотя это только животные, — залаяв по ошибке, своей бдительностью приносят пользу. Но если собаки станут лаять и днем, когда люди придут поклониться богам, им, мне думается, перебьют лапы за то, что они проявляют бдительность и тогда, когда для подозрений оснований нет. (57) Вполне сходно с этим и положение обвинителей: одни из вас — гуси, которые только гогочут, но не могут повредить; другие — собаки, которые могут и лаять и кусать. Что вас подкармливают, мы видим; но вы должны нападать главным образом на тех, кто этого заслуживает. Это народу более всего по сердцу. Затем, если захотите, можете лаять и по подозрению — тогда, когда можно предположить, что кто-нибудь совершил преступление; это также допустимо. Но если вы обвините человека в отцеубийстве и не сможете сказать, почему и как убил он отца, и будете лаять попусту, без всякого подозрения, то ног вам, правда, не перебьют, но, если я хорошо знаю наших судей, они с такой силой заклеймят вам лоб той хорошо известной буквой (вы относитесь к ней с такой нелюбовью, что вам ненавистно даже слово «календы»[51]), что впредь вы никого не сможете обвинять, разве только свою собственную злосчастную судьбу.
(XXI, 58) Что же ты, доблестный обвинитель, дал мне такого, от чего я должен был бы защищаться, какое подозрение хотел ты внушить судьям? — «Он опасался, что будет лишен наследства». — Пусть так; но ведь никто не говорит, почему ему следовало опасаться этого. — «Его отец намеревался сделать это». — Докажи. Никаких доказательств нет: неизвестно, ни с кем Секст Росций обсуждал это, ни кого он об этом известил, ни откуда у вас могло явиться такое подозрение. Обвиняя таким образом, не говоришь ли ты, Эруций, во всеуслышание: «Что́ я получил, я знаю; что́ мне говорить, не знаю; я основывался на одном — на утверждении Хрисогона, что обвиняемому не найти защитника и что о покупке имущества и об этом “товариществе” в наше время никто не осмелится и заикнуться»? Эта ложная надежда и толкнула тебя на путь обмана. Ты, клянусь Геркулесом, не вымолвил бы и слова, если бы думал, что кто-нибудь ответит тебе.
(59) Стоило обратить внимание на то, как небрежно он держал себя, выступая как обвинитель, — если только вы, судьи, заметили это. Увидев, кто сидит на этих вот скамьях, он, вероятно, спросил, будет ли тот или иной из вас защищать подсудимого; насчет меня у него не явилось и подозрения, так как я еще не вел ни одного уголовного дела. Не найдя ни одного из тех, кто может и кто имеет обыкновение выступать, он стал проявлять крайнюю развязность, садясь, когда ему вздумается, затем расхаживая взад и вперед; иногда он даже подзывал к себе раба, вероятно, для того, чтобы заказать ему обед; словом, он вел себя так, точно был совершенно один, не считаясь ни с вами, судьями, ни с присутствующими. (XXII, 60) Наконец, он закончил речь и сел на свое место; встал я. Он, казалось, с облегчением вздохнул, увидев, что говорю я, а не кто-либо другой. Я начал говорить. Как я заметил, судьи, он шутил и занимался посторонними делами, пока я не назвал Хрисогона; стоило мне произнести это имя, как наш приятель тотчас же выпрямился и, видимо, изумился. Я понял, что́ именно поразило его. Во второй и в третий раз назвал я Хрисогона. После этого взад и вперед забегали люди, вероятно, чтобы сообщить Хрисогону, что среди граждан есть человек, который осмеливается говорить наперекор его воле; что дело принимает неожиданный оборот; что стала известной покупка имущества; что жестоким нападкам подвергается все это «товарищество», а с его, Хрисогона, влиянием и могуществом не считаются; что судьи слушают весьма внимательно, а народ возмущен. (61) Так как ты в этом ошибся, Эруций, так как ты видишь, что положение круто изменилось, что дело Секста Росция ведется если и не искусно, то, во всяком случае, в открытую, и так как ты понимаешь, что человека, которого ты считал брошенным на произвол судьбы, защищают; что те, на чье предательство ты надеялся, оказались, как видишь, настоящими людьми, то покажи нам, наконец, снова свою прежнюю хитрость и проницательность, признайся: ты пришел сюда в надежде, что здесь совершится разбой, а не правосудие.
Отцеубийство — вот о чем идет речь в данном суде; но никаких оснований, почему сын мог убить отца, обвинитель не привел. (62) Вопрос, который главным образом и прежде всего ставят даже при наличии ничтожного ущерба и при незначительных проступках, совершаемых довольно часто и чуть ли не каждый день, а именно — какова же была причина злодеяния, этот вопрос Эруций в деле об отцеубийстве не считает нужным задать, а между тем, когда дело идет о таком злодеянии, судьи, то даже при очевидном совпадении многих причин, согласующихся одна с другой, все же ничего не принимают на веру, не делают неосновательных предположений, не слушают ненадежных свидетелей, не выносят приговора, убежденные дарованием обвинителя. Необходимо доказать как множество ранее совершенных злодеяний и развратнейший образ жизни обвиняемого, так и его исключительную дерзость и не только дерзость, но и крайнее неистовство и безумие. И даже при наличии всего этого все-таки должны быть явные следы преступления: где, как, при чьем посредстве и когда именно злодеяние было совершено. Если этих данных немного и они не слишком явны, то мы, конечно, не можем поверить, что совершено такое преступное, такое ужасное, такое нечестивое деяние. (63) Ибо велика сила человеческого чувства, много значит кровное родство; против подобных подозрений вопиет сама природа; выродком, чудовищем в человеческом образе, несомненно, является тот, кто настолько превзошел диких зверей своей свирепостью, что тех людей, благодаря которым сам он увидел свет, он злодейски лишил возможности смотреть на этот сладчайший для нас свет солнца, между тем как даже дикие звери связаны между собой узами общего рождения и даже самой природой[52]. (XXIII, 64) Не так давно некий Тит Целий из Таррацины[53], человек достаточно известный, отправившись после ужина спать в одну комнату со своими двумя молодыми сыновьями, утром был, говорят, найден убитым. Так как не было улик ни против рабов, ни против свободных людей, то, хотя его два сына (взрослые, как я указал), спавшие тут же, утверждали, что ничего не слышали, их все же обвинили в отцеубийстве. Не правда ли, это было более чем подозрительно? Чтобы ни один из них не услышал? Чтобы кто-нибудь решил прокрасться в эту комнату именно тогда, когда там же находилось двое взрослых сыновей, которые легко могли услышать шаги и защитить отца? Итак, подозрение не могло пасть ни на кого другого. (65) Но все-таки, после того как судьям было достоверно доказано, что сыновей нашли спящими при открытых дверях, юноши были по суду оправданы и с них было снято всякое подозрение. Ибо никто не мог поверить, чтобы нашелся человек, который, поправ все божеские и человеческие законы нечестивейшим злодеянием, смог бы тотчас же заснуть, так как, люди, совершившие столь тяжкое преступление, не могут, не говорю уже, беззаботно спать, но даже дышать, не испытывая страха.
(XXIV, 66) Разве вы не знаете, что тех людей, которые, по рассказам поэтов, мстя за отца, убили мать, — несмотря на то, что они, по преданию, совершили это по велению бессмертных богов и оракулов — все же преследуют фурии и не позволяют им найти себе пристанище где бы то ни было — за то, что они не могли выполнить свой сыновний долг, не совершив преступления? Вот как обстоит дело, судьи: велика власть, крепки узы, велика святость отцовской и материнской крови; даже единое пятно этой крови не только не может быть смыто, но проникает до самого сердца, вызывая сильнейшее неистовство и безумие[54]. (67) Но не верьте тому, что вы часто видите в трагедиях, — будто тех, кто совершил нечестивый поступок и злодеяние, преследуют фурии, устрашая их своими горящими факелами. Всего мучительнее своя собственная вина и свой собственный страх; свое собственное злодеяние лишает человека покоя и ввергает его в безумие; свое собственное безумие и угрызения совести наводят на него ужас; они-то и есть фурии, неразлучные, неотступные спутницы нечестивцев, денно и нощно карающие извергов-сыновей за их родителей! (68) Но сама тяжесть злодеяния и делает его невероятным, если убийство не доказано вполне, если не установлено, что обвиняемый позорно провел свою молодость, что его жизнь запятнана всяческими гнусностями, что он сорил деньгами во вред своей чести и доброму имени, был необуздан в своей дерзости, а его безрассудство было близко к помешательству. К этому всему должна присоединиться ненависть к нему со стороны отца, страх перед наказанием, дружба с дурными людьми, соучастие рабов, выбор удобного времени и подходящего места. Я готов сказать: судьи должны увидеть руки, обагренные кровью отца, чтобы поверить, что произошло такое тяжкое, такое зверское, такое ужасное злодейство. (69) Но зато, чем менее оно вероятно, если оно не доказано, тем строже, если оно установлено, должна быть и кара за него.
(XXV) И вот, если на основании многого можно заключить, что наши предки превзошли другие народы не только своей военной славой, но и разумом и мудростью, то более всего свидетельствует об этом единственная в своем роде казнь, придуманная ими для нечестивцев. Насколько они дальновидностью своей превзошли тех, которые, как говорят, были самыми мудрыми среди всех народов, судите сами. (70) По преданию, мудрейшим государством были Афины, пока властвовали над другими городскими общинами, а в этом городе мудрейшим, говорят, был Солон[55] — тот, который составил законы, действующие в Афинах и поныне. Когда его спросили, почему он не установил казни для отцеубийц, он ответил, что, по его мнению, на такое дело не решится никто. Говорят, он поступил мудро, не назначив кары за деяние, которое до того времени никем не было совершено, — дабы не казалось, что он не столько его запрещает, сколько на него наталкивает. Насколько мудрее были наши предки! Понимая, что на свете нет такой святыни, на которую рано или поздно не посягнула бы человеческая порочность, они придумали для отцеубийц единственную в своем роде казнь, чтобы страхом перед тяжестью наказания удержать от злодеяния тех, кого сама природа не сможет сохранить верными их долгу. Они повелели зашивать отцеубийц живыми в мешок и бросать их в реку.
(XXVI, 71) О, сколь редкостная мудрость, судьи! Не правда ли, они устраняли и вырывали этого человека из всей природы, разом отнимая у него небо, свет солнца, воду и землю, дабы он, убивший того, кто его породил, был лишен всего того, от чего было порождено все сущее. Они не хотели отдавать его тело на растерзание диким зверям, чтобы эти твари, прикоснувшись к такому страшному злодею, не стали еще более лютыми. Они не хотели бросать его в реку нагим, чтобы он, унесенный течением в море, не замарал его вод, которые, как считают, очищают все то, что было осквернено[56]. Словом, они не оставили ему даже малейшей частицы из всего того, что является самым общедоступным и малоценным. (72) И в самом деле, что столь доступно людям, как воздух — живым, как земля — умершим, как море — плывущим, как берег — тем, кто выброшен волнами? Отцеубийцы, пока могут, живут, обходясь без дуновения с небес; они умирают, и их кости не соприкасаются с землей; их тела носятся по волнам, и вода не обмывает их; наконец, их выбрасывает на берег, но даже на прибрежных скалах они не находят себе покоя после смерти[57].
И ты, Эруций, надеешься доказать таким мужам, как наши судьи, справедливость обвинения в злодеянии, караемом столь необычным наказанием, не сообщив даже о причине этого злодеяния? Если бы ты обвинял Секста Росция перед скупщиком его имущества и если бы на этом суде председательствовал Хрисогон, то даже и тогда тебе следовало бы явиться на суд, подготовившись более тщательно. (73) Разве ты не видишь, какое дело слушается в суде и кто судьи? Слушается дело об отцеубийстве, а это преступление не может быть совершено без многих побудительных причин; судьи же — мудрейшие люди, которые понимают, что без причины никто не совершит даже ничтожного проступка.
(XXVII) Хорошо, указать основания ты не можешь. Хотя я уже теперь должен был бы считаться победителем, я все же готов отказаться от своего права и уступку, какой я не сделал бы в другом деле, сделать тебе в этом, будучи уверен в невиновности Секста Росция. Я не спрашиваю тебя, почему он убил отца; я спрашиваю, каким образом он его убил. Итак, я спрашиваю тебя, Эруций: каким образом? При этом я, хотя и моя очередь говорить, предоставляю тебе возможность и отвечать, и прерывать меня, и даже, если захочешь, меня спрашивать[58].
(74) Каким образом он убил отца? Сам ли он нанес ему удар или же поручил другим совершить это убийство? Если ты утверждаешь, что сам, то его не было в Риме; если ты говоришь, что он сделал это при посредстве других людей, то я спрашиваю, при чьем именно: рабов ли или же свободных людей? Если при посредстве свободных, то при чьем же? При посредстве ли земляков-америйцев или же здешних наемных убийц, жителей Рима? Если это были жители Америи, то кто они такие? Почему их не назвать по имени? Если это были жители Рима, то откуда Росций знал их, когда он в течение многих лет в Рим не приезжал и больше трех дней в нем никогда не проводил? Где он встретился с ними? Как вступил в переговоры? Как убедил их? — «Он заплатил им». — Кому заплатил? Через кого? Из каких средств и сколько? Не по этим ли следам обычно добираются до корней злодеяния? В то же время постарайся вспомнить, какими красками ты расписал образ жизни обвиняемого. Послушать тебя, он был дикого и грубого нрава, никогда ни с кем не разговаривал, никогда не жил в своем городе. (75) Здесь я оставляю в стороне то, что могло бы служить убедительнейшим доказательством его невиновности: в деревне, в простом быту, при суровой жизни, лишенной развлечений, злодеяния подобного рода обычно не случаются. Как не на всякой почве можно найти любой злак и любое дерево, так не всякое преступление может быть порождено любым образом жизни. В городе рождается роскошь; роскошь неминуемо приводит к алчности; алчность переходит в преступную отвагу, а из нее рождаются всяческие пороки и злодеяния. Напротив, деревенская жизнь, которую ты называешь грубой, учит бережливости, рачительности и справедливости.
(XXVIII, 76) Но это я оставляю в стороне; я спрашиваю только: при чьем посредстве человек, который, как ты утверждаешь, никогда с людьми не общался, мог в такой тайне, да еще находясь в отсутствии, совершить такое тяжкое преступление? Многие обвинения бывают ложными, судьи, но их все же подкрепляют такими доводами, что подозрение может возникнуть. Если в этом деле будет найдено хоть какое-нибудь основание для подозрения, то я готов допустить наличие вины. Секст Росций был убит в Риме, когда его сын находился в окрестностях Америи. Он, видимо, послал письмо какому-нибудь наемному убийце, он, который никого не знал в Риме. «Он вызвал его к себе». — Кого и когда? — «Он отправил гонца». — Кого и к кому? — «Он прельстил кого-нибудь платой, подействовал своим влиянием, посулами, обещаниями»; Даже и выдумать ничего подобного не удается — и все-таки слушается дело об отцеубийстве.
(77) Остается предположить, что он совершил отцеубийство при посредстве рабов. О, бессмертные боги! Какое несчастье, какое горе! Ведь именно того, что при таком обвинении обычно приносит спасение невиновным, Сексту Росцию сделать нельзя: он не может дать обязательство представить в суд, для допроса, своих рабов[59]. Ведь вы, обвинители Секста Росция, владеете всеми его рабами. Даже и одного раба, для ежедневного прислуживания за столом, не оставили Сексту Росцию из всей его многочисленной челяди! Я обращаюсь теперь к тебе, Публий Сципион, к тебе, Марк Метелл! При вашем заступничестве, при вашем посредничестве Секст Росций несколько раз требовал от своих противников, чтобы они представили двух рабов, принадлежавших его отцу[60]. Вы помните, что Тит Росций ответил отказом? Что же? Где эти рабы? Они сопровождают Хрисогона, судьи! Они у него в почете и в цене. Даже теперь я требую их допроса, а мой подзащитный вас об этом просит и умоляет. (78) Что же вы делаете? Почему вы отказываете нам? Подумайте, судьи, можете ли вы даже и теперь сомневаться в том, кто именно убил Секста Росция: тот ли, кто из-за его смерти стал нищим, кому грозят опасности, кому не дают возможности даже произвести следствие о смерти отца, или же те, кто уклоняется от следствия, владеет его имуществом и живет убийством и плодами убийств? Все в этом деле, судьи, вызывает печаль и негодование, но самое жестокое и несправедливое, о чем надо сказать, — это то, что сыну не позволяют допросить рабов отца о смерти отца! Неужели его власть над своими рабами не будет продлена до тех пор, пока они не подвергнутся допросу о смерти его отца? Но к этому я еще вернусь и притом вскоре; ибо это всецело касается тех Росциев, о чьей преступной дерзости я обещал говорить, после того как опровергну обвинения, предъявленные Эруцием.
(XXIX, 79) Теперь перехожу к тебе, Эруций! Ты должен согласиться со мной, что, если мой подзащитный замешан в этом злодеянии, то он совершил его либо сам, что́ ты отрицаешь, либо при посредстве каких-то свободных людей или рабов. При посредстве свободных людей? Но ты не можешь указать, ни как он мог с ними встретиться, ни как он мог склонить их к убийству: ни где, ни через кого, ни какими посулами, ни какой платой. Напротив, я доказываю, что Секст Росций не только не делал ничего подобного, но даже и не мог сделать, так как не бывал в Риме в течение многих лет и никогда, без важной причины, не выезжал из своих имений. Тебе, по-видимому, остается назвать рабов; это будет как бы гавань, где ты сможешь укрыться, после того как все твои другие подозрения потерпят крушение; но здесь ты налетишь на такую скалу, что не только разобьется об нее твое обвинение, но и все подозрения, как ты сам поймешь, падут на вас самих.
(80) Итак, какое же, скажите мне, прибежище нашел для себя обвинитель за недостатком улик? «Время было такое, — говорит он, — людей походя убивали безнаказанно; поэтому, так как в убийцах недостатка не было, ты и мог совершить преступление без всякого труда». Мне иногда кажется, Эруций, что ты за одну и ту же плату хочешь достигнуть двух целей[61]: запугать нас судом и в то же время именно тех, от кого ты получил плату, обвинить. Что ты говоришь? Убивали походя? Чьей же рукой и по чьему приказанию? Разве ты не помнишь, что тебя сюда привели именно скупщики конфискованного имущества? Что из этого следует? Разве мы не знаем, что в те времена, в большинстве случаев, одни и те же люди и отрубали головы, и дробили имения?[62] (81) Словом, те самые люди, которые днем и ночью расхаживали с оружием в руках, никогда не покидали Рима, все время грабили и проливали кровь, вменят в вину Сексту Росцию жестокость и несправедливость, свойственные тому времени, а присутствие множества убийц, чьими предводителями и главарями были они сами, будут считать основанием для того, чтобы его обвинить? Ведь его тогда не только не было в Риме; он вообще не знал, что происходит в Риме; он безвыездно жил в деревне, как ты сам признаешь.
(82) Я боюсь наскучить вам, судьи, или вам, быть может, покажется, что я не доверяю вашему уму, если стану еще более рассуждать о столь очевидных вещах. Все обвинения, предъявленные Эруцием, думается мне, опровергнуты. Ведь вы, надеюсь, не ждете, что я стану опровергать новые обвинения в казнокрадстве[63] и другие, подобные им лживые выдумки, о которых мы до сего времени и не слыхали. Мне даже показалось, будто он читал отрывок из речи[64], составленной против другого обвиняемого; это не имело никакого отношения ни к обвинению в отцеубийстве, ни к самому подсудимому; коль скоро эти обвинения сводились к одним словам, их достаточно и опровергнуть одними словами; если же он оставляет кое-что до допроса свидетелей, то и тогда, как и во время обсуждения самого дела, он найдет нас более подготовленными, чем ожидал.
(XXX, 83) Теперь перехожу к той части своей речи, к которой меня влечет не мое личное желание, а чувство долга. Ибо, если бы мне хотелось стать обвинителем, я предпочел бы обвинять тех, благодаря кому я мог бы прославиться[65]; но я решил не делать этого, пока буду волен выбирать. Ибо самый достойный человек, по моему мнению, — тот, кто благодаря своей собственной доблести занял более высокое место, а не тот, кто преуспевает ценой чужих несчастий и бед. Пора нам перестать рассматривать пустые обвинения; поищем злодеяние там, где оно действительно кроется и где его можно найти. Тогда ты, Эруций, поймешь, как много надо собрать подозрительных фактов, чтобы предъявить обоснованное обвинение, хотя я не выскажу всего и только слегка коснусь каждого отдельного факта. Я не сделал бы и этого, не будь это необходимо, а доказательством того, что я поступаю так поневоле, будет именно то, что я буду говорить не больше, чем этого потребует благо моего подзащитного и мое чувство долга.
(84) Ты не смог найти причину убийства, когда дело касалось Секста Росция; зато для убийства его Титом Росцием я причины нахожу. Да, тебя имею я в виду, Тит Росций, так как ты сидишь вон там, на скамьях обвинителей, и открыто объявляешь себя нашим противником. О Капитоне речь будет впереди, если он выступит как свидетель, к чему он, как я слыхал, готовится; тогда он узнает и о других своих лаврах; он даже не подозревает, что я слыхал о них. Знаменитый Луций Кассий, которого римский народ считал справедливейшим и мудрейшим судьей, обычно спрашивал во время суда: «Кому это выгодно?»[66] Такова жизнь человека: никто не пытается совершить злодеяние без расчета и без пользы для себя. (85) Его, как председателя суда и как судьи, избегали и страшились все те, кому грозил уголовный суд, так как он, при всей своей любви к правде, все же казался от природы не столько склонным к состраданию, сколько сторонником строгости. Я же — хотя во главе этого постоянного суда стоит муж, непримиримо относящийся к преступным и милосерднейший к невинным людям, — все же легко согласился бы защищать Секста Росция и в суде под председательством того самого суровейшего судьи и перед Кассиевыми судьями, чье одно имя и поныне внушает ужас людям, привлекаемым к ответственности.
(XXXI, 86) Ведь они, видя, что противная сторона владеет огромным имуществом, а мой подзащитный находится в крайней нищете, право, не стали бы спрашивать в этом судебном деле, кому это было выгодно, но ввиду очевидности этого заподозрили бы и обвинили тех, в чьих руках добыча, а не того, кто лишился всего. А что, если к тому же ты ранее был беден, был алчен, был преступно дерзок, был злейшим недругом убитого? Нужно ли еще доискиваться причины, побудившей тебя совершить такое злодеяние? Да возможно ли отрицать что-либо из упомянутого мной? Бедность его такова, что он не может скрыть ее и она тем более явна, чем больше он ее прячет. (87) Алчность свою ты проявляешь открыто, раз ты вошел с совершенно чужим тебе человеком в «товарищество» по разделу имущества своего земляка и родича. Какова твоя дерзость, все могли понять уже из одного того, — о другом я уже и не говорю, — что из всего «товарищества», то есть из числа стольких убийц, нашелся один ты, чтобы занять место на скамье обвинителей, причем ты не только не прячешь своего лица, но даже выставляешь его напоказ. Что ты с Секстом Росцием враждовал и что у вас были большие споры из-за имущества, ты должен признать.
(88) И мы, судьи, еще будем сомневаться, кто из них двоих убил Секста Росция: тот ли, кому, с его смертью, достались богатства, или же тот, кто впал в нищету; тот ли, кто до убийства был неимущим, или же тот, кто после него обеднел; тот ли, кто, горя алчностью, как враг набрасывается на своих родственников, или же тот, кто по своему образу жизни никогда не знал стяжания и пользовался только тем доходом, какой ему доставлял его труд; тот ли, кто является самым наглым из всех скупщиков конфискованного имущества, или же тот, кто по своей непривычке к форуму и суду страшится, уже не говорю, этих скамей, нет, даже пребывания в Риме; наконец, судьи, — и это, по-моему, самое важное — недруг ли Секста Росция или же его сын?
(XXXII, 89) Если бы ты, Эруций, располагал столькими и столь важными уликами против обвиняемого, то как долго говорил бы ты, как кичился бы ими! Тебе, клянусь Геркулесом, скорее не хватило бы времени, чем слов. В самом деле, по отдельным вопросам данных так много, что ты мог бы обсуждать их в течение ряда дней. Да и я вовсе не лишен этой способности; ибо я не настолько преуменьшаю свое умение, — хотя и не преувеличиваю его, — чтобы думать, будто ты умеешь говорить более пространно, чем я. Но я, — быть может, вследствие того, что защитников много, — не выделяюсь из их толпы, между тем как тебя «битва под Каннами» сделала достаточно видным обвинителем. Да, много убитых пришлось нам увидеть, но не у Тразименских, а у Сервилиевых вод[67]. (90)
Фригийский меч кому не наносил там ран?[68]Нет необходимости упоминать обо всех Курциях, Мариях, наконец, Меммиях, которых уже сам их возраст освобождал от участия в боях, и, в последнюю очередь, о самом старце Приаме — об Антистии, которому не только его лета, но и законы запрещали сражаться[69]. Далее, были сотни обвинителей (их никто не называет по имени ввиду их неизвестности), которые выступали обвинителями в суде по делам об убийстве и отравлении. По мне, пусть бы все они остались живы; ибо нет ничего дурного в том, чтобы было возможно больше собак там, где надо следить за очень многими людьми и многое охранять. (91) Однако бывает, что в вихре и буре войны совершается многое без ведома императоров[70]. В то время как тот, кто управлял всем государством, был занят другими делами, находились люди, врачевавшие собственные раны; они бесчинствовали во мраке и все ниспровергали, как будто на государство спустилась вечная ночь; удивляюсь, как они, дабы от правосудия не осталось и следа, не сожгли и самих скамей; ведь они уничтожили и обвинителей и судей. К счастью, они вели такой образ жизни, что истребить всех свидетелей они, при всем своем желании, не смогли бы: пока будет существовать человеческий род, не будет недостатка в людях, готовых обвинять их; пока будет существовать государство, будет совершаться суд. Но, как я уже заметил, Эруций, если бы он располагал уликами, о каких я упоминал, мог бы говорить об этом без конца и я мог бы сделать это же самое, судьи! Но я, как уже говорил, намерен вкратце упомянуть об этом и только слегка коснуться каждой статьи, дабы все поняли, что я не обвиняю по своему побуждению, а защищаю в силу своего долга.
(XXXIII, 92) Итак, как я вижу, было очень много причин, толкавших Тита Росция на злодеяние. Посмотрим теперь, была ли у него возможность совершить его. Где был убит Секст Росций? — «В Риме». — Ну, а ты, Тит Росций, где был тогда? — «В Риме, но что же из того? Там были многие и помимо меня». Словно теперь речь идет о том, кто из этого множества людей был убийцей, а не спрашивается, что́ более правдоподобно: кем был убит человек, убитый в Риме, — тем ли, кто в те времена безвыездно жил в Риме, или же тем, кто в течение многих лет вообще не приезжал в Рим? (93) А теперь рассмотрим и другие возможности совершить преступление. Тогда было множество убийц, о чем говорил Эруций, и людей убивали безнаказанно. Что же это были за убийцы? Если не ошибаюсь, это были либо те, кто скупал имущество, либо те, кого эти скупщики нанимали для убийства. Если ты относишь к ним охотников до чужого добра, то ты как раз из их числа; ведь ты разбогател за наш счет; если же тех, кого люди, выражающиеся более мягко, называют мастерами наносить удар, то выясни, под чьим покровительством они находятся и чьи они клиенты. Поверь мне, ты найдешь там кое-кого из членов своего «товарищества»[71]. И как бы ты ни возражал мне, сопоставь это с моими доводами в защиту обвиняемого; тогда легче всего будет сравнить дело Секста Росция с твоим. (94) Ты скажешь: «Что из того, что я безвыездно жил в Риме?» Отвечу: «А я там вовсе не бывал». — «Признаю́ себя скупщиком имущества, но ведь таких много». — «А я, по твоим собственным словам, земледелец и деревенский житель». — «Из того, что я вращался в шайке убийц вовсе еще не следует, что я сам — убийца». — «А я, который даже не знаком ни с одним убийцей, и подавно далек от такого преступления». Можно привести много доказательств в пользу того, что у тебя была полная возможность совершить это злодеяние; опускаю их не только потому, что не очень охотно обвиняю тебя, а скорее потому, что, если бы я захотел напомнить о многих убийствах, совершенных тогда же и точно таким же образом, как и убийство Секста Росция, то речь моя могла бы затронуть слишком многих.
(XXXIV, 95) Рассмотрим теперь — также в общих чертах — твое поведение, Тит Росций, после смерти Секста Росция. Все настолько очевидно и ясно, что я, клянусь богом верности[72], судьи, говорю об этом неохотно. Ибо, каким бы человеком ты ни был, Тит Росций, пожалуй, покажется, что я, стремясь спасти Секста Росция, тебя совершенно не щажу. Но я, даже опасаясь вызвать это впечатление и, желая пощадить тебя хотя бы отчасти, насколько смогу сделать это, не нарушая своего долга, все же снова меняю свое намерение, так как вспоминаю твою наглость. Когда твои другие сообщники сбежали и скрылись, чтобы казалось, будто этот суд происходит по делу не о совершенном ими грабеже, а о злодеянии Секста Росция, не ты ли выпросил для себя эту роль — выступить в суде и сидеть рядом с обвинителем? Этим ты добился только одного: теперь все убеждены в твоей дерзости и бесстыдстве. (96) Кто первым принес в Америю весть об убийстве Секста Росция? Маллий Главция, которого я уже назвал ранее, — твой клиент и приятель. Почему же ему надо было известить именно тебя о том, что менее всего должно было тебя касаться, если только ты уже заранее не замыслил убийства Секста Росция и захвата его имущества и если ты ни с кем не сговорился — ни насчет злодеяния, ни насчет награды за него? — «Маллий принес эту весть по своему собственному желанию». — Скажи на милость, какое дело было ему до этого? Или он, приехав в Америю не по этому поводу, случайно первым привез известие о том, о чем слыхал в Риме? Зачем он приезжал в Америю? — «Я не умею, — говоришь ты, — угадывать чужие мысли». Но я сделаю так, что угадывать не понадобится. Из каких же соображений он прежде всего известил Тита Росция Капитона? В Америи ведь был дом самого Секста Росция, жили его жена и дети[73], множество близких и родичей с которыми он был в наилучших отношениях. Из каких же соображений твой клиент, злодеяния твоего вестник, известил об этом именно Тита Росция Капитона?
(97) Секст Росций был убит при возвращении с обеда; еще не рассвело, как в Америи уже знали об этом. Чем объяснить эту невероятно скорую езду, эту необычайную поспешность и торопливость? Не спрашиваю, кто нанес удар Сексту Росцию; можешь не бояться, Главция! Я тебя не обыскиваю, чтобы узнать, нет ли у тебя случайно оружия, и тебя не допрашиваю; я полагаю, что это не мое дело; так как я вижу, по чьему умыслу он был убит, то, чьей рукой ему был нанесен удар, меня не заботит. Я ссылаюсь лишь на те улики, которые мне раскрывают твое явное преступление, а также и на несомненные факты. Где и от кого услыхал Главция об убийстве? Как мог он так быстро узнать о нем? Допустим, он услыхал о нем тотчас же? Что заставило его проделать в одну ночь такой длинный путь? Какая крайняя необходимость принудила его — даже если он ездил в Америю по своему собственному желанию — в такой поздний час выехать из Рима и не спать всю ночь напролет?
(XXXV, 98) Нужно ли, располагая столь очевидными уликами, еще искать доказательств или прибегать к догадкам? Не кажется ли вам, судьи, что вы, слыша об этом, видите все воочию? Не видите ли вы перед собой несчастного, возвращающегося с обеда и не предвидящего гибели, ожидающей его; не видите ли вы засады, устроенной ему, и внезапного нападения? Не появляется ли перед вашими глазами Главция с окровавленными руками, не присутствует ли при этом сам Тит Росций? Не своими ли руками усаживает он на повозку этого Автомедонта[74], вестника его жесточайшего злодейства и нечестивой победы? Не просит ли он его не спать эту ночь, потрудиться из уважения к нему и возможно скорее известить Капитона? (99) По какой причине он хотел, чтобы именно Капитон узнал об этом первым? Не знаю, но вижу одно — Капитон участвовал в дележе имущества Секста Росция: из его тринадцати имений Капитон, вижу я, владеет тремя наилучшими. (100) Кроме того, я слыхал, что это не первое подозрение, падающее на Капитона, что он заслужил много позорных для него пальмовых ветвей, но эта, полученная им в Риме, даже украшена лентами[75]; что нет ни одного способа убийства, которым бы он не умертвил нескольких человек: многих он лишил жизни ножом, многих — ядом; я даже могу назвать вам человека, которого он, вопреки обычаю предков, сбросил с моста в Тибр, хотя ему еще не было шестидесяти лет[76]. Обо всем этом он, если выступит или, вернее, когда выступит как свидетель (ибо я знаю, что он выступит), услышит. (101) Пусть он только подойдет, пусть развернет свой свиток, который, как я могу доказать, для него составил Эруций; ведь он, говорят, запугивал им Секста Росция и угрожал ему, что скажет все это в своем свидетельском показании. Ну, и достойный свидетель, судьи! О, вожделенная строгость взглядов! О, честная жизнь, до такой степени честная, что вы, дав присягу, будете охотно голосовать в полном соответствии с его свидетельскими показаниями! Мы, конечно, не убедились бы с такой очевидностью в злодеяниях этих людей, если бы их самих не ослепляли их жадность, алчность и дерзость.
(XXXVI, 102) Один из них[77] тотчас же после убийства послал в Америю крылатого вестника к своему сообщнику, вернее, учителю, так что он — даже если бы все пожелали скрыть, что они знают, кто именно совершил злодеяние, — все же сам открыто выставляет свое преступление всем напоказ. Другой же[78] — если позволят бессмертные боги! — даже намерен дать свидетельские показания против Секста Росция; как будто действительно теперь речь идет о доверии к его словам, а не о возмездии за его деяние. Недаром предки наши установили, что даже в самых незначительных судебных делах люди, занимающие самое высокое положение, не должны выступать свидетелями, если дело касается их самих. (103) Публий Африканский[79], чье прозвание ясно говорит о покорении им третьей части мира, и тот не стал бы выступать как свидетель, если бы дело касалось его самого; а ведь о таком муже я не решаюсь сказать: «Если бы он выступил, ему не поверили бы». Посмотрите теперь, насколько все изменилось к худшему, когда слушается дело об имуществе и об убийстве, то свидетелем намерен выступить человек, являющийся скупщиком конфискованного имущества и убийцей, покупатель и владелец того самого имущества, о котором идет речь, подстроивший убийство человека, чья смерть является предметом данного судебного дела.
(104) Ну, что? Ты, честнейший муж, хочешь что-то сказать? Послушайся меня: смотри, как бы ты себе не повредил сам; ведь разбирается дело, очень важное и для тебя. Много совершил ты злодеяний, много наглых, много бесчестных поступков, но одну величайшую глупость, — конечно, самостоятельно, а не по совету Эруция: тебе вовсе не следовало садиться на то место, где сидишь; ведь никому не нужен ни немой обвинитель, ни свидетель, встающий со скамей обвинения. К тому же без этого ваша алчность все же была бы несколько лучше скрыта и затаена. Чего еще теперь от вас ждать, если вы держите себя так, что можно подумать, будто вы действуете в нашу пользу и во вред самим себе? (105) А теперь, судьи, рассмотрим события, происшедшие тотчас же после убийства.
(XXXVII) О смерти Секста Росция Хрисогону сообщили в лагерь Луция Суллы под Волатеррами на четвертый день после убийства. Неужели еще и теперь возникает вопрос, кто послал этого гонца? Неужели не ясно, что это был тот же человек, который отправил гонца в Америю? И вот, Хрисогон велел устроить продажу имущества Секста Росция немедленно, хотя не знал ни убитого, ни обстоятельств дела. Почему же ему пришло на ум пожелать приобрести имения неизвестного ему человека, которого он вообще никогда не видел? Когда вы, судьи, слышите о чем-либо подобном, вы обычно тотчас же говорите: «Конечно, об этом ему сказал кто-нибудь из земляков или соседей; именно они в большинстве случаев оказываются доносчиками; они же многих и предают». (106) В этом случае нет оснований считать это одним лишь подозрением. Ибо я не стану рассуждать так: «Вполне вероятно, что Росции сообщили об этом Хрисогону; ведь они и ранее были в дружеских отношениях с ним; ибо, хотя у Росциев и было много старых патронов[80] и гостеприимцев, связь с которыми к ним перешла от предков, все же они перестали почитать и уважать всех их и отдались под покровительство Хрисогона, признав себя его клиентами».
(107) Я мог бы сказать все это, не уклоняясь от истины, но в этом судебном деле нет никакой надобности прибегать к догадкам; Росции, я уверен, и сами не отрицают, что Хрисогон подобрался к этому имуществу по их наущению. Если того, кто получил часть этого имущества как награду за извещение Хрисогона, вы увидите воочию, то сможете ли вы, судьи, сомневаться в том, кто именно донес? Кто же те люди, которым Хрисогон уделил часть этого имущества? Оба Росция. Может быть, еще кто-нибудь, кроме них? Никого нет, судьи! Так возможны ли сомнения в том, что добычу предложили Хрисогону именно те люди, которые и получили от него часть этой добычи?
(108) А теперь рассмотрим поведение Росциев на основании суждения самого Хрисогона. Если они в этом кровавом деле не совершили ничего такого, что заслуживало бы награды, то за что Хрисогон так щедро их одарил? Если они только сообщили ему о случившемся, то разве нельзя было выразить им свою благодарность словесно или же, наконец, желая проявить особую щедрость, сделать им небольшой подарок в знак своей признательности? Почему Капитону тотчас были даны три имения огромной стоимости? Почему Тит Росций вместе с Хрисогоном сообща владеют остальными имениями? Неужели еще не ясно, судьи, что Хрисогон уступил Росциям часть этой добычи, узнав все обстоятельства дела?
(XXXVIII, 109) В числе десяти старейшин в качестве посланца приехал в лагерь Капитон. Обо всем его образе жизни, характере и нравах вы можете судить на основании одного только этого посольства. Если вы не убедитесь, судьи, что нет долга, что нет права, которого, несмотря на всю его святость и неприкосновенность, Капитон не оскорбил бы и не попрал в своей преступной подлости, то можете считать его честнейшим человеком. (110) Он помешал посланцам рассказать Сулле о случившемся, сообщил Хрисогону о планах и намерениях других посланцев, посоветовал ему принять меры, чтобы дело не получило огласки, указал ему, что, если продажа имущества будет отменена, Хрисогон лишится больших денег, а сам он предстанет перед уголовным судом. Хрисогона он подстрекал, своих товарищей по посольству обманывал. Первому он беспрестанно советовал быть осторожным, а вторым предательски подавал ложную надежду; с Хрисогоном он составлял планы во вред посланцам, а их планы выдавал Хрисогону; с ним он договорился о величине своей доли, а им он, каждый раз придумывая тот или иной предлог для отсрочки, преграждал всякий доступ к Сулле. Кончилось тем, что вследствие его советов, представлений и посредничества посланцы так и не дошли до Суллы: обманутые в своем доверии его вероломством, они — вы сможете узнать об этом от них самих, если обвинитель захочет вызвать их как свидетелей[81], — вернулись домой с ложными надеждами вместо успешного завершения дела.
(111) Предки наши считали величайшим позором, если кто-нибудь, даже в частных делах, отнесется к доверенному ему делу, не говорю уже — хотя бы с малейшим злым умыслом, в целях стяжания или ради своей выгоды, но даже несколько небрежно. Поэтому и было постановлено, что осуждение за нарушение доверия не менее позорно, чем осуждение за кражу[82], — мне думается, потому, что в делах, вести которые мы не можем сами, мы доверяем друзьям занять наше место, так что человек, не оправдывающий доверия, посягает на всеобщий оплот и, настолько это в его власти, подрывает основы общественной жизни. Ведь мы не можем сами вести все дела; один может принести больше пользы в одном деле, другой — в другом. Поэтому мы и вступаем в дружеские отношения, чтобы взаимными услугами действовать ради общей выгоды. (112) Зачем брать на себя поручение, если ты намерен небрежно отнестись к нему или своекорыстно его использовать? Зачем ты предлагаешь мне свою помощь и своей притворной услужливостью мешаешь и вредишь мне? Оставь меня в покое, я буду действовать через других. Ты берешь на себя бремя обязанностей и думаешь, что оно по силам тебе, а оно не тяжко лишь для тех людей, которые сами не легковесны.
(XXXIX) Итак, подобный проступок позорен именно потому, что оскорбляет два священнейших начала — дружбу и верность слову. Ибо каждый дает поручение только другу и верит только тому, кого считает заслуживающим доверия. Только величайший негодяй может нарушить дружбу и обмануть человека, который не пострадал бы, не доверься он ему. (113) Не так ли? Если тот, кто небрежно относится к незначительному поручению, возложенному на него, должен быть заклеймен позорнейшим приговором, то можно ли того, кто в таком важном деле, когда ему были поручены и доверены доброе имя умершего и достояние находящегося в живых человека, опорочил умершего и обрек живущего на нищету, относить к числу честных людей или, вернее, полноправных граждан? В делах самых незначительных и частных за простую небрежность, проявленную при выполнении поручения, привлекают к суду и карают лишением чести, так как — если дело ведется честно — проявить некоторую небрежность позволительно доверителю, а не доверенному лицу. Какому же наказанию будет подвергнут и каким приговором будет заклеймен человек, который в столь важном деле, порученном и доверенном ему официально, не небрежностью своей нанес ущерб каким-либо частным интересам, а вероломством своим осквернил и запятнал священный характер посольства? (114) Если бы Секст Росций как частное лицо поручил Капитону вступить в переговоры и прийти к соглашению с Хрисогоном и, в случае надобности, действовать по совести и на свою ответственность, и если бы Капитон, взяв на себя эту задачу, извлек из этого поручения хотя бы малейшую выгоду для себя лично, то неужели он, в случае осуждения арбитральным судом, не возместил бы нанесенного им убытка и не был бы совершенно опорочен?[83] (115) Теперь же не Секст Росций дал ему это поручение, но (что гораздо важнее) сам Секст Росций, его доброе имя, жизнь и достояние были официально поручены Титу Росцию декурионами, а из этого он извлек для себя не какую-нибудь незначительную прибыль, а в конец разорил моего подзащитного, сам выговорил для себя три имения, а к воле декурионов и всех муниципалов отнесся с таким же неуважением, как и к своему собственному честному слову.
(XL, 116) Далее обратите внимание, судьи, на другие поступки Тита Росция и вы поймете, что нельзя и представить себе злодеяние, которым он не запятнал бы себя. Обмануть товарища по предприятию даже в менее важном деле — низкий поступок, столь же низкий, как и тот, о котором я только что говорил. И мнение это вполне справедливо, так как человек думает, что обеспечил себе помощь, объединившись с другим. На кого же положиться ему, если человек, которому он доверился, его доверием злоупотребил? При этом наиболее строгому наказанию должны подлежать проступки, уберечься от которых труднее всего. Скрытными мы можем быть по отношению к посторонним людям, но с близкими мы всегда более откровенны. Как можем мы остерегаться товарища по предприятию? Даже опасаясь его, мы оскорбляем права, предоставляемые ему его обязанностями. Поэтому человека, обманувшего товарища по предприятию, наши предки вполне справедливо не считали возможным причислять к порядочным людям. (117) Однако Тит Росций не просто одного своего товарища по денежным делам обманул; хотя это и является проступком, но все же с этим как-то можно смириться; девятерых честнейших людей, имевших общие с ним полномочия, своих товарищей по посольству, обязанностям и поручению, он подвел, опутал, одурачил, выдал их противникам и обманул, прибегнув ко всякого рода лжи и вероломству, а они не могли даже заподозрить его в преступлении, не опасались своего товарища по обязанностям, не видели его злых умыслов, поверили его пустым словам. И вот теперь из-за его коварства этих честнейших людей обвиняют в недостатке осторожности и предусмотрительности; он же, бывший сначала предателем, потом перебежчиком, сперва рассказавший о намерениях своих товарищей их противникам, а затем вступивший в сговор с самими противниками, еще устрашает и запугивает нас, он, награжденный за свое преступление тремя имениями. При такой его жизни, судьи, в числе его стольких и столь гнусных поступков вы найдете и злодеяние, рассматриваемое этим судом.
(118) Вот как вы должны вести следствие: где вы увидите много проявлений алчности, дерзости, бесчестности и вероломства, там, будьте уверены, среди стольких гнусных поступков скрывается и преступление. Впрочем, как раз оно менее всего бывает скрыто, так как оно столь явно и очевидно, что нет надобности доказывать его теми злодеяниями, которыми, как всем известно, запятнал себя этот человек; оно даже само служит доказательством наличия всякого другого преступления, в котором могли быть сомнения. Каково же ваше мнение, судьи? Неужели вы думаете, что тот ланиста[84] уже совсем отложил в сторону свой меч или что этот ученик сколько-нибудь уступает своему наставнику в искусстве? Они равны по своей алчности, похожи друг на друга своей бесчестностью, одинаково бесстыдны, родные братья по дерзости.
(XLI, 119) Далее, так как честность наставника вы оценили, оцените теперь справедливость ученика. Я уже говорил, что у Росциев не раз требовали двух рабов для допроса. Ты, Тит Росций, в этом всегда отказывал. Я спрашиваю тебя: требовавшие ли не были достойны того, чтобы ты выполнил их требование, или же тебя не волновала судьба того человека, ради которого предъявлялось это требование, или же само требование казалось тебе несправедливым? Требование это предъявляли знатнейшие и неподкупнейшие люди нашего государства, которых я уже называл. Они так прожили свою жизнь, их так высоко ценит римский народ, что едва ли найдется хотя бы один человек, который не признал бы справедливым любое их слово. И требование свое они предъявляли, защищая вызывающего глубокую жалость несчастнейшего человека, который, при надобности, сам был бы готов подвергнуться пытке, лишь бы было произведено следствие о смерти его отца. (120) Далее, требование, предъявленное тебе, было такого рода, что твой отказ был равносилен твоему сознанию в совершении тобой злодеяния. Коль скоро это так, и я спрашиваю тебя, почему ты ответил отказом. Во время убийства Секста Росция эти рабы были при нем. Их самих я лично не обвиняю и не оправдываю, но вы так резко возражаете против выдачи их для допроса, что это становится подозрительным; а то весьма почетное положение, в каком они находятся у вас, с несомненностью доказывает, что им известно нечто роковое для вас, если они об этом расскажут. — «Допрос рабов о поступках их господ противоречит требованиям справедливости». — Но ведь допрос этот не касается их господ; подсудимый — Секст Росций, и допрос о нем не является допросом рабов о поступках их господ; ибо их господами вы называете себя. — «Рабы находятся у Хрисогона». — Вот как! Хрисогон, конечно, очарован их образованностью и изысканностью и хочет, чтобы они вращались в кругу его любимчиков-отроков, обученных всевозможным искусствам и выбранных им из изящнейшей челяди во многих домах[85]. Но ведь это чуть ли не чернорабочие, прошедшие выучку в деревне, среди челяди америйского землевладельца! (121) На самом деле всё, конечно, не так, судьи! Мало вероятно, чтобы Хрисогон пленился их образованностью и воспитанием или оценил их старательность и добросовестность. Здесь какая-то тайна, и чем усерднее они скрывают и оберегают ее, тем более она всплывает на поверхность и обнаруживается.
(XLII, 122) Что из этого следует? Хрисогон ли, желая скрыть свое злодеяние, не хочет, чтобы эти рабы подверглись допросу? Вовсе нет, судьи! Всех, полагаю я, нельзя мерить одной меркой. Лично я не подозреваю Хрисогона ни в одном из подобных действий, и мне сегодня не впервые пришло на ум это сказать. Как вы помните, я с самого начала разделил все судебное дело на следующие части: на опровержение обвинения, поддерживать которое было полностью поручено Эруцию, и на доказательство злого умысла, что затрагивает Росциев. Всякое преступление, злодеяние и убийство, какие только окажутся налицо, мы должны будем приписать Росциям. Непомерное влияние и могущество Хрисогона, по нашему мнению, служат помехой для нас и совершенно нестерпимы, и вы, коль скоро вам дана власть, должны не только поколебать их, но и покарать за них. (123) Я рассуждаю так: кто хочет допроса заведомых свидетелей убийства, тот желает, чтобы была раскрыта истина; кто отказывает в этом допросе, тот, не решаясь сказать это, все же поведением своим, несомненно, сознается в совершенном им преступлении. Вначале я сказал, судьи, что не хочу говорить об их злодеянии больше, чем этого потребует судебное дело или заставит сама необходимость. Ведь можно привести много улик и каждую из них подтвердить множеством доказательств. Но на том, что я делаю неохотно и по необходимости, я не могу задерживаться и говорить об этом подробно. Того, чего никак нельзя было обойти молчанием, я коснулся слегка, судьи! Что основано на подозрениях и что потребовало бы более подробного обсуждения, если начать об этом говорить, то я предоставляю вашему уму и проницательности.
(XLIII, 124) Перехожу теперь к хорошо нам знакомому золотому имени «Хрисогон»[86]; этим именем было прикрыто все «товарищество». Не придумаю я, судьи, ни как мне говорить, ни как мне умолчать о нем. Ибо, умолчав о нем, я откажусь от наиболее важной части своих доводов; если же я буду о нем говорить, то, чего доброго, не один только Хрисогон, — что для меня безразлично — но и многие другие сочтут себя оскорбленными[87]. Впрочем, обстоятельства таковы, что мне нет особой надобности распространяться о поступках скупщиков конфискованного имущества вообще; ибо это судебное дело, конечно, не обычное и единственное в своем роде.
(125) Имущество Секста Росция купил Хрисогон. Рассмотрим сперва следующее: на каком основании продано имущество этого человека, вернее, как оно могло поступить в продажу? Спрашиваю об этом, судьи, не для того, чтобы сказать, что продажа имущества ни в чем не повинного человека возмутительна[88]; ибо, даже если об этом можно будет слушать и открыто говорить, то именно Секст Росций едва ли был столь значительным лицом среди наших граждан, чтобы мы должны были печалиться прежде всего о нем; но я спрашиваю вот о чем: как могло на основании того самого закона о проскрипциях — Валериева или Корнелиева (точно не знаю) — так вот, как могло на основании этого самого закона имущество Секста Росция поступить в продажу? (126) Ведь там, говорят, написано следующее: «Должно быть продано имущество тех, чьи имена внесены в проскрипционные списки (среди них Секста Росция нет), или тех, кто был убит, принадлежа к лагерю противников». Пока существовали какие-то лагери, Секст Росций принадлежал к лагерю Суллы; когда мы перестали сражаться, он среди полного мира, возвращаясь с обеда, был убит в Риме. Если он был убит по закону, то я готов признать, что имущество его тоже было продано с торгов законно; но если установлено, что он был убит в нарушение, уже не говорю — древних[89], но даже и новых законов, то по какому же праву, каким образом, в силу какого закона было продано его имущество? Вот о чем я спрашиваю.
(XLIV, 127) Ты хочешь знать, Эруций, кого я имею в виду. Не того, кого ты хотел бы и о ком ты думаешь; ибо Суллу оправдало на вечные времена и мое заявление, сделанное мной с самого начала, и его собственная исключительная доблесть. Я утверждаю, что все это совершил Хрисогон: он дал ложные сведения; выдумал, что Секст Росций был злонамеренным гражданином; заявил, что он был убит, находясь среди противников; не позволил посланцам америйцев рассказать обо всем Луцию Сулле. Наконец, я подозреваю также, что это имущество вообще не было продано с торгов; в дальнейшем, с вашего позволения, судьи, я докажу и это. (128) Ибо по закону крайним сроком для проскрипций и продажи имущества, бесспорно, были июньские календы; между тем Секст Росций был убит, имущество его, как говорят, поступило в продажу только через несколько месяцев после июньских календ. Во всяком случае, это имущество либо не было внесено в официальные книги, и этот мошенник издевается над нами более ловко, чем мы думаем, либо если оно и было внесено, то в книгах каким-то образом совершен подлог; так как именно это имущество, как установлено, законным образом поступить в продажу не могло. Я понимаю, судьи, что рассматриваю этот вопрос преждевременно и, можно сказать, уклоняюсь в сторону, раз я вместо того, чтобы спасать голову Секста Росция, лечу заусеницу[90]. Ведь он не о деньгах тревожится и не об интересах своих заботится; он думает, что легче перенесет свою бедность, если его освободят от этого возмутительного подозрения и вымышленного обвинения. (129) Но я прошу вас, судьи: слушая то немногое, что мне еще остается сказать, считайте, что говорю я отчасти от своего имени, отчасти в защиту Секста Росция. Что мне самому кажется возмутительным и нестерпимым и что, по моему мнению, касается всех нас, если мы не примем мер, — об этом я говорю от своего имени с душевной скорбью и болью; а о том, что имеет отношение к жизни и к делу Секста Росция и что он хотел бы услыхать в свою защиту, об этом вы, судьи, вскоре услышите в заключительной части моей речи.
(XLV, 130) Я по своему почину, оставив в стороне дело Секста Росция, спрашиваю Хрисогона: во-первых, почему имущество честнейшего гражданина было продано с торгов? Затем, почему имущество человека, который не был внесен в проскрипционные списки и не пал, находясь среди противников, было продано с торгов, хотя закон был направлен только против вышеупомянутых лиц; затем, почему оно было продано много позже срока, установленного законом? Наконец, почему оно было продано за такую малую цену? Если Хрисогон, по примеру негодных и бесчестных вольноотпущенников, захочет свалить все это на своего патрона, то это не удастся ему; ибо всем известно, что, так как Луций Сулла был занят важнейшими делами, многие совершили много проступков — частью против его желания, частью без его ведома. (131) Итак, значит, можно согласиться с тем, что некоторые дела могли ускользнуть от его внимания? Согласиться нельзя, судьи, но это было неизбежно. И в самом деле, если Юпитер Всеблагой Величайший, одним мановением руки и волей своей управляющий небом, сушей и морями, не раз наносил вред людям, разрушал города, уничтожал посевы то ветрами необычайной силы, то страшными бурями, то чрезмерной жарой, то невыносимым холодом, причем все эти гибельные явления мы приписываем не божественному промыслу, а великим силам природы, и наоборот, если блага, какими мы пользуемся, — дневной свет, которым мы живем, воздух, которым мы дышим, — мы рассматриваем как дар и милость Юпитера, то можем ли мы удивляться, судьи, что Луций Сулла, один стоявший во главе государства, управлявший всем миром и укреплявший посредством законов величие империи[91], добытого им оружием, мог не заметить кое-чего? Удивительно ли, что ум человеческий не охватывает того, чего не может достигнуть и божественная мощь?
(132) Но если оставить в стороне то, что уже произошло, неужели из того, что происходит именно теперь, всякому не ясно, что единственным виновником и зачинщиком всего является Хрисогон? Ведь это он велел привлечь Секста Росция к суду, и ему в угоду Эруций, который сам об этом говорит, выступает в качестве обвинителя[92]. [Лакуна.]
(XLVI) …[Те,] у кого есть поместья в области саллентинцев или в Бруттии[93], откуда они с трудом могут получать известия трижды в год, думают, что именно они владеют удобно расположенными и благоустроенными [поместьями].
(133) Вот другой[94] спускается с Палация, где у него свой дом; есть у него для отдыха загородная приятная усадьба и, кроме того, несколько имений; все они великолепны и расположены недалеко от города. В доме у него множество сосудов коринфской и делосской работы и среди них знаменитая автепса[95], за которую он недавно заплатил так дорого, что прохожие, слыша цену, которую выкрикивал глашатай, думали, что продается имение. А как вы думаете — сколько у него, кроме того, чеканной серебряной утвари, ковров, картин, статуй, мрамора? Разумеется, столько, сколько возможно было нагромоздить в одном доме во время смуты и при ограблении многих блистательных семейств. Что касается его челяди, то стоит ли мне говорить, как она многочисленна и каким разнообразным искусствам обучена? (134) Не говорю об обычных ремеслах — о поварах, пекарях, носильщиках[96]. Рабов, которые могут повеселить душу и усладить слух, у него столько, что ежедневным пением, струнной и духовой музыкой и шумом ночных пирушек оглушена вся округа. Как вы думаете, судьи, каких ежедневных расходов, какой расточительности требует такой образ жизни? И какие это пирушки? Уж наверное, приличные — в таком доме, если только следует его считать домом, а не школой разврата и рассадником всяческих гнусностей! (135) А сам он? Как он, причесанный и напомаженный, расхаживает по форуму в сопровождении целой свиты, одетой в тоги[97], вы видите, судьи! Вы видите, как пренебрежительно смотрит он на всех, лишь одного себя считая человеком; по его мнению, один он счастлив, один он силен. Если я стану рассказывать, что́ он делает и чего добивается, то какой-нибудь неискушенный человек, судьи, пожалуй, подумает, что я хочу повредить делу знати и ее победе. Но я вправе порицать все то, что мне не нравится на этой стороне; ибо мне нечего опасаться, что меня могут счесть враждебным делу знати.
(XLVII, 136) Всем, кто меня знает, известно, что после того как мое сильнейшее желание, чтобы было достигнуто согласие между сторонами, не исполнилось, я, по мере своих ничтожных и слабых сил, особенно ратовал за победу тех, кто и победил. Ибо кто не видел, что низы боролись за власть с людьми вышестоящими? В этой борьбе одни только дурные граждане могли не примкнуть к тем, чей успех мог обеспечить государству и блеск внутри страны, и уважение за ее пределами. Радуюсь и всем сердцем ликую, судьи, что это свершилось, что каждому возвращено его почетное положение, и понимаю, что все это произошло по воле богов, при живом участии римского народа, благодаря мудрости, империю, счастью и удаче Луция Суллы. (137) Что были наказаны люди, упорно сражавшиеся в рядах противников, я порицать не должен; что храбрые мужи, особенно отличившиеся во время тех событий, награждены, я хвалю. Думаю, что для того и сражались, чтобы это было достигнуто, и признаюсь, что я находился на этой стороне. Но если все это было предпринято, если за оружие взялись ради того, чтобы самые последние люди могли обогащаться за чужой счет и завладевать имуществом любого гражданина, и если нельзя, не говорю уже — препятствовать этому делом, но даже порицать это словом, то, право, война эта принесла римскому народу не возрождение и обновление, а унижение и угнетение. (138) Но в действительности это далеко не так; ничего, подобного нет, судьи! Если вы дадите отпор этим людям, то дело знати не только не пострадает, но даже прославится еще больше.
(XLVIII) И в самом деле, люди, желающие порицать нынешнее положение вещей, сетуют на столь значительную мощь Хрисогона; но люди, склонные хвалить нынешние порядки, говорят, что такой власти ему вовсе не дано. Теперь уже ни у кого нет оснований — по глупости ли или же по бесчестности — говорить: «Если бы только мне было разрешено! Я сказал бы…» — Пожалуйста, говори. — «Я сделал бы…» — Пожалуйста, делай; никто тебе этого не запрещает. — «Я подал бы голос за…»[98] — Подавай, но только честно, и все одобрят тебя. — «Я вынес бы приговор…» — Все будут хвалить его, если ты будешь судить справедливо и по закону.
(139) Пока было необходимо и этого требовали сами обстоятельства, всей полнотой власти обладал один человек; после того как он произвел выборы должностных лиц и провел законы[99], каждому возвратили его полномочия и авторитет. Если те, кому они возвращены, хотят их сохранить, они смогут получить их навсегда. Но если они будут совершать и одобрять эти убийства и грабежи и эту безмерную и ни с чем не сообразную расточительность, то я, далекий от желания сказать что-либо более резкое, — уже по одному тому, что это было бы дурным предзнаменованием, — скажу только одно: если наша хваленая знать не будет бдительна, честна, храбра и милосердна, ей неминуемо придется уступить свое высокое положение людям, которые будут обладать этими качествами. (140) Поэтому пусть, наконец, перестанут говорить, что человек, высказавшийся искренно и независимо, говорил злонамеренно; пусть перестанут считать дело Хрисогона своим делом; пусть перестанут думать: если он подвергся нападкам, то задеты и они; пусть подумают, не позорно и не унизительно ли, что люди, которые не смогли примириться с блеском всаднического сословия[100], могут переносить господство презренного раба. Это господство, судьи, ранее проявляло себя в другом; какую дорогу оно прокладывает себе ныне и куда пролагает себе путь, вы видите: оно направлено против вашей честности, вашей присяги, ваших судов — против всего того, что, пожалуй, только и остается в государстве чистым и священным. (141) Неужели и здесь Хрисогон рассчитывает обладать какой-то властью? И здесь хочет он быть могущественным? О, какое несчастье, какое бедствие! И я, клянусь Геркулесом, негодую не потому, что я боюсь или что он действительно может что-то значить; но потому, что он осмелился, потому, что он надеялся как-то повлиять на таких мужей, как вы, и погубить ни в чем не виновного человека, — вот на что я сетую.
(XLIX) Для того ли знать, от которой многого ожидали, огнем и мечом вернула себе власть в государстве, чтобы вольноотпущенники и жалкие рабы могли, по своему произволу, расхищать имущество знатных людей и наше достояние, посягать на нашу жизнь? (142) Если дело дошло до этого, то я, предпочитавший такой исход, признаюсь, что я заблуждался, признаю́сь, что был безумен, сочувствуя знати, хотя я, не беря в руки оружия, сочувствовал ей, судьи! Но если, напротив, победа знати пойдет на славу государству и римскому народу, то моя речь должна быть весьма по-сердцу каждому благородному и знатному человеку. Если же кто-либо думает, что ему самому и его единомышленникам наносят оскорбление, порицая Хрисогона, то он дела своей стороны не принимает во внимание, а заботится только о себе; ибо дело знати станет более славным, если будет дан отпор всем негодяям, а тот бесчестнейший пособник Хрисогона, который разделяет его образ мыслей, несет ущерб, отходя от участия в этом славном деле.
(143) Но все это, как я уже заметил выше, я говорю от своего имени; сказать это меня побудили благо государства, скорбь, испытываемая мной, и беззакония этих людей. Секст Росций ничем этим не возмущается, никого не обвиняет, не сетует на утрату отцовского имущества. Неопытный в жизни человек, земледелец и деревенский житель, он считает все то, что, по вашим словам, сделано по распоряжению Суллы, совершенным по обычаю, по закону, по праву народов[101]. Оправданным и свободным от неслыханного обвинения — вот каким хочет он уйти отсюда. (144) Если с него будет снято это не заслуженное им подозрение, то он, по его словам, спокойно перенесет утрату всего своего состояния; он просит и умоляет тебя, Хрисогон, — если он ничем не воспользовался из огромного имущества своего отца, если он ничего не утаил от тебя, если он вполне добросовестно отдал тебе все свое достояние, все пересчитал, все взвесил, если он передал тебе одежду, которой было прикрыто его тело, и перстень, который он носил на пальце[102], если из всего своего достояния он не оставил себе ничего, кроме своего нагого тела, — позволь ему, невиновному, влачить жизнь в бедности, пользуясь помощью друзей.
(L, 145) Имениями моими ты владеешь, а я живу чужим милосердием. Я на это согласен, так как отношусь к этому спокойно и это неизбежно. Дом мой для тебя открыт, для меня заперт; мирюсь с этим. Многочисленной челядью моей пользуешься ты, а у меня нет ни одного раба; терплю это и считаю нужным переносить. Чего тебе еще? Почему ты меня преследуешь, почему нападаешь на меня? В чем я, по-твоему, тебе не угодил? Чем я тебе мешаю? В чем стою тебе поперек дороги? Если ты хочешь убить меня ради добычи, то ты уже добыл ее. Чего еще тебе нужно? Если ты хочешь убить меня из-за вражды, то какая вражда возможна между тобой и человеком, чьими имениями ты завладел еще до того, как узнал о нем самом? Если из-за боязни, то неужели ты боишься человека, который, как ты видишь, сам не умеет отвратить от себя столь страшную несправедливость? Но если ты именно потому, что имущество, принадлежавшее Сексту Росцию, стало твоим, и стараешься погубить его сына, присутствующего здесь, то не доказываешь ли ты этим, что опасаешься как раз того, чего ты должен был бы бояться менее, чем кто-либо другой, — что рано или поздно имущество проскриптов-отцов будет возвращено их сыновьям?
(146) Ты ошибаешься, Хрисогон, если, в надежде удержать у себя купленное тобой имущество, рассчитываешь на гибель моего подзащитного больше, чем на все то, что сделано Луцием Суллой. Но если у тебя нет личных оснований желать такого тяжкого несчастья этому жалкому человеку; если он отдал тебе все, кроме жизни, и ничего из отцовского достояния не утаил для себя хотя бы на память, то — во имя бессмертных богов! — что это за неслыханная жестокость с твоей стороны, что у тебя за зверская, свирепая натура! Какой разбойник был когда-либо столь бесчеловечен, какой пират — столь дик, чтобы он, имея возможность получить добычу, всю целиком, без пролития крови, предпочел совлечь с противника его доспехи окровавленными? (147) Ты знаешь, что у Секста Росция ничего нет, что он ни на что не решается, ничего не может сделать, никогда не думал вредить тебе в чем бы то ни было, и все-таки нападаешь на человека, которого ты и бояться не можешь и ненавидеть тебе не за что, у которого, как видишь, уже нет ничего такого, что́ ты мог бы еще отнять. Разве только тебя возмущает, что человека, которого ты выгнал из отцовского поместья нагим, словно после кораблекрушения, в суде ты видишь одетым. Как будто тебе не известно, что его кормит и одевает Цецилия, дочь Балеарского, сестра Непота, женщина выдающаяся, которая, имея прославленного отца, достойнейших дядьев и знаменитого брата, все же, хотя она и женщина, своим мужеством достигла того, что в воздаяние за великий почет, каким она пользуется в связи с их высоким положением, она, со своей стороны, украсила их не меньшей славой благодаря своим заслугам.
(LI, 148) Или ты, быть может, негодуешь на то, что Секста Росция горячо защищают? Поверь мне, если бы, ввиду отношений гостеприимства и дружбы, связывавших людей с его отцом, все гостеприимцы захотели явиться сюда и осмелились его открыто защищать, то у него не было бы недостатка в защитниках, а если бы все они могли покарать вас в меру вашего беззакония, — ибо опасность, угрожающая Сексту Росцию, затрагивает высшие интересы государства — то, клянусь Геркулесом, вам нельзя было бы и показаться на этом месте. Но теперь его защищают так, что его противники, конечно, не должны роптать и не могут думать, что вынуждены уступить могуществу. (149) О его личных делах заботится Цецилия; его дела на форуме и в суде, как вы видите, судьи, взял на себя Марк Мессалла[103], который и сам выступил бы в защиту Секста Росция, будь он старше и решительнее. Но так как произнести речь ему мешают его молодость и застенчивость, являющаяся украшением этого возраста, то он передал дело мне, зная, что я хочу и обязан оказать ему эту услугу, а сам своей настойчивостью, умом, влиянием и хлопотами добился, чтобы жизнь Секста Росция, вырванная из рук этих грабителей, была доверена суду. В защиту такой именно знати, судьи, подавляющее большинство граждан, несомненно, и сражалось; их целью было восстановить в их гражданских правах тех знатных людей, которые готовы сделать то, что, как видите, делает Мессалла, которые готовы защищать жизнь невиновного, дать отпор беззаконию, которые предпочитают, по мере своих сил, проявлять свое могущество, не губя другого человека, а спасая его. Если бы так поступали все люди такого происхождения, то государство менее страдало бы от них, а сами они меньше страдали бы от ненависти.
(LII, 150) Но если мы не можем добиться от Хрисогона, чтобы он удовлетворился нашими деньгами, судьи, и пощадил нашу жизнь; если нет возможности убедить его, чтобы он, отняв у нас все принадлежащее нам, отказался от желания лишить нас этого вот света солнца, доступного всем; если для него недостаточно насытить свою алчность деньгами и ему надо еще и жестокость свою напоить кровью, то для Секста Росция остается одно прибежище, судьи, одна надежда — та же, что и для государства — на вашу неизменную доброту и сострадание. Если эти качества еще сохранились в ваших сердцах, то мы даже теперь можем считать себя в безопасности; но если та жестокость, которая ныне в обычае в нашем государстве, сделала и ваши сердца более суровыми и черствыми, — что, конечно, не возможно, — тогда все кончено, судьи! Лучше доживать свой век среди диких зверей, чем находиться среди таких чудовищ.
(151) Для того ли вы уцелели, для того ли вы избраны, чтобы выносить смертные приговоры тем, кого грабители и убийцы не смогли уничтожить? Опытные полководцы, вступая в сражение, обычно стараются расставить своих солдат там, куда, по их мнению, побегут враги, чтобы эти солдаты неожиданно напали на бегущих. Бесспорно, так же думают и эти скупщики имущества: будто вы, столь достойные мужи, сидите здесь именно для того, чтобы перехватывать тех, кто уйдет из их рук. Да не допустят боги, чтобы учреждение, по воле наших предков названное государственным советом[104], стало считаться оплотом грабителей! (152) Или вы, судьи, действительно не понимаете, что единственной целью этих действий является уничтожение любым способом сыновей проскриптов и что начало этому хотят положить вашим приговором по делу Секста Росция, грозящим ему смертью? Можно ли сомневаться и не знать, чьих рук дело преступление это, когда на одной стороне вы видите скупщика конфискованного имущества, недруга, убийцу, являющегося в то же время и обвинителем, а на другой — обездоленного человека, сына, дорогого его родичам, на котором нет, уже не говорю — никакой вины, на которого даже подозрение не может пасть? Разве вы не видите, что Секст Росций виноват лишь в том, что имущество его отца поступило в продажу с торгов?
(LIII, 153) Если вы возьмете на себя ответственность за такое дело и приложите к нему свою руку, если вы сидите здесь для того, чтобы к вам приводили сыновей тех людей, чье имущество поступило в продажу с торгов, то — во имя бессмертных богов, судьи! — берегитесь, как бы не показалось, что вы начали новую и гораздо более жестокую проскрипцию! За прежнюю, начатую против тех, кто был способен носить оружие, сенат всё же отказался взять на себя ответственность, дабы не показалось, что более суровая мера, чем это установлено обычаем предков, принята с согласия государственного совета; что же касается этой проскрипции, направленной против их сыновей и даже против младенцев, еще лежащих в колыбели, то если вы своим приговором не отвергнете ее с презрением, то вы увидите — клянусь бессмертными богами! — до чего дойдет наше государство!
(154) Мудрым людям, наделенным авторитетом и властью, какими обладаете вы, следует те недуги, от которых государство больше всего страдает, тщательнее всего и врачевать. Среди вас нет никого, кто бы не понимал, что римский народ, некогда считавшийся самым милостивым даже к своим врагам, ныне страдает от жестокости к своим собственным гражданам. Вот ее и гоните прочь от нас, судьи! Не давайте ей дальше распространяться в нашем государстве. Она опасна не только тем, что самым ужасным образом истребила стольких граждан, но и тем, что привычка к постоянным картинам несчастий сделала самых добрых людей глухими к голосу сострадания. Ибо, когда мы ежечасно видим одни только ужасы или слышим о них, то — даже если мы от природы очень мягки — все же наши сердца, вследствие непрекращающихся потрясений, теряют всякое чувство человеколюбия.
2. Речь против Гая Верреса [В суде, первая сессия, 5 августа 70 г. до н. э.]
Гай Веррес, наместник в провинции Сицилии в 73—71 гг., был в начале 70 г. привлечен городскими общинами Сицилии к суду на основании Корнелиева закона о вымогательстве, проведенного Суллой. Обвинение охватывало хищения, взяточничество, неправый суд, превышение власти, оскорбление религии. Городские общины поручили поддерживать обвинение Цицерону, бывшему в 75 г. квестором в Лилибее (западная Сицилия). Сумма иска была определена в 100.000.000 сестерциев.
Веррес нашел поддержку у представителей нобилитета. После того как Цицерон в январе 70 г. подал жалобу претору Манию Ацилию Глабриону, сторонники Верреса предложили в качестве обвинителя Квинта Цецилия Нигра, бывшего квестора Верреса, клиента Метеллов; ибо обвинитель мог быть назначен и помимо и даже вопреки желанию потерпевшей стороны. Возникло дело о назначении обвинителя, или дивинация: каждый из желающих быть обвинителем должен был произнести перед судом речь и привести основания, в силу которых обвинение следовало поручить именно ему, после чего совет судей решал вопрос об обвинителе. Право быть обвинителем было предоставлено Цицерону. Вскоре после дивинации Цицерон выехал в Сицилию для следствия, сбора письменных доказательств и вызова свидетелей. За 50 дней следствие было им закончено; весной 70 г. Цицерон возвратился в Рим.
Потерпев неудачу при дивинации, покровители Верреса устроили так, что неизвестное нам лицо привлекло к суду бывшего наместника провинции Ахайи, имя которого также неизвестно, потребовав для следствия 108 дней, в то время как Цицерон потребовал для себя 110 дней. Слушание этого дела началось до слушания дела Верреса, причем его нарочито затягивали. Процесс Верреса начался лишь в августе 70 г. За это время Квинт Метелл Критский, доброжелатель Верреса, и Квинт Гортенсий, его защитник, были избраны в консулы на 69 г. Марк Метелл был избран в преторы; кроме того, должен был измениться состав суда. Поэтому сторонники Верреса старались затянуть слушание дела и перенести его на 69 г., когда вся судебная процедура должна была быть повторена; в 69 г. оправдание Верреса было весьма вероятным.
Слушание дела началось 5 августа 70 г. и должно было быть прервано из-за ряда общественных игр, происходивших в течение августа-ноября, причем игры по обету Помпея (ludi votivi) начинались 16 августа. Сначала должен был говорить обвинитель, затем защитник, второй обвинитель и второй защитник; потом выступали свидетели обвинения и защиты и велся перекрестный допрос. После перерыва в несколько дней начиналась вторая сессия в таком же порядке. В интересах обвинения было закончить весь процесс до начала общественных игр. Поэтому Цицерон вместо длинной речи произнес ряд коротких, сопровождая каждую чтением документов и представлением свидетелей. Уже 7 августа Веррес сказался больным и, не явился в суд; вскоре он покинул Рим. Гортенсий отказался защищать его. Допрос свидетелей и чтение документов закончились на девятый день суда. Суд подтвердил факт добровольного изгнания Верреса и взыскал с него в пользу сицилийцев 40.000.000 сестерциев.
Речи, предназначавшиеся Цицероном для второго слушания дела и впоследствии обработанные им, выпустил в свет его вольноотпущенник Марк Туллий Тирон. Весь материал был разделен на пять «книг»; грамматики впоследствии дали им названия, принятые и ныне. Речи написаны так, словно дело слушается в суде в присутствии обвиняемого. В настоящем издании помещены «книги» IV и V. В IV «книге» (речь 3) речь идет о похищении Верресом статуй богов и произведений искусства, принадлежавших как частным лицам, так и городским общинам, и об ограблении храмов. V «книга» (речь 4) по своему содержанию выходит за рамки обвинения о вымогательстве и состоит из двух частей: в первой говорится о мнимых заслугах Верреса как военачальника, во второй — о незаконных казнях командиров военных кораблей и римских граждан. Речь эта содержит заключительную часть, относящуюся ко всем пяти речам.
(I, 1) Чего всего более надо было желать, судьи, что всего более должно было смягчить ненависть к вашему сословию и развеять дурную славу, тяготеющую над судами, то не по решению людей, а, можно сказать, по воле богов даровано и вручено вам в столь ответственное для государства время. Ибо уже установилось гибельное для государства, а для вас опасное мнение, которое не только в Риме, но и среди чужеземных народов передается из уст в уста, — будто при нынешних судах ни один человек, располагающий деньгами, как бы виновен он ни был, осужден быть не может. (2) И вот, в годину испытаний для вашего сословия и для ваших судов[105], когда подготовлены люди, которые речами на сходках и внесением законов будут стараться разжечь эту ненависть к сенату, перед судом предстал Гай Веррес, человек, за свой образ жизни и поступки общественным мнением уже осужденный, но ввиду своего богатства, по его собственным расчетам и утверждениям, оправданный. Я же взялся за это дело, судьи, по воле римского народа и в оправдание его чаяний, отнюдь не для того, чтобы усилить ненависть к вашему сословию, но дабы избавить всех нас от бесславия. Ибо я к суду привлек такого человека, чтобы вы вынесенным ему приговором могли восстановить утраченное уважение к судам, вернуть себе расположение римского народа, удовлетворить требования чужеземных народов. Это — расхититель казны[106], угнетатель Азии и Памфилии, грабитель под видом городского претора, бич и губитель провинции Сицилии. (3) Если вы вынесете ему строгий и беспристрастный приговор, то авторитет, которым вы должны обладать, будет упрочен; но если его огромные богатства возьмут верх над добросовестностью и честностью судей, я все-таки достигну одного: все увидят, что в государстве не оказалось суда, а не что для судей не нашлось подсудимого, а для подсудимого — обвинителя.
(II) Лично о себе я призна́юсь, судьи: хотя Гай Веррес как на суше, так и на море строил мне много козней[107], из которых одних я избежал благодаря своей бдительности, а другие отразил благодаря стараниям и преданности своих друзей, все же мне, по моему мнению, никогда не грозила такая большая опасность и никогда не испытывал я такого страха, как теперь, во время самого́ слушания этого дела. (4) И меня волнует не столько напряженное внимание, с каким ждут моей обвинительной речи, и такое огромное стечение народа, — хотя и это очень и очень смущает меня — сколько те предательские козни, которые Гай Веррес одновременно строит мне, вам, претору Манию Глабриону, римскому народу, союзникам, чужеземным народам и, наконец, сенаторскому сословию и званию. Вот что он говорит: пусть боится тот, кто награбил лишь столько, что этого может хватить ему одному, сам же он награбил столько, что этого хватит многим; по его словам, нет святыни, на которую нельзя было бы посягнуть, нет крепости, которою нельзя было бы овладеть за деньги[108]. (5) Если бы дерзости его попыток соответствовало его умение действовать тайком, то ему, пожалуй, когда-нибудь и удалось бы в чем-либо нас обмануть. Но, по счастью, с его необычайной наглостью сочетается исключительная глупость: как он ранее открыто расхищал деньги, так и теперь, надеясь подкупить суд, он сообщает о своих замыслах и попытках всем и каждому. По его словам, он только один раз за всю свою жизнь струсил — тогда, когда я привлек его к суду: он лишь недавно вернулся из провинции, ненависть к нему и его дурная слава были не недавнего происхождения, а старыми и давнишними, и как раз это время оказалось неблагоприятным для подкупа судей[109]. (6) Но вот, когда я испросил для себя очень малый срок, чтобы произвести следствие в Сицилии, он немедленно нашел человека, который для расследования дела в Ахайе потребовал для себя срок, меньший на два дня, но человек этот отнюдь не намеревался своим добросовестным отношением к делу и настойчивостью достигнуть того же, чего добивался я своим трудом и ценой бессонных ночей. Ведь этот ахейский следователь не доехал даже до Брундисия, тогда как я в течение пятидесяти дней исколесил всю Сицилию, собирая записи об обидах, причиненных как населению в целом, так и отдельным лицам[110]. Таким образам, всякому ясно, что Веррес искал человека не для того, чтобы тот привлек своего обвиняемого к суду, но дабы он отнял у суда время, предоставленное мне.
(III, 7) Теперь этот наглейший и безрассуднейший человек понимает, что я явился в суд настолько подготовленным и знакомым с делом, что не только вы одни услышите мой рассказ о его хищениях и гнусных поступках, но их воочию увидят все. Он видит, что свидетелями его дерзости являются многие сенаторы; видит многих римских всадников и многих граждан и союзников, которым он нанес тяжкие обиды; видит также, что многие дружественные нам городские общины прислали множество столь уважаемых представителей, облеченных полномочиями от населения. (8) Хотя это и так, он все же настолько дурного мнения обо всех честных людях и считает сенаторские суды настолько испорченными и продажными, что во всеуслышание говорит о себе: он не без причины был жаден к деньгам, так как деньги — он видит это по опыту — очень сильное средство защиты; он, что было особенно трудно, купил даже время для суда над собой, чтобы ему легче было впоследствии купить остальное, дабы ему, коль скоро он никак не мог уйти от грозных обвинений, удалось спастись от бури, связанной с ранним сроком разбора его дела в суде. (9) Имей он хоть какую-либо надежду, не говорю уже — на правоту своего дела, но хотя бы на чье-либо честное заступничество или на чье-нибудь красноречие или влияние, он, конечно, не стал бы прибегать ко всем возможным средствам и не пустился бы на розыски их; он не настолько презирал бы сенаторское сословие, не настолько пренебрегал бы им, чтобы по своему усмотрению выбирать из числа членов сената другого обвиняемого[111], чье дело должно было бы разбираться до его дела, пока он успеет подготовить все, что нужно.
(10) По всему этому мне легко догадаться, на что он надеется и что замышляет; но почему он так уверен в успехе при слушании дела перед лицом этого претора и этого совета судей, я, право, понять не могу. Я понимаю одно (и римский народ тоже высказал свое мнение во время отвода судей[112]): всю свою надежду на спасение Веррес возлагал на деньги, и если это средство защиты будет у него отнято, ему уже не поможет ничто. (IV) В самом деле, можно ли представить себе столь великое дарование, столь замечательный дар слова и такое красноречие, которое было бы в состоянии хотя бы в одном отношении оправдать его образ жизни, запятнанный столькими пороками и гнусностями и уже давно единогласно всеми осужденный? (11) Даже если обойти молчанием грязные и позорные проступки его молодости, то к чему иному свелась его квестура, первая почетная должность, как не к тому, что он украл у Гнея Карбона, чьим квестором он был, казенные деньги, ограбил и предал своего консула, бросил войско, покинул провинцию, оскорбил святость отношений, налагаемых жребием? Как легат он был бичом всей Азии и Памфилии; в этих провинциях он ограбил много домов, множество городов и все храмы; тогда же он по отношению к Гнею Долабелле повторил свое прежнее преступление времен квестуры; своим злодеянием он навлек ненависть на человека, у которого был легатом и проквестором, и не только покинул его в самое опасное время, но и напал на него и его предал. (12) Как городской претор он ограбил храмы и общественные здания и, вместе с тем, как судья, вопреки общепринятому порядку, присуждал и раздавал имущества и владения[113].
Но самые многочисленные и самые важные доказательства и следы всех своих пороков он оставил в провинции Сицилии, которую он в течение трех лет так истерзал и разорил, что ее совершенно невозможно восстановить в ее прежнем состоянии, и она лишь через много лет и с помощью неподкупных преторов, в конце концов, видимо, сможет хоть сколько-нибудь возродиться. (13) В бытность Верреса претором, для сицилийцев не существовало ни их собственных законов, ни постановлений нашего сената, ни общечеловеческих прав. В Сицилии каждому принадлежит только то, что ускользнуло от безмерной алчности и произвола этого человека — потому ли, что он упустил это из вида, или же потому, что был уже пресыщен.
(V) В течение трех лет ни одно судебное дело не решалось иначе, как по мановению его бровей; не было ни одного имущества, унаследованного от отца или деда, которое не было бы отчуждено судебным приговором по повелению Верреса. Огромные деньги были взысканы с земледельцев на основании введенных им новых, преступных правил; наши преданнейшие союзники были отнесены к числу врагов, римские граждане были подвергнуты пыткам и казням, словно это были рабы; преступнейшие люди были за деньги освобождены от судебной ответственности, а весьма уважаемые и бескорыстнейшие, будучи обвинены заочно, без слушания дела были осуждены и изгнаны; прекрасно укрепленные гавани и огромные, надежно защищенные города были открыты пиратам и разбойникам; сицилийские матросы и солдаты, наши друзья и союзники, были обречены на голодную смерть; прекрасный, крайне нужный нам флот, к великому позору для римского народа, был потерян нами и уничтожен.
(14) Этот же пресловутый претор разграбил дочиста все древнейшие памятники, часть которых была получена от богатейших царей, желавших украсить ими города, часть — также и от наших императоров, которые после своих побед либо даровали, либо возвратили их городским общинам Сицилии[114]. И он поступил так не только со статуями и украшениями, принадлежавшими городским общинам; он ограбил все храмы, предназначенные для совершения священных обрядов; словом, он не оставил сицилийцам ни одного изображения божеств, если оно, по его мнению, было сделано достаточно искусно и притом рукой старинного мастера. Что же касается его разврата и гнусностей, то мне стыдно рассказывать о преступных проявлениях его похоти и, кроме того, я не хочу своим рассказом усиливать горе людей, которым не удалось уберечь своих детей и жен от его посягательств. (15) «Но ведь его преступления, — скажут мне, — были совершены так, что не должны были стать известны всем». Мне думается, нет человека, который бы, услыхав его имя, не вспомнил тут же и о его беззаконных поступках, так что меня скорее, пожалуй, упрекнут в том, что я упустил из вида многие его преступления, а не в том, что я выдумываю их. Я думаю, что это множество людей, собравшихся послушать дело, пришло не для того, чтобы узнать от меня, в чем обвиняют Верреса, а чтобы вместе со мной лучше ознакомиться с тем, что им уже известно.
(VI) При таком положении вещей этот безумный и преступный человек изменяет свой способ борьбы со мной: не старается противопоставить мне чье-либо красноречие, не полагается на чье-либо влияние; он делает вид, будто полагается на все это, но я вижу, как он поступает в действительности; ведь действует он отнюдь не тайно. Он бросает мне в лицо ничего не значащие имена знатных, то есть высокомерных людей, но не столько пугает меня их знатность, сколько помогает мне их известность. Он притворяется, что вполне доверяет их защите, а между тем уже давно замышляет нечто совсем другое. (16) Какую надежду он теперь питает и о чем хлопочет, я сейчас коротко вам расскажу, но сначала прошу вас послушать, что́ он совершил с самого начала.
Как только он возвратился из провинции, он подкупил наличный состав суда за большие деньги. Эта сделка оставалась в силе вплоть до самого отвода судей; так как во время жеребьевки судьба благоприятствовала римскому народу и расчеты Верреса рухнули, а при отводе судей моя бдительность восторжествовала над наглостью его сторонников, то после отвода судей вся сделка была объявлена недействительной. (17) Итак, все обстояло прекрасно. Тетрадки с именами вашими и членов этого совета судей были у всех в руках; ни пометки, ни особого цвета[115], ни злоупотреблений — ничем нельзя было опорочить это голосование. И вдруг Веррес из веселого и смеющегося сделался таким удрученным и опечаленным, что не только римскому народу, но и самому себе казался уже осужденным. Но вот, после комиций по выбору консулов, он внезапно в течение нескольких последних дней снова возвращается к своим прежним замыслам, определив на расходы еще более крупную сумму, и снова строятся козни против вашего доброго имени и всеобщего благополучия. Это, судьи, открылось мне сперва по самым малозаметным признакам и малоубедительным доказательствам, но впоследствии я, укрепившись в своем подозрении, безошибочно изучил все самые тайные замыслы своих противников.
(VII, 18) Ибо, когда избранный консул[116] Квинт Гортенсий возвращался домой с поля в сопровождении огромной толпы, эту толпу случайно встретил Гай Курион[117] (его имя произношу с уважением, а не из желания его оскорбить; ведь я сейчас повторю то, чего он, конечно, не сказал бы так открыто и во всеуслышание при таком большом стечении людей, если бы не хотел, чтобы его слова запомнились: все же скажу это обдуманно и осторожно, дабы все поняли, что я принял во внимание и наши дружеские отношения и его высокое положение). (19) Возле самой Фабиевой арки[118] он в толпе видит Верреса, окликает его и громко поздравляет. Самому Гортенсию, который был избран в консулы, находившемуся тут же, его родным и друзьям он не говорит ни слова. С Верресом же он останавливается, обнимает его и говорит, что теперь ему нечего беспокоиться. «Предсказываю тебе, — говорит он, — в нынешних комициях ты оправдан». Это слышали многие очень уважаемые люди и тотчас передали мне; мало того, всякий, встречая меня, рассказывал мне об этом. Одним это казалось возмутительным, другим — смешным. Это казалось смешным тем, кто думал, что исход дела Верреса зависит от честности свидетелей, от существа предъявленных ему обвинений, от власти судей, а не от консульских комиций; возмутительным — тем, кто глубже вникал в дело и понимал, что поздравление это имело в виду подкуп судей.
Квинт Гортенсий Гортал. Мрамор. Рим, вилла Альбани.
(20) И в самом деле, вот как рассуждали, вот о чем говорили эти достойнейшие люди и между собой и со мной: «Теперь уже совершенно ясно и очевидно, что правосудия не существует. Обвиняемый, который накануне уже сам считал себя осужденным, ныне, после того как его защитник избран в консулы, уже считается оправданным. Что это значит? Неужели не будет иметь значения то, что вся Сицилия, все сицилийцы, все дельцы, все книги с записями, принадлежащие городским общинам и частным лицам, находятся в Риме?» — «Нет, не будет, если только избранный консул этого не захочет». — «Как? Судьи не примут во внимание ни обвинений, ни показаний свидетелей, ни мнения римского народа?» — «Нет, все будет зависеть от власти и воли одного».
(VIII) Буду говорить откровенно, судьи! Это сильно встревожило меня. Ведь все честнейшие люди говорили так: «Верреса, пожалуй, вырвут из твоих рук, но нам не удастся в дальнейшем удержать за собой суды; в самом деле, кто, в случае оправдания Верреса, сможет противиться передаче судов?» (21) Такое положение вещей было неприятно для всех, причем людей не столько огорчала неожиданная радость этого негодяя, сколько необычное поздравление со стороны высокопоставленного мужа. Я старался скрыть свое огорчение, старался не выдавать своей печали выражением своего лица и таить ее в молчании.
Но вот в те самые дни, когда избранные преторы метали жребий[119], и Марку Метеллу досталось ведать делами о вымогательстве, мне сообщили, что Веррес получил столько поздравлений, что даже послал домой рабов уведомить об этом жену. (22) Разумеется, такой исход этой жеребьевки был мне неприятен, но я все-таки не понимал, чем же она так опасна для меня. Одно только сообщили мне надежные люди, через которых я собирал все сведения: множество корзин[120] с сицилийскими деньгами было перенесено из дома некоего сенатора в дом одного римского всадника, а около десяти корзин было оставлено у того же сенатора в связи с комициями, касавшимися меня[121]; раздатчиков во всех трибах ночью позвали к Верресу[122]. (23) Один из них, считавший своей обязанностью помогать мне во всем, в ту же ночь явился ко мне и рассказал, что́ говорил им Веррес. Он напомнил им, как щедр был он к ним и ранее, когда он сам добивался претуры, и во время последних комиций по выбору консулов и по выбору преторов; затем он обещал им столько денег, сколько им будет угодно, если только они помешают моему избранию в эдилы. Тут одни стали говорить, что не решаются на это; другие отвечали, что не считают этого возможным; но нашелся один дерзкий приятель из той же шайки головорезов — Квинт Веррес из Ромилиевой трибы[123], — мастер раздавать деньги, ученик и друг отца Верреса; он обещал это проделать, если на его имя внесут 500.000 сестерциев, причем несколько человек решило действовать заодно с ним. Вот почему этот человек советовал мне — разумеется, из доброжелательности — принять все меры предосторожности.
(IX, 24) Меня в одно и то же время, которого было очень мало, беспокоили очень важные обстоятельства. Уже близок был срок комиций, во время которых мне предстояло сражаться против огромных денег; недалек был и суд; ему также угрожали и сицилийские корзины. Опасения за исход выборов в комициях не давали мне спокойно заниматься тем, что имело отношение к суду; а суд не позволял мне всецело посвятить себя соисканию; наконец, грозить раздатчикам не было смысла, так как они — я видел это — понимали, что я буду связан этим судом по рукам и по ногам. (25) Именно в это время я вдруг узнаю, что сицилийцы были приглашены Гортенсием к нему на дом, но держали себя вполне независимо и, понимая зачем их зовут, не пошли к нему. Тем временем начались выборы в комициях, в которых Веррес, как и в других комициях этого года, считал себя полным хозяином. Этот великий муж, вместе со своим любезным и податливым сынком, стал бегать от трибы к трибе, созывать всех приятелей своего отца, то есть раздатчиков денег, и постоянно встречаться с ними. Когда это было замечено и правильно понято, римский народ приложил все свои усилия к тому, чтобы человек, чьи богатства не смогли отвратить меня от верности долгу, при помощи денег не лишил меня возможности быть избранным на почетную должность.
(26) Освободившись от большой заботы, связанной с соисканием, я, уже не отвлекаемый ничем, вполне спокойно направил все свои усилия и помыслы на ведение дела в суде. Я обнаружил, судьи, что мои противники составили себе следующий план действий: всяческими способами добиваться, чтобы дело слушалось под председательством претора Марка Метелла. Это представляло вот какие преимущества: во-первых, Марк Метелл, конечно, окажется вернейшим другом; во-вторых, Гортенсий будет консулом и не только он, но и Квинт Метелл, а он тоже в большой дружбе с Верресом; прошу вас обратить на это внимание, ведь он дал ему такое первое доказательство своего расположения к нему, словно уже расплатился с ним за исход голосования первой центурии[124].
(27) Могли ли вы подумать, что я стану молчать о таком важном обстоятельстве? Что в минуту такой огромной опасности, грозящей и государству и моему имени, я стану думать о чем-либо ином, кроме своего долга и достоинства? Приглашает сицилийцев к себе другой избранный консул[125]; кое-кто из них приходит, так как Луций Метелл — претор в Сицилии. Квинт Метелл говорит им следующее: сам он — консул, один брат его управляет провинцией Сицилией, другой будет председательствовать в суде по делам о вымогательстве; все предусмотрено, чтобы Верресу ничто не могло повредить.
(X, 28) Скажи на милость, Метелл, что же это такое, как не издевательство над значением суда? Свидетелей, особенно и в первую очередь сицилийцев, робких и угнетенных людей, запугивать не только своим личным влиянием, но и своей консульской должностью и властью двоих преторов! Можно себе представить, что́ сделал бы ты для невиновного человека или для родича, раз ты ради величайшего негодяя и человека, совершенно чужого тебе, изменяешь своему долгу и достоинству и допускаешь, чтобы тем, кто тебя не знает, утверждения Верреса казались правдой! (29) Ведь он, как говорили, заявлял, что ты избран в консулы не по воле рока, как другие члены вашего рода[126], а благодаря его стараниям. Итак, оба консула и председатель суда — те люди, которые ему угодны. «Мы, — говорит он, — не только избавимся от человека, чересчур тщательно производящего следствие и слишком прислушивающегося к мнению народа, — от Мания Глабриона; нам и еще кое-что будет на руку. Среди судей есть Марк Цесоний, коллега нашего обвинителя[127], человек испытанный и искушенный в судопроизводстве; нам совсем не выгодно, чтобы он входил в тот совет судей, который мы всячески постараемся подкупить, так как в прошлом он, входя в состав суда, где председательствовал Юний, не только был удручен пресловутым позорным случаем в суде, но даже сам разоблачил его[128]; после январских календ он судьей уже не будет. (30) Квинт Манлий и Квинт Корнифиций, двое строжайших и неподкупнейших судей, тоже не будут судьями, так как они тогда будут народными трибунами; Публий Сульпиций, суровый и неподкупный судья, в декабрьские ноны принимает новую должность[129]; Марк Креперей, в строгости воспитанный в суровой всаднической семье, Луций Кассий, также происходящий из семьи с самыми строгими взглядами как на все вообще, так и на правосудие, Гней Тремеллий, необычайно честный и добросовестный человек, все эти люди старого закала, все трое избраны в военные трибуны[130]; после январских календ все они уже не будут судьями. Кто-нибудь заменит по жребию и Марка Метелла, так как он будет председательствовать именно в этом постоянном суде. Таким образом, после январских календ, когда сменится претор и весь совет судей, мы вволю и всласть посмеемся и над страшными угрозами обвинителя, и над нетерпеливым ожиданием народа».
(31) Сегодня — секстильские ноны. Вы стали собираться в восьмом часу; этот день уже не идет в счет. Остается десять дней до игр, которые, согласно своему обету, намерен устроить Гней Помпей; на эти игры уйдет пятнадцать дней. Таким образом, наши противники рассчитывают отвечать на то, что будет сказано мной, только дней через сорок. Затем им, по их словам, разными отговорками и уловками будет легко добиться отсрочки суда до игр Победы; за ними тут же следуют Плебейские игры[131], после которых либо совсем не останется дней для суда, либо если и останется, то очень мало. Таким образом, после того как обвинение потеряет свою силу и свежесть, дело поступит к претору Марку Метеллу еще неразобранным. Что касается его, то я, если бы не доверял его честности, не оставил бы его в составе суда. (32) Но при нынешних обстоятельствах я, пожалуй, предпочел бы, чтобы он при разборе этого дела был одним из судей, а не претором и распоряжался только своей собственной табличкой, принеся присягу, а не табличками других людей, не принеся ее[132].
(XI) Теперь я спрашиваю вас, судьи, что же мне следует, по вашему мнению, делать. Вы, конечно, мысленно дадите мне совет, последовать которому я и сам считаю нужным. Если я для произнесения речи воспользуюсь временем, предоставленным мне по закону, то я пожну плоды своих трудов, стараний и усердия и покажу этой обвинительной речью, что никто никогда, с незапамятных времен, не являлся в суд более подготовленным, чем я, более бдительным, с более четко построенной речью. Но боюсь, как бы под завесой похвал, которые я стяжаю своим усердием, обвиняемый не выскользнул из моих рук. Что же мне делать? По моему мнению, ничто не может быть яснее и очевиднее. (33) Награду в виде похвал, которую я мог бы снискать непрерывающейся речью[133], мы отложим до другого времени; теперь я буду обвинять Верреса на основании записей, свидетельских показаний, письменных доказательств, полученных мной от частных лиц и городских общин, и их официальных заявлений. Мне придется иметь дело с одним тобой, Гортенсий! Буду говорить прямо. Если бы я думал, что ты при слушании этого дела станешь выступать против меня, как обычно, — произнося защитительную речь и опровергая обвинения по отдельным статьям, то и я затратил бы все свои усилия, составляя обвинительную речь и излагая обвинение, статью за статьей. Но теперь, коль скоро ты решил сражаться со мной коварно, не столько следуя своему личному вкусу, сколько считаясь с опасным положением подсудимого и его делом, то необходимо и мне противопоставить твоему образу действий тот или иной свой план. (34) Ты решил, что начнешь отвечать мне по окончании тех и других игр; я же — произвести комперендинацию[134] еще до первых игр. Таким образом, будет видно, что твой образ действий — хитрая уловка, а мое решение вызвано необходимостью.
(XII) Выше я заметил, что мне придется иметь дело с тобой. Объяснюсь подробнее. Когда я, по просьбе сицилийцев, взялся за это дело и счел лестным и почетным для себя, что мою честность и добросовестность хотят использовать те люди, которые уже узнали мое бескорыстие и воздержность, тогда я, взявшись за этот труд, поставил себе одновременно также и более важную задачу; когда она будет выполнена мной, римский народ поймет всю мою преданность государству. (35) Ибо я считал бы ниже своего достоинства прилагать так много труда и усердия для того только, чтобы к суду привлечь Верреса, уже осужденного всеобщим приговором, если бы твое нестерпимое властолюбие и та пристрастность, какую ты на протяжении последних лет проявлял в суде при разборе некоторых дел, не дали себя знать и в совершенно безнадежном деле этого человека. Но теперь, коль скоро ты так упоен этим господством и своей царской властью в судах[135], коль скоро есть люди, которым их разнузданность и дурная слава не кажутся ни позорными, ни тягостными, которые, словно нарочно, поступками своими стараются навлечь на себя ненависть и недовольство римского народа, я открыто заявляю, что взял на себя, быть может, тяжелое и опасное, но вполне достойное меня бремя, и, чтобы нести его, я напрягу все силы, свойственные моему возрасту и настойчивости. (36) Так как все сословие сенаторов страдает из-за бесчестности и дерзости небольшого числа людей, так как усиливаются нарекания на суды, то я объявляю этим людям, что буду непримиримым их обвинителем и полным ненависти, настойчивым, жестоким противником. Вот что я беру на себя, вот к чему стремлюсь; вот как буду действовать, вступив в должность эдила; вот о чем буду говорить с того места, на котором мне повелел стоять римский народ, чтобы я, начиная с январских календ, обращался к нему по делам государства и докладывал о бесчестных людях[136]. Это и будут те игры, которые я как эдил устрою для римского народа; они будут более блестящими и более великолепными; обещаю это. Напоминаю, предупреждаю, объявляю заранее: кто привык либо вносить деньги на счет, либо принимать их на хранение, либо получать их сам, либо сулить их другому, либо быть хранителем денег или посредником по подкупу суда и кто в данном случае проявил либо свое могущество, либо свое бесстыдство, пусть тот, при этом суде, ни делом, ни помыслами своими не участвует в этом нечестивом преступлении.
(XIII, 37) Итак, консулом тогда будет Гортенсий, облеченный высшим империем и властью[137], а я — эдилом, то есть немногим выше, чем частное лицо; и все дело, которое я обязуюсь вести, таково, оно так близко сердцу римского народа и дорого ему, что в нем, в сравнении со мной, сам консул — если только это возможно — окажется значащим еще меньше, чем частное лицо.
Обо всем том, что в течение десяти лет, после того как суды были переданы сенату[138], преступно и позорно совершалось при разборе дел в судах, я не только упомяну, но и подробно сообщу, приводя достоверные факты. (38) От меня римский народ узнает, почему в то время, когда судило всадническое сословие, — почти в течение пятидесяти лет подряд[139] — ни один римский всадник, судьи, не навлек на себя даже малейшего подозрения в том, что взял деньги за вынесение им приговора; почему, после того как суды были переданы сословию сенаторов, а римский народ был лишен власти над каждым из вас[140], Квинт Калидий, будучи осужден, сказал, что претория неприлично осудить, не получив за это хотя бы 3.000.000 сестерциев[141]; почему в бытность Квинта Гортенсия претором, когда сенатор Публий Септимий был осужден за вымогательство, подлежавшая взысканию сумма была определена с учетом тех денег, которые Септимий взял за вынесение приговора[142]; (39) почему в случае с сенатором Гаем Гереннием, в случае с сенатором Гаем Попилием[143], которые оба были осуждены за казнокрадство, в случае с Марком Атилием, осужденным за оскорбление величества римского народа[144], было доказано, что они ранее взяли деньги за вынесение приговора; почему нашлись сенаторы, голосовавшие против обвиняемого и осудившие его без рассмотрения его дела, когда Гай Веррес, в бытность свою городским претором, производил жеребьевку; почему нашелся сенатор, который, будучи судьей, при слушании одного и того же дела взял деньги и с обвиняемого, чтобы распределить их между судьями, и с обвинителя за то, чтобы осудить обвиняемого[145]. (40) Где найти слова, чтобы оплакать падение нравов, позор и несчастье всего сословия, если в нашем государстве в то время, когда сенаторы заседали в судах, дело дошло до того, что таблички судей, принесших присягу, были покрыты воском разного цвета? Все это я обязуюсь рассмотреть подробно и строго.
(XIV) Что же, по вашему мнению, буду испытывать я, заметив, что и в этом судебном деле подобным же образом сколько-нибудь оскорблено и поругано правосудие? Особенно, когда я мог бы доказать на основании слов многих свидетелей, что Гай Веррес не раз говорил в Сицилии в присутствии многих людей, что за ним стоит влиятельный человек, полагаясь на которого, он может грабить провинцию, а деньги он собирает не для одного себя; что он следующим образом распределил доходы своей трехлетней претуры в Сицилии: он будет очень доволен, если доходы первого года ему удастся обратить в свою пользу; доходы второго года он передаст своим покровителям и защитникам; доходы третьего года, самого выгодного и сулящего наибольшие барыши, он полностью сохранит для судей. (41) Ввиду этого мне приходит на ум сказать то, о чем я недавно говорил в присутствии Мания Глабриона при отводе судей и из-за чего, как я понял, римский народ сильно встревожился: по моему мнению, чужеземные народы, пожалуй, пришлют послов к римскому народу просить его об отмене закона о вымогательстве и суда по этим делам; ибо если такого суда не будет, то каждый наместник будет брать себе лишь столько, сколько, по его мнению, будет достаточно для него самого и для его детей; но теперь, при наличии таких судов, каждый забирает столько, чтобы хватило ему самому, его покровителям, его заступникам, претору и судьям; этому, разумеется, и конца нет; по словам чужеземных народов, они еще могут удовлетворить алчность самого алчного человека, но оплатить победу тяжко виновного они не в состоянии.
(42) О, достопамятные суды! Какую громкую славу стяжало наше сословие![146] Подумать только! Союзники хотят отмены суда за вымогательство, учрежденного нашими предками именно ради союзников! Разве Веррес питал бы какую-либо надежду на благоприятный исход суда, если бы у него не сложилось дурного мнения о вас? Поэтому Веррес должен быть вам ненавистен еще более, чем римскому народу, если это возможно, так как считает вас равными себе по алчности, способности к злодеяниям и клятвопреступлению.
(XV, 43) Во имя бессмертных богов, судьи! Проявите в этом случае заботливость и предусмотрительность. Предостерегаю и предупреждаю вас: я твердо убежден в том, что возможность избавить все сословие от ненависти, вражды, позора и бесславия вам дана свыше. В судах нет более ни строгости, ни добросовестности; можно даже сказать, что и самих судов нет. Поэтому римский народ и относится к нам с пренебрежением, с презрением; на нас лежит пятно тяжкого и давнего бесславия. (44) Ведь именно по этой причине римский народ так настаивал на восстановлении власти трибунов. Выставляя это требование, он, казалось, на словах требовал восстановления трибуната, на деле же — восстановления правосудия. И это хорошо понял Квинт Катул[147], мудрейший и широко известный человек; когда Гней Помпей, храбрейший и прославленный муж, внес предложение о восстановлении власти народных трибунов[148] и Катула спросили о его мнении, он с самого начала с глубокой уверенностью сказал: отцы-сенаторы роняют и позорят правосудие; если бы они, вынося приговоры, захотели считаться с мнением римского народа, то народ не требовал бы восстановления власти трибунов так настоятельно. (45) Наконец, когда сам Гней Помпей как избранный консул впервые выступил с речью на народной сходке вне городской черты[149] и когда он — чего, по-видимому, с нетерпением ожидали — дал понять, что намерен восстановить власть народных трибунов, то его слова вызвали в толпе перешептывание и одобрительные возгласы. Но когда он сказал на этой сходке, что ограблены и разорены провинции, а судебные приговоры выносятся позорные и гнусные, что он намерен обратить на это свое особое внимание и принять меры для устранения этого зла, тогда римский народ действительно выразил свою волю уже не перешептыванием, а громкими криками.
(XVI, 46) Но теперь все люди стоят настороже и следят, как каждый из нас относится к своим обязанностям и соблюдает законы. Он видит, что до сего времени, после издания законов о трибунах, осужден только один сенатор и притом человек малосостоятельный. Хотя они и не порицают этого, но и хвалить им особенно нечего; ибо вовсе не заслуга быть бескорыстным там, где тебя никто не может, да и не пытается подкупить.
(47) В этом судебном деле вы вынесете приговор обвиняемому, а римский народ — вам. На примере этого человека будет установлено, может ли — если судьями являются сенаторы — быть осужден человек явно преступный и притом очень богатый. Ведь обвиняемый — такой человек, за которым не числится ничего, кроме величайших преступлений, причем состояние у него огромное; поэтому если он будет оправдан, то это вызовет только одно, самое позорное для вас подозрение; ни влияние, ни родственные связи, ни какие-либо его благовидные поступки, которые он, быть может, совершил в иных условиях, ни незначительность какого-либо его отдельного промаха не покажутся достаточно веским доводом для оправдания его столь многих и столь тяжких преступлений. (48) Наконец, я так поведу дело, судьи, представлю такие факты, столь известные, столь хорошо засвидетельствованные, столь важные, столь очевидные, что никто не попытается, пустив в ход свое влияние, добиваться от вас оправдания Верреса. Впрочем, у меня есть верный путь и план, чтобы разоблачить и проследить все подобные попытки той стороны. Я поведу дело так, что все их замыслы не только дойдут до ушей всего народа; нет, римский народ даже увидит их воочию. (49) В вашей власти уничтожить и смыть позор и бесславие, вот уже столько лет лежащие на этом сословии. Всем известно, что со времени учреждения нынешних судов не было еще ни одного совета судей столь блистательного, столь достойного. Если и он в чем-либо погрешит, все люди решат, что уже не в этом сословии следует искать других, более подходящих судей, так как это невозможно, но что к вынесению судебных приговоров надо вообще привлечь другое сословие.
(XVII, 50) Поэтому, судьи, я прежде всего прошу бессмертных богов о том, на что я, мне кажется, могу надеяться: чтобы при слушании этого дела не нашлось ни одного бесчестного человека, кроме разве такого, чья бесчестность известна уже давно; но если в дальнейшем таких окажется несколько, то я заверяю вас, судьи, заверяю римский народ: с жизнью своей, клянусь Геркулесом, расстанусь я скорее, чем мне при преследовании их за их бесчестные поступки изменят силы и упорство.
(51) Но то зло, за которое я, не останавливаясь ни перед трудами, ни перед опасностями, ни перед враждебным отношением к себе, обязуюсь строго преследовать в случае, если оно окажется налицо, ты, Маний Глабрион, авторитетом своим, мудростью и бдительностью можешь предотвратить. Возьми на себя защиту правосудия, защиту строгости, неподкупности, честности, верности долгу; возьми на себя защиту сената, чтобы он, заслужив одобрение в этом судебном деле, стяжал похвалы и благосклонность римского народа. Подумай, какое место ты занимаешь, что должен ты дать римскому народу, чем обязан ты предкам; вспомни о внесенном твоим отцом Ацилиевом законе, на основании которого римский народ в делах о вымогательстве выносил безупречные приговоры при посредстве строжайших судей. (52) Перед твоими глазами примеры великих государственных людей, не позволяющие тебе забывать о славе твоего рода, днем и ночью напоминающие тебе, что у тебя были храбрейший отец, мудрейший дед, сильный духом тесть. Поэтому если ты, унаследовав силу и мужество своего отца Глабриона, будешь давать отпор наглейшим людям, если ты, с предусмотрительностью своего деда Сцеволы[150], сумеешь предотвратить козни, направленные против твоего доброго имени и против этих судей, если ты, с непоколебимостью своего тестя Скавра[151], будешь противиться всем попыткам заставить тебя вынести несправедливый, необдуманный и необоснованный приговор, то римский народ поймет, что, когда претор неподкупен и безукоризненно честен, когда совет судей состоит из достойных людей, богатства виновного подсудимого скорее усилили подозрение в его преступности, чем способствовали его оправданию.
(XVIII, 53) Я твердо решил не допускать, чтобы во время разбора этого дела сменились претор и совет судей. Я не потерплю, чтобы дело затянули до той поры, когда сицилийцев, которых до сего времени все еще не вызывали в суд рабы избранных консулов[152], — их, вопреки обычаю, приглашали прийти всех сразу — могли бы вызвать ликторы консулов, уже приступивших к своим должностным обязанностям. Я не допущу, чтобы эти несчастные люди, в прошлом союзники и друзья римского народа, а ныне его рабы и просители, в силу консульского империя не только потеряли свои права, но даже были лишены возможности оплакивать потерю своих прав. (54) Я, конечно, не допущу, чтобы, после того как я произнесу речь, мне стали отвечать только через сорок дней, когда после столь продолжительного перерыва моя обвинительная речь, конечно, будет забыта. Я не соглашусь, чтобы приговор выносили тогда, когда это множество людей Италии, собравшихся отовсюду одновременно по случаю комиций, игр и ценза[153], покинет Рим. В этом судебном деле и награда в виде похвал, и угроза осуждения, по моему мнению, должны выпасть на вашу долю; труды и тревоги — на мою; знакомство с существом самого дела и память о том, что будет сказано каждым из нас, — на долю всех. (55) Приступая сразу к допросу свидетелей, я не ввожу никакого новшества; так и до меня поступали люди, ныне первые среди наших сограждан. Нововведение с моей стороны вы, судьи, можете усмотреть в порядке допроса свидетелей, который мне позволит предъявить обвинение в целом; как только я подкреплю статьи обвинения вопросами, доказательствами и объяснениями, я стану допрашивать свидетелей по каждой статье обвинения, так что вся разница между общепринятым и этим новым способом обвинения будет состоять только в том, что при первом свидетелей представляют после того, как уже сказано все, я же буду представлять свидетелей по каждой отдельной статье обвинения — с тем, чтобы мои противники имели такую же возможность допрашивать свидетелей, приводить свои доводы и выступать с речами. Если кто-нибудь пожелает выслушать непрерывающуюся обвинительную речь целиком, то он услышит ее во время второго разбора дела. Теперь же надо понять, что я действую так (с целью отразить своей предусмотрительностью коварные замыслы своих противников) по необходимости.
(56) Итак, вот в какой форме обвинение предъявляется при первом слушании дела: я утверждаю, что Гай Веррес в своей разнузданности и жестокости совершил много преступлений по отношению к римским гражданам и союзникам, много нечестивых поступков по отношению к богам и людям и, кроме того, противозаконно стяжал в Сицилии 40.000.000 сестерциев. Я докажу вам это с полной ясностью на основании свидетельских показаний, на основании книг частных лиц и официальных отчетов, и вы должны будете сами признать, что — даже если бы в моем распоряжении и было достаточно времени и свободных дней, чтобы говорить, не ограничивая себя, — в длинной речи все же никакой надобности не было. Я закончил.
3. Речь против Гая Верреса [Вторая сессия, книга IV, «О предметах искусства». 70 г. до н. э.]
(I, 1) Перехожу теперь к тому, что сам Веррес называет своей страстью, его друзья — болезнью и безумием, сицилийцы — разбоем. Как мне назвать это, не знаю. Я расскажу вам об обстоятельствах дела, а вы оцените его по существу, а не по названию. Сначала ознакомьтесь с сутью дела, судьи! Тогда вы, пожалуй, не станете особенно доискиваться, как вам это назвать.
Я утверждаю, что во всей Сицилии, столь богатой, столь древней провинции, в которой так много городов, так много таких богатых домов, не было ни одной серебряной, ни одной коринфской или делосской вазы, ни одного драгоценного камня или жемчужины, ни одного предмета из золота или из слоновой кости, ни одного изображения из бронзы, из мрамора или из слоновой кости, не было ни одной писанной красками или тканой картины, которых бы он не разыскал, не рассмотрел и, если они ему понравились, не забрал себе. (2) Мне кажется, я делаю весьма важное заявление; обратите внимание также и на то, как я делаю его. Ведь я не ради красного словца, не с целью усилить обвинение перечисляю все это по порядку. Когда я говорю, что он во всей провинции не оставил ни одного такого предмета, то я, знайте это, употребляю слова в их подлинном значении, а не так, как принято у обвинителей. Скажу еще яснее: он ничего не оставил ни в одном частном доме, не исключая также и домов своих гостеприимцев; ни в одном общественном месте, не пощадив даже и храмов; ничего не оставил ни у одного сицилийца, ни у одного римского гражданина; словом, ничего из того, что ему бросилось в глаза и пришлось по вкусу, — будь это достоянием частным или же общественным, светским или же сакральным — не оставил он во всей Сицилии.
(3) С чего же мне лучше начать, как не с того города, который был предпочтен тобой всем прочим и был тебе особенно дорог?[154] С кого, как не самих предстателей за тебя?[155] Ибо легче можно будет понять, как ты вел себя по отношению к тем, кто тебя ненавидит, кто тебя обвиняет, кто тебя преследует, когда окажется, что даже своих мамертинцев ты ограбил самым бессовестным образом.
(II) Гай Гей, в чем со мной легко согласятся все, кто бывал в Мессане, — мамертинец, во всех отношениях самый выдающийся среди своих сограждан. Его дом — едва ли не лучший в Мессане; во всяком случае самый известный там и наиболее открытый для наших сограждан и очень гостеприимный. Дом этот, до приезда Верреса, был так украшен, что и своему городу служил украшением; ибо в самой Мессане, имеющей, правда, красивое местоположение, стены и гавань, совсем нет предметов, которыми увлекается Веррес. (4) Была в доме у Гея благоговейно чтимая, очень древняя божница, перешедшая к нему от предков; в ней стояли четыре прекрасные статуи чрезвычайно искусной работы, пользовавшиеся широкой известностью; они могли бы доставить удовольствие, не говорю уже — этому ценителю и знатоку, но даже нам, которых он называет невеждами. Из них одна, мраморное изображение Купидона, изваяна Праксителем; как видите, я, производя следствие по делу Верреса, заучил даже имена художников[156]. Если не ошибаюсь, тот же художник изваял Купидона в таком же роде, находящегося в Феспиях, ради которого в Феспии приезжают путешественники; ведь приезжать туда больше не за чем. Даже знаменитый Луций Муммий, вывозя из этого города статуи Феспиад, которые ныне стоят перед храмом Счастья[157], и другие несвященные изображения, не тронул этого мраморного Купидона, так как он был посвящен богам.
(III, 5) Но возвращаюсь к божнице. Та статуя Купидона, о которой я говорю, была из мрамора; с другой стороны находилась статуя Геркулеса, превосходно отлитая из бронзы. Ее приписывали, если не ошибаюсь, Мирону[158] и с полным основанием. Перед изображениями этих богов стояли маленькие алтари, ясно указывавшие любому человеку на святость божницы. Кроме того, там были две бронзовые статуи средней величины, но необычайно красивые, представляющие, если судить по осанке и одежде, девушек, которые, подняв руки, держали на голове какие-то священные предметы, как это в обычае у афинянок. Статуи эти назывались канефорами[159]; что касается мастера, — кто он был? Ты напоминаешь мне, кстати, — их приписывали Поликлету[160]. Каждый из наших сограждан по приезде в Мессану их осматривал; все могли осматривать их в любой день; дом этот был славой города не менее, чем славой своего хозяина. (6) Гай Клавдий[161], который, как известно, самым торжественным образом отпраздновал свое вступление в должность эдила, поставил этого Купидона на форуме на все то время, пока форум, украшенный в честь бессмертных богов и римского народа, находился в его распоряжении; так как Гай Клавдий связан с Геями узами гостеприимства и был патроном мамертинцев, то Геи с полной готовностью предоставили эту статую в его распоряжение, а он добросовестно возвратил ее. Недавно, — но что я говорю «недавно»? — нет, только что, в самое последнее время мы видели таких знатных людей, которые украшали форум и басилики[162] не добычей, взятой в провинциях, а богатствами своих друзей, предметами, предоставленными им их гостеприимцами, а не украденными преступной рукой. При этом они возвращали каждому то, что ему принадлежало, — и статуи и украшения, а не брали их из городов наших союзников и друзей будто бы на четыре дня, под предлогом празднования своего эдилитета, чтобы затем увезти их в свой дом и в свои усадьбы[163]. (7) Все эти статуи, о которых я говорил, судьи, Веррес взял у Гея из божницы; ни одной из них он, повторяю, не оставил, вообще ни одной, кроме одной очень старой деревянной статуи — Доброй Фортуны[164], если не ошибаюсь; ее он не захотел держать в своем доме.
(IV) Заклинаю вас богами и людьми! Что это? Что это за судебное дело? Какая наглость! Ведь эти статуи, о которых я говорю, до того, как ты их увез, осматривал всякий, кто приезжал в Мессану, облеченный империем. Столько преторов, столько консулов перебывало в Сицилии и в военное и в мирное время, столько разных людей — я уж не говорю о честных, бескорыстных, набожных, — нет, столько алчных, столько бессовестных, столько преступных, и все же никто не считал себя таким сильным, таким могущественным, таким знаменитым, чтобы решиться потребовать для себя, взять что-либо из той божницы или хотя бы к чему-нибудь прикоснуться! А Веррес может забирать себе все самое прекрасное, где бы оно ни оказалось? Кроме него, никому ничего нельзя будет иметь? Столько богатейших домов поглотит один его дом? Для того ли все его предшественники не прикоснулись ни к одному из этих предметов, чтобы их забрал этот человек? Для того ли их возвратил Гай Клавдий Пульхр, чтобы их мог увезти Гай Веррес? Но ведь тот Купидон не стремился в дом сводника и в школу разврата; он был вполне доволен пребыванием в родной божнице; он знал, что Гею он достался от его предков как наследственная святыня, и не стремился попасть в руки наследника распутницы[165].
(8) Но почему я так жестоко нападаю на Верреса? Меня могут остановить одним словом. Он говорит: «Все это я купил». Бессмертные боги! Превосходное оправдание! Так это купца посылали мы в провинцию, облеченного империем и в сопровождении ликторов, чтобы он скупал все статуи, картины, все изделия из серебра и золота, слоновую кость, драгоценные камни, никому не оставляя ничего? Вот вам и оправдание от всех обвинений: «Все это было куплено». Если я соглашусь с твоим утверждением, что ты купил эти вещи, — ведь это, очевидно, будет единственным твоим возможным оправданием по этой статье обвинения — то прежде всего я спрошу тебя: какого мнения был ты о римском суде, если думал, что кто-нибудь сочтет допустимым, что ты, претор, облеченный империем, скупил столько таких драгоценностей, да и вообще мало-мальски ценных вещей во всей провинции?
(V, 9) Обратите внимание на предусмотрительность наших предков, которые, не предполагая, что возможны такие огромные злоупотребления, все же предвидели, что это могло произойти в частных случаях. Ни от кого из тех, кто выезжал в провинцию, облеченный властью или как легат[166], они не ожидали такого безумия, чтобы он стал покупать серебро (оно ему давалось от казны) или ковры (они ему предоставлялись на основании законов[167]); покупку раба они считали возможной; рабами все мы пользуемся, и народ их нам не предоставляет; но предки наши разрешали покупать рабов только взамен умерших. И в том случае, если кто-нибудь из них умрет в Риме? Нет, только если кто-либо умрет там, на месте. Ибо они вовсе не хотели, чтобы ты богател в провинции, но только чтобы ты пополнил свою утрату, понесенную там. (10) По какой же причине они так строго запрещали нам покупки в провинциях? По той причине, судьи, что они считали грабежом, а не покупкой, если продающему нельзя продать свое имущество по своему усмотрению. Они понимали: если лицо, облеченное империем и властью, захочет в провинциях купить что́ ему вздумается, у кого бы то ни было и если это будет ему разрешено, то он возьмет себе любую вещь — продается ли она или нет — по той цене, по какой он захочет.
Мне скажут: «Не приводи таких доводов, говоря о Верресе, и не применяй к его поступкам правил строгой старины; согласись с тем, что покупка его законна, если только он совершил ее честно, не злоупотребив своей властью, не принудив владельца, не допустив беззакония». Хорошо, я буду рассуждать так: если Гей хотел продать что-либо из своего имущества, если он получил ту цену, какую назначил, то я не стану спрашивать, на каком основании купил ее ты. (VI, 11) Что же нам следует делать? Нужно ли нам в таком деле приводить доказательства? Мне думается, надо спросить: разве у Гея были долги, разве он устраивал продажу с торгов? Если да, то настолько ли он нуждался в деньгах, в таких ли стесненных обстоятельствах, в таком ли безвыходном положении был он, что ему пришлось ограбить свою божницу, продать богов своих отцов? Но он, оказывается, не устраивал никаких торгов, никогда ничего не продавал, кроме своего урожая; у него не только нет и не было долгов, но есть много своих денег и всегда их было много; оказывается, даже если бы все было иначе, он все-таки никогда бы не согласился продать эти статуи, бывшие в течение стольких лет достоянием его рода и находившиеся в божнице его предков. «А что, если он польстился на большие деньги?» Трудно поверить, чтобы у такого богатого, такого почтенного человека любовь к деньгам взяла верх над благочестием и уважением к памяти предков. — (12) «Это так; но ведь иногда люди изменяют своим правилам, польстившись на большие деньги». Посмотрим теперь, велика ли была та сумма, которая смогла заставить Гея, очень богатого и совсем не алчного человека, забыть и свое достоинство, и уважение к памяти предков, и благочестие. Если не ошибаюсь, ты велел ему собственноручно внести в его приходо-расходные книги: «Все эти статуи Праксителя, Мирона и Поликлета проданы Верресу за 6500 сестерциев». Так он и записал. Читай. [Записи в приходно-расходных книгах]. Не забавно ли, что эти славные имена художников, которые знатоки превозносят до небес, так пали в мнении Верреса? Купидон Праксителя — за 1600 сестерциев! Конечно, отсюда и возникла пословица: «Лучше купить, чем просить».
(VII, 13) Мне скажут: «Вот как? Ты оцениваешь эти вещи так высоко?» — Нет, я оцениваю их не в соответствии со своими вкусами или со своим отношением к таким вещам, но все же полагаю, что вы должны руководствоваться той ценой, какую они имеют по мнению любителей, за какую их обычно продают, за какую можно было бы продать эти самые статуи, если бы они продавались открыто и свободно, какую, наконец, они имеют по оценке самого Верреса. Ибо, если бы этот Купидон, по мнению Верреса, стоил 400 денариев[168], то он никогда бы не согласился сделаться из-за него предметом разговоров и навлечь на себя такое сильное порицание. (14) Кто из вас не знает, во сколько эти предметы ценятся? Не на наших ли глазах небольшая бронзовая статуя была продана на торгах за 40.000 сестерциев? А разве я, при желании, не мог бы назвать людей, давших не меньшую и даже бо́льшую цену? И в самом деле, насколько сильно твое желание купить такую вещь, во столько ты ее и ценишь; трудно установить предельную цену, не установив пределов для своей страсти. Итак, ясно, что ни собственное желание, ни затруднительные обстоятельства, ни предложенные тобой деньги не могли заставить Гея продать эти статуи, и ты под видом покупки при помощи насилия и угроз, пуская в ход свой империй и ликторские связки, отнял и увез статуи у человека, которого, как и других союзников, римский народ вверил не только твоей власти, но, особенно, твоей честности.
(15) Что может быть для меня, судьи, более желательным, чем подтверждение этого обвинения самим Геем? Ничто, конечно; но не будем желать того, что трудно достижимо. Гей — мамертинец, а мамертинская община — единственная, которая официально, по всеобщему решению, дает Верресу хвалебный отзыв; все остальные сицилийцы его ненавидят; одни только мамертинцы его любят; более того, главой посольства, присланного с хвалебным отзывом о Верресе, является Гей (ведь он — первый среди своих сограждан); и он, стараясь выполнить официальное поручение, пожалуй, должен умолчать об обиде, нанесенной лично ему![169]
(16) Зная и обдумывая все это, судьи, я все-таки положился на Гея; я предоставил ему слово при первом слушании дела и сделал это, ничем не рискуя. В самом деле, что мог бы ответить Гей, будь он человеком бесчестным, а не тем, каков он в действительности? Что эти статуи находятся у него в доме, а не у Верреса? Как мог бы он сказать что-нибудь подобное? Будь он даже величайшим негодяем и бессовестнейшим лжецом, он мог бы сказать разве только одно — что назначил их к продаже и продал за столько, за сколько хотел. Будучи знатнейшим человеком у себя на родине, желая более всего, чтобы вы справедливо судили о его благочестии и чувстве собственного достоинства, он сначала сказал, что официально он Верреса восхваляет, так как это ему поручено; затем о том, что он не назначал тех статуй к продаже и что ни при каких условиях, если бы он был волен поступить, как захочет, его никогда бы не удалось склонить к продаже этих статуй, находившихся в божнице и оставленных и завещанных ему предками.
(VIII, 17) Почему же ты безучастно сидишь, Веррес? Чего ты ждешь? Почему ты говоришь, что Центурипы, Катина, Галеса, Тиндарида, Энна, Агирий и другие городские общины Сицилии стараются тебя подвести и погубить? А вот теперь Мессана, твоя вторая родина, как ты ее обыкновенно называл, она-то тебя и подводит; да, твоя Мессана, помощница твоя в злодеяниях, любовных дел твоих свидетельница, укрывательница твоей добычи и украденного тобой имущества. Ведь здесь присутствует влиятельнейший муж из этой городской общины, по случаю этого суда присланный оттуда в качестве ее представителя, первым выступивший с хвалебным отзывом о тебе, в официальном заявлении тебя прославляющий. Ибо так ему было поручено и приказано. Впрочем, вы помните его ответ, когда его спросили насчет кибеи[170]; по его словам, ее построили рабочие, собранные городом, и от имени общины постройкой ведал мамертинский сенатор.
И тот же Гей — как частное лицо — обращается к вам, судьи! Он ссылается на закон, на основании которого производится суд, на закон, являющийся оплотом для всех союзников[171]. Хотя это закон о вымогательстве денег, все же Гей, по его словам, денег обратно не требует; имущественный ущерб для него не особенно ощутителен; но возвращения святынь своих предков он, по его словам, от тебя требует; богов пенатов[172] своих отцов хочет вернуть себе. (18) Есть ли у тебя какое-нибудь чувство чести, какая-нибудь вера в богов, Веррес, хоть какой-нибудь страх перед законами? Ты жил в доме у Гея в Мессане; чуть ли не каждый день ты мог видеть, как он совершал обряды перед этими статуями богов в своей божнице. Ему не жаль денег; наконец, и статуй, служивших украшением дома, он не требует; оставь у себя канефор, но изображения богов возврати. И вот, за то, что он это сказал, за то, что он, союзник и друг римского народа, воспользовался удобным случаем, чтобы принести вам свою скромную жалобу, за то, что он был верен своему священному долгу не только тогда, когда требовал обратно отчих богов, но и тогда, когда под присягой давал показания, Веррес, знайте это, отправил в Мессану человека, одного из представителей городской общины, того самого, который, по ее поручению, ведал постройкой его корабля, с требованием, чтобы сенат объявил Гея человеком, утратившим гражданскую честь[173].
(IX, 19) Безрассуднейший человек, о чем ты при этом думал? Что тебя послушаются? Неужели ты не знал, как уважали Гея его сограждане, каким влиянием он пользовался у них? Но допустим, что ты бы добился своего; допустим, что мамертинцы вынесли бы какое-нибудь строгое постановление против Гея. Какой, по-твоему, вес будет иметь их хвалебный отзыв, если они решат наказать человека, давшего заведомо правдивые свидетельские показания? Впрочем, чего стоит этот хвалебный отзыв, когда хвалящий, отвечая на вопросы, неизбежно должен дать отзыв неблагоприятный? Далее, разве эти предстатели за тебя не являются в то же время свидетелями с моей стороны? Гей выступает с хвалебным отзывом и в то же время он тебе очень сильно повредил; я предоставлю слово остальным; о чем они смогут умолчать, они умолчат охотно, а что придется сказать, то скажут даже против своего желания.
Могут ли они отрицать, что тот огромный грузовой корабль был построен для Верреса в Мессане? Пусть отрицают, если могут. Станут ли они отрицать, что постройкой этого корабля, по поручению городской общины, ведал мамертинский сенатор? Как хорошо было бы, если бы они стали это отрицать! Есть также и многое другое, чего предпочитаю не затрагивать, дабы дать свидетелям возможно меньше времени обдумать, как им обосновать свое клятвопреступление. (20) Поздравляю тебя с этим хвалебным отзывом. Может ли служить для тебя поддержкой мнение тех людей, которые не должны были бы тебе помогать, если бы могли, но не могут, даже если бы захотели; которым ты нанес множество обид и оскорблений как частным лицам и в чьем городе ты своими бесчинствами и гнусностями опозорил так много семейств в лице всех их членов? Но ты, могут мне сказать, оказал услуги их городу. Да, но не без огромного ущерба для нашего государства и для провинции Сицилии. Мамертинцы должны были давать и обычно давали римскому народу в виде покупного хлеба 60.000 модиев[174] пшеницы; один ты освободил их от этой обязанности. Государство понесло ущерб, так как ты в одной городской общине поступился правами нашей державы; потерпели его и сицилийцы, так как из общего количества хлеба, подлежавшего сдаче, ты этого количества хлеба не вычел, а переложил его поставку на Центурипы и Галесу, независимые общины[175], что оказалось для них непосильным бременем.
(21) Ты должен был приказать мамертинцам на основании договора поставить корабль; ты дал им для этого три года сроку: в течение этих лет ты не потребовал от них ни одного солдата. Ты поступил точно так же, как поступают морские разбойники; будучи врагами всем людям, они все же заручаются дружбой некоторых из них — с тем, чтобы не только их щадить, но даже обогащать своей добычей; это особенно относится к жителям городов, расположенных в удобном для разбойников месте, куда их кораблям часто приходится приставать, иногда даже в силу необходимости.
(X) Пресловутая Фаселида, которую завоевал Публий Сервилий[176], раньше не принадлежала киликийцам и не была стоянкой разбойников; жителями ее были ликийцы, греки. Но она была расположена на мысе, выдававшемся в море так далеко, что морские разбойники, выходя на кораблях из Киликии, по необходимости часто приставали к ее берегам, а когда приплывали из наших краев, их корабли относило туда же; поэтому пираты вступили в сношения с этим городом; сначала в торговые, а затем также и в союз. (22) Мамертинская городская община ранее не была бесчестной; она даже была недругом бесчестным людям; ведь она задержала у себя обоз Гая Катона — того, который был консулом[177]. Какой это был человек! Прославленный и могущественнейший; и все-таки он после своего консульства был осужден. Да, Гай Катон, внук двоих знаменитейших людей, Луция Павла и Марка Катона, и сын сестры Публия Африканского![178] После его осуждения — в то время, когда выносились суровые приговоры, — ущерб, подлежавший возмещению, был определен в 8000 сестерциев. Мамертинцы были раздражены против него — они, которые на завтрак для Тимархида[179] не раз тратили больше, чем составляла сумма, подлежащая возмещению[180] Катоном.
(23) И этот город был подлинной Фаселидой для Верреса, сицилийского разбойника и пирата. Сюда все свозилось отовсюду, здесь же оставлялось на хранение; что надо было скрыть, то жители этого города складывали и прятали; при их посредстве Веррес тайком грузил на корабли, что хотел, и незаметно вывозил; наконец, у них он построил и снарядил огромный корабль, чтобы отправить его в Италию с грузом награбленного. За все это Веррес освободил их от затрат, тягот, военной службы, словом, от всего; в течение трех лет они одни в наше время не только в Сицилии, но, думается мне, во всем мире были безусловно и совершенно освобождены и избавлены от всяких издержек, хлопот и повинностей. (24) Отсюда пошли знаменитые Веррии[181], во время которых он приказал привести к себе Секста Коминия; его Веррес, швырнув в него кубком, велел схватить за горло и отвести в темницу. Тогда и был сооружен крест (на нем он распял римского гражданина на глазах у толпы); его он осмелился воздвигнуть только в том городе, который был его соучастником во всех его злодеяниях и разбое[182].
(XI) И после всего этого вы являетесь с хвалебным отзывом? Какое значение может иметь ваш отзыв? Может ли он иметь какое-либо значение в глазах сената или же в глазах римского народа? (25) Есть ли городская община, — не только в наших провинциях, но и в отдаленнейших странах — которая мнила бы себя столь могущественной или столь независимой, вернее, была бы столь дика и неприветлива, чтобы не пригласить под свой кров сенатора римского народа?[183] Наконец, какой царь не сделал бы этого? Честь эту оказывают не только данному лицу, но прежде всего римскому народу, по чьему благоволению я вступил в это сословие[184], затем авторитету всего этого сословия; ведь если последний не будет велик в глазах союзников и иноземных народов, то что станет с именем и достоинством нашей державы? Мамертинцы же от имени города меня к себе не пригласили. Что они не пригласили меня, не важно; но если они не пригласили сенатора римского народа, то они отказали в должном почете не одному человеку, а сословию. Ибо лично для Туллия был открыт великолепнейший дом Гнея Помпея Басилиска, куда я заехал бы даже в том случае, если бы и был приглашен вами; к моим услугам был также пользующийся величайшим уважением дом Перценниев, которые теперь тоже носят имя Помпеев[185]; в него, по их любезнейшему приглашению, заехал мой двоюродный брат Луций. Сенатор римского народа, если бы это зависело от вас, мог бы остаться в вашем городе на улице и провести ночь под открытым небом. Ни один другой город никогда так не поступал. — «Это потому, что ты пытался привлечь к суду нашего друга». — Ты, значит, мою деятельность как частного лица используешь как предлог для отказа сенатору в должном почете?
(26) Но на это я буду жаловаться лишь в том случае, если о вас зайдет речь среди членов того сословия, к которому доныне только вы одни отнеслись с пренебрежением[186]. А вот как осмелились вы предстать перед римским народом? А тот крест, по которому и теперь еще струится кровь римского гражданина, водруженный возле гавани вашего города? Неужели вы его не повалили, не бросили в море, не очистили всего того места искупительными жертвами, прежде чем явиться в Рим и предстать перед этим собранием? На земле союзного и мирного города мамертинцев воздвигнут памятник жестокости Верреса. Не ваш ли город выбран для того, чтобы все, едущие из Италии, видели крест римского гражданина раньше, чем встретят какого-либо друга римского народа? Ведь вы для того и показываете этот крест жителям Регия[187], которым вы завидуете из-за предоставленных им прав римского гражданства, а равно и живущим у вас поселенцам[188], римским гражданам, чтобы они стали менее заносчивы и не смотрели на вас свысока, видя, что их права римского гражданства уничтожены этой казнью.
(XII, 27) Но ты утверждаешь, что купил те предметы, о которых была речь. Ну, а те ковры во вкусе Аттала[189], известные на всю Сицилию? Их ты забыл купить у того же Гея? Ты ведь мог приобрести их таким же способом, каким приобрел статуи. Что же произошло? Или тебе лень было приписать несколько букв? Нет, этот полоумный человек просто упустил из вида; он решил, что кража из шкафа будет менее заметна, чем кража из божницы. И как он ее совершил? Я не могу сказать яснее, чем вам сказал это сам Гей. Когда я его спросил, не попало ли к Верресу что-нибудь из его имущества, Гей ответил, что Веррес прислал ему приказ отправить ковры к нему в Агригент. Я спросил, послал ли он их. Он не мог не ответить, что повиновался слову претора и отправил ковры. Я спросил, довезли ли их до Агригента; он ответил утвердительно. Я задал вопрос, как они были ему возвращены; он ответил, что они не возвращены ему и поныне. Толпа захохотала, а вы все были поражены. (28) И тут тебе не пришло на ум приказать Гею, чтобы он записал в свои книги, что и эти вещи он также продал тебе за 6500 сестерциев? Или ты побоялся увеличить общую сумму своих долгов, если бы тебе в 6.500 сестерциев обошлись вещи, которые ты легко продал бы за 200.000 сестерциев? Поверь мне, дело этого стоило; у тебя было бы что сказать в свою защиту; никто не спросил бы, сколько стоили эти вещи; если бы ты только мог сказать, что купил их, то тебе было бы легко перед кем угодно оправдаться в своем поступке; но теперь из дела с коврами тебе не вывернуться.
(29) А великолепные фалеры[190], по преданию, принадлежавшие царю Гиерону? Отнял ты их или же купил у Филарха из Центурип, богатого и всем известного человека? Во всяком случае, когда я был в Сицилии, я и от центурипинцев и от других людей — дело получило большую огласку — слышал следующее: ты взял у центурипинца Филарха эти фалеры так же, как взял и другие, такие же знаменитые фалеры у Ариста из Панорма, как третьи — у Кратиппа из Тиндариды. И в самом деле, если бы Филарх их тебе продал, то ты после внесения тебя в список обвиняемых не обещал бы ему их вернуть. Но так как ты убедился, что об этом все равно знают многие, то ты и рассудил: если ты отдашь фалеры, ценных вещей у тебя будет меньше, а свидетельских показаний против тебя не убавится; поэтому ты их и не отдал. Филарх как свидетель показал, что он, зная твою «болезнь», как выражаются твои друзья, хотел от тебя утаить фалеры и, когда ты его позвал к себе, он ответил, что их у него нет, и показал, что даже отдал их на хранение другому лицу, чтобы их не нашли; но ты оказался настолько проницательным, что тебе удалось осмотреть их при посредстве того самого человека, у которого они хранились, и тогда Филарх, будучи уличен, уже не мог запираться. Таким образом, у него отняли фалеры против его воли и притом даром.
(XIII, 30) Теперь стоит, судьи, обратить внимание на то, как Веррес находил и выслеживал все ценные вещи. В Кибире жили два брата — Тлеполем и Гиерон; один из них, если не ошибаюсь, занимался лепкой из воска, другой — живописью. Они, по-видимому, заподозренные жителями Кибиры в ограблении храма Аполлона, в страхе перед судом и законной карой бежали из родного города. Что Веррес — поклонник их искусства, они узнали еще тогда, когда он, как вам сообщили свидетели, приезжал в Кибиру с письменными обязательствами, составленными для видимости[191]; поэтому, покинув свою родину и став изгнанниками, они обратились к нему, когда он был в Азии. Они находились при нем в течение всего этого времени, он много пользовался их помощью и советами при грабежах и хищениях, пока был легатом[192]. (31) Именно им Квинт Тадий[193], согласно записи в его книгах, по приказанию Верреса заплатил деньги как «греческим живописцам». Хорошо узнав и проверив их на деле, Веррес взял их с собой в Сицилию. Они, когда туда приехали, всем на удивление, словно охотничьи собаки, все вынюхивали и выслеживали, находя тем или иным способом что бы и где бы то ни было. Одно они разыскивали посредством угроз, другое — посредством обещаний; одно — с помощью рабов, другое — с помощью свободных людей; одно — при посредстве друзей, другое — при посредстве недругов; стоило вещи понравиться им, пиши — пропало. Те, от кого Веррес требовал серебряную утварь, желали одного — чтобы она не понравилась Гиерону и Тлеполему.
(XIV, 32) Это, клянусь Геркулесом, правдивый рассказ, судьи! Я припоминаю, как Памфил из Лилибея, мой друг и гостеприимец, знатный человек, рассказывал мне, что он — после того как Веррес, злоупотребив своей властью, отнял у него массивную гидрию[194] чудной работы, произведение Боэта, — возвратился домой опечаленный и расстроенный тем, что такой ценный сосуд, доставшийся ему от отца и предков, которым он пользовался в праздничные дни и при приеме гостей, у него отняли. «Сидел я у себя дома печальный, — говорил он, — вдруг прибегает раб Венеры[195] и велит мне немедленно нести к претору кубки с рельефами; я сильно встревожился, — продолжает он, — кубков у меня была пара; я велел достать оба кубка, чтобы не стряслось большей беды, и нести их со мной в дом претора. Когда я туда пришел, претор почивал; пресловутые братья из Кибиры расхаживали по дому; увидев меня, они спросили: “Где же твои кубки, Памфил?” Показываю их с грустью; хвалят. Начинаю сетовать: если мне придется отдать также и эти кубки, у меня не останется ни одной сколько-нибудь ценной вещи. Тогда они, видя мое огорчение, говорят: “Сколько ты дашь нам за то, чтобы кубки остались у тебя?” Одним словом, — сказал Памфил, — они потребовали с меня тысячу сестерциев; я обещал дать их. В это время послышался голос претора, требовавшего кубки. Тогда они стали говорить, что на основании рассказов им казалось, что кубки Памфила представляют ценность, но это дрянь, недостойная находиться среди серебряной утвари Верреса. Тот сказал, что и он такого мнения». Так Памфил унес домой свои прекрасные кубки. (33) И хотя я, клянусь Геркулесом, полагал, что знать толк в этих вещах — дело пустое, все же я ранее был склонен удивляться, что Веррес несколько разбирается в этом. (XV) Только тогда и понял я, что те братья из Кибиры для того и существовали при Верресе, чтобы он при своих хищениях пользовался своими руками, но их глазами.
Но Веррес настолько дорожит этой прекрасной репутацией знатока произведений искусства, что совсем недавно — судите о его безрассудстве уже после комперендинации[196], когда его считали уже осужденным и мертвым как гражданина, он, во время игр в цирке, рано утром, когда в доме у Луция Сисенны[197], виднейшего мужа, были постланы триклинии[198] и уставлены серебряной утварью столы и когда, в соответствии с высоким положением Луция Сисенны, к нему явилось множество очень почтенных людей, подошел к серебряной утвари и начал не торопясь очень внимательно рассматривать каждую вещь. Одни удивлялись его глупости, так как он, находясь под судом, давал пищу подозрению, что действительно подвержен той самой страсти, какую ему приписывали; другие — его безрассудству, раз ему, после комперендинации, когда уже высказалось такое множество свидетелей, приходят на ум такие пустяки. Но рабы Сисенны, вероятно, потому что слышали свидетельские показания, уличавшие Верреса, не спускали с него глаз и ни на шаг не отходили от серебра. (34) Хороший судья должен обладать способностью на основании мелочей судить и о жадности и о воздержности каждого. Если обвиняемый и притом обвиняемый, по закону еще только подвергнутый комперендинации, а в действительности и по всеобщему мнению, можно сказать, осужденный, в присутствии стольких людей не удержался и стал брать в руки и осматривать серебряную утварь Луция Сисенны, то кто допустит, что этот человек, в бытность свою претором в провинции, мог сдерживать свою страсть и не посягать на серебряную утварь сицилийцев?
(XVI, 35) Но — после этого отступления — вернемся в Лилибей. У Памфила, у того самого, у которого отняли гидрию, есть зять Диокл, по прозванию Попилий; у него Веррес отобрал все вазы, какие были расставлены на абаке[199]. Впрочем, он может сказать, что купил их; и в самом деле, в этом случае, ввиду значительной ценности забранных вещей, составлена запись. Он велел Тимархиду оценить серебряную утварь возможно дешевле — как никто не оценивал даже подарков для актеров[200].
Впрочем, я уже давно иду по ложному пути, говоря о твоих покупках и спрашивая, купил ли ты эти вещи или не покупал их и как ты их купил и за сколько, в то время как я могу выразить это одним словом. Покажи мне записи о том, сколько серебряной утвари ты приобрел в провинции Сицилии, у кого ты купил каждую вещь и за сколько. (36) Ну, что же? Правда, мне не следовало бы требовать от тебя этих записей; ибо я должен был бы располагать твоими книгами и иметь возможность их предъявить. Но ты говоришь, что ты в течение нескольких лет не вел книг. Представь сведения о том, о чем я требую, — о серебряной утвари; насчет остального — дело мое. — «И записей нет у меня и предъявить мне нечего». — Как же быть? Что же, по твоему мнению, могут сделать наши судьи? В доме у тебя было множество прекрасных статуй еще до твоей претуры; многие из них стоят в твоих усадьбах, многие переданы на хранение твоим друзьям, много их роздано и раздарено другим людям; но в книгах не говорится ни об одной покупке. Вся серебряная утварь похищена из Сицилии; владельцам не оставлено ничего такого, что представляло бы малейшую ценность в их глазах. Придумывают ложное оправдание, будто все это серебро претор скупил; но именно это и нет возможности доказать на основании записей в книгах. Если в книгах, которые ты предъявляешь, не записано, как приобретено то, что у тебя имеется, а за последнее время, когда ты, по твоим словам, купил очень много вещей, ты вообще никаких книг не предъявляешь, то не должен ли суд — и на основании предъявленных и на основании непредъявленных тобой книг — вынести тебе обвинительный приговор?
(XVII, 37) Это ты в Лилибее отнял у римского всадника Марка Целия, отличного во всех отношениях молодого человека, все, что хотел; это ты не постеснялся отнять у Гая Какурия, деятельного, предприимчивого и чрезвычайно влиятельного человека, всю его утварь; это ты, ни от кого не таясь, отнял в Лилибее у Квинта Лутация Диодора, получившего от Луция Суллы, по ходатайству Квинта Катула, права римского гражданства, его огромный и великолепный стол цитрового дерева[201]. Не порицаю тебя за то, что ты обобрал человека, вполне достойного тебя, — Аполлония из Дрепана, сына Никона, которого теперь зовут Авлом Клодием, и отнял у него все его прекрасное чеканное серебро; об этом я молчу. Ведь он не считает себя обиженным, так как ты пришел ему на помощь, когда он был совершенно разорен и собирался надеть петлю на шею; при этом ты поделился с ним похищенным тобою у дрепанских сирот отцовским имуществом. Меня даже радует, что ты у него кое-что отнял, и я считаю это самым справедливым из твоих поступков. Но у Лисона, первого человека в Лилибее, в доме у которого ты жил, тебе во всяком случае не следовало отбирать статую Аполлона. Ты скажешь, что купил ее. Знаю, за тысячу сестерциев. — «Да, если не ошибаюсь». — Знаю, повторяю я. — «Я представлю записи». — Все же тебе не следовало так поступать. А подопечный Гая Марцелла, малолетний Гей, у которого ты отнял большую сумму денег? Ты утверждаешь, что ты купил у него в Лилибее чаши с рельефами, или же сознаешься, что отобрал их?
(38) Но к чему мне собирать подобного рода мелкие факты, касающиеся беззаконий Верреса и сводящиеся к хищениям, совершенным им, и к убыткам потерпевших? Если позволите, судьи, я приведу вам факт, из которого вы сможете усмотреть не просто жадность, а единственное в своем роде безрассудство и неистовство Верреса.
(XVIII) Диодор, уже выступавший перед вами как свидетель, родом из Мелиты, много лет подряд живет в Лилибее; он известный человек у себя на родине и ввиду своих высоких качеств блистательный и влиятельный в том городе, куда он переселился. Верресу говорят, что у него есть прекрасные вещи чеканной работы и, между прочим, так называемые ферикловы кубки, сделанные искуснейшей рукой Ментора[202]. Как только Веррес узнал об этом, он загорелся таким сильным желанием не только взглянуть на эти вещи, но и взять их себе, что позвал к себе Диодора и стал требовать кубки. Диодор, не имея никакой охоты расставаться с ними, отвечал, что их нет у него в Лилибее, что он оставил их в Мелите у одного из своих родственников. (39) Тогда Веррес тотчас же послал в Мелиту верных людей, написал кое-кому из жителей Мелиты, чтобы они все разузнали насчет этих сосудов, и просил Диодора написать своему родственнику; ожидание казалось ему бесконечным, настолько ему хотелось увидеть эти серебряные изделия. Диодор, честный и бережливый человек, желая сохранить свое имущество, в письме просил своего родственника ответить посланцам Верреса, что это серебро он недавно отослал в Лилибей. Сам он тем временем уехал; он предпочел на некоторое время отлучиться из дома, лишь бы не потерять своего прекрасного серебра, оставаясь на месте. Узнав об этом, Веррес рассвирепел так, что все, без сомнения, сочли его помешавшимся и взбесившимся. Так как сам он не смог отнять серебро, то он начал твердить, что Диодор отнял у него вазы превосходной работы; он стал грозить уехавшему Диодору, орать в присутствии всех, иногда с трудом сдерживая слезы. Есть предание об Эрифиле, жадность которой была так велика, что она, увидев, если не ошибаюсь, золотое ожерелье с драгоценными камнями и пленившись его красотой, предала собственного мужа[203]. Такая же жадность обуяла Верреса, даже еще более сильная и более безумная; ведь та женщина желала получить то, что она видела, а его желания возбуждались не только тем, что он видел, но и тем, о чем слышал.
(XIX, 40) Он велел искать Диодора по всей провинции; но тот уже успел покинуть Сицилию, собрав свои пожитки. Наш приятель, чтобы как-нибудь заманить Диодора обратно в провинцию, придумал вот какую уловку, если только это можно назвать хитрой уловкой, а не бессмысленной выдумкой: обратился к помощи одного из своих псов[204] с тем, чтобы тот заявил о своем намерении привлечь Диодора из Мелиты к уголовному суду. Вначале всем показалось странным, что обвиняют Диодора, человека в высшей степени смирного, которого никому не приходило в голову и заподозрить, уже не говорю — в преступлении, даже в малейшем проступке; затем стало ясно, что всему виной серебро. Веррес не колеблясь велел возбудить обвинение против Диодора; именно тогда он, если не ошибаюсь, и внес его заочно в списки обвиняемых[205]. (41) По всей Сицилии разнеслась весть, что из-за страсти к чеканному серебру людей привлекают к уголовному суду и притом даже заочно. Диодор в траурной одежде[206] стал обходить в Риме своих патронов и гостеприимцев и всем рассказал о своем деле. Веррес начал получать резкие письма от отца и друзей с советами обдумать свои действия по отношению к Диодору и их последствия, с сообщением, что дело получило огласку и вызывает возмущение, с подозрениями, что он не в своем уме и погибнет из-за одного этого обвинения, если не остережется. В то время Веррес еще относился к своему отцу, если не как к отцу, то все же как к человеку; он еще не запасся такими деньгами, чтобы не бояться суда. Это был первый год его наместничества, его сундуки еще не ломились от денег так, как во времена дела Стения[207]. Поэтому он несколько сдержался в своем неистовстве, но не из чувства чести, а из опасений и из страха. Он не посмел заочно вынести Диодору обвинительный приговор и вычеркнул его из списка обвиняемых. Между тем Диодор почти в течение трех лет, в бытность Верреса претором, жил вдали от провинции и своего дома.
(42) Все другие сицилийцы и даже римские граждане пришли к заключению, что, коль скоро Веррес так далеко зашел в своей страсти, никому не удастся ни спасти, ни сохранить у себя в доме ни одной вещи, какая приглянется ему; когда же они узнали, что тот стойкий муж, которого провинция ждала с нетерпением, — Квинт Аррий — не сменит Верреса[208], они поняли, что у них нет ни одной вещи, которая могла бы быть заперта и спрятана так тщательно, чтобы она не оказалась открытой и доступной для страсти Верреса.
(XX) Вскоре после этого Веррес отнял у блистательного и влиятельного римского всадника Гнея Калидия, чей сын, как ему было известно, был сенатором римского народа и судьей, серебряные кубки с конской головой, прекрасной работы, ранее принадлежавшие Квинту Максиму. (43) Но я напрасно заговорил об этом, судьи! Он их купил, а не отобрал; я сожалею, что так сказал; он будет красоваться и гарцовать на этих конях. — «Я купил их, заплатил деньги». — Верю. — «Даже книги будут предъявлены». — Ну, что ж, предъяви мне книги. Опровергни хотя бы это обвинение насчет Калидия, пока я буду просматривать твои книги. Но почему же Калидий жаловался в Риме, что он, в течение стольких лет ведя дела в Сицилии, лишь с твоей стороны встретил такое пренебрежение, такое презрение, что был обобран тобой наряду с остальными сицилийцами? Если ты купил у него это серебро, то какое было у него основание заявлять, что он потребует его у тебя по суду, раз он продал его тебе добровольно? Далее, мог ли бы ты повести дело так, чтобы не возвращать этого серебра Гнею Калидию, тем более, что он поддерживает столь дружеские отношения с твоим защитником Луцием Сисенной и что прочим друзьям Луция Сисенны ты возвратил их собственность? (44) Наконец, ты, я думаю, не станешь отрицать, что ты возвратил уважаемому человеку, но не более влиятельному, чем Гней Калидий, — Луцию Куридию — его серебряную утварь через посредство твоего друга Потамона. Впрочем, из-за Куридия ухудшилось положение других людей. Ибо ты сперва обещал многим людям вернуть им их собственность, но после того как Куридий показал перед судом, что ты возвратил ему его вещи, ты возвращать награбленное перестал, видя, что добычу из рук ты выпускаешь, а избегнуть свидетельских показаний тебе все равно не удается.
Римскому всаднику Гнею Калидию ни один из других преторов не запрещал иметь у себя серебряную утварь хорошей работы; ни один из них не лишал его возможности пышно и богато украшать свой стол во время пиршеств, принимая у себя должностных или других высокопоставленных лиц. Многие люди, облеченные властью и империем, посещали дом Гнея Калидия, но ни один из них не был так безумен, чтобы забрать себе эти столь прекрасные и знаменитые серебряные изделия; ни один из них не был так нагл, чтобы выпрашивать их себе в дар; ни один из них не был столь бесстыден, чтобы потребовать от владельца продажи их. (45) Ведь это — самомнение и притом совершенно нестерпимое, судьи, если претор в провинции заявляет уважаемому, зажиточному и блистательному человеку: «Продай мне свои чеканные вазы!» Ведь это означает: «Ты не достоин владеть вещами такой художественной работы. Это может соответствовать только моему достоинству». А разве ты, Веррес, более достойный человек, чем Калидий? Не стану сравнивать твоей жизни с его жизнью, твоей репутации с его репутацией (ведь это и не поддается сравнению); сравню именно то, в чем ты считаешь себя выше его: не потому ли, что ты дал 300.000 сестерциев раздатчикам денег при скупке голосов, чтобы тебя объявили избранным в преторы, 300.000 — обвинителю, чтобы он не тревожил тебя[209], ты и относишься свысока и с глубоким презрением к всадническому сословию? И поэтому ты, вероятно, и счел возмутительным, что вещью, которая тебе понравилась, владеет Калидий, а не ты?
(XXI, 46) Веррес давно уже хвалится своим поступком по отношению к Калидию и твердит всем, что купил у него эти вещи. А кадильницу[210] у Луция Папиния, виднейшего человека и зажиточного и почтенного римского всадника, ты тоже купил? Он показал как свидетель, что ты потребовал, чтобы ее тебе дали для осмотра, и что ты, сняв с нее накладные рельефы, возвратил ее, дабы вы поняли, что он знаток, а не алчный человек, и прельстился не серебром, а художественной отделкой.
И не только в случае с Папинием Веррес проявил такую воздержность: он следовал этому правилу всякий раз, как видел кадильницы, какие только были в Сицилии. А сколько их было и как прекрасны они были, трудно поверить. Очевидно, тогда, когда Сицилия процветала и была богата, на этом острове работало много искусных мастеров. Ибо, до претуры Верреса, в Сицилии не было мало-мальски зажиточного дома, где нельзя было бы найти таких предметов, как большого блюда с рельефными фигурами и изображениями богов, чаши для жертвоприношений, совершаемых женщинами, и кадильницы, — даже если в этом доме, кроме этих предметов, никакого серебра не было. Все это были вещи древней и художественной работы, так что можно предположить, что сицилийцы некогда имели в соответствующем числе также и другие ценные вещи, но что они, потеряв многое по воле судьбы, сохранили только то, что им велела оставить у себя религия.
(47) Я сказал, судьи, что вещей этих было много чуть ли не у всех сицилийцев, и я же утверждаю, что теперь у них не осталось ни единой. Что это значит? Какое чудовище, какого изверга послали мы в провинцию! Не кажется ли вам, что он, по возвращении своем в Рим, старался не просто наслаждаться видом красивых вещей и удовлетворять не только свою прихоть, но также и безумную страсть всех самых жадных людей? Как только он приезжал в какой-нибудь город, он немедленно выпускал своих кибирских псов, чтобы они все выследили и разнюхали. Если они находили большую вазу или вообще крупную вещь, они с восторгом ее тащили ему; но если им не удавалось затравить такого зверя, то они хватали хотя бы мелкую дичь — в виде небольших блюд, чаш, кадильниц. Как вы думаете, какой плач, какие сетования начинались среди женщин при таких обстоятельствах? Все это, быть может, покажется вам мелочью, но оно вызывает большую и глубокую скорбь, особенно у слабых женщин, когда у них вырывают из рук то, чем они привыкли пользоваться при религиозных обрядах, то, что они получили от родителей, то, что всегда принадлежало их семье.
(XXII, 48) Не ждите здесь, что я стану ходить из двери в дверь за обвинениями и говорить, что у Эсхила из Тиндариды он унес чашу, у Фрасона, также из Тиндариды, — небольшое блюдо, у Нимфодора из Агригента — кадильницу. Когда я представлю свидетелей из Сицилии, то пусть Веррес выбирает, кого захочет: я спрошу этого человека о блюдах, о чашах и о кадильницах; не найдется, уже не говорю — города, нет даже мало-мальски зажиточного дома, не пострадавшего от него. Придя на пирушку, он, заметив какую-нибудь чеканную вещь, не мог удержаться, чтобы не наложить на нее рук, судьи! В Тиндариде живет некто Гней Помпей; ранее его звали Филоном. Он дал Верресу обед в своей усадьбе близ Тиндариды. Он сделал то, на что сицилийцы не решались: будучи римским гражданином, он подумал, что для него это будет не так опасно; он поставил на стол блюдо с превосходными рельефными изображениями. Стоило Верресу увидеть их, как он тотчас же без всяких колебаний забрал с гостеприимного стола это драгоценное достояние пенатов и богов-покровителей гостеприимства; но все же — ведь я ранее говорил о его умеренности — он, сняв рельефы, возвратил остальное серебро, не проявив никакой алчности. (49) А Евполем из Калакты, знатный человек, связанный узами гостеприимства с Лукуллами и их близкий друг, находящийся теперь в войске Луция Лукулла? Не поступил ли Веррес с ним точно так же? Веррес у него обедал; он поставил на стол только гладкое серебро, чтобы его не ограбили; но два небольших кубка были с рельефами. Веррес, словно он был красивым актером, тут же, чтобы не уходить с пира без подарка, на глазах у гостей велел снять изображения с этих кубков.
И я не пытаюсь теперь перечислить все его поступки; в этом нет нужды и это совершенно невозможно. Я только хочу дать вам образчики и примеры каждого из разнообразных видов его бесчестности. Ведь он вел себя не как человек, сознающий, что в будущем ему придется дать ответ во всем, но в полной уверенности, что он никогда не будет обвинен или же что опасность суда, предстоящего ему, будет тем меньше, чем больше он награбит. То, о чем я говорю, он делал уже не тайно, не через своих друзей и посредников, но явно, с высоты трибунала, в силу своего империя и власти.
(XXIII, 50) Приехав в Катину, богатый, пользующийся почетом и процветающий город, он велел позвать к себе Дионисиарха, проагора, то есть высшее должностное лицо, и при всех приказал ему собрать и принести к нему всю серебряную утварь, какая только найдется у жителей Катины. Не слыхали ли вы, как центурипинец Филарх, выдающийся человек по своей знатности, достоинствам, зажиточности, говорил это же самое под присягой — что Веррес дал ему поручение и приказал собрать и доставить ему всю серебряную утварь, какая только найдется в Центурипах, одном из самых больших и самых богатых городов во всей Сицилии? Точно так же, по требованию Верреса, Аполлодор, чьи свидетельские показания вы слышали, отправил из Агирия в Сиракузы коринфские вазы.
(51) Но лучше всего следующее: приехав в Галунтий, он, этот усердный и добросовестный претор, не пожелал сам входить в город, так как подъем был труден и крут; он велел позвать галунтинца Архагата, именитейшего человека не только у себя на родине, но и во всей Сицилии, и приказал ему немедленно свезти из города к берегу моря всю чеканную серебряную утварь, какая только найдется в Галунтии, а также все коринфские вазы. Архагат поднялся в город. Знатный человек, желавший сохранить любовь и расположение сограждан, был удручен возложенным на него поручением, но делать было нечего. Он объявил о данном ему приказании и велел всем принести, что у кого было. Все перепугались донельзя; сам тиранн не двигался с места, а ждал под городом, лежа на лекти́ке[211] у моря, Архагата и серебро. (52) Представляете ли вы себе, какая суматоха началась в городе, как кричали или, вернее, как плакали женщины? При виде этого всякий сказал бы, что в город ввезли Троянского коня, что город взят. Вазы выносят без футляров, их вырывают из рук у женщин, во многих домах ломают двери, сбивают замки. Подумайте только: бывает, что в связи с войной и чрезвычайным положением[212], у частных лиц отбирают щиты и люди все же дают их неохотно, хотя они и знают, что дают их для всеобщего спасения; говорю об этом, дабы вы не думали, что кто-нибудь без глубокой скорби выносил из дому свою чеканную серебряную утварь, чтобы она досталась в добычу другому. Все отнесли Верресу; позвали кибирских братьев; небольшое число вещей не понравилось им; с тех вещей, которые им понравились, сорвали чеканные пластинки и рельефы; таким образом, галунтинцы возвратились домой с обчищенным серебром, лишившись своих любимых вещей.
(XXIV, 53) Была ли когда-либо, судьи, такая метла[213] в какой-либо провинции? Правда, нередко при посредстве местных властей кое-кто урывал что-нибудь из общинной казны; но даже тем, кто отнимал что-нибудь тайком у частного лица, все-таки выносили обвинительный приговор. И если вы хотите знать, я, даже в ущерб себе самому, считаю, что это и были настоящие обвинители, раз они хищения, совершенные такими людьми, выслеживали чутьем или же по оставленным ими легким следам. Но как же мне держать себя в деле Верреса, которого я нашел вывалявшимся в грязи, где остался след от всего его тела? Очень трудно выступать с речью против человека, который мимоходом, оставив на короткое время свою лекти́ку, не обманом, а открыто, своей властью, одним своим приказанием ограбил целый город, дом за домом! Все же, чтобы иметь возможность сказать, что он купил это серебро, он велел Архагату для видимости дать несколько жалких сестерциев тем, кому принадлежала серебряная утварь; Архагат нашел лишь немногих, которые согласились взять деньги, и дал их им. Веррес, однако, Архагату этих денег не вернул. Архагат хотел по суду взыскать их в Риме, но Гней Лентул Марцеллин отсоветовал ему это, как вы слышали от него самого. Прочти показания Архагата и Лентула.
(54) Но не подумайте случайно, что Веррес хотел набрать такую кучу рельефов без всякой цели; посудите сами, как высоко ставил он вас, как высоко ценил он мнение римского народа, как уважал он законы, суды, свидетельские показания сицилийцев и дельцов. Собрав такое множество рельефов и никому ни одного не оставив, он устроил в царском дворце в Сиракузах[214] огромную мастерскую. Он открыто велел созвать всех художников-чеканщиков и мастеров, изготовляющих вазы; кроме этих мастеров, у него было немало также и своих. Все это множество людей он запер у себя. В течение восьми месяцев кряду у них не было недостатка в работе, причем они изготовляли одни только золотые вазы. Вот тогда-то украшения, сорванные с кадильниц, были так умело приделаны к золотым кубкам, так удачно прилажены к золотым чашам, что казалось, будто они были созданы именно для них; при этом сам претор, чьей бдительности, если верить его словам, Сицилия обязана своим спокойствием, проводил в этой мастерской бо́льшую часть дня, одетый в темную тунику и плащ[215].
(XXV, 55) Я не осмелился бы говорить об этом, судьи, если бы не боялся, как бы вы не сказали мне, что вы в случайных беседах с другими людьми узнали о Верресе больше, чем от меня в суде. В самом деле, кто не слыхал об этой мастерской, о золотых сосудах, о его плаще? Пусть мне назовут любого порядочного человека из сиракузского конвента[216]; я предоставлю ему слово; всякий скажет, что он либо слыхал об этой мастерской, либо видел ее.
(56) О, времена, о, нравы! Приведу вам не особенно давний пример. Не один из вас знавал Луция Писона, отца ныне здравствующего Луция Писона, который был претором[217]. Когда он был претором в Испании — в той провинции, где его убили, — у него во время военных упражнений каким-то образом разломился на куски его золотой перстень. Желая заказать себе перстень, он велел позвать на форум в Кордубе, где он сидел в своем кресле[218], золотых дел мастера и на виду у всех дал ему золота по весу; он велел мастеру поставить свой стул на форуме и делать перстень в присутствии всех. Быть может, его назовут излишне добросовестным; кто хочет, может его порицать, не более. Но ему это следовало простить: ведь он был сыном того Луция Писона, который первый предложил закон о вымогательствах. (57) Смешно, что я теперь говорю о Верресе, после того как говорил о Писоне Фруги; но обратите внимание на разницу между ними: Верреса, хотя он и заказал вазы, которых бы хватило на несколько абаков, ничуть не заботило то, что ему пришлось бы услышать, не говорю уже — в Сицилии, но даже в Риме во время суда; Писон, при заказе на пол-унции золота, хотел, чтобы вся Испания знала, откуда то золото, из которого делают перстень для претора. Веррес, бесспорно, оправдал свое родовое имя, Писон — свое прозвание.
(XXVI) Никак не могу я ни обнять своей памятью, ни охватить своей речью все позорные поступки Верреса; я хочу коротко коснуться отдельных видов их; этот перстень Писона только что напомнил мне об одном из них, о котором я совершенно забыл. Как вы думаете, у скольких почтенных людей снял он перстни с пальцев? Он без колебаний делал это всякий раз, когда либо драгоценный камень, либо перстень нравился ему. Расскажу вам о случае невероятном, но столь ясном, что сам Веррес, полагаю я, не станет его отрицать. (58) Его переводчику Валенцию прислали письмо из Агригента, Веррес случайно обратил внимание на оттиск печати в белой глине[219]; печать понравилась ему; он спросил, откуда письмо получено; ему отвечали, что оно из Агригента. Он отправил письмо тем людям, которым обыкновенно писал в таких случаях, с приказанием, при первой возможности, доставить ему этот перстень. Таким образом, после его письма, был снят перстень с пальца почтенного отца семейства, римского всадника Луция Тиция.
Поистине жадность Верреса совершенно невероятна: ибо если даже допустить, что он хотел иметь по тридцати прекрасно убранных лож с прочими принадлежностями для пира для каждой из столовых, имеющихся у него не только в Риме, но и во всех его усадьбах, то и тогда он наготовил их себе слишком много. В Сицилии не было ни одного богатого дома, где бы он не устроил для себя ткацкой мастерской. (59) В Сегесте живет очень богатая и знатная женщина по имени Ламия; в течение трех лет ее дом был уставлен ткацкими станками, и у нее изготовлялись ковры и притом только окрашенные пурпуром; то же делал богач Аттал в Нете, Лисон — в Лилибее, Критолай в Этне, в Сиракузах — Эсхрион, Клеомен и Феомнаст, в Гелоре — Архонид. Мне скорее не хватит дня для перечисления, а не имен. — «Но пурпур давал он, друзья его — только рабочую силу». — Верю; ведь я не склонен вменять ему в вину все; как будто мне недостаточно для обвинения и того, что у него было так много пурпура, который он мог дать; что он хотел вывезти так много; наконец, того, с чем он сам согласен: он пользовался при этом рабочей силой своих друзей. (60) Далее, изготовлялись ли, по вашему мнению, в Сиракузах в течение трех лет для кого-нибудь, кроме него, ложа с бронзовыми украшениями и бронзовые канделябры? — «Он их покупал». — Верю; я только сообщаю вам, судьи, чем он, будучи претором, занимался в провинции, дабы никому не казалось, что он был недостаточно заботлив и не умел пользоваться властью, чтобы устроиться и обставиться вполне удовлетворительно.
(XXVII) Перехожу теперь уже не к хищениям, не к жадности, не к алчности Верреса, а к такому его деянию, которое, на мой взгляд, охватывает и заключает в себе все нечестивые поступки; бессмертные боги были этим деянием оскорблены, уважение к римскому народу и авторитет его имени унижены; права гостеприимства поруганы; это преступление Верреса оттолкнуло от нас всех искренно расположенных к нам царей и подвластные им народы.
(61) Как вам известно, в Риме недавно были сирийские царевичи, сыновья царя Антиоха[220]; они приезжали не по поводу получения ими царской власти в Сирии (их права на нее были бесспорны, так как они унаследовали ее от отца и предков); но они полагали, что им и их матери Селене должна достаться царская власть в Египте. Когда, вследствие неблагоприятного положения дел в нашем государстве[221], им не удалось при посредстве сената добиться того, чего они хотели, они выехали в Сирию, в царство своих отцов. Один из них, которого зовут Антиохом, пожелал ехать через Сицилию. И вот, он, во время претуры Верреса, прибыл в Сиракузы. (62) Тогда-то Веррес и решил, что ему досталось крупное наследство, так как в его царство приехал и в его руки попал человек, который, как он слыхал и подозревал, вез с собой много прекрасных вещей. Веррес послал ему довольно щедрые подарки для домашнего обихода — масла, вина, сколько нашел нужным, а также и пшеницы в достаточном количестве из своих десятин. Затем он пригласил самого царевича на обед. Он велел пышно и великолепно украсить триклиний[222] и расставить то, чего у него было вдоволь, — множество серебряных ваз прекрасной работы; ибо золотых он еще не успел изготовить. Он постарался, чтобы пир был обставлен и снабжен всем, чем следует. К чему много слов? Царевич отбыл, убежденный и в том, что Веррес весьма богат, и в том, что ему самому был оказан должный почет.
Затем он сам пригласил претора на обед к себе; велел выставить напоказ все свои богатства — много серебряной утвари, не мало и золотых кубков, украшенных, как это принято у царей, особенно в Сирии, прекрасными самоцветными камнями. Среди них был и ковш для вина, выдолбленный из цельного, очень большого самоцветного камня, с золотой ручкой; вы слышали показания о нем, данные, я полагаю, вполне достойным доверия и авторитетным свидетелем, Квинтом Минуцием. (63) Веррес стал брать в руки один сосуд за другим, хвалить их, любоваться ими. Царевич радовался, что пир у него доставляет такое удовольствие претору римского народа. Когда гости разошлись, Веррес, как показал исход дела, стал думать только об одном — как бы ему отпустить царевича из провинции обобранным и ограбленным. Он обратился к нему с просьбой дать ему красивые вазы, которые он у него видел; он будто бы хотел показать их своим мастерам-чеканщикам. Царевич, не зная его, дал их очень охотно, без малейшего подозрения; Веррес прислал также за ковшом из самоцветного камня; он, по его словам, хотел внимательнее осмотреть его; ему послали и ковш.
(XXVIII, 64) Теперь, судьи, внимательно слушайте продолжение; впрочем, об этом вы слышали и римский народ услышит не впервые, и это дошло до чужеземных народов вплоть до самых далеких окраин. Те царевичи, о которых я говорю, привезли в Рим осыпанный чудесными камнями канделябр[223] изумительной работы, чтобы поставить его в Капитолии; но так как храм оказался неоконченным[224], то они не смогли поставить там канделябр и не хотели выставлять его напоказ всем, чтобы, когда его, в свое время, поставят в святилище[225] Юпитера Всеблагого Величайшего, он показался и более драгоценным и более великолепным, и более блестящим, когда люди узрят его в его свежей и невиданной ранее красоте. Они решили увезти его с собой обратно в Сирию с тем, чтобы, получив известие о дедикации[226] статуи Юпитера Всеблагого Величайшего, снарядить посольство и среди других приношений доставить в Капитолий и этот редкостный и великолепнейший дар. Это каким-то образом дошло до ушей Верреса: ибо царевич хотел сохранить это в тайне, но не потому, что чего-либо боялся или что-нибудь подозревал, а так как не желал, чтобы многие люди увидели этот канделябр раньше, чем его увидит римский народ. Веррес начал просить и усиленно уговаривать царевича прислать ему канделябр; он, по его словам, желает взглянуть на него и никому не позволит видеть его. (65) Антиох, этот царственный юноша, конечно, не заподозрил Верреса в бесчестности; он велел своим рабам, самым тщательным образом закрыв канделябр, отнести его в преторский дом. Когда его принесли и поставили, сняв покрывала, Веррес стал восклицать, что вещь эта достойна сирийского царства, достойна быть царским даром, достойна Капитолия. И в самом деле, канделябр обладал таким блеском, какой должен был исходить от столь блестящих и великолепных камней, отличался таким разнообразием работы, что искусство, казалось, вступило в состязание с пышностью, такими большими размерами, что он, несомненно, предназначался не для повседневного употребления в доме, а для украшения величайшего храма. Когда посланным показалось, что Веррес насмотрелся вдоволь, они начали поднимать канделябр, чтобы нести его обратно. Веррес сказал, что хочет смотреть еще и еще, что он далеко еще не удовлетворен; он велел им уйти и оставить канделябр у него. Так они вернулись к Антиоху с пустыми руками.
(XXIX, 66) Вначале у царевича не было ни опасений, ни подозрений; проходит день, другой, несколько дней; канделябра не возвращают. Тогда он посылает к Верресу людей с покорной просьбой возвратить канделябр; Веррес велит им прийти в другой раз. Царевич удивлен, посылает вторично; вещи не отдают. Он сам обращается к претору и просит его отдать канделябр. Обратите внимание на медный лоб Верреса, на его неслыханное бесстыдство. Он знал, он слышал от самого царевича, что этот дар предназначен для Капитолия; он видел, что его сберегают для Юпитера Всеблагого Величайшего, для римского народа, и все-таки стал настойчиво требовать, чтобы дар этот отдали ему. Когда царевич ответил, что этому препятствует и его благоговение перед Юпитером Капитолийским и забота об общем мнении, так как многие народы могут засвидетельствовать назначение этой вещи, Веррес начал осыпать его страшными угрозами. Когда же он понял, что его угрозы действуют на царевича так же мало, как и его просьбы, он велел Антиоху немедленно, еще до наступления ночи, покинуть провинцию: он, по его словам, получил сведения, что из Сирии в Сицилию едут пираты. (67) Царевич при величайшем стечении народа на форуме в Сиракузах — пусть никто не думает, что я привожу неясные улики и присочиняю на основании простого подозрения, — повторяю, на форуме в Сиракузах, призывая в свидетели богов и людей, со слезами на глазах стал жаловаться, что сделанный из самоцветных камней канделябр, который он собирался послать в Капитолий и поставить в знаменитейшем храме как памятник его дружеских чувств союзника римского народа, Гай Веррес у него отнял; утрата других принадлежавших ему вещей из золота и редких камней, находящихся ныне у Верреса, его не огорчает; но отнять у него этот канделябр — низко и подло. Хотя он и его брат уже давно в мыслях и в сердце своем посвятили этот канделябр, все же он теперь, в присутствии всего конвента римских граждан, дает, дарит, жертвует и посвящает его Юпитеру Всеблагому Величайшему и призывает самого Юпитера быть свидетелем его воли и обета.
(XXX) Найдутся ли силы и достаточно громкий голос, чтобы заявить жалобу и поддержать одно это обвинение? Царевича Антиоха, которого мы все почти в течение двух лет видели в Риме с его блестящей царской свитой, друга и союзника римского народа, сына и внука царей, бывших нашими лучшими друзьями, происходящего от предков, издревле бывших прославленными царями, и из богатейшего и величайшего царства, Веррес внезапно прогнал из провинции римского народа! (68) Как, по твоему мнению, примут это чужеземные народы, что скажут они, когда молва о твоем поступке дойдет в чужие царства и на край света, когда узнают, что претор римского народа оскорбил в своей провинции царя, ограбил гостя, изгнал союзника и друга римского народа? Знайте, судьи, имя ваше и римского народа навлечет на себя ненависть и породит чувство ожесточения у чужеземных народов, если это великое беззаконие Верреса останется безнаказанным. Все будут думать — в особенности, когда эта молва об алчности и жадности наших граждан разнесется во все края, — что это вина не одного только Верреса, но также и тех, кто одобрил его поступок. Многие цари, многие независимые городские общины, многие богатые и влиятельные частные лица, конечно, намерены украшать Капитолий так, как этого требуют достоинство храма и имя нашей державы. Если они поймут, что вы похищение этого царского дара приняли близко к сердцу, то они будут считать, что их усердие и их подарки будут по сердцу вам и римскому народу; но если они узнают, что вы равнодушно отнеслись к такому вопиющему беззаконию по отношению к столь известному царю и к столь великолепному дару, то они впредь не будут столь безумны, чтобы тратить свои труды, заботы и деньги на вещи, которые, по их мнению, не будут вам по сердцу.
(XXXI, 69) Здесь я призываю тебя, Квинт Катул! Ведь речь идет о славном и прекраснейшем памятнике для тебя самого. По этой статье обвинения ты должен проявить не только строгость судьи, но, можно сказать, также и непримиримость недруга и обвинителя. Ведь именно тебе, милостью сената и римского народа, в этом храме воздается слава, твое имя становится бессмертным вместе с этим храмом; тебе следует потрудиться, тебе следует позаботиться о том, чтобы Капитолий, восстановленный в большем великолепии, был также и украшен еще богаче, дабы казалось, что пожар возник по промыслу богов — не для того, чтобы уничтожить храм Юпитера Всеблагого Величайшего, но чтобы потребовать постройки еще более прекрасного и более величественного храма. (70) Ты слыхал, как Квинт Минуций говорил, что царевич Антиох жил в его доме в Сиракузах; что он знает о передаче канделябра Верресу и о том, что он его не возвратил; ты уже слыхал и еще услышишь показания членов сиракузского конвента о том, что царевич Антиох в их присутствии пожертвовал и посвятил канделябр Юпитеру Всеблагому Величайшему. Даже если бы ты и не был судьей, но если бы тебе об этом заявили, то именно ты и должен был бы начать судебное преследование, ты — подать жалобу, ты — возбудить народ. Поэтому я и не сомневаюсь в строгости, с какой ты как судья отнесешься к этому преступлению, когда ты сам должен был бы вчинить иск и обвинять Верреса перед другим судьей с гораздо большей силой, чем это делаю я.
(XXXII, 71) А вы, судьи? Можете ли вы представить себе более возмутительный и более неслыханный поступок? Веррес будет держать в своем доме канделябр Юпитера, [украшенный золотом и драгоценными камнями]? Канделябр, который должен был освещать и украшать своим блеском храм Юпитера Всеблагого Величайшего, будет стоять у Верреса во время таких пиров, которые будут охвачены пламенем привычного для него разврата и позора? В доме этого гнуснейшего сводника, вместе с другими украшениями, полученными по наследству от Хелидоны, будут находиться украшения Капитолия? Может ли, по вашему мнению, что-либо быть священным и неприкосновенным для этого человека, который даже теперь не сознает всей тяжести совершенного им преступления, который является в суд, где он не может даже обратиться с мольбой к Юпитеру Всеблагому Величайшему и попросить у него помощи, как поступают все люди; для человека, от которого даже бессмертные боги требуют возвращения своей собственности в этом суде, учрежденном для того, чтобы возвращения собственности требовали люди? И мы удивляемся, что Веррес оскорбил в Афинах Минерву, на Делосе — Аполлона, на Самосе — Юнону, в Перге — Диану и, кроме того, многих богов во всей Азии и Греции, раз он даже от ограбления Капитолия удержаться не мог? Тот храм, который украшают и намерены украшать на свои деньги частные лица, Гай Веррес не позволил украшать царям! (72) После этого святотатства для Верреса уже не было ничего ни священного, ни запретного во всей Сицилии. Он три года вел себя в этой провинции так, словно объявил войну не только людям, но даже бессмертным богам.
(XXXIII) В Сицилии, судьи, есть очень древний город Сегеста, по преданию, основанный Энеем, когда он бежал из Трои и приехал в эту местность[227]. Поэтому жители Сегесты считают себя связанными с римским народом не только постоянным союзом и дружбой, но и кровным родством. Некогда эта община самостоятельно и по собственному почину вела войну с пунийцами; город был захвачен карфагенянами и разрушен ими, причем все статуи, какие только могли служить украшением городу, были увезены в Карфаген. В Сегесте была бронзовая статуя Дианы, отличавшаяся, помимо своей необычайной древности и святости, редкостной художественной работой. Будучи перевезена в Карфаген, она переменила только место и поклонявшихся ей людей; благоговение перед ней осталось неизменным; ибо она, ввиду своей исключительной красоты, даже врагам казалась достойной почитания.
(73) Спустя несколько столетий, Публий Сципион во время третьей пунической войны взял Карфаген[228]. После этой победы — обратите внимание на доблесть и добросовестность Сципиона и вы порадуетесь примерам прославленной доблести наших сограждан и признаете необычайную дерзость Верреса заслуживающей еще большей ненависти, — Сципион, зная, что Сицилия очень долго и очень часто страдала от нападений карфагенян, созвал представителей всех городских общин Сицилии и приказал все разыскать; он обещал всячески позаботиться о том, чтобы каждому городу была возвращена вся его собственность. Тогда городу Фермам и было возвращено то, что было взято в Гимере, о чем я уже говорил; тогда одни предметы были возвращены Геле, другие — Агригенту; среди них был также тот знаменитый бык, принадлежавший, говорят, жесточайшему из всех тираннов, Фалариду[229], который с целью казни сажал в него живых людей и приказывал разводить под ним огонь. Возвращая этого быка жителям Агригента, Сципион, говорят, сказал, что им следует призадуматься над вопросом, что́ для них выгоднее: быть ли рабами своих соотечественников или же повиноваться римскому народу? Ведь один и тот же предмет будет служить памятником, напоминающим и о жестокости их согражданина и о нашем мягкосердечии.
(XXXIV, 74) В то время в Сегесту с величайшей заботливостью была возвращена та самая статуя Дианы, о которой я говорю; ее привезли в Сегесту и при громких выражениях благодарности и ликовании граждан поставили на ее прежнее место. Ее установили в Сегесте на довольно высоком цоколе, на котором крупными буквами было вырезано имя Публия Африканского и было написано, что он, взяв Карфаген, возвратил статую в Сегесту. Статуе Дианы поклонялись граждане; все приезжие ходили смотреть на нее; когда я был квестором, мне прежде всего показали эту статую. Это была очень большая и высокая статуя; богиня была одета в столу[230]; несмотря на размеры статуи, она казалась легкой и юной; на плече у нее висел колчан со стрелами; в левой руке она держала лук, в правой несла перед собой пылающий факел.
(75) Когда этот грабитель и враг всех священнодействий и обрядов увидел ее, он воспылал такой жадностью и безумием, словно богиня поразила его тем самым факелом[231]. Он потребовал от местных властей, чтобы они сняли статую с цоколя и отдали ее ему; он указал им, что ему нельзя ничем более угодить. Но они отвечали, что это запрещено им божеским законом и что их удерживает от этого как строжайший религиозный запрет, так и страх перед законами и правосудием. Веррес стал то просить, то запугивать их, пускать в ход то обещания, то угрозы. В ответ ему они указывали на имя Публия Африканского; говорили, что статуя есть собственность римского народа, что они не властны над памятником, который прославленный император[232], взяв вражеский город, захотел поставить как воспоминание о победе римского народа.
(76) Так как Веррес не отставал, более того — изо дня в день становился все настойчивее, то вопрос обсуждался в сенате[233]. Все резко возражали, и тогда, то есть в первый приезд, ему было отказано. После этого он именно на Сегесту начал налагать всяческие совершенно непосильные для населения повинности, требуя матросов и гребцов, приказывая доставлять ему хлеб. Кроме того, он вызывал к себе должностных лиц, посылал за лучшими и знатнейшими из граждан, таскал их за собой из одного судебного округа провинции в другой[234], каждому в отдельности сулил всевозможные беды, а всем им грозил, что сотрет с лица земли их город. Сломленные многочисленными бедствиями и сильным страхом, жители Сегесты, наконец, решили повиноваться приказанию претора. К великому горю и скорби всей общины, при громком плаче и причитаниях всех мужчин и женщин, был сдан подряд на снятие статуи Дианы.
(XXXV, 77) Обратите внимание, как велико было благоговение перед этой богиней: знайте, судьи, в Сегесте не нашлось никого — ни свободнорожденного, ни раба, ни гражданина, ни чужеземца, который бы осмелился прикоснуться к этой статуе; были, наконец, привезены, знайте это, из Лилибея какие-то рабочие из варваров и они, не зная обо всем деле и о религиозном запрете, за плату сняли статую. А знаете ли вы, какая толпа женщин собралась, когда статую вывозили из города, как плакали старики? Ведь некоторые из них еще помнили тот день, когда та же Диана, привезенная назад в Сегесту из Карфагена, своим возвращением возвестила о победе римского народа. Как непохож был этот день на те времена! Тогда император римского народа, прославленный муж, возвращал жителям Сегесты богов отчизны, отбитых им во вражеском городе; теперь из союзного города претор того же народа, гнуснейший и подлейший человек, увозил тех же богов, совершая нечестивое злодеяние. Разве не рассказывали по всей Сицилии о том, как все матроны и девушки Сегесты собрались, когда Диану увозили из их города, как они ее умащали благовониями, мазями, украшали венками и цветами, воскуряя ладан и благоуханные смолы, и провожали до самых границ своей земли?
(78) Если тогда, облеченный империем, ты в своей алчности и дерзости, не побоялся нарушить столь строгий религиозный запрет, то неужели даже теперь, когда тебе и твоим детям грозит такая большая опасность, он тебя не страшит? Какой человек — подумай об этом — придет тебе на помощь против воли богов и тем более, кто из богов, после того как тобой были оскорблены такие почитаемые святыни? Во времена мира и благополучия Диана тебе не внушила должного благоговения к себе — она, которая, увидев взятыми и сожженными два города, где она находилась, дважды, во время двух войн, была спасена от огня и от меча; она, которая, переменив после победы карфагенян место своего пребывания, все-таки продолжала пользоваться поклонением, а возвратившись на свое прежнее место, благодаря доблести Публия Африканского, встретила такое же благоговейное отношение к себе?
Когда, после этого злодеяния Верреса, цоколь с вырезанным на нем именем Публия Африканского остался пустым, все стали негодовать и возмущаться не только поруганием святыни, но также тем, что Гай Веррес посягнул на славу подвигов Публия Африканского, храбрейшего мужа, на воспоминания о его доблести, на памятник его победы. (79) Когда Верресу сказали об этом, он решил, что все будет забыто, если он уничтожит и самый цоколь, как бы обличавший его в злодеянии. Поэтому по его приказанию был сдан подряд на снос цоколя; об условиях этого подряда вам прочитали во время первого слушания дела на основании записей в книгах города Сегесты.
(XXXVI) Тебя призываю я теперь, Публий Сципион[235], да, тебя, украшенный высокими доблестями юноша! Настоятельно требую от тебя — исполни свой долг перед своим родом и именем. Почему ты сражаешься за того, кто унизил ваш прославленный и честный род? Почему ты хочешь, чтобы этот человек нашел защиту? Почему я выступаю здесь вместо тебя, почему я исполняю твой долг? Почему Марк Туллий требует восстановления памятников Публия Африканского, а Публий Сципион защищает того, кто уничтожил их? Неужели, несмотря на то, что обычай, завещанный нам предками, требует, чтобы каждый оберегал памятники предков, не позволяя даже украшать их чужим именем, ты станешь поддерживать того, кто не просто преградил доступ с какой-либо стороны к памятнику Публия Сципиона, а разрушил его и уничтожил до основания? (80) Скажи, — во имя бессмертных богов! — кто же будет чтить память об умершем Публии Сципионе, оберегать памятники, свидетельствующие о его доблести, если ты их покидаешь, оставляешь на произвол судьбы и не только миришься с надругательством над ними, но и защищаешь того, кто над ними надругался и их осквернил?
Здесь находятся твои клиенты, жители Сегесты, союзники и друзья римского народа; они тебе говорят, что Публий Африканский, разрушив Карфаген, возвратил статую Дианы их предкам, что она была поставлена в Сегесте и подвергнута дедикации от имени этого императора; что Веррес приказал снять ее с подножия и увезти, а имя Публия Сципиона вообще уничтожить и стереть всякие следы его; они умоляют и заклинают тебя вернуть им их святыню, а твоему роду — честь и славу, чтобы то, что они, благодаря Публию Африканскому, получили из вражеского города, они могли, благодаря тебе, спасти из дома грабителя.
(XXXVII) Какой ответ можешь ты, говоря по чести, дать им? Что могут они делать, как не умолять тебя о покровительстве? Они находятся здесь и тебя умоляют. Ты можешь поддержать величие своего рода, Сципион, ты это можешь; в тебе есть все то, чем судьба или природа дарит людей. Я не хочу заранее присваивать себе плоды того, что входит в твои обязанности, и стяжать похвалы, довлеющие другим людям; чужих заслуг я не добиваюсь; мне, при моем чувстве долга, не следует, пока жив и невредим Публий Сципион, юноша в полном расцвете сил, объявлять себя передовым бойцом и защитником памятников Публия Сципиона. (81) Поэтому, если ты обязуешься оберегать славу своего рода, мне надо будет не только молчать о ваших памятниках, но и радоваться, что Публию Африканскому после его смерти выпала завидная доля: заслуженный им почет защищают члены его же рода, и он не нуждается в чьей-либо посторонней помощи. Но если тебе мешает твое дружеское отношение к Верресу, если ты полагаешь, что выполнение моего требования в твои обязанности не входит, то я заменю тебя, я возьму на себя дело, которое я не считал своим.
Но пусть тогда ваша прославленная знать отныне перестанет сетовать на то, что римский народ охотно предоставляет и всегда предоставлял почетные должности деятельным новым людям[236]. Нечего сетовать на то, что в нашем государстве, повелевающем всеми народами благодаря своей доблести, самое большое значение придается именно доблести. Пусть другие хранят у себя изображение Публия Африканского, пусть доблестью и именем умершего украшаются другие; этот знаменитый муж был таким человеком, оказал римскому народу такие услуги, что хранить его память должен не один его род, а все государство. Это потому является и моей обязанностью как человека, что я принадлежу к тому государству, которое он сделал обширным, знаменитым и славным, особенно же и потому, что я по мере своих сил подражаю ему в том, в чем он превосходил других людей: в справедливости, трудолюбии, умеренности, в защите обиженных, в ненависти к бесчестным; это родство, основанное на сходных стремлениях и трудах, не менее тесно, чем то, каким гордитесь вы, — родство по происхождению и имени.
(XXXVIII, 82) Я требую от тебя, Веррес, памятника Публия Африканского; дело сицилийцев, которое я взялся вести, я оставляю; суда по делу о вымогательстве пусть в настоящее время не будет; беззакониями по отношению к жителям Сегесты пусть в настоящее время пренебрегут. Пусть будет восстановлен цоколь, поставленный Публием Сципионом; пусть вырежут на нем имя непобедимого императора; пусть будет воздвигнута на ее прежнем месте прекрасная статуя, взятая в Карфагене. Этого требует от тебя не защитник сицилийцев, не твой обвинитель, не жители Сегесты, но тот, кто взялся оберегать и охранять честь и славу Публия Африканского.
Я не боюсь, что выполнение мной этого долга не будет одобрено судьей Публием Сервилием; так как он сам совершил величайшие подвиги и теперь усиленно занят сооружением памятников, которые должны их увековечить, он, конечно, захочет передать эти памятники не только своим потомкам, но и всем храбрым мужам и честным гражданам для охраны, а не на разграбление бесчестным людям. Я не боюсь, что ты, Квинт Катул, воздвигший величайший и славнейший в мире памятник, не согласишься с тем, чтобы возможно большее число людей было охранителями памятников и чтобы все честные люди считали защиту славы других людей своей обязанностью. (83) Меня самого остальные грабежи и гнусные поступки Верреса возмущают лишь в такой мере, что я считаю нужным только осуждать их; но в этом случае я испытываю сильнейшую скорбь, ибо мне кажется, что не может быть поступка более недостойного, более недопустимого. Веррес украсит памятниками Публия Африканского свой запятнанный развратом, запятнанный гнусностями, запятнанный позором дом? Веррес поместит памятный дар высоконравственного, благороднейшего мужа — статую девы Дианы — в доме, из которого не выходят гнусные распутницы и сводники.
(XXXIX, 84) Но, скажешь ты, это был единственный памятник Публия Африканского, который ты осквернил! А разве в Тиндариде ты не забрал прекрасной статуи Меркурия, воздвигнутой тем же Сципионом в знак его благоволения к ее жителям? И каким образом, — бессмертные боги! — как нагло, как самовольно, как бесстыдно! Вы недавно слышали показания представителей Тиндариды, людей весьма уважаемых и первых среди своих сограждан: статую Меркурия, в честь которого с величайшим благоговением ежегодно совершались обряды, статую, которую Публий Африканский, взяв Карфаген, отдал Тиндариде в память и в знак не только своей победы, но и их верности как союзников, Веррес насильственно, преступно, на основании своего империя у них отнял. Тотчас же по своем приезде в этот город Веррес — словно это было не только допустимо, но и совершенно необходимо, словно таково было поручение сената и повеление римского народа — велел снять статую с цоколя и отправить в Мессану. (85) Так как присутствовавшим это показалось возмутительным, а тем, кто об этом слышал — невероятным, то он, в свой первый приезд не настаивал. Уезжая, он поручил проагору[237] Сопатру, который уже давал вам показания, снять статую с цоколя; когда тот не согласился, он стал ему угрожать и немедленно уехал из города. Проагор доложил сенату; все ответили решительным отказом. Коротко говоря, Веррес вторично приехал в город через некоторое время и тотчас же осведомился о статуе. Ему ответили, что сенат не дает своего согласия, что всякому, кто к ней прикоснется без разрешения сената, грозит смертная казнь; заодно упомянули и о религиозном запрете. Тогда Веррес: «О каком толкуешь ты мне религиозном запрете, о какой казни, о каком сенате? Живым не выпущу; умрешь под розгами, если мне не отдадут статуи». Сопатр вторично, со слезами на глазах, доложил сенату о положении дела, сообщил об алчности и об угрозах Верреса. Сенаторы не дали Сопатру никакого ответа, но разошлись в волнении и смятении. Проагор, явившись по зову претора, объяснил ему положение дела и сказал ему, что его требование не выполнимо. (XL) Обратите внимание (ведь не следует пропускать ничего такого, что имеет отношение к бессовестности Верреса), что это говорилось во время присутствия, всенародно, с кресла наместника, с возвышенного места.
(86) Была глубокая зима; погода, как вы слышали от самого Сопатра, была очень холодная, шел сильный дождь, как вдруг Веррес приказал ликторам столкнуть Сопатра с портика, где сам он сидел, на форум и раздеть донага; едва успел он отдать это распоряжение, как Сопатр уже стоял голый, окруженный ликторами. Все думали, что несчастный и притом ни в чем не виноватый человек будет засечен розгами. В этом они ошиблись. Неужто Веррес станет без оснований сечь розгами союзника и друга римского народа? Не настолько он бессердечен: не все пороки соединены в одном человеке; никогда не был он жесток. Он обошелся с Сопатром мягко и милосердно. В Тиндариде, как почти во всех городах Сицилии, посреди форума стоят конные статуи Марцеллов; из них он выбрал статую Гая Марцелла[238], который еще недавно оказал величайшие услуги этому городу и вообще всей провинции. Вот к ней он и приказал привязать, с разведенными руками и ногами, Сопатра, известного человека у него на родине и к тому же занимающего высшую должность. (87) Какие мучения испытал он, привязанный обнаженным под открытым небом, в дождь и холод, может себе представить каждый. И этой оскорбительной жестокости был положен конец не раньше, чем вся присутствовавшая толпа народа, возмущенная ужасным зрелищем и охваченная чувством сострадания, своим криком заставила сенат обещать Верресу ту статую Меркурия. Люди кричали, что бессмертные боги сами отомстят за себя, но что невинный человек не должен погибать. Тогда сенат в полном составе явился к Верресу и обещал ему отдать статую. Еле живой, почти окоченевший Сопатр был снят со статуи Марцелла.
Я не могу обвинять Верреса с надлежащей последовательностью, если бы и желал: для этого надо обладать не просто дарованием, но, так сказать, особенным искусством. (XLI, 88) Этот случай со статуей Меркурия в Тиндариде дает одну статью обвинения, и я представляю ее как таковую; между тем в ней одной заключается несколько статей; как мне их различить и разделить — не знаю. Здесь и вымогательство, так как Веррес взял у союзников статую, стоившую больших денег, и казнокрадство, так как он не поколебался присвоить себе статую, составлявшую собственность римского народа, взятую из захваченной у врагов добычи и поставленную от имени нашего императора; здесь и оскорбление величества[239], так как он осмелился снять и увезти памятник нашей державы, нашей славы и подвигов; здесь и святотатство, так как он оскорбил величайшие святыни; здесь и жестокость, так как он придумал новый и утонченный вид мучения для невинного человека, вашего союзника и друга.
(89) Но вот чего не могу я понять, вот чему не придумаю я названия — как он воспользовался для этого статуей Гая Марцелла. Почему? Не потому ли, что это был патрон сицилийцев?[240] И что же? Какой вывод можно было сделать из этого? Что это обстоятельство может означать для клиентов и гостеприимцев и пользу и несчастье? Или ты хотел показать, что от твоего самоуправства не защитит никакой патрон? Но кто же не знает, что империй присутствующего негодяя сильнее покровительства отсутствующих честных людей? Или, может быть, в этом поступке сказываются твое поистине исключительное самомнение, заносчивость и спесь? Ты, видимо, думал умалить величие Марцеллов. Так, значит, Марцеллы теперь уже не патроны сицилийцев; их место занял Веррес. (90) Какую же доблесть, какие достоинства открыл ты в себе, раз ты попытался перевести на себя клиентелу такой блистательной, такой знаменитой провинции, отняв ее у надежнейших и давнишних патронов? Да разве ты, при твоей испорченности, тупости и лености, можешь обеспечить клиентелу, уже не говорю — всей Сицилии, нет, хотя бы одного, самого нищего сицилийца? И это тебе статуя Марцелла послужила орудием для пытки клиентов Марцеллов? Поставленный ему почетный памятник ты хотел превратить в орудие мучения для тех, кто ему оказал почет? А далее? Какой представлял ты себе дальнейшую участь своих собственных статуй? Такой ли, какой она оказалась в действительности? Ведь как только жители Тиндариды узнали, что Верресу назначен преемник, они опрокинули статую Верреса, которую он велел поставить рядом со статуями Марцеллов и притом на более высоком цоколе.
(XLII) Судьба, благоволящая сицилийцам, теперь дала тебе в качестве судьи Гая Марцелла с тем, чтобы мы передали тебя, связанным и скованным, на строгий суд тому человеку, к чьей статуе, во время твоей претуры, привязывали сицилийцев. (91) Сначала, судьи, Веррес пытался утверждать, что жители Тиндариды продали эту статую Меркурия присутствующему здесь Марку Марцеллу Эсернину, и надеялся, что также и Марк Марцелл подтвердит это. Я всегда отказывался верить, что молодой человек из такого знатного рода, патрон Сицилии, согласится дать свое имя для того, чтобы снять вину с Верреса. Но мной все предусмотрено и приняты все меры предосторожности, так что, если бы, сверх ожидания, и нашелся охотник взять на себя вину Верреса и стать обвиняемым по этой статье, он все же ничего не мог бы достигнуть; ибо я привез таких свидетелей и доставил такие письменные доказательства, что в вине Верреса не может быть никаких сомнений. (92) Из официальных записей видно, что статуя Меркурия была отправлена в Мессану за счет города; в них говорится, каковы были расходы; этим делом от имени города ведал легат Полея. Вы спросите, где он? Здесь, среди свидетелей. Это было сделано по распоряжению проагора Сопатра. Кто это такой? Тот самый, которого привязали к статуе. А он где? Вы его видели и слышали его приказания. Снятием статуи с цоколя распоряжался гимнасиарх[241] Деметрий, ведавший местом, где она стояла. Что же? Я ли это говорю? Да нет же — он сам, присутствующий здесь. По его словам, сам Веррес, будучи уже в Риме, недавно обещал вернуть статую представителям городской общины, если будут уничтожены доказательства его виновности по этому делу и если представители ему поручатся, что не выступят как свидетели. Это сказали в вашем присутствии Зосипп и Исмений, знатнейшие люди и первые среди граждан Тиндариды.
(XLIII, 93) Далее, не похитил ли ты в Агригенте, из священнейшего храма Эскулапа[242], памятный дар того же Публия Сципиона — прекрасную статую Аполлона, на бедре которой мелкими серебряными буквами было написано имя Мирона? Когда он сделал это тайком, использовав для своего злодеяния, для кощунственной кражи, в качестве наводчиков и пособников нескольких бесчестных людей, городская община была сильно возмущена. Ибо жители Агригента одновременно лишались дара Сципиона Африканского, отечественной святыни, украшения города, памятника победы и доказательства их союза с нами. Поэтому, по почину первых граждан того города, квесторам и эдилам[243] было поручено охранять храмы в ночное время. Ведь, в Агригенте — мне думается, потому, что его население многочисленно и состоит из честных людей, а также потому, что римские граждане, стойкие и уважаемые люди, многочисленные в этом городе, живут с коренными жителями душа в душу, занимаясь торговлей, — Веррес не решался открыто требовать, а тем более уносить то, что ему нравилось.
(94) В Агригенте, невдалеке от форума, есть храм Геркулеса, священный в глазах населения и глубоко почитаемый. В нем есть бронзовая статуя самого Геркулеса, едва ли не самое прекрасное из всех произведений искусства, когда-либо виденных мной (правда, я не так уж много понимаю в таких вещах, но много видел их); его так глубоко почитают, судьи, что его губы и подбородок несколько стерлись, потому что люди, при просительных и благодарственных молитвах, не только обращаются к нему, но и целуют его. К этому храму, во время пребывания Верреса в Агригенте, в глухую ночь внезапно, под предводительством Тимархида, сбежалась толпа вооруженных рабов и хотела ворваться в храм. Ночная стража и хранители храма подняли крик; вначале они попытались оказать сопротивление и защитить храм, но их отогнали, избив палицами и дубинами; затем, сбив запоры и выломав двери, нападавшие попытались снять статую с цоколя и увезти ее на катках. Тем временем все услыхали крики, и по всему городу разнеслась весть о том, что на статуи богов их отчизны нападают, но что это не неожиданный вражеский налет и не внезапный разбойничий набег, нет, из дома и из когорты претора[244] явилась хорошо снаряженная и вооруженная шайка беглых рабов. (95) В Агригенте не было человека, который бы, узнав о случившемся, не вскочил с постели и не схватил первого попавшегося ему под руку оружия, как бы слаб и стар он ни был. В скором времени к храму сбежался весь город. Уже больше часа множество людей выбивалось из сил, стараясь сдвинуть статую с места; но она никак не поддавалась, хотя одни пытались подвинуть ее, подложив под нее катки, другие тащили ее к себе канатами, привязав их ко всем ее членам. Но вот внезапно сбежались жители Агригента; градом посыпались камни; в бегство обратились ночные вояки прославленного императора. Две крошечные статуэтки они все-таки прихватили, чтобы не возвращаться к этому похитителю святынь с совсем пустыми руками. Нет такого горя, которое бы лишило сицилийцев их способности острить и шутить; так и в этом случае они говорили, что к числу подвигов Геркулеса теперь надо относить с одинаковым основанием победу и над этим чудовищным боровом и над вепрем Эриманфским.
(XLIV, 96) Примеру доблестных жителей Агригента в дальнейшем последовали жители Ассора, храбрые и верные мужи, хотя их город далеко не так известен и знаменит. В пределах Ассорской области протекает река Хрис. Жители считают ее божеством и почитают с величайшим благоговением. Храм Хриса находится за городом у самой дороги из Ассора в Энну; в нем стоит превосходная мраморная статуя этого божества. Вследствие исключительной святости этого храма, Веррес не осмелился потребовать от жителей Ассора эту статую. Он дал поручение Тлеполему и Гиерону. Они явились ночью с вооруженными людьми и взломали двери храма. Но храмовые служители и сторожа вовремя заметили их и затрубили в рог, что было сигналом, известным во всей округе; из всей окрестности сбежался народ. Тлеполема вышвырнули и он обратился в бегство; в храме Хриса не досчитались только одной бронзовой статуэтки.
(97) В Энгии есть храм Великой Матери[245]. Теперь мне приходится не только говорить о каждом случае очень кратко, но даже пропускать очень многое, чтобы перейти к более важным и получившим бо́льшую известность преступлениям Верреса в том же духе. В этом храме находятся бронзовые панцири и шлемы коринфской чеканной работы и такой же работы большие гидрии, сделанные с тем же совершенным мастерством; их принес в дар все тот же знаменитый Сципион, выдающийся во всех отношениях муж, велев вырезать на них свое имя. Но к чему мне так много говорить о Верресе и заявлять жалобы? Все это он похитил, судьи, и не оставил в глубоко почитаемом храме ничего, кроме следов своего святотатства и имени Публия Сципиона. Отбитым доспехам врагов, памятникам императоров, украшениям и убранству храмов отныне суждено, расставшись с этими славными именами, стать частью домашней обстановки и утвари Гая Верреса.
(98) Очевидно, ты один получаешь наслаждение от вида коринфских ваз, ты со всей тонкостью разбираешься в составе этой бронзы, ты можешь оценить их линии. Так значит, знаменитый Сципион, хотя и был ученейшим и просвещеннейшим человеком, этого не понимал, а ты, человек без всякого образования, без вкуса, без дарования, без знаний, понимаешь это и умеешь оценить! Смотри, как бы не оказалось, что он не только своей умеренностью, но и пониманием превосходил тебя и тех, которые хотят, чтобы их называли знатоками. Ибо Сципион, понимая, насколько эти вещи красивы, считал их созданными не как предметы роскоши для жилищ людей, а для украшения храмов и городов, чтобы наши потомки считали их священными памятниками.
(XLV, 99) Послушайте, судьи, и об исключительной жадности, дерзости и безумии Верреса, проявившихся к тому же в осквернении такой святыни, которая считалась неприкосновенной не только для рук, но и для помышлений человеческих. Есть в Катине святилище Цереры, почитаемой там так же благоговейно, как в Риме, как в других местностях, как, можно сказать, во всем мире[246]. Во внутренней части этого святилища находилась очень древняя статуя Цереры, причем мужчины не знали, не говорю уже — о ее внешнем виде, но даже о ее существовании; ибо доступ в это святилище запрещен мужчинам; обряды совершаются женщинами и девушками. Статую эту рабы Верреса унесли тайком, ночью, из того священнейшего и древнейшего места. На другой день жрицы Цереры и настоятельницы этого храма, знатные женщины преклонного возраста и чистой жизни, донесли своим властям о случившемся. Все были поражены, возмущены и удручены. (100) Тогда Веррес, будучи встревожен тяжестью своего проступка и желая отвести от себя подозрение в этом злодействе, поручил одному из своих гостеприимцев подыскать кого-нибудь, чтобы свалить на него эту вину и добиться его осуждения по этому обвинению, дабы самому избежать ответственности. Откладывать дело не стали. Когда Веррес уехал из Катины, на одного раба была подана жалоба; он был обвинен; были выставлены лжесвидетели; дело, на основании законов, разбирал катинский сенат, собравшийся в полном составе. Были вызваны жрицы; их тайно спросили в курии, каково их мнение о случившемся и каким образом статую можно было похитить. Они ответили, что в храме видели рабов претора. Дело, которое и раньше не было темным, стало, благодаря показаниям жриц, вполне ясным. Суд начал совещаться. Раба единогласно признали невиновным, чтобы вы тем легче могли единогласно вынести Верресу обвинительный приговор.
(101) В самом деле, чего ты требуешь, Веррес, на что надеешься, чего ждешь? Кто из богов или людей, по-твоему, придет тебе на помощь? Не туда ли осмелился ты, для ограбления святилища, послать рабов, куда и свободным людям божественный закон не разрешал входить даже с дарами? Не на те ли предметы ты наложил без всяких колебаний свою руку, от которых священные заветы велели тебе даже отводить взор? При этом ведь не твои глаза соблазнили тебя совершить такой злодейский, такой нечестивый поступок; ибо ты пожелал того, чего никогда не видел; повторяю, ты страстно захотел иметь то, на что тебе ранее и взглянуть не пришлось. На основании слухов ты воспылал такой безмерной жадностью, что ее не сдержали ни страх, ни запрет, ни гнев богов, ни мнение людей. (102) Но ты, быть может, слышал об этой статуе от честного и заслуживающего доверия человека. Как же это было возможно, когда от мужчины ты вообще не мог о ней слышать? Следовательно, ты слышал о ней от женщины, так как мужчины не могли ни видеть ее, ни знать о ней. Но какова, по вашему мнению, судьи, была та женщина. Сколь целомудренна была она, раз она беседовала с Верресом; сколь благочестива, раз она его научила, как ограбить святилище! Ясно, что таинства, совершаемые девушками и женщинами необычайной непорочности, осквернены гнусным кощунством Верреса.
(XLVI) И вы полагаете, что это единственный случай, когда он вздумал добыть себе то, о чем он только слыхал, но чего сам не видел? Нет, было много и других таких случаев; из них я остановлюсь на ограблении известнейшего и древнейшего святилища, о котором свидетели говорили при первом разборе дела. Выслушайте теперь, пожалуйста, мой рассказ об этом же и притом с таким же вниманием, как и до сих пор.
(103) Остров Мелита, судьи, отделен от Сицилии довольно широким и опасным морем; на острове есть город того же имени, где Веррес никогда не был, что, однако, не помешало ему превратить этот город на три года в мастерскую тканей[247] для женщин. Невдалеке от этого города стоит на мысе древний храм Юноны, всегда почитавшийся так глубоко, что не только во времена пунических войн, происходивших вблизи от этих мест и сопровождавшихся большими морскими боями, но и ныне, при присутствии здесь множества морских разбойников, он всегда был неприкосновенным и священным. Более того, по рассказам, когда к этому месту однажды пристал флот царя Масиниссы, военачальник царя взял из храма слоновые бивни огромной величины, привез их в Африку и принес в дар Масиниссе. Царь вначале обрадовался подарку, но затем, узнав, откуда эти бивни, немедленно отправил на квинквереме[248] верных людей, чтобы они возвратили эти бивни по принадлежности. По этому случаю на них была сделана надпись пуническими буквами, гласившая, что царь Масинисса, по неведению, принял эти предметы, но, узнав об обстоятельствах дела, велел доставить их обратно и возвратить храму. Кроме того, в храме было много слоновой кости, много украшений и среди них две сделанные из слоновой кости статуэтки Победы, прекрасные произведения искусства, древней работы. (104) Чтобы не говорить много, скажу, что Веррес, дав один приказ, при посредстве посланных им для этого рабов Венеры, забрал и увез все эти предметы.
(XLVII) О, бессмертные боги! Кого обвиняю, кого преследую я на основании законов и права? О ком вынесете вы свой приговор, подавая таблички? Представители Мелиты официально заявляют, что храм Юноны ограблен, что Веррес в этом неприкосновеннейшем святилище не оставил ничего, что в том месте, где часто приставали флоты врагов, где чуть ли не из года в год зимовали пираты, храм, которого ранее не осквернял ни один разбойник и никогда не касался враг, ограблен Верресом и в нем ничего не оставлено. Что же, и теперь придется называть его обвиняемым, меня — обвинителем, а вас — судьями? Против него имеются некоторые статьи обвинения; он привлечен к суду на основании подозрений. А между тем установлено, что похищены статуи богов, ограблены храмы, опустошены города; после таких злодеяний Веррес не оставил себе никакого пути для отрицания своей вины, никакой возможности оправдаться. Он во всем изобличен мной, уличен свидетелями, уничтожен собственным признанием; он в сетях своих явных злодеяний — и все же он остается здесь и молча, вместе со мной, следит за раскрытием своих собственных поступков.
(105) Я пожалуй, слишком долго занимаюсь обвинениями одного рода; я сознаю, судьи, что мне не следует утомлять ваш слух и ваше внимание. Поэтому я многое обойду молчанием. Но — во имя бессмертных богов, тех самых, о почитании которых мы говорим уже долго! — чтобы выслушать то, что я собираюсь сказать, прошу вас, судьи, набраться новых сил, дабы их вам хватило, пока я буду подробно рассказывать вам о преступлении Верреса, которое потрясло всю провинцию. Если вам покажется, что я слишком углубляюсь в прошлое, чтобы проследить, откуда идет это почитание, то простите это мне: важность дела не позволяет мне быть кратким в повествовании об этом страшном преступлении.
(XLVIII, 106) Согласно старинному верованию, судьи, о котором свидетельствуют древнейшие греческие писания и памятники, остров Сицилия весь был посвящен Церере и Либере[249]. Если так полагают и другие народы, то сами сицилийцы в этом вполне убеждены, и это верование, можно сказать, вошло в их плоть и кровь. Они верят, что здесь родились эти богини, что хлебопашество впервые возникло на их земле, что Либера, которую они называют также Просерпиной, была похищена в роще близ Энны; это место, расположенное в средней части острова, называется «пупом Сицилии». Желая напасть на след Либера и найти ее, Церера, говорят, зажгла свои факелы от огней, вырывающихся из вершины Этны, и, неся их перед собой, обошла весь мир. (107) Энна, где, по преданию, происходило то, о чем я говорю, расположена на очень высоком, господствующем над окрестностью плоскогорье с неиссякающими источниками; со всех сторон подъем крут и обрывист. Вблизи Энны очень много озер и рощ, где круглый год цветут прекрасные цветы, так что само место свидетельствует о том, что именно здесь и произошло похищение девушки, о котором мы слышали еще в детстве. И в самом деле, поблизости находится неизмеримой глубины пещера, обращенная на север; из нее, говорят, неожиданно появился на своей колеснице отец Дит, который схватил девушку и увез с собой; невдалеке от Сиракуз он внезапно исчез под землей, а на этом месте тотчас же образовалось озеро; на его берегу сиракузяне и поныне справляют ежегодные празднества при огромном стечении мужчин и женщин.
(XLIX) В связи с древним верованием, что в этой местности есть следы пребывания этих божеств и что здесь, можно сказать, стояла их колыбель, во всей Сицилии как частными лицами, так и городскими общинами воздаются особенные почести Церере Эннской. Многочисленные чудеса свидетельствуют о ее божественной силе; много раз оказывала она людям в трудную минуту их жизни верную помощь, так что богиня, казалось, не только любит этот остров, но и обитает на нем и охраняет его. (108) И не только сицилийцы, но и другие племена и народы глубоко чтут эннскую Цереру. Действительно, если принимать участие в священнодействиях афинян стремятся все люди, хотя Церера только посетила Афины, во время своих скитаний и принесла туда плоды земледелия[250], то как глубоко должны чтить богиню те, в чьей стране она, как известно, родилась и научила людей земледелию впервые! Поэтому во времена наших отцов, тяжкие и трудные для государства, когда был убит Тиберий Гракх, все с ужасом ожидали великих бедствий, предвещаемых зловещими знамениями, в консульство Публия Муция и Луция Кальпурния[251] обратились к Сивиллиным книгам[252], в которых было найдено повеление умилостивить древнейшую Цереру. И хотя в нашем городе находился прекрасный и великолепный храм Цереры[253], все же жрецы римского народа из знаменитой коллегии децемвиров выехали в самую Энну. Ибо там с древнейших времен почитали Цереру столь глубоко, что люди, выезжая туда, казалось, отправлялись не в храм Цереры, а к самой Церере.
(109) Не стану злоупотреблять вашим вниманием; моя речь, пожалуй, уже давно не подходит для суда и не похожа на речи, какие принято произносить. Скажу прямо: эта самая Церера, древнейшая и священнейшая родоначальница всех таинств, совершаемых у всех племен и народов, из храма, где она стояла, Гаем Верресом была похищена. Если вы бывали в Энне, вы видели мраморную статую Цереры, а в другом храме — статую Либеры. Они огромной величины и очень красивы, но не очень древние. Была другая статуя, из бронзы, не особенно больших размеров, но прекрасной работы, с факелами, очень древняя, наиболее древняя из всех статуй, находящихся в том храме. Ее он и похитил и все же этим не был доволен. (110) Перед храмом Цереры, на открытой и обширной площадке, стоят две статуи, — Цереры и Триптолема[254] — очень красивые и огромных размеров; их красота была опасна для них, но их размеры — спасительны, так как снять их с цоколей и перевезти оказалось непосильной задачей. В правой руке у Цереры была большая, прекрасной работы, статуя Победы[255]; Веррес приказал снять ее со статуи Цереры и доставить ему.
(L) Что же должен теперь испытывать Веррес, вспоминая свои злодеяния, когда я сам, упоминая о них, не только скорблю душой, но и содрогаюсь всем телом? Я живо представляю себе и храм, и местность, и священные обряды; перед моими глазами встает все: тот день, когда, после моего приезда в Энну, жрицы Цереры вышли мне навстречу с ветвями, обвитыми повязками[256]; народ, собравшийся на сходку, конвент римских граждан; там, во время моей речи, было столько стонов и слез, что казалось, будто весь город рыдает в тяжкой скорби. (111) Не требования насчет десятин, не расхищение их имущества, не беззакония в судах, не возмутительный разврат Верреса, не насилия и оскорбления, какими он терзал и угнетал их, заставили их принести мне жалобы; нет, за поругание Цереры, ее древних обрядов, ее священного храма требовали они искупительной кары для этого преступнейшего и наглейшего человека; все прочее, они говорили, согласны они претерпеть и предать забвению. Их скорбь была так велика, словно в Энну явился новый Орк и не Просерпину увез, а похитил самое Цереру.
И в самом деле тот город кажется не городом, а храмом Цереры; жители Энны считают, что Церера обитает среди них, так что они кажутся мне не гражданами своей общины, а все — жрецами, все — обитателями и хранителями храма Цереры. (112) И из Энны ты осмелился увезти статую Цереры? В Энне ты попытался вырвать Победу из руки Цереры и отнять богиню у богини? Их не осмелились ни осквернить, ни коснуться те, которые, по всем своим качествам, были склонны скорее к злодейству, чем к благочестию. Ведь в консульство Публия Попилия и Публия Рупилия[257] эта местность была в руках у рабов, беглых, варваров, врагов; но они не в такой мере были рабами своих господ, в какой ты — рабом своих страстей; они не так стремились бежать от своих господ, как ты — от права и законов; они не были такими варварами по языку и происхождению, как ты — по натуре и нравам, не были столь враждебны людям, как ты — бессмертным богам. Какое же снисхождение можно оказать ему, превзошедшему рабов низостью, беглых дерзостью, варваров преступностью, врагов жестокостью?
(LI, 113) Вы слышали официальное заявление Феодора, Нумения и Никасиона, представителей Энны, о поручении, данном им их согражданами: обратиться к Верресу с требованием возвратить городу статуи Цереры и Победы; в случае его согласия, остаться верными древнему обычаю населения Энны и, хотя Веррес и был мучителем Сицилии, все-таки, следуя заветам предков, не выступать со свидетельскими показаниями против него; если же он не возвратит статуй, то явиться в суд, рассказать судьям о его беззакониях, но главным образом, заявить жалобу на оскорбление религии. Во имя бессмертных богов! — не будьте глухи к их жалобам, не относитесь к ним с презрением и пренебрежением, судьи! Дело идет о беззакониях, совершенных по отношению к союзникам, дело идет о значении законов, об уважении к суду и о правосудии. Все это очень важно, но вот что самое важное: вся провинция охвачена таким сильным страхом перед богами, из-за деяний Верреса всеми сицилийцами овладел такой суеверный ужас, что всякое несчастье, какое бы ни случилось, — с городской ли общиной или же с частным лицом — связывают со злодейством Верреса. (114) Вы слышали официальные заявления жителей Центурип, Агирия, Катины, Этны, Гербиты и многих других городов о том, в какую пустыню превращены их поля, как они разорены, как много земледельцев бежало, оставив свои поля незасеянными, покинув их на произвол судьбы. И хотя это случилось вследствие многочисленных и разнообразных беззаконий Верреса, но сицилийцы придают наибольшее значение одному обстоятельству: гибель всех посевов и даров Цереры в этих местностях объясняют оскорблением, нанесенным Церере.
Поддержите страх союзников перед богами, судьи, сохраните свой собственный. Ведь эти верования вовсе не безразличны для вас и вам не чужды, и даже если бы это было так, если бы вы не хотели перенять их, вам все же следовало бы покарать того, кто оскорбил эти верования. (115) Но теперь речь идет о религии, общей всем народам, и о священнодействиях, которые наши предки восприняли и совершали, заимствовав их от чужеземных народов, о священнодействиях, названных ими греческими, какими они и были в действительности. Как же можем мы, даже если бы и пожелали, быть равнодушными и беспечными?
(LII) Теперь я напомню и подробно опишу вам, судьи, разграбление одного только города, но прекраснейшего и богатейшего из всех городов — Сиракуз, чтобы, наконец, закончить эту часть своей речи. Среди вас, пожалуй, нет никого, кто бы не слышал и не читал в летописях рассказа о том, как Сиракузы были взяты Марком Марцеллом. Сравните же нынешнее состояние мира с тогдашней войной; приезд этого претора сравните с победой того императора, запятнанную когорту Верреса — с непобедимым войском Марцелла, произвол одного — с воздержностью другого. Вы скажете, что тот, кто завоевал Сиракузы, был их основателем, а тот, кто получил их благоустроенными, вел себя, как завоеватель. (116) Обхожу теперь молчанием то, о чем я уже говорил и еще буду говорить во многих местах своей речи: форум в Сиракузах, не запятнанный убийствами при вступлении Марцелла в город, был залит кровью невинных сицилийцев при приезде Верреса; сиракузская гавань, остававшаяся недоступной и для нашего и для карфагенского флотов, во время претуры Верреса была открыта для миопарона килийцев[258] и для морских разбойников. Не стану говорить о его насильственных действиях по отношению к свободнорожденным, о его надругательствах над матерями семейств — обо всем том, чего тогда в завоеванном городе не позволили себе ни разъяренные враги, ни буйные солдаты, ни по обычаю войны, ни по праву победы; повторяю, я обхожу молчанием все это, совершавшееся Верресом в течение трех лет его претуры. Расскажу вам о том, что тесно связано с событиями, о которых я уже говорил.
(117) Вы не раз слышали, что Сиракузы — самый большой из греческих городов и самый красивый[259]; это действительно так, судьи! Ибо он очень выгодно расположен, и как с суши, так и с моря вид его великолепен; его гавани находятся внутри городской черты, к ним то тут, то там прилегают городские здания; имея самостоятельные входы, эти гавани соединяются и сливаются; там, где они соединяются друг с другом, узкий морской пролив отделяет одну часть города, называемую Островом; эта часть сообщается с остальными частями города посредством моста.
(LIII, 118) Город этот так велик, что может показаться, будто он состоит из четырех огромных городов. Один из них, тот, о котором я уже говорил, — Остров, омываемый двумя гаванями, выдается далеко в море, соприкасается с входами в обе гавани и доступен с обеих сторон. Здесь стоит дворец, принадлежавший царю Гиерону и теперь находящийся в распоряжении преторов. Здесь же очень много храмов, но два из них намного превосходят все остальные: один — Дианы, другой, до приезда Верреса поражавший своим богатством, — Минервы. На самом краю Острова течет ручей с пресной водой, называемый Аретусой, очень широкий, кишащий рыбой; если бы он не был отделен от моря каменной плотиной, то морские волны вливались бы в него. (119) Второй город в Сиракузах называется Ахрадиной; здесь есть обширный форум, красивейшие портики, великолепный пританей[260], величественная курия и замечательный храм Юпитера Олимпийского, выдающееся произведение искусства; остальные части этого города, пересекаемые одной широкой продольной улицей и многими поперечными, застроены частными домами. Третий город называется Тихэ, так как в этой части города был древний храм Фортуны; в нем есть огромный гимнасий, множество храмов; эта часть города сильно застроена и густо населена. Четвертый город называется Неаполем[261], так как был построен последним; в самой возвышенной части его находится огромный театр и, кроме того, два прекрасных храма: Цереры и Либеры, а также и очень красивая статуя Аполлона Теменита[262], которую Веррес похитил бы без всяких колебаний, если бы смог ее перевезти.
(LIV, 120) Возвращусь теперь к деяниям Марцелла, дабы не казалось, что я без оснований упомянул обо всем этом. Взяв приступом столь великолепный город, он решил, что если вся эта красота будет разрушена и уничтожена, то это римскому народу чести и славы не принесет, тем более, что красота эта ничем не угрожала. Поэтому он пощадил все здания как общественные, так и частные, храмы и жилые дома, словно пришел с войском для их защиты, а не для завоевания. А украшения города? Тут он руководствовался и правами победителя и требованиями человечности; по его мнению, по праву победителя ему следовало отправить в Рим многие предметы, которые могли украсить Рим; но как человек он не хотел подвергать полному разграблению город, тем более такой, который он сам пожелал сохранить. (121) При распределении украшений города победа Марцелла дала римскому народу столько же, сколько его человечность сохранила для жителей Сиракуз. То, что привезено в Рим, мы можем видеть в храме Чести и Доблести и кое-где в других местах. Ни у себя в доме, ни в садах своих, ни в загородной усадьбе он не поставил ничего. Он полагал, если он не привезет в свой дом украшений, принадлежащих городу, то сам его дом будет служить украшением городу Риму. В Сиракузах, напротив, он оставил очень много и притом редкостных памятников искусства; из богов же он не оскорбил ни одного и не прикоснулся ни к одному священному изображению. Сравните Верреса с Марцеллом — не для того, чтобы сопоставить их, как человека с человеком (этим великому мужу было бы посмертно нанесено оскорбление), но чтобы сравнить мир с войной, законы с насилием, правосудие на форуме с господством оружия, приезд наместника и его свиты с вступлением победоносного войска.
(LV, 122) На Острове есть храм Минервы, о котором я уже говорил. Марцелл его не тронул, его богатства и украшения оставил в целости; Веррес же так обобрал и разграбил его, как его мог опустошить не враг, который даже во время войны уважает святыню и обычаи, а морские разбойники-варвары. В храме были по стенам развешаны картины, изображавшие бой конницы царя Агафокла[263]. Картины эти считались верхом совершенства и главной достопримечательностью Сиракуз. Марк Марцелл, хотя его победа и сняла религиозный запрет со всех этих предметов[264], все-таки, из благочестия, не тронул этих картин. Веррес же, получив их священными и неприкосновенными в связи с длительным миром и верностью жителей Сиракуз, все те картины забрал себе, а стены, украшения которых сохранялись в течение стольких веков и избежали опасности во время стольких войн, оставил голыми и обезображенными. (123) Марцелл, давший обет — в случае, если он возьмет Сиракузы, построить в Риме два храма, не пожелал украсить будущие храмы захваченными им предметами. Веррес, давший обеты не Чести и Доблести, как это сделал Марцелл, а Венере и Купидону, попытался ограбить храм Минервы. Марцелл не хотел одаривать богов добычей, взятой у богов; Веррес перенес украшения девственницы Минервы в дом распутницы[265]. Кроме того, он унес из храма двадцать семь превосходных картин, изображавших сицилийских царей и тираннов и не только радовавших глаз мастерством живописцев, но и будивших воспоминания о людях, чьи черты они передавали. Решайте сами, насколько этот тиранн был для жителей Сиракуз отвратительнее любого из прежних: те все же украсили храмы бессмертных богов, этот похитил даже памятники и украшения, поставленные ими.
(LVI, 124) Далее, упоминать ли мне о дверях этого храма? Пожалуй, те, кто их не видел, подумают, что я все преувеличиваю и приукрашаю. Но пусть никто не подозревает меня в таком пристрастии и не думает, что я пошел бы даже на то, чтобы столько уважаемых людей (тем более из числа судей), которые бывали в Сиракузах и видели то, о чем я говорю, уличили меня в безрассудстве и лжи. Могу с уверенностью утверждать, судьи, что ни в одном храме не было более великолепных, более искусно сделанных из золота и слоновой кости дверных створ. Трудно поверить, сколько греков оставило описание их красоты. Они, быть может, склонны чересчур восхищаться такими предметами и их превозносить; допустим; так вот, судьи, для нашего государства больше чести от того, что наш император во время войны оставил нетронутыми те предметы, которые грекам кажутся красивыми, чем от того, что претор в мирное время похитил их. Дверные створы были украшены тончайшими изображениями из слоновой кости. Веррес постарался, чтобы все они были сорваны; великолепную голову змееволосой Горгоны он тоже сорвал и взял себе; при этом он, однако, доказал, что его привлекает вовсе не только мастерство, но и стоимость вещи и желание поживиться; ибо он без всяких колебаний забрал себе все многочисленные и тяжелые золотые шары, укрепленные на этих дверях и понравившиеся ему не работой, а своим весом. Таким образом, двери, некогда созданные, главным образом, для украшения храма, он оставил в таком виде, что они отныне годятся только на то, чтобы его запирать. (125) Даже бамбуковые копья — помню ваше изумление, когда о них говорил один из свидетелей, так как в них не было ничего особенного и достаточно было взглянуть на них один раз, — не замечательные ни своей работой, ни своей красотой, а только своей необычайной длиной, о которой, однако, достаточно услыхать (а видеть их более одного раза вовсе не нужно), — и на них ты польстился.
(LVII, 126) Другое дело — Сапфо; похищение ее статуи из пританея вполне оправдано и его, пожалуй, следует признать допустимым и простительным. Неужели возможно, чтобы столь совершенным, столь изящным, столь тщательно отделанным произведением Силаниона[266] владел кто-нибудь другой, не говорю уже — частное лицо, но даже народ, а не такой утонченный знаток и высоко образованный человек — Веррес? Возразить, конечно, нечего. Ведь если любой из нас — мы ведь не так богаты, как он, и не можем быть такими изощренными — захочет взглянуть на какое-нибудь из таких произведений искусства, то ему придется пройтись до храма Счастья, к памятнику Катула[267], в портик Метелла[268], добиваться доступа в тускульскую усадьбу одного из этих знатоков, любоваться украшенным форумом, если только Веррес соблаговолит предоставить эдилам ту или иную из своих драгоценностей. Но Веррес, конечно, пусть держит все эти предметы у себя; Веррес пусть заполняет свой дом украшениями городов и храмов, забивает ими свои усадьбы. И вы, судьи, будете переносить увлечения и любимые утехи этого грузчика, которому, по его рождению и воспитанию, по свойствам души и тела, по-видимому, следовало бы скорее перетаскивать статуи, чем таскать их к себе? (127) Трудно выразить словами ту скорбь, какую вызвало похищение этой статуи Сапфо. Ибо, помимо того, что это было само по себе редкостное произведение искусства, на ее цоколе была вырезана знаменитая греческая эпиграмма[269], которую этот образованный человек и поклонник греков, умеющий так тонко обо всем судить, он, этот единственный ценитель искусства, наверное, тоже утащил бы к себе, если бы знал хотя бы одну греческую букву; теперь надпись на пустом цоколе говорит, что́ на нем стояло, и обличает похитителя.
Далее, разве ты не похитил из храма Эскулапа статую Пэана[270], прекрасной работы, священную и неприкосновенную? Красотой ее все любовались, святость ее чтили. (128) А разве не по твоему приказанию из храма Либера у всех на глазах было унесено изображение Аристея?[271] А из храма Юпитера разве ты не забрал священнейшей статуи Юпитера-Императора, которого греки называют Урием[272], статуи прекрасной работы? Далее, разве ты поколебался взять из храма Либеры знаменитую голову Пэана, чудесной работы, из паросского мрамора, которой мы так часто любовались? А между тем в честь этого Пэана, вместе с Эскулапом, сиракузяне ежегодно устраивали празднества. Что касается Аристея, которого греки считают сыном Либера и который, как говорят, впервые добыл оливковое масло, то ему в Сиракузах поклонялись в одном и том же храме вместе с отцом Либером.
(LVIII, 129) А знаете ли вы, каким почетом пользовался Юпитер-Император в своем храме? Вы можете себе представить это, если вспомните, как глубоко почитали сходное с ним и столь же прекрасное изображение Юпитера, которое Тит Фламинин захватил в Македонии и поставил в Капитолии. Вообще во всем мире, говорят, было три одинаковых и великолепнейших статуи Юпитера-Императора: первая — македонская, которую мы видели в Капитолии[273]; вторая, что стоит у узкого пролива, ведущего в Понт; третья — та, которая, до претуры Верреса, находилась в Сиракузах. Первую Фламинин увез из храма Юпитера, но с тем, чтобы поставить ее в Капитолии, то есть в земном жилище Юпитера. (130) Статуя, находившаяся у входа в Понт, и по сей день цела и невредима, несмотря на то, что немало войн начиналось в пределах этого моря, а впоследствии распространялось на Понт. Третью же статую, находившуюся в Сиракузах, которую Марк Марцелл, победитель с оружием в руках, видел, но не тронул из уважения к религиозному чувству населения и которую чтили граждане и поселенцы, а приезжие посещали не только с целью осмотра, но и для поклонения ей, — ее Гай Веррес из храма Юпитера похитил. (131) Возвращаясь еще раз к Марцеллу, выскажу вам свое мнение: жители Сиракуз потеряли больше богов после приезда Верреса, чем своих граждан после победы Марцелла. И в самом деле, Марцелл, говорят, даже разыскивал знаменитого Архимеда, человека величайшего ума и учености, и был глубоко опечален вестью о его гибели[274]; а все, что разыскивал Веррес, не сохранялось, а похищалось.
(LIX) Оставляю в стороне то, что покажется менее значительным, — похищение мраморных дельфийских столов, прекрасных бронзовых кратеров[275], множества коринфских ваз, совершенное Верресом во всех храмах Сиракуз. (132) Поэтому, судьи, все те, кто сопровождает приезжих и показывает им каждую достопримечательность Сиракуз (так называемые мистагоги), уже изменили способ показа: раньше они показывали, где что есть, теперь же сообщают, откуда что похищено.
Так что же? Уже не думаете ли вы, что горе, причиненное сицилийцам, не особенно велико? Это не так, судьи! Во-первых, все люди дорожат своей религией и считают своим долгом свято почитать богов отчизны и беречь их изображения, завещанные им их предками; затем, эти украшения, эти произведения искусных мастеров, статуи и картины несказанно милы сердцу греков. Из их жалоб мы можем понять, сколь тяжела для них эта утрата, которая нам, быть может, кажется незначительной и не заслуживающей внимания. Поверьте мне, судьи, — хотя вы и сами, наверное, слышали об этом — из всех несчастий и обид, испытанных в течение последнего времени союзниками и чужеземными народами, ничто не причинило и не причиняет грекам такой скорби, как подобные ограбления храмов и городов.
(133) Сколько бы Веррес, по своему обыкновению, ни говорил, что он эти предметы купил, поверьте мне, судьи: ни во всей Азии, ни в Греции нет ни одной городской общины, которая бы когда-либо продала кому-нибудь хотя бы одну статую, картину, словом, какое-либо украшение их города. Или вы, быть может, думаете, что греки, после того как в Риме перестали выносить строгие судебные приговоры, начали вдруг продавать те вещи, которые они в то время, когда приговоры выносились суровые, не только не продавали, но даже скупали? Уже не думаете ли вы, что, в то время как Луцию Крассу, Квинту Сцеволе[276], Гаю Клавдию, могущественнейшим людям, как мы видели, пышно отпраздновавшим свой эдилитет, греки этих предметов не продавали, они стали продавать их тем лицам, которые были избраны в эдилы после того, как суды стали снисходительнее?
(LX, 134) Знайте — эта ложная и мнимая покупка даже более огорчительна для городских общин, чем тайный захват или же открытое похищение и увоз. Ибо они считают величайшим позором для себя запись в городских книгах, удостоверяющую, что граждане, за плату и притом небольшую, согласились продать и уступить предметы, полученные ими от предков. Действительно, можно только удивляться, как сильно греки дорожат этими предметами, которыми мы пренебрегаем. Вот почему наши предки охотно допускали, чтобы у греков было возможно больше таких предметов: у союзников — для того, чтобы они возможно больше преуспевали и благоденствовали под нашим владычеством; у тех же, кого они облагали податями и данью, они все-таки оставляли эти предметы, дабы люди, которых радует то, что нам кажется несущественным, получали от этого удовольствие и утешались в своем рабстве. (135) Как вы думаете? Сколько жители Регия, ныне римские граждане, хотели бы получить за то, чтобы от них увезли знаменитую мраморную статую Венеры? Сколько жители Тарента взяли бы за Европу на быке, за Сатира, находящегося в храме Весты в их городе, и за другие статуи? Жители Феспий — за статую Купидона, жители Книда — за мраморную Венеру, жители Коса — за писанную красками, жители Эфеса — за Александра, жители Кизика — за Аянта или за Медею, жители Родоса — за Иалиса[277], афиняне — за мраморного Иакха[278], или за писанного Парала[279], или за бронзовую коровку Мирона? Много времени заняло бы, да и нет необходимости перечислять одну за другой достопримечательности во всей Азии и Греции; я говорю об этом только потому, что хочу, чтобы вы поняли, как глубоко бывают удручены те, из чьих городов увозят такие произведения.
(LXI, 136) Но оставим в стороне других; послушайте о самих жителях Сиракуз. По приезде своем в Сиракузы, я вначале, в соответствии с тем, что узнал в Риме от друзей Верреса, думал, что в связи с делом о наследстве Гераклия[280] сиракузская община расположена к Верресу не менее, чем мамертинская, его соучастница в грабежах и хищениях. В то же время я боялся — в случае, если я найду что-нибудь в книгах жителей Сиракуз, — нападок вследствие влияния знатных и красивых женщин, руководивших Верресом в течение трех лет его претуры, и вследствие чрезмерной, не говорю уже — сговорчивости, но даже щедрости к нему, проявленной их мужьями[281]. (137) Поэтому в Сиракузах я встречался с римскими гражданами, знакомился с их книгами, расследовал нанесенные им обиды. Устав от этой продолжительной и кропотливой работы, я, для отдыха и развлечения, обратился к знаменитым книгам Карпинация[282], где я вместе с римскими всадниками, самыми уважаемыми членами конвента, разоблачил его «Верруциев», о которых я уже говорил[283], от сиракузян я совсем не ожидал помощи — ни официально, ни частным образом, да и не собирался требовать ее.
Когда я был занят этим, ко мне вдруг является Гераклий, бывший тогда в Сиракузах должностным лицом[284], знатный человек, в прошлом жрец Юпитера, а эта должность в Сиракузах — наиболее почетна; он предложил мне и моему брату, если нам будет угодно, пожаловать в их сенат; по его словам, сенаторы в полном сборе в курии, и он, по решению сената, просит нас прийти.
(LXII, 138) Вначале мы колебались и не знали, что нам делать; но нам сейчас же пришло на ум, что мы не должны отказываться от присутствия в этом собрании. Поэтому мы пришли в курию. Нас очень почтительно приветствуют вставанием. По просьбе должностного лица, мы садимся. Начинает говорить Диодор, сын Тимархида[285], превосходивший других и своим влиянием и летами, и, как мне показалось, жизненным опытом. Вначале он сказал следующее: сенат и жители Сиракуз глубоко опечалены тем, что я, в других городах Сицилии объяснявший сенату и жителям, сколько пользы для себя и сколько добра они могут ожидать от моего приезда, принимавший от всех жалобы, представителей и письма и выслушивавший свидетельские показания, в их городе ничего подобного не делаю. Я ответил, что в Риме, в собрании сицилийцев, когда, по общему решению всех представителей городских общин, меня просили о помощи и поручили мне вести дело всей провинции, представители Сиракуз не присутствовали, а я, со своей стороны, не требую, чтобы сколько-нибудь неблагоприятное для Гая Верреса решение было принято в той курии, где я вижу золоченую статую Гая Верреса. (139) После этих моих слов присутствовавшие начали так громко сетовать при виде этой статуи и при напоминании о ней, что она показалась мне поставленным в курии памятником преступлений, а не милостей. Затем, все они — каждый по-своему, насколько умел, убедительно — начали рассказывать мне о том, о чем я уже говорил: что разграблен город, что храмы опустошены, что из наследства Гераклия, которое Веррес будто бы уступил управителям палестры, сам он взял себе наибольшую часть; что нельзя требовать приязни к управителям палестры от человека, унесшего даже бога, создавшего оливковое масло; что его статуя сооружена не на общественные деньги и не от имени города, — ее решили изготовить и поставить те, кто участвовал в расхищении наследства; что они же были представителями общины, прибывшими в Рим, помощниками Верреса в его бесчестных действиях, соучастниками в его грабежах, его пособниками в гнусных поступках; что мне нечего удивляться, если те лица не присоединились к общему решению представителей городских общин и пренебрегли благополучием Сицилии.
(LXIII, 140) Убедившись, что на беззакония Верреса жители Сиракуз сетуют не меньше, а скорее даже больше, чем остальные сицилийцы, я открыл им свои намерения, касающиеся их, потом изложил и объяснил им всю свою задачу и, наконец, посоветовал им не изменять общему делу и признать недействительным тот хвалебный отзыв, какой они, по их словам, вынесли Верресу задолго до этого времени, под влиянием насилия и страха. Тогда, судьи, жители Сиракуз — клиенты и друзья Верреса — поступили так: прежде всего показали мне городские книги, хранившиеся в тайном отделении эрария; в них были перечислены все похищенные Верресом предметы, упомянутые мной, и даже большее число их, чем я мог назвать; было точно записано, что именно пропало из храма Минервы, что́ — из храма Юпитера, что́ — из храма Либера; кто и как должен был следить за сохранностью этих предметов, тоже было внесено в записи; а так как эти лица, согласно правилу, должны были сдавать отчет и передавать все полученное ими своим преемникам по должности, то они просили не возлагать на них ответственности за пропажу этих вещей; поэтому все они были освобождены от ответственности и прощены. Я распорядился опечатать эти книги печатью города и доставить их мне.
(141) Что касается хвалебного отзыва, то мне дали следующее объяснение. Вначале, когда от Гая Верреса, за некоторое время до моего приезда, пришло письмо насчет хвалебного отзыва, они не приняли никакого решения; затем, когда некоторые из его друзей стали им напоминать, что следует вынести какое-нибудь решение, их предложение было отвергнуто с громким криком и бранью. Впоследствии, незадолго до моего приезда, лицо, облеченное высшей властью[286], потребовало от них постановления. Они постановили дать хвалебный отзыв, но так, чтобы он мог принести Верресу больше вреда, чем пользы. Это именно так, судьи! Послушайте мой рассказ, основанный на том, что они мне сообщили.
(LXIV, 142) В Сиракузах есть обычай, по которому в случаях, когда сенату о чем-нибудь докладывают, всякий желающий может высказать свое мнение; поименно никому не предлагают высказываться; однако лица, старшие годами и занимающие более высокие должности, обычно сами высказываются первыми, а остальные дают им эту возможность. Но если все молчат, то их обязывают высказаться и порядок определяется по жребию. Таков был обычай, когда сенату доложили насчет хвалебного отзыва о Верресе. Прежде всего, желая оттянуть время, многие внесли запрос: когда речь шла о Сексте Педуцее[287], человеке с величайшими заслугами перед городской общиной и всей провинцией, они ранее, узнав о грозящих ему неприятностях и желая вынести ему хвалебный отзыв от имени города за его многочисленные и величайшие заслуги, натолкнулись на запрещение со стороны Верреса; хотя Педуцей теперь в их хвалебном отзыве не нуждается, все-таки будет несправедливо, если сперва будет принято не их тогдашнее добровольное решение, а нынешнее вынужденное. Все присутствовавшие громко приветствовали это предложение и потребовали, чтобы оно было принято. (143) Доложили насчет Педуцея. Каждый высказался по очереди, в соответствии со своим возрастом и почетной должностью. Это можно видеть из подлинного постановления сената; ведь предложения виднейших людей записываются дословно. Читай. «Что касается высказываний о Сексте Педуцее, …высказались…» Указаны имена тех, которые выступали первыми. Выносится решение.
Затем докладывают насчет Верреса. Пожалуйста, скажи, как. «Что касается высказываний о Гае Верресе, …» Что же написано дальше? — «…так как никто не встал и не внес предложения, …» Что это значит? — «был брошен жребий». Почему? Неужели никто не захотел добровольно высказать похвалу тебе как претору, защитить тебя от опасности, особенно когда этим самым можно было снискать расположение претора? Никто. Даже участники в твоих попойках, твои советчики, сообщники, приспешники не посмели произнести ни слова; в той самой курии, где стояла твоя статуя и нагая статуя твоего сына, никого не тронул даже вид твоего обнаженного сына[288], так как все помнили, как была обнажена провинция.
(144) Кроме того, они рассказали мне, что они составили хвалебный отзыв так, чтобы всякий мог понять, что это не похвала, а скорее издевательство, коль скоро отзыв напоминает о позорной и злополучной претуре Верреса. Ведь в нем было написано: «Так как он никого не засек розгами до смерти, …» он, который, как вы слышали[289], велел обезглавить знатнейших и честнейших людей! — «так как он неусыпно заботился о провинции, …» он, который если не досыпал, то ради бесчинств и разврата! — «так как он не подпускал морских разбойников к острову Сицилии, …» — он, который позволил им посетить даже Остров в Сиракузах![290]
(LXV, 145) Получив от них эти сведения, я ушел вместе с братом из курии, чтобы они, в наше отсутствие, вынесли решение по своему усмотрению[291]. Они тотчас же постановили, во-первых, от имени общины заключить с братом моим Луцием союз гостеприимства, так как он отнесся к жителям Сиракуз с такой же приязнью, с какой к ним всегда относился я[292]. Решение это тогда было не только записано, но и вырезано на медной дощечке и передано нам. Очень любят тебя, клянусь Геркулесом, твои милые сиракузяне, на которых ты так часто ссылаешься, раз они усматривают вполне основательную причину для дружеских отношений с твоим обвинителем в его намерении обвинять тебя и в его приезде для расследования по твоему делу! Затем — и притом без колебаний в мнениях, почти единогласно — было решено объявить недействительным принятый ранее хвалебный отзыв о Гае Верресе. (146) После того как уже не только была произведена дисцессия[293], но и было записано и внесено в книги решение, к претору обратились с апелляцией[294]. И кто? Какое-либо должностное лицо? Нет. Сенатор? Даже не сенатор. Кто-нибудь из жителей Сиракуз? Вовсе нет. Кто же обратился к претору с апелляцией? Бывший квестор Верреса — Публий Цесеций[295]. Забавное дело! Всеми Веррес покинут, лишен помощи, оставлен! На решение сицилийского должностного лица — для того, чтобы сицилийцы не могли вынести постановления в своем сенате, чтобы они не могли осуществить своего права согласно своим обычаям, своим законам, — с апелляцией обратился к претору не друг Верреса, не его гостеприимец, даже не сицилиец, а квестор римского народа! Где это видано, где слыхано? Справедливый и мудрый претор велел распустить сенат[296]; ко мне сбежалась огромная толпа. Прежде всего сенаторы стали жаловаться на то, что у них отнимают их права, их свободу: народ хвалил и благодарил сенаторов; римские граждане ни на шаг не отходили от меня. В этот день мне едва удалось — и то с большими усилиями — предотвратить насилие над тем любителем апелляций.
(147) Когда мы явились к трибуналу претора, он придумал очень остроумное решение: прежде чем я мог произнести хотя бы одно слово, он встал с кресла и ушел. Так как уже начало смеркаться, мы ушли с форума. (LXVI) На следующий день, рано утром, я потребовал, чтобы претор позволил жителям Сиракуз передать мне вынесенное накануне постановление их сената. Он ответил отказом и сказал, что мое выступление с речью в греческом сенате было недостойным поступком с моей стороны, но уж совершенно недопустимо было то, что я, находясь среди греков, говорил по-гречески. Я ответил ему то, что мог, что должен был и что хотел ответить; между прочим, я, помнится, указал ему на явную разницу между ним и знаменитым Нумидийским, настоящим и истинным Метеллом[297] — тот отказался помочь своим хвалебным отзывом своему шурину и близкому другу, Луцию Лукуллу[298]; он же для совершенно чужого ему человека добывает у городских общин хвалебные отзывы, применяя насилие и угрозы.
(148) Поняв, что на претора сильно повлияли последние известия, сильно повлияли письма — не рекомендательные, а денежные[299], я, по совету самих жителей Сиракуз, попытался силой завладеть книгами, содержавшими постановление сената. По поводу этого — новое стечение народа и новые распри; итак, не подумайте, что Веррес был совсем лишен друзей и гостеприимцев в Сиракузах, был вовсе гол и одинок. Оборонять книги начинает какой-то Феомнаст, до смешного сумасшедший человек, которого сиракузяне зовут Феорактом[300]; человек, за которым бегают мальчишки; всякая его речь вызывает дружный смех. Однако его безумие, забавное в глазах других людей, тогда мне было в тягость; с пеной у рта, сверкая глазами, он с громким криком обвинял меня в насильственных действиях по отношению к нему; мы вместе отправились в суд. (149) Тут я стал требовать позволения опечатать книги и увезти их; Феомнаст возражал, говоря, что это не постановление сената, раз насчет него к претору обратились с апелляцией, и что его не надо передавать мне. Я стал читать закон, в силу которого в моем распоряжении должны быть все книги и записи; но этот полоумный настаивал на своем, говоря, что до наших законов ему дела нет. Хитроумный претор сказал, что ему не хотелось бы, чтобы я увозил в Рим то, что нельзя признать постановлением сената. Словом, если бы я не пригрозил ему хорошенько, если бы я не указал ему на кару, налагаемую законом, то я не получил бы книг. А этот полоумный, который, выступая в защиту Верреса, на меня орал, после того как ничего не добился, отдал мне, видимо, желая снискать мое благоволение, тетрадку, где были перечислены все грабежи, совершенные Верресом в Сиракузах, впрочем, уже известные мне из показаний других людей.
(LXVII, 150) Пусть тебя теперь хвалят мамертинцы, так как они — единственные во всей провинции, желающие твоего оправдания; но пусть хвалят при условии, что Гей, глава посольства, будет здесь[301]; при условии, что они будут готовы отвечать мне на мои вопросы. А я — да будет им ведомо! — намерен спросить их вот о чем: должны ли они поставлять корабли римскому народу? Они ответят утвердительно. Поставили ли они корабль в претуру Верреса? Они ответят отрицательно. Построили ли они за счет города огромный грузовой корабль, который они отдали Верресу? Они не смогут это отрицать. Брал ли у них Гай Веррес хлеб, чтобы отправлять его римскому народу, как поступали его предшественники? Нет. Сколько солдат и матросов дали они в течение трех лет? Ни одного, скажут они. Что Мессана была складом для всего похищенного и награбленного добра, они отрицать не смогут; что оттуда вывезено очень много вещей на множестве кораблей, наконец, что этот огромный корабль, данный Верресу мамертинцами, с грузом вышел в море и что Веррес выехал на нем, — все это им придется признать.
(151) Поэтому держись, пожалуй, за этот хвалебный отзыв мамертинцев. Но сиракузская городская община, как мы видим, настроена против тебя именно так, как этого заслуживает твое обращение с ней. Они упразднили также и позорные Веррии. И в самом деле, совершенно не подобало воздавать божеские почести тому человеку, который похитил изображения богов. Сиракузяне, клянусь Геркулесом, по всей справедливости даже заслуживали бы порицания, если бы они, вычеркнув из своего календаря торжественный и праздничный день игр, собиравший толпы народа, — так как в этот день Сиракузы, как говорят, были взяты Марцеллом, — в этот же самый день устраивали празднество в честь Верреса, хотя он отнял у сиракузян то, что им было оставлено в тот злосчастный день. Но обратите внимание, судьи, на бесстыдство и наглость человека, который не только учредил эти позорные и смехотворные Веррии на деньги Гераклия, но также и велел упразднить Марцеллии с тем, чтобы сиракузяне из года в год совершали священнодействия в честь того, из-за кого они лишились возможности совершать священнодействия, завещанные им предками, и утратили даже и богов своих отцов, и чтобы они отменили празднества в честь того рода, благодаря которому они сохранили все другие праздничные дни.
4. Речь против Гая Верреса [Вторая сессия, книга V, «О казнях». 70 г. до н. э.]
(I, 1) Как я вижу, судьи, ни у кого нет сомнений в том, что Гай Веррес совершенно открыто ограбил в Сицилии все святилища и общественные здания, делая это и как частное и как должностное лицо; что он не только без всякого страха перед богами, но даже и без утайки упражнялся во всех видах воровства и хищений. Но мне предстоит столкнуться с защитой особого рода, блестящей и великолепной, и способ борьбы с ней, судьи, я должен обдумать заблаговременно. Выставляют положение, что благодаря мужеству и исключительной бдительности, проявленными Верресом в смутное и грозное время[302], провинция Сицилия была сохранена невредимой от посягательств беглых рабов и вообще избавлена от опасностей войны.
(2) Что мне делать, судьи? Где мне найти основания для своего обвинения, к чему обратиться мне? Всему моему натиску противопоставляют, словно крепостную стену, славу доблестного императора[303]. Знаю я это «место»[304]; предвижу, куда Гортенсий направит свой удар. Опасности войны, трудное положение государства, малочисленность императоров опишет он; затем станет упрашивать вас, а потом, в сознании своего права, даже требовать, чтобы вы не позволяли, на основании свидетельских показаний сицилийцев, отнимать у римского народа такого воина и не допускали, чтобы обвинения в алчности, предъявленные ему, оказались в ваших глазах сильнее его заслуг как военачальника.
(3) Не могу скрыть от вас, судьи: я боюсь как бы, вследствие этой выдающейся военной доблести Гая Верреса, все его деяния не сошли ему безнаказанно. Вспоминаю, какое влияние, какое впечатление произвела во время суда над Манием Аквилием речь Марка Антония[305]. Как оратор будучи не только умен, но и решителен, он, заканчивая речь, сам схватил Мания Аквилия за руку, поставил его у всех на виду и разорвал ему на груди тунику, чтобы римский народ и судьи могли видеть рубцы от ранений, полученных им прямо в грудь; в то же время он долго говорил о ране в голову, нанесенной Аквилию военачальником врагов[306], и внушил судьям, которым предстояло вынести приговор, сильные опасения, что человек, которого судьба уберегла от оружия врагов, когда он сам не щадил себя, окажется сохраненным не для того, чтобы слышать хвалу от римского народа, а чтобы испытать на себе суровость судей. (4) Мои противники пытаются теперь прибегнуть к тому же способу и вести защиту по тому же пути; к этому-то они и стремятся. Пусть Веррес вор, пусть он святотатец, пусть он первый во всех гнусностях и пороках, но он доблестный император, ему сопутствует счастье[307] и его надо сохранить, памятуя об испытаниях, которые могут предстоять государству.
(II) Не буду рассматривать твоего дела по всей строгости закона, не буду говорить того, чего я, пожалуй, должен был бы придерживаться, коль скоро суд происходит на основании определенного закона[308], — а именно, что мы должны услыхать от тебя вовсе не о том, какую храбрость ты проявил на войне, а о том, как ты сохранил свои руки чистыми от чужого имущества. Но я повторяю — не об этом я буду говорить, но задам тебе вопрос, соответствующий, как я понимаю, твоему желанию: каковы и сколь значительны были твои деяния во время войны?
(5) Что ты говоришь? От войны, начатой беглыми рабами, Сицилия была избавлена благодаря твоей доблести? Великая это заслуга и делающая тебе честь речь! Но все-таки — от какой же это войны? Ведь, насколько нам известно, после той войны, которую завершил Маний Аквилий, в Сицилии войны с беглыми рабами не было. — «Но в Италии такая война была». — Знаю и притом большая и ожесточенная. И ты пытаешься хотя бы часть успехов, достигнутых во время той войны, приписать себе? И ты хочешь разделить славу той победы с Марком Крассом или с Гнеем Помпеем?[309] Да, пожалуй, у тебя хватит наглости даже и на подобное заявление. Видимо, именно ты воспрепятствовал полчищам беглых рабов переправиться из Италии в Сицилию. Где, когда, с какой стороны? Тогда, когда они пытались пристать к берегу — на плотах или на судах? Ведь мы ничего подобного никогда не слыхали, но знаем одно: доблесть и мудрость храбрейшего мужа Марка Красса не позволили беглым рабам переправиться через пролив в Мессану на соединенных ими плотах, причем этой их попытке не пришлось бы препятствовать с таким трудом, если бы в Сицилии предполагали наличие военных сил, способных отразить их вторжение. — (6) «Но в то время как в Италии война происходила близко от Сицилии, все-таки в Сицилии ее не было». — А что в этом удивительного? Когда война происходила в Сицилии, столь же близко от Италии, она даже частично Италии не захватила.
(III) В самом деле, какое значение придаете вы в связи с этим такому близкому расстоянию между Сицилией и Италией? Доступ ли для врагов был, по вашему мнению, легок или же заразительность примера, побуждавшего начать войну, была опасна? Всякий доступ в Сицилию был не только затруднен, но и прегражден для этих людей, не имевших ни одного корабля, так что тем, которые, по твоим словам, находились так близко от Сицилии, достигнуть Океана[310] было легче, чем высадиться у Пелорского мыса. (7) Что касается заразительности восстания рабов, то почему о ней твердишь именно ты, а не все те люди, которые стояли во главе других провинций? Не потому ли, что в Сицилии и ранее происходили восстания беглых рабов?[311] Но именно этому обстоятельству провинция эта и обязана своей безопасностью и в настоящем и в прошлом. Ибо, после того как Маний Аквилий покинул провинцию, согласно распоряжениям и эдиктам всех преторов, ни один раб не имел права носить оружие. Приведу вам случай давний и, ввиду примененной строгости, хорошо известный каждому из вас. Луцию Домицию, во время его претуры в Сицилии[312], однажды принесли убитого огромного вепря; он с удивлением спросил, кто его убил; узнав, что это был чей-то пастух, он велел позвать его; тот немедленно прибежал в надежде на похвалу и награду; Домиций спросил его, как убил он такого огромного зверя; тот ответил — рогатиной. Претор тут же приказал его распять. Проступок этот может показаться слишком суровым; я лично воздержусь от его оценки; я только вижу, что Домиций предпочел прослыть жестоким, карая ослушника, а не, попустительствуя ему, — беспечным.
(IV, 8) Благодаря такому управлению провинцией, уже тогда когда вся Италия была охвачена Союзнической войной, Гай Норбан[313], при всей своей нерешительности и недостатке храбрости, наслаждался полным спокойствием; ибо Сицилия вполне могла сама оберечь себя от возникновения войны внутри страны. Право, трудно представить себе более тесную связь, чем между нашими дельцами и сицилийцами, поддерживаемую общением, деловыми отношениями, расчетами, согласием; условия жизни самих сицилийцев таковы, что все блага жизни связаны для них с состоянием мира; кроме того, они настолько благожелательно относятся к владычеству римского народа, что не имеют ни малейшего желания ослабить его и заменить другим владычеством; распоряжения преторов и строгости владельцев предотвращают опасность мятежей рабов, и поэтому нет такого внутреннего зла, какое могло бы возникнуть в самой провинции.
(9) Итак, во время претуры Верреса, значит, не было никаких волнений среди рабов в Сицилии, никаких заговоров? Нет, не произошло решительно ничего такого, о чем могли бы узнать сенат и римский народ, ничего, о чем сам Веррес написал бы в Рим. И все же, подозреваю я, в некоторых местностях Сицилии начиналось брожение среди рабов; я, надо сказать, заключаю об этом не столько на основании событий, сколько на основании поступков и указов Верреса. Обратите внимание, как далек буду я от неприязни к нему, ведя дело. Те факты, которые он хотел бы найти, и о которых вы еще никогда не слышали, припомню и подробно изложу вам я сам.
(10) В Триокальском округе, который беглые рабы уже занимали ранее, на челядь одного сицилийца, некоего Леонида, пало подозрение в заговоре. Об этом сообщили Верресу; немедленно, как и надлежало, по его приказу людей, которые были названы, схватили и доставили в Лилибей. Хозяин их был вызван, суд состоялся, был вынесен обвинительный приговор. (V) Что же дальше? Что вы думаете? Вы, пожалуй, ждете рассказа о каком-либо воровстве или хищении? Нечего вам постоянно подозревать одно и то же! Когда грозит война, какое уж тут воровство! Даже если в этом деле представился удобный случай нажиться, то он был упущен. Веррес мог сорвать с Леонида денежки тогда, когда вызывал его в суд. Тогда он мог сторговаться с ним — дело не новое для Верреса — о прекращении следствия; затем — об оправдании; но после обвинительного приговора рабам какая же еще возможна нажива? Их надо вести на казнь. Ведь свидетелями были и члены совета судей, и официальные записи, и блистательная городская община Лилибей, и пользующийся глубоким уважением многочисленный конвент римских граждан[314]. Делать было нечего, их пришлось вывести. И вот, их вывели и привязали к столбам[315]. (11) Вы все еще, мне кажется, ждете какой-то развязки, судьи, так как Веррес никогда ничего не делает без какого-либо барыша и поживы. Что мог он сделать при подобных обстоятельствах? Вообразите себе, какое вам угодно, бесчестное деяние — и я все-таки поражу всех вас неожиданностью. Людей, признанных виновными в преступлении и притом в заговоре, обреченных на казнь, привязанных к столбам, неожиданно, на глазах у многих тысяч зрителей, отвязали и возвратили их хозяину из Триокалы.
Что можешь ты сказать по этому поводу, лишенный рассудка человек, кроме того, о чем я тебя не спрашиваю, о чем в таком преступном деле, хотя сомневаться и не приходится, спрашивать не следует, даже если возникает сомнение, — что же ты получил, сколько и каким образом? Во все это я не вхожу и избавляю тебя от такой заботы. И без того — я в этом уверен — все поймут, что на такое дело, на которое никого, кроме тебя, нельзя было бы склонить никакими деньгами, ты даром отважиться не мог. Но я ничего не говорю о твоем способе красть и грабить; я обсуждаю теперь твои заслуги как военачальника.
(VI, 12) Что же ты скажешь теперь, доблестный страж и защитник провинции? Рабов, которые, как ты установил при следствии, решили взяться за оружие и поднять мятеж в Сицилии и которых ты, на основании решения своего совета, признал виновными, ты, уже передав их для казни по обычаю предков, осмелился избавить от смерти и освободить, а крест, воздвигнутый тобой для осужденных рабов, ты сохранил, видимо, для римских граждан, казнимых без суда. Гибнущие государства, утратив последнюю надежду на спасение, обычно решаются на крайнюю меру: восстанавливают осужденных в их правах, освобождают заключенных, возвращают изгнанников, отменяют судебные приговоры[316]. Когда это случается, все понимают, что такое государство близко к гибели и что на его спасение надежды не остается. (13) Но там, где это бывало, это делали для избавления от казни или для возвращения из изгнания либо людей, любимых народом, либо знатных; притом это совершали не те же самые лица, которые ранее вынесли им приговор; это происходило не тотчас же после осуждения и не в том случае, если эти люди были осуждены за покушение на жизнь и достояние всех граждан. Но этот случай, право, совершенно неслыханный, и его можно объяснить, только приняв во внимание характер Верреса, а не существо самого дела: ведь от казни были избавлены рабы, избавлены тем самым человеком, который их судил; они были освобождены им тотчас же после осуждения, уже во время казни; и это были рабы, осужденные за преступление, угрожавшее существованию и жизни всех свободных людей.
(14) О, прославленный полководец! Он подстать не Манию Аквилию, храбрейшему мужу, но, право, Павлам, Сципионам, Мариям! Как дальновиден был он при страхе, охватившем провинцию ввиду опасности, угрожавшей ей! Видя, что сицилийские рабы готовы восстать в связи с мятежом среди беглых рабов в Италии, какой ужас внушил он им! Ведь никто из них и шевельнуться не посмел. Он велел схватить их. Кто не испугался бы этого? Он велел привлечь их хозяев к ответственности. Что может быть страшнее для раба? Он вынес приговор: «По-видимому, совершили…»[317]. Возникавшее пламя он, видимо, потушил слезами и кровью кучки людей. Что же дальше? Порка, пытка раскаленным железом и — последняя кара для осужденных, острастка для других — распятие и смерть на кресте. От всех этих мучений их избавили. Какой ужас должен был, вне всякого сомнения, охватить рабов при этой сговорчивости претора, у которого жизнь рабов, осужденных за преступный заговор, можно было выкупить даже при посредничестве самого палача!
(VII, 15) Далее, разве ты в случае с Аристодамом из Аполлонии, в случае с Леонтом из Имахары не поступил точно так же? А это брожение среди рабов и внезапно возникшее подозрение насчет возможности мятежа? Что вызвало оно с твоей стороны? Заботу ли об охране провинции или же надежду на новый источник бесчестнейшей наживы? После того как, по твоему наущению, был обвинен управитель усадьбой одного знатного и уважаемого человека, Евменида из Галикий, за которого Евменид заплатил очень дорого, ты взял у Евменида 60.000 сестерциев, как он сам недавно показал под присягой, сообщив все подробности этого дела. С римского всадника Гая Матриния ты, в его отсутствие, когда он был в Риме, взял 600.000 сестерциев, заявив, что его управители усадьбами и пастухи кажутся тебе подозрительными. Это сказал Луций Флавий, доверенный Гая Матриния, выплативший тебе эти деньги; это сказал сам Матриний; это говорит прославленный муж, цензор Гней Лентул, который, из уважения к Матринию, тотчас же написал тебе письмо и попросил других людей о том же.
(16) Далее, возможно ли обойти молчанием случай с Аполлонием из Панорма, сыном Диокла, по прозванию Близнецом? Возможно ли привести случай, более известный во всей Сицилии, более возмутительный, более ясный? Приехав в Панорм, Веррес послал за ним и велел назвать его имя с трибунала в присутствии большой толпы и многочисленных римских граждан. Тотчас же пошли толки: «А я-то удивлялся, как же он так долго оставляет в покое богатого Аполлония»; «Видно, он что-нибудь придумал, что-нибудь нашел»; «Уж, конечно, Веррес внезапно вызывает такого богача в суд не спроста». Все ждали с крайним нетерпением, что будет, как вдруг прибежал смертельно бледный сам Аполлоний с юным сыном; престарелый отец Аполлония уже давно не покидал постели. (17) Веррес назвал ему раба, по его словам, старшего пастуха, и сказал, что тот устроил заговор и подстрекал других рабов; между тем такого раба среди челяди Аполлония вообще не было. Веррес потребовал немедленной выдачи этого раба. Аполлоний стал уверять, что у него вообще нет раба с таким именем. Претор велел схватить его у трибунала и бросить в тюрьму. Тот, когда его брали, кричал, что он, несчастный, ничего не совершал, что за ним нет никакого проступка, что его деньги розданы взаймы и наличных у него нет. Пока он говорил это в присутствии огромной толпы, давая каждому понять, что подвергается такой жестокой несправедливости именно потому, что не дал денег, пока он, повторяю, вопил о деньгах, его заковали и бросили в тюрьму.
(VIII, 18) Обратите внимание на последовательность претора [и притом такого], которого при этих обстоятельствах не защищают, как посредственного претора, а хвалят, как выдающегося полководца. Когда нам угрожал мятеж рабов, Веррес, без суда, подвергал владельцев рабов той казни, от которой он освобождал осужденных рабов. Аполлония, богатейшего человека, который, в случае мятежа рабов в Сицилии, лишился бы огромного состояния, Веррес, под предлогом мятежа беглых рабов, без разбора дела бросил в тюрьму; рабов же, которых он сам, в соответствии с мнением своего совета, признал виновными в заговоре с целью мятежа, он, не спросив мнения своего совета, избавил от всякой кары. (19) Но что, если Аполлоний действительно провинился и понес за это кару, заслуженную им? Неужели мы все же, ведя это дело, поставим Верресу в вину и призна́ем предосудительным всякий мало-мальски строгий приговор? Я не буду столь суров, не стану следовать обычаю обвинителей — рассматривать всякое проявление милосердия как крупную небрежность, выставлять малейшую суровость при наказании как отвратительную жестокость. Не стану я так рассуждать; твои приговоры я буду отстаивать, твой авторитет — защищать, пока ты сам будешь хотеть этого. Но как только ты сам начнешь отменять свои собственные приговоры, тебе придется отказаться от нападок на меня: я с полным правом буду требовать, чтобы тот, кто сам себя осудил, был осужден также и присяжными судьями.
(20) Не стану я защищать Аполлония, своего друга и гостеприимца[318], чтобы не показалось, что я добиваюсь отмены твоего приговора; не буду говорить о его честности, достоинстве и добросовестности; оставлю в стороне и то, уже упомянутое мной обстоятельство, что состояние Аполлония составляли рабы, скот, усадьбы, деньги, данные взаймы, так что ему меньше, чем кому-либо другому, были на руку беспорядки или войны в Сицилии; не стану также говорить, что даже в случае значительной вины Аполлония, его, всеми уважаемого гражданина весьма уважаемой городской общины, не следовало подвергать такому тяжкому наказанию без суда. (21) Не буду возбуждать против тебя ненависти даже в связи с тем, что в то время, когда такой муж находился в темной, смрадной и грязной тюрьме, ты своими достойными тиранна интердиктами[319] совершенно запретил допускать к этому несчастному его престарелого отца и юного сына. Обойду также молчанием, что в каждый твой приезд в Панорм, на протяжении года и шести месяцев (вот сколько времени Аполлоний находился в тюрьме!) к тебе являлись в качестве просителей все члены панормского сената вместе с властями и городскими жрецами и умоляли и заклинали тебя, наконец, избавить от мучений этого несчастного и невинного человека. Все это я оставляю в стороне; если я пожелаю это рассмотреть, мне будет легко доказать, что ты своей жестокостью ко всем другим людям уже давно преградил состраданию всякий доступ к сердцам твоих судей.
(IX, 22) Во всем этом я тебе уступлю и пойду тебе навстречу: предвижу, что́ именно Гортенсий будет говорить в твою защиту. Он скажет, что, действительно, ни старость отца, ни молодость сына, ни слезы их обоих не имели для Верреса никакого значения по сравнению с заботой о пользе и благе провинции; что невозможно управлять государством, не внушая людям страха и не применяя строгости; спросит, почему перед преторами носят связки, зачем им даны секиры[320], зачем построены тюрьмы, зачем, по обычаю предков, определено столько видов наказания для дурных людей. Когда он выскажет все это с подобающей внушительностью и строгостью, я спрошу его, почему же этого самого Аполлония тот же Веррес неожиданно, не приведя ни одного нового факта, без чьего-либо заступничества, без всякого основания велел выпустить из тюрьмы, и буду утверждать, что это обвинение порождает столько подозрений, что я, не приводя доказательств, предоставлю судьям уже самим догадаться, в чем заключается этот способ грабежа — сколь он бесчестен, сколь он возмутителен и какие неизмеримые и какие неограниченные возможности стяжания он дает.
(23) В самом деле, ознакомьтесь сначала вкратце с действиями Верреса по отношению к Аполлонию — сколько обид он причинил ему и сколь они значительны; затем взвесьте каждую из них и переведите на деньги. Вы поймете, что он для того и заставил одного богатого человека испытать так много, чтобы внушить другим страх перед такими же несчастьями и показать им пример грозящих им опасностей. Прежде всего, внезапно было предъявлено обвинение в уголовном и притом вызывающем ненависть преступлении; сообразите, сколько человек от этого откупилось и во сколько это могло им обойтись. Затем, дело — без обвинения, приговор — без участия совета судей, осуждение — без защиты; определите цену всему этому и подумайте только, что эти несправедливости выпали на долю одного Аполлония и что другие люди — а их, конечно, было много — от этих несчастий избавились за деньги. Наконец, мрак, оковы, тюрьма, мучительное заключение вдали от родителей и детей, вообще без чистого воздуха и солнечного света, нашего общего достояния; эту пытку, от которой человек вправе откупиться даже ценой жизни, перевести на деньги я не могу. (24) Аполлоний откупился от всего этого поздно, уже сломленный горем и несчастьями, но его судьба все же научила других вовремя уступать преступной алчности Верреса — если только вы не думаете, что Веррес взвел именно на этого богатейшего человека столь ужасное обвинение без расчета на наживу и что он без такого же расчета внезапно освободил его из тюрьмы, или что этот род грабежа был применен Верресом к одному только Аполлонию в виде опыта, а не для того, чтобы его примером запугать всех самых богатых сицилийцев и внушить им страх.
(X, 25) Я желал бы, судьи, чтобы Веррес сам напомнил мне о тех своих подвигах, которые я, быть может, пропущу; ведь я говорю о его военной славе. Мне кажется, что обо всех подвигах, совершенных им в связи с ожидавшимся мятежом беглых рабов, я уже рассказал; сознательно я, право, ничего не пропустил. Итак, вы знаете о его решениях, заботливости, бдительности, об охране и защите им провинции. В сущности, вам следует знать, какого рода полководцем является Веррес (ведь бывают разные полководцы), дабы при малочисленности храбрых мужей никто не мог забывать о таком полководце. Не вспоминайте ни о предусмотрительности Квинта Максима[321], ни о быстроте действий знаменитого старшего Публия Африканского, ни о редкостной вдумчивости его преемника[322], ни об осмотрительности и искусстве Павла, ни о силе натиска и о мужестве Гая Мария. Прошу вас послушать о другом роде военачальников, которых надо с особой тщательностью поощрять и беречь.
(26) Скажем прежде, судьи, несколько слов о трудностях переходов; ведь они в военном деле весьма значительны, а в Сицилии совершенно неизбежны. Послушайте, с каким умом, с какой сообразительностью он облегчил себе эти труды и сделал их приятными. Прежде всего, в зимнее время он нашел прекрасное средство избавиться от сильных холодов, непогоды и опасностей, связанной с переправой через реки: избрал местом своего постоянного пребывания город Сиракузы, расположение и климат которого таковы, что там, говорят, никогда не бывает таких ненастных и бурных дней, чтобы хоть раз не выглянуло солнце. Здесь-то и проводил зимние месяцы этот доблестный военачальник, причем его нелегко было увидеть не только вне его дома, но и вне его ложа[323]. Короткий день он заполнял попойками, длинную ночь — развратом и гнусностями.
(27) С наступлением весны (о ее начале Веррес судил не по дуновению Фавония[324] и не по появлению того или иного светила; нет, он решал, что настала весна, увидев розы[325]) он всецело отдавался трудам и разъездам, проявляя при этом такую выносливость и рвение, что никто никогда не видел его едущим верхом. (XI) Как некогда царей Вифинии, так и его восемь человек носили в лекти́ке[326] с подушками, покрытыми прозрачной мелитской тканью и набитыми лепестками роз; один венок был у него на голове, другой был надет на шею, и он подносил к носу сеточку из тончайшей ткани с мелкими отверстиями, наполненную розами. Когда он, таким образом закончив путь, прибывал в какой-либо город, его на той же лекти́ке вносили прямо в спальню. Сюда к нему являлись сицилийские должностные лица, римские всадники, о чем вы слыхали от многих свидетелей, давших присягу. Его тайно знакомили со спорными делами; немного спустя во всеуслышание объявлялись его решения. Затем, уделив в спальне некоторое время правосудию сообразно с платой, а не с требованиями справедливости, он считал, что остальное время принадлежит уже Венере и Либеру[327]. (28) Здесь я, мне кажется, не должен обходить молчанием выдающуюся и редкостную заботливость прославленного военачальника; в Сицилии, знайте это, среди городов, где преторы имеют обыкновение останавливаться и творить суд[328], нет ни одного, где бы он не выбрал себе в знатной семье женщины, которая должна была удовлетворять его сладострастие. Некоторых из них открыто приводили на пир; более застенчивые приходили к назначенному времени, избегая света и взоров людей. На пиршестве у Верреса не было молчания, обычного во время обедов у преторов и императоров римского народа, не было благопристойности, приличествующей пиру должностных лиц; на нем раздавались громкие крики и брань; иногда дело доходило до потасовки и драки. Ведь Веррес, строгий и добросовестный претор, законам римского народа никогда не повиновавшийся, правилам попойки подчинялся весьма добросовестно. Дело кончалось тем, что одного на руках выносили из-за стола, словно с поля битвы, другого оставляли лежать, как мертвеца; многие валялись без сознания и чувств, так что любой человек, взглянув на эту картину, подумал бы, что видит не пир у претора, а Каннскую битву распутства[329].
(XII, 29) В самый же разгар лета, — а это время года преторы Сицилии всегда проводили в разъездах, считая особенно важным надзор за состоянием провинции тогда, когда хлеб находится на току, так как в эту пору челядь бывает в сборе, рабов легко пересчитать, тяжелый труд вызывает недовольство челяди, обилие хлеба волнует умы, а время года не является помехой, — тогда, повторяю, когда другие преторы постоянно объезжают свои провинции, этот император в новом вкусе разбивал для себя постоянный лагерь в самом красивом месте в Сиракузах. (30) У самого входа в гавань, где берег изгибается в сторону города, он приказывал ставить палатки, крытые тончайшим полотном. Сюда и переезжал он из преторского дома, некогда принадлежавшего царю Гиерону, и в течение этого времени уже никто не видел его нигде в другом месте. Но именно в это место не было доступа никому из тех, кто не мог быть ни участником, ни его пособником в делах сладострастья. Сюда стекались все его сиракузские наложницы, численность которых трудно себе представить; сюда сходились мужчины, достойные его дружбы, достойные чести разделять его образ жизни и пировать вместе с ним; и вот среди таких женщин и мужчин проводил время его сын-подросток, так что даже если бы он, по своим природным склонностям, не был похож на отца, то все же привычка к такому обществу и отцовское воспитание неминуемо сделали бы его подобным отцу. (31) Небезызвестная Терция, обманом и хитростью отнятая у родосского флейтиста и привезенная сюда, говорят, вызвала целую бурю в его лагере: жена сиракузца Клеомена, знатная родом, как и жена Эсхриона, благородного происхождения, были возмущены появлением в их обществе дочери мима Исидора. Но этому Ганнибалу, считавшему, что в его лагере надо состязаться в доблести, а не в родовитости[330], так полюбилась эта Терция, что он даже увез ее с собой из провинции. (XIII) И все-таки в эти дни, когда Веррес в пурпурном плаще и в тунике до пят[331] пировал в обществе женщин, люди на него не обижались и легко мирились с тем, что на форуме отсутствует должностное лицо, что судебные дела не разбираются и приговоры не выносятся; что на той части берега раздаются женские голоса, пение и музыка, а на форуме царит полное молчание и нет речи о делах и о праве, никого не огорчало. Ибо с форума, казалось, удалились не право и правосудие, а насилие, жестокость и неумолимый и возмутительный грабеж.
(32) И этот человек, по твоему утверждению, Гортенсий, является императором? Его хищения, грабежи, жадность, жестокость, высокомерие, злодеяния, наглость пытаешься ты прикрыть, прославляя его подвиги и заслуги как императора? Вот когда следует опасаться, как бы ты к концу своей защитительной речи не воспользовался тем старым приемом и примером Антония[332], как бы ты не заставил Верреса встать, обнажить себе грудь и показать римскому народу рубцы от укусов женщин, следы сладострастья и распутства. (33) Дали бы боги, чтобы ты осмелился упомянуть о его военной службе, о войне! Тогда мы узнаем обо всем раннем времени его «службы» и вы поймете, каков он был не только как «начальник», но и как «подначальный». Мы вспомним первое время его службы, когда его попросту уводили с форума, а не торжественно провожали, как он хвалится[333]. Будет назван и лагерь плацентийского игрока, где Верреса, несмотря на его исправность на этой службе, все же лишали жалования; будут упомянуты многие поражения, понесенные им на этом поприще, которые он полностью покрывал и возмещал себе цветом своей молодости. (34) Затем, когда он закалился и его постыдная выносливость надоела всем, кроме него самого, каким храбрым мужем он стал, сколько твердынь стыда и стыдливости взял он силой и смелостью! Зачем мне говорить об этом и в связи с его гнусными поступками позорить других людей? Не стану я так поступать, судьи! Все прошлое я обойду молчанием. Я только приведу вам два недавних факта, не позорящие никого постороннего и позволяющие вам догадаться обо всех остальных его поступках. Первый из них был известен всем и каждому: ни один житель муниципия, приезжавший в Рим в консульство Луция Лукулла и Марка Котты[334], дабы предстать перед судом, не был так прост, чтобы не знать, что все судебные решения городского претора зависят от воли и усмотрения жалкой распутницы Хелидоны. Второй факт следующий: после того как Веррес выступил из города Рима в походном плаще, дав обеты за свой империй и за благоденствие всего государства, он несколько раз ради встречи с женщиной, которая была женой одного человека, но принадлежала многим, приказывал носить себя ночью на лекти́ке в Рим, попирая божеское право, авспиции, все заветы богов и людей[335].
(XIV, 35) О, бессмертные боги! Насколько люди несходны в своих взглядах и помыслах! Пусть мои намерения и надежды на будущее так находят одобрение у вас и у римского народа, как справедливо то, что должностные полномочия, какими римский народ облекал меня до сего времени, я принимал в полном сознании святости всех своих обязанностей! Избранный квестором, я считал, что эта почетная должность мне не просто дана, а вверена и вручена. Будучи квестором в провинции Сицилии, я представлял себе, что глаза всех людей обращены на одного меня, что я в роли квестора выступаю как бы во всемирном театре, что я должен отказывать себе во всех удовольствиях, уж не говорю — в каких-нибудь из ряда вон выходящих страстных желаниях, но и в законных требованиях само́й природы. (36) Теперь я избран эдилом; я отдаю себе отчет в том, что́ мне поручено римским народом; мне предстоит устроить с величайшей тщательностью и торжественностью священные игры в честь Цереры, Либера и Либеры; умилостивить в пользу римского народа и плебса матерь Флору блеском игр в ее честь[336]; устроить с величайшим великолепием и благоговением древнейшие игры в честь Юпитера, Юноны и Минервы[337], игры, первыми названные римскими; мне поручен надзор за храмами и охрана всего города Рима; за эти труды и тревоги мне дана и награда: преимущество при голосовании в сенате[338], тога-претекста, курульное кресло, право оставить свое изображение потомству на память[339]. (37) Да будут все боги столь благосклонны ко мне, судьи, сколь справедливо то, что как ни приятен мне почет, оказываемый мне народом, он все-таки доставляет мне далеко не столько удовольствия, сколько тревог и труда; так что именно эта должность эдила кажется не по необходимости отданной случайному кандидату, а — ввиду того, что так надлежало, — предоставленной разумно и, по решению народа, доверенной надежному человеку.
(XV, 38) А когда ты — правдами и неправдами — был объявлен претором (оставляю в стороне и не говорю, как это произошло[340]); итак, когда ты, как я сказал, был объявлен избранным, то неужели самый голос глашатая, столько раз сообщавший о голосовании и о том, сколько раз этот почет тебе оказали такая-то младшая и такая-то старшая центурии[341], не заставил тебя подумать, что тебе вверена важная часть государственных дел и что в течение хотя бы одного того года тебе следует воздержаться от посещений дома распутницы? Когда тебе по жребию досталось творить суд[342], неужели ты ни разу не представил себе всей важности, всего бремени этой обязанности? Неужели ты — если только мог пробудиться — не отдал себе отчета в том, что эти полномочия, которые трудно выполнять, даже отличаясь исключительной мудростью и неподкупностью, достались в руки величайшей глупости и подлости? И вот, ты не только отказался на время своей претуры выгнать Хелидону из своего дома, но в ее дом перенес всю свою претуру[343]. (39) Затем началось твое наместничество, во время которого тебе ни разу не пришло в голову, что ликторские связки и секиры и столь обширная полнота империя, и все внешние знаки столь высокого положения даны тебе не для того, чтобы ты, пользуясь этой властью и авторитетом, мог сокрушать все преграды, воздвигнутые чувством чести и долгом, и считать имущество всех и каждого своей добычей, не с тем, чтобы ничье имущество не было для себя неприкосновенным, ни один дом — запретным, не с тем, чтобы ничья жизнь не была в безопасности, ничье целомудрие не было запретным для твоих вожделений и наглости; во время наместничества ты вел себя так, что тебе, при неопровержимости всех улик, только и остается ссылаться на войну с беглыми рабами, которая, как тебе уже ясно, не только не послужила тебе защитой, но и придала величайшую силу обвинениям, выставленным против тебя; разве только ты, быть может, упомянешь о последней вспышке войны беглых рабов в Италии и о беспорядках в Темпсе[344]; как только они произошли, судьба привела тебя туда; для тебя это было бы величайшей удачей, если бы в тебе нашлась хоть капля мужества и стойкости; но ты оказался тем же, кем был всегда. (XVI, 40) Когда к тебе явились жители Валенции[345], и красноречивый и знатный Марк Марий стал от их имени просить тебя, чтобы ты, облеченный империем и званием претора, взял на себя начальствование и руководство для уничтожения той небольшой шайки, ты от этого уклонился; более того, в то самое время, когда ты был на берегу, твоя небезызвестная Терция, которую ты с собой везде возил, была у всех на виду. Кроме того, ты, давая по такому важному делу ответ представителям Валенции, такого знаменитого и известного муниципия, был одет в темную тунику и плащ.
Как вы думаете, каково было его поведение на пути в Сицилию и в самой провинции, если он во время возвращения в Рим (где его ожидал не триумф[346], а суд) не избежал даже того срама, каким он себя покрыл, не получая при этом никакого удовольствия? (41) О, внушенный богами ропот сената, в полном составе собравшегося в храме Беллоны[347]. Как вы помните, судьи, уже смеркалось; незадолго до того было получено известие о волнениях в Темпсе; человека, облеченного империем, которого можно было бы туда послать, не находили; тогда кто-то сказал, что невдалеке от Темпсы находится Веррес. Каким всеобщим ропотом встретили это предложение, как открыто первоприсутствующие сенаторы против этого возражали! И человек, изобличенный столькими обвинениями и свидетельскими показаниями, возлагает какую-то надежду на то, что за него будут голосовать люди, которые все, еще до расследования дела, во всеуслышание единогласно вынесли ему обвинительный приговор?
(XVII, 42) Пусть это так, скажут нам; в той действительной или ожидавшейся войне с беглыми рабами Веррес не приобрел славы, так как ни такой войны, ни угрозы ее в Сицилии не было, и он на этот случай не принимал мер предосторожности. Но вот, против нападений морских разбойников он на самом деле содержал снаряженный флот, проявил исключительную заботливость и в этом отношении прекрасно защитил провинцию. Переходя к вопросу о военных действиях морских разбойников и о сицилийском флоте, судьи, я уже заранее утверждаю, что в одной этой области деятельности Верреса и проявились все его величайшие преступления: алчность, превышение власти[348], безрассудные действия, произвол, жестокость. Прошу вас выслушать мой краткий рассказ с таким же вниманием, какое вы мне уделяли до сего времени.
(43) Прежде всего я утверждаю, что делами флота он занимался, имея в виду не оборону провинции, а стяжание денег под предлогом постройки кораблей. В то время как прежние преторы обыкновенно требовали от городских общин предоставления кораблей и определенного числа матросов и солдат, ты и не подумал о том, чтобы потребовать чего бы то ни было от самой значительной, богатейшей мамертинской городской общины[349]. Сколько мамертинцы тайно заплатили тебе за это, мы впоследствии, в случае надобности, из их книг и от свидетелей узна́ем. (44) Что огромная кибея, величиной с трирему[350] (великолепная и прекрасно снаряженная кибея), на глазах у всех построенная для тебя за счет города, о чем знала вся Сицилия, была подарена тебе местными властями и сенатом Мессаны, я утверждаю. Корабль этот, нагруженный сицилийской добычей и сам составлявший часть этой добычи, ко времени отъезда Верреса прибыл в Велию[351] с многочисленными ценностями и притом с такими, которые он не хотел посылать в Рим вместе с другими украденными им предметами, так как они стоили дорого и особенно нравились ему. Это судно, великолепное и прекрасно снаряженное, я сам недавно видел в Велии, судьи, и его видели многие другие; но всем, смотревшим на него, казалось, что оно уже предвидит свое изгнание и высматривает путь для бегства своего хозяина.
(XVIII, 45) Что ты ответишь мне на это? Разве только то, что неизбежно приходится говорить в суде по делу о вымогательстве, хотя этот довод никак не может быть признан удовлетворительным, — корабль был построен на твои деньги. Посмей только так ответить, хотя это и неизбежно. Не бойся, Гортенсий, я не стану спрашивать, по какому праву сенатор построил для себя корабль[352]. Законы, запрещающие это, — старые и отжившие, как ты выражаешься. Некогда положение в нашем государстве было таково, строгость в судах была такова, что обвинитель считал нужным относить эти проступки к тяжким преступлениям. В самом деле, зачем тебе понадобился корабль? Ведь если бы ты поехал куда-нибудь по делам государственным, тебе предоставили бы корабли на казенный счет и для твоей охраны и для переезда, а как частное лицо ты не можешь ни разъезжать, ни отправлять предметы морем из тех мест, где тебе нельзя иметь собственность. (46) Затем, почему ты, в нарушение законов, вообще приобрел собственность? Такое обвинение имело бы значение в государстве в те давние, суровые и преисполненные достоинства времена; теперь же я не только не обвиняю тебя в этом преступлении, но даже не порицаю тебя с общепринятой точки зрения. Однако неужели ты никогда не подумал о том, что это будет для тебя позором, преступлением, навлечет на тебя ненависть — постройка грузового корабля на глазах у всех в самом людном месте провинции, которой ты управляешь, обладая империем? Что, по твоему мнению, должны были говорить те, кто это видел? Что должны были подумать те, кто об этом слышал? Что ты отправишь в Италию корабль без груза? Что ты по приезде в Рим намерен стать судовладельцем? Ни у кого не могло появиться даже предположения, будто у тебя в Италии есть приморское имение и ты для перевозки урожая обзаводишься грузовым судном. Тебе, должно быть, было угодно, чтобы всюду открыто пошли толки, будто ты готовишь себе корабль для вывоза своей добычи из Сицилии и доставки тебе похищенных предметов, остававшихся в провинции?
(47) И все же, если ты докажешь, что корабль был построен на твой счет, я готов оставить все это в стороне и простить тебе. Но неужели ты, безрассуднейший человек, не понимаешь, что эти самые мамертинцы, предстатели за тебя, при первом слушании дела лишили тебя возможности такого оправдания? Ибо Гей, глава посольства, присланного с хвалебным отзывом о тебе[353], сказал, что корабль для тебя строили рабочие за счет города Мессаны и постройкой, по поручению города, ведал мамертинский сенатор. Остается вопрос о строительном материале; его ты официально потребовал у жителей Регия, как они сами заявляют[354]; ведь у мамертинцев леса не было; впрочем, ты и сам не можешь это отрицать.
(XIX) Но если и материалы для постройки корабля и рабочую силу ты потребовал, а не оплатил, где же скрыто то, за что ты, по твоим словам, платил сам? (48) В книгах мамертинцев, скажут нам, об этом ничего нет. И действительно, они из своей казны, может быть, ничего и не давали. Могли ведь наши предки выстроить и отделать Капитолий даром, призвав мастеров и собрав рабочих от имени государства. Затем, как я догадываюсь и как я докажу на основании книг мамертинцев, когда вызову для допроса их самих, большие суммы денег, испрошенные для Верреса на оплату работ, записаны под вымышленными статьями. Нет ничего удивительного, если мамертинцы пощадили в своих записях гражданскую честь своего величайшего благодетеля, который, как они убедились на опыте, был им бо́льшим другом, нежели римскому народу. Но если отсутствие соответствующих записей доказывает, что мамертинцы не давали тебе денег, то невозможность для тебя предъявить записи о покупке или о подряде должна служить доказательством того, что корабль построен для тебя даром.
(49) Но, скажут нам, ты потому и не стал требовать от мамертинцев постройки корабля, что это союзная городская община. Да одобрят это боги! Нашелся достойный ученик фециалов[355], строжайший и внимательнейший блюститель священных обязанностей, налагаемых на государства договорами. Следует головой выдать мамертинцам всех преторов, бывших до тебя, так как они требовали от них поставки кораблей в нарушение условий договора. Но как же ты, неподкупный и добросовестный человек, потребовал корабль от Тавромения, также союзного города? Правдоподобно ли, чтобы без взятки, при одинаковом положении жителей, их права оказались столь различными, а отношение к ним — столь несходным? (50) А если я докажу, судьи, что на основании двух договоров, заключенных с двумя городами, именно Тавромений совершенно освобожден от повинности предоставлять корабль, Мессане же самим договором строго предписано поставить корабль, а между тем Веррес, нарушая договор, потребовал корабль от жителей Тавромения и освободил мамертинцев от этой поставки? Сможет ли у кого-либо возникнуть сомнение, что время его претуры кибея мамертинцев помогла им больше, чем жителям Тавромения заключенный договор? Пусть прочтут текст договора.
(XX) Таким образом, этим своим, как ты хвалишься, благодеянием или, как показывают факты, взяткой и сделкой ты умалил величие римского народа, уменьшил вспомогательные военные силы государства, уменьшил средства, добытые мужеством и мудростью наших предков, нарушил права нашей державы и условия, установленные для наших союзников, попрал уважение к заключенному с ними договору. Те, которые в силу самого договора должны были отправить нам корабль, вооруженный и снаряженный на их счет и страх, хотя бы до самого Океана, если бы мы этого потребовали, откупились данной тебе взяткой от выполнения своих договорных обязательств и от условий, вытекающих из их подчинения нашей державе, откупились даже от обязанностей плавать в проливе, у самого порога своих домов, защищая свои стены и гавани. (51) Как вы думаете, сколько труда, сколько хлопот, сколько денежных жертв согласились бы взять на себя мамертинцы при заключении этого договора, если бы они каким-либо способом могли добиться от наших предков, чтобы их не обязывали давать эту бирему? Ибо столь тяжелая повинность, возложенная на городскую общину, накладывала на союзный договор, так сказать, клеймо порабощения. Итак, той льготы, которой мамертинцы не смогли добиться от наших предков на основании договора в те времена, когда их заслуги еще были свежи в нашей памяти[356], когда наши правовые отношения с ними еще не были упорядочены, когда римский народ не испытывал затруднений, они, не оказав нам никаких новых услуг, [через столько лет, в течение которых это обязательство, по праву нашего империя,] из года в год соблюдалось и всегда выполнялось, теперь, при нынешней необычайной нехватке кораблей, добились от Верреса за деньги; при этом они не только освободились от повинности давать нам корабль. Дали ли мамертинцы, на протяжении трех лет твоей претуры, хотя бы одного матроса или солдата?
(XXI, 52) Наконец, хотя, на основании постановления сената[357], а также Теренциева и Кассиева закона[358], надо было по равномерной разверстке покупать хлеб у всех городских общин Сицилии, ты даже от этой легкой и общей для всех повинности освободил мамертинцев. Они, скажешь ты, не обязаны давать хлеб. Почему же они не обязаны? Не обязаны продавать его? Ведь этого хлеба у них не взимали даром; его покупали. Итак, по твоему мнению и толкованию, мамертинцы не должны были помогать римскому народу даже путем продажи хлеба на рынке. (53). Но в таком случае, какая же община была обязана это делать? Обязательства тех, кто возделывает земли, принадлежащие казне, определяются постановлением цензора[359]. Почему же ты потребовал от них новых поставок? А общины, платящие десятину? Разве они обязаны, в силу Гиеронова закона[360], давать сколько-нибудь, сверх десятины? Почему ты и им указал, сколько покупного хлеба они обязаны давать? А общины, свободные от повинностей? Они, конечно, ничего не обязаны давать. Между тем ты не только приказал им доставить хлеб, но даже — для того, чтобы они давали больше, чем могли дать, — прибавил к их доле те 60.000 модиев в год, от поставки которых ты освободил мамертинцев. Но я сейчас говорю не о том, что ты незаконно потребовал хлеб от других городов; я утверждаю, что находившимся в таком же положении мамертинцам, от которых все твои предшественники требовали хлеб на таких же условиях, как и от других общин, и которым они платили за него деньги на основании постановления сената и закона[361], ты предоставил льготу незаконно. А для того, чтобы благодеяние это, как говорится, плотничьим гвоздем прибить[362], Веррес вместе со своим советом разобрал дело мамертинцев и, на основании решения совета, объявил, что от мамертинцев он хлеба не требует.
(54) Слушайте указ продажного претора, взятый из его собственных записей; обратите внимание на торжественность его языка, на его авторитет, с каким он определяет права. Читай. [Записи.] На основании решения совета он, по его словам, «охотно делает это»; так и записано. А если бы ты не употребил слова «охотно»? Право, мы бы подумали, что ты берешь взятки нехотя. И это «на основании решения совета»! Вы, судьи, слышали имена членов этого славного совета. Что вы подумали, слыша эти имена? Кого называют вам — состав ли преторского совета или же товарищей и спутников отъявленного разбойника? (55) Вот они, толкователи договоров, учредители товарищества[363], блюстители религиозных запретов! Никогда еще, при покупке в Сицилии хлеба казной, мамертинцев не освобождали от поставки их доли — до той поры, пока Веррес не образовал своего славного совета из избранных им людей, чтобы получать от мамертинцев деньги и оставаться верным себе. Поэтому его указ имел такую силу, какую и должен был иметь указ человека, продавшего свой указ тем, у кого он должен был покупать хлеб. Ибо Луций Метелл, как только сменил Верреса, тотчас же, на основании записанных постановлений Гая Сацердота[364] и Секста Педуцея[365], потребовал от мамертинцев поставки хлеба. (XXII, 56) Тогда-то они и поняли, что им не удастся дольше пользоваться тем, что они купили у человека, на эту продажу не уполномоченного.
Далее, почему ты, который хотел прослыть таким добросовестным толкователем договоров, потребовал хлеб от жителей Тавромения, от жителей Нета, когда обе эти городские общины являются союзными? При этом жители Нета не преминули защитить свои интересы и, как только ты объявил, что охотно предоставляешь льготу мамертинцам, явились к тебе и объяснили, что они, в силу союзного договора, находятся в таких же условиях. Решить одинаковое дело по-разному ты не мог; ты постановил, что жители Нета не должны доставлять хлеб, и все же взыскал его с них. Подай мне книги нашего претора: книгу его указов и роспись истребованного им хлеба. [Указы претора Гая Верреса.] Что другое можем мы предположить, судьи, в связи со столь грубым и столь позорным непостоянством, как не то, что само собой напрашивается: либо жители Нета не дали ему денег, каких он требовал, либо он постарался, чтобы мамертинцы поняли, что они удачно поместили у него такие большие деньги и сделали ему подарки, коль скоро другие, заявляя такие же притязания, такой же льготы от него не получили.
(57) И после этого он еще осмелится толковать мне о хвалебном отзыве мамертинцев? Да есть ли среди вас, судьи, хотя бы один человек, который бы не понимал, как много в этом отзыве слабых сторон? Во-первых, тому, кто не в состоянии привести в суд десятерых предстателей[366], лучше не приводить ни одного, чем не набрать этого, можно сказать, узаконенного обычаем числа. В Сицилии так много городских общин, которыми ты управлял в течение трех лет; большинство из них тебя обвиняет, несколько общин, незначительных и запуганных, молчат; одна тебя восхваляет. О чем это говорит, как не о том, что ты сам понимаешь, какова польза от истинного хвалебного отзыва? Но ты так управлял провинцией, что воспользоваться им ты никак не сможешь. (58) Затем (я уже говорил это в другом месте[367]), какова, наконец, ценность этого хвалебного отзыва, когда представители городских общин и главы этих представителей[368] заявили, что за счет города для тебя был построен корабль, а они сами как частные лица были ограблены тобой и обобраны? Наконец, раз они, одни во всей Сицилии, тебя хвалят, то что делают они, как не свидетельствуют нам, что все, столь щедро дарованное тобой им, ты отнял у нашего государства? Какая колония[369] в Италии находится в столь благоприятном правовом положении, какой муниципий столь свободен от повинностей[370], что пользовался в течение последних лет такими большими льготами во всех отношениях, какими пользовалась мамертинская городская община? На протяжении трех лет лишь она одна не дала того, что должна была давать в силу союзного договора; она одна, во время претуры Верреса, была свободна от всех повинностей; она одна, под его империем, была в особом положении, римскому народу не давая ничего, а Верресу ни в чем не отказывая.
(XXIII, 59) Но вернемся к вопросу о флоте, о чем я начал было говорить; ты получил от мамертинцев корабль незаконно; ты, нарушая договоры, предоставил им льготу. Таким образом, по отношению к одной и той же городской общине ты был бесчестен дважды: когда ты предоставлял ей льготу, какой не следовало предоставлять, и когда ты принял от нее то, чего нельзя было принимать. Ты должен был потребовать корабль для борьбы против морских разбойников, а не для перевозки плодов разбоя, для защиты провинции от ограбления, а не для доставки добра из ограбленной провинции. Мамертинцы предоставили в твое распоряжение и свой город, чтобы ты отовсюду свозил в него краденое добро, и корабль, чтобы ты вывозил его на нем; этот город был для тебя складом добычи; эти люди — свидетелями и укрывателями краденого; они подготовили тебе место для хранения краденого и средства для вывоза его. Поэтому, даже тогда, когда ты из-за своей алчности и подлости потерял флот[371], ты не осмелился потребовать корабль у мамертинцев, хотя в то время, при таком недостатке кораблей и при столь бедственном положении провинции — даже если бы мамертинцев пришлось об этом просить, как об одолжении, — все же надо было получить у них корабль. Ведь и твою решимость требовать и твои попытки просить корабль останавливала мысль не о том прекрасном корабле — не о биреме, поставленной римскому народу, а о кибее, подаренной претору. Это была плата за твой империй, за освобождение от обязанности оказывать помощь, за твой отказ от своего права, от обычая и от требований союзного договора.
(60) Вот как была потеряна, вернее, продана за деньги крепкая опора в лице одной из городских общин. Послушайте теперь о новом способе грабежа, впервые придуманном Верресом. (XXIV) Каждая городская община предоставляла в распоряжение своего наварха[372] все необходимое для содержания флота: хлеб, жалование и все остальное. А наварх не мог совершить ничего такого, в чем матросы могли бы его обвинить, и, кроме того, он должен был отчитываться перед своими согражданами; при исполнении им своих обязанностей наварх не только прилагал свой труд, но также и нес ответственность за все. Так, говорю я, делалось всегда и не только в Сицилии, но также и во всех провинциях; того же порядка держались относительно жалования и расходов на содержание войск союзников и латинян — тогда, когда мы пользовались их вспомогательными силами[373]. Веррес, первый после установления нашего владычества, приказал всем городским общинам выплачивать эти деньги ему — с тем, чтобы ими распоряжался тот, кому он сам это поручит. (61) Возможны ли сомнения, почему ты первый изменил общепринятый старый порядок, пренебрег таким большим преимуществом, что деньги поступают в распоряжение других людей, и почему ты взял на себя такую трудную задачу, которая может повлечь за собой обвинения, и бремя, порождающее подозрения? Затем были созданы также и другие статьи дохода. Смотрите, как много их в одном только морском деле: брать деньги с городских общин за освобождение их от повинности давать матросов; за определенную плату отпускать матросов; все жалование, причитающееся отпущенным, присваивать себе; остальным положенного не платить. Ознакомьтесь со всем этим на основании свидетельских показаний городских общин. Читай. [Свидетельские показания городских общин.]
(XXV, 62) Нет, каков негодяй! Каково его бесстыдство, судьи! Какова его наглость! Назначить городским общинам денежные взносы в соответствии с числом солдат; установить определенную плату за увольнение матросов в отпуск[374] — по шестисот сестерциев с каждого! Всякий, кто давал их ему, незаконно получал отпуск на все лето, а Веррес брал себе все деньги, полученные для уплаты жалования этому матросу и на содержание его. Так он получал двойную выгоду от предоставления отпуска одному человеку. И он, в своем безрассудстве, при таких дерзких набегах морских разбойников и при таком опасном положении провинции, действовал настолько открыто, что это знали даже разбойники, а вся провинция была этому свидетельницей.
(63) В то время, когда, вследствие алчности Верреса, флот существовал в Сицилии только по названию, а в действительности это были пустые корабли, пригодные для того, чтобы возить претору награбленное им добро, а не внушать страх грабителям, все же Публий Цесеций и Публий Тадий[375], плавая во главе отряда из десяти кораблей, лишенных половины экипажа, не столько захватили, сколько увели корабль пиратов с богатой добычей, можно сказать, обреченный либо на то, чтобы попасть в чужие руки, либо на то, чтобы пойти ко дну вследствие тяжести груза. На этом корабле было много очень красивых молодых людей, большое количество серебра в изделиях и в виде монеты, а также много ковров. Это — единственный корабль, который, собственно говоря, был не захвачен, а найден нашим флотом под Мегаридой, невдалеке от Сиракуз. Как только Верреса известили об этом, он, хотя и лежал на берегу пьяный в обществе своих наложниц, все-таки собрался с силами и тотчас же послал своим квестору и легату многочисленную стражу, чтобы ему доставили всю добычу в целости и притом возможно скорее. (64) Корабль привели в Сиракузы. Все ждали казни пленников. Но Веррес, словно ему попала в руки добыча, а не были захвачены разбойники, признал врагами[376] только стариков и уродливых пленников; остальных же, покрасивее, помоложе, обученных каким-либо искусствам, он всех взял себе; нескольких человек роздал своим писцам, сыну и когорте; шестерых певцов и музыкантов послал в Рим, в подарок одному из своих приятелей. Вся следующая ночь ушла на разгрузку корабля. Самого архипирата, подлежавшего казни, никто не видел. Все и по сей день думают (что можно ожидать от Верреса, вы сами должны догадаться), что он за освобождение этого архипирата тайно получил от пиратов деньги. (XXVI, 65) — «Это — только догадка». — Никто не может быть хорошим судьей, если не руководствуется хорошо обоснованным подозрением. Вы знаете Верреса; вам известно обыкновение всех тех, кто берет в плен главаря разбойников или врагов, — как охотно позволяют они выставить его всем напоказ. Из всего многочисленного сиракузского конвента, судьи, я не встречал ни одного человека, который бы сказал, что видел взятого в плен архипирата, хотя все, по обычаю, как это водится, сбежались, расспрашивали о нем и желали его увидеть. По какой же причине этого человека скрывали так тщательно, что на него даже случайно никому не удалось взглянуть? Несмотря на то, что жившие в Сиракузах моряки, часто слышавшие имя этого главаря и не раз испытывавшие страх перед ним, хотели воочию увидеть его казнь, и насладиться видом его мучений, все же никому из них не дали возможности взглянуть на него.
(66) Публий Сервилий[377] один захватил живыми больше главарей морских разбойников, чем все его предшественники. Было ли когда-нибудь кому бы то ни было отказано в разрешении и удовольствии взглянуть на пирата, взятого им в плен? Напротив, где бы ни проходил его путь, он всем доставлял это приятное зрелище — вид связанных врагов, взятых в плен. Поэтому зрители стекались отовсюду, причем ради того, чтобы взглянуть на пленных, собиралось не только население тех городов, через которые их вели, но и жители всех соседних городов. А самый триумф Сервилия? Почему он был для римского народа самым приятным и радостным из всех триумфов? Ведь нет [ничего более сладостного, чем победа; но нет] более убедительного свидетельства о победе, чем возможность видеть, как связанными ведут на казнь тех, кто так часто внушал людям страх. (67) Почему ты не сделал этого, почему ты так спрятал архипирата как будто взглянуть на него было бы кощунством? Почему ты не казнил его? По какой причине ты сохранил ему жизнь? Знаешь ли ты хотя бы одного архипирата, взятого в прошлом в плен и не обезглавленного? Назови мне хотя бы одного человека, на которого ты мог бы сослаться, представь мне хотя бы один такой пример. Ты сохранил жизнь архипирату. С какой целью? Ну, разумеется, для того, чтобы он во время триумфа шел перед твоей колесницей. В самом деле, единственное, что оставалось сделать, это — чтобы тебе, после того как ты потерял превосходный флот римского народа и разорил провинцию, назначили морской триумф[378].
(XXVII, 68) Но продолжим; он предпочел, в виде новшества, держать главаря морских разбойников под стражей вместо того, чтобы обезглавить его, как все обычно поступали. В руках каких стражей был он и как его охраняли? Все вы слыхали о сиракузских каменоломнях; многие из вас знают их; это огромное и величественное создание царей и тираннов[379]; все они вырублены в скале на необычайную глубину, для чего потребовался труд многочисленных рабочих. Невозможно ни устроить, ни даже представить себе тюрьму, которая в такой степени исключала бы возможность побега, была бы так хорошо ограждена со всех сторон и столь надежна. В эти каменоломни даже и из других городов Сицилии по приказу доставляют государственных преступников для содержания под стражей. (69) Так как Веррес ранее бросил туда многих узников из числа римских граждан, так как он приказал заключить туда же других пиратов, он понял, что если он заточит в ту же тюрьму подставное лицо, которым он хотел заменить архипирата, то многие люди будут разыскивать в каменоломнях настоящего предводителя пиратов. Поэтому он и не решился доверить его этой наилучшей и надежнейшей тюрьме; наконец, он побаивался Сиракуз вообще. Он отослал его — куда? Быть может, в Лилибей? Это я понял бы; но он все же побаивался жителей побережья. Нет, судьи, не туда. Тогда в Панорм? Это, пожалуй, было возможно. Впрочем, пирата, захваченного в сиракузских водах, надо было если не казнить, то, во всяком случае, содержать под стражей именно в Сиракузах. (70) Нет, даже не в Панорм. Куда же? А куда бы вы думали? К людям, совершенно не знавшим страха перед пиратами и не имевшим представления о них, совершенно не знакомым с мореплаванием и с морским делом, — к центурипинцам, живущим в самой середине острова, превосходным земледельцам, которые никогда не боялись даже имени морского разбойника и, во время твоей претуры, страшились одного только Апрония, архипирата на суше[380]. А чтобы всякий легко мог понять, что Веррес сделал это для того, чтобы подставному архипирату было и легко и приятно разыгрывать роль того, кем он в действительности не был, он и велел жителям Центурип быть возможно более щедрыми и не отказывать ему ни в хорошей пище, ни в других удобствах.
(XXVIII, 71) Тем временем жители Сиракуз, люди опытные и догадливые, способные не только видеть то, что у них на глазах, но и подозревать то, что от них скрывают, изо дня в день вели счет пиратам, которых казнили. Сколько их должно было быть, они заключали на основании размеров захваченного корабля и числа его весел. Уведя к себе всех пиратов, которые были обучены чему-либо или красивы, Веррес думал, что если он, согласно обычаю, велит привязать к столбам всех остальных одновременно, то народ поднимет крик, так как число людей, уведенных им к себе, намного превышало число оставленных. Хотя он из этих соображений и решил выводить их на казнь в разное время, все же при таком большом населении не было человека, который бы не вел точного счета пленникам и не только не замечал их недостачи, но и со всей настоятельностью не требовал их голов.
(72) Так как недоставало большого числа пленных, то этот нечестивец начал заменять пиратов, взятых им себе, римскими гражданами, ранее брошенными им в тюрьму; одних римских граждан он выдавал за бывших солдат Сертория и говорил, что они бежали из Испании и высадились в Сицилии[381]; других, захваченных морскими разбойниками во время поездок по морю по торговым или другим делам, он обвинял в добровольном соглашении с пиратами. Поэтому одних римских граждан влекли из тюрьмы к столбам и на казнь, закутав им головы[382], чтобы не было возможности их опознать; другим, хотя многие римские граждане опознавали и все защищали их, тем не менее отрубали головы. Об их ужасной смерти и жестоких мучениях я буду говорить в свое время, когда стану обсуждать этот вопрос, причем если меня, во время этих сетований на жестокость Верреса и на совершенно не подобающую римским гражданам смерть, оставят не только силы, но и жизнь, то я сочту это славным и сладостным концом для себя. (73) Итак, вот в чем воинский подвиг Верреса, вот в чем его славная победа: после захвата миопа́рона[383] пиратов их главарь был освобожден, музыканты отправлены в Рим, красивые, молодые и обученные искусствам люди уведены в дом претора; вместо них, в таком же числе, распяты и казнены римские граждане, словно это были враги; все ткани были забраны, все золото и серебро забрано и похищено.
(XXIX) А как запутался Веррес при первом слушании дела! После того как он молчал в течение стольких дней, он вдруг, после свидетельских показаний весьма выдающегося человека, Марка Анния[384], заявившего, что римскому гражданину отрубили голову, а архипират казнен не был, вскочил со своего места, возбужденный сознанием своего преступления и безумием, вызванным его злодеянием[385], и сказал: предвидя обвинения в том, что он взял деньги и не казнил настоящего архипирата, он потому и не отрубил ему головы; у него в доме, сказал он, находятся двое архипиратов.
(74) О, милосердие или, вернее, удивительное и редкостное долготерпение римского народа! Римский всадник Марк Анний говорит, что римскому гражданину отрубили голову; ты молчишь; он же говорит, что архипират не был казнен; ты это признаешь. Поднимается всеобщий ропот, раздаются крики, и все-таки римский народ сдерживает свой гнев и не подвергает тебя немедленной казни, а заботу о своем благе поручает строгости судей. Как? Ты знал, что тебя обвинят во всем этом? Как же мог ты знать это или как могло у тебя возникнуть такое подозрение? Личных врагов у тебя не было; но, если бы они даже и были, все же ты, как мы видим, вел такой образ жизни, что, видимо, не очень боялся, что тебя рано или поздно привлекут к суду. Или нечистая совесть, как это бывает, сделала тебя трусливым и подозрительным? Но если ты страшился обвинения и суда даже тогда, когда обладал империем, то как можешь ты сомневаться, что тебе теперь, когда ты изобличен показаниями стольких свидетелей, вынесут обвинительный приговор? (75) Но если ты боялся обвинения в том, что ты вместо архипирата подверг казни подставное лицо, то какое же из двух средств защиты счел ты более верным в будущем — представить ли через долгий срок, во время суда, по моему требованию и настоянию, людям, незнакомым с делом, какого-то человека, которого ты назовешь архипиратом, или казнить его на месте, в Сиракузах, среди знающих его людей, на глазах чуть ли не у всей Сицилии?
Вот какая разница между тем и другим, теперь ты видишь, что́ тебе следовало делать: в последнем случае [никаких оснований для упреков тебе не было бы, а в данном случае никакой возможности оправдаться нет.] Поэтому все всегда прибегали ко второму образу действий. А кто, до тебя, прибегал к первому; кто, помимо тебя, поступал так, хочу я знать. Ты сохранил пирату жизнь. До какого времени? Пока ты обладал империем. На каком основании, по чьему примеру, почему так долго? Почему, повторяю, ты, тотчас же обезглавив римских граждан, взятых в плен пиратами, позволил самим пиратам так долго смотреть на солнечный свет? (76) Но пусть будет по-твоему. Допустим, что ты был волен в своих действиях в течение всего того времени, пока обладал империем. Но как же ты, уже будучи частным лицом, уже будучи обвинен, уже, можно сказать, будучи почти осужден, решился содержать предводителя врагов в частном доме?[386] Один, два месяца, наконец, почти год с того времени, как они попали в плен, пираты находились в твоем доме, пока этого не пресек я, вернее, Маний Глабрион, который, по моему требованию, приказал забрать их оттуда и заключить в тюрьму.
(XXX) Какое имел ты право на это, что это за обычай, имеются ли подобные примеры? Какое частное лицо, когда бы то ни было могло держать в стенах Рима, у себя в доме, жесточайшего и заклятого врага римского народа, вернее, общего врага всех племен и народов? (77) Ну, а если бы накануне того дня, когда я тебя заставил сознаться, что после казни римских граждан главарь разбойников остался жив и находился под твоим кровом; повторяю, если бы он накануне того дня бежал из твоего дома, если бы ему удалось набрать шайку разбойников для действий против государства, — что сказал бы ты? — «Он жил у меня в доме, он общался со мной; я, имея в виду свое судебное дело — чтобы мне было легче опровергать обвинения, предъявленные мне моими недругами, — сохранил его живым и невредимым». — Не так ли? Ты хочешь отвратить опасность от себя ценой опасности для всех? Время для казни, которой подлежат побежденные враги, ты выберешь, когда это будет выгодно тебе, а не государству? Враг римского народа будет находиться под стражей в доме частного лица? Но даже те, кто справляет триумф и для этого дольше обычного сохраняет жизнь военачальникам врагов, дабы их шествием во время триумфа доставить римскому народу великолепное зрелище и показать ему плоды одержанной победы, все же, когда колесницы начинают поворачивать с форума в сторону Капитолия, даже они приказывают отвести вражеских военачальников в тюрьму, и один и тот же день оказывается последним и для империя победителей и для жизни побежденных[387].
(78) И теперь кое у кого, конечно, возникают сомнения, что ты (тем более в ожидании суда, по твоим словам, предстоявшего тебе) мог совершить этот промах: вместо того, чтобы архипирата казнить, ты, с явной опасностью для себя, оставил его в живых. В самом деле, а если бы он умер, то как, скажи мне, ты, по твоим словам, боявшийся обвинения, убедил бы в этом кого бы то ни было? Раз установлено, что ни один человек в Сиракузах не видел архипирата, хотя все желали его видеть; раз никто не сомневался, что ты освободил его за деньги; раз всюду говорили о замене его другим человеком, которого ты хотел выдать за него; раз ты сам признался, что ты уже давно боялся этого обвинения, скажи, кто стал бы тебя слушать, если бы ты объявил о его смерти? (79) Теперь, когда ты нам показываешь какого-то незнакомого нам человека, ты видишь, что над тобой все же смеются. А если бы он бежал, если бы он разбил оковы, как тот знаменитый пират Никон, которого Публий Сервилий вторично взял в плен так же удачно, как и в первый раз, что сказал бы ты? Но дело обстояло вот как: если бы в один прекрасный день тот настоящий пират был обезглавлен, ты не получил бы денег; если бы этот мнимый умер или бежал, не представило бы труда заменить одно подставное лицо другим. Я говорил об этом архипирате дольше, чем хотел, и все же самых убедительных доказательств по этой статье обвинения не привел. Ибо я хочу оставить всю эту статью обвинения неисчерпанной; есть определенное место, определенный закон, определенный трибунал, ведению которого она подлежит[388].
(XXXI, 80) Поживившись столь крупной добычей — рабами, серебряной утварью, тканями, — Веррес, однако, не стал более заботливо относиться ни к снаряжению флота, ни к созыву уволенных в отпуск солдат, ни к снабжению их продовольствием, хотя эти меры могли доставить не только покой провинции, но и добычу ему самому. Ибо в самый разгар лета, когда другие преторы обычно объезжают провинцию, посещая ее области, или даже, ввиду такой сильной угрозы со стороны морских разбойников, сами выходят в море, в это время Веррес, в погоне за утехами и любовными наслаждениями, не удовольствовался пребыванием в своем царском доме [это был дом царя Гиерона, и в нем жили преторы] и, следуя своим привычкам летнего времени, о чем я уже рассказывал, велел раскинуть полотняные палатки на берегу сиракузского Острова, за ручьем Аретусой, у самого входа в гавань, в очень приятном месте, укрытом от посторонних взоров.
(81) Здесь претор римского народа, охранитель и защитник провинции, проводил летние дни, предаваясь попойкам с женщинами, причем из мужчин возлежал только он и его сын, носящий претексту (впрочем, я был бы вправе, не делая исключений, сказать, что там не было ни одного мужчины, так как были только они двое); иногда допускали также вольноотпущенника Тимархида; что касается женщин, то многие из них были замужними, из знатных семей, кроме одной — дочери мима Исидора, которую Веррес, влюбившись, увез у родосского флейтиста. Там бывала некая Пипа, жена сиракузянина Эсхриона; о страсти Верреса к этой женщине по всей Сицилии распространено множество стихов. (82) Там бывала Ника, как говорят, женщина необыкновенной красоты, жена сиракузянина Клеомена. Муж любил ее, но противиться страсти Верреса не мог, да и не осмеливался; к тому же тот привлекал его к себе многочисленными подарками и милостями. Но в то время Веррес, при всем своем бесстыдстве, известном нам, все же не мог, когда ее муж был в Сиракузах, без всяких стеснений проводить с его женой столько дней на морском берегу. Поэтому он придумал единственную в своем роде уловку — корабли, над которыми начальствовал легат, он передал Клеомену. Над флотом римского народа он приказал начальствовать сиракузянину Клеомену. Целью его было — чтобы Клеомен не просто отсутствовал во время своих выходов в море, но уезжал охотно, так как ему оказаны великая честь и милость, а чтобы сам Веррес, избавившись от присутствия мужа и отправив его подальше, мог не отпускать от себя его жены; Верресу это не то, чтобы развязывало руки (в самом деле, кто был когда-либо помехой его похоти?), но, по крайней мере, он мог меньше стесняться, если удалит человека, бывшего, не мужем, а как бы соперником.
(83) И вот принимает под свое начало корабли наших союзников и друзей сиракузянин Клеомен. (XXXII) С чего начать мне: с обвинений или с сетований? Сицилийцу предоставить полноту власти и почетные права, принадлежащие легату, квестору и, наконец, претору? Если сам ты был слишком увлечен попойками и женщинами, то где же были твои квесторы, где были легаты, [где был хлеб, оцененный в три денария за модий, где мулы, где палатки, где столь многочисленные и столь значительные поставки, назначенные должностным лицам и легатам римским народом и сенатом[389]], наконец, где были твои префекты, твои трибуны?[390] Если не было римского гражданина, достойного этих полномочий, то не нашлось ли бы его в городских общинах, неизменно остававшихся друзьями римскому народу и состоявших под его покровительством? Где была Сегеста, где были Центурипы? Ведь их сближают с римским народом не только взаимные услуги, верность, давность отношений, но и родство[391]. (84) О, бессмертные боги! Что же это значит? Если начальствовать над солдатами, кораблями и навархами этих, названных мной городских общин было приказано сиракузянину Клеомену, то не означает ли это, что Веррес уничтожил всякий почет, который по справедливости следует воздавать высокому положению и заслугам? Разве мы вели когда-либо войну в Сицилии, когда бы центурипинцы не были нашими союзниками, а сиракузяне — врагами? Я хочу только напомнить о событиях далекого прошлого, отнюдь не желая упрекать в чем-либо эту городскую общину[392]. Вот почему тот прославленный муж и выдающийся император, Марк Марцелл (его доблести мы обязаны взятием Сиракуз, а его милосердию их спасением) не позволил коренным сиракузянам селиться в части города, называемой Островом; даже поныне, повторяю я, сиракузянам селиться там запрещено; ибо это место может оборонять даже небольшой отряд. Поэтому Марцелл не захотел доверить его людям, не вполне надежным, тем более, что именно мимо этой части города должны проходить корабли, прибывающие из открытого моря. Вот почему он не счел возможным доверять ключ от Сиракуз людям, не раз преграждавшим доступ туда нашим войскам. (85) Вот в чем различие между твоим произволом и заветами наших предков, между твоими неистовыми страстями и их мудрым предвидением. Они лишили сиракузян доступа к берегу, ты предоставил им империй на море; они не велели сиракузянам селиться в местности, куда корабли могут подходить, ты повелел начальствовать над флотом и кораблями сиракузянину; тем, у кого наши предки отняли часть их города, ты дал часть нашего империя, а союзникам, с чьей помощью мы привели сиракузян к повиновению, ты приказал повиноваться сиракузянину.
(XXXIII, 86) И вот выходит Клеомен на центурипинской квадриреме из гавани. За ним следуют корабль Сегесты, корабли Тиндариды, Гербиты, Гераклия, Аполлонии, Галунтия — с виду превосходный флот, но слабый и беспомощный из-за отсутствия гребцов и бойцов, уволенных в отпуск. Этот добросовестный претор, будучи облечен империем, видел свой флот, только пока тот проходил мимо места его позорнейшей пирушки; сам он, которого не видели уже много дней, тогда на короткое время все-таки показался своим матросам. Обутый в сандалии — претор римского народа! — стоял он на берегу, одетый в пурпурный плащ и тунику до пят и поддерживаемый какой-то бабенкой. Именно в этом наряде его весьма часто видели сицилийцы и очень многие римские граждане. (87) После того как флот, пройдя некоторое расстояние, только на пятый день прислал к мысу Пахину[393], матросы, томимые голодом, стали собирать корни диких пальм, в изобилии растущих в той местности, как и вообще в большей части Сицилии. Вот чем питались эти несчастные; Клеомен же, считая себя вторым Верресом как по своей склонности к роскошествам и к подлости, так и по своему империю, все дни напролет, подобно Верресу, пьянствовал на берегу в раскинутой для него палатке.
(XXXIV) Когда Клеомен был пьян, а все остальные умирали с голоду, вдруг приходит известие, что корабли пиратов находятся в гавани Одиссеи[394]; так называется эта местность; наш флот стоял в гавани Пахина. Так как у Пахина находился гарнизон, — по названию, но не в действительности — то Клеомен рассчитывал пополнить недостающее ему число матросов и гребцов солдатами, которых он собирался там взять. Но оказалось, что Веррес, в своей великой алчности, вел себя по отношению к сухопутным силам так же, как и по отношению к морским: налицо было очень мало людей, остальные были отпущены. (88) Клеомен прежде всего приказал поставить мачту на центурипинской квадриреме, поднять паруса и обрубить якоря и в то же время подать другим кораблям знак следовать за ним. Этот центурипинский корабль обладал необычайной скоростью хода под парусами; а какой скорости тот или иной корабль, во время претуры Верреса, мог достигнуть на веслах, знать никто не мог. Впрочем, с этой квадриремы, ввиду высокого положения Клеомена и благосклонности к нему Верреса, было уволено меньше всего гребцов и солдат. И вот, квадрирема в своем бегстве уже почти исчезла из виду, в то время как остальные корабли все еще старались сдвинуться с места. (89) Однако те, кто остался, не пали духом. Хотя их было мало, они все же кричали, что хотят сражаться при любых условиях и тот остаток жизни и сил, какой еще сохранился у этих людей, измученных голодом, отдать в открытом бою. Не обратись Клеомен в бегство столь поспешно, у оставшихся была бы хоть некоторая возможность сопротивляться. Дело в том, что один его корабль был палубным и настолько большим, что мог служить прикрытием для остальных; если бы он участвовал в бою с морскими разбойниками, он производил бы впечатление города среди пиратских миопа́ронов. А теперь эти люди, беспомощные и покинутые своим предводителем и начальником флота, поневоле последовали за ним по тому же пути.
(90) По примеру корабля Клеомена, все корабли плыли по направлению к Гелору[395], причем они не столько спасались от нападения морских разбойников, сколько следовали за своим императором. При этом тот корабль, который во время бегства шел последним, в опасное положение попадал первым. И вот, прежде всего пираты захватили корабль Галунтия, которым командовал знатнейший галунтинец Филарх; впоследствии локрийцы[396] выкупили его у разбойников за счет городской общины; во время первого слушания дела он под присягой рассказал вам обо всех этих событиях. Затем пираты захватили корабль Аполлонии, причем его командир, Антропин, был убит. (XXXV, 91) Тем временем Клеомен уже достиг берега Гелора; он тотчас же высадился и бросил квадрирему, оставив ее качаться на волнах[397]. После того как император сошел на землю, командиры других кораблей, не имея возможности ни дать отпор врагу, ни спастись бегством по морю, последовали примеру Клеомена, пристав к берегу Гелора. Тогда предводитель морских разбойников Гераклеон, обязанный своей совершенно неожиданной победой не своему мужеству, а алчности и подлости Верреса, приказал великолепный флот римского народа, прибитый к берегу и выброшенный волнами на сушу, с наступлением сумерек поджечь и спалить дотла.
(92) О, страшное и тяжкое время для провинции Сицилии! О, памятное нам событие, пагубное и роковое для многих, ни в чем не повинных людей! О, неслыханная подлость и злодейство Верреса! В одну и ту же ночь, когда претор пылал позорнейшей страстью, флот римского народа пылал в огне, подожженный разбойниками. Поздней ночью известие об этом великом несчастье было получено в Сиракузах. Все сбежались к дому претора, куда незадолго до того женщины с музыкой и пением отвели Верреса по окончании той славной пирушки, о которой я говорил. Клеомен не осмелился предстать перед народом даже ночью и заперся у себя в доме; не было с ним и жены, которая могла бы утешить его в его несчастье. (93) В доме у нашего прославленного императора были установлены такие строгие правила, что, несмотря на получение такого важного известия по делу столь значительному, все же к нему не допустили никого, и никто не решался ни разбудить Верреса, если он спал, ни, если он бодрствовал, его потревожить Но вот, когда все узнали об этом событии, во всем городе стали собираться огромные толпы народа. Ведь о приближении морских разбойников на этот раз подали знак не огнями, зажженными на сторожевых башнях или на холмах, как это ранее обычно всегда делалось; нет, пламя горевших кораблей возвестило о случившемся несчастье и о грозящей опасности.
(XXXVI) Стали искать претора; узнав, что никто не сказал ему о происшедшем, толпа с криками устремилась к его дому и осадила его. (94) Тогда он встал, велел Тимархиду рассказать ему обо всем, надел военный плащ (тем временем почти рассвело) и вышел из дому, с головой, тяжелой от вина, сна и разврата. Все встретили его такими криками, что он мигом вспомнил об опасности, некогда угрожавшей ему в Лампсаке[398]. Но эта опасность показалась ему даже более грозной, так как если ненависть в обоих случаях была одинаково сильна, то теперь толпа была более многочисленна. Верреса попрекали его поведением на берегу, его отвратительными пирушками; толпа по именам называла его наложниц. Его во всеуслышание спрашивали, где он был и что делал столько дней подряд, когда его ни разу не видели; требовали, чтобы им показали Клеомена, которого он назначил императором. Еще немного — и то, что в Утике произошло с Адрианом, повторилось бы в Сиракузах, и две могилы двух бесчестных преторов оказались бы в двух провинциях. Но толпа все же сознавала, каково общее положение, насколько оно тревожно; сознавала также и необходимость сохранить свое достоинство и всеобщее уважение, так как сиракузский конвент римских граждан считается наиболее достойным не только в той провинции, но и в нашем государстве. (95) Пока Веррес, все еще полусонный, был как бы в оцепенении, граждане, ободряя друг друга, взялись — за оружие и заняли весь форум и Остров, составляющие значительную часть города[399].
Проведя одну только ночь под Гелором, морские разбойники, бросив наши, еще дымящиеся корабли, начали подходить к Сиракузам. Так как они, очевидно, не раз слышали о несравненной красоте сиракузских зданий и гавани, то они и решили, что если им не удастся увидеть их во время претуры Верреса, то уж наверное не удастся никогда.
(XXXVII, 96) Сначала они подошли на своих кораблях к упомянутому мной месту летней стоянки претора, к той части берега, где Веррес, раскинув палатки, в течение трех дней разместил свой лагерь наслаждений. Найдя это место пустым и поняв, что претор уже снялся оттуда, они тотчас же, ничего не опасаясь, начали входить в самую гавань. Людям, незнакомым с этими местами, следует объяснить более подробно: когда я говорю «в гавань», это значит, что пираты проникли в самый город и притом в его внутреннюю часть. Дело в том, что не город окружен гаванью, а, напротив, самая гавань со всех сторон опоясана городом, так что морем омываются не стены зданий на окраине города, а в самое сердце города проникают воды гавани[400]. (97) Здесь-то, в бытность твою претором, пират Гераклеон четырьмя небольшими миопаронами бороздил воды гавани, сколько ему заблагорассудилось. О, бессмертные боги! В то время, как в Сиракузах находился носитель империя римского народа и ликторы со связками, пиратский миопа́рон дошел до самого сиракузского форума и до всех набережных; а между тем сюда никогда не удавалось проникнуть ни господствовавшим на море и увенчанным славой флотам карфагенян, несмотря на их частые попытки во время многих войн, ни знаменитому флоту римского народа, до твоей претуры не знавшему поражений в течение стольких войн с карфагенянами и сицилийцами[401]. Естественные условия здесь таковы, что жители Сиракуз внутри своих стен, в городе, на форуме увидели вооруженного и победоносного врага раньше, чем в гавани — какой-либо вражеский корабль[402]. (98) В бытность твою претором, суденышки морских разбойников сновали там, куда в давние времена ворвался, благодаря своей силе и численному превосходству, один только афинский флот в составе трехсот кораблей[403], но и он, ввиду естественных условий местности и гавани, именно здесь был побежден и разбит. Здесь впервые получило тяжкий удар и было сломлено могущество этого государства; именно в этой гавани, как принято думать, величие, владычество и слава Афин потерпели крушение.
(XXXVIII) А теперь пират проник туда, где у него, как только он вошел, не только с обеих сторон, но и сзади оказалась значительная часть города. Он прошел мимо всего Острова, одного из городов, образующих Сиракузы, носящего особое название и окруженного особыми стенами; в этом месте, как я уже говорил, наши предки запретили селиться жителям Сиракуз, понимая, что те, кто будет занимать эту часть города, будут держать в своей власти гавань. (99) И как вели себя пираты, разъезжая по гавани! Они бросали на берег найденные ими на наших кораблях корни диких пальм, чтобы все могли воочию убедиться в бесчестности Верреса и в несчастье, постигшем Сицилию. И сицилийские солдаты, сыновья земледельцев, чьи отцы своим трудом снимали с полей столько хлеба, что могли поставлять его римскому народу и всей Италии, они, родившиеся на острове Цереры, где, по преданию, впервые были найдены хлебные злаки[404], пользовались пищей, от которой их предки, найдя хлебные злаки, избавили всех других людей! Во время твоей претуры, сицилийские солдаты питались корнями пальм, а пираты — сицилийским хлебом! (100) О, жалкое и прискорбное зрелище! Слава Рима, имя римского народа, множество честнейших людей были отданы на посмешище миопа́рону пиратов! В гавани Сиракуз пират справлял триумф по случаю победы над флотом римского народа, и беспомощному и бессовестному претору летели в глаза брызги от весел морских разбойников.
После того как пираты покинули гавань, — не из чувства страха, а когда им надоело находиться в ней, — все стали доискиваться причины такого страшного несчастья. Все говорили и открыто признавали, что нечего удивляться, если, после того как гребцы и солдаты были распущены, оставшиеся были истощены лишениями и голодом, а претор в течение стольких дней пьянствовал со своими наложницами, на город обрушились такой позор и такое несчастье. (101) Достойное всяческого порицания позорное поведение Верреса подтверждалось словами тех, кому их городские общины поручили начальствовать над кораблями, кто уцелел и, после потери флота, бежал назад в Сиракузы. Каждый из них говорил, сколько солдат, как ему было точно известно, было отпущено с его корабля. Дело было ясно, и Верреса изобличали в его наглости не только доказательства, но и вполне надежные свидетели.
(XXXIX) Верресу донесли, что на форуме и среди римских граждан весь день только и говорят об этом и что навархов расспрашивают о причинах потери флота, а те отвечают и каждому объясняют ее увольнением гребцов, голодом среди оставшихся, трусостью и бегством Клеомена. Узнав об этом, Веррес придумал следующий план действий. Что ему не миновать суда, он понял еще до того, как ему было предъявлено обвинение; это вы сами слышали от него при первом разборе дела. Он видел, что при свидетелях в лице этих навархов ему никак не оправдаться от столь тяжких обвинений. Вначале он принял решение нелепое, но все же довольно мягкое. (102) Он велит позвать навархов; они приходят; он пеняет им за такие разговоры о нем, просит прекратить их; пусть каждый говорит, что на его корабле было столько матросов, сколько полагалось, что уволенных в отпуск не было. Навархи выражают готовность поступить так, как он хочет. Веррес, не откладывая дела, тотчас же зовет своих приятелей; он спрашивает каждого наварха, сколько у него было матросов; каждый отвечает, как его учили; Веррес составляет запись об этом и запечатывает ее печатями своих приятелей, как предусмотрительный человек, очевидно, чтобы в случае надобности воспользоваться этими свидетельскими показаниями против данного обвинения. (103) Его советчики, думается мне, посмеялись над его безрассудством и указали ему, что эти записи нисколько ему не помогут; более того, излишняя осторожность претора может только усилить подозрения против него по этой статье обвинения. Он уже делал эту глупость во многих случаях, приказав городским властям сделать желательные для него подчистки и исправления в официальных записях. Теперь он понял, что все эти меры не принесут ему пользы, после того как он изобличен точными записями, свидетельскими показаниями и подлинными книгами.
(XL) Поняв, что признание навархов, их показания, заверенные им самим, и записи нисколько ему не помогут, Веррес принял решение, достойное, не говорю уже — бесчестного претора (ибо это было бы еще терпимо), но жестокого и безумного тиранна; он решил, что он, — если хочет ослабить тяжесть этого обвинения (ибо совсем его опровергнуть он не рассчитывал), должен всех навархов, свидетелей его преступления, лишить жизни. (104) Его останавливало только одно соображение: как поступить с Клеоменом? «Смогу ли я покарать тех, кому я приказал повиноваться, и оказать снисхождение тому, кому я предоставил власть и империй? Смогу ли я казнить тех, которые за Клеоменом последовали, и простить Клеомена, приказавшего им вместе с ним обратиться в бегство и следовать за ним? Смогу ли я быть неумолимым к тем, чьи корабли не только были лишены экипажа, но и не имели палубы, и слабым по отношению к тому, кто один располагал палубным кораблем и сравнительно полным экипажем?[405] Клеомен должен погибнуть вместе с другими! А данное мной слово? А торжественные клятвы? А рукопожатия и поцелуи? А боевое товарищество и общие ратные подвиги в делах любви на том восхитительном берегу?» Нет, Клеомена никак нельзя было не пощадить.
(105) Веррес велел позвать Клеомена и сказал ему, что решил покарать всех навархов: этого настоятельно требует его собственная безопасность. «Одного тебя я пощажу и скорее соглашусь взять твою вину на себя и выслушать упреки в непоследовательности, чем либо жестоко поступить с тобой, либо сохранить живыми и невредимыми столь многочисленных и столь опасных свидетелей». Клеомен поблагодарил его и одобрил его решение, сказав, что именно так и следует поступить; при этом он, однако, указал Верресу на одно обстоятельство, которого тот не принял во внимание: наварха Фалакра из Центурип наказывать нельзя, так как он был вместе с ним, Клеоменом, на центурипинской квадриреме. Как же быть? Этого человека, происходящего из такой известной городской общины, молодого, очень знатного, оставить как свидетеля? «В настоящее время, — сказал Клеомен, — по необходимости придется это сделать; но впоследствии мы примем меры, чтобы он не мог нам повредить».
(XLI, 106) Обсудив и приняв это решение, Веррес неожиданно вышел из преторского дома вне себя от злобы и бешенства, охваченный яростью. Он пришел на форум и велел позвать навархов. Так как они ничего не опасались, ничего не подозревали, они тотчас же пришли. Он велел заковать в цепи этих несчастных, ни в чем не повинных людей. Те стали умолять претора быть справедливым к ним и спросили его, за что он так поступает с ними. Тогда он объявил им причину: они сдали флот морским разбойникам. Народ встретил это заявление криками, удивляясь такому бесстыдству и наглости человека, который сваливает на других причину несчастья, происшедшего полностью вследствие его собственной алчности, и обвиняет других в предательстве, между тем как его самого считают союзником морских разбойников; кроме того, указывали, что обвинение предъявлено только через пятнадцать дней после гибели флота. (107) В то же время стали спрашивать, где же Клеомен, но не потому, что кто-либо считал его, каков бы он ни был, достойным казни в связи с совершившимся несчастьем. В самом деле, что мог сделать Клеомен? Ведь я ни на кого не могу взводить ложные обвинения. Что, повторяю, мог при всем своем желании сделать Клеомен, когда корабли, вследствие алчности Верреса, остались без экипажа? Глядят — а он сидит рядом с претором и, по своему обыкновению, по-дружески, что-то шепчет ему на ухо. Тогда все сочли поистине возмутительным, что честнейшие люди, выбранные их городскими общинами, закованы в кандалы, а Клеомен, ввиду его соучастия в гнусных и позорных поступках претора, сохраняет его неограниченное доверие. (108) Против навархов все же выставили обвинителя, Невия Турпиона, который, в претуру Гая Сацердота, был осужден за нанесение оскорблений. Это был человек, вполне подходящий Верресу в качестве пособника в преступлениях; Веррес пользовался его услугами как разведчика и подручного в десятинном деле, в уголовных делах и во всякого рода ложных обвинениях.
(XLII) В Сиракузы приехали отцы и близкие несчастных молодых людей[406], потрясенные этим неожиданным известием о постигшем их несчастье. Они увидели своих сыновей закованными в цепи, поплатившимися свободой из-за алчности Верреса. Они пришли к тебе, старались оправдать своих сыновей, громко жаловались, взывали к твоему честному слову, которого у тебя нет и не было ни в чем и никогда. Среди этих отцов был Дексон из Тиндариды, знатнейший человек, связанный с тобой узами гостеприимства. Он принимал тебя в своем доме, ты его называл своим гостеприимцем. Неужели, когда ты его видел, несмотря на его высокое положение, сломленным несчастьем, постигшем его, то ни его слезы, ни его старость, ни права гостеприимства, да и само слово «узы гостеприимства» не отвратили тебя от преступления и не внушили тебе хотя бы малую долю человеческого чувства? (109) Но к чему говорить мне о правах гостеприимства, имея дело с этим диким зверем? Неужели от того, кто заочно внес в списки обвиняемых и, без слушания дела, признал виновным в уголовном преступлении Стения из Ферм, своего гостеприимца, чей дом он ограбил и опустошил, злоупотребив правами гостя, мы теперь можем ожидать соблюдения законов и обязанностей гостеприимства? И действительно, с жестоким ли человеком имеем мы дело или же с диким и хищным зверем? Тебя не тронули слезы отца, вызванные опасностью, угрожавшей его ни в чем не повинному сыну; хотя ты и сам оставил дома отца, а твой сын был вместе с тобой, неужели твой сын своим присутствием не напомнил тебе об отцовской любви, а мысль об отсутствующем отце — о сыновнем чувстве? (110) В цепях был твой гостеприимец Аристей, сын Дексона. За что? — «Он сдал флот пиратам». — А за какую награду? — «Ему удалось бежать». — А Клеомен? — «Он оказался трусом». — Но ранее ты наградил его за мужество венком[407]. «Он уволил матросов в отпуск». — Но плату за это увольнение от всех получил ты. По другую сторону от Верреса стоял другой отец, Евбулид из Гербиты, известный у себя на родине и знатный человек. За то, что он, говоря в защиту сына, задел честь Клеомена, его чуть было не раздели донага. Но что же можно было говорить или приводить в оправдание? — «Называть Клеомена нельзя». — Но этого требует самое дело. — «Умрешь, если назовешь его имя». — Легкими наказаниями он никому не грозил. — «Но ведь не было гребцов». — «Претора смеешь ты обвинять? Удавить его!» — Но если нельзя будет обвинять ни претора, ни его соперника, когда вся суть дела в них двоих, то что же будет?
(XLIII, 111) К суду был привлечен также Гераклий из Сегесты, человек, известный у себя на родине и очень знатный. Слушайте меня, судьи, как того требует ваше человеколюбие; вы услышите о больших притеснениях и обидах, испытанных нашими союзниками. Надо вам знать, что Гераклий был в особом положении: вследствие тяжелой болезни глаз он тогда не выходил в море на корабле и по приказу лица, облеченного властью, оставался в Сиракузах, уволенный в отпуск. Он, во всяком случае, не сдавал флота пиратам, не бежал в страхе и не покидал своего места. Так что его, очевидно, следовало наказать тогда, когда флот выходил из Сиракуз. Но он был подвергнут такому же судебному преследованию, словно был уличен в каком-либо явном преступлении, хотя на него нельзя было взвести даже ложного обвинения.
(112) Среди навархов был некто Фурий из Гераклеи (некоторые сицилийцы носят латинские имена); человек этот, пока был жив, был известен и пользовался уважением не только у себя на родине, а после смерти стал известен во всей Сицилии. У него хватило мужества не только открыто обличать Верреса (ибо он понимал, что ему, перед лицом неминуемой смерти, нечего терять); более того, осужденный на смерть, когда рядом с ним в тюрьме дни и ночи, обливаясь слезами, сидела его мать, он написал речь в свою защиту. Нет теперь человека в Сицилии, у которого бы не было этой речи, кто бы ее не читал и не вспоминал, благодаря ей, о твоих злодеяниях и жестокости. Он указывает в ней, сколько матросов он получил от своей городской общины; скольких Веррес уволил в отпуск и сколько денег взял у каждого из них; сколько матросов осталось на его корабле; это же он сообщает и о других кораблях. Когда Фурий стал говорить это в твоем присутствии, его начали стегать розгами по глазам. Перед лицом смерти он легко переносил телесную боль. Он кричал (и это сохранилось в написанной им речи): если слезы его матери, умоляющей о спасении его жизни, значат для тебя меньше, чем слезы бесстыднейшей женщины, хлопочущей за Клеомена, то это — позорное преступление. (113) Затем, я также вижу из этой речи, что Фурий уже перед смертью справедливо предсказал и насчет вас (если только римский народ в вас не ошибся): Веррес, убивая свидетелей, не в силах уничтожить правосудие; он, Фурий, перед лицом разумных судей будет более важным свидетелем, находясь у подземных богов, чем в случае, если бы он, будучи жив, был вызван в суд; живой он был бы свидетелем одной только алчности Верреса; теперь же, казненный таким образом, он станет свидетелем его злодейства, наглости и жестокости. Вот еще одно прекрасное место: «Когда твое дело будет разбираться, в суд явятся не только толпы свидетелей, но и Кары, посланные богами-манами[408] невинных людей, и фурии, мстительницы за злодеяния; мне же моя участь представляется более легкой потому, что я уже видел острие твоих секир и лицо и руку твоего палача Секстия, когда в присутствии конвента римских граждан, по твоему повелению, римских граждан казнили». (114) Короче говоря, судьи, свободой, которую вы предоставили союзникам, Фурий полностью воспользовался перед мучительной казнью, уделом самых жалких рабов.
(XLIV) На основании решения совета судей, Веррес всем вынес обвинительный приговор. Но в таком важном деле, касавшемся стольких людей, он не привлек к участию в суде ни своего квестора Тита Веттия, чьим советом он мог бы воспользоваться, ни легата Публия Цервия, достойного мужа, которого Веррес первым отвел как судью именно потому, что он был легатом, когда Веррес был в Сицилии претором; нет, на основании решения разбойников, то есть своих спутников[409], он всем вынес обвинительный приговор. (115) Всех сицилийцев, наших преданнейших и давнишних союзников, много раз облагодетельствованных нашими предками, это сильно встревожило и внушило им страх за их судьбу и за все их имущество. Они негодовали на то, что всем известные милосердие и мягкость нашего владычества сменились жестокостью и бесчеловечностью, что выносится обвинительный приговор стольким людям одновременно при отсутствии преступления, что бесчестный претор ищет оправдания своим хищениям в позорнейшей казни ни в чем не повинных людей. Кажется, уже ничего не прибавишь к этой бесчестности, безрассудству и жестокости, и вполне справедливо так кажется; ибо, если Веррес станет состязаться с другими в бесчестности, он всех оставит позади себя и намного. (116) Но он состязается с самим собой; он всегда старается, чтобы его новое злодейство превзошло его прежний проступок. Я уже говорил о том, что по просьбе Клеомена пощадили Фалакра из Центурип, так как Клеомен находился на его квадриреме; однако этот молодой человек все же сильно тревожился, понимая, что он в таком же положении, как и те, которые гибли без всякой вины; и вот, к нему явился Тимархид[410]; смерть под секирой, сказал он, не угрожает Фалакру; но он советует ему принять меры, чтобы его не засекли розгами. Не буду вдаваться в подробности; вы сами слышали показания молодого человека: он в страхе дал Тимархиду взятку. (117) Но это пустячное обвинение для такого подсудимого. Наварх знаменитой городской общины, страшась розог, откупился деньгами; житейская мелочь. Другой, во избежание обвинительного приговора, дал взятку; дело обычное. Римский народ не хочет, чтобы Верресу предъявлялись избитые обвинения; он требует новых, жаждет неслыханных; он думает, что суд происходит не над претором Сицилии, а над нечестивым тиранном.
(XLV) Осужденных бросили в тюрьму; их обрекли на казнь; подвергли мучениям родителей навархов; им запретили посещать их сыновей, запретили приносить пищу и одежду своим детям. (118) Отцы, которых вы здесь видите, лежали у порога тюрьмы; несчастные матери проводили ночи у ее дверей, лишенные возможности в последний раз увидеть своих детей. Они молили только о позволении принять своими устами последний вздох своих сыновей[411]. Там же был и тюремщик, палач претора, смерть и ужас для союзников и граждан — ликтор Секстий, из каждого стона и из каждого страдания извлекавший определенный доход. «За вход ты дашь мне столько-то; за право принести пищу — столько-то». Все на это соглашались. «Ну, а за то, что я снесу голову твоему сыну одним взмахом секиры, сколько дашь ты мне? За то, чтобы он не мучился долго, чтобы не пришлось повторять удар; за то, чтобы он испустил дух без страданий?» И они давали ликтору деньги даже за это. (119) О, какое страшное и невыносимое горе! Какая тяжкая и жестокая участь! Родителей заставляли выкупать за деньги не жизнь их детей, а быстроту их смерти! Да и молодые люди сами уславливались с Секстием об ударе и об одном взмахе секиры, и последняя просьба сыновей к их родителям была о том, чтобы те дали деньги ликтору за облегчение их мук.
Много страданий и притом очень тяжких было изобретено для родителей и близких, очень много; но пусть бы они кончились со смертью навархов! Нет, не кончатся. Может ли жестокость дойти еще до чего-нибудь? Да, найдется кое-что еще. Ибо, после того как они будут казнены ударом секиры, их тела будут брошены на съедение диким зверям[412]. Если это горестно для родителей, то пусть они заплатят за возможность похоронить своих сыновей. (120) Вы слышали показания Онаса из Сегесты, человека знатного, он заплатил Тимархиду деньги за право похоронить наварха Гераклия. Тут ты уже не скажешь: «Пришли отцы, озлобленные потерей своих сыновей». Это говорит виднейший муж, известнейший человек, и говорит не о своем сыне. Да был ли в Сиракузах человек, который бы не слышал, который бы не знал, что соглашение о своем погребении навархи заключали с Тимархидом еще при своей жизни? Разве они не говорили с Тимархидом на глазах у всех, разве в этом не участвовали все их родственники? Разве не заказывались похороны еще живых людей?
(XLVI, 121) Когда все было выяснено и решено, осужденных стали выводить из тюрьмы и привязывать к столбам. Кто из присутствующих обладал таким каменным сердцем, кто, кроме тебя одного, был настолько лишен человеческих чувств, что его не тронула молодость, знатность, несчастье, постигшее навархов? Кто не плакал, кто не усматривал в беде, постигшей их, участи, не исключенной и для себя, и опасности, грозившей всем? Взмахи секиры. Все в горе, а ты радуешься и ликуешь; ты доволен, что устранены свидетели твоей алчности. Ты, заблуждался, Веррес, и сильно заблуждался, думая, что позор своих хищений и гнусностей ты смываешь кровью неповинных союзников. Обезумев, ты был слеп, раз ты полагал, что жестокость — лекарство для ран, нанесенных твоей алчностью. И в самом деле, хотя и мертвы те свидетели твоего злодейства, все же их родичи не забывают ни о них, ни о тебе; из числа самих навархов кое-кто все же остался жив и находится здесь; мне кажется, судьба сохранила их для того, чтобы они явились мстителями за тех неповинных людей и выступили в этом суде. (122) Здесь находится Филарх из Галунтия, который, не участвуя в бегстве вместе с Клеоменом, подвергся нападению морских разбойников и был взят ими в плен. Это несчастье спасло его, так как, не попади он в плен к пиратам, он оказался бы в руках у этого разбойника, истребляющего союзников. Он говорит как свидетель об увольнении матросов в отпуск, о голоде, о бегстве Клеомена. Здесь находится Фалакр из Центурип, происходящий из прославленной общины, человек из знатного рода; он дает такие же показания, ни в чем не расходясь с Филархом.
(123) Во имя бессмертных богов! С каким, скажите мне, чувством сидите вы здесь, судьи? Какое впечатление на вас произвел мой рассказ? Я ли потерял разум и сверх всякой меры скорблю об этом бедствии и несчастье, постигшем союзников, или жесточайшие мучения и скорбь их родных, выпавшие на долю ни в чем не повинных людей, удручают в такой степени также и вас? Ибо, когда я говорю, что наварх из Гербиты, что наварх из Гераклеи были обезглавлены, перед моими глазами встает возмущающая душу картина этого несчастья. (XLVII) Неужели граждане этих городов, питомцы тех полей, с которых их стараниями из года в год доставляется огромное количество хлеба для римского плебса, люди, которых родители произвели на свет[413] и взрастили в надежде на нашу державу и на нашу справедливость, были сохранены для нечестивой свирепости Гая Верреса и для его роковой секиры? (124) Вспоминая о навархе из Тиндариды, вспоминая о навархе из Сегесты, я в то же время думаю о правах и об обязанностях этих городских общин. Города, которые Публий Африканский счел нужным даже украсить добычей, отнятой им у врагов, Гай Веррес своим нечестивым злодеянием лишил не только тех украшений, но и знатнейших мужей. Вот что любят говорить жители Тиндариды: «Мы принадлежим к числу семнадцати городских общин Сицилии; мы всегда, во время пунических и сицилийских войн, были верными друзьями римского народа; мы всегда доставляли римскому народу и помощь при ведении войны, и возможность наслаждаться миром». Поистине много помогли им эти права под империем и властью Верреса! (125) Моряков ваших некогда водил против Карфагена Сципион, а теперь корабль, почти лишенный экипажа, против морских разбойников ведет Клеомен. Публий Африканский поделился с вами доспехами, отбитыми у врагов, и наградами за заслуги, а теперь вы, ограбленные Верресом, потеряв корабль, уведенный морскими разбойниками, сами признаны врагами. Что еще сказать мне? Кровное родство, соединяющее нас с жителями Сегесты, не только засвидетельствовано памятниками письменности, не только упоминается в преданиях, но и подтверждено и доказано многочисленными услугами с их стороны; какие же плоды принесли им, под империем Верреса, эти тесные связи? Очевидно, то преимущество, судьи, что знатнейший молодой человек был вырван из лона отечества и отдан в руки Секстия, палача Верреса. Город, которому наши предки дали обширные тучные поля, который они освободили от повинностей, не добился, в уважение к своему родству с нами, верности, древности, влиянию, даже права вымолить пощаду своему честнейшему и ни в чем не повинному гражданину и избавить его от смерти.
(XLVIII, 126) Где же союзники наши найдут для себя прибежище? К кому обратиться им с мольбой? Какая надежда будет привязывать их к жизни, если вы покинете их? В сенат ли обращаться им? Зачем? Чтобы он осудил Верреса на казнь? Это не в обычае и не является правом сената. У римского ли народа искать им прибежища? У народа готов ответ: он скажет, что издал закон ради блага союзников и поставил вас охранителями этого закона и карателями за его нарушение. Итак, здесь единственное место, где они могут найти убежище. Вот пристань, вот крепость, вот алтарь[414] для союзников! Однако теперь они обращаются сюда не за тем, за чем обращались раньше, требуя возврата своей собственности. Не серебряную утварь, не золото, не ткани, не рабов требуют они вернуть им, не украшения, похищенные из городов и святилищ; как люди неискушенные, они боятся, что римский народ уже допускает эти хищения и согласен на то, чтобы они совершались[415]. Ведь мы уже в течение многих лет терпим и молчим, видя, что все достояние целых народов перешло в руки нескольких человек. Наше равнодушие и наше потворство этому стяжанию кажется еще бо́льшим потому, что ни один из этих грабителей не скрывает своей жадности и, видимо, даже не старается, чтобы она менее бросалась в глаза. (127) Найдется ли в нашем великолепном и богато украшенном городе хотя бы одна статуя, хотя бы одна картина, которая была бы взята не у побежденных нами врагов, вывезена не из их страны? А вот усадьбы этих стяжателей украшены и переполнены множеством прекрасных предметов, захваченных ими у наших преданнейших союзников. Где же, по вашему мнению, находятся богатства всех чужеземных народов, ныне впавших в нищету, когда вы видите, что Афины, Пергам, Кизик, Милет, Хиос, Самос, словом, вся Азия, Ахайя, Греция, Сицилия заключены в столь немногих усадьбах?[416]
Но союзники ваши, судьи, повторяю, махнули на это рукой. Возможность изъятия их имущества в пользу римского народа они предотвратили своими заслугами и верностью. Что касается алчности отдельных лиц, то, когда они ей не могли препятствовать, они все же могли каким-то образом ее удовлетворять; но теперь они уже лишены возможности не только противиться ей, но даже удовлетворять ее. Поэтому о своем имуществе они не заботятся; возврата денег, давшего название настоящему суду, они не требуют; они от них отказываются. Вот в каком уборе[417] прибегают они к вашему заступничеству.
(XLIX, 128) Взгляните, судьи, взгляните на скорбный и нищенский вид наших союзников. Вот Стений из Ферм, отпустивший себе волосы и носящий траурную одежду; хотя весь его дом разграблен, он о твоих хищениях не говорит; он требует от тебя, чтобы ты возвратил ему его самого, так как ты, своим преступным произволом, выгнал его из родного города, где он был виднейшим человеком благодаря своим многим достоинствам и заслугам. Этот вот Дексон, которого вы видите перед собой, не требует от тебя ни того, что ты похитил у общины Тиндариды, ни того, что ты украл у него самого; несчастный отец требует, чтобы ты вернул ему его единственного, прекрасного и ни в чем не повинного сына; не деньги хочет он увезти домой из суммы, подлежащей взысканию с тебя[418]; он хочет известием о постигшей тебя каре принести хоть какое-нибудь утешение праху и костям своего сына. Этот вот старец Евбулид на закате своих дней совершил это многотрудное путешествие не для того, чтобы получить обратно хотя бы часть своего имущества, но чтобы теми же самыми глазами, какими он видел окровавленное тело своего сына, увидеть, как тебе вынесут обвинительный приговор. (129) Если бы Луций Метелл разрешил им[419], то сюда, судьи, пришли бы и матери и сестры тех несчастных людей. Когда я подъезжал ночью к Гераклее, одна из них, в сопровождении всех матрон с множеством факелов в руках, вышла навстречу мне и, обращаясь ко мне как к своему спасителю, а тебя называя своим палачом, повторяя со слезами имя своего сына, бросилась, несчастная, к моим ногам, словно в моей власти было вызвать ее сына из подземного мира. Так же поступали и в других городах престарелые матери и маленькие дети несчастных навархов; возраст и тех и других от меня требовал труда и настойчивости, а от вас требует справедливости и сострадания. (130) Поэтому, судьи, Сицилия, со слезами, поручила мне поддерживать эту жалобу более настоятельно, чем другие. Слезы ее, а не жажда славы привели меня сюда для того, чтобы ни несправедливые приговоры, ни тюрьма, ни цепи, ни побои, ни секиры, ни пытки союзников, ни кровь невинных людей, ни, наконец, окровавленные тела казненных и горе их родителей и близких не могли быть источником стяжания для наших должностных лиц. Если я, благодаря вашей справедливости и строгости, осуждением Верреса избавлю Сицилию от этого страха, судьи, то я сочту, что выполнил свой долг и оправдал надежды тех, кто мне поручил вести это дело.
(L, 131) Поэтому, если ты случайно найдешь человека, который попытается защищать тебя от обвинения в потере флота, то пусть он защищает тебя так: общие соображения, не имеющие отношения к делу, пусть он оставит в стороне — будто я вменяю тебе в вину случайность, несчастье называю преступлением, упрекаю тебя в потере флота, хотя многие храбрые мужи не раз терпели неудачи на суше и на море вследствие обычных и непредвиденных опасностей во время войны. Никакой превратности судьбы я не ставлю тебе в вину; никаких нет у тебя оснований приводить мне в пример чужие неудачи и подбирать примеры злоключений, испытанных многими людьми. Да, я утверждаю, что на кораблях не было экипажа, что гребцы и матросы были уволены в отпуск, что оставшиеся питались корнями пальм, что над флотом римского народа начальствовал сицилиец, а над нашими неизменными союзниками и друзьями — сиракузянин; я утверждаю, что ты как раз в то время и на протяжении всех предшествовавших дней пьянствовал на берегу в обществе своих наложниц; я вам представляю людей, которые могут удостоверить и засвидетельствовать все эти факты. (132) Неужели ты думаешь, что я хочу тебя оскорбить в твоем несчастье, лишить тебя возможности сослаться на судьбу, попрекаю тебя и ставлю тебе в вину случайности, неизбежные во время войны? Впрочем, обычно не хотят, чтобы их попрекали случайностями судьбы, именно те люди, которые ей доверились, которые сами испытали ее опасности и изменчивость. Правда, к этой твоей беде судьба не была причастна. Ведь люди обычно испытывают свое военное счастье в сражениях, а не в попойках. В этом же несчастье — мы можем смело сказать — не Марс был «общим», а Венера[420]. А если превратности судьбы не следует ставить в вину тебе, то почему ты не отнесся снисходительно к превратностям судьбы, постигшим тех ни в чем не повинных людей?
(133) Вот еще довод, от которого тебе придется отказаться: будто я обвиняю и черню тебя за казнь по обычаю предков — за отсечение головы. Не из-за рода казни обвинение. Не отрицаю ни необходимости казни через отсечение головы, ни надобности поддерживать воинскую дисциплину страхом и не считаю нужным уничтожать строгость империя, отменять кару за позорное деяние. Я признаю, что не только к союзникам, но даже и к нашим согражданам и к нашим солдатам очень часто применялись суровые и строгие наказания. (LI) Поэтому ты можешь опустить это возражение. Я же, со своей стороны, доказываю, что были виноваты не навархи, а ты; я обвиняю тебя в том, что ты за деньги отпустил гребцов и солдат; это говорят и уцелевшие навархи[421]; это официально говорит союзная городская община Нет; это официально говорят представители Аместрата, Гербиты, [Энны,] Агирия, Тиндариды; наконец, это говорит твой свидетель, твой император, твой соперник, твой гостеприимец Клеомен: он высадился на берег с целью пополнения своего экипажа солдатами из гарнизона в Пахине. Он, конечно, не сделал бы этого, будь на кораблях полное число матросов; ведь численность экипажа на полностью вооруженном и снаряженном корабле такова, что к нему, уже не говорю — многих, но даже и одного человека прибавить нельзя. (134) Кроме того, я утверждаю, что даже оставшиеся матросы были истощены и обессилены голодом и всевозможными лишениями. Я утверждаю: либо ни один из навархов не был виноват; либо, если одного из них следует признать виновным, то наиболее виновен тот, кто располагал наилучшим кораблем, наибольшим числом матросов и обладал высшим империем; либо если все они были виноваты, то не следовало позволять Клеомену присутствовать при их мучительной казни. Я также утверждаю, что во время самой казни назначать плату за возможность оплакать своих близких, плату за смертельный удар, плату за совершение погребальных обрядов и погребение было нарушением божеского закона.
(135) Поэтому, если ты захочешь ответить мне, говори следующее: флот был полностью снаряжен, все бойцы были налицо; не было весла, которое бы, за отсутствием гребца, скользило по воде; продовольствия было достаточно; лгут навархи; лгут столь уважаемые городские общины; лжет даже вся Сицилия; предал тебя Клеомен, который, по его словам, высадился на берег, чтобы привести для себя солдат из Пахина; мужества не хватило у навархов, а не военной силы; Клеомен, сражавшийся с великой храбростью, был покинут и оставлен ими; за погребение никто не получил ни сестерция. Если ты это скажешь, ты будешь уличен во лжи; если же ты будешь говорить что-либо другое, ты не опровергнешь ничего из того, что я сказал.
(LII, 136) И здесь ты осмелишься сказать: «Среди судей есть мой близкий друг, есть друг моего отца»?[422] Неужели ты не сознаешь, что, чем ближе человек связан с тобой в каком-либо отношении, тем больше ты должен стыдиться, будучи обвинен в таком преступлении? — «Это друг моего отца». — Да если бы твой отец сам входил в состав суда, что — во имя бессмертных богов! — мог бы он сделать? Если бы он сказал тебе: «Ты, претор в провинции римского народа, когда тебе надо было руководить военными действиями на море, в течение трех лет освобождал мамертинцев от обусловленной договором поставки корабля; для тебя, для твоих личных нужд, у тех же мамертинцев был за счет города построен огромный грузовой корабль; ты вымогал у городских общин деньги под предлогом снаряжения флота; ты за плату распустил гребцов; ты, когда твой квестор и легат захватили корабль морских разбойников, скрыл архипирата от глаз всего населения; ты счел возможным казнить через отсечение головы людей, которых называли римскими гражданами и которых многие лица таковыми признавали; ты осмелился к себе в дом увести пиратов [и в суд привести архипирата из своего дома]; (137) ты в такой прекрасной провинции, среди преданнейших нам союзников и честнейших римских граждан, перед лицом опасности, угрожавшей провинции, в течение многих дней подряд валялся на берегу, предаваясь попойкам; тебя в те дни никто не мог ни посетить в твоем доме, ни увидеть на форуме; ты заставлял матерей семейств, жен наших союзников и друзей, участвовать в этих попойках; ты заставлял своего сына, носящего претексту, моего внука, находиться в обществе таких женщин, чтобы ему, в его восприимчивом и опасном возрасте, служил примером порочный образ жизни отца; тебя, претора в провинции, видели в тунике и пурпурном плаще; ты, под влиянием развратной любви, отнял у легата римского народа империй над флотом и передал его сиракузянину; твои солдаты в провинции Сицилии[423] были лишены продовольствия; из-за твоей страсти к роскоши и из-за твоей алчности флот римского народа был захвачен и сожжен морскими разбойниками; (138) с основания Сиракуз воды гавани этого города, ранее недоступные для врагов, впервые стали бороздить корабли пиратов; и ты не захотел ни скрыть, ни постараться предать забвению столько и притом таких тяжких проступков, ни умолчать о них; нет, ты, без всяких к тому оснований, вырвал навархов из объятий их отцов, с которыми был связан узами гостеприимства, и обрек их на мучительную смерть; ни горе, ни слезы отцов, которые могли напомнить тебе обо мне, тебя не смягчили; кровь невинных не только доставила тебе удовольствие, но и принесла доход», (LIII) — если бы твой отец сказал тебе все это, мог ли бы ты искать у него снисхождения, просить о прощении?
(139) Я сделал для сицилийцев достаточно, исполнил долг дружбы, выполнил данное мной обещание и обязательство[424]. Остается еще одно дело: я не брал его на себя, судьи, но оно внушено мне самой природой; оно не поручено мне, но глубоко запало и проникло в мое сердце и разум; оно касается уже не благополучия наших союзников, а жизни и крови римских граждан, то есть каждого из нас. В этой части моей речи не ждите от меня, судьи, что я стану приводить доказательства, словно что-то здесь может внушать сомнения; все то, о чем я буду говорить, окажется настолько известным, что для подтверждения этого я мог бы привлечь всю Сицилию как свидетельницу. В самом деле, какое-то бешенство, спутник злодейства и преступной отваги, поразило его необузданный ум и душу, лишенную всяких человеческих чувств, таким сильным безумием, что он, творя суд, ни разу не поколебался, в присутствии всех, открыто осуждать римских граждан на казнь, установленную для рабов, уличенных в злодеяниях.
(140) Сто́ит ли мне назвать всех тех, кого Веррес засек розгами? Скажу в двух словах: во время его претуры разницы между гражданами и негражданами в этом отношении не было. Поэтому ликтор уже по привычке, даже без знака, данного Верресом, налагал руку на римского гражданина. (LIV) Можешь ли ты отрицать, Веррес, что на форуме в Лилибее в присутствии огромной толпы Гай Сервилий, римский гражданин из панормского конвента, давно ведущий дела в Сицилии, упал на землю подле твоего трибунала, у твоих ног, под ударами розог? Посмей отрицать этот первый факт, если можешь. В Лилибее не было человека, который бы не видел этого, в Сицилии — человека, который бы не слышал об этой расправе. Под ударами твоих ликторов, повторяю я, римский гражданин на твоих глазах повалился на землю. (141) И за что, бессмертные боги! Впрочем, таким вопросом я оскорбляю всех римлян и права римского гражданства; я спрашиваю о причинах расправы с Сервилием, как будто вообще может быть законная причина для такого обращения с любым римским гражданином. Простите мне это, судьи, в одном этом случае, в остальных я уже не буду доискиваться причин. Сервилий довольно резко высказался о бесчестности и подлых поступках Верреса. Как только претору об этом сообщили, он повелел, чтобы Сервилий дал рабу Венеры[425] обязательство явиться на суд в Лилибей. Сервилий дал обязательство; стороны явились в Лилибей. Хотя никто не вчинял иска и никто не предъявлял обвинения, Веррес начал принуждать Сервилия к заключению спонсии с его ликтором на две тысячи сестерциев по формуле: «Если окажется, что он не обогащался путем кражи…»[426]. Рекуператоров, говорил Веррес, он назначит из состава своей когорты. Сервилий отказался; он умолял Верреса не подвергать его перед пристрастными судьями и без участия противника суду, угрожающему его гражданским правам. (142) В то время как он это говорил, его обступило шестеро дюжих ликторов, очень опытных по части избиений и порки; они стали жестоко сечь его розгами; под конец, Секстий, первый ликтор[427], о котором я уже говорил, начал, повернув розгу толстым концом, жестоко бить этого несчастного по глазам. И вот, Сервилий, когда кровь залила ему лицо и глаза, рухнул на землю, но они продолжали избивать лежачего, чтобы он, наконец, произнес формулу спонсии. После такой расправы Сервилия унесли замертво, и он вскоре умер, а наш служитель Венеры, преисполненный приятности и обаяния, за его счет поставил в храме Венеры серебряную статую Купидона. Так он, используя даже имущество своих жертв, исполнял обеты, данные им в ночи наслаждении[428].
(LV, 143) К чему говорить мне о каждом из видов мучений, каким Веррес подвергал римских граждан? Я лучше опишу их все в совокупности. Знаменитая тюрьма, устроенная в Сиракузах жесточайшим тиранном Дионисием[429] и называемая Каменоломнями, под империем Верреса стала местом жительства римских граждан. Стоило кому-нибудь не угодить Верресу своими речами или своим видом — и его тотчас же бросали в Каменоломни. Я вижу, судьи, что все возмущены этим, и я понял это уже во время первого слушания дела, когда об этом говорили свидетели. Ведь права свободного гражданина, по вашему мнению, должны быть в силе не только здесь, где находятся народные трибуны и другие должностные лица, где на форуме заседают суды, где существует власть сената, где высказывает свое мнение стекающийся отовсюду римский народ; нет, в какой бы стране и среди какого бы народа ни были оскорблены права римских граждан, это близко касается всеобщего дела свободы и чести, что вами твердо постановлено. (144) В тюрьму, предназначенную для содержания злодеев и преступников из числа чужеземцев, для содержания морских разбойников и врагов, ты осмелился бросить такое множество римских граждан? И неужели тебе никогда не приходила в голову мысль о суде, о народной сходке[430], об этом вот множестве людей, которые теперь смотрят на тебя с такой неприязнью и ненавистью? Ни разу не помыслил ты о достоинстве далекого от тебя римского народа, ни разу не представил себе даже вида этой толпы? Неужели ни разу не пришло тебе в голову, что тебе придется возвратиться и предстать перед этими людьми, появиться на форуме римского народа, оказаться во власти законов и правосудия?
(LVI, 145) И что это была за страсть совершать жестокие поступки? Какова была причина, толкавшая Верреса на столь многочисленные злодеяния? Единственной причиной, судьи, был изобретенный им новый, неслыханный доселе способ грабежа. Как те, кто, по рассказам поэтов, захватывал морские заливы[431], мысы и крутые скалы, чтобы иметь возможность убивать мореплавателей, причаливавших к берегу, так Веррес, готовый к враждебным действиям, из любой части Сицилии не упускал из вида ни одного из морей, омывавших ее. Откуда бы ни приходил корабль, — из Азии ли или из Сирии, из Тира ли или из Александрии — его тотчас же захватывали при посредстве надежных доносчиков и стражей. Весь экипаж бросали в Каменоломни, груз и товары доставляли в дом претора.
В Сицилии, после долгого промежутка времени, появился… не второй Дионисий и не Фаларид[432] (ведь на этом острове некогда правило много и притом очень жестоких тираннов); нет, поселилось невиданное свирепое чудовище — из тех, какие, по преданиям, в древности жили в этой местности. (146) Ибо, по моему мнению, ни встреча с Харибдой, ни встреча со Скиллой не были столь роковыми для мореплавателей, как в том же проливе встреча с Верресом. Последняя была еще более роковой — по той причине, что он окружил себя гораздо более многочисленными и более свирепыми псами[433]. Это был второй, еще более жестокий Киклоп[434], так как держал в своей власти весь остров, а тот, древний, говорят, занимал одну только Этну [и ближайшую к ней часть Сицилии]. И какую же причину, судьи, тогда приводил Веррес в оправдание этой столь нечестивой жестокости? Ту же, какую теперь приводят в его защиту. Всех, более или менее богатых людей, приезжавших в Сицилию, он объявлял солдатами Сертория, бежавшими из Диания. Чтобы отвести от себя опасность, одни из них показывали пурпурные ткани из Тира, другие — ладан, благовония и полотна, третьи — драгоценные камни и жемчуг, четвертые — греческие вина и рабов из Азии, которых они везли на продажу, дабы по их товарам можно было судить, откуда они едут. Они не предвидели, что на них навлекут опасность те самые товары, которые по их мнению, должны были служить для них спасительным доказательством. Ибо Веррес заявлял, что они их приобрели благодаря своим связям с пиратами; он приказывал отводить купцов в Каменоломни, а их корабли и груз тщательно охранять.
(LVII, 147) Когда, вследствие таких распоряжений, тюрьма уже была заполнена купцами, тогда и началось то, о чем дал показания римский всадник Луций Светтий, весьма уважаемый человек, и что сообщат и другие свидетели: римских граждан душили в тюрьме — смерть, унизительная для римлянина, и даже умоляющий возглас: «Я — римский гражданин!» — возглас, который в далеких странах, среди варваров, не раз многим помогал и многих спасал, приносил купцам более мучительную смерть и более быструю казнь. Что же ты скажешь, Веррес? Что думаешь ответить на это обвинение? Неужели — что я лгу, выдумываю, преувеличиваю твою вину? Осмелишься ли ты подсказать своим защитникам что-либо подобное? Прошу подать мне список сиракузян, который Веррес прятал в складках своей тоги; ведь этот список, как он полагает, составлен по его указаниям. Дай мне этот весьма тщательно составленный список заключенных, из которого видно, кто когда взят под стражу, когда умер, когда казнен. [Список жителей Сиракуз.] (148) Вы видите, что римских граждан толпами бросали в Каменоломни; вы видите, что в то место, пребывание в котором было величайшим унижением, было согнано множество наших сограждан. Ищите теперь пометки об их выходе из этого места; таковых нет. Что же, все они умерли своей смертью? Если бы Веррес стал это утверждать, то его слова не заслуживали бы доверия. Но в том же списке есть греческое слово, которого этот невежественный и небрежный человек никогда не мог ни заметить, ни понять: ἐδικαιώθησαν [были осуждены], то есть, как говорят сицилийцы, казнены, умерщвлены.
(LVIII, 149) Если бы какой-нибудь царь, какая-нибудь чужеземная городская община, какое-нибудь племя поступили с римскими гражданами подобным образом, неужели мы не покарали бы их за это от имени нашего государства, не объявили бы им войны? Разве можно было бы оставить без возмездия и без наказания такое оскорбление и надругательство над именем римлян? Вспомните, сколько раз и какие большие войны вели наши предки, получив известие об оскорблении, нанесенном римским гражданам, о задержании наших судовладельцев[435], об ограблении наших купцов! Но на задержание их я уже не жалуюсь, с их ограблением приходится мириться; но ведь купцы, после того как у них отняли корабли, рабов и товары, были брошены в тюрьму, и там римские граждане были казнены — вот в чем я обвиняю Верреса! (150) Если бы я, описывая столь многочисленные и столь жестокие казни римских граждан, говорил это перед скифами, а не здесь, перед таким большим собранием римских граждан, не перед сенаторами — цветом наших граждан, то я все же растрогал бы даже варваров. Ибо так обширна наша держава, так велико достоинство, в представлении всех народов связанное с именем римлянина, что твоя жестокость по отношению к нашим соотечественникам не может показаться дозволенной кому бы то ни было. Могу ли я теперь думать, что у тебя есть какая-либо надежда на спасение и какое-либо прибежище, когда вижу тебя во власти сурового суда, как бы попавшимся в сети собравшихся толп римского народа? (151) Если ты — этой возможности я не допускаю — освободишься из этих пут и выскользнешь из них при помощи какого-нибудь средства или уловки, то ты, клянусь Геркулесом, попадешь в еще более крепкие тенета[436], причем опять-таки я, выступив с более высокого места[437], уничтожу и добью тебя.
В самом деле, даже если бы я и согласился принять его оправдания, все же его ложное оправдание само по себе было бы для него не менее губительным, чем мое справедливое обвинение. Что же говорит он в свое оправдание? Что он задерживал беглецов из Испании и казнил их. А кто позволил тебе это? По какому праву ты это сделал? Кто еще так поступал? Почему и как это было тебе разрешено? (152) Мы видим, что такие люди заполняют форум и басилики [и видим это совершенно спокойно]. Ведь надо считать счастливым исходом гражданской смуты, или безумия, или роковых событий, или бедствия, когда можно сохранить невредимыми хотя бы уцелевших граждан. Веррес, в прошлом предавший своего консула, оказавшийся во время своей квестуры перебежчиком и расхитителем казенных денег, присвоил себе такую власть в деле управления государством, что тех людей, которым сенат, римский народ, все должностные лица предоставили право бывать на форуме, подавать голос, находиться в этом городе, в пределах нашего государства, всех обрекал на мучительную и жестокую казнь, если судьба приводила их к берегам Сицилии.
(153) После того как Перпенна был казнен[438], очень многие солдаты Сертория перебежали к Гнею Помпею, прославленному и храбрейшему мужу. Кого из них не постарался он сохранить здравым и невредимым? Какому гражданину, умолявшему его о пощаде, не протянул он в залог безопасности своей непобедимой руки и кому только не подал он надежды на спасение? Разве это не так? И этих людей, находивших прибежище у того, против кого они пошли с оружием в руках, у тебя, никогда не заботившегося о благе государства, ожидала мучительная смерть?
(LIX) Смотри, какой удачный способ защиты ты придумал! Я бы предпочел, — клянусь Геркулесом — чтобы судьи и римский народ согласились с тем, что ты приводишь в свое оправдание, а не с тем, в чем тебя обвиняю я. Повторяю, я бы предпочел, чтобы тебя считали недругом и врагом тем людям, о которых я упомянул, а не купцам и судовладельцам. Ибо мое обвинение изобличает тебя в необычайной алчности, твоя попытка оправдаться — в каком-то бешенстве, свирепости, неслыханной жестокости и, можно сказать в новой проскрипции[439].
(154) Но воспользоваться этим преимуществом мне нельзя, судьи, как оно ни велико. Нельзя. Ведь здесь в сборе все Путеолы.[440] В полном составе приехали на суд все купцы, богатые и уважаемые люди; они заявляют, что из их сотоварищей, из их вольноотпущенников, далее из вольноотпущенников этих последних одни были ограблены и брошены в тюрьму, [другие умерщвлены в тюрьме,] третьи обезглавлены. Смотри, как справедлив к тебе я буду при этом. Когда я представлю Публия Грания как свидетеля, когда он скажет, что ты отрубил головы его вольноотпущенникам, и потребует от тебя свой корабль и свои товары, опровергай тогда его заявление, если сможешь. Я откажусь от него как от свидетеля; я встану на твою сторону, повторяю, я тебе помогу; доказывай тогда, что эти люди были у Сертория, что их отнесло в сторону Сицилии во время их бегства из Диания. Докажи это. Для меня это даже более чем желательно; ибо невозможно найти преступление, которое бы заслуживало более суровой кары, и за него тебя необходимо привлечь к суду. (155) Я снова вызову римского всадника Луция Флавия, если захочешь; при первом слушании дела ты ни одному из свидетелей не задал вопроса; как говорят твои защитники, ты сделал это от своего, так сказать, большого — правда, в новом роде — ума, но на самом деле, как все понимают, ты поступил так ввиду сознания своих преступлений и убедительности показаний моих свидетелей. Пусть Флавия, если захочешь, спросят, кто такой был тот Тит Геренний, который, по его словам, держал меняльную лавку в Лепте[441]. Хотя более ста римских граждан из сиракузского конвента не только удостоверяло его личность, но и защищало его, умоляя тебя в слезах, ты все же в присутствии жителей Сиракуз велел отрубить ему голову. Я хочу, чтобы ты опроверг показания и этого моего свидетеля, доказал и подтвердил, что этот Геренний был в войске Сертория.
(LX, 156) Что сказать мне о том множестве людей — о тех, кого, с закутанными головами, в числе пленных пиратов вели на казнь? Что за необычная осторожность! С какой целью ты ее придумал? Быть может, громкие сетования Луция Флавия и других людей о Тите Гереннии встревожили тебя? Или важное значение высказываний Марка Анния, достойнейшего и весьма уважаемого мужа, заставило тебя быть более осмотрительным и робким? Ведь он как свидетель недавно показал, что ты велел отрубить голову не какому-то пришельцу, не чужеземцу, а римскому гражданину, известному всем членам того конвента и родившемуся в Сиракузах. (157) После того как народ стал громко выражать свое негодование, когда все шире стали распространяться разные толки и жалобы, Веррес начал действовать, правда, не более мягко, — он по-прежнему казнил людей — но более осмотрительно. Он распорядился, чтобы римских граждан выводили на казнь, закутав им голову; все же он казнил их у всех на глазах потому, что члены конвента, как я уже говорил, очень точно вели счет морским разбойникам.
И такая участь, в твою претуру, была уготована римскому плебсу?[442] И это ожидало людей, занимающихся торговлей? Вот что угрожало их гражданским правам и жизни? Разве и без того мало неизбежных опасностей грозит купцам на их пути от превратностей судьбы, чтобы их ожидали еще также и эти ужасы со стороны наших должностных лиц и к тому же в наших провинциях? Для того ли существовала эта ближайшая к городу Риму и верная ему провинция, населенная множеством честнейших союзников и весьма уважаемых граждан, всегда с величайшей охотой принимавшая у себя всех римских граждан, чтобы люди, приезжавшие сюда по морю даже из отдаленной Сирии и Египта и даже у варваров пользовавшиеся некоторым уважением благодаря своей тоге, спасшись от засад со стороны морских разбойников и от опасных бурь, умирали под секирой в Сицилии, когда они уже думали, что достигли своего дома?
(LXI, 158) Далее, что сказать мне, судьи, о Публии Гавии из муниципия Консы?[443] Или, лучше, сколь мощным голосом, какими убедительными словами я должен говорить? Как выразить мне свою душевную скорбь? Глубока моя скорбь, и мне следует приложить усилия, чтобы в моей речи все соответствовало важности предмета, соответствовало глубине моей скорби. Эта статья обвинения такова, что я, когда мне о ней сообщили, воспользоваться ею не хотел. Хотя я и понимал, что эти сведения вполне соответствуют истине, я все же думал, что мне не поверят. Под влиянием слез всех римских граждан, ведущих дела в Сицилии, из уважения к свидетельским показаниям жителей Валенции, весьма уважаемых людей, и всех жителей Регия, а также и многих римских всадников, в ту пору случайно находившихся в Мессане, я, при первом слушании дела, представил столько свидетелей, что никто не может сомневаться в том, что это так и было.
(159) Что мне теперь делать? Я уже столько часов говорю о деяниях одного и того же рода и о нечестивой жестокости Верреса; я уже истратил на другие вопросы почти всю силу своей речи, стараясь по достоинству оценить его злодеяния, и не позаботился о том, чтобы удержать ваше внимание разнообразием статей обвинения. Как же говорить мне о таком важном деле? Мне думается, есть только один способ и один путь; я расскажу вам о само́м факте; он настолько убедителен сам по себе, что не нужно ни моего красноречия, которым я не обладаю, ни чьего бы то ни было дара слова, для того, чтобы потрясти вас до глубины души.
(160) Этот Гавий из Консы, о котором я говорю, брошенный Верресом в тюрьму в числе других римских граждан, каким-то образом тайно бежал из Каменоломен и приехал в Мессану; уже перед его глазами была Италия и стены Регия, населенного римскими гражданами. И после страха смерти, после мрака, он, возвращенный к жизни как бы светом свободы и каким-то дуновением законности, начал в Мессане жаловаться, что он, римский гражданин, был брошен в тюрьму; он говорил, что едет прямо в Рим и будет к услугам Верреса при его прибытии из провинции. (LXII) На свою беду, он не понимал, что совершенно безразлично, говорит ли он это в Мессане или же в присутствии Верреса в преторском доме. Ибо, как я уже вам доказал, Веррес избрал этот город своим пособником в злодействах, укрывателем награбленного им и соучастником во всех гнусных поступках. Поэтому Гавия тотчас же отвели к мамертинскому должностному лицу, а в тот же день Веррес случайно приехал в Мессану. Ему доложили об этом случае: римский гражданин заявляет жалобу, что он находился в сиракузских Каменоломнях; он, уже садясь на корабль и произнося страшные угрозы против Верреса, был задержан местным должностным лицом[444] и заключен под стражу, чтобы сам претор мог поступить с ним по своему усмотрению.
(161) Веррес выразил властям свою благодарность и похвалил их за благожелательное отношение к нему и бдительность. Сам он, вне себя от преступной ярости, пришел на форум; его глаза горели; все его лицо дышало бешенством[445]; все ждали, до чего он дойдет и что станет делать, как вдруг он приказывает притащить Гавия сюда, раздеть его посреди форума, привязать к столбу и приготовить розги. Несчастный кричал, что он — римский гражданин из муниципия Консы, что он служил под началом Луция Реция, известнейшего римского всадника, который ведет дела в Панорме и может подтвердить это Верресу. Тогда Веррес заявил, что, по его сведениям, Гавий послан в Сицилию предводителями беглых рабов как соглядатай; между тем ни доноса, ни каких бы то ни было признаков подобного дела, ни подозрений не имелось. Затем он приказал всем ликторам сечь Гавия без всякой пощады. (162) В Мессане посреди форума, судьи, секли розгами римского гражданина, но, несмотря на все страдания, не было слышно ни одного стона этого несчастного и, сквозь свист розог, слышались только слова: «Я — римский гражданин». Этим напоминанием о своих гражданских правах он думал отвратить от себя удары розог и избавиться от распятия на кресте. Но ему не только не удалось добиться этим прекращения порки, но, в то время он усиленно умолял и продолжал взывать к правам римского гражданина, ему уже готовили крест, повторяю, крест для этого несчастного и замученного человека, никогда ранее не видевшего этого омерзительного орудия казни.
(LXIII, 163) О, сладкое имя свободы! О, великое право нашего государства! О, Порциев закон, о, Семпрониевы законы![446] О, вожделенная власть народных трибунов, наконец, возвращенная римскому плебсу![447] Так ли низко пали все эти установления, что римского гражданина в провинции римского народа, в союзном городе могли на форуме связать и подвергнуть порке розгами по приказанию человека, получившего связки и секиры в знак милости римского народа? Как? Когда разводили огонь и приготовляли раскаленное железо и другие орудия пытки, тебя не заставили опомниться если не отчаянные мольбы и страдальческие возгласы твоей жертвы, то хотя бы плач и горестные сетования римских граждан? И ты осмелился распять человека, называвшего себя римским гражданином?
Я не хотел с такой резкостью говорить об этом при первом слушании дела, судьи, я этого не хотел. Ведь вы заметили, как возбуждена была толпа против Верреса, движимая душевной болью, ненавистью и страхом перед угрожающей всем опасностью. Тогда я и мой свидетель, видный римский всадник Гай Нумиторий, проявили сдержанность в своей речи и я обрадовался поступку Мания Глабриона, который, весьма разумно, вдруг прервал заседание во время допроса моего свидетеля: он не без основания боялся, что римский народ расправится с Верресом самочинно, опасаясь, что тот избегнет кары благодаря законам и вашему приговору. (164) Но теперь, когда твое положение и ожидающая тебя участь ясны всем, я буду обвинять тебя уже по-иному: я докажу, что этот Гавий, оказавшийся, по твоим словам, соглядатаем, был брошен тобой в сиракузские Каменоломни, и докажу это не только на основании списков жителей Сиракуз; иначе ты, пожалуй, скажешь, что я — ввиду того, что в списках значится какой-то Гавий, — нарочно выбрал это имя, дающее мне возможность сказать, что этот Гавий и есть то самое лицо, о котором я говорил; нет; я вызову свидетелей, скольких ты потребуешь, и они покажут, что этот Гавий и есть то самое лицо, которое ты бросил в сиракузские Каменоломни. Я вам представлю и жителей Консы, его земляков и друзей, которые заявят, — для тебя, правда, теперь уже поздно, но для судей еще своевременно — что тот Публий Гавий, которого ты распял, был римским гражданином и жителем муниципия Консы, а не соглядатаем из шайки беглых рабов.
(LXIV, 165) На основании свидетельских показаний, установив с несомненностью все эти факты, о которых я говорю, я затем буду держаться в пределах только того, что ты сам предоставляешь в мое распоряжение. Я вполне удовлетворюсь и этим. В самом деле, что заявил ты недавно, когда, встревоженный криками и негодованием римского народа, ты вскочил со своего места? Что ты тогда сказал? Что Гавий только для того и вопил, что он — римский гражданин, чтобы добиться отсрочки своей казни, но в действительности он был соглядатаем. Значит, мои свидетели говорят правду. Что говорит Гай Нумиторий, что говорят Марк и Публий Коттии, очень известные люди из округа Тавромения, что говорит Квинт Лукцей, державший большую меняльную лавку в Регии, что говорят другие? Ведь свидетели, представленные мной до сего времени, не говорили, что они знали Гавия лично, но — что они видели, как человека, во всеуслышание называвшего себя римским гражданином, распинали. Это же самое и ты говоришь, Веррес, это же и ты признаешь: он восклицал, что он — римский гражданин. И звание гражданина для тебя, очевидно, не имело никакого значения, раз ты ничуть не поколебался в своем намерении распять его и не отложил хотя бы не надолго его жесточайшей и позорнейшей казни.
(166) Вот чем руководствуюсь я, вот чего я строго держусь, судьи! Мне достаточно одного этого; прочее я опускаю и оставляю в стороне. Верреса неотвратимо опутывает и уничтожает его собственное признание. Ты не знал, кто он; ты подозревал, что он — соглядатай. Не спрашиваю тебя о твоих подозрениях, обвиняю тебя на основании твоих же слов: он себя называл римским гражданином. Если бы тебя, Веррес, схватили в Персии или в далекой Индии и повели на казнь, что стал бы ты кричать, как не то, что ты — римский гражданин? И в то время как это прославленное и всем известное звание римского гражданина должно было бы спасти тебя даже среди не знающих тебя и незнакомых тебе людей, среди варваров, среди народов, живущих на краю света, этот человек, — кто бы он ни был — которого ты влек на крест, который был тебе незнаком, не мог, хотя и называл себя римским гражданином, хотя и ссылался на свои гражданские права и упоминал о них, добиться от тебя, претора, если не избавления от смерти, то хотя бы отсрочки казни.
(LXV, 167) Простые незаметные люди незнатного происхождения, путешествуя по морям, приезжают в местности, которых они никогда не видели раньше, где они незнакомы тем, к кому они приехали, и где они не всегда могут сослаться на людей, которые могли бы удостоверить их личность. И все же они, полагаясь на свои права римского гражданства, уверены в своей безопасности не только перед нашими должностными лицами, ответственными и перед законом и перед всеобщим мнением, и не только среди римских граждан, которых объединяют язык, право и общие интересы, но и везде, куда бы они ни приехали. (168) Отними у римских граждан эту надежду, этот оплот; установи за правило, что слова: «Я — римский гражданин» — бесполезны, что претор или любое другое лицо может безнаказанно, под предлогом, что не знает, кто перед ним находится, подвергнуть любой казни человека, называющего себя римским гражданином, и тогда все провинции, все царства, все независимые городские общины[448], одним словом, весь мир, который всегда был открыт и доступен для наших соотечественников, ты, этим своим утверждением, для римских граждан закроешь.
Далее, если Гавий ссылался на римского всадника Луция Реция, который тогда жил в Сицилии, неужели было трудно написать в Панорм? Ты мог отдать Гавия под стражу своим друзьям-мамертинцам, держать его в тюрьме в оковах до приезда Реция из Панорма; если бы он удостоверил личность Гавия, ты мог бы несколько смягчить наказание; если бы оказалось, что он его не знает, тогда ты, если бы признал нужным, мог бы установить правило, что человек, неизвестный тебе и не представляющий надежного поручителя, даже если этот человек — римский гражданин, подлежит казни на кресте.
(LXVI, 169) Но зачем мне продолжать говорить о Гавии, словно ты только Гавию гибель принес, а имени наших граждан, всем им в целом и их правам врагом не был? Не ему, повторяю, был ты недругом, но общему делу свободы. В самом деле, когда мамертинцы, согласно своему обычаю и правилу, стали водружать крест за городом, на Помпеевой дороге[449], зачем понадобилось тебе приказывать, чтобы его водрузили на той части ее, которая обращена к проливу, и прибавлять то, что ты во всеуслышание сказал в присутствии всех и чего ты никак не можешь отрицать: ты выбираешь это место для того, чтобы Гавий, коль скоро он называет себя римским гражданином, мог с креста видеть Италию и смотреть на свой дом? И вот, это был единственный крест, судьи, водруженный в этом именно месте со времени основания Мессаны. Веррес для того и выбрал это место на берегу, обращенном к Италии, чтобы Гавий, умирая в страданиях и мучениях, понял, что между рабским состоянием и правами свободного гражданина лежит только очень узкий пролив, и чтобы Италия видела, что ее питомец подвергнут жесточайшей и позорнейшей казни, предназначенной для рабов. (170) Заковать римского гражданина — преступление; подвергнуть его сечению розгами — злодеяние; убить его, — можно сказать, братоубийство[450], как же назвать мне распятие его?[451] Столь нечестивому поступку нет названия. Но Верресу и всего этого было мало. «Пусть Гавий, — сказал он, — смотрит на свою родину; в виду законов и свободы пусть умирает он!» В этом месте ты не Гавия, ты не первого попавшегося тебе человека [римского гражданина], а всеобщую свободу и наши гражданские права обрек на муки и на распятие. Далее, обратите внимание на безумную дерзость Верреса! Не было ли ему, по вашему мнению, досадно, что этого креста, предназначенного им для римских граждан, он не может водрузить на форуме, на комиции, на рострах?[452] Ведь он выбрал в своей провинции именно такое место, которое многолюдностью своей может более всего напоминать именно эти места и, кроме того, расположено к нам ближе любого другого: он хотел, чтобы памятник его злодейства и дерзости находился в виду Италии, в преддверии Сицилии, на пути всех тех, кто плывет на кораблях в обоих направлениях.
(LXVII, 171) Если бы я захотел скорбеть об этом событии и оплакивать его не в присутствии римских граждан, тех или иных друзей нашего государства, людей, слышавших имя римского народа, наконец, если бы я обращался не к людям, а к диким зверям или даже — чтобы пойти дальше — если бы я в глубине пустынь обратился к скалам и утесам, то даже вся немая и неодушевленная природа была бы потрясена такой страшной, такой возмутительной жестокостью. Но теперь, говоря перед сенаторами римского народа, блюстителями законов, правосудия и права, я не должен сомневаться в вашем приговоре: только один, этот вот гражданин будет признан вами достойным казни на кресте, а ко всем другим она не применима. (172) Совсем недавно, судьи, мы не могли сдержать своих слез, слыша о горестной и незаслуженной казни навархов, и с полным основанием скорбели о несчастье, постигшем наших ни в чем не повинных союзников. Что же должны мы делать теперь, когда проливается наша собственная кровь? Да, надо считать, что все римские граждане связаны друг с другом кровно; ибо этого требует наше всеобщее благополучие и это соответствует истине. Все римские граждане, как присутствующие, так и отсутствующие, где бы они ни находились, требуют от вас суровости, взывают к вашей справедливости, ищут у вас помощи; все их права, благополучие и оплот, наконец, вся их свобода, по их мнению, зависят от вашего приговора.
(173) Хотя я и сделал достаточно много, все же, если исход событий не оправдает моих ожиданий, я сделаю для римских граждан, быть может, больше, чем они просят. Ибо если какая-нибудь сила избавит Верреса от суровости вашего приговора, — хотя я этого не боюсь, судьи, и совершенно не допускаю такой возможности — итак, если окажется, что я ошибся в своих расчетах, тогда сицилийцы, конечно будут сетовать на то, что проиграли свое дело; я вполне разделю их огорчение, а римский народ, так как он дал мне возможность обратиться к нему с речью, своим голосованием, на основании моей жалобы, вскоре отстоит свои права еще до февральских календ[453]. А если вы захотите позаботиться о моей славе и известности, судьи, то я, пожалуй, не имел бы ничего против того, чтобы Веррес был вырван у меня вашим судебным приговором и сохранен для суда римского народа. Блестящее это будет дело, богатое доказательствами и легкое для меня, а народу оно придется по сердцу и будет приятно. Наконец, если кто-нибудь думает, что я пожелал выдвинуться в связи с делом одного Верреса, — к чему я отнюдь не стремился — то в случае его оправдания, которое невозможно без преступлений многих людей[454], я смогу еще более выдвинуться, выступая по многим судебным делам.
(LXVIII) Но, клянусь Геркулесом, для вашей же пользы, судьи, и для блага государства я не хочу, чтобы в этом отобранном совете судей произошло столь позорное событие; не хочу, чтобы эти судьи, одобренные и отобранные мной[455], в случае оправдания Верреса, ходили по этому городу заклейменные, покрытые не воском, а грязью[456]. (174) Поэтому предостерегаю также тебя, Гортенсий, — если только есть какая-нибудь возможность предостерегать с этого места — подумай хорошенько и взвесь, что ты делаешь, куда идешь, кого и на каком основании защищаешь. И я отнюдь не препятствую тебе состязаться со мной твоим дарованием и всем твоим ораторским искусством; но если ты рассчитываешь тайком применить вне суда какие-либо средства [воздействия на суд], если ты думаешь достигнуть чего-нибудь уловками, хитростью, могуществом, влиянием, богатством подсудимого, то я настоятельно советую тебе отказаться от своего намерения, а попытки, уже предпринятые Верресом, но обнаруженные и разгаданные мной, советую тебе пресечь, а в дальнейшем не давать им ходу. Всякий промах в этом судебном деле будет весьма опасен для тебя, более опасен, чем ты думаешь. (175) Если ты полагаешь, что тебе уже нечего бояться мнения людей, так как ты уже занимал почетные должности и являешься избранным консулом[457], то — поверь мне — сохранить эти почести и милости римского народа не менее трудно, чем их снискать. Государство наше, пока могло, пока это было неизбежно[458], терпело вашу, прямо-таки царскую власть в судах и во всех государственных делах[459]; да, оно терпело ее, но в тот день, когда римскому народу были возвращены народные трибуны, вся эта ваша власть — если вы, быть может, этого еще не понимаете — была отнята и вырвана у вас из рук. И теперь, вот в это именно время, глаза всех людей обращены на каждого из нас — честно ли я обвиняю Верреса, добросовестно ли судьи вынесут ему приговор, какими средствами ты его защищаешь. Если кто-либо из нас сколько-нибудь уклонится от прямого пути, то последует не молчаливая оценка нашего поведения, которую вы до сего времени презирали, а строгий и независимый приговор римского народа. (176) Тебя, Квинт[460], не связывают с Верресом ни родство, ни дружеские отношения. Оправданиями, к каким ты однажды старался прибегать, защищая свое несколько излишнее рвение во время одного судебного дела, ты в отношении этого подсудимого воспользоваться не можешь; тебе вот о чем следует всемерно заботиться, чтобы те слова Верреса, которые он во всеуслышание повторил в провинции, — что он позволяет себе все эти злоупотребления, всецело рассчитывая на твою защиту, — чтобы эти слова не оправдались.
(LXIX, 177) Что касается меня, то даже все мои величайшие недоброжелатели, несомненно, полагают, что я долг свой исполнил. Ибо, при первом слушании дела, я в течение нескольких часов добился того, что всеобщее мнение признало Верреса виновным. В дальнейшем речь будет не о моей верности долгу (она во всем видна), не о жизни Верреса (она всеми осуждена), а о поведении судей и, сказать правду, о тебе самом. И при каких обстоятельствах это произойдет? Ведь именно это требует самого пристального внимания; ибо в делах государственных, как и во всех других, очень важно общее положение вещей и направление, в котором развиваются события. Это ведь произойдет в то время, когда римский народ станет привлекать к участию в суде других людей и другое сословие, — после того, как уже объявлен закон о новых судах и судьях[461]. И закон этот объявил не тот человек, от чьего имени он, как вы видите, составлен; нет, этот вот подсудимый, повторяю, этот подсудимый, своими расчетами и мнением, какое у него сложилось о вас, приложил усилия к тому, чтобы этот закон был составлен и объявлен. (178) И вот, когда начиналось первое слушание дела, закон объявлен еще не был; в то время, когда Веррес, встревоженный вашей строгостью, не раз давал понять, почему он не склонен являться в суд, о законе еще не было и речи; но после того как к Верресу, казалось, вернулись силы и уверенность, закон тотчас же был объявлен. Если чувство вашего достоинства всячески противится изданию этого закона, то всего сильнее говорят за него ложные надежды и необычайное бесстыдство Верреса. Если кто-нибудь из вас совершит в этом случае что-нибудь предосудительное, то либо римский народ вынесет свой приговор о таком человеке, которого он уже ранее признал недостойным участвовать в правосудии, либо это сделают те люди, которые станут новыми судьями на основании нового закона и будут судить прежних судей за нарушение правосудия
(LXX, 179) Что касается меня, то, даже если я и не скажу, все равно всякий поймет, что мне необходимо вести дело до конца. Но смогу ли я молчать, Гортенсий, смогу ли притвориться безучастным, когда окажется, что государству нанесена такая глубокая рана, если то, что разорены провинции[462], замучены наши союзники и бессмертные боги ограблены, а римские граждане распяты на крестах и истреблены, пройдет Верресу безнаказанно, несмотря на то, что дело вел я? Смогу ли я сложить с себя столь тяжкое бремя в этом суде или продолжать нести его молча? Не будет ли моим долгом вести преследование, предать дело гласности, умолять римский народ о правосудии, обвинить и привлечь к ответственности и к суду всех тех, которые запятнали себя таким преступлением, что либо сами позволили подкупить себя, утратив честь, либо подкупили судей?
(180) Кто-нибудь, быть может, спросит: «И ты готов взять на себя такой большой труд, навлечь на себя такую сильную неприязнь стольких людей?» Делаю это, клянусь Геркулесом, не по особой склонности и не по доброй воле; но мне нельзя поступать так, как можно поступать тем, кто происходит из знатных родов и кому все милости римского народа достаются во время сна[463]. Совсем по другим правилам и в других условиях приходится мне жить в нашем государстве. Вспоминаю я Марка Катона, мудрейшего и прозорливейшего человека: сознавая, что не происхождение, а доблесть его может расположить к нему римский народ, желая, вместе с тем, чтобы его род приобрел имя, начиная с него, и чтобы это имя стало широко известным, он вступил во вражду с влиятельнейшими людьми и в величайших трудах прожил до глубокой старости с необычайной славой[464]. (181) А впоследствии, разве Квинт Помпей[465], происходя из незначительного и малоизвестного рода, не достиг высших почестей, преодолев неприязнь очень многих людей, величайшие опасности и лишения? Недавно мы были свидетелями того, как Гай Фимбрия[466], Гай Марий[467] и Гай Целий[468] напрягали силы в далеко не легкой борьбе с недругами, чтобы ценой трудов добиться тех почестей, каких вы достигаете шутя и без забот[469]. По этому же самому направлению и пути следую я в своей деятельности; правила этих людей я ставлю себе в пример.
(LXXI) Мы видим, какую зависть и ненависть вызывают у некоторых знатных людей доблесть и трудолюбие новых людей. Сто́ит нам сколько-нибудь ослабить свое внимание — и козни против нас готовы, сто́ит нам дать малейший повод к подозрению или обвинению — и нам тотчас же наносят рану. Мы видим, что нам всегда надо быть настороже, всегда надо трудиться[470]. (182) Нападки надо терпеть, за всякое трудное дело — браться, причем безмолвной и тайной неприязни следует бояться больше, чем объявленной и открытой. Среди знатных людей нашим усилиям, можно сказать, не сочувствует ни один. Снискать их расположение мы не можем никакими заслугами. Они так далеки от нас по своему духу и стремлениям, словно природа создала их не такими, как мы. Сто́ит ли поэтому тревожиться из-за исконной зависти и неприязни, существовавших еще до того, как ты столкнулся с каким-либо проявлением их?
(183) Итак, судьи, я, правда, очень хочу, чтобы мне после этого судебного дела, когда я выполню и свой долг перед римским народом и поручение, возложенное на меня моими друзьями-сицилийцами, уже более никого обвинять не пришлось[471]; но для меня дело решенное: если мое мнение о вас окажется ошибочным, я буду преследовать не только главных виновников подкупа суда, но и людей, запятнанных соучастием в этом подкупе. Итак, если есть люди, которым угодно в деле этого подсудимого проявить свое могущество или дерзость, или свое искусство в подкупе суда, то пусть они будут готовы — когда дело будет разбирать римский народ, — иметь дело со мной; и если они нашли меня достаточно упорным, достаточно настойчивым, достаточно бдительным в деле этого подсудимого, чьим противником сицилийцы поручили мне быть, то пусть они поймут, что по отношению к тем людям, вражду которых я навлеку на себя, служа благополучию римского народа, я буду гораздо более настойчив и более крут.
(LXXII, 184) Теперь я умоляю и призываю тебя, Юпитер Всеблагой Величайший! Принесенный тебе царский дар, достойный твоего великолепного храма, достойный Капитолия — этого оплота всех народов, достойный подарок царя, изготовленный для тебя царями, тебе предназначенный и обещанный, Веррес, совершив нечестивое святотатство, вырвал из рук царя[472]; твою священнейшую и великолепнейшую статую он похитил из Сиракуз; умоляю и призываю тебя, царица Юнона, чьи два священнейших и древнейших храма, находящихся на двух островах наших союзников — на Мелите и на Самосе, тот же Веррес лишил всех даров и украшений; и тебя, Минерва, которую он ограбил также в двух прославленных и глубоко почитаемых храмах: в Афинах, где он похитил огромное количество золота, и в Сиракузах, где он не оставил в целости ничего, кроме кровли и стен; (185) и вас, Латона, Аполлон и Диана, вас, чье святилище на Делосе, нет, даже не святилище, а, как гласит предание, древнюю обитель и божественное жилище этот разбойник ограбил, ворвавшись в него ночью; также и тебя, Аполлон, чье изображение он похитил на Хиосе, и снова и снова, Диана, тебя, ограбленную им в Перге, тебя, чью глубоко чтимую в Сегесте статую, вдвойне священную для сегестинцев — и как предмет религиозного почитания и как победный дар Публия Африканского — он велел снять и увезти; и тебя, Меркурий, чью статую Веррес поставил в доме и на палестре частного лица, а Публий Африканский хотел видеть в городе наших союзников, на гимнасии в Тиндариде, стражем и покровителем юношества; (186) и тебя Геркулес, чью статую в Агригенте Веррес в глухую ночь, набрав шайку вооруженных рабов, пытался сдвинуть с подножия и увезти; и тебя, священнейшая Матерь Идейская[473], которую он в великолепном и глубоко почитаемом храме в Энгии обобрал и оставил в таком виде, что теперь сохранились только имя Публия Африканского и следы святотатства, а памятников победы и храмовых украшений до нас не дошло; и вас, посредники и свидетели всех судебных дел, важнейших совещаний, законодательства и судопроизводства, находящиеся на самой многолюдной площади римского народа, — вас, Кастор и Поллукс[474], чей храм он превратил в источник барыша и бесчестнейшей наживы; и вас, все боги, посещающие — когда вас привозят на тенсах — ежегодные празднества во время игр[475]; ведь это его заботами ваша дорога была устроена и вымощена в соответствии с его выгодой, а не торжественностью обрядов; (187) и вас, Церера и Либера, чьи обряды, по мнению и по верованиям людей, основаны на важнейших и заветнейших священнодействиях, вас, давших и распределивших между людьми и их общинами начала животворной пищи, обычаев и законов, кротости и человечности; вас, чьи обряды римский народ, заимствовав и переняв их у греков, хранит и в своей общественной и в своей частной жизни с таким благоговением, что они уже кажутся перешедшими не от греков к нам, а от нас к другим народам[476], на священнодействия эти один только Веррес посягнул и тяжко оскорбил их, велев снять с цоколя и увезти из святилища в Катине статую Цереры, к которой ни один мужчина не смел прикасаться; нет, даже увидеть ее было нарушением божественного закона; другую статую Цереры он забрал из ее обители в Энне, а это была такая статуя, что люди, видевшие ее, думали, что видят самое Цереру или же изображение Цереры, не созданное человеческими руками, а спустившееся с неба; (188) снова и снова умоляю и призываю вас, глубоко почитаемые богини, обитающие у озер и в рощах Энны, покровительницы всей Сицилии, порученной моей защите; ведь вы дали всему миру обретенные вами хлебные злаки, и все племена и народы благоговейно чтят вашу волю; равным образом умоляю и заклинаю всех других богов и богинь, с чьими храмами и обрядами Веррес, обуянный каким-то нечестивым бешенством и преступной дерзостью, непрерывно вел кощунственную и святотатственную войну: если по отношению к этому обвиняемому и в этом судебном деле все мои помыслы были направлены на благо союзников, на величие римского народа, на мою верность своим обязательствам, если все мои заботы, бессонные ночи и мысли были посвящены только исполнению мной своего долга и служению добру, то пусть те же намерения, какие у меня были, когда я брался за это дело, и та же честность, с какой я его вел, руководят вами при вынесении вами приговора; (189) пусть Гая Верреса за его поистине неслыханные и исключительные деяния, порожденные преступностью, наглостью, вероломством, похотью, алчностью и жестокостью, в силу вашего приговора постигнет конец, достойный такого образа жизни и такого поведения, а наше государство и моя совесть пусть удовольствуются одним этим обвинением, чтобы впредь мне можно было защищать честных людей, а не обвинять преступных.
5. Речь о предоставлении империя Гнею Помпею (О Манилиевом законе) [На форуме, 66 г. до н. э.]
Первое столкновение между Римом и понтийским царем Митридатом VI Евпатором произошло в 92 г. или 91 г., когда этот царь подчинил себе почти всю Малую Азию. Когда он назначил правителя в Каппадокию, Сулла, бывший тогда пропретором Киликии, вытеснил последнего. В 90 г. римляне послали в Малую Азию легата Мания Аквилия, чтобы он восстановил на вифинском престоле царя Никомеда III, изгнанного Митридатом. Митридат не только оказал сопротивление Никомеду и Аквилию, но и захватил самого Аквилия, а в 88 г., в один день, устроил избиение всех римлян и италиков, находившихся в городах и на островах Малой Азии; их погибло около 80.000 человек. Вслед за этим царь подчинил себе острова Эгейского моря и овладел Европейской Грецией. В 87 г. Сулла высадился с войском в Греции и, продвигаясь от Эпира и почти не встречая сопротивления, дошел до Афин, которые взял в 86 г.; он нанес поражение полководцам Митридата под Херонеей и Орхоменом (в Беотии) и вытеснил его в Азию. Марианцы после своей победы в Риме направили против Митридата свои войска под командованием консула 86 г. Луция Валерия Флакка, который вскоре был убит своим легатом Гаем Флавием Фимбрией. Фимбрия, действовавший в Малой Азии, нанес войскам царя ряд поражений. Митридат был вынужден искать мира с Суллой, который, в свою очередь, хотел развязать себе руки для расправы с Фимбрией и своими политическими противниками в Риме. В 85 г. был заключен мирный договор, по которому царь уплатил Риму 3000 талантов контрибуции, выдал 80 военных кораблей и отказался от своих завоеваний. Так закончилась первая война Рима с Митридатом.
В 83 г. легат Суллы, Луций Лициний Мурена, начал военные действия против царя, но был разбит. Митридат обратился к Сулле, и война прекратилась в 82 г. (вторая война с Митридатом).
В 75 г., после смерти вифинского царя Никомеда III Филопатора, Вифиния, по его завещанию, перешла под власть Рима. Это послужило поводом к вторжению Митридата. Консул Марк Аврелий Котта был им разбит, но другой консул 74 г., Луций Лициний Лукулл, впоследствии проконсул Киликии, нанес царю ряд поражений на суше и на море и вытеснил его из его царства. В 71 г. Митридат бежал в Армению к своему зятю, царю Тиграну. В 69 г. Лукулл вторгся в Армению, разбил Тиграна под Тигранокертой и двинулся на его столицу Артаксату, но ввиду мятежа в войске отступил из Армении в Каппадокию. Одному из его легатов Митридат нанес поражение. Консул 67 г. Маний Ацилий Глабрион не мог действовать против Митридата, располагая ненадежным войском Лукулла. Митридат вторгся в Каппадокию и стал угрожать провинции Азии.
В это время Гней Помпей, облеченный чрезвычайными полномочиями для борьбы с пиратами, находился в Киликии. При этих обстоятельствах в 66 г. народный трибун Гай Манилий предложил закон о предоставлении Помпею верховного командования в провинциях Азии, Вифинии и Киликии с правом заключения договоров и союзов, набора войск и неограниченного получения денег из казны. Этот законопроект встретил лишь слабые возражения со стороны нобилитета: Квинт Лутаций Катул и Квинт Гортенсий указывали на его несовместимость с установлениями республики; но сторонники Помпея обратились за поддержкой к народу, у которого Помпей пользовался популярностью после своих побед над пиратами, чье господство на морях не раз вызывало недостаток хлеба в Италии. Как претор, имевший право созывать народные сходки и обращаться к народу с речью, Цицерон произнес речь в защиту законопроекта Манилия. Закон был принят комициями.
(I, 1) Хотя вид вашего многолюдного собрания, квириты[477], был мне всегда дороже всего прочего, а это место[478] всегда казалось мне самым достойным для беседы с вами о делах государственных и самым почетным для обращения к вам с речью, однако вступить на этот путь славы, всегда открытый каждому честному гражданину, мне до сего времени препятствовало не мое нежелание, а правила жизни, установленные мной для себя еще в молодости. Ибо, пока я, считая возможным приносить сюда лишь плоды уже созревшего дарования и неутомимого трудолюбия, еще не решался приблизиться к этому месту, внушающему мне глубочайшее уважение, я полагал, что должен посвящать все свое время своим друзьям в трудные для них времена. (2) Таким образом, с одной стороны, всегда находились люди, защищавшие ваше дело с этого места, а с другой стороны, также и мой честный и бескорыстный труд на пользу частных лиц при опасных для них обстоятельствах был вами высоко оценен и вознагражден щедро. Ведь когда я, вследствие отсрочки комиций, трижды голосами всех центурий[479] был первый объявлен избранным в преторы, мне было легко понять, квириты, как вы сами судите обо мне и как велите поступать другим. Ныне же, когда я обладаю всем тем авторитетом, какой вы пожелали мне дать, предоставляя мне почетную должность, и всей той способностью говорить с народом о делах государства, какую деятельный человек мог приобрести, почти каждый день произнося речи в суде на форуме, я, разумеется, весь свой авторитет, каким только обладаю, употреблю на пользу тех, кому я им обязан, а свое ораторское искусство, если я в нем чего-то достиг, постараюсь показать именно тем людям, которые своим суждением сочли нужным вознаградить меня также и за него. (3) При этом я особенно радуюсь тому, что мне, человеку, не привыкшему выступать с этого места, предоставлена возможность говорить о таком деле, по которому всякий найдет, что́ сказать. Ведь мне предстоит высказаться об изумительной и выдающейся доблести Гнея Помпея. Говоря о ней, легко начать, но трудно кончить. Поэтому мне не следует быть многоречивым, а надо соблюдать меру.
(II, 4) Итак, — дабы начать речь с того же, с чего началось все дело, — тяжкой и опасной войной пошли на ваших союзников и данников два могущественных царя, Митридат и Тигран, которые — первый, будучи оставлен нами в покое, второй, усмотрев вызов с нашей стороны, — сочли, что им представился случай захватить Азию[480]. Римские всадники, весьма уважаемые люди, поместившие большие деньги в дело сбора податей и налогов[481], взимаемых в вашу пользу, получают ежедневно вести из Азии. Пользуясь моими связями с их сословием, они поручили мне при ведении этого общегосударственного дела защитить и их собственные интересы. (5) Им сообщают, что в Вифинии, которая ныне является вашей провинцией[482], сожжено много сел; царство Ариобарзана[483], граничащее с землями ваших данников, все целиком находится во власти врагов; Луций Лукулл, совершив большие подвиги, перестает руководить военными действиями; его преемник[484] недостаточно подготовлен для ведения столь трудной войны; одного только человека настоятельно требуют в императоры[485] и все союзники, и все граждане; только его одного боятся враги, а кроме него — никого.
(6) Каково положение дел, вы видите; теперь подумайте, что же следует делать. Мне кажется, сначала надо поговорить о характере этой войны, затем о ее трудностях и, наконец, о выборе императора.
По характеру своему война эта такова, что вы должны проникнуться и воспламениться желанием довести ее до конца. Дело идет о завещанной вам предками славе римского народа, великой во всех отношениях, но более всего в военном деле; о благополучии наших союзников и друзей, ради которого наши предки вели не одну трудную и тяжкую войну; о самых верных и богатых источниках доходов римского народа, с утратой которых вы лишитесь средств и для радостей мира, и для ведения войны; об имуществе многих граждан, о которых вам следует заботиться как ради них самих, так и в интересах государства.
(III, 7) И так как вы всегда стремились к славе более, чем все другие народы, и жаждали хвалы, то вы должны смыть пятно позора, павшего на вас в первую войну с Митридатом; глубоко въелось это пятно и слишком долго лежит оно на имени римского народа: ведь тот, кто в один день одним своим приказанием, по одному условному знаку перебил и предал жестокой казни всех римских граждан во всей Азии, в стольких ее городских общинах, до сего времени не только не понес кары, достойной его злодеяния, а царствует уже двадцать третий год с того времени, мало того, что царствует, — не хочет более скрываться в Понте и в каппадокийских дебрях; нет, он переступил пределы царства своих отцов и находится теперь на землях ваших данников, в самом сердце Азии. (8) И в самом деле, наши императоры воевали с этим царем так, что возвращались домой со знаками победы, но не с само́й победой. Справил триумф Луций Сулла, справил триумф по случаю победы над Митридатом и Луций Мурена[486], оба — храбрейшие мужи и выдающиеся императоры; но они справили свои триумфы так, что Митридат, отброшенный и побежденный, продолжал царствовать. Впрочем, этих императоров все же можно похвалить за то, что́ они сделали, и простить им то, чего они не доделали: Суллу отозвали в Италию с войны дела государственные, а Мурену — Сулла.
(IV, 9) Между тем Митридат воспользовался предоставленным ему временем не для того, чтобы заставить вас позабыть о минувшей войне, а для того, чтобы подготовиться к новой. Построив и оснастив сильный флот и набрав многочисленные полчища из всех племен, из каких он только мог, он, под предлогом похода против своих соседей, жителей Боспора[487], до самой Испании разослал послов с письмами к военачальникам, с которыми мы тогда воевали[488], — с тем, чтобы война происходила в двух местах, сильно удаленных одно от другого и лежащих в противоположных концах вселенной, на суше и на море, и велась по одному плану двумя неприятельскими войсками, а вы должны были сражаться за римскую державу, разделив свои силы и направив их в противоположные стороны. (10) Но опасность на одном направлении и притом гораздо более страшную и грозную — со стороны Сертория и Испании — удалось отразить благодаря разумным решениям Гнея Помпея, внушенным ему богами, и его выдающейся доблести. Что касается другой стороны, то Луций Лукулл, выдающийся муж, так руководил там военными действиями, что его успехи в начале войны, большие и славные, следует приписывать не его военному счастью, а его мужеству, а недавние события — объяснять не его виной, а случайностью, Впрочем, о Лукулле, квириты, я буду говорить в другом месте и при этом постараюсь не умалить в своей речи его подлинных заслуг и не приписать ему мнимых; (11) но подумайте о том, чего требуют величие и слава вашей державы (ведь с этого я и начал свою речь); это и должно вас воодушевлять.
(V) Предки наши не раз объявляли войну за небольшие оскорбления, нанесенные нашим торговцам и судовладельцам[489]. А вы? Как же должны отнестись вы к убийству стольких тысяч римских граждан, совершенному по одному приказанию и одновременно? За высокомерное обращение к нашим послам отцы ваши повелели разрушить Коринф, светоч всей Греции[490], а вы примиритесь с безнаказанностью царя, который держал в тюрьме, избивал и зверски замучил посла римского народа и консуляра? Они не потерпели ограничения свободы римских граждан, а вы оставите без внимания то, что их лишили жизни? Они преследовали за оскорбленное одним словом право посольства, а вы оставите без последствий мучительную казнь посла? (12) Смотрите, в то время как для наших предков было великой заслугой передать вам нашу державу столь славной, как бы для вас не оказалось величайшим позором то, что вы не в силах защитить и сохранить полученное вами.
А что должны вы испытывать в связи со страшной опасностью, какой подвергаются жизнь и достояние наших союзников? Из своего царства изгнан царь Ариобарзан, союзник и друг римского народа. Всей Азии грозит вторжение двух царей, не только ваших заклятых врагов, но и врагов ваших союзников и друзей. Величайшая опасность заставляет все городские общины во всей Азии и Греции обратиться за помощью к вам; они не решаются просить вас о назначении того императора, которого они желают (особенно теперь, когда вы уже отправили к ним другого); они опасаются, что это может навлечь на них величайшие испытания. (13) Подобно вам, они сознают и чувствуют, что только один муж соединяет в себе все качества в самой высокой степени, знают, что он находится близко от них, и тем больнее чувствуют отсутствие поддержки с его стороны. Они понимают, что уже один его приезд и его имя — хотя он приезжал для ведения войны на море — сдержали и замедлили вторжение врагов. Так как им нельзя говорить свободно, то своим молчанием они просят вас признать и их достойными того же, чего вы признали достойными союзников в других провинциях, благополучие которых вы вверяете столь выдающемуся мужу. И они просят вас об этом тем настоятельнее, что мы обычно посылаем в провинцию облеченными империем таких людей, что — даже если они и защищают ее от врага — все же их приезд в города союзников мало чем отличается от захвата врагом; Помпей же, как они ранее знали по слухам, а теперь убедились сами, так воздержан, так мягок, так добр, что люди считают себя тем счастливее, чем долее он у них остается.
(VI, 14) Итак, если наши предки за одних лишь своих союзников, сами не будучи оскорблены, воевали с Антиохом, с Филиппом, с этолянами, с пунийцами[491], то с каким же рвением следует вам, отвечая на оскорбления, нанесенные вам, защищать, наряду с неприкосновенностью союзников, достоинство своей державы — тем более, что дело идет о ваших важнейших податях! Ведь податей, получаемых в других провинциях, квириты, едва хватает на оборону самих провинций; Азия же так богата и так плодородна, что и тучностью своих полей, и разнообразием своих плодов, и обширностью своих пастбищ, и обилием всех предметов вывоза намного превосходит все другие страны. Итак, эту провинцию, квириты, — если только вы хотите сохранить возможность воевать с успехом и с достоинством жить в условиях мира — вы должны не только защитить от несчастий, но и избавить от страха перед ними. (15) Ведь в других случаях убыток несут тогда, когда несчастье уже произошло; но в деле взимания податей не одна только уже случившаяся беда, но и самый страх перед ней приносит несчастье. Ибо, когда вражеское войско находится невдалеке, то, даже если оно еще не совершило вторжения, люди все же оставляют пастбища, бросают свои поля, а торговое мореплавание прекращается. Так пропадают доходы и от пошлин в гаванях, и от десятины, и с пастбищ[492]. Поэтому один лишь слух об опасности и один лишь страх перед войной не раз лишал нас доходов целого года. (16) Как же, по вашему мнению, должны быть настроены и наши плательщики податей и налогов и те, кто их берет на откуп и взимает, когда поблизости стоят два царя с многочисленными войсками, когда один набег конницы может в самое короткое время лишить их доходов целого года, когда откупщики считают большой опасностью для себя присутствие многочисленных рабов, которых они держат на соляных промыслах, на полях, в гаванях и на сторожевых постах? Думаете ли вы, что сможете пользоваться всем этим, не защитив тех людей, которые приносят вам эту пользу, и не избавив их не только, как я уже говорил, от несчастья, но даже от страха перед несчастьем?
(VII, 17) Наконец, мы не должны оставлять без внимания также и то, чему я отвел последнее место, когда собирался говорить о характере этой войны: речь идет об имуществе многих римских граждан, о которых вы, квириты, как люди разумные, должны особенно заботиться. Во-первых, в ту провинцию перенесли свои дела и средства откупщики, почтеннейшие и виднейшие люди, а их имущество и интересы уже сами по себе заслуживают вашего внимания. И право, если мы всегда считали подати жилами государства, то мы по справедливости назовем сословие, ведающее их сбором, конечно, опорой других сословий. (18) Затем, предприимчивые и деятельные люди, принадлежащие к другим сословиям[493], отчасти сами ведут дела в Азии, — и вы должны заботиться о них в их отсутствие — отчасти поместили большие средства в этой провинции[494]. Следовательно, вы по своей доброте должны уберечь своих многочисленных сограждан от несчастья, а по своей мудрости должны понять, что несчастье, угрожающее многим гражданам, не может не отразиться на положении государства. И в самом деле, мало толку говорить, что вы, не защитив откупщиков, впоследствии, путем победы, вернете себе эти доходы; ведь у прежних откупщиков, уже разорившихся, не будет возможности снова взять их на откуп на торгах, а у новых — охоты браться за это дело из-за боязни. (19) Далее, то, чему нас в начале войны в Азии научили та же Азия и тот же Митридат, мы, уже наученные несчастьем, должны твердо помнить: когда очень многие люди потеряли в Азии большие деньги, в Риме, как мы знаем, платежи были приостановлены и кредит упал. Ибо многие граждане одного и того же государства не могут потерять свое имущество, не вовлекая в это несчастье еще большего числа других людей. Оградите наше государство от этой опасности и поверьте мне и своему собственному опыту: кредит, существующий здесь, и все денежные дела, которые совершаются в Риме, на форуме тесно и неразрывно связаны с денежными оборотами в Азии; крушение этих последних нанесет первым такой сильный удар, что они не могут не рухнуть. Решайте поэтому, можно ли вам еще сомневаться в необходимости приложить все свои заботы к ведению этой войны, во время которой вы защищаете славу своего имени, неприкосновенность союзников, свои важнейшие государственные доходы, благосостояние многих своих сограждан, тесно связанное с интересами государства.
(VIII, 20) Так как о характере этой войны я уже сказал, то я скажу теперь коротко о том, как трудно ее вести. Ведь мне могут сказать, что она по своему характеру настолько необходима, что ее вести действительно следует, но не так трудна, чтобы ее приходилось страшиться. Здесь мне надо особенно постараться, чтобы не показалось вам пустяками то, что требует величайшего внимания. А дабы все поняли, что я воздаю Луцию Лукуллу всю похвалу, какой он заслуживает как храбрый муж, многоопытный человек и великий император, я утверждаю, что ко времени его приезда Митридат располагал многочисленными войсками, снабженными всем необходимым и подготовленными к войне, и что полчища Митридата во главе с ним самим обложили Кизик — один из наиболее известных и самых дружественных нам городов Азии — и подвергли его ожесточенной осаде[495], что Луций Лукулл, благодаря своему мужеству, настойчивости и продуманным действиям, избавил этот город от величайших опасностей, связанных с осадой; (21) что этот же император разбил и уничтожил большой и хорошо снаряженный флот, который с военачальниками Сертория во главе рвался к берегам Италии, горя яростью и ненавистью; что, кроме того, большие военные силы врагов были уничтожены во многих сражениях, и нашим легионам была открыта дорога в Понт, до того времени со всех сторон недоступный для римского народа; что Лукулл сразу же, по прибытии, взял города Синопу и Амис, где находились царские дворцы, пышно разукрашенные и переполненные всякими сокровищами, и занял очень много других городов Понта и Каппадокии, и что царь, лишившись царства своего отца и своих дедов, как проситель обратился к другим царям и к другим народам[496]; и что все эти подвиги были совершены без убытка для союзников и без ущерба для поступления налогов и податей. В этом, полагаю я, заключается очень веская похвала, квириты, которая должна убедить вас в том, что ни один из хулителей защищаемого мной закона и дела не воздал Луцию Лукуллу с этого места подобной хвалы.
(IX, 22) Теперь, быть может, спросят, почему же, если это все так, предстоящая нам война может быть столь важной. Выслушайте, квириты, мое объяснение; ведь об этом спрашивают, пожалуй, не без оснований. Во-первых, Митридат бежал из своего царства так, как некогда из того же Понта, по преданию, бежала Медея; она, говорят, во время своего бегства разбросала члены своего брата в той местности, по которой ее должен был преследовать отец, — для того, чтобы разыскивание их и родительское горе замедлили быстроту преследования. Так и Митридат, во время своего бегства, целиком оставил в Понте груды золота, серебра и драгоценностей, которые он и получил в наследство от своих предков, и сам награбил в прошлую войну в Азии и свез в свое царство. Пока наши солдаты слишком усердно собирали эти сокровища, сам царь ускользнул у них из рук. Так, отцу Медеи помехой в преследовании было горе, нашим войскам — ликование. (23) Бежавший в страхе Митридат нашел приют у Тиграна, царя Армении, который поднял его упавший дух, вернул ему утраченную бодрость и оживил в нем его былые надежды[497]. После того как Луций Лукулл вошел с войском в пределы его царства, множество племен выступило против нашего императора. Ибо этим народам, против которых римский народ никогда не считал нужным предпринимать военные или какие-либо другие действия, был внушен страх; ведь среди варваров был пущен устрашающий слух, сильно взволновавший их, — будто наше войско введено в эту страну с целью разграбления их богатейшего и благоговейно чтимого храма[498]. И вот, многие сильные племена поднимались, охваченные небывалым ужасом и страхом. А наше войско, хотя и овладело городом в царстве Тиграна и выиграло несколько сражений, все же стало испытывать тревогу из-за необычайной отдаленности этих мест, тоскуя по своим близким. (24) Продолжать об этом не буду; дело кончилось тем, что наши солдаты вместо дальнейшего продвижения потребовали немедленного отступления[499]. Митридат же тем временем привел в порядок свои войска и получил значительную поддержку в лице людей, собравшихся к нему из его царства, и в виде вспомогательных сил, присланных ему многими царями и народами. Как известно, обычно бывает так: несчастья, случившиеся с царями, во многих людях вызывают сострадание и деятельное участие, в особенности же в тех, которые или сами являются царями или живут под царской властью, так что царское имя кажется им великим и священным. (25) Поэтому Митридат, побежденный, смог совершить то, чего он до своего поражения никогда не посмел бы и желать. Ибо он, возвратившись в свое царство, не удовлетворился неожиданным даром счастья, позволившего ему вновь ступить на землю, из которой он был изгнан, а совершил нападение на наше прославленное и победоносное войско. Позвольте мне здесь, квириты, по примеру поэтов, излагающих историю Рима[500], умолчать о нашем несчастье, которое было столь тяжелым, что императору принес эту весть не гонец с поля битвы, а молва[501]. (26) Тут, среди этих несчастий, потерпев сильнейшее поражение, Луций Лукулл, который, быть может, еще мог бы до некоторой степени поправить дела, по вашему повелению, — так как вы, следуя древнейшему обычаю, сочли нужным ограничить продолжительность его империя — уволил солдат, срок службы которых уже истек, а оставшихся передал Манию Глабриону. Я нарочно обхожу молчанием многие другие обстоятельства, но вы сами догадываетесь о них и понимаете, как трудна должна быть война, которую соединенными силами ведут могущественные цари, возобновляют уже восставшие против нас народы, начинают еще не затронутые войной племена, берет на себя новый император, присланный нами после поражения нашего прежнего войска.
(X, 27) Мне кажется, я объяснил достаточно ясно, почему эта война по своему характеру необходима, а по своей трудности опасна. Мне остается сказать о выборе императора для ведения этой войны и для руководства столь трудным делом.
О, если бы к вашим услугам, квириты, было так много храбрых и честных мужей, что вам было бы трудно решить, кому именно можно поручить столь важную задачу и ведение столь трудной войны! Но теперь, когда Гней Помпей является единственным человеком, мужеством своим затмившим славу не только своих современников, но также и тех, о ком повествуют предания старины, что может при решении этого вопроса вызвать сомнения у кого бы то ни было? (28) По моему мнению, выдающийся император должен обладать следующими четырьмя дарами: знанием военного дела, доблестью, авторитетом, удачливостью.
Итак, существовал ли когда-либо или мог ли существовать человек, который бы знал военное дело лучше, чем Помпей? Ведь он еще совсем юным, оставив школу и ученье, во время труднейшей войны со свирепым врагом отправился к войску своего отца для прохождения военной службы. К концу своей юности он был солдатом в войске выдающегося императора, а еще очень молодым сам был императором над многочисленным войском[502]. Он чаще сражался на поле брани с врагом, чем другие состязались перед судом со своими недругами; больше войн знает по личному участию в них, чем другие — по описаниям в книгах; выполнил больше государственных поручений, чем другие желали выполнить; в своей юности изучал военное искусство не по чужим наставлениям, а начальствуя сам, не на поражениях, а на победах, считая не годы службы, а триумфы[503]. Была ли, наконец, какая-либо война, в которой судьбы государства не подвергли бы его испытанию? Войны гражданская, африканская, трансальпийская, испанская, война с рабами, война на море, различные и по своим особенностям и по характеру врагов, он не только вел сам. но и удачно закончил, а это доказывает, что в военном деле нет ни одной области, которая бы могла быть неизвестна этому мужу[504].
(XI, 29) Далее, что касается доблести Гнея Помпея, то возможно ли подобрать подобающие ей слова? Можно ли привести что-нибудь такое, что было бы достойно Помпея, или ново для вас, или неизвестно кому бы то ни было? Ведь он обладает не одними только доблестями, которые обычно считаются свойственными императору, — выдержкой при трудностях, храбростью в опасностях, настойчивостью в начинаниях, быстротой в действиях, разумной предусмотрительностью. Этими качествами он один превосходит всех других императоров, каких мы видели и о каких слыхали (30) Свидетельницей этому Италия, которая, по признанию самого победителя, Луция Суллы, была освобождена благодаря доблестной поддержке Помпея; свидетельницей этому Сицилия, которую он избавил от опасностей, угрожавших ей отовсюду, не ужасами войны, а быстротой своих решений; свидетельницей этому Африка, которая, до того находившаяся под пятой огромных полчищ врагов, была напоена их же кровью; свидетельницей этому Галлия, через которую он открыл нашим легионам путь в Испанию, истребив галлов; свидетельницей этому Испания, не раз видевшая поражение и уничтожение множества врагов его рукой; свидетельницей этому уже не в первый раз та же Италия, которая, страдая от ужасной и опасной войны с рабами, призвала его на помощь из чужих краев, причем в этой войне от одного ожидания приезда Помпея наступило успокоение и затишье, а после его прибытия она была закончена и позабыта. (31) Свидетельствуют об этом еще и поныне все страны и все живущие в них племена и народы, наконец, все моря — как в своей совокупности, так и все заливы и гавани на каждом побережье. И в самом деле, какое место на всем море обладало за последние годы достаточно сильной охраной, чтобы быть в безопасности и было в такой степени удалено, чтобы оставаться скрытым? Кто пускался в морское плавание, не рискуя жизнью или свободой, так как приходилось плыть либо зимой, либо по морю, кишащему пиратами? Кто мог подумать, что эта столь трудная, столь позорная война, ведущаяся уже давно[505], столь широко распространившаяся и охватившая самые различные участки, могла быть закончена всеми императорами в один год или же в течение всей жизни одним императором? (32) Какая из ваших провинций в течение последних лет была недосягаема для морских разбойников? Какие ваши подати были в безопасности? Кого из союзников вы защитили? Кому послужили оплотом ваши морские силы? Как велико, по вашему мнению, было число покинутых жителями островов, как велико было число союзных городов, покинутых их населением из страха или захваченных морскими разбойниками?
(XII) Но зачем упоминать мне о том, что произошло в дальних краях? Ведь это было искони, было всегда в обычае римского народа — сражаться вдали от родины и передовыми отрядами нашей державы защищать благополучие наших союзников, а не свой кров. Говорить ли мне о том, что для наших союзников в течение последних лет море было недоступным, так как наши войска должны были каждый раз дожидаться в Брундисии переправы, возможной только глубокой зимой? Стоит ли мне сетовать на то, что те, кто приезжал к нам от имени чужеземных народов, попадали в плен, когда нам пришлось выкупать из плена послов римского народа? Говорить ли мне о том, что море не было безопасным для торговцев, когда во власть пиратов попало двенадцать секир?[506] (33) Упоминать ли мне о захвате знаменитых городов Книда, Колофона, Самоса и бесчисленного множества других, когда ваши собственные гавани и притом те, благодаря которым вы живете и дышите, как вы знаете, были во власти морских разбойников? Или вы действительно не знаете, что широко известная и переполненная кораблями гавань Канеты была разграблена морскими разбойниками на глазах у претора, а из Мисена морскими разбойниками были похищены дети того самого человека, который ранее вел войну против морских разбойников?[507] Следует ли мне сетовать на несчастье в Остии и на это позорное для государства пятно, когда флот, над которым начальствовал консул римского народа, почти у вас на глазах был захвачен и уничтожен морскими разбойниками?[508] О, бессмертные боги! Подумать только — необычайная, вернее, ниспосланная богами доблесть одного человека в столь короткое время могла принести государству такой яркий свет, что вы, недавно видевшие вражеский флот у входа в устье Тибра, не слышите ни об одном пиратском корабле даже перед входом в Океан?[509] (34) И с какой быстротой это было совершено! Хотя вы и сами это знаете, все же я в своей речи не должен об этом умалчивать. И в самом деле, кто когда-либо, путешествуя по собственным делам или в погоне за наживой, мог в столь короткое время посетить столько местностей, совершить такие длинные переходы так быстро, как это под водительством Гнея Помпея делал наш военный флот?[510] Не дождавшись удобного для мореплавания времени[511], Помпей посетил Сицилию, обследовал побережье Африки, оттуда во главе флота направился в Сардинию и защитил эти три житницы государства надежнейшими гарнизонами и флотами. (35) Когда он оттуда возвратился в Италию, снабдив гарнизонами и кораблями обе Испании и Трансальпийскую Галлию и отправив корабли к берегам Иллирийского моря, в Ахайю и во всю Грецию, он обеспечил оба моря Италии сильнейшими флотами и надежнейшими гарнизонами. Сам он на сорок девятый день после своего выхода из Брундисия присоединил к державе римского народа всю Киликию. Все морские разбойники, где бы они ни находились, либо были взяты в плен и казнены, либо сдались ему одному, признав над собой его империй и власть. Критян, когда они прислали к Помпею в самую Памфилию послов с просьбой о пощаде, он не лишил надежды на возможность сдачи и потребовал от них заложников[512]. Так, эту столь трудную, столь затяжную, столь далеко и широко распространившуюся войну, от которой страдали все племена и народы, Гней Помпей в конце зимы подготовил, с наступлением весны начал, в середине лета закончил.
(XIII, 36) Вот какова ниспосланная свыше необычайная доблесть этого императора. А его другие качества, о которых я уже говорил, сколь велики они и сколь многочисленны! Ведь не одной лишь воинской доблести следует требовать от выдающегося и высокоопытного императора; есть много других особых качеств, помогающих и сопутствующих этой доблести. Каким, прежде всего, бескорыстием должны отличаться императоры, какой воздержанностью во всех отношениях, какой честностью, какой доступностью, каким умом, какой человечностью! Рассмотрим вкратце, насколько Гней Помпей обладает этими качествами. Все они присущи ему в самой высокой степени, квириты, но их легче узнать и понять, сравнив их с качествами других императоров, а не рассматривая их сами по себе.
(37) И в самом деле, каким человеком можем мы считать императора, в чьем войске продавались и продаются должности центурионов? Можно ли предположить великие и возвышенные замыслы о благе государства у человека, который деньги, полученные ими из эрария на военные нужды, либо роздал должностным лицам, чтобы сохранить за собой наместничество, либо же, по своей алчности, оставил в Риме, чтобы их отдали в рост?[513] Ваш ропот, квириты, показывает, что вы знаете тех, которые так поступали; сам я никого не называю, и поэтому никто не сможет на меня сердиться, если только не захочет сам себя выдать. А какие несчастья, именно вследствие этой алчности императоров, приносят наши войска, куда бы они ни вошли! Кто этого не знает?[514] (38) Вспомните только, каковы были в течение последних лет походы наших императоров в пределах Италии, через земли и города римских граждан; тогда вам будет легче себе представить, что́ происходит в чужих странах. Как вы думаете, чего больше — вражеских ли городов, за последнее время уничтоженных оружием ваших солдат, или городских общин союзников, разоренных пребыванием солдат на зимних квартирах? Ведь не может сдерживать свое войско император, который не сдерживается сам; не может быть строгим судьей тот, кто не хочет, чтобы его судили строго другие. (39) Можем ли мы после этого удивляться решительному превосходству этого человека над всеми другими, когда от перехода его легионов в Азию не пострадал ни один мирный житель, не говорю уже — от руки такого огромного войска, но от его следов? Более того, как ведут себя его солдаты на зимних квартирах, мы узнаем каждый день и по слухам и из писем; не говорю уже о том, что никого не принуждают нести расходы на содержание солдат; этого не позволяют и желающим: по заветам наших предков, убежищем от зимней стужи, но не убежищем для алчности должен быть кров наших союзников.
(XIV, 40) А теперь обратите внимание на его воздержность в других отношениях. Откуда, по вашему мнению, взялась у него эта быстрота, эта столь необычная скорость при передвижениях? Ведь не какая-либо исключительная сила гребцов, не искусство небывалое кормчих, не ветры, неизвестные ранее, так быстро перенесли его в самые отдаленные страны. Нет, он просто не задерживался из-за того, что обычно заставляет других полководцев замедлять свой путь. Его не отвлекла от намеченного им себе пути ни алчность к добыче, ни жажда наслаждений, ни красота страны — ради удовольствий, ни известность городов — ради ознакомления с ними, ни, наконец, усталость — ради отдыха[515]; на статуи и картины и на прочие украшения греческих городов, которые другие должностные лица считают себя вправе увозить, он не счел для себя позволительным даже взглянуть. (41) Вот почему все люди там теперь смотрят на Гнея Помпея, как на человека, не присланного к ним из нашего города, а спустившегося с небес; только теперь они начинают верить, что в древности действительно существовали римляне, отличавшиеся такой необычайной воздержностью, а прежде все это казалось чужеземным народам невероятными и старинными россказнями; только теперь блеск вашей державы начал приносить свет этим племенам; только теперь они поняли, что их предки в те времена, когда наши должностные лица отличались такой сдержанностью, не без основания предпочли покорность римскому народу господству над другими племенами. Далее, доступ к нему настолько легок для частных лиц, ему можно так свободно пожаловаться на нанесенную обиду, что он, превосходящий своим положением всех именитейших людей, по своей доступности кажется равным самым незначительным. (42) Что касается его ума, убедительности и богатства его ораторской речи[516], — а именно в этом тоже кроется, так сказать, некое достоинство императора — то вы, квириты, не раз могли оценить их, когда он говорил с этого самого места. А каким уважением пользуется среди наших союзников его верность своему слову! Ведь решительно все наши враги признали ее непоколебимой. Доброжелательность его так велика, что трудно сказать, более ли боялись враги его мужества, сражаясь против него, или же ценили его мягкосердечие, будучи им побеждены. Станет ли кто-нибудь еще сомневаться, следует ли поручить ведение этой столь трудной войны человеку, по промыслу богов, видимо, рожденному для того, чтобы завершать все войны нашего времени?
(XV, 43) Ввиду того, что при руководстве военными действиями и осуществлении военного империя[517] большое значение имеет авторитет, никому, конечно, не придет в голову сомневаться, что этот император — первый и в этом отношении. Кому неизвестно, насколько важно для руководства военными действиями мнение врагов и мнение союзников о наших императорах? Ведь мы знаем, что при столь важных обстоятельствах слухи и молва не менее, чем доводы рассудка, заставляют людей бояться или презирать, ненавидеть или любить. Какое же имя было когда-либо более прославлено во всем мире? Чьи деяния равны деяниям Помпея? О ком вы — а это придает наибольший авторитет — принимали столь важные и столь почетные решения? (44) Найдется ли где-либо страна, куда, как бы пустынна она ни была, не дошла молва о том дне, когда римский народ, наводнив форум и заполнив все храмы, из которых возможно видеть это место[518], потребовал, чтобы его императором в войне, в этом общем деле всех народов, был именно Гней Помпей? Итак, чтобы мне не говорить слишком много и не ссылаться на примеры из деятельности других полководцев в доказательство значения авторитета во время войны, приведем примеры разных выдающихся подвигов самого Помпея. Ведь в тот день, когда ему как императору была поручена война на море, одной надежды на него, одного его имени оказалось достаточно, чтобы крайняя нехватка и дороговизна хлеба сразу сменились такой дешевизной его, какую едва ли мог бы принести длительный мир при богатейшем урожае. (45) Затем, когда, после постигшего нас в Понте несчастья[519], о котором я, против своего желания, несколько ранее вам напомнил, наших союзников охватил страх, когда силы врагов и их уверенность в себе возросли, а провинция не имела достаточно надежной защиты, вы потеряли бы Азию[520], квириты, если бы в то грозное время счастливая судьба римского народа, по промыслу богов, не привела Гнея Помпея в те страны. Его приезд сдержал пыл Митридата, возгордившегося непривычной для него победой, и замедлил движение Тиграна, чьи полчища угрожали Азии. И кто усомнится в том, какие подвиги совершит своей доблестью человек, который уже совершил так много своим авторитетом? Кто усомнится в легкости, с какой он, обладая империем и находясь во главе войска, сохранит невредимыми наших союзников и сбережет наши подати и налоги, когда одного его имени и молвы о нем было достаточно, чтобы их защитить?
(XVI, 46) Вот вам еще одно свидетельство того, сколь большим уважением пользуется Гней Помпей у врагов римского народа: они, находившиеся в таких удаленных и так далеко отстоящих одно от другого местах, в столь короткое время все сдались ему одному; послы от союза городских общин Крита, хотя на их острове находился наш император с войском[521], приехали к Гнею Помпею чуть ли не на край света и заявили, что все городские общины Крита хотят сдаться именно ему. А разве тот же Митридат не отправил к тому же Гнею Помпею посла в самую Испанию? Правда, в том человеке, которого Помпей всегда считал послом, некоторые люди, недовольные тем, что он был прислан именно к Помпею[522], предпочли видеть не посла, а соглядатая. Итак, вы уже теперь можете себе представить, квириты, как велик будет его авторитет, еще возросший благодаря многим его подвигам и вашим важным решениям, в глазах обоих царей, как велик будет он среди чужеземных народов.
(47) Мне остается робко и кратко — так людям подобает говорить о мощи богов — упомянуть об удачливости[523] Гнея Помпея; ведь ее никто не может приписывать себе самому, но мы можем помнить и говорить о ней, когда это касается другого человека. По моему убеждению, Максиму, Марцеллу, Сципиону, Марию[524] и другим великим императорам много раз вручали империй и вверяли войска не только ввиду их доблести, но и ввиду их счастливой судьбы. Несомненно, что некоторым выдающимся мужам, ради их высокого положения, ради их славы, ради удачного совершения ими важных дел, действительно было, по промыслу богов, ниспослано и особое счастье. Но я, говоря об удачливости того, о ком сейчас идет речь, выражусь осторожно: не стану говорить, что судьба ему подвластна, но постараюсь показать, что мы помним прошлое и надеемся на будущее, дабы бессмертные боги не сочли моих слов ни дерзостными, ни неблагодарными. (48) Поэтому не стану говорить подробно о деяниях, совершенных им в Риме и во время походов, на суше и на море, о счастье, которое сопутствовало ему, так что не только всегда соглашались с его решениями сограждане, им не только повиновались союзники и покорялись враги, но и помогали ветры и бури. Скажу все в немногих словах: не было никогда столь бесстыдного человека, который бы дерзнул тайком молить бессмертных богов о ниспослании ему стольких и таких исключительных успехов, какие они даровали Гнею Помпею. Желать и молить, чтобы эта милость богов ему постоянно сопутствовала как ради нашего общего блага и ради нашей державы, так и ради него самого — вот что вы должны делать, квириты; так вы и поступаете.
(49) Итак, коль скоро война настолько необходима, что ее нельзя оставлять без внимания, настолько трудна, что ведение ее требует величайшей тщательности, и коль скоро вы можете поручить ведение ее императору, соединяющему в себе выдающееся знание военного дела, редкостную доблесть, прославленный авторитет, исключительное счастье, станете ли вы еще сомневаться, квириты, обратить ли вам то, что ниспослано и даровано вам бессмертными богами, на благо и величие государства? (XVII, 50) Даже если бы Гней Помпей в настоящее время жил в Риме в качестве частного лица, все же, ввиду важного значения этой войны, его следовало бы назначить полководцем и послать в поход; но теперь, когда к другим величайшим преимуществам присоединяется и то благоприятное обстоятельство, что он находится именно там, сам имеет войско и может немедленно принять войска от их нынешних начальников[525], — чего мы ждем? Вернее, почему человеку, которому мы, под водительством бессмертных богов, к величайшему счастью для государства, поручали ведение других войн, мы не поручаем ведения также и этой войны с царями?
(51) Но, скажут нам, прославленный и глубоко преданный государству муж, удостоенный вами величайших милостей, Квинт Катул, а также человек, обладающий величайшими достоинствами, почетным положением, богатством, мужеством и дарованием, Квинт Гортенсий, придерживаются противоположного мнения[526]. Их авторитет во многих случаях был очень велик и должен быть велик в ваших глазах; я это признаю; но в этом деле, хотя вам и известны противоположные суждения храбрейших и прославленных мужей, мы все же, оставив эти мнения в стороне, можем узнать истину на основании самих событий и соображений разума и тем легче, что именно эти люди признают справедливость всего сказанного мной ранее — и что война необходима, и что она трудна, и что только один Гней Помпей сочетает в себе все выдающиеся качества. (52) Что же говорит Гортенсий? Если надо облечь всей полнотой власти одного человека, то, по мнению Гортенсия, этого наиболее достоин Помпей, но все же предоставлять всю полноту власти одному человеку не следует. Устарели уже эти речи, отвергнутые действительностью в гораздо большей степени, чем словами. Ведь именно ты, Квинт Гортенсий, со всей силой своего богатого и редкостного дарования, убедительно и красноречиво возражал в сенате храброму мужу, Авлу Габинию, когда он объявил закон о назначении одного императора для войны с морскими разбойниками, и с этого самого места ты весьма многословно говорил против принятия этого закона. (53) И что же? Клянусь бессмертными богами, если бы тогда римский народ придал твоему авторитету больше значения, чем своей собственной безопасности и своим истинным интересам, разве мы сохраняли бы и поныне нашу славу и наше владычество над миром? Или это, по твоему мнению, было владычество — тогда, когда послов римского народа, его квесторов и преторов брали в плен[527], когда ни одна провинция не могла посылать нам хлеб ни частным путем, ни официально; когда все моря были для нас закрыты, так что мы уже не могли ездить за море ни по личным, ни по государственным делам?
(XVIII, 54) Существовало ли когда-либо ранее государство, — не говорю ни об Афинах, некогда властвовавших на значительном пространстве моря, ни о Карфагене, обладавшем могущественным флотом и сильном на морях, ни о Родосе, и поныне славящемся искусством мореплавания, — повторяю, существовал ли ранее город или островок, который был бы так бессилен, что не мог бы защитить сам свои гавани, земли и некоторую часть страны и побережья? Но, клянусь Геркулесом, в течение целого ряда лет, до издания Габиниева закона, тот самый римский народ, чье имя, вплоть до нашего времени неизменно считалось непобедимым на море, утратил значительную, вернее, наибольшую часть не только своих выгод, но и своего достоинства и державы. (55) Мы, чьи предки одержали на море победу над царями Антиохом и Персеем[528], и во всех морских боях разбили карфагенян, как они ни были искусны и испытаны в морском деле, мы уже не могли помериться силами с пиратами. Мы, кто ранее не только охранял безопасность Италии, но, благодаря значительности своей державы, мог поручиться за благополучие всех своих союзников на самых отдаленных окраинах, — в то время как остров Делос, лежащий так далеко от нас в Эгейском море, куда из всех стран съезжались купцы с товарами и грузами, остров богатейший, но маленький и незащищенный, не знал страха[529], — мы были лишены доступа, не говорю уже — к провинциям, к морскому побережью Италии и к своим гаваням, нет, даже к Аппиевой дороге[530]. И в те времена должностные лица римского народа не стыдились подниматься на это вот возвышение[531], которое наши предки оставили нам украшенным остатками кораблей и добычей, взятой при победе над флотами!
(XIX, 56) Что касается тебя, Квинт Гортенсий, и тех, кто тогда разделял твое мнение, то римский народ не сомневался в ваших добрых намерениях; но все же, когда дело касалось всеобщего благополучия, тот же римский народ предпочел внять голосу своей скорби, а не вашему совету. И вот, один закон, один муж, один год не только избавили нас от несчастья и позора, но и вернули нам действительное владычество, на суше и на море, над всеми племенами и народами. (57) Тем более оскорбительным — для Габиния ли, или для Помпея, или для них обоих, что более соответствует действительности, — кажется мне, противодействие, которое и поныне оказывают назначению Авла Габиния легатом, о чем просит и чего требует Гней Помпей[532]. Неужели тот, кто об этом просит, не достоин получить в качестве легата в столь важной войне избранного им человека, между тем как другие наместники брали с собой в качестве легатов, кого хотели, для ограбления союзников и для разорения провинций; или же сам Габиний, чей закон послужил основанием для благополучия и достоинства римского народа и всех племен, не должен разделять славы того императора и того войска, которым его разумное предложение дали власть и силу? (58) Ведь Гай Фальцидий, Квинт Метелл, Квинт Целий Латиниенс и Гней Лентул, чьи имена я произношу с должным уважением, после того как были народными трибунами, на следующий год могли быть легатами. И только по отношению к одному Габинию вдруг оказалось необходимым проявить строгость; а между тем он во время той самой войны, которая ведется на основании Габиниева закона, при том же самом императоре и при том войске, которое он сам предложил вам снарядить, должен был бы быть даже на особом правовом положении. Я надеюсь, что консулы доложат сенату о его назначении легатом; но если они станут колебаться или выискивать затруднения, то я сам обязуюсь об этом доложить. И ничей враждебный эдикт не помешает мне, имеющему опору в вас, отстаивать данные вами права и преимущества; и я не посчитаюсь ни с чем, кроме интерцессии, но полагаю, что те самые люди, которые нам ею угрожают, еще и еще раз подумают, можно ли к ней прибегнуть[533]. По моему мнению, квириты, в летописях войны с морскими разбойниками только одно имя — Авла Габиния достойно стоять рядом с именем Гнея Помпея, так как именно Габиний, на основании поданных вами голосов, поручил ведение этой войны одному человеку, а Помпей, приняв это поручение, успешно его выполнил.
(XX, 59) Мне, по-видимому, следует сказать еще несколько слов о важном заявлении Квинта Катула. Когда он спросил вас, кто будет вашей надеждой, если с Гнеем Помпеем, которому вы вверяете всю полноту власти, что-нибудь случится, он был щедро вознагражден за свою доблесть и достоинство вашим почти единогласным ответом, что тогда вы возложите все свои надежды именно на него. И в самом деле, достоинства этого мужа столь велики, что любую задачу, как бы трудна и сложна она ни была, он может разумно решить, бескорыстно выполнить и доблестно завершить. Но именно в одном я с ним совсем не согласен: чем менее надежна и чем менее продолжительна жизнь человека, тем более следует государству, пока бессмертные боги это дозволяют, извлекать пользу из деятельности доблестного и выдающегося мужа, пока он жив. (60) Но, говорит Катул, не следует поступать вопреки примерам и заветам предков. Не стану здесь говорить, что предки наши во времена мира всегда руководствовались обычаем, а во времена войны — пользой государства и всегда прибегали к новым мерам, если этого требовали новые обстоятельства; не стану говорить, что две величайших войны, пуническая и испанская, были закончены одним императором и что два самых могущественных города, более, чем все другие, угрожавшие нашей державе, Карфаген и Нуманция, были разрушены все тем же Сципионом; не стану упоминать о недавних решениях ваших и ваших отцов, в силу которых все надежды нашей державы были возложены на одного Гая Мария, так что один и тот же человек вел войну и с Югуртой, и с кимврами, и с тевтонами. Что же касается самого Гнея Помпея, ради которого Квинт Катул не хочет допускать новшеств, то вспомните, как много было принято необычных решений именно насчет него и притом с полного согласия Квинта Катула.
(XXI, 61) Возможно ли что-нибудь более необычное, чем случай, когда в тяжкое для государства время юноша, являющийся частным лицом, набирает войско? Он его набрал. Над ним начальствует? Он начальствовал. С большим успехом ведет войну как полководец? Он это сделал. Что может быть более необычным, чем предоставление империя и войска очень молодому человеку, возраст которого еще далеко не достаточен для звания сенатора, чем предоставление ему полномочий в Сицилии и Африке и поручение вести военные действия в этой провинции?[534] Он был в этих провинциях и проявил редкостное бескорыстие, строгость и доблесть; в Африке он завершил труднейшую войну и привел оттуда победоносное войско[535]. Слыхали ли вы когда-нибудь о чем-либо более необычном, чем триумф римского всадника? Между тем римский народ не только видел его своими глазами, но даже с всеобщим восторгом посетил и приветствовал его[536]. (62) Что больше расходится с общепринятым обычаем, чем — при наличии двух храбрейших и прославленных консулов — выезд римского всадника на труднейшую и опаснейшую войну в качестве проконсула?[537] Он выехал. И когда некоторые сенаторы находили неудобным посылать частное лицо в качестве проконсула, Луций Филипп[538], говорят, сказал что он, в силу своего предложения, отправляет его не «вместо консула», а «вместо консулов». Надежда, которую возлагали на его успехи как государственного деятеля, была так велика, что обязанности консулов вверялись доблести одного юноши. Что может быть столь исключительным, как — по предварительном освобождении его от действия законов — избрание его консулом до того срока, когда ему будет дозволено законами занять какую-либо другую государственную должность?[539] Что может быть более невероятным, чем предоставленный римскому всаднику постановлением сената второй триумф? Все необычные постановления, с незапамятных времен принятые о ком бы то ни было, не так многочисленны, как те, которые, на наших глазах, были приняты об одном только Гнее Помпее. (63) Между тем все эти столь высокие и столь необычные почести, оказанные все тому же Помпею, исходили от Квинта Катула и от других виднейших людей, принадлежавших к тому же сенаторскому сословию.
(XXII) Поэтому пусть они подумают, не окажется ли крайне несправедливым и недопустимым то, что их предложения об оказании почета Гнею Помпею вами всегда одобрялись[540], а, напротив, ваше суждение об этом человеке и решение римского народа встречают их неодобрение — тем более, что римский народ, в осуществление своего права, теперь может отстаивать свое суждение об этом человеке даже наперекор всем, кто с ним не согласен, так как, несмотря на возражения этих же самых людей, вы в свое время избрали из всех именно одного Помпея, чтобы поручить ему ведение войны против пиратов. (64) Если вы, принимая это решение, поступили опрометчиво и не подумали о пользе государства, то их стремление управлять вашей волей вполне законно; но если вы тогда позаботились о государстве лучше, чем они, если вы своими собственными усилиями, несмотря на сопротивление с их стороны, даровали нашей державе достоинство, а всему миру спасение, то пусть эти ваши руководители, наконец, признают обязательным и для себя, и для других повиноваться воле всего римского народа.
Помимо всего прочего, эта война против царей, происходящая в Азии, требует не одной только воинской доблести, которой Гней Помпей обладает в исключительной степени, но и многих других выдающихся душевных качеств. Нелегко нашему императору, находясь в Азии[541], Киликии, Сирии и в более отдаленных царствах, не помышлять ни о чем другом, как только о враге и только о своей славе. Ведь даже если находятся люди, воздержные, совестливые и умеющие владеть собой, все же никто не считает их такими ввиду наличия огромного числа людей алчных. (65) Трудно выразить словами, квириты, как чужеземные народы ненавидят нас за распущенность и несправедливость тех людей, которых мы в течение последнего времени к ним посылали облеченными империем. Как вы думаете, остался ли в тех краях хотя бы один храм, к которому наши должностные лица отнеслись бы с должным уважением, как к святилищу, хотя бы один город, который они признали бы неприкосновенным, хотя бы один дом, достаточно крепко запертый и защищенный? Они уже выискивают богатые и благоденствующие города, чтобы объявить им войну под любым предлогом, лишь бы получить возможность разграбить их. (66) Я бы охотно при всех обсудил этот вопрос с Квинтом Катулом и Квинтом Гортенсием, выдающимися и прославленными мужами, ведь они знают раны наших союзников, видят их несчастья, их жалобы слышат. Как вы думаете, зачем вы посылаете войска — в защиту ли союзников и против врагов, или же, под предлогом войны с врагами, против наших союзников и друзей? Найдется ли теперь в Азии хоть один город, который мог бы удовлетворить прихоти и притязания, не говорю уже — императора или легата, но даже одного военного трибуна?[542]
(XXIII) Итак, даже если у вас есть на примете человек, которого вы считаете способным победить войска царей, вступив с ними в сражение, он все же не окажется подходящим для ведения этой войны с царями в Азии, если только он не в силах удержать свои руки, глаза и душу от посягательств на имущество наших союзников, на их жен и детей, на убранство их храмов и городов, на золото и сокровища царей. (67) Как вы думаете, — есть ли среди замиренных городов хотя бы один, который остался бы богатым?[543] Есть ли среди богатых хотя бы один, который этим людям казался бы замиренным? Прибрежные города, квириты, просили о назначении Гнея Помпея не ввиду одной только его военной славы, но и ввиду его воздержности. Ведь они видели, как наши преторы, за редкими исключениями, из года в год обогащались за счет денег, собранных на государственные нужды, между тем как их так называемые флоты, постоянно терпя поражения, приносили нам один только позор[544]. А ныне? Эти противники передачи всей полноты власти одному человеку будто бы не знают, какой жадностью охвачены люди, выезжающие в провинции, какие они для этого делают затраты, какие заключают условия. Как будто мы не видим, что Гнея Помпея вознесли столь высоко не только его собственные доблести, но и чужие пороки. (68) Поэтому вы можете без всяких сомнений доверить всю полноту власти Помпею, на протяжении стольких лет оказавшемуся единственным человеком, чье прибытие во главе войска в города наших союзников приносит им радость.
Но если вы считаете нужным, квириты, чтобы я подкрепил это предложение мнением авторитетных людей, то я укажу вам на человека, опытнейшего в войнах всякого рода и важнейших государственных делах, — на Публия Сервилия; подвигами своими на суше и на море он заслужил, чтобы вы, обсуждая вопрос о войне, признали его мнение самым веским из всех. Укажу на Гая Куриона, удостоенного вами высших милостей, совершившего славнейшие подвиги и в высшей степени одаренного и разумного[545]; укажу на Гнея Лентула, которого вы, удостоив его высших должностей, признали человеком исключительной мудрости и строгих правил[546]. Укажу на Гая Кассия, отличающегося редкостной неподкупностью, искренностью и непоколебимостью[547]. Смотрите, как спокойно мы, основываясь на их суждениях, можем отвечать на речи людей, не согласных с нами.
(XXIV, 69) При этих обстоятельствах, Гай Манилий, я прежде всего хвалю и полностью поддерживаю внесенный тобой закон, твое решение и твое суждение; затем я призываю тебя остаться, с одобрения римского народа, верным своему мнению и не страшиться ни насилия, ни угроз с чьей бы то ни было стороны. Во-первых, ты, мне думается, достаточно храбр и непоколебим; во-вторых, при виде такой огромной толпы, которая здесь, как мы видим, снова с таким восторгом наделяет полномочиями того же самого человека, разве мы можем сомневаться в правоте своего дела и в своем конечном успехе? Сам же я обещаю и обязуюсь перед тобой и перед римским народом посвятить свершению этого дела все свое усердие, ум, трудолюбие, дарование, все то влияние, каким я пользуюсь благодаря милости римского народа, то есть благодаря своей преторской власти, а также своему личному авторитету, честности и стойкости. (70) И я призываю в свидетели всех богов и в особенности тех, которые являются покровителями этого священного места[548] и видят все помыслы всех государственных мужей; делаю это не по чьей-либо просьбе, не с целью приобрести своим участием в этом деле расположение Гнея Помпея, не из желания найти в чьем-либо мощном влиянии защиту от возможных опасностей и помощь при соискании почетных должностей, так как опасности я — насколько человек может за себя ручаться — легко избегну своим бескорыстием; почестей же я достигну не благодаря одному человеку, не выступлениями с этого места, а, при вашем благоволении, все тем же своим неутомимым трудолюбием.
(71) Итак, все взятое мной на себя в этом деле, квириты, было взято — я твердо заявляю об этом — ради блага государства, и я настолько далек от стремления приобрести чье-либо расположение, что даже навлек на себя — я это понимаю — и явное и тайное недоброжелательство многих людей и притом без настоятельной необходимости для себя лично, но не без пользы для вас. Однако я, будучи вами удостоен почетной должности и получив от вас, квириты, такие значительные милости, решил, что вашу волю, достоинство государства и благополучие провинций и союзников мне следует ставить выше, чем все свои личные выгоды и расчеты.
6. Речь в защиту Авла Клуенция Габита [В суде, 66 г. до н. э.]
Суд над Клуенцием происходил на основании Корнелиева закона об убийцах и отравителях, проведенного Суллой в 81 г. Председателем суда был Квинт Воконий Насон, обвинение поддерживали Тит Аттий и молодой Аббий Оппианик. Обвиняемый Авл Клуенций Габит, родом из Ларина, был римским всадником. По словам Цицерона, между ним и его матерью Сассией возникла вражда, когда Сассия отбила у своей дочери, сестры обвиняемого, ее мужа Авла Аврия Мелина и вступила с ним в брак. Когда Мелин был убит после захвата власти Суллой, Сассия вышла замуж — уже в третий раз — за его убийцу, Стация Аббия Оппианика. История вражды между Клуенцием, с одной стороны, и Сассией и Оппиаником — с другой, и составляет содержание всего дела.
Оппианик будто бы умертвил пятерых жен, одну за другой, своего брата Гая Оппианика и его жену Аврию; он совершил и ряд других убийств. Спасаясь от преследований Авриев, он отправился в лагерь Квинта Метелла Пия, сторонника Суллы. Победа Суллы в гражданской войне позволила Оппианику возвратиться в Ларин и расправиться со своими обвинителями, внеся их в проскрипционные списки. Так погиб, в частности, Авл Аврий Мелин, на вдове которого, Сассии, Оппианик впоследствии женился. Сассия условием своего согласия на брак поставила, чтобы Оппианик устранил своих двух малолетних сыновей. Вскоре между Клуенцием и Оппиаником возникло недоразумение в связи с событиями в Ларине — из-за марциалов, служителей культа Марса, бывших на полурабском положении; Оппианик настаивал на том, что они — свободные люди, а это наносило ущерб интересам муниципия; дело было перенесено в Рим, Клуенций выступал от имени муниципия.
По словам Цицерона, это обстоятельство и желание Оппианика обеспечить себе в будущем права на имущество Сассии натолкнули его на попытку отравить Клуенция, которая была раскрыта и дала повод к судебному преследованию виновных: вольноотпущенника Скамандра, которого защищал Цицерон, и Гая Фабриция, патрона Скамандра. Суд под председательством Гая Юния осудил обвиняемых (74 г.). Затем суд, в том же составе (32 судьи) осудил самого Оппианика. Этот приговор породил толки о подкупе суда; их распространял народный трибун Луций Квинкций, защищавший Оппианика. Восемь судей (из семнадцати, голосовавших за осуждение) подверглись наказанию; сам Клуенций в 70 г. получил замечание от цензоров. Они исключили из сената двоих судей. В 72 г. Оппианик умер при неясных обстоятельствах. Цицерон дает понять, что в его смерти была виновна Сассия, но она обвинила в ней своего сына Авла Клуенция и подвергла пытке своих рабов, чтобы вырвать у них нужные ей показания.
Речь Цицерона состоит из двух частей — первая (§ 9—160) касается вопроса о подкупе «Юниева суда» 74 г., поставленном в вину Клуенцию; вторая (§ 164—194) — вопроса об отравлении Оппианика. Подкуп суда подпадал под действие Корнелиева закона об убийцах и отравителях только в том случае, если был совершен членом сословия сенаторов; Клуенций как римский всадник под его действие не подпадал. Цицерон этой оговоркой не воспользовался. Клуенций, по-видимому, был оправдан.
(I, 1) Я заметил, судьи, что вся речь обвинителя была разделена на две части: в одной из них он, будучи уверен в застарелом предубеждении против приговора Юниева суда[549], строил, по-видимому, именно на нем свои расчеты, а в другой части только потому, что так принято, робко и неуверенно касался вопроса об обвинениях в отравлении, между тем как этот суд учрежден на основании закона как раз для разбора дел о преступлениях такого рода. Ввиду этого я в своей защитительной речи решил сохранить то же деление на две части и коснуться в первой из них упомянутого мною предубеждения, а во второй — самого́ обвинения, дабы все могли понять, что я не захотел уклониться от обсуждения того или другого вопроса, умолчав о них, ни затемнить их, говоря о них[550]. (2) Когда же я думаю о том, к чему же мне следует приложить особое старание, то мне кажется, что второй вопрос и притом тот, который собственно и подлежит вашему решению на основании закона об отравлениях, не потребует от меня долгого рассмотрения и большого напряжения; первый же, собственно говоря, к правосудию отношения не имеющий и более подходящий для обсуждения на народных сходках, созванных с целью мятежа, а не для спокойного и беспристрастного судебного разбирательства, потребует от меня — я это ясно вижу — многих усилий, большого труда. (3) Но как ни велики эти трудности, судьи, меня утешает одно: вы привыкли слушать определенные статьи обвинения, причем ожидаете, что оратор будет полностью опровергать их, и полагаете, что вы не должны предоставлять подсудимому иных средств к спасению, кроме тех, какими сможет располагать защитник, опровергая обвинения, предъявленные подсудимому, и доказывая его невиновность. Что касается предубеждения, то вы должны нас рассудить, вникая не только в то, что я говорю, но и в то, что мне следовало бы сказать. В самом деле, обвинение грозит опасностью одному лишь Авлу Клуенцию; предубеждение же и ненависть — всему обществу. Поэтому я, касаясь одной стороны дела, буду приводить вам определенные доказательства; касаясь другой, — обращаться к вам с просьбой; в одном случае должна прийти мне на помощь ваша добросовестность, в другом я буду умолять вас о покровительстве. Ибо без защиты со стороны вашей и подобных вам людей никому не устоять против ненависти. (4) Что касается меня, то я не знаю, к чему мне прибегнуть: отрицать ли мне позорный факт подкупа суда; отрицать ли мне, что о нем открыто говорили на народных сходках, спорили в судах, упоминали в сенате?[551] Могу ли я вырвать из сознания людей столь твердое, столь глубоко укоренившееся, столь давнее предубеждение? Нет, не мое дарование, но лишь ваше содействие, судьи, может помочь этому ни в чем не виновному человеку при наличии такой пагубной молвы, подобной некоему разрушительному, вернее, всеобщему пожару.
(II, 5) И в самом деле, между тем как в других местах не на что опереться истине, которая бессильна, здесь должна ослабеть несправедливая ненависть. Пусть она господствует на народных сходках, но встречает отпор в суде; пусть она торжествует в мнениях и толках неискушенных людей, но дальновидные пусть ее отвергают; пусть она неожиданно совершает свои стремительные набеги, но с течением времени и после расследования дела пусть теряет свою силу. Пусть, наконец, сохранится в неприкосновенности тот завет, который наши предки дали правому суду: при отсутствии предубеждения, в суде вину надо карать, а при отсутствии вины — предубеждение отметать.
(6) Поэтому, судьи, прежде чем начинать свою речь о самом деле, прошу вас о следующем: во-первых, — и это вполне справедливо — не являйтесь сюда с уже готовым приговором (ведь мы утратим не только всякий авторитет, но и самое имя «су́дьи», если будем судить не на основании данных следствия и приходить на суд с приговором, уже составленным у себя дома); во-вторых, если у вас уже есть какое-либо предвзятое мнение, не отстаивайте его, если оно будет поколеблено доводами, расшатано моей речью, наконец, опрокинуто силой истины, не сопротивляйтесь и изгоните его из своей души либо охотно, либо, по крайней мере, спокойно; а когда я стану говорить о каждом обстоятельстве в отдельности и опровергать его, прошу вас не размышлять тайком о возражениях, которые можно сделать против моих доводов, а подождать до конца и позволить мне сохранить составленный мной план речи; когда я закончу ее, тогда только спросите себя, не пропустил ли я чего-нибудь.
(III, 7) Я прекрасно понимаю, судьи, что приступаю к защите человека, о котором уже восемь лет подряд люди слушают речи его противников, человека, о котором всеобщее мнение уже почти что вынесло свой молчаливый приговор, признав его виновным и подвергнув осуждению. Но если кто-либо из богов внушит вам желание выслушать меня благосклонно, то я, конечно, добьюсь того, чтобы вы все поняли, что человеку следует больше всего бояться предвзятого мнения, что невиновный, против которого оно уже сложилось, должен больше всего желать справедливого суда, так как только такой суд может положить предел и конец лживой молве, позорящей его имя. Вот почему я твердо надеюсь, что (если я смогу представить вам факты, относящиеся к этому судебному делу, и исчерпывающим образом рассмотреть их в своей речи) это место и это ваше заседание, которое, по расчетам наших противников, должно стать страшным и грозным для Авла Клуенция, в конце концов окажется для него пристанью и прибежищем в его злосчастной, полной треволнений судьбе.
(8) Хотя, прежде чем говорить о самом деле, мне следовало бы многое сказать об опасностях, которые для всех нас представляют подобные враждебные настроения, все же, чтобы не злоупотребить вашим вниманием, говоря чересчур долго, я приступлю к самому обвинению, судьи, обратившись к вам с просьбой, которую мне, как я понимаю, придется повторять не раз: слушайте меня так, словно ныне это дело разбирается впервые в суде (это и соответствует действительности), а не так, словно оно велось уже не раз и всегда безуспешно. Ибо сегодня впервые представляется возможность опровергнуть старое обвинение; до сего времени в данном деле господствовали заблуждение и ненависть. Поэтому прошу вас, судьи, когда я стану в краткой и ясной речи отвечать на обвинение, повторявшееся на протяжении многих лет, выслушайте меня благосклонно и внимательно, как вы поступали с самого начала.
(IV, 9) Авл Клуенций, нам говорят, подкупил суд деньгами, чтобы он осудил его врага Стация Аббия, хотя этот последний не был виновен. Коль скоро суть этого ужасного события, вызвавшего ненависть, была в том, что за деньги погубили невинного человека, я, судьи, докажу, во-первых, что к суду еще никогда не привлекался человек, которому были бы предъявлены более тяжкие обвинения и против которого были бы даны более веские свидетельские показания; во-вторых, те самые судьи, которые его осудили, вынесли о нем такие предварительные приговоры, что не только они сами, но и никакие другие судьи не могли бы его оправдать. Установив это, я докажу положение, выяснение которого, как я понимаю, наиболее необходимо: попытка подкупить суд деньгами была совершена не Клуенцием, а во вред Клуенцию, и вы — я этого добьюсь — поймете, какие факты лежат в основе всего этого дела, что́ является плодом заблуждения и что́ порождено ненавистью.
(10) Итак, первое, из чего возможно понять, что Клуенций должен был быть вполне уверен в правоте своего дела, следующее: он спустился на форум[552] для предъявления обвинения, располагая самыми убедительными уликами и свидетельскими показаниями. Здесь, судьи, я считаю нужным вкратце изложить вам статьи обвинения, на основании которых Аббий был осужден. Тебя, Оппианик[553], я прошу считать, что я неохотно говорю о деле твоего отца, повинуясь своему долгу и исполняя свою обязанность защитника. И в самом деле, если я в настоящее время не смогу услужить тебе, то в будущем мне все же не раз представится случай оказать тебе услугу; но если я теперь не окажу услуги Клуенцию, то впоследствии у меня уже не будет возможности ему услужить. В то же время, кто может сомневаться в том, выступать ли ему против человека, уже осужденного и умершего, в защиту человека полноправного и живого? Ведь того, против кого выступают, обвинительный приговор уже избавил от всякой угрозы дурной славы, а смерть — также и от страданий. Что касается того человека, в чью защиту я говорю, то ему, напротив, малейшая неудача причинит сильнейшие душевные муки и будет грозить величайшим бесславием и позором в его дальнейшей жизни. (11) А дабы вы поняли, что Клуенций подал в суд жалобу на Оппианика не из страсти обвинять[554], не из стремления быть на виду и таким путем прославиться, но решился на это в связи с гнусными оскорблениями, ежедневными кознями, явной опасностью для своей жизни, я начну свой рассказ с несколько более отдаленного времени. Прошу вас, судьи, не сетовать на меня за это, ибо вам, когда вы ознакомитесь с началом дела, будет гораздо легче понять его развязку.
(V) Отец обвиняемого, Авл Клуенций Габит, судьи, и по своим нравственным качествам, и по своей знатности, пользовался всеобщим уважением и был, несомненно, первым человеком не только в своем родном муниципии[555] Ларине, но и во всей той области, и в соседних. Он умер в консульство Суллы и Помпея[556], оставив этого вот сына, которому тогда было пятнадцать лет, и взрослую дочь-невесту, вышедшую вскоре после смерти отца за своего двоюродного брата Авла Аврия Мелина, считавшегося тогда в тех краях одним из лучших молодых людей, уважаемых и знатных. (12) Это был весьма достойный брачный союз, и молодые жили в полном согласии. Но вот в одной распущенной женщине вдруг вспыхнула нечестивая страсть, которая не только навлекла на семью позор, но и привела к злодеянию. Ибо Сассия, мать этого вот Габита, да, мать… во всей своей речи я буду называть ее, повторяю, матерью, хотя она относится к нему с ненавистью и жестокой враждой, и она, во время моего рассказа о ее преступности и бесчеловечности, должна будет каждый раз слышать имя, данное ей природой; чем больше само имя «мать» вызывает чувство любви и нежности, тем более омерзительной покажется вам неслыханная преступность той матери, которая вот уже столько лет — и ныне более, чем когда-либо, — жаждет гибели своего сына. Итак, мать Габита, воспылав беззаконной любовью к своему зятю, молодому Мелину, вначале, хотя и недолго, пыталась бороться с этой страстью, как только могла; но затем безумие так охватило ее, так разбушевалось в ней пламя похоти, что ни совесть, ни стыдливость, ни долг матери, ни позор, грозящий семье, ни дурная молва, ни горе сына, ни отчаяние дочери — ничто не могло заглушить в ней ее страсть. (13) Она опутала неопытного и еще не окрепшего духом юношу, пустив в ход все средства, которыми можно завлечь и прельстить человека его возраста. Ее дочь не только была оскорблена, как бывает оскорблена каждая женщина подобным проступком мужа, но и не могла стерпеть нечестивого прелюбодеяния матери; даже жаловаться на это она сочла бы преступлением и хотела, чтобы никто не знал о ее страшном несчастье; только на груди у нежно любящего брата она терзала себя, давая волю слезам. (14) И вот происходит спешный развод; казалось, он принесет избавление от всех бед. Клуенция оставляет дом Мелина; после таких тяжких оскорблений она делает это не против своей воли, но расстается с мужем без радости. Тут уже эта мать, редкостная и достойная, стала открыто ликовать и справлять триумф, одержав победу над дочерью, но не над похотью. Она захотела положить конец всем глухим толкам, порочащим ее имя; то самое брачное ложе[557], которое она два года назад постлала, выдавая замуж свою дочь, она велела приготовить и постлать для себя в том самом доме, откуда она выжила и выгнала свою дочь. И вот, в брак с зятем вступила теща, без авспиций[558], без поручителей[559], при зловещих предзнаменованиях. (VI, 15) О, преступление женщины, невероятное и никогда не слыханное на земле, кроме этого случая! О, разнузданная и неукротимая похоть! О, единственная в своем роде наглость! Неужели она не побоялась — если не гнева богов и людской молвы, то хотя бы той самой брачной ночи и ее факелов, порога спальни, ложа своей дочери, наконец, самих стен, свидетельниц первого брака? Нет, она своей бешеной страстью разбила и опрокинула все преграды. Над совестью восторжествовала похоть, над страхом — преступная дерзость, над рассудком — безумие. (16) Позор этот, павший на всю семью, на родню, на имя Клуенциев, был тяжелым ударом для сына; к тому же его горе еще усиливалось от ежедневных жалоб и постоянных рыданий его сестры. Все же он решил, что единственным его ответом на такое оскорбление и на такое преступление матери будет то, что он перестанет обращаться с ней, как с матерью; ведь если бы он сохранил сыновнее уважение к той, которую он, не испытывая величайшей скорби, даже видеть не мог, то и его самого могли бы счесть таким человеком, который не только видится с ней, но и одобряет ее поступок.
(17) Итак, с чего началась его вражда с матерью, вы уже знаете; а то, что это имело отношение к данному судебному делу, вы поймете, когда узнаете и остальное. Ибо я вполне сознаю, что, какова бы ни была мать, во время суда над сыном не следует говорить о позорном поведении родившей его. Я не был бы вообще способен вести какое бы то ни было дело, судьи, если бы я, призванный защищать людей, подвергающихся опасности, забывал о чувстве, заложенном в душу всем людям и коренящемся в самой природе[560]. Мне вполне понятно, что люди должны не только молчать об оскорблениях со стороны своих родителей, но и мириться с ними. Но, по моему мнению, переносить следует то, что возможно перенести, молчать — о том, о чем возможно молчать. (18) Всякий раз, когда Авла Клуенция постигало какое-нибудь несчастье; всякий раз, когда он подвергался смертельной опасности; всякий раз, когда ему угрожала беда, — единственной зачинщицей и виновницей этого была его мать. Он и в настоящее время не сказал бы ничего и, не будучи в состоянии забыть обо всем этом, все же согласился бы хранить молчание и скрывать это. Но она держит себя так, что молчать он больше никак не может. Ведь даже самый суд, эти опасности, обвинение, возбужденное противной стороной, множество свидетелей, готовых давать показания, — все это затеяла его мать; она их подготовила, она их подстрекает и снабжает из своих средств. Наконец, она сама недавно примчалась из Ларина в Рим, чтобы погубить своего сына; она здесь, эта наглая женщина, богатая, жестокая; она подстрекает обвинителей, наставляет свидетелей, радуется жалкому виду и лохмотьям подсудимого[561], жаждет его погибели, идет на то, чтобы пролилась вся ее кровь, лишь бы она успела увидеть пролившуюся кровь своего сына. Если вы не увидите всего этого во время слушания дела, считайте, что я называю ее имя необдуманно; но если ее участие в деле окажется столь же явным, сколь и преступным, то вы должны будете простить Клуенцию, что он мне позволяет так говорить; вы, напротив, не должны были бы простить мне, если бы я об этом умолчал.
(VII, 19) Теперь я ознакомлю вас в общих чертах с преступлениями, за которые был осужден Оппианик, дабы вы могли убедиться как в стойкости Авла Клуенция, так и в основательности самого обвинения. Но сначала я укажу вам причину, заставившую его выступить обвинителем, дабы вы поняли, что Авл Клуенций даже это сделал в силу необходимости. (20) Когда он захватил с поличным человека, собиравшегося его отравить ядом, который для него приготовил муж его матери, Оппианик, и когда это обстоятельство было установлено не путем догадок, а было очевидным и явным, и когда дело уже не вызывало никаких сомнений, — только тогда он обвинил Оппианика. Как обоснованно и как обдуманно он это сделал, я скажу потом; теперь я только хочу, чтобы вам было известно следующее: у него не было никакой иной причины обвинять Оппианика, кроме желания избежать постоянных опасностей, угрожавших его жизни, и ежедневных козней его противников. А дабы вы поняли, что преступления, в которых Оппианик был обвинен, по своему существу освобождали обвинителя от всяких опасений, а подсудимого лишали всякой надежды, я сообщу вам некоторые статьи обвинения, предъявленного во время того суда. Ознакомившись с ними, никто из вас не будет удивляться тому, что Оппианик, не надеясь на благополучный исход дела, обратился к Стайену и дал взятку.
(21) В Ларине жила некая Динея, теща Оппианика; у нее были сыновья, Марк и Нумерий Аврии, Гней Магий и дочь Магия, вышедшая замуж за Оппианика. Марк Аврий в юности был взят в плен под Аскулом во время Италийской войны[562], попал в руки сенатора Квинта Сергия — того самого, который был осужден за убийство, — и находился у него в эргастуле[563]. Брат его, Нумерий Аврий, умер, назначив своим наследником своего брата, Гнея Магия. Впоследствии умерла и Магия, жена Оппианика. Наконец, умер и последний из сыновей Динеи, Гней Магий; он оставил своим наследником молодого Оппианика, сына своей сестры, с тем, однако, чтобы тот разделил наследство с его матерью Динеей. Но вот Динея получает довольно точное и достоверное известие, что ее сын Марк Аврий жив и находится в рабстве в Галльской области[564]. (22) Когда у этой женщины, потерявшей всех своих детей, появилась надежда возвратить себе единственного сына, какой у нее остался, она созвала всех своих родственников и друзей своего сына и, в слезах, стала их умолять, чтобы они взяли на себя труд разыскать юношу и вернули ей сына, единственного, которого судьбе было угодно сохранить из ее многих детей. После того, как она дала ход этому делу, она тяжело заболела; поэтому она составила завещание, отказав этому сыну легат[565] в 400.000 сестерциев и назначив главным наследником уже названного мной Оппианика, своего внука. Через несколько дней она умерла. Все же ее родственники, в соответствии со своим решением, принятым ими при ее жизни, отправились после ее смерти в Галльскую область, на поиски Марка Аврия, взяв с собой человека, сообщившего, что он жив.
(VIII, 23) Тем временем Оппианик, по своей исключительной преступности и дерзости, в которых вам не раз придется убедиться, прежде всего подкупил вестника, действуя через своего близкого друга родом из Галльской области; затем он, без больших издержек, позаботился о том, чтобы самого Марка Аврия, убив, устранили. Те, которые отправились, чтобы разыскать и вернуть себе своего родственника, прислали письмо в Ларин к Авриям, родичам юноши и своим друзьям, с известием, что разыскать его трудно, так как, насколько они понимают, вестник подкуплен Оппиаником. Авл Аврий, храбрый, деятельный и известный у себя на родине человек, близкий родственник того Марка Аврия, прочитал это письмо на форуме, всенародно, перед большой толпой, в присутствии самого Оппианика, и громогласно объявил, что он, если получит сведения об убийстве Марка Аврия, привлечет Оппианика к судебной ответственности. (24) Прошло немного времени, и те, кто выезжал в Галльскую область, возвратились в Ларин и сообщили, что Марк Аврий убит. Тут уже не только родственники убитого, но и все жители Ларина почувствовали к Оппианику ненависть, а к молодому человеку сострадание. И вот, когда Авл Аврий — тот самый, который ранее объявил о своем намерении возбудить судебное дело, — начал преследовать Оппианика своими громкими угрозами, тот бежал из Ларина и отправился в лагерь прославленного мужа, Квинта Метелла[566]. (25) После этого бегства, ясно доказавшего, что Оппианик совершил злодеяние и что совесть у него не чиста, он уже ни разу не дерзнул ни довериться правосудию и законам, ни появиться безоружным среди своих недругов; нет, воспользовавшись памятными нам насилиями и победой Луция Суллы, он, внушая всем ужас, примчался в Ларин во главе вооруженного отряда; кваттуорвиров[567], избранных населением муниципия, он отрешил от должности; объявил, что Сулла, назначив кваттуорвирами его и еще троих человек, приказал внести в проскрипционные списки и казнить того Авла Аврия, который угрожал Оппианику судебной ответственностью и утратой гражданских прав, а также другого Авла Аврия и его сына Гая, а равным образом и Секста Вибия, который, по слухам, был посредником при подкупе вестника. После их жестокой казни остальные страшились проскрипции и смерти. Когда при разборе дела в суде эти факты были раскрыты, кто мог бы подумать, что Оппианика могут оправдать? (IX) Послушайте об остальном и вы удивитесь не тому, что он, наконец, был осужден, а его долгой безнаказанности.
(26) Прежде всего обратите внимание на его наглость. Он пожелал жениться на Сассии, матери Габита, — на той, чьего мужа, Авла Аврия, он убил. Он ли был более бесстыден, делая такое предложение, или она — более бессердечна, соглашаясь на него? Трудно сказать. Как бы то ни было, обратите внимание на их человеческое достоинство и их нравственные устои. (27) Оппианик домогается руки Сассии и упорно добивается этого. Она не удивляется его дерзости, к его бесстыдству не относится с презрением, наконец, не испытывает чувства ужаса перед домом Оппианика, залитым кровью ее собственного мужа, но отвечает, что у него три сына[568] и что именно это обстоятельство делает брак с ним для нее неприемлемым. Оппианик, страстно желавший получить деньги Сассии, счел нужным поискать у себя в доме средства против препятствия, мешающего его браку. У него был малютка-сын от Новии и еще один сын от Папии, воспитывавшийся в Теане Апулийском, в восемнадцати милях[569] от Ларина, у своей матери. И вот, Оппианик внезапно, без всякой причины, посылает в Теан за сыном, чего он до того никогда не делал, разве только в дни общественных игр и в праздники. Бедная мать, не подозревая ничего дурного, посылает к нему сына. В тот самый день, когда Оппианик будто бы уехал в Тарент, мальчик, которого еще в одиннадцатом часу видели в общественном месте здоровым, до наступления ночи умер и на другой день, еще до рассвета, тело его было сожжено. (28) И о столь горестном событии до матери дошел слух раньше, чем кто-либо из челяди Оппианика потрудился ее об этом известить. Узнав в одно и то же время, что ее не только лишили сына, но и не дали ей возможности отдать ему последний долг, она, убитая горем, поспешно приехала в Ларин и устроила новые похороны уже погребенному сыну. Не прошло и десяти дней, как и второй сын Оппианика, младенец, был убит. Тотчас же после этого Сассия вышла за Оппианика, уже ликующего и полного надежд. Это и не удивительно, раз она видела, что он прельщал ее не свадебными дарами, а похоронами своих сыновей. Итак, в то время как люди ради своих детей обычно желают получить побольше денег, он ради денег охотно пожертвовал своими детьми.
(X, 29) Я замечаю, судьи, как сильно взволновало вас, при вашей доброте к людям, данное мной краткое описание злодейств Оппианика. Что же должны были, по вашему мнению, испытывать те, которым пришлось не только выслушать все это, но также вынести по этому делу свой приговор? Вы слушаете рассказ о человеке, которого вы не судите, не видите, уже не можете ненавидеть, который заплатил уже дань и природе и законам, о человеке, которого законы покарали изгнанием, а природа — смертью; вы слушаете этот рассказ не от его недруга и в отсутствие свидетелей, слушаете то, что может быть изложено чрезвычайно подробно, в моем кратком и сжатом изложении. Они же слушали рассказ о человеке, о котором должны были под присягой вынести приговор, о человеке, который был тут же и на чье порочное и преступное лицо они глядели, о человеке, которого все ненавидели за его наглость и считали достойным всяческой казни; они слышали этот рассказ от обвинителей, слышали показания многих свидетелей, слышали убедительное и обстоятельное развитие каждого отдельного обвинения красноречивейшим Публием Каннуцием[570]. (30) Кто же, ознакомившись со всем этим, может заподозрить, что Оппианик был без вины осужден неправым судом?
Об остальном, судьи, я буду говорить уже в общих чертах, чтобы, наконец, перейти к тому, что имеет более близкое отношение к данному судебному делу и связано с ним более тесно. Но вас я прошу помнить, что я вовсе не ставил себе целью обвинять Оппианика, уже умершего, но что я, желая убедить вас в том, что мой подзащитный суда не подкупал, исхожу в своей защите и основываю ее на том, что в лице Оппианика был осужден величайший злодей и преступнейший человек. Ведь после того, как он сам подал своей жене Клуенции, тетке нашего Габита, кубок, та, начав пить, вдруг вскрикнула, что умирает в страшных муках, и жизнь ее прервалась на этих словах, ибо она, не успев договорить, умерла с воплем. Как внезапность ее смерти и содержание ее предсмертных слов, так и обнаруженные на ее теле признаки свидетельствовали о действии яда. Тем же ядом он умертвил и своего брата, Гая Оппианика. (XI, 31) Но и этого мало. Правда, уже само братоубийство, мне кажется, охватывает все вообще возможные для человека преступления; однако путь к этому нечестивому деянию он подготовил себе заранее другими преступлениями: когда Аврия, жена его брата, была беременна и вскоре должна была родить, он убил ядом ее, чтобы заодно умертвить и ребенка, зачатого ею от его брата. Затем он принялся за брата. Тот, осушив кубок смерти, когда уже было поздно, стал кричать, что знает причину смерти своей и жены, и пожелал переделать завещание; как раз в то время, когда он выражал эту свою волю, он умер. Так Оппианик умертвил эту женщину, чтобы ребенок, который должен был у нее родиться, не мог лишить его наследства после его брата; ребенка своего брата он лишил жизни раньше, чем тот мог явиться на свет; таким образом, все могли понять, что для человека, чья преступность не пощадила ребенка брата даже во чреве матери, не может быть ничего запретного, ничего святого.
(32) Помнится, в бытность мою в Азии[571], одна уроженка Милета была присуждена к смертной казни за то, что она, получив от вторых наследников деньги, сама разными снадобьями вытравила у себя плод. Она вполне заслужила это; ведь она убила надежду отца, носителя его имени, опору его рода, наследника его имущества, будущего гражданина государства. Сколь более жестокой казни достоин Оппианик, совершивший такое же преступление! Ведь та женщина, насилуя природу в собственном теле, подвергла истязанию самое себя, а он достиг той же цели, подвергнув другого человека мукам и смерти. Иные люди, видимо, не могут, убив одного человека, совершить тем самым несколько убийств; надо быть Оппиаником, чтобы в одном теле убить многих!
(XII, 33) Поэтому, когда знавший об этом его преступном обыкновении дядя молодого Оппианика, Гней Магий, опасно заболел и стал назначать своим наследником этого племянника, сына сестры, он созвал друзей и, в присутствии матери своей, Динеи, спросил жену, не беременна ли она. Получив от нее утвердительный ответ, он попросил ее жить, после его смерти, у ее свекрови Динеи до самых родов и со всей заботливостью беречь зачатого ею ребенка, чтобы благополучно родить. В связи с этим он отказал ей по завещанию, в виде легата, большие деньги, которые она должна была бы получить от своего сына, если бы он родился; легата от второго наследника он ей не завещал[572]. (34) Чего он опасался со стороны Оппианика, вы видите; какого мнения был он о нем, совершенно ясно; ибо наследником своим он назначил сына человека, которому опеки над своим ожидаемым ребенком не доверил. Послушайте теперь, что́ совершил Оппианик, и вы поймете, что Магий, умирая, не был дальновиден. Те деньги, которые он отказал жене в виде легата от имени своего сына, если бы таковой родился, Оппианик, хотя он вовсе не был должен ей, выплатил ей немедленно — если только это можно назвать выплатой легата, а не наградой за вытравление плода. Получив эту плату и, кроме того, множество подарков, которые тогда были перечислены на основании приходо-расходных книг Оппианика, она, поддавшись алчности, продала злодею Оппианику свою надежду — порученный ей мужем плод, который она носила во чреве. (35) Казалось бы, этим достигнут предел человеческой порочности; послушайте же, чем дело кончилось. Женщина, которую муж заклинал не знать в течение десяти месяцев[573] другого дома, кроме дома своей свекрови, через четыре месяца после смерти мужа вышла за самого Оппианика. Правда, недолговечен был этот союз: их соединило соучастие в злодействе, а не святость брака.
(XIII, 36) А убийство Асувия из Ларина, этого богатого юноши! Сколько шуму наделало оно, когда было еще свежо у всех в памяти, сколько толков оно вызвало! В Ларине жил некто Авиллий, человек, испорченный до мозга костей и дошедший до крайней нищеты, но наделенный каким-то искусством возбуждать страсти у юношей. Как только он, лестью и угодливостью, втерся в доверие и дружбу с Асувием, у Оппианика тотчас же появилась надежда воспользоваться этим Авиллием, словно осадной машиной, чтобы овладеть молодым Асувием и состоянием, доставшимся ему от отца. План был задуман в Ларине, осуществление его перенесено в Рим: они полагали, что составить план легче в глуши, привести замысел в исполнение удобнее среди шумной толпы. Асувий и Авиллий поехали в Рим. За ними по пятам туда же отправился Оппианик. О том, какой образ жизни они вели в Риме, об их пирах, разврате, тратах и расточительности — не только с ведома Оппианика, но и при его участии и помощи — распространяться не буду, тем более что спешу перейти к другому вопросу. Послушайте о развязке этой притворной дружбы. (37) В то время как юноша находился в доме у одной бабенки, переночевав у нее и задержавшись на следующий день, Авиллий, как было решено, притворился больным и пожелал составить завещание; Оппианик привел к нему свидетелей, не знавших ни Асувия, ни Авиллия, и назвал его Асувием; после того как завещание, написанное от имени Асувия, было скреплено печатями[574], все разошлись. Авиллий тотчас же выздоровел. Вскоре после этого Асувия пригласили якобы на прогулку в какие-то сады, завели в пески[575] за Эсквилинские ворота и там убили. (38) Проходит день, два, несколько дней; хватились Асувия, стали искать там, где он обыкновенно бывал, и не нашли; к тому же Оппианик рассказывал на форуме в Ларине, что недавно он и его друзья скрепили печатями завещание Асувия. Тогда вольноотпущенники Асувия и несколько его друзей схватили Авиллия и привели к трибуналу Квинта Манилия, бывшего тогда триумвиром[576], так как было установлено, что в тот день, когда Асувия видели в последний раз, с ним был Авиллий, причем его видели многие. И тут Авиллий, несмотря на то, что ни свидетелей против него, ни доносчиков не нашлось, терзаемый сознанием своего недавнего злодеяния, тотчас же рассказал обо всем то, что́ я только что вам сообщил, и сознался, что он убил Асувия по наущению Оппианика. (39) Манилий велел схватить Оппианика, скрывавшегося у себя дома. Была устроена очная ставка с Авиллием, давшим показания. Стоит ли говорить о дальнейших событиях? Большинство из вас Манилия знало: с детства он ни разу не подумал ни о чести, ни о доблести, ни о тех благах, какими нас награждает уважение людей; нет, после того как он был дерзким и бесчестным фигляром, он, во времена гражданских смут, по голосованию народа добился места у той самой колонны[577], к которой не раз приводили его самого, осыпаемого бранью толпы. И вот, он заключил сделку с Оппиаником, получил от него деньги и прекратил дело, уже принятое им и вполне ясное. Но в деле Оппианика преступление против Асувия подтверждалось как показаниями многих свидетелей, так особенно разоблачениями Авиллия, в которых, среди имен людей, причастных к этому делу, на первом месте было имя Оппианика — того самого, которого вы считаете несчастной и безвинной жертвой неправого суда.
(XIV, 40) А твоя, Оппианик, бабка Динея, наследником которой сам ты являешься? Разве не известно, что твой отец умертвил ее? Когда он привел к ней своего врача, уже испытанного им и одержавшего немало побед, врача, при чьем посредстве он умертвил множество людей, Динея воскликнула, что ни за что не станет лечиться у человека, который своим лечением погубил всех ее родных. Тогда Оппианик, не теряя времени, обратился к некоему Луцию Клодию из Анконы, площадному лекарю и торговцу снадобьями, тогда случайно приехавшему в Ларин, и сторговался с ним за 2000 сестерциев, что тогда было доказано на основании его собственных приходо-расходных книг. Луций Клодий, который торопился, так как ему предстояло посетить еще много городских площадей, закончил дело в первое же свое посещение: доконал больную первым же глотком приготовленного им питья и после этого не задержался в Ларине ни на мгновение. (41) Когда эта же самая Динея составляла завещание, то Оппианик, бывший ее зятем[578], взял записные дощечки, стер пальцем записи о легатах и, опасаясь, что после ее смерти будет уличен в подлоге, так как он сделал это во многих местах, переписал завещание на другие дощечки и скрепил поддельными печатями[579]. Многое я пропускаю преднамеренно: боюсь, не сказал ли я и так уже слишком много. Но вы должны понять, что он и в дальнейшем оставался верен себе. Что он совершил подлог в официальных цензорских записях Ларина, единогласно признали декурионы[580]. С ним уже никто не заключал соглашения и не вступал в деловые отношения. Никто из его многочисленных родных и свойственников не записывал его опекуном своих детей; никто не считал его достойным ни приветствия, ни встречи, ни беседы, ни приглашения к столу; все от него отворачивались, все его чуждались; все его избегали, как свирепого и хищного зверя, как моровой болезни.
(42) И все же, судьи, этого человека, столь наглого, столь нечестивого, столь преступного, Габит никогда не стал бы обвинять, если бы мог отказаться от обвинения, не рискуя своей жизнью. Недругом был ему Оппианик, — да, был, — но все же это был его отчим. Жестокую вражду питала к нему его мать, но все же это была его мать. Наконец, Клуенцию — и по его натуре, и по его склонности, и по его правилам — совершенно не свойственно быть обвинителем. Но так как ему оставалось одно из двух — либо выступить с честным и добросовестным обвинением, либо умереть мучительной и жалкой смертью, то он и предпочел выступить, как умеет, и обвинить Оппианика, но не погибать самому.
(43) А для того, чтобы вы могли убедиться в справедливости этого моего заявления, расскажу вам о покушении Оппианика, раскрытом и доказанном с несомненностью, из чего вы поймете, что Клуенцию непременно надо было его обвинить, а Оппианик неизбежно должен был быть осужден.
(XV) В Ларине существовали так называемые «марциалы» — государственные служители Марса, посвященные этому богу в силу древнейших религиозных установлений жителей Ларина. Их было довольно много и они считались в Ларине челядью Марса — совершенно так же, как в Сицилии множество рабов принадлежит Венере[581]. Неожиданно Оппианик стал утверждать, что все они — свободные люди и римские граждане. Декурионы и все жители муниципия Ларина были возмущены этим и обратились к Габиту с просьбой взять на себя это дело и вести его от имени городской общины. Габит, хотя он и держался обычно в стороне от подобных дел, всё же, памятуя о своем положении в общине, о древности своего рода, о том, что он, в силу своего рождения, обязан заботиться не об одних лишь своих выгодах, но также и о благе своих земляков и друзей[582], не решился отклонить столь важное поручение всех жителей Ларина. (44) После того как он взял на себя ведение этого дела и перенес его в Рим, между ним и Оппиаником ежедневно стали возникать столкновения, ввиду упорного желания каждого из них отстоять свою точку зрения. Оппианик и без того был свирепого и жестокого нрава, а тут еще разжигала его безумие мать Габита, глубоко ненавидевшая своего сына. Они оба считали очень важным для себя отстранить Габита от ведения дела о марциалах; но к этому соображению присоединялось другое, еще более значительное; оно чрезвычайно волновало Оппианика, человека в высшей степени алчного и преступного. (45) Дело в том, что Габит до самого дня суда еще не успел составить завещание: он не мог решиться ни отказать легат такой матери, ни вовсе пропустить в своем завещании ее имя. Зная это (тайны тут не было никакой), Оппианик понял, что в случае смерти Габита, все его состояние перейдет к его матери и что впоследствии можно будет убить ее с большей выгодой для себя, так как ее имущество увеличится, и с меньшим риском, так как сына у нее не будет. Послушайте теперь, каким образом он, загоревшись этим замыслом, попытался отравить Габита.
(XVI, 46) Некие Гай и Луций Фабриции, братья-близнецы из муниципия Алетрия, так же походили друг на друга своей наружностью и нравами, как не походили на своих земляков; а сколь блистательны последние, как размерен их образ жизни, как почти все они постоянны и воздержны, каждому из вас, думаю, хорошо известно. С этими Фабрициями Оппианик всегда был весьма близок. Ведь вы, надо полагать, все знаете, как важно для заключения дружбы сходство наклонностей и нравов. Так как Фабриции следовали в своей жизни правилу не брезгать никаким доходом, так как от них исходили всевозможные обманы, всякие подвохи и ловушки для молодых людей, и так как они всем людям были известны своими пороками и бесчестностью, то Оппианик, как я уже говорил, уже много лет назад постарался как можно ближе сойтись с ними. (47) Поэтому он и решил тогда устроить Габиту западню при посредстве Гая Фабриция; Луций к тому времени уже умер. В ту пору Габит отличался слабым здоровьем. У него был врач, довольно известный и уважаемый человек, по имени Клеофант. Его раба Диогена Фабриций стал склонять посулами денег, чтобы тот дал Габиту яд. Раб, человек, правда, не лишенный лукавства, но, как показало само дело, честный и бескорыстный, не стал отвергать с презрением предложения Фабриция; он обо всем рассказал своему хозяину. Клеофант, в свою очередь, поговорил с Габитом, а он тотчас сообщил об этом своему близкому другу, сенатору Марку Бебию[583], чью честность, проницательность, высокие достоинства вы, мне думается, помните. Бебий посоветовал Габиту купить Диогена у Клеофанта, чтобы было легче, следуя его указаниям, обнаружить преступление или же установить лживость доноса. Буду краток: Диоген был куплен; яд через несколько дней был припасен; в присутствии многих честных людей, подстерегавших преступника, запечатанные деньги, предназначавшиеся как награда за преступление, были захвачены в руках Скамандра, вольноотпущенника Фабрициев. (48) О, бессмертные боги! Кто после этого скажет, что Оппианик был жертвой неправого суда? (XVII) Был ли когда-либо представлен суду более преступный, более виновный, более непреложно изобличенный человек? Какой ум, какой дар слова, какая защитительная речь, кем бы она ни была придумана, могла бы отвести хотя бы одно только это обвинение? Кто, к тому же, согласится, что Клуенцию, после того как он открыл и явно доказал такое злодеяние, оставалось либо встретить смерть, либо взять на себя роль обвинителя?
(49) Мне думается, вполне доказано, судьи, что самое существо обвинений, предъявленных Оппианику, исключало для него всякую возможность быть оправданным честным путем. Я докажу вам теперь, что, уже до вызова обвиняемого в суд, его дело слушалось дважды и что он явился в суд, уже будучи осужден. Ведь Клуенций, судьи, сначала подал жалобу на того человека, в чьих руках он захватил яд. Это был вольноотпущенник Фабрициев, Скамандр. Совет судей не был предубежден; не было ни малейшего подозрения, что они подкуплены; дело, переданное в суд, было простое и определенное и касалось лишь одной статьи обвинения. Тут уже названный мной Гай Фабриций, понимая, что осуждение вольноотпущенника грозит такой же опасностью ему самому, и зная, что жители Алетрия — мои соседи и, в большинстве своем, мои добрые знакомые, привел многих из них ко мне домой. Хотя они были о самом Фабриции такого мнения, какого он заслуживал, все же, поскольку он был из их муниципия, они полагали, что их достоинство велит им защищать его, насколько сил хватит. Поэтому они стали просить меня поступить так же и взять на себя ведение дела Скамандра, так как от его исхода зависела участь его патрона. (50) Я же, с одной стороны, не будучи в состоянии отказать в чем-либо этим столь достойным и столь расположенным ко мне людям, с другой стороны, не считая этого обвинения таким тяжким и так ясно доказанным, — как думали и они, поручавшие мне это дело, — обещал им сделать все, чего они хотели.
(XVIII) Началось слушание дела; был вызван Скамандр в качестве обвиняемого. Обвинял Публий Каннуций, чрезвычайно одаренный человек и опытный оратор. Но его обвинение против Скамандра содержало лишь три слова: «Был захвачен яд». Все копья всей своей обвинительной речи он метал в Оппианика; он раскрыл причину покушения; упомянул о близком знакомстве Оппианика с Фабрициями, описал его образ жизни, его преступность; словом, всю свою обвинительную речь, произнесенную живо и убедительно, он закончил доказательством явного для всех захвата яда. (51) И вот, чтобы ответить ему, встал я. Бессмертные боги! Какое волнение, какая тревога, какой страх охватили меня! Правда, я всегда сильно волнуюсь, начиная свою речь; всякий раз, как я говорю, мне кажется, что я пришел отдать на суд не только свое дарование, но и свою честность и добросовестность; я боюсь, как бы вам не показалось, что я утверждаю то, чего не смогу доказать, а это свидетельствовало бы о моем бесстыдстве, или же что не достигаю того, чего мог бы достигнуть, а это можно было бы приписать моей недобросовестности или небрежности. Но тогда я был до того взволнован, что боялся всего: ничего не сказав, прослыть лишенным дара речи; сказав по делу такого рода слишком много, прослыть совершенно бессовестным человеком. (XIX) Наконец, я собрался с духом и решил говорить смело; ведь людей моего возраста[584] обычно хвалят за то, что они даже в делах, не слишком надежных, не оставляют своего подзащитного, находящегося в отчаянном положении. Так я и поступил. Я так боролся, так изыскивал разные способы доказательства, так неутомимо прибегал ко всем средствам, ко всем лазейкам, какие только мог отыскать, что достиг одного: никто — скажу скромно — не мог подумать, что защитник оказался предателем по отношению к своему подзащитному. (52) Но за какое бы оружие я ни брался, обвинитель тотчас же выбивал его у меня из рук. Если я спрашивал, какую неприязнь Скамандр питал к Габиту, он отвечал, что никакой, но что Оппианик, чьим орудием был подсудимый, был и остался злейшим недругом Габиту. Если же я указывал, что смерть Габита не сулила Скамандру никакой выгоды, то обвинитель со мной соглашался, но говорил, что все его имущество в этом случае должно было бы достаться жене Оппианика, человека искушенного в убийстве своих жен. Когда я приводил в пользу Скамандра довод, всегда встречавший особенное одобрение при слушании дел вольноотпущенников, что Скамандр пользуется доверием у своего патрона[585], он соглашался, но спрашивал, у кого пользуется доверием сам патрон. (53) Если я, не жалея слов, отстаивал мысль, что Скамандру была устроена западня при посредстве Диогена, что они сговорились насчет другого дела с тем, чтобы Диоген принес лекарство, а не яд, что это могло случиться со всяким, то обвинитель спрашивал, почему же Скамандр пришел в такое укромное место, почему он пришел один, почему с запечатанными деньгами[586]. Наконец, в этом вопросе моей защите наносили удар свидетельские показания самых уважаемых людей. Марк Бебий говорил, что Диоген был куплен по его совету, что в его присутствии Скамандр был задержан с ядом и деньгами в руках. Публий Квинтилий Вар, человек чрезвычайно добросовестный и влиятельный, сообщил, что Клеофант и ранее говорил ему о покушении, подготовлявшемся против Габита, и о попытке подкупить Диогена, немедленно после того, как она была сделана. (54) Итак, во время того суда, когда я, казалось, защищал Скамандра, он был обвиняемым только по имени, но в действительности и по существу всего обвинения им был Оппианик, которому и грозила опасность. Он и сам этого не скрывал, да ему и не удалось бы скрыть: он постоянно присутствовал в заседании суда, был заступником[587], боролся, прилагая всяческие старания и пуская в ход все свое влияние. Под конец он — и это было хуже всего для того дела — сидел на этом самом месте, словно сам был обвиняемым. Взоры всех судей были направлены не на Скамандра, а на Оппианика; его страх, его волнение, выражение тревожного ожидания на его лице, частые перемены цвета его лица делали явным и очевидным все то, что ранее можно было только подозревать. (XX, 55) Когда судьям надо было приступить к совещанию, то Гай Юний, председатель суда, в соответствии с действовавшим тогда Корнелиевым законом[588], спросил подсудимого, какого голосования он хочет: тайного или открытого? По совету Оппианика, называвшего Юния близким другом Габита, подсудимый пожелал тайного голосования. Суд приступил к совещанию. Всеми поданными голосами, за исключением одного, который, по утверждению Стайена, принадлежал ему самому, Скамандр был осужден при первом слушании дела[589]. Кто тогда не считал, что осуждением Скамандра приговор вынесен Оппианику? Что было признано этим осуждением, как не то, что яд был добыт для отравления Габита? Наконец, было ли высказано против Скамандра — или, вернее, могло ли быть высказано — хотя бы малейшее подозрение в том, что он, по собственному побуждению, решил умертвить Габита?
(56) И вот тогда, после этого приговора, когда Оппианик — по существу и всеобщим мнением, но еще не законом и не объявлением приговора — уже был осужден, Габит все же не сразу привлек Оппианика к суду. Он хотел узнать, относятся ли судьи так строго только к тем людям, в чьих руках, как они установили, оказался яд, или же считают достойными кары также, и тех, кто задумал такое преступление и знал о нем. Поэтому он тотчас же привлек к суду Гая Фабриция, которого он, ввиду его близкого знакомства с Оппиаником, считал сообщником в этом преступлении, и ввиду тесной связи между этими двумя делами добился разбирательства в первую очередь. Но тут уже Фабриций не только не стал приводить ко мне жителей Алетрия, моих соседей и друзей, но и сам уже не мог найти в них ни защитников, ни предстателей[590]. (57) Пока еще ничего не было решено, я, по своей доброте, считал своим долгом защищать не чужого мне человека даже в подозрительном деле, но всякую попытку поколебать уже вынесенный приговор признал бы бессовестной. Поэтому Фабриций, оказавшись в беспомощном и безвыходном положении, ввиду самого́ характера своего дела, обратился к братьям Цепасиям, людям расторопным, жадно хватавшимся за любую представившуюся им возможность произнести речь и считавших это за честь и выгоду для себя[591]. (XXI) Вообще в таких случаях допускается, можно сказать, большая неправильность: при болезни человека, чем она опаснее, тем более известного и более сведущего врача к нему приглашают; напротив, при наличии угрозы гражданским правам, чем положение труднее, тем к более слабому и менее известному защитнику обращаются. Или это, быть может, объясняется тем, что врач должен проявить одно лишь свое искусство, а оратор, кроме того, поддерживает обвиняемого и своим авторитетом? (58) Итак, обвиняемого вызывают в суд, слушается дело, коротко, словно приговор уже вынесен, обвиняет Каннуций; начинает отвечать, сделав очень длинное вступление и начав издалека, старший Цепасий; вначале речь его слушают внимательно; приободрился Оппианик, который уже пал духом и был в отчаянии; стал радоваться и сам Фабриций; он не понимал, что судьи поражены не красноречием его защитника, а его бесстыдной речью. Но когда оратор приступил к самому делу, он, так сказать, к тем ранам, какие подсудимому нанес разбор дела, стал прибавлять новые, так что, как он ни старался, иногда, казалось, он не защищал подсудимого, а действовал по сговору с обвинителем[592]. И вот, когда он считал, что говорит чрезвычайно тонко, пользуясь самыми убедительными выражениями, взятыми им из тайников своего искусства («Бросьте взгляд, судьи, на участь человека, на превратность счастья, на старость Гая Фабриция!»), и когда он, желая придать своей речи красоту, несколько раз повторил это «Бросьте взгляд!», он сам бросил взгляд — но Гай Фабриций уже успел встать со скамьи подсудимых и ушел, понурив голову. (59) Тут судьи рассмеялись, а рассерженный защитник стал жаловаться, что ему испортили всю защиту, не дав досказать речь до конца от того места: «Бросьте взгляд, судьи!». Еще немного — и он бросился бы преследовать Фабриция, чтобы схватить его за горло и привести к его скамье, дабы иметь возможность закончить свою речь. Таким образом, Фабриций был осужден, во-первых, своим собственным приговором, что самое главное, во-вторых, силой закона и голосами судей.
(XXII) Стоит ли мне, после этого, продолжать свою речь о личности Оппианика и о его деле? Он был обвинен перед теми же судьями, будучи уже осужден двумя предварительными приговорами[593]; и те же самые судьи, которые осуждением Фабриция вынесли приговор Оппианику, решили рассмотреть его дело вне очереди. Он был обвинен в очень тяжких преступлениях: и в тех, о которых я вкратце рассказал, и во многих других, которые я теперь обхожу молчанием; он был обвинен перед теми же судьями, которые ранее осудили Скамандра как орудие Оппианика и Гая Фабриция как его сообщника в преступлении. (60) Во имя бессмертных богов! Чему больше удивляться: тому ли, что он был осужден, или же тому, что он вообще осмелился явиться в суд? И в самом деле, что могли сделать судьи? Даже если бы Фабриции, которых они осудили, не были виновны, все же по отношению к Оппианику они должны были бы остаться верны себе и держаться своих ранее вынесенных приговоров. Разве могли они отменить свои собственные приговоры, в то время как прочие судьи обычно стараются не выносить приговоров, противоречащих приговорам других судей? Неужели могли они, осудив вольноотпущенника Фабриция за то, что он был орудием преступления, и его патрона за то, что он был соучастником в нем, оправдать самого́ зачинщика, вернее, вдохновителя этого злодеяния? Неужели они, осудившие этих людей даже при отсутствии их предварительного осуждения, на основании самого́ дела могли освободить от ответственности этого человека, представшего перед ними уже после своего двукратного осуждения? (61) В таком случае, право, была бы исключена всякая возможность защищать пресловутые сенаторские суды, навлекшие на себя не необоснованную ненависть, но заслуженный и явный позор, вернее, покрывшие себя бесчестием и бесславием[594]. В самом деле, что могли бы ответить эти судьи, если бы их спросили: «Вы осудили Скамандра. За какое преступление?» — «За то, что он хотел отравить Габита при посредстве раба его врача». — «Что же Скамандр выигрывал от смерти Габита?» — «Ничего, но Скамандр был орудием Оппианика». — «Вы осудили также и Гая Фабриция. За что?» — «Коль скоро он был знаком с Оппиаником, а его вольноотпущенник был уличен в злодеянии, то не было оснований думать, что он сам не был причастен к этому замыслу». Итак, если бы они оправдали самого Оппианика, дважды осужденного их собственными приговорами, то кто мог бы примириться с таким позором, тяготевшим над судами, с такой непоследовательностью в отношении дел, уже решенных, с таким вопиющим произволом судей?
(62) И если вы видите то, что уже раскрыто этой частью моей речи, что подсудимый неизбежно должен был быть осужден тем же самым судом, более того, теми же самыми судьями, которые уже вынесли два предварительных приговора, то вы должны понять и то, что у обвинителя не могло быть никаких оснований, которые бы побудили его подкупить судей.
(XXIII) В самом деле, я хочу спросить тебя, Тит Аттий[595], уже оставив в стороне все прочие доказательства: считаешь ли ты, что и Фабриции были осуждены безвинно, что и в тех судах, в которых один подсудимый получил оправдательный голос одного только Стайена, а другой подсудимый сам себя осудил, судьи были подкуплены? Но если те люди были виновны, то в каком, скажи, преступлении? Разве им ставили в вину что-либо другое, кроме попытки добыть яд, чтобы отравить Габита? Разве в тех судах была речь о чем-либо, кроме этого покушения на жизнь Габита, которое было устроено Оппиаником при посредстве Фабрициев? Ничего, повторяю, ничего другого вы не найдете, судьи! Память о тех делах жива, официальные записи сохранились[596]; уличи меня, если я говорю неправду; прочти показания свидетелей; укажи, в чем именно, кроме соучастия с Оппиаником в попытке отравления, подсудимых во время слушания их дел, не говорю уже — обвиняли, но хотя бы упрекали. (63) Можно высказать много соображений, которые докажут неизбежность вынесенного тогда приговора, но я опережу ваши ожидания, судьи! Ибо, хотя вы слушаете меня с таким вниманием, с такой благосклонностью, как, пожалуй, не слушали никого, однако ваше молчаливое ожидание уже давно зовет меня дальше и, как мне кажется, говорит: «Что же? Ты отрицаешь, что тот суд был подкуплен?» — Не отрицаю этого, но утверждаю, что он был подкуплен не Габитом. — «Кем же, в таком случае, был он подкуплен?» — Мне думается, во-первых, если бы исход того суда был сомнителен, все же более вероятным был бы подкуп его человеком, боявшимся, что он сам будет осужден, а не человеком, опасавшимся, что другой человек будет оправдан; во-вторых, — так как никто не сомневался в том, какой именно приговор неминуемо должен быть вынесен, — скорее можно было предполагать подкуп суда тем человеком, который, из известных соображений, не был уверен в благополучном для него исходе суда, а не тем, кто мог быть вполне уверен в благоприятном для него приговоре; наконец, вернее, что суд был подкуплен тем, кто дважды потерпел неудачу у этих судей, а не тем, кто дважды доказал им свою правоту. (64) Всякий, каким бы недругом Клуенцию он ни был, бесспорно, согласится со мной в одном: если факт подкупа суда установлен, то суд был подкуплен либо Габитом, либо Оппиаником; доказав, что он был подкуплен не Габитом, я уличу Оппианика; установив, что это сделал Оппианик, я сниму подозрение с Габита[597]. Таким образом, хотя я уже достаточно ясно доказал, что у моего подзащитного не было никаких оснований подкупать суд, из чего можно заключить, что суд был подкуплен Оппиаником, все же рассмотрим вопрос об этом особо.
(XXIV) Не стану приводить тех доказательств, которые уже сами по себе вполне убедительны: подкупил тот, кому грозила опасность, кто боялся за себя, кто не видел другой возможности сохранить свои гражданские права, кто всегда отличался исключительной наглостью. Таких доводов можно привести много; но коль скоро я знаю одно обстоятельство не спорное, а ясное и несомненное, то не вижу необходимости перечислять отдельные доказательства. (65) Я утверждаю, что Стаций Аббий дал судье Гаю Элию Стайену большую сумму денег для подкупа суда. Разве кто-нибудь отрицает это? Обращаюсь к тебе, Оппианик, к тебе, Тит Аттий! Ведь вы оба оплакиваете осуждение этого человека, один — чтобы показать свое красноречие, другой — молча, из сыновнего чувства. Посмейте только отрицать, что Оппианик дал деньги судье Стайену, отрицайте это, повторяю, отрицайте! Уступаю вам свою очередь. Что же вы молчите? Разве вы можете отрицать, что вы потребовали возврата этих денег, признали их своими и забрали их? Каким же наглым надо быть, чтобы говорить о подкупе суда, когда вы признаете, что ваша сторона дала деньги судье до суда, а после суда их у него отобрала! (66) Каким же образом все это произошло? Я ненадолго вернусь к событиям прошлого, судьи, и все, остававшееся в течение долгого времени скрытым и неизвестным, вам открою, так что вы увидите это воочию. Прошу вас выслушать мою дальнейшую речь с тем же вниманием, с каким вы слушали меня до сего времени, и, право, я не скажу ничего, что не было бы достойно этого собрания и его безмолвия, достойно интереса и внимания, какое вы проявляете.
Как только Оппианик начал подозревать, что́ ему грозит в связи с привлечением Скамандра к суду, он немедленно стал втираться в дружбу к человеку малоимущему и ловкому, искушенному в деле подкупа суда и бывшему тогда судьей, — к Стайену[598]. На первых порах, после внесения Скамандра в списки обвиняемых, Оппианик своими подарками и услугами только заручился благосклонностью Стайена, большей, чем этого требовала его честность как судьи. (67) Но впоследствии, когда Скамандр получил оправдательный голос одного только Стайена, а патрон Скамандра не получил даже своего собственного оправдательного голоса, Оппианик счел нужным применить, в защиту своего благополучия, более сильные средства. Тогда он и обратился к Стайену, как к человеку, весьма изобретательному по части уловок, бесстыдному и наглому, в высшей степени упорному в выполнении своих намерений (он действительно в какой-то мере обладал всеми этими качествами, но в еще большей степени притворялся, что обладает ими), и стал просить у него помощи, чтобы сохранить своя гражданские права и свое положение.
(XXV) Вы хорошо знаете, судьи, что даже дикие звери, томимые голодом, часто возвращаются туда, где они когда-то находили пищу. (68) Стайен, взявшись два года назад вести дело об имуществе Сафиния из Ателлы[599], сказал, что он, располагая 600.000 сестерциев, подкупит суд. Получив от малолетнего наследника эту сумму, он оставил ее у себя и, после суда, не возвратил ее ни Сафинию, ни лицам, купившим это имущество. Растратив эти деньги и не оставив себе ничего для удовлетворения, не говорю уже — своих прихотей, но даже насущных потребностей, он решил вернуться к тому же самому роду стяжания, то есть к присвоению денег, выдаваемых ему для подкупа суда. Видя отчаянное положение Оппианика, сраженного двумя предварительными приговорами, Стайен ободрил его своими обещаниями и в то же время посоветовал ему не терять надежды на спасение. Оппианик же начал его умолять, чтобы он указал ему способ подкупа суда. (69) Тогда Стайен, как впоследствии заявил сам Оппианик, сказал, что во всем государстве никто, кроме него, не может это устроить. Но вначале он стал отнекиваться, говоря, что он вместе со знатнейшими людьми добивается должности эдила и боится вызвать неодобрительное отношение к себе и всеобщее неудовольствие. Затем, снизойдя к просьбам, он сначала потребовал огромных денег, затем согласился на сходную сумму и велел, чтобы ему на дом доставили 640.000 сестерциев. Как только деньги были доставлены, этот негодяй начал раздумывать и скоро сообразил, что в его интересах, чтобы Оппианик был осужден: в случае оправдания деньги пришлось бы распределить между судьями или же возвратить ему; в случае же его осуждения никто не станет требовать их обратно[600]. (70) Поэтому он придумал нечто исключительное. Но мой правдивый рассказ, судьи, встретит больше доверия с вашей стороны, если вы пожелаете представить себе (после прошедшего с тех пор времени) образ жизни и характер Гая Стайена; ибо мы на основании своего мнения о нравах каждого человека можем заключить, что он сделал и чего не делал.
(XXVI) Будучи человеком неимущим, расточительным, наглым, хитрым и вероломным, он, видя в своем обнищавшем и опустошенном доме такую большую сумму денег, стал замышлять всяческие ухищрения и обманы. «Неужели я дам деньги судьям? А мне что тогда достанется, кроме опасности и позора? Неужели мне не придумать способа для неизбежного осуждения Оппианика? Как же быть? Ведь все может случиться: если какая-нибудь неожиданность вдруг избавит его от опасности, деньги, пожалуй, придется возвратить. Итак, подтолкнем, — сказал он себе, — падающего и повергнем погибшего». (71) Он задумал вот что: посулить деньги кое-кому из наименее добросовестных судей, а затем не дать их; люди строгих правил, полагал он, и сами безусловно вынесут суровый приговор, а у менее добросовестных он своим обманом вызовет раздражение против Оппианика. Поэтому он, делая все вопреки рассудку и навыворот, начал с Бульба, который, давно не получая никаких побочных доходов, был печальным и унылым. Стайен подбодрил его: «Ну, Бульб, — сказал он, — не поможешь ли ты мне кое в чем, чтобы нам служить государству не задаром?» Тот, как только услыхал это «не задаром», ответил: «За тобой я пойду, куда захочешь, но что ты предлагаешь?». Тогда Стайен обещал дать ему, в случае оправдания Оппианика, 40.000 сестерциев и предложил ему обратиться к другим, давно знакомым ему людям и даже сам, как повар, затеявший всю эту стряпню, брызнул на этот «лук» «каплей» приправы[601]. (72) И вот, этот «лук» показался не таким уже горьким тем людям, которые, благодаря словам Стайена, предвкушали еще кое-что в будущем. Прошел день, другой; дело стало сомнительным; посредника[602] и поручителя за уплату видно не было. Тогда Бульб, с веселой улыбкой и настолько ласково, насколько умел, обратился к Стайену: «Ну, что же, Пет, — говорит он (дело в том, что Стайен, на основании родовых изображений Элиев, выбрал себе именно это прозвание, дабы не казалось, что у него, если бы он назвал себя Лигуром, прозвание не родовое, а племенное[603]), — люди спрашивают меня, где же денежки за то дело, о котором ты со мной говорил». Тут этот бессовестный проходимец, привыкший наживаться на судебных делах, в душе уже считая припрятанные им деньги своими, нахмурился (вспомните его лицо и его лживую и напускную важность) и, будучи до мозга костей обманщиком и лжецом, наделенным этими пороками от природы и сдобрившим их, так сказать, своим усердием и искусством совершать подлости, невозмутимо заявляет, что Оппианик обманул его, и прибавляет для большей убедительности, что он намерен при открытом голосовании подать против него обвинительный голос.
(XXVII, 73) Распространилась молва, что в совете между судьями были какие-то разговоры о деньгах. Дело это не было ни в такой мере тайным, в какой его следовало держать в тайне, ни в такой мере явным, в какой о нем, ради блага государства, следовало бы объявить. Все колебались и не знали, как быть, но Каннуций, который был человеком искушенным и, так сказать, чутьем понял, что Стайен подкуплен, но полагал, что дело еще не завершено, внезапно счел нужным произнести: «Высказались»[604]. В то время Оппианик не особенно боялся за себя: он думал, что Стайен все уладил. (74) Приступить к совещанию должны были тридцать два судьи. Для оправдания было достаточно шестнадцати голосов[605]; такое число голосов было бы обеспечено Оппианику раздачей 640.000 сестерциев, по 40.000 сестерциев на человека, так что семнадцатый голос самого Стайена, рассчитывавшего на более значительную награду, только завершил бы победу. Но случайно, именно потому, что все произошло неожиданно, сам Стайен отсутствовал; он защищал чье-то дело в суде. С этим мог легко примириться Габит, мог мириться Каннуций, но не примирились ни Оппианик, ни его защитник Луций Квинкций, который, будучи тогда народным трибуном, грубо выбранил председателя суда, Гая Юния, и потребовал, чтобы судьи не начинали совещаться до прихода Стайена, а так как посыльные, по его мнению, мешкали нарочно, то он сам из уголовного суда отправился в суд по частным делам, где находился Стайен, и, в силу своих полномочий, велел отложить слушание дела[606]; затем он сам привел Стайена к судейским скамьям. (75) Судьи встают, чтобы приступить к совещанию, после того как Оппианик, как это было тогда принято, пожелал открытой подачи голосов, дабы Стайен мог знать, что́ каждому из судей следует уплатить. Состав суда был довольно пестрый: продажных членов было немного, но все они были недовольны. Подобно тому, как на поле[607] люди, привыкшие получать взятки, бывают особенно озлоблены против тех кандидатов, которых они подозревают в том, что те задержали обещанные ими деньги, точно так же эти судьи тогда пришли, враждебно настроенные против подсудимого. Другие судьи не сомневались в виновности Оппианика, но ждали, чтобы проголосовали те судьи, которых они считали подкупленными, дабы на основании этого голосования определить, кто именно подкупил суд. (XXVIII) И вдруг — жребий выпадает так, что первыми подавать голоса должны Бульб, Стайен и Гутта; все ждут с нетерпением, как же будут голосовать эти ничтожные люди и продажные судьи. Но они все, без малейшего колебания выносят обвинительный приговор. (76) Тут у всех появилось подозрение и все стали недоумевать, что же собственно произошло. Тогда люди, сведущие в законах, судьи старого закала, не считая возможным оправдать заведомо виновного человека и не желая сразу, без расследования, при первом же слушании дела, осудить человека, ставшего, как они заподозрили, жертвой подкупа, вынесли решение: «Дело не ясно». Напротив, некоторые строгие люди, которые сочли, что каждый должен в своих поступках слушаться только своей совести, полагали, что если другие вынесли справедливый приговор, получив за это деньги, то сами они тем не менее обязаны оставаться верны своим прежним судебным решениям; поэтому они вынесли обвинительный приговор. Нашлось всего пятеро судей, которые то ли по своему неразумию, то ли из жалости, то ли ввиду каких-то подозрений, то ли из угодливости вынесли этому вашему ни в чем не повинному Оппианику оправдательный приговор.
(77) После осуждения Оппианика, Луций Квинкций, человек, пользовавшийся чрезвычайным благоволением народа, привыкший собирать все слухи и подлаживаться под настроение народных сходок, решил, что ему представился случай возвыситься, использовав ненависть народа к сенаторам, так как полагал, что суды, составленные из членов этого сословия, уже не пользуются доверием народа. Созывается одна народная сходка, затем другая, бурные и внушительные; народный трибун кричал, что судьи взяли деньги за то, чтобы вынести обвинительный приговор невиновному; говорил, что имущество каждого под угрозой и теперь нет более правосудия, а человек, у которого есть богатый недруг, не может быть уверен в своей безопасности[608]. У людей, которые не имели понятия о существе дела, никогда не видели Оппианика и думали, что честнейший муж и добросовестный человек погублен путем подкупа, возникли сильные подозрения и они стали требовать, чтобы вопрос был расследован и все дело было доложено им. (78) В то же время Стайен по приглашению Оппианика ночью пришел в дом Тита Анния[609], глубоко уважаемого человека, моего близкого друга; остальное известно всем — как Оппианик говорил со Стайеном о деньгах, как тот обещал их возвратить, как весь их разговор подслушали честные мужи, нарочно спрятавшиеся там, как дело было раскрыто и стало известно на форуме и как все деньги были забраны и отняты у Стайена[610].
(XXIX) Народ уже давно раскусил и узнал этого Стайена; подозрение в любом гнусном поступке с его стороны казалось вполне вероятным. Что он оставил у себя деньги, которые обещал раздать от имени обвиняемого, — этого люди, собиравшиеся на сходки, не понимали, да им об этом и не сообщили. Что в суде была речь о взятках, они понимали; что подсудимый был осужден безвинно, они слышали; что Стайен подал обвинительный голос, они видели; что он сделал это не безвозмездно, в этом они, хорошо его зная, были уверены. Такое же подозрение было и насчет Бульба, Гутты и некоторых других. (79) Поэтому я признаю́ (теперь уже можно безнаказанно это признать, тем более здесь), что так как не только образ жизни Оппианика, но даже его имя до этого времени не были известны народу; так как казалось возмутительным, что невиновный человек был осужден за деньги; так как к тому же бесчестность Стайена и дурная слава некоторых других, подобных ему судей усиливали это подозрение и к тому же дело вел Луций Квинкций, человек, облеченный высшей властью и умевший разжечь страсти толпы, — я признаю́, что этот суд навлек на себя сильнейшую ненависть и был покрыт позором. Помню я, как в это ярко разгоревшееся пламя был ввергнут Гай Юний, председатель этого суда, и как этот эдилиций[611], в глазах людей уже почти достигший претуры, был удален с форума — более того, из среды граждан, — не после прений сторон, а под крики толпы[612].
(80) Я не жалею о том, что защищаю Авла Клуенция именно теперь, а не тогда. Дело его остается тем же, каким и было, да и не может измениться; но те времена, несправедливые и ненавистные, миновали, так что зло, которое было связано с условиями времени, повредить нам уже нисколько не может, а подлинная суть самого́ дела теперь уже говорит в нашу пользу. Поэтому теперь я чувствую, как ко мне относятся те, кто меня слушает, — и не только те, в чьих руках правосудие и власть, но также и те, которые могут только высказать свое мнение. Если бы я стал говорить тогда, меня не стали бы слушать — и не потому, что само дело было другим; нет, оно осталось тем же; но время было другое. Это станет вам ясно из следующего. (XXX) Кто тогда посмел бы сказать, что осужденный Оппианик был виновен? Кто теперь смеет это отрицать? Кто тогда мог бы обвинить Оппианика в попытке подкупить суд? Кто ныне может это опровергать? Кому тогда позволили бы доказывать, что Оппианик был привлечен к суду, уже осужденный двумя предварительными приговорами? Найдется ли ныне кто-нибудь, кто попытается это опровергнуть? (81) Итак, коль скоро угасла ненависть, которую течение времени смягчило, моя речь осудила, ваше добросовестное и справедливое отношение к выяснению истинной сути дела отвергло, то что еще, скажите, остается в этом деле?
Установлено, что суду предлагали деньги. Спрашивается, от кого исходило это предложение: от обвинителя или от подсудимого? Обвинитель говорит: «Во-первых, я обвинял, располагая такими вескими уликами, что у меня не было надобности предлагать деньги; во-вторых, я привел в суд человека, который уже был осужден, так что даже деньги не могли бы вырвать его у меня из рук; наконец, даже если бы его оправдали, мое собственное положение в обществе и государстве нисколько не пострадало бы». А подсудимый? «Во-первых, множество и тяжесть предъявленных мне обвинений внушали мне страх. Во-вторых, после осуждения Фабрициев за соучастие в моем преступлении, я тоже стал чувствовать себя осужденным; наконец, я дошел до такой крайности, что все мое положение в обществе и государстве стало зависеть от одного этого приговора».
(82) А теперь, коль скоро у Оппианика было много, и притом важных, побуждений для подкупа суда, а у Клуенция не было никаких, поищем источник самой взятки. Клуенций вел свои приходо-расходные книги очень тщательно. Этот обычай, несомненно, ведет к тому, что ни прибыль, ни убыток в имуществе не могут остаться скрытыми. Вот уже восемь лет, как противная сторона изощряет свою находчивость в этом деле, обсуждая, разбирая и исследуя все, относящееся к нему, — из книг Клуенция и других людей, и все же вам не удается найти и следа денег Клуенция. А деньги Аббия? Идти ли нам по их следу, пользуясь своим чутьем, или же мы можем под вашим руководством добраться до самого логова зверя? В одном месте захвачены 640.000 сестерциев, захвачены у человека, склонного к самым дерзким преступлениям, захвачены у судьи. Чего вам еще? (83) Но, скажете вы, не Оппианик, а Клуенций подговорил Стайена подкупить суд. Почему же, когда судьи приступали к голосованию, Клуенций и Каннуций не имели ничего против его отсутствия? Почему, допуская голосование, они не требовали присутствия судьи Стайена, которому они ранее дали деньги? Ведь жаловался на это Оппианик, требовал его присутствия Квинкций; пользуясь своей властью трибуна, именно он не позволил в отсутствие Стайена приступить к совещанию. Но, скажут нам, Стайен подал обвинительный голос. Он сделал это, чтобы показать и Бульбу и другим, что Оппианик его обманул. Итак, если у той стороны есть основания для подкупа суда, на той стороне деньги, на той стороне Стайен, наконец, на той стороне всяческий обман и преступность, а на нашей — добросовестность, честно прожитая жизнь, ни малейшего следа денег, взяточничества, никаких оснований для подкупа суда, то позвольте теперь, когда истина раскрыта и всякие заблуждения рассеяны, перенести пятно этого позора на того, за которым числятся и другие преступления и пусть ненависть, наконец, оставит в покое того, кто, как видите, никогда ни в чем не провинился.
(XXXI, 84) Но, скажете вы, Оппианик дал Стайену деньги не для того, чтоб он подкупил суд, а для того, чтоб он помирил его с Клуенцием. И это говоришь ты, Аттий, при твоей проницательности, при твоей опытности и знании жизни? Говорят, самый умный человек это тот, который сам знает, что ему делать; ближе всех к нему по уму тот, кто следует тонкому совету другого. При глупости — наоборот. Тот, кому ничего не может прийти в голову, менее глуп, чем тот, кто одобряет глупость, придуманную другим. Ведь этот довод насчет примирения Стайен либо сам придумал по горячим следам, когда его взяли за горло, либо, как тогда говорили, сочинил эту басню о примирении, следуя совету Публия Цетега[613]. (85) Ведь вы можете вспомнить распространившиеся тогда толки о том, что Цетег, ненавидя Стайена и не желая, чтобы государство страдало от его нечестных выходок, дал ему коварный совет, понимая, что человек, признавшийся в том, что он, будучи судьей, тайно и без внесения в книги[614] взял деньги у обвиняемого, не сможет вывернуться. Если Цетег при этом поступил нечестно, то он, мне кажется, сделал это потому, что хотел устранить своего противника[615]; но если положение было таково, что Стайен не мог отрицать, что он получил деньги, причем самым опасным и самым позорным для него было признаться, для какой цели он их получил, то Цетега нельзя упрекать за его совет. (86) Но одно дело — тогдашнее положение Стайена, другое дело — нынешнее твое положение, Аттий!
Для него, ввиду очевидности улик, любое объяснение было бы более благовидным, чем признание того, что действительно произошло. Но как же ты теперь возвратился к тому, что было освистано и отвергнуто? Вот чему я крайне удивляюсь. В самом деле, разве Клуенций мог тогда помириться с Оппиаником? Или помириться с матерью? Обвиняемый и обвинитель значились в официальных списках; Фабриции были осуждены; с одной стороны, Аббий, даже при другом обвинителе, осуждения избегнуть не мог; с другой стороны, Клуенций не мог отказаться от обвинения, не рискуя опозориться как злостный обвинитель[616]. (XXXII, 87) Или Оппианик хотел склонить Клуенция к преварикации?[617] Но и она также относится к подкупу суда. А зачем для этого надо было прибегать к судье в качестве посредника? И вообще, к чему было поручать все это дело Стайену, человеку совершенно чужому им обоим и отъявленному негодяю, между тем как можно было обратиться к какому-нибудь порядочному человеку из числа их общих добрых друзей? Впрочем, зачем я так долго толкую об этом, словно о каком-то неясном вопросе? Ведь сумма денег, данная Стайену, весьма значительная и ясно указывает нам, для чего они предназначались. Я утверждаю, что для оправдания Оппианика надо было подкупить шестнадцать судей. Стайену было вручено 640.000 сестерциев. Если, как говоришь ты, эти деньги были даны, чтобы достигнуть примирения, то что означает эта придача в 40.000 сестерциев?[618] Если же, как утверждаем мы, — чтобы дать каждому из шестнадцати судей по 40.000 сестерциев, то даже сам Архимед не мог бы лучше рассчитать.
(88) Но, скажете вы, был вынесен целый ряд приговоров, устанавливающих, что Клуенций подкупил суд. Нет, напротив, доныне это дело ни разу в своем подлинном виде не было представлено в суд. Такой шум был поднят вокруг этого дела, так долго носились с ним, что только сегодня по нему была впервые выставлена защита, только сегодня истина, возлагая надежду на этих вот судей, впервые возвысила свой голос против ненависти. А впрочем, что это за ряд приговоров? Я обеспечил себе возможность ответить на все нападки и подготовился к выступлению так, что могу доказать следующее: из так называемых приговоров, впоследствии вынесенных о суде прежнего состава, часть походила скорее на обвал и бурю, чем на суд и разбирательство, часть ни в чем не уличает Габита, часть даже была вынесена в его пользу, часть же такова, что их никогда и не называли и не считали судебными приговорами. (89) Здесь я, больше потому, что так принято, а вовсе не потому, что вы не делаете этого сами, буду вас просить слушать меня внимательно, когда я буду обсуждать каждый из этих приговоров в отдельности.
(XXXIII) Был осужден Гай Юний, председательствовавший в том прежнем постоянном суде; прибавь также, если угодно: он был осужден тогда, когда был председателем суда. Народный трибун не дал ему отсрочки, полагавшейся ему не только для завершения дела, но и по закону[619]. В то самое время, когда не дозволялось отвлекать его от присутствия в суде для какой бы то ни было другой государственной деятельности, его самого схватили, чтобы суд вершить над ним! Какой же суд? Выражение ваших лиц, судьи, велит мне теперь свободно говорить о том, о чем я считал нужным умолчать, и я охотно сделаю это. (90) Что же это было: постоянный суд, или разбирательство дела, или вынесение приговора? Положим, что так. Пусть же любой человек из той возбужденной толпы, чье требование тогда было выполнено, скажет сегодня, в чем обвинялся Юний. Кого ни спросишь, всякий ответит: в том, что дал себя подкупить; в том, что засудил невиновного. Таково всеобщее мнение. Но, если бы это было так, он должен был быть обвинен на основании того же закона, на основании которого ныне обвиняется Габит. Впрочем, он сам судил на основании этого закона. Квинкцию следовало подождать несколько дней[620], но он не хотел ни выступить как обвинитель, уже сделавшись частным лицом, ни выступать, когда волнение уже уляжется. Итак, вы видите, что обвинитель возлагал надежды не на существо самого́ дела, а на обстоятельства и на свою власть как трибуна. (91) Он потребовал наложения пени. В силу какого закона? Потому что Юний не присягал в том, что будет применять данный закон[621], — но это никогда никому в вину не ставилось, — потому что в подчищенном списке честного и добросовестного городского претора Гая Верреса, который тогда показывали народу, не было имен судей, избранных при дополнительной жеребьевке[622]. Вот по каким причинам, судьи, — ничтожнейшим и несостоятельным, на которые вообще ссылаться в суде не следовало, Гай Юний был осужден. Таким образом, его погубило не его дело, а обстоятельства. (XXXIV, 92) И этот приговор, по вашему мнению, должен быть неблагоприятен для Клуенция? По какой причине? Если Юний не произвел дополнительной жеребьевки в соответствии с требованием закона, если он когда-то не присягнул в том, что будет применять какой-то закон, то неужели его осуждение по этому делу заключало в себе приговор Клуенцию? «Нет, — говорит обвинитель, — но Юний потому был осужден на основании этих законов, что нарушил другой закон». Те, кто утверждает это, возьмутся, пожалуй, защищать и самый тогдашний суд! «К тому же и римский народ, — говорит он, — тогда был озлоблен против Гая Юния за то, что при его посредстве, как тогда думали, тот суд и был подкуплен». Ну, а теперь разве суть самого дела изменилась? Разве сам состав дела, смысл судебного разбирательства, характер всего дела в целом теперь не те же, какими были раньше? Не думаю, чтобы из всего того, что произошло действительно, что-либо могло измениться. (93) Почему же теперь мою защитительную речь слушают, соблюдая такое молчание, а тогда Юния лишили возможности защищаться? Потому что тогда все судебное разбирательство свелось к проявлению одной только ненависти, заблуждений, подозрений и к обсуждению на ежедневных сходках, созывавшихся с целью мятежа и в угоду толпе. И на сходках и перед судейскими скамьями выступал как обвинитель все один и тот же народный трибун; на суд он не только сам приходил прямо со сходки, но даже приводил с собой ее участников. Аврелиевы ступени[623], тогда новые, казалось, были построены, чтобы служить театральными скамьями для того суда; как только обвинитель сгонял на них возбужденную толпу, не было возможности, не говорю уже — защищать обвиняемого, нет, даже встать для того, чтобы произнести речь.
(94) Недавно, в суде под председательством моего коллеги, Гая Орхивия[624], судьи не приняли жалобы на Фавста Суллу[625], обвиненного в присвоении казенных денег, но не потому, что они считали Суллу стоящим выше законов, и не потому, что не придавали значения делам о казенных деньгах, а так как не видели возможности — раз в качестве обвинителя выступает народный трибун — обеспечить обеим сторонам равные права. Но могу ли я Суллу сравнивать с Юнием или нынешнего народного трибуна — с Квинкцием, или наше время с прежним? У Суллы огромные средства, множество родичей, родственников, друзей, клиентов; у Юния же вся эта опора была мала, слаба и была приобретена и создана лишь его личными стараниями. Народный трибун, о котором я говорю, — человек скромный, добросовестный и не только не является мятежником, но даже против мятежников; а тот был злобным, злоречивым, заискивал перед толпой и был смутьяном. Наше время спокойное и мирное, в то время разразилась буря ненависти. И несмотря на это, наши судьи решили, что обстоятельства не благоприятны для слушания дела Фавста, так как его противник, в дополнение к своим правам обвинителя, мог бы опереться еще и на свою власть как народного трибуна.
(XXXV, 95) Это соображение, судьи, вы, по своей мудрости и благорасположенности, должны твердо запомнить и всегда иметь в виду, не забывая, какое зло, какую опасность для каждого из нас таит в себе власть народного трибуна, особенно если он станет разжигать ненависть и с целью мятежа созывать народные сходки. В лучшие времена, когда людей охраняло не заискивание перед толпой, а их достоинство и бескорыстие, все же, клянусь Геркулесом, ни Публий Попилий[626], ни Квинт Метелл[627], прославленные и знаменитые мужи, не могли устоять против насильственных действий трибунов; тем более в наше время, при нынешних нравах и при нынешних должностных лицах, мы едва ли можем быть невредимы, если ваша мудрость и правосудие не придут нам на помощь. (96) Поэтому и не был тот суд похож на суд, не был, судьи! Ведь в нем ни порядка никакого не было, ни обычай и заветы предков не были соблюдены, ни защита не была осуществлена. Это было насилие и, как я уже говорил не раз, так сказать, обвал и буря, — что угодно, но только не приговор, не разбирательство, не постоянный суд. Поэтому, если кто-нибудь думает, что то был действительный приговор, и считает нужным рассматривать это дело как решенное, то все же и этот человек должен отделять настоящее дело от того прежнего. На Юния, говорят, была наложена пеня — за то ли, что он будто бы не присягнул, что будет соблюдать закон, за то ли, что не произвел дополнительной жеребьевки судей в соответствии с требованием закона; но дело Клуенция не может иметь никакого отношения к тем законам, на основании которых на Юния была наложена пеня.
(97) Но, скажешь ты, осужден был и Бульб. Прибавь — за оскорбление величества[628] и ты поймешь, что настоящее судебное дело не связано с прежним. — «Но ему было предъявлено обвинение и в получении взятки». — Признаю́ это, но было также установлено на основании донесения Гая Коскония[629] и показаний многих свидетелей, что он подстрекал к мятежу легион в Иллирике, а это преступление было подсудно именно тому постоянному суду и на него распространялся закон об оскорблении величества. — «Но его погубило, главным образом, именно то обвинение». — Это уже догадки; если дозволено пользоваться ими, то мои предположения, пожалуй, гораздо ближе к истине. Я лично думаю так: Бульб был известен как негодяй, подлец, бесчестный человек, запятнанный многими гнусными поступками, и поэтому, когда он предстал перед судом, осудить его и было легко. Ты же из всего дела Бульба выхватываешь то, что тебе выгодно, и утверждаешь, что судьи руководствовались именно этим.
(XXXVI, 98) Вследствие этого осуждение Бульба не должно вредить нашему делу больше, чем те два приговора, упомянутые обвинителем, — Публию Попилию и Тиберию Гутте, которые были привлечены к ответственности за незаконное домогательство[630] и обвинены людьми, которые сами были осуждены за домогательство. По моему мнению, эти последние не потому были восстановлены в своих правах, что доказали виновность Попилия и Гутты в том, что они вынесли судебное решение, получив взятку, но потому, что, уличив других людей в тех же проступках, за которые они пострадали сами, они сумели убедить судей в том, что им по закону полагается награда[631]. Поэтому, мне думается, никто не усомнится в том, что осуждение их за домогательство не имеет ни малейшего отношения к делу Клуенция и к вашему решению.
(99) А осуждение Стайена? Я не говорю теперь, судьи, того, что, пожалуй, следовало бы сказать, — что он был осужден за оскорбление величества; не оглашаю свидетельских показаний, данных против Стайена весьма уважаемыми людьми, бывшими легатами, префектами и военными трибунами Мамерка Эмилия[632], прославленного мужа. Этими свидетельскими показаниями достоверно установлено, что, в бытность Стайена квестором, главным образом его происки и привели к мятежу в войске. Не оглашаю даже свидетельских показаний, данных насчет 600.000 сестерциев, которые Стайен, получив их на дело Сафиния, задержал и присвоил себе так же, как впоследствии во время суда над Оппиаником. (100) Оставляю в стороне это и очень многое другое, высказанное против Стайена во время того суда. Утверждаю одно: римские всадники Публий и Луций Коминии[633], весьма уважаемые и красноречивые люди, обвинявшие Стайена, вели с ним точно такой же спор, какой я теперь веду с Аттием. Коминии утверждали то же, что теперь говорю я: Стайен получил от Оппианика деньги на подкуп суда; Стайен же утверждал, что получил их для того, чтобы примирить Оппианика с Клуенцием.
(101) Одни насмешки вызывало это выдуманное им примирение и надетая им на себя личина порядочного человека, как и случай с позолоченными статуями, воздвигнутыми им около храма Ютурны, с надписями на цоколях, гласившими о состоявшемся благодаря ему примирении между царями[634]. Люди обсуждали все его обманы и подвохи, доказывали, что вся его жизнь была основана на таких ухищрениях; описывали бедность его дома и алчность, проявляемую им на форуме; изобличали этого продажного миротворца и поборника согласия. Поэтому Стайен, приводивший в свое оправдание те же доказательства, какие теперь приводит Аттий, тогда и был осужден. (102) Коминии же, отстаивавшие то же, что в течение всего слушания дела отстаивал я, вышли победителями. Итак, если суд, своим обвинительным приговором Стайену, признал, что Оппианик хотел подкупить суд, что Оппианик дал судье денег для подкупа судей; коль скоро установлено, что вина падает либо на Клуенция, либо на Оппианика, причем не находится и следов денег Клуенция, будто бы данных им судье, между тем как деньги Оппианика были, после вынесения приговора, отняты у судьи, то может ли быть сомнение, что тот обвинительный приговор Стайену не только не вредит Клуенцию, но чрезвычайно помогает нашему делу и моей защите? (XXXVII, 103) Итак, из всего сказанного до сего времени я вижу, что суд над Юнием протекал так, что его скорее следует назвать набегом мятежников, насилием со стороны толпы, нападением народного трибуна, а не судом. И даже если кто-нибудь назовет его судом, все же он должен признать, что связывать дело Клуенция с пеней, наложенной на Юния, никак нельзя. Ибо этот приговор вынесен против Юния путем насилия, приговоры Бульбу, Попилию и Гутте не говорят против Клуенция, а приговор Стайену говорит даже в пользу Клуенция. Посмотрим, не удастся ли нам привести еще один приговор, который бы говорил в его пользу.
Так вот, не привлекался ли к суду голосовавший за осуждение Оппианика Гай Фидикуланий Фалькула, который, будучи назначен дополнительной жеребьевкой[635], пробыл судьей всего лишь несколько дней? Ведь именно это обстоятельство и навлекло на него ненависть во время того суда. Да, он привлекался к суду и притом дважды. Ведь Луций Квинкций, на ежедневных мятежных и бурных сходках, вызвал сильнейшую ненависть к нему. При первом суде на него была наложена пеня на том же основании, что и на Юния, — за то, что он участвовал в суде не в очередь своей декурии и не в соответствии с законом. Он был привлечен к суду в несколько более спокойное время, чем Юний, но обвинялся почти в том же проступке и подпадал под действие того же закона. Так как во время суда не было ни мятежа, ни насильственных действий и не собиралась толпа, то он, при первом же слушании дела, без всяких затруднений был оправдан. Этому оправданию я большого значения не придаю; ведь даже если предположить, что он не провинился в том, за что положена пеня, то он тем не менее мог взять деньги за вынесение судебного решения, — так же, как и Стайен, взявший деньги, ни разу не был судим, во всяком случае, на основании этого закона. Преступления такого рода не были подсудны этому постоянному суду. (104) Что же ставили Фидикуланию в вину? Что он получил от Клуенция 400.000 сестерциев. К какому сословию он принадлежал? К сенаторскому. Будучи обвинен на основании того закона, по которому сенаторы привлекаются к ответственности за такие проступки, а именно на основании закона о вымогательстве, он был с почетом оправдан. Ибо дело велось по заветам наших предков — без применения насилия, без запугивания, без угроз; все было высказано, изложено, доказано. Судьи убедились в том, что любой человек, не входящий в состав суда в течение всего предшествующего времени и руководимый только своей совестью, мог вынести Оппианику обвинительный приговор; более того, даже если бы он как судья не знал ничего другого, кроме вынесенных об Оппианике предварительных приговоров, ему и этого было бы вполне достаточно.
(XXXVIII, 105) Даже и те пятеро судей, которые, руководствуясь слухами, распространявшимися людьми несведущими, в свое время вынесли Оппианику оправдательный приговор[636], теперь уже неохотно слушали похвалы своему милосердию. Если бы кто-нибудь спросил их, входили ли они в состав суда над Гаем Фабрицием, они ответили бы утвердительно; на вопрос, был ли он обвинен в чем-либо другом, кроме приобретения яда, как говорили, для отравления Габита, они ответили бы отрицательно; если бы их затем спросили, какой приговор они вынесли, они сказали бы, что признали подсудимого виновным; в самом деле, ни один из них не стоял за оправдание его. Если бы им предложили такие же вопросы насчет Скамандра, они, несомненно, ответили бы то же самое; хотя один оправдательный голос и был подан, но никто из них не признался бы в том, что это был его голос. (106) Кому же в таком случае было бы легче обосновать свое решение: тому ли, кто оставался верен себе и своим прежним приговорам, или же тому, кому пришлось бы признать, что он по отношению к главному преступнику оказался снисходителен, а к его помощникам и сообщникам беспощаден? Но не мое дело рассуждать о поданных ими голосах; не сомневаюсь, что если у таких мужей неожиданно возникло какое-то подозрение, они, конечно, изменили свои взгляды. Поэтому мягкосердечия тех судей, которые голосовали за оправдание Оппианика, я не порицаю; непоколебимость тех из них, кто остался верен своим прежним приговорам, действуя по своей воле и не поддаваясь на происки Стайена, одобряю; мудрость тех, кто заявил, что вопрос не ясен, особенно хвалю; не видя никакой возможности оправдать человека, в чьей преступности они убедились и которого они сами уже дважды осудили, они предпочли, ввиду нареканий на совет судей и возникших подозрений в столь тяжком преступлении, осудить Оппианика через некоторое время, по выяснении всех обстоятельств дела. (107) Но не только за этот поступок считайте их мудрыми; нет, зная, какие они люди, следует одобрить также и все их действия, как совершенные справедливо и мудро. Можно ли назвать человека, который превосходил бы Публия Октавия Бальба природным умом, знанием права, тщательностью и безупречностью в вопросах чести, совести и долга? Он за оправдание Оппианика не голосовал. Кто превзошел Квинта Консидия непоколебимостью? Кто более искушен в судебном деле и в поддержании того достоинства, которое должно быть присуще уголовным судам? Кто более известен своим мужеством, умом, авторитетом? Он также не голосовал за оправдание Оппианика. Много времени заняло бы, если бы я стал говорить о достоинстве и образе жизни каждого из судей. Все это хорошо известно и не нуждается в пышных словах. Каким человеком был Марк Ювенций Педон, из судей старого закала! А Луций Кавлий Мерг, Марк Басил, Гай Кавдин! Все они славились в уголовных судах еще тогда, когда славилось и наше государство. К ним следует причислить Луция Кассия и Гнея Гея, людей такой же неподкупности и проницательности. Ни один из них не голосовал за оправдание Оппианика. Да и Публий Сатурий, по летам самый младший из всех судей, но умом, добросовестностью и сознанием долга равный тем, о которых я уже говорил, голосовал так же. (108) Хороша невиновность Оппианика! Тех, кто голосовал за его оправдание, считают лицеприятными; тех, которые сочли нужным отложить слушание дела, — осторожными; тех, которые вынесли обвинительный приговор, — непоколебимыми.
(XXXIX) В ту пору Квинкций держал себя так, что изложить все это ни на народной сходке, ни в суде возможности не было: он и сам никому не позволял говорить и, подстрекая толпу, никому и слова не давал сказать. Но, погубив Юния, он все это дело оставил; через несколько дней сам он стал частным лицом, да и страсти толпы, как он видел, улеглись. Однако если бы он в течение тех же дней, когда обвинял Юния, захотел обвинить и Фидикулания, последнему не дали бы возможности отвечать. Правда, Квинкций вначале угрожал всем тем судьям, которые осудили Оппианика. (109) Его заносчивость вы знали, знали его нетерпимость как трибуна. Какой ненавистью дышал он, бессмертные боги! Какая надменность, какое самомнение, какое необычайное и нестерпимое высокомерие! Он был особенно раздражен именно потому — с этого все и началось, — что дело оправдания Оппианика не предоставили ему и его защите. Как будто то обстоятельство, что Оппианику пришлось прибегнуть к помощи такого защитника, не было достаточным признаком того, что он покинут всеми. Ведь в Риме было очень много защитников, людей весьма красноречивых и уважаемых; уж, наверное, кто-нибудь из них согласился бы защищать римского всадника, небезызвестного в своем муниципии, если бы только защиту такого дела он мог признать совместимой со своей честью. (XL, 110) Да разве Квинкций вел когда-нибудь хотя бы одно дело, дожив до пятидесяти лет? Кто видел его когда-либо, уже не говорю — в роли защитника, но хотя бы в роли предстателя или заступника? Так как ему удалось захватить уже давно никем не занимавшиеся ростры и место, с которого, после прибытия Луция Суллы в Рим, перестал раздаваться голос трибуна[637], и так как он вернул толпе, уже отвыкшей от сходок, некоторое подобие прежнего обычая, то он не надолго приобрел известное расположение некоторых людей. Но зато как потом возненавидели его те же самые люди, с чьей помощью он достиг более высокого положения! И поделом! (111) В самом деле, постарайтесь вспомнить, не говорю уже — его характер и высокомерие, нет, его лицо, одежду, одну его, памятную нам, пурпурную тогу, доходившую ему до пят![638] Словно не будучи в состоянии мириться со своим поражением в суде, он перенес дело с судейских скамей на ростры. И мы еще нередко жалуемся, что новые люди[639] не получают в нашем государстве достаточных наград за свои труды! Я утверждаю, что бо́льших наград не было никогда и нигде; если человек незнатного происхождения ведет такой образ жизни, что он, ввиду своих достоинств, как все видят, заслуживает высокого положения, занимаемого знатью, то он достигает того, что ему приносят его усердие и бескорыстие. (112) Но если он опирается на одну лишь незнатность своего происхождения, то он часто преуспевает даже больше, чем преуспел бы, обладая такими же пороками, но принадлежа к высшей знати. Например, будь Квинкций (о других не стану говорить) знатным человеком, кто смог бы мириться с его памятной нам надменностью и нетерпимостью? Но ввиду его происхождения его терпели, находя нужным зачитывать ему в приход все то, что в нем было хорошего от природы, а его надменность и заносчивость считая, ввиду его низкого происхождения, скорее смешным, чем страшным.
(XLI) Но вернемся к оправданию Фидикулания. Ты говоришь о вынесенных приговорах. Я спрашиваю тебя, какой приговор, по твоему мнению, тогда был вынесен. Несомненно, приговор, что Фидикуланий подал свой голос безвозмездно. (113) Но он, скажешь ты, подал обвинительный голос; но он не все время присутствовал при слушании дела; но он на всех сходках не раз подвергался резким нападкам народного трибуна Луция Квинкция. Следовательно, все эти нападки Квинкция были пристрастны, необоснованны, рассчитаны на бурные страсти, на заискивание перед народом, побуждали к мятежу. «Пусть будет так, — скажут мне, — Фалькула мог быть невиновен». Значит, кто-то подал против Оппианика обвинительный голос, не будучи подкуплен[640]. Выходит, что Юний не подбирал, путем дополнительной жеребьевки, таких людей, которые бы за взятку вынесли обвинительный приговор. Значит, можно было не участвовать в суде с самого начала и все же вынести Оппианику обвинительный приговор безвозмездно. Но если не виновен Фалькула, то кто же, скажи на милость, виновен? Если он подал обвинительный голос безвозмездно, то кто же брал деньги? Я утверждаю, что в числе обвинений, предъявленных другим членам суда, не было ни одного, которое бы не было предъявлено Фидикуланию; что в деле Фидикулания не было ничего такого, чего не было бы также и в делах других людей. (114) Ты, чье обвинение, видимо, основано на решенных делах, должен либо порицать этот приговор, либо, соглашаясь, что он справедлив, признать, что Оппианик был осужден безвозмездно.
Впрочем, достаточно веским доказательством должно быть то, что после оправдания Фалькулы ни один из столь многочисленных судей привлечен к ответственности не был. В самом деле, зачем вы приводите мне случаи осуждения за домогательство на основании другого закона при наличии определенных обвинений, при множестве свидетелей, когда те судьи должны были быть обвинены скорее во взяточничестве, чем в домогательстве? Ибо если подозрение во взяточничестве повредило им в судах за домогательство, когда они привлекались к ответственности на основании другого закона, то оно, — если бы они предстали перед судом на основании закона, предусматривающего именно этот проступок, — несомненно, повредило бы им гораздо больше. (115) Затем, если это обвинение было таким тяжким, что могло погубить любого из судей Оппианика, независимо от закона, на основании которого он был бы предан суду, то почему же при таком множестве обвинителей, при столь значительных наградах не были привлечены к ответственности также и другие судьи?
Здесь приводят то, что никак нельзя назвать судебным приговором: на основании этого обвинения была определена сумма денег, подлежавшая возмещению[641] Публием Септимием Сцеволой. Каким образом обычно ведутся такие дела, мне нет надобности доказывать подробно, так как я говорю перед людьми весьма опытными. Ведь той тщательности, какую судьи проявляют, пока приговор еще не ясен, они не проявляют, когда обвиняемый уже осужден. (116) При определении суммы, подлежащей возмещению, судьи, пожалуй, либо считая человека, которого они уже однажды осудили, своим врагом, не допускают вчинения ему нового иска, грозящего его гражданским правам, либо, находя, что они уже выполнили свою обязанность, раз они вынесли подсудимому приговор, судят об остальном более небрежно. Так, по обвинению в оскорблении величества были оправданы очень многие люди, которым, когда они были ранее осуждены за вымогательство, сумма, подлежащая возмещению ими, была определена к внесению после суда за оскорбление величества. И мы изо дня в день видим, как после осуждения за вымогательство те же судьи оправдывают людей, к которым, как установлено при определении подлежащих возмещению сумм, эти деньги поступили. Это не следует считать отменой приговора, но этим устанавливается, что определение суммы, подлежащей возмещению, не есть судебный приговор. Сцевола был осужден по другим обвинениям, при множестве свидетелей из Апулии. Его противники усиленно добивались того, чтобы решение суда о возмещении ущерба было признано поражающим его гражданские права. Если бы это решение имело силу судебного приговора, то те же самые или другие недруги Сцеволы привлекли бы его к суду на основании именно данного закона.
(XLII, 117) Далее следует то, что наши противники называют уже вынесенным судебным приговором; между тем наши предки никогда не называли официального цензорского замечания судебным приговором и не рассматривали его как вынесенный приговор[642]. Прежде чем я начну говорить об этом, я должен сказать несколько слов о своей обязанности; вы увидите, что я не упустил из виду ни опасности, угрожающей Клуенцию, ни также и своих обязанностей по отношению к друзьям. Ибо с обоими доблестными мужами, которые недавно были цензорами[643], я связан дружбой; но с одним из них, как большинство из вас знает, я особенно близок; наша тесная связь основана на взаимных услугах. (118) Поэтому я хотел бы, чтобы все то, что я буду вынужден сказать в своей речи по поводу сделанных ими записей, было отнесено не к их поступку, а к цензуре как таковой. Что касается моего близкого друга Лентула, чье имя я произношу с уважением, подобающим его выдающимся доблестям и высшим почестям, оказанным ему римским народом, то у этого человека, который привык не только честно и добросовестно, но и мужественно и открыто защищать своих друзей, находящихся в опасном положении, я без труда испрошу дозволение, судьи, подражать ему в этих качествах в такой мере, в какой я должен сделать это, чтобы не подвергнуть Клуенция опасности. Однако, как и подобает, все будет сказано мной осторожно и осмотрительно — так, чтобы, с одной стороны, был соблюден мой долг, как защитника, с другой стороны, ничье достоинство не было задето и ничья дружба не была оскорблена.
(119) Я знаю, судьи, что цензоры выразили порицание некоторым судьям из Юниева совета, отметив в своим записях именно то судебное дело, о котором идет речь. Здесь я прежде всего выскажу следующее общее положение: в нашем государстве цензорским замечаниям никогда не придавали силы произнесенного судебного приговора. Не стану терять времени, говоря о хорошо известных вещах; приведу один пример: Гай Гета, исключенный из сената цензорами Луцием Метеллом и Гнеем Домицием, впоследствии сам был избран в цензоры; человек, за свой образ жизни заслуживший порицание цензоров, в дальнейшем сам стал блюстителем нравов как римского народа, так и тех, кто вынес порицание ему самому. Так что, если бы цензорскому порицанию придавали значение судебного приговора, то люди, получившие замечание, были бы точно так же лишены доступа к почетным должностям и возможности возвратиться в курию, как другие, осужденные по какому-либо позорному делу, навсегда лишаются всякого почета и достоинства. (120) Но если теперь вольноотпущенник Гнея Лентула или Луция Геллия вынесет кому-нибудь обвинительный приговор за воровство, то этот человек, утратив все свои преимущества, никогда не вернет себе и малейшей доли своего почетного положения; напротив, те, кому сами Луций Геллий и Гней Лентул, двое цензоров, прославленные мужи и мудрейшие люди, вынесли порицание за воровство и взяточничество, не только возвратились в сенат, но даже были оправданы по суду, когда их обвинили в этих самых проступках. (XLIII) По воле наших предков, не только в делах, касающихся доброго имени человека, но даже и в самой пустой тяжбе об имуществе никто не может быть судьей, не будучи назначен с согласия обеих сторон. Вот почему порочащее порицание не упоминается ни в одном законе, где перечисляются причины, препятствующие занятию государственных должностей, избранию в судьи, или судебному преследованию другого человека. Предки наши хотели, чтобы власть цензоров внушала страх, но не карала человека на всю его жизнь. (121) И я мог бы привести в качестве примеров — как вы уже и сами видите — много случаев отмены цензорских замечаний не только голосованием римского народа, но и судебными приговорами тех людей, которые, принеся присягу, должны были принимать свои решения с большой осторожностью и внимательностью. Прежде всего, судьи, сенаторы и римские всадники, вынося приговор многим подсудимым, получившим замечание от цензоров за противозаконное получение денег, повиновались более своей совести, чем мнению цензоров. Далее, городские преторы, которые, принеся присягу, должны были включать любого честного гражданина в списки отобранных судей[644], никогда не считали позорящее замечание цензора препятствием к этому. (122) Наконец, сами цензоры часто не следовали приговорам (если вам угодно называть это приговорами) своих предшественников. Да и сами цензоры между собой придают настолько мало значения этим приговорам, что один из них иногда не только порицает, но даже отменяет приговор другого; один хочет исключить гражданина из сената, другой оставляет его там и признает его достойным принадлежать к высшему сословию; один хочет отнести его к эрарным трибунам или перевести в другую трибу, другой запрещает это. Как же вам приходит в голову называть приговором суждение, которое, как вы видите, римским народом может быть отменено, присяжными судьями отвергнуто, должностными лицами оставлено без внимания, преемниками по должности изменено, а между коллегами может стать поводом к разногласиям?
(XLIV, 123) Коль скоро это так, посмотрим, какое же суждение, как говорят, цензоры вынесли насчет подкупа того суда, о котором идет речь. Прежде всего решим вопрос, должны ли мы потому признать, что подкуп был совершен, что факт этот подтвердили цензоры, или же цензоры так решили потому, что действительно был совершен подкуп. Если — потому, что факт подкупа подтвердили цензоры, то подумайте, что́ вам делать, дабы не дать цензорам на будущее время царской власти над каждым из нас, дабы цензорское порицание не могло приносить гражданам столь же великие бедствия, как жесточайшая проскрипция, дабы мы впредь не страшились цензорского стиля, острие которого наши предки притупили многими средствами, так же, как мы страшимся памятного нам диктаторского меча[645]. (124) Но если цензорское осуждение должно иметь вес потому, что его содержание соответствует истине, рассмотрим, действительно ли оно соответствует ей или же оно ложно. Оставим в стороне замечания цензоров, устраним из дела все, что к делу не относится. Объясни нам, какие деньги дал Клуенций, откуда он их взял, как он их дал; укажи нам вообще хотя бы малейший след денег, исходивших от Клуенция. Далее, убеди нас в том, что Оппианик был честным мужем и неподкупным человеком, что его никогда не считали иным и что о нем не выносили предварительных приговоров. Тогда и обращайся к авторитету цензоров, тогда и утверждай, что их приговор имеет отношение к нашему делу. (125) Но пока не будет опровергнуто, что Оппианик — человек, который, как было установлено, собственноручно подделал официальные списки своего муниципия; переделал чужое завещание; с помощью подставного лица велел скрепить печатями подложное завещание, а того человека от чьего имени оно было составлено, велел убить; своего шурина, бывшего в рабстве и в оковах, умертвил; своих земляков внес в проскрипционные списки и казнил; на вдове убитого им человека женился; деньгами склонил женщину к вытравлению плода; умертвил и свою тещу, и своих жен, и жену своего брата вместе с ожидаемым ребенком, а также самого брата и, наконец, своих собственных детей; был захвачен с поличным при попытке отравить своего пасынка; будучи привлечен к суду, после осуждения своих помощников и сообщников, дал деньги судье для подкупа других судей, — пока, повторяю, все эти факты, касающиеся Оппианика, не будут опровергнуты и пока в то же время не будет приведено доказательств, что деньги были даны Клуенцием, какую помощь это цензорское решение или мнение может оказать тебе и как может оно погубить этого ни в чем не повинного человека?
(XLV, 126) Какими же соображениями руководствовались цензоры? Даже сами они — приведу наиболее убедительные соображения — не назовут ничего другого, кроме слухов и молвы. Они не скажут, что получили сведения от свидетелей, из записей, на основании каких-либо важных доказательств, что они вообще что-либо установили, изучив это дело. Даже если бы они и сделали это, их решение все же не было бы настолько неоспоримым, чтобы его нельзя было опровергнуть. Не буду приводить вам бесчисленных примеров, имеющихся в моем распоряжении; ни на судебные случаи из прошлого, ни на какого-либо могущественного и влиятельного человека ссылаться не стану. Недавно, защищая одного маленького человека, эдильского писца[646] Децима Матриния, перед преторами Марком Юнием и Квинтом Публицием и курульными эдилами Марком Плеторием и Гаем Фламинием, я убедил их принести присягу, зачислить в писцы этого человека, хотя те же самые цензоры оставили его эрарным трибуном[642]. Коль скоро за ним не было замечено никакой провинности, было сочтено, что следует руководствоваться тем, чего этот человек заслуживал, а не тем, что о нем было постановлено.
(127) Обратимся теперь к замечанию цензоров насчет подкупа суда: неужели кто-нибудь может признать, что они достаточно расследовали дело и тщательно взвесили свое решение? Порицание их, вижу я, касается Мания Аквилия и Тиберия Гутты[647]. Что это значит? Они признаю́т, что только два человека были подкуплены, а прочие, очевидно, вынесли обвинительный приговор безвозмездно. Следовательно, Оппианик вовсе не пал жертвой неправого суда, не был погублен денежной взяткой, и не все те люди, которые вынесли ему обвинительный приговор, виновны, и не на всех падает подозрение, как это, по слухам, утверждали на этих Квинкциевых сборищах. Всего два человека, вижу я, по мнению цензоров, причастны к этому гнусному делу. Или пусть наши противники, по крайней мере, признают, что если против этих двух человек улики были, то это не значит, что они имеются и против остальных.
(XLVI, 128) Ибо никак нельзя одобрить, чтобы к цензорским замечаниям и суждениям применялись правила, принятые в войсках. Ведь наши предки установили правило, что за тяжкое воинское преступление, совершенное множеством людей сообща, должна понести наказание избираемая по жребию часть виновных[648], так что страх охватывает всех, но кара постигает немногих. Прилично ли, чтобы цензоры поступали так же при возведении в высшее достоинство, при суждении о гражданах, при порицании за пороки? Солдат, не устоявший в бою, испугавшийся натиска и мощи врагов, впоследствии может стать и более надежным солдатом, и честным человеком, и полезным гражданином. Поэтому, кто во время войны, из страха перед врагом, совершил преступление, тому наши предки и внушили сильнейший страх перед смертной казнью; но чтобы не слишком многие платились жизнью, была введена жеребьевка. (129) И что же — ты, будучи цензором, поступишь так же, составляя сенат? Если окажется много судей, за взятку осудивших невинного, то ты накажешь не всех, а выхватишь из них, кого захочешь, и из многих людей выберешь нескольких, чтобы покарать их бесчестием? Разве не будет позором, что с твоего ведома и у тебя на глазах в курии будет сенатор, у римского народа — судья, в государстве — гражданин, продавший свою честь и совесть, чтобы погубить невинного, и что человек, который, польстившись на деньги, отнимет у невинного гражданина его отечество, имущество и детей, не будет заклеймен цензорской суровостью? И тебя будут считать блюстителем нравов и наставником в строгих правилах старины, между тем как ты оставишь в сенате человека, заведомо запятнанного таким тяжким преступлением, или решишь, что одинаково виновные люди не должны нести одну и ту же кару? И положение о наказаниях, установленное нашими предками на время войны для трусливых солдат, ты применишь во времена мира к бесчестным сенаторам? Но даже если следовало применить этот воинский обычай в случае цензорского замечания, то надо было прибегнуть к жеребьевке. Но если цензору совсем не подобает определять наказания по жребию и судить о проступках, полагаясь на случайность, то нельзя, конечно, при большом числе виновных выхватывать немногих, чтобы поразить бесчестием и позором только их.
(XLVII, 130) Все мы, впрочем, понимаем, что те цензорские замечания, о которых идет речь, имели целью снискать благоволение народа. Дело обсуждалось мятежным трибуном на народной сходке; толпа, не ознакомившись с делом, согласилась с трибуном; возражать не позволяли никому; наконец, никто и не старался защищать противную сторону. Сенаторские суды и без того пользовались очень дурной славой. И действительно, через несколько месяцев после дела Оппианика они опять навлекли на себя сильную ненависть в связи с подачей меченых табличек[649]. Цензоры, очевидно, не могли оставить без внимания это позорное пятно и пренебречь им. Людей, обесчещенных другими пороками и гнусностями, они решили наказать также и этим замечанием — тем более, что именно в это время, в их цензуру, доступ в суды уже был открыт для всаднического сословия[650]; таким образом, они, заклеймив тех, кто это заслужил, как бы осудили тем самым старые суды вообще. (131) Если бы мне или кому-нибудь другому позволили защищать это дело перед теми же самыми цензорами, то им, людям столь выдающегося ума, я, несомненно, мог бы доказать, что они не располагали данными следствия и установленными фактами и что — это видно из самого дела — целью всех их замечаний было угодить молве и заслужить рукоплескание народа. И действительно, Публия Попилия, подавшего голос за осуждение Оппианика, Луций Геллий заклеймил, так как он будто бы взял деньги за то, чтобы вынести обвинительный приговор невиновному. Но сколь проницательным надо быть для того, чтобы достоверно знать, что обвиняемый, которого ты, пожалуй, никогда не видел, был невиновен, когда мудрейшие люди, судьи (о тех, которые вынесли обвинительный приговор, я уже и говорить не буду), ознакомившись с делом, сказали, что для них вопрос не ясен!
(132) Но пусть будет так: Геллий осуждает Попилия, полагая, что тот получил от Клуенция взятку; Лентул это отрицает; правда, он не допускает Попилия в сенат, потому что тот был сыном вольноотпущенника[651]; но сенаторское место на играх и другие знаки отличия он ему оставляет и совершенно снимает с него пятно бесчестия. Делая это, Лентул признает, что Попилий подал голос за осуждение Оппианика безвозмездно. И об этом же Попилии Лентул впоследствии, во время суда за домогательство, как свидетель дал очень лестный отзыв. Итак, если с одной стороны, Лентул не согласился с суждением Луция Геллия, а с другой стороны, Геллий не был доволен мнением Лентула, если каждый из них как цензор отказался признать обязательным для себя мнение другого цензора, то как можно требовать от нас, чтобы мы считали все цензорские осуждения незыблемыми и действительными на вечные времена?
(XLVIII, 133) Но, скажут нам, они выразили порицание самому Габиту. Да, но не из-за какого-либо гнусного поступка, не из-за какого-либо, не скажу — порока, даже не из-за ошибки, допущенной им хотя бы раз в течение всей его жизни. Нет человека, более безупречного, чем он, более честного, более добросовестного в исполнении всех своих обязанностей. Да они этого и не оспаривают; но они руководствовались все той же молвой о подкупе суда; их мнение о его добросовестности, бескорыстии, достоинстве ничуть не расходится с тем мнением, в справедливости которого мы хотим убедить вас; но они не сочли возможным пощадить обвинителя, раз они наказали судей. По поводу этого дела я приведу лишь один пример из старых времен и больше ничего говорить не стану. (134) Не могу обойти молчанием случай из жизни величайшего и знаменитейшего мужа, Публия Африканского. Когда во время его цензуры производился смотр всадников и перед ним проходил Гай Лициний Сацердот, он громким голосом, чтобы все собравшиеся могли его слышать, заявил, что ему известен случай формального клятвопреступления со стороны Сацердота и что, если кто-нибудь хочет выступить как обвинитель, сам он готов дать свидетельские показания. Но так как никто не откликнулся, то он велел Сацердоту вести коня дальше[652]. Таким образом, тот, чье мнение всегда было решающим и для римского народа и для чужеземных племен, сам не признал своего личного убеждения достаточным для того, чтобы опозорить другого человека. Если бы Габиту позволили, то он в присутствии самих судей с легкостью опроверг бы ложное подозрение и дал бы отпор ненависти, возбужденной против него в расчете на благоволение народа.
(135) Есть еще одно обстоятельство, которое меня очень смущает; пожалуй, на это возражение мне едва ли удастся ответить. Ты прочитал выдержку из завещания Гнея Эгнация-отца, человека якобы честнейшего и умнейшего: он, по его словам, потому лишил своего сына наследства, что тот за вынесение обвинительного приговора Оппианику получил взятку. О легкомыслии и ненадежности этого человека распространяться не стану; об этих его качествах достаточно говорит то самое завещание, которое ты прочитал: лишая ненавистного ему сына наследства, он любимому сыну назначил сонаследниками совершенно чужих для него людей. Но ты, Аттий, я полагаю, должен хорошенько подумать, чье решение для тебя имеет больший вес: цензоров или Эгнация? Если ты стоишь за Эгнация, то суждения цензоров о других людях не имеют значения; ведь цензоры исключили из сената самого Гнея Эгнация, чьим мнением ты так дорожишь. Если же ты стоишь за цензоров, то знай, что этого Эгнация, которого родной отец, своим цензорским осуждением лишает наследства, цензоры оставили в сенате, исключив из него его отца.
(XLIX, 136) Но, говоришь ты, весь сенат признал, что этот суд был подкуплен. Каким же образом? — «Он вмешался в это дело»[653]. — Мог ли сенат отказаться от этого, когда такое дело внесли на его рассмотрение? Когда народный трибун, подняв народ, чуть было не вызвал открытого мятежа, когда все говорили, что честнейший муж и безупречнейший человек пал жертвой подкупленного суда, когда сенаторское сословие навлекло на себя сильнейшую ненависть, — можно ли было не принять решения, можно ли было пренебречь возбуждением толпы, не подвергая государства величайшей опасности? Но какое постановление было принято? Сколь справедливое, сколь мудрое, сколь осторожное! «Если есть люди, чьи действия привели к подкупу уголовного суда,…» Как вам кажется: признает ли сенат факт совершившимся, или же он выражает свое негодование и огорчение на случай, если бы он оказался таковым? Если бы самого Авла Клуенция спросили в сенате, какого мнения он о подкупе судей, он ответил бы то же, что ответили те, чьими голосами Клуенций, как вы говорите, был осужден. (137) Но я спрашиваю вас: разве внес, на основании этого постановления сената, консул Луций Лукулл, человек выдающегося ума, соответствующий закон, разве внесли такой закон годом позже Марк Лукулл и Гай Кассий, насчет которых, тогда избранных консулов[654], сенат постановил то же самое?[655] Нет, они такого закона не вносили. И то, что ты, не подкрепляя своих слов ни малейшим доказательством, приписываешь действию денег Габита, произошло прежде всего благодаря справедливости и мудрости этих консулов; ведь постановление это, которое сенат издал, чтобы потушить вспыхнувший в ту пору народный гнев, они впоследствии не сочли нужным представить на рассмотрение народа. А позднее и сам римский народ, возбужденный ранее притворными жалобами народного трибуна Луция Квинкция, потребовал рассмотрения этого дела и внесения соответствующего закона, теперь же он, тронутый слезами Гая Юния-сына, маленького мальчика, при громких криках и стечении людей отверг этот закон в целом и решение суда. (138) Это подтвердило справедливость часто приводимого сравнения: как море, тихое по своей природе, волнуется и бушует от ветров, так и римский народ, по характеру своему мирный, приходит в возбуждение от речей мятежных людей, словно волнуемый сильнейшими бурями.
(L) Есть еще одно очень важное замечание, которого я, к стыду своему, чуть было не пропустил: говорят, оно принадлежит мне. Аттий прочитал выдержку из какой-то речи, по его словам, моей[656]. Это был обращенный к судьям призыв судить по совести и упоминание как о некоторых дурных судах вообще, так, в частности, о Юниевом суде. Как будто я уже в начале этой своей защитительной речи не говорил, что Юниев суд пользовался дурной славой, или как будто я мог, рассуждая о бесславии судов, умолчать о том, что́ в те времена приобрело такую известность в народе. (139) Но если я и сказал что-нибудь подобное, то я не приводил данных следствия и не выступал как свидетель, и та моя речь скорее была вызвана положением, в каком я был, чем выражала мое собственное суждение и мои взгляды. В самом деле, так как я был обвинителем и в начале своей речи поставил себе задачу тронуть римский народ и судей и так как я перечислял все злоупотребления судов, руководствуясь не своим мнением, а молвой, то я и не мог пропустить дело, получившее в народе такую огласку. Но глубоко заблуждается тот, кто считает, что наши судебные речи являются точным выражением наших личных убеждений; ведь все эти речи — отражение обстоятельств данного судебного дела и условий времени, а не взглядов самих людей и притом защитников. Ведь если бы дела могли сами говорить за себя, никто не стал бы приглашать оратора; но нас приглашают для того, чтобы мы излагали не свои собственные воззрения, а то, чего требует само дело и интересы стороны. (140) Марк Антоний[657], человек очень умный, говаривал, что он не записал ни одной из своих речей, чтобы в случае надобности, ему было легче отказаться от своих собственных слов; как будто наши слова и поступки не запечатлеваются в памяти людей и без всяких записей, сделанных нами! (LI) Нет, я по поводу этого охотнее соглашусь с другими ораторами, а особенно с красноречивейшим и мудрейшим из них — с Луцием Крассом[658]; однажды он защищал Гнея Планка; обвинителем был Марк Брут[659], оратор пылкий и находчивый. Брут представил суду двоих чтецов и велел им прочитать по главе из двух речей Красса, в которых развивались мнения, противоречащие одно другому: в одной речи — об отклонении рогации, направленной против колонии Нарбона[660], — авторитет сената умалялся до пределов возможного; другая речь — в защиту Сервилиева закона[661] — содержала самые горячие похвалы сенату; из этой же речи Брут велел прочитать много резких отзывов о римских всадниках, чтобы восстановить против Красса судей из этого сословия; тот, говорят, несколько смутился. (141) И вот, в своем ответе, Красс прежде всего объяснил, чего требовало положение, существовавшее в то время, когда была произнесена каждая из этих речей, — чтобы доказать, что и та и другая речь соответствовала сути и интересам самого дела. Затем, чтобы Брут понял, каков человек, которого он задел, каким не только красноречием, но и обаянием и остроумием он обладает, он и сам вызвал троих чтецов, каждого с одной из книг о гражданском праве, написанных Марком Брутом, отцом обвинителя. Когда чтецы стали читать начальные строки, вам, мне думается, известные: «Пришлось нам однажды быть в Привернском имении, мне и сыну моему Бруту…», — Красс спросил, куда девалось Привернское имение; «Мы были в Альбанском имении, я и сын мой Брут…», — Красс спросил насчет Альбанского имения; «Однажды отдыхали мы в своем поместье под Тибуром, я и сын мой Брут…», — Красс спросил, что́ стало с поместьем под Тибуром. Он сказал, что Брут, человек умный, зная, какой бездельник его сын, хотел засвидетельствовать, какие имения он ему оставляет; если бы можно было, не нарушая правил приличия, написать, что он был в банях вместе с взрослым сыном[662], то он не пропустил бы и этого; впрочем, о банях Красс все-таки требует отчета — если не по книгам отца Брута, то на основании цензорских записей[663]. Бруту пришлось горько раскаяться в том, что он вызвал чтецов; так отомстил ему Красс, которому, очевидно, было неприятно порицание, высказанное ему за его речи о положении государства, в которых от оратора, пожалуй, больше всего требуется постоянство во взглядах. (142) Что касается меня, то все прочитанное Аттием меня ничуть не смущает. Тому времени и обстоятельствам того дела, которое я защищал, моя тогдашняя речь вполне соответствовала; я не взял на себя обязательств, которые бы мне мешали честно и независимо выступать защитником в настоящем деле. А если я созна́юсь, что я только теперь расследую дело Авла Клуенция, а ранее разделял всеобщее мнение, то кто может поставить мне это в вину? Тем более, что и вам по справедливости следует удовлетворить ту мою просьбу, с какой я обратился к вам в начале своей речи и обращаюсь теперь, — чтобы вы, пришедшие сюда с дурным мнением о прежнем суде, узнав подробности дела и всю правду, отказались от предубеждения.
(LII, 143) Теперь, Тит Аттий, так как я ответил на все сказанное тобой об осуждении Оппианика, ты должен сознаться, что ты жестоко ошибся; ты думал, что я буду защищать Авла Клуенция, основываясь не на его действиях, а на законе[664]. Ты ведь не раз говорил, что, по дошедшим до тебя сведениям, я намерен вести эту защиту, основываясь на законе. Не так ли? Видимо, нас, без нашего ведома, предают наши друзья, а среди тех, кого мы считаем своими друзьями, есть кто-то, кто выдает наши замыслы нашим противникам. Но кто именно сообщил тебе об этом, кто оказался столь бесчестен? Кому же я сам об этом рассказал? Я думаю, в этом не повинен никто, а тебя, бесспорно, этому научил сам закон. Однако разве я, по-твоему, во всей своей защитительной речи хотя бы раз упомянул о законе? Разве я не вел защиту в таком духе, как если бы Габит подпадал под действие этого закона? Насколько человек может судить, ни одного соображения, которое поможет обелить Клуенция от обвинения, возбуждающего ненависть против него, я не пропустил. (144) Но что же? Кто-нибудь, быть может, спросит, отказываюсь ли я прибегать к защите закона, чтобы избавить своего подзащитного от угрозы уголовного суда. Нет, судьи, я от этого не отказываюсь, но я верен своим правилам. Когда судят честного и умного человека, то я обычно следую не только своему решению, но также принимаю во внимание решение и желания своего подзащитного. И вот, когда меня попросили взять на себя защиту, я, будучи обязан знать законы, ради которых к нам обращаются и с которыми мы все время имеем дело, тотчас же сказал Габиту, что по статье «Если кто вступит в сговор, чтобы добиться осуждения человека…» он ответственности не подлежит, так как она касается нашего сословия[665]. Тогда он стал умолять и заклинать меня, чтобы я не вел его защиты, ссылаясь на этот закон; я не преминул высказать ему свои соображения, но он уговорил меня сделать так, как ему казалось лучше: он утверждал со слезами на глазах, что доброе имя для него дороже, чем гражданские права. (145) Я исполнил его желание, но сделал это лишь потому (поступать так всегда мы не должны), что дело, как я видел, само по себе — и без ссылки на закон — давало мне большие возможности для защиты. Я видел, что в том способе защиты, каким я теперь воспользовался, будет больше достоинства, а в том, к которому Клуенций просил меня не прибегать, — меньше трудностей. Действительно, если бы моей единственной целью было выиграть дело, то я прочитал бы вам текст закона и на этом закончил бы свою речь.
(LIII) И меня не волнует речь Аттия, негодующего на то, что сенатор, способствовавший незаконному осуждению человека, подпадает под действие законов, между тем как римский всадник, поступивший так же, под их действие не подпадает. (146) Допустим, если я соглашусь с тобой в том, что это возмутительно (я сейчас рассмотрю, так ли это), то ты должен будешь согласиться со мной, что много более возмутительно, когда в государстве, чьим оплотом являются законы, от них отступают[666]. Ведь законы — опора того высокого положения, которым мы пользуемся в государстве, основа свободы, источник правосудия; разум, душа, мудрость и смысл государства сосредоточены в законах. Как тело, лишенное ума, не может пользоваться жилами, кровью, членами, так государство, лишенное законов, — своими отдельными частями. Слуги законов — должностные лица, толкователи законов — судьи; наконец, рабы законов — все мы, именно благодаря этому мы можем быть свободны. (147) Где причина того, что ты, Квинт Насон[667], заседаешь на шестом трибунале? Где та сила, которая заставляет этих судей, занимающих такое высокое положение, повиноваться тебе? А вы, судьи, по какой причине, из такого большого числа граждан, в таком малом числе избраны именно вы, чтобы выносить решение об участи других людей? По какому праву Аттий сказал все, что хотел? Почему мне дается возможность говорить так долго? Что означает присутствие писцов, ликторов и всех прочих людей, которые, как я вижу, состоят при этом постоянном суде? Все это, полагаю я, совершается по воле закона, весь этот суд, как я уже говорил, управляется и руководствуется, так сказать, разумом закона. Что же? А разве это единственный постоянный суд, который подчиняется закону? А суд по делам об убийстве, руководимый Марком Плеторием и Гаем Фламинием? А суд по делам о казнокрадстве, руководимый Гаем Орхивием? А суд по делам о вымогательстве, руководимый мной? А суд, как раз теперь слушающий дело о домогательстве, руководимый Гаем Аквилием? А остальные постоянные суды? Окиньте взором все части нашего государства: вы увидите, что все совершается по велению и указанию законов. (148) Если бы кто-нибудь захотел обвинить тебя, Тит Аттий, перед моим трибуналом[668], ты воскликнул бы, что закон о вымогательстве на тебя не распространяется[669], и это твое возражение вовсе не было бы равносильно твоему признанию в получении тобой взятки; нет, это было бы желание отвести от себя неприятности и опасности, которым по закону ты подвергаться не должен. (LIV) Смотри теперь, о чем идет дело и какого рода те правовые положения, которые ты хочешь ввести. Закон, на основании которого учрежден этот постоянный суд, велит, чтобы его председатель, то есть Квинт Воконий, с судьями, назначенными ему жребием, — закон призывает вас, судьи! — произвел следствие об отравлении. Следствие над кем? Ограничений нет. «Всякий, кто приготовил, продал, купил, имел, дал яд…» Что еще говорится в этом же законе? Читай «…да свершится уголовный суд над тем человеком». Над кем? Над тем ли, кто вошел в сговор, заключил условие? Нет. В чем же дело? «Над тем, кто, будучи военным трибуном первых четырех легионов[670], или квестором, или народным трибуном (следует перечень всех должностей), или лицом, вносившим или собиравшимся вносить предложение в сенате,…» Как же дальше? «Кто из них вошел или войдет в сговор, или заключил, заключит условие с целью осуждения человека уголовным судом…». «Кто из них…» Из кого же? Очевидно, из тех людей, которые поименованы выше. Какое же значение имеет то, как они поименованы? Хотя это и очевидно, все же сам закон указывает это нам. В случаях, когда он распространяется на всех людей, он гласит так: «Всякий, кто приготовил, приготовит смертельный яд,…» Подсудны все мужчины и женщины, свободные и рабы. Если бы закон имел в виду такой сговор, было бы прибавлено: «или кто войдет в сговор…» Но закон гласит: «Да свершится уголовный суд над тем, кто будет должностным лицом или же будет вносить предложение в сенате; кто из них вошел или войдет в сговор,…» (149) Разве Клуенций из числа таких людей? Конечно, нет. Кто же такой Клуенций? Человек, который, несмотря ни на что, не согласился на то, чтобы его защищали, ссылаясь на этот закон. Поэтому я оставляю закон в стороне, следую желанию Клуенция. Но тебе, Аттий, я отвечу несколькими словами, не имеющими непосредственного отношения к его делу. В нем есть особенность, которая, по мнению Клуенция, касается его; есть и другая, которая, по-моему, касается меня. Он считает важным для себя, чтобы его защищали на основании самого дела и фактов, а не на основании закона; я же считаю важным для себя, чтобы ни в одной части нашего спора с Аттием я не оказался побежденным. Ведь мне придется выступать еще не в одном судебном деле; мой усердный труд — к услугам всех тех, кого могут удовлетворить мои способности как защитника. Я не хочу, чтобы кто-либо из присутствующих подумал, что если я отвечу молчанием на рассуждения Аттия о нашем законе, то это означает, что я с ними согласен. Поэтому я повинуюсь тебе, Клуенций, насколько дело касается тебя; я не оглашаю закона и то, что я говорю сейчас, говорю не ради тебя; но не премину высказать то, чего, по моему мнению, от меня ожидают.
(LV, 150) Тебе, Аттий, кажется несправедливым, что не на всех граждан распространяются одни и те же законы. Прежде всего, если даже и признать это величайшей несправедливостью, то из этого следует, что законы эти надо изменить, но отнюдь не следует, что существующим законам мы можем не повиноваться. Затем, кто из сенаторов, достигнув, благодаря милости римского народа, более высокого положения, когда-либо отказывался подвергаться, в силу законов, тем более строгим ограничениям? Скольких преимуществ лишены мы! Сколько тягот и трудностей мы несем! И за все это нас достаточно вознаграждают одним лишь преимуществом в виде почета и высокого положения! Заставь же теперь всадническое и другие сословия подвергаться таким же ограничениям. Они не стерпят этого. По их мнению, им в меньшей степени должны угрожать путы в виде законов, стеснительных условий и судов, раз они либо не смогли занять высшее положение среди граждан, либо к нему не стремились. (151) Не буду говорить об всех других законах, распространяющихся на нас, между тем как другие сословия от их соблюдения освобождены; возьмем вот какой закон: «Никто не должен страдать от судебных злоупотреблений…», внесенный Гаем Гракхом; он внес этот закон ради блага плебса, а не во вред плебсу. Впоследствии Луций Сулла, как ни чужды были ему интересы народа, все же, учреждая постоянный суд для разбора дел, подобных нашему, на основании того самого закона, по которому вы судите и в настоящее время, не решился связать новым видом постоянного суда римский народ, который он принял свободным от этого вида судебной ответственности. Если бы он счел это возможным, то, при его ненависти к всадническому сословию[671], он ничего бы так не хотел, как собрать всю памятную нам жестокость своей проскрипции, какую он применил против прежних судей, в одном этом постоянном суде. (152) Так и теперь — поверьте мне, судьи, и заранее примите необходимые меры предосторожности — дело идет не о чем ином, как о том, чтобы этот закон угрожал карой также и римским всадникам; правда, усилия прилагают к этому не все граждане, а только немногие; ибо те сенаторы, которым служат надежной защитой их неподкупность и безупречность (таковы, скажу правду, вы и другие люди, прожившие свой век, не проявив алчности), желают, чтобы всадническое сословие, по своему достоинству ближайшее к сенаторскому, было тесно связано с ним узами согласия. Но люди, желающие сосредоточить всю власть в своих руках, ни в чем не делясь ею ни с кем, — ни с другим человеком, ни с другим сословием — полагают, что им удастся подчинить римских всадников своей власти, запугав их постановлением о том, что те из них, которые были судьями, могут быть привлечены к суду на основании этого закона. Люди эти видят, что авторитет всаднического сословия укрепляется; видят, что суды встречают всеобщее одобрение; люди эти уверены в том, что они, внушив вам этот страх, могут вырвать у вас жало вашей строгости. (153) В самом деле, кто отважится добросовестно и стойко судить человека, даже немного более влиятельного, чем он сам, зная, что ему придется отвечать перед судом по обвинению в сговоре и в заключении условия? (LVI) О, непоколебимые мужи, римские всадники, давшие отпор прославленному мужу с огромным влиянием, народному трибуну Марку Друсу[672], когда он, вместе со всей знатью тех времен, добивался одного, — чтобы тех, кто входил в состав суда, можно было привлекать к ответственности в таких именно постоянных судах! Тогдашние лучшие люди, бывшие опорой римского народа, — Гай Флавий Пусион, Гней Титиний, Гай Меценат, — а с ними и другие члены всаднического сословия не сделали того, что теперь делает Клуенций; они не думали, что, отказываясь нести ответственность, они тем самым как бы берут на себя некоторую вину; нет, они оказали Друсу самое открытое сопротивление, полагая и заявляя напрямик, стойко и честно, что они могли бы, по решению римского народа, достигнуть самых высоких должностей, если бы захотели обратить все свои стремления на соискание почестей; что они видели, сколько в такой жизни блеска, преимуществ и достоинства; что они не из презрения отказались от всего этого, но, будучи удовлетворены пребыванием в сословии своем и своих отцов, предпочли остаться верными своей тихой и спокойной жизни, далекой от бурь ненависти и судебных дел этого рода. (154) Либо, говорили они, надо вернуть им их молодость и тем самым дать им возможность добиваться почетных должностей, либо, коль скоро это не выполнимо, оставить им те условия жизни, ради которых они отказались от соискания должностей; несправедливо, чтобы люди, отказавшиеся от блеска почетных должностей из-за множества связанных с ними опасностей, милостей народа были лишены, но от опасностей со стороны новых судов избавлены не были. Сенатор, говорили они, жаловаться на это не может, так как все эти условия были в силе уже тогда, когда он приступил к соисканию должностей, и так как имеется множество преимуществ, облегчающих тяготы его должности: высокое положение, авторитет, блеск и почет на родине, значение и влияние в глазах чужеземных народов, тога-претекста, курульное кресло, знаки отличия, ликторские связки, империй, наместничество в провинциях; по воле наших предков, на этом поприще его ожидают, за честные действия, великие награды, а за проступки ему грозит немало опасностей. Предки наши не отказывались от судебной ответственности по тому закону, на основании которого теперь обвиняется Габит (тогда это был Семпрониев, ныне это Корнелиев закон); ведь они понимали, что закон этот на всадническое сословие не распространяется; но они беспокоились о том, чтобы их не связали новым законом. (155) Габит же никогда не отказывался дать отчет в своей жизни и притом даже на основании того закона, который на него не распространяется. Если вы считаете такое положение желательным, то постараемся, чтобы возможно скорее все сословия стали подсудны этому постоянному суду.
(LVII) Однако пока этого не произошло, — во имя бессмертных богов! — так как мы всеми своими преимуществами, правами, свободой, наконец, благополучием обязаны законам, не будем же отступать от них; подумаем также и вот о чем: римский народ теперь занят другими делами; он поручил вам дела государства и свои собственные интересы, живет, не ведая заботы, и не боится, что в силу закона, которого он никогда не принимал, он может быть привлечен к тому суду, которому считал себя неподсудным, и что суд этот — в составе нескольких судей — будет выносить о нем приговор. (156) Ведь Тит Аттий, юноша доблестный и красноречивый, исходит в своей речи из положения, что все граждане подпадают под действие всех законов; вы проявляете внимание и молча слушаете его рассуждения, как вы и должны поступать. А между тем Авл Клуенций, римский всадник, привлечен к судебной ответственности на основании закона, под действие которого подпадают одни только сенаторы и бывшие должностные лица. Клуенций запретил мне возражать против этого и вести защиту, создавая себе оплот в виде закона, словно это крепость. Если он будет оправдан, на что я твердо рассчитываю, уверенный в вашей справедливости, то все сочтут, что он (как это и будет) оправдан ввиду своей невиновности, потому что его защищали на основании именно этого, но что самый закон, к защите которого он прибегнуть отказался, оплотом ему не служил.
(157) Но теперь возникает вопрос, о котором я уже говорил; он касается лично меня и я должен отвечать за это перед римским народом; ибо цель моей жизни состоит в том, чтобы все мои заботы и труды были направлены в защиту обвиняемых. Я вижу, какой длинный, какой бесконечный ряд опаснейших судебных дел могут начать обвинители, пытаясь распространить на весь римский народ действие закона, составленного для применения только к нашему сословию. В этом законе говорится: «Кто окажется вступившим в сговор» (вы видите, как растяжимо это понятие), «заключившим условие» (понятие столь же неопределенное и неограниченное), «разделившим взгляды» (это уже нечто не только неопределенное, но и прямо загадочное и неясное) «или давшим ложное свидетельское показание,…» Кто из римского плебса никогда не давал таких свидетельских показаний, чтобы ему (если согласиться с Титом Аттием) не грозила такая опасность? Ведь если римскому плебсу будет грозить привлечение к ответственности перед этим судом, то никто — я утверждаю — не станет выступать как свидетель. (158) Но вот какое обязательство всем гражданам даю я: если кому-нибудь будут чинить неприятности на основании закона, который на этого человека не распространяется, и если он пожелает, чтобы я был его защитником, то я буду вести его защиту на основании закона и с величайшей легкостью добьюсь признания его правоты — у этих ли судей или у их достойных преемников; и во всей своей защитительной речи я буду опираться на тот закон, пользоваться которым мне теперь не позволяет человек, чью волю я обязан уважать.
(LVIII) Ведь я никоим образом не могу сомневаться, судьи, что вы, получив для разбирательства дело человека, не подпадающего под действие какого-либо закона, — даже если об этом человеке идет дурная слава, если он со многими во вражде, даже если он ненавистен вам самим, даже если вам, против вашей воли, придется его оправдать — все же его оправдаете, повинуясь своей совести, а не чувству ненависти. (159) Долг мудрого судьи — всегда иметь в виду, что римский народ вручил ему лишь такие полномочия, какие ограничены пределами вверенной ему должности, и помнить, что он облечен не только властью, но и доверием; он должен уметь оправдать того, кого ненавидит, осудить того, к кому не испытывает ненависти; всегда думать не о том, чего он желал бы сам, а о том, чего от него требуют закон и долг; принимать во внимание, на основании какого закона подсудимый привлекается к ответственности, о каком подсудимом он ведет следствие, в чем тот обвиняется. И если все это ему надо иметь в виду, судьи, то долг человека значительного и мудрого — когда он берет в руку табличку для вынесения приговора, — не считать себя единоличным судьей, которому дозволено все, что ему вздумается, но руководствоваться законом, верой в богов, справедливостью и честностью; произвол же, гнев, ненависть, страх и все страсти отметать и превыше всего ставить свою совесть, которая дана нам бессмертными богами и не может быть у нас отнята; если она на протяжении всей нашей жизни будет для нас свидетельницей наших наилучших помыслов и поступков, то мы проживем без страха, окруженные глубоким уважением. (160) Если бы Тит Аттий это понял или обдумал, он даже не попытался бы высказать то положение, которое он столь многословно развил, — будто судья должен решать дела по собственному усмотрению и связанным законами себя не считать. Мне кажется, что об этом — если принять во внимание желание Клуенция — я говорил слишком много; если принять во внимание важность вопроса — слишком мало; если же принять во внимание вашу мудрость — достаточно.
Остается очень немногое. Так как дело было подсудно вашему постоянному суду, то наши противники сочли нужным представить суду различные свои выдумки, чтобы не заслужить полного презрения, когда они явятся в суд лишь со своим злобным предвзятым мнением. (LIX) А дабы вы признали, что обо всем, о чем я говорил, высказаться подробно я был вынужден, выслушайте внимательно также и то, что мне остается сказать; вы, конечно, придете к выводу, что там, где была возможность привести доказательства в немногих словах, моя защита была очень краткой.
(161) Ты сказал, что Гнею Децидию из Самния, который был внесен в проскрипционные списки и находился в бедственном положении, челядь Клуенция нанесла оскорбление[673]. Нет, никто не отнесся к нему более великодушно, чем именно Клуенций — он помог Децидию своими средствами в его нужде, это признал как сам Децидий, так и все его друзья и родственники. Затем ты сказал, что управители Клуенция расправились с пастухами Анхария и Пацена. Когда на одной из троп произошла какая-то ссора между пастухами (это случается нередко), то управители Клуенция вступились за интересы своего хозяина и за его права частного владения; когда была подана жалоба, противники получили разъяснения, а дело было улажено без суда и споров. (162) «Публий Элий, в своем завещании лишив наследства своего ближайшего родственника, назначил своим наследником Клуенция, с которым он был в более отдаленном родстве». — Публий Элий сделал это, желая вознаградить Габита за услугу; к тому же Габит при составлении завещания и не присутствовал, а завещание скрепил печатью как раз его недруг Оппианик. «Клуенций не уплатил Флорию легата, завещанного ему». — Это не верно. Так как в завещании вместо 300.000 сестерциев значилось 30.000 сестерциев и так как обозначение суммы показалось Клуенцию недостаточно ясным, то он и хотел, чтобы ту сумму, какую он согласится выплатить, зачли в приход его щедрости; сначала он отрицал этот долг, а затем без всякого спора уплатил эти деньги. «После войны от него потребовали выдачи жены некоего Цея из Самния». — Хотя он и купил эту женщину у скупщиков конфискованных имений[674], он, узнав, что она была свободной, вернул ее Цею, не дожидаясь суда. (163) «Имущество некоего Энния Габит удерживает у себя». — Энний этот — обнищавший клеветник, приспешник Оппианика; в течение многих лет он вел себя смирно, затем вдруг возбудил дело против раба Габита, обвинив его в воровстве, а недавно подал жалобу на самого Габита. Поверьте мне, — когда этот суд по частному делу состоится, Эннию не избежать последствий злостного иска, даже если вы сами будете его защитниками. Кроме того, вы, говорят, выставляете свидетелем еще одного человека, отличающегося большим гостеприимством, — некоего Авла Бивия, трактирщика с Латинской дороги; он заявляет, что Клуенций, при посредстве подговоренных людей и своих собственных рабов, избил его в его же харчевне. Об этом человеке пока еще нет надобности говорить. Если он, по своему обыкновению, меня пригласит, то я обойдусь с ним так, что он пожалеет, что отошел от дороги[675]. (164) Вот вам, судьи, все те сведения насчет нравов и всей жизни Авла Клуенция, которые удалось собрать его обвинителям в течение восьми лет; ведь, по их утверждению, его все ненавидят! Как все это легковесно и неубедительно, как ложно по существу; как мало можно на это ответить! (LX) Ознакомьтесь теперь с тем, что имеет прямое отношение к данной вами присяге, что подлежит вашему решению, чего от вас требует закон, на основании которого вы здесь собрались, — с обвинениями в попытке отравления — дабы все поняли, как мало слов можно было затратить на рассмотрение настоящего дела и как много пришлось мне сказать такого, что было угодно обвиняемому, но имело самое малое отношение к вашему суду.
(165) Присутствующему здесь Авлу Клуенцию было брошено обвинение в том, что он отравил Гая Вибия Капака. К счастью, здесь присутствует честнейший и достойнейший человек, сенатор Луций Плеторий, гостеприимец и друг Капака. У него Капак жил в Риме, у него заболел, у него в доме умер. «Но наследником Капака стал Клуенций». — Я утверждаю, что Капак умер, не оставив завещания, и что владение его имуществом, согласно эдикту претора, перешло к сыну его сестры, римскому всаднику Нумерию Клуенцию, достойнейшему и честнейшему юноше, который здесь перед вами.
(166) Другое обвинение в отравлении заключается в следующем: на свадьбе присутствующего здесь молодого Оппианика, на которой, по обычаю жителей Ларина, пировало множество людей, якобы по наущению Клуенция, для Оппианика был приготовлен яд; но, как говорят, когда яд поднесли ему в вине с медом, его друг, некий Бальбуций, перехватил кубок, осушил его и тотчас же умер. Если бы я стал обсуждать это так тщательно, как будто мне надо было бы опровергнуть обвинение, я подробно рассмотрел бы то, чего я теперь касаюсь в своей речи лишь вкратце. (167) Какой проступок когда-либо совершил Габит, который бы позволил считать его способным на подобное преступление? Почему бы Габиту до такой степени бояться Оппианика, когда тот, при слушании этого дела, ни слова не сумел произнести против него? Между тем в обвинителях Клуенция, пока его мать жива, недостатка не было. В этом вы сейчас убедитесь. Или именно для того, чтобы опасность, угрожающая ему при разборе данного дела, не уменьшилась, к нему и прибавили еще новое обвинение? К чему было приурочивать попытку отравления именно ко дню свадьбы, к такому многолюдному сборищу? Кто поднес яд? Откуда его взяли? Почему был перехвачен кубок? Отчего напиток не был предложен снова? Можно было бы сказать многое, но я не хочу создавать впечатление, что я, ничего не говоря, хотел поговорить во что бы то ни стало; ведь факты говорят сами за себя. (168) Я отрицаю, что тот юноша, который, по вашим словам, умер, осушив кубок, умер именно в тот день. Это страшная и бесстыдная ложь! Ознакомьтесь с остальными фактами. Я заявляю, что молодой Бальбуций, явившись тогда к столу уже нездоровым и, как это обычно в его возрасте, проявив неумеренность, проболел несколько дней и умер. Кто может это засвидетельствовать? Тот же, кто об этом скорбит: его отец; повторяю, отец этого юноши; ведь если бы у него было хотя бы малейшее подозрение, то его скорбь заставила бы его выступить здесь свидетелем против Авла Клуенция; между тем он своими показаниями его обеляет. Огласи его показания. А ты, отец, если тебе не трудно, приподнимись на короткое время. Перенеси скорбь, какую у тебя вызывает этот необходимый рассказ, на котором я не стану задерживаться, так как ты исполнил свой долг честнейшего мужа, не допустив, чтобы твоя скорбь принесла несчастье невинному человеку и навлекла на него ложное обвинение.
(LXI, 169) Теперь мне остается рассмотреть лишь одно обвинение в этом роде, судьи! Благодаря этому вы сможете убедиться в справедливости моих слов, сказанных мной в начале моей речи: все несчастья, изведанные Авлом Клуенцием за эти последние годы, все тревоги и затруднения, испытываемые им в настоящее время, все это — дело рук его матери. Оппианик, говорите вы, умер от яда, данного ему в хлебе его другом, неким Марком Аселлием, причем это будто бы было сделано по наущению Габита. Прежде всего я спрошу: по какой же причине Габит хотел убить Оппианика? Между ними была вражда; это я признаю. Но ведь люди желают смерти своим недругам либо из страха перед ними, либо из ненависти к ним. (170) Чего же боялся Габит до такой степени, что попытался совершить такое преступление? Кому был страшен Оппианик, уже понесший кару за свои злодеяния и исключенный из числа граждан? Чего мог опасаться Габит? Что он подвергнется нападкам этого погибшего человека, что его обвинит тот, кто уже осужден, или что изгнанник выступит свидетелем против него? Или же Габит, ненавидя своего недруга и не желая, чтобы он наслаждался жизнью, был столь неразумен, что считал подлинной жизнью ту жизнь, какую Оппианик тогда влачил, — жизнь осужденного, изгнанного, всеми покинутого человека, которого за его подлость, никто не пускал под свой кров, не удостаивал ни встречи, ни разговора, ни взгляда? И такая жизнь вызывала ненависть у Габита? (171) Если он ненавидел Оппианика непримиримо и глубоко, то разве он не должен был желать ему прожить как можно дольше? Если бы Оппианик обладал хотя бы каплей мужества, он сам покончил бы с собой, как делали многие храбрые мужи, находясь в столь горестном положении. Но как же мог недруг предложить ему то, чего он сам должен был для себя желать? В самом деле, что дурного принесла ему смерть? Если только мы не поддадимся на нелепые россказни и не поверим, что он у подземных богов испытал мучения, уготованные нечестивцам, и встретил там еще большее число врагов, чем оставил здесь, что Кары[676] его тещи, его жен, его брата и его детей ввергли его туда, где пребывают злодеи. Если же все это — вымысел (а так думают все), то что же, кроме страданий, смерть могла у него отнять?
(172) Далее, кем был дан яд? Марком Аселлием. (LXII) Что связывало его с Габитом? Ничто не связывало; более того, ввиду тесной дружбы с Оппиаником, он скорее должен был относиться к Габиту недоброжелательно. И что же, именно такому человеку, своему заведомому недругу и лучшему другу Оппианика, Клуенций поручил совершить злодеяние и убить Оппианика? Далее, почему же ты, которого сыновнее чувство заставило выступить обвинителем, так долго оставляешь этого Аселлия безнаказанным? Почему ты не последовал примеру Габита — с тем, чтобы путем осуждения человека, принесшего яд, добиться предварительного приговора моему подзащитному?[677] (173) Что это за невероятный, необычный, небывалый способ отравления — давать яд в хлебе? Разве это было легче сделать, чем поднести его в кубке? Разве яд, скрытый в куске хлеба, мог проникнуть в тело легче, чем в случае, если бы он был весь растворен в питье? Разве съеденный яд мог быстрее, чем выпитый, проникнуть в жилы и все члены тела? А если бы преступление было обнаружено, то разве яд мог бы остаться незамеченным в хлебе скорее, чем в кубке, где он успел бы раствориться и где его не удалось бы отделить от напитка? «Но Оппианик умер скоропостижно». — (174) Даже если бы это было правдой, то такая смерть, постигшая очень многих, не может служить достаточно убедительным доводом в пользу отравления; но если бы это и внушало подозрения, то они могли бы пасть на других скорее, чем на Габита. Но именно это — бесстыднейшая ложь. Чтобы вы это поняли, я расскажу вам, и как Оппианик умер, и как после его смерти мать Габита стала искать возможности обвинить своего сына.
(175) Скитаясь изгнанником и нигде не находя себе пристанища, Оппианик отправился в Фалернскую область к Гаю Квинктилию, где он впервые захворал и проболел долго и довольно тяжело; вместе с ним была и Сассия, причем между ней и неким колоном Стацием Аббием, здоровенным мужчиной, обычно находившимся при ней, возникли отношения, более близкие, чем мог бы допустить самый распутный муж, если бы он был в более благоприятном положении. Но Сассия считала священные узы законного брака расторгнутыми, раз ее муж был осужден. Некий Никострат, верный молодой раб Оппианика, очень наблюдательный и вполне правдивый, говорят, обо многом рассказывал своему господину. Когда Оппианик начал поправляться, он, не будучи в силах, находясь в Фалернской области, переносить наглость этого колона, переехал в окрестности Рима, где обычно нанимал для себя жилье за городскими воротами; в пути он, говорят, упал с лошади и — как это понятно при его слабом здоровье — сильно повредил себе бок; приехав в окрестности Рима, он заболел горячкой и через несколько дней умер. Обстоятельства его смерти, судьи, подозрений не вызывают, а если и вызывают, то преступление это — семейное, совершенное в стенах дома.
(LXIII, 176) После его смерти Сассия, эта нечестивая женщина, тотчас же начала строить козни своему сыну. Она решила произвести следствие об обстоятельствах смерти своего мужа. Она купила у Авла Рупилия, который был врачом Оппианика, некоего Стратона, словно для того, чтобы последовать примеру Габита, в свое время купившего Диогена[678]. Она объявила о своем намерении допросить этого Стратона, а также своего раба, некоего Асклу. Кроме того, у присутствующего здесь молодого Оппианика она потребовала для допроса раба Никострата, — о нем я уже говорил, — которого считала чрезмерно болтливым и преданным своему господину. Так как Оппианик был в то время мальчиком и так как ему говорили, что допрос должен обнаружить виновника смерти его отца, то он не осмелился перечить мачехе, хотя и считал этого раба преданным слугой своим и своего умершего отца. Были приглашены многие друзья и гостеприимцы Оппианика и самой Сассии, честные и весьма уважаемые люди. Были применены самые жестокие пытки. Но как ни старалась Сассия, то обнадеживая, то запугивая рабов, вырвать у них показания, рабы все же, — как я полагаю — благодаря присутствию столь достойных людей, продолжали говорить правду и заявили, что они ничего не знают[679]. (177) По настоянию друзей, в тот день допрос был прекращен. Довольно много времени спустя, Сассия созвала их вновь и возобновила допрос. Рабов подвергли самой мучительной пытке, какую только можно было придумать. Приглашенные, не в силах выносить это зрелище, стали выражать свое негодование, но жестокая и бесчеловечная женщина была взбешена тем, что задуманные ею действия не приводят к ожидаемому успеху. Когда и палач уже утомился и, казалось, самые орудия пытки отказались служить, а она все еще не унималась, один из приглашенных, человек, которого народ удостоил почестей, и весьма доблестный, заявил, что, по его убеждению, допрос производится не для того, чтобы узнать истину, а для того, чтобы добыть ложные показания. Остальные присоединились к его мнению, и, по общему решению, допрос был признан законченным. (178) Никострата возвратили Оппианику. Сама Сассия выехала со своими рабами в Ларин, глубоко огорченная тем, что ее сын теперь уже, наверное, останется невредим и будет недосягаем не только для обоснованного обвинения, но даже и для ложного подозрения, и что ему не смогут повредить не только открытые нападки недругов, но даже и тайные козни матери. Приехав в Ларин, Сассия, ранее прикидывавшаяся убежденной в том, что Стратон поднес яд ее мужу, в Ларине тотчас же предоставила в его распоряжение лавку для продажи лекарств, снабженную всем необходимым. (LXIV) Проходит год, другой, третий; Сассия ведет себя смирно; она, видимо, желает своему сыну всяческих бедствий и накликает их на него, но сама ничего не затевает и не предпринимает. (179) Но вот, в консульство Квинта Гортенсия и Квинта Метелла[680], Сассия, чтобы привлечь на свою сторону в качестве обвинителя молодого Оппианика, занятого другими делами и совершенно не думавшего ни о чем подобном, женит его, против его желания, на своей дочери — той, которую она родила своему зятю; она рассчитывала забрать его в свои руки, связав его и этим браком и надеждой на получение наследства. Почти тогда же этот самый лекарь Стратон совершил у нее в доме кражу с убийством: там, в шкафу, как ему было известно, хранилась некоторая сумма денег и золото; однажды ночью он убил двоих спящих товарищей-рабов, бросил их в рыбный садок, затем взломал дно шкафа и унес… [Лакуна.] сестерциев и пять фунтов золота; его сообщником был раб-подросток. (180) На следующий день, когда кража была обнаружена, подозрение пало на исчезнувших рабов. Но когда заметили отверстие в дне шкафа и не могли понять, как все это могло случиться, один из друзей Сассии вспомнил, что он недавно видел на торгах, среди мелких вещей, изогнутую кривую пилку с зубцами с обеих сторон, которой, по-видимому, можно было выпилить круглый кусок дерева. Коротко говоря, запросили старшин на торгах; оказалось, что эту пилку приобрел Стратон. Когда таким образом напали на след преступления и подозрение пало на Стратона, то мальчик, его сообщник, испугался и во всем признался своей госпоже. Трупы в рыбном садке были найдены. Стратона заковали в цепи, а в его лавке оказались деньги, правда, не все. (181) Началось следствие о краже. Ибо о чем другом могла идти речь? Быть может, вы станете утверждать, что — после взлома шкафа, похищения денег, обнаружения одной лишь их части, убийства людей — было начато следствие о смерти Оппианика? Кто поверит вам? Можно ли было сочинить что-либо менее правдоподобное? Затем, — уж не говоря об остальном — можно ли было затевать следствие о смерти Оппианика по прошествии трех лет? И все-таки Сассия, горя своей прежней ненавистью, без всяких оснований потребовала того же Никострата для допроса. Оппианик вначале отказал ей; затем, когда она ему пригрозила разлучить его со своей дочерью и переделать завещание, он выдал жестокой женщине своего преданного раба — не для допроса, а прямо на мучительную казнь.
(LXV, 182) И вот, через три года, Сассия возобновила допрос об обстоятельствах смерти своего мужа. Но над какими рабами происходило следствие? Разумеется, были найдены новые улики, заподозрены новые люди? Нет, были привлечены Стратон и Никострат. Как? Разве они не были уже допрошены в Риме? Скажи мне, женщина, обезумевшая не от болезни, а от преступности, — после того как ты вела допрос в Риме, после того как по решению Тита Анния, Луция Рутилия, Публия Сатурия и других честнейших мужей допрос был признан законченным, ты через три года, не пригласив, не скажу — ни одного мужчины (чтобы вы не могли сказать, что присутствовал тот самый колон), но честного мужчины, затеяла снова допрос тех же самых рабов, чтобы вырвать у них показания, грозящие гибелью твоему сыну? (183) Или вы утверждаете (ведь мне самому пришло в голову, что это можно сказать, хотя, вспомните, до сего времени ничего сказано не было), что во время допроса о краже Стратон сознался кое в чем и насчет отравления? Ведь нередко именно таким путем, судьи, обнаруживается истина, скрывавшаяся многими бесчестными людьми, а защита невиновного человека вновь обретает голос, которого была лишена; это происходит либо потому, что люди, способные к коварным замыслам, оказываются недостаточно смелыми, чтобы привести их в исполнение, либо потому, что люди отважные и наглые недостаточно хитроумны. Если бы коварство было уверенным в себе, а дерзость — хитрой, то едва ли было бы возможно дать им отпор.
Скажите, разве не была совершена кража. Да о ней знал весь Ларин. Разве против Стратона не было улик? Да ведь он был уличен, когда была найдена пилка, и был выдан подростком, своим сообщником. Или допрос этого не касался? А какая же другая причина могла вызвать допрос? Не то ли, что вынуждены признать вы и о чем тогда твердила Сассия: во время допроса по делу о краже Стратон, под той же пыткой, говорил об отравлении. (184) Это как раз то, о чем я уже говорил: наглости у этой женщины — в избытке, но благоразумия и здравого смысла не хватает. Ведь было представлено несколько записей допроса; они были прочитаны и розданы вам; это те самые записи, которые, по ее словам, были скреплены печатями[681]; в этих записях ни слова нет о краже. Сассии не пришло в голову сначала сочинить от имени Стратона показание о краже, а затем прибавить несколько слов об отравлении — с тем, чтобы его заявление показалось не добытым путем выспрашивания, а вырванным под пыткой. Ведь допрос касался кражи, а подозрение в отравлении отпало уже во время первого допроса; это в то время признала сама Сассия; ведь она, по настоянию своих друзей объявив в Риме следствие законченным, затем в течение трех лет благоволила к этому Стратону более, чем к какому-либо другому рабу, осыпала его милостями и предоставила ему всяческие преимущества. (185) Итак, когда его допрашивали насчет кражи и притом насчет кражи, которую он, бесспорно, совершил, он, следовательно, ни проронил ни слова о том, о чем его допрашивали? Значит, он тотчас же заговорил о яде, а о самой краже не проронил ни слова — и не только тогда, когда именно это требовалось от него, но даже ни в последней, ни в средней, ни в какой-либо другой части своих показаний? (LXVI) Вы теперь видите, судьи, что эта нечестивая женщина той же рукой, какой она стремится убить своего сына, — если ей дадут такую возможность — составила эту подложную запись о допросе. Но назовите же мне имя хотя бы одного человека, скрепившего своей печатью эту самую запись. Вы не найдете никого; разве только того человека, упомянуть имя которого для меня еще выгоднее, чем не называть никого[682]. (186) Что ты говоришь, Тит Аттий? Ты готов представить суду запись, угрожающую гражданским правам человека, содержащую улики его злодеяния, решающую его участь, и не назовешь никого, кто поручился за ее подлинность, скрепил ее своей печатью и был свидетелем? И эти столь достойные мужи согласятся с тем, чтобы то оружие, которое ты получишь из рук матери, погубило ее ни в чем не повинного сына? Но допустим, что эти записи доверия к себе не внушают; почему же данные самого следствия не сохранены для судей, не сохранены для тех друзей и гостеприимцев Оппианика, которых Сассия приглашала в первый раз? Почему они не уцелели до нынешнего дня? Что сделали с теми людьми — со Стратоном и Никостратом? (187) Я спрашиваю тебя, Оппианик! Скажи, что сделали с твоим рабом Никостратом. Так как ты намеревался в скором времени выступить обвинителем Клуенция, ты должен был привезти Никострата в Рим, предоставить ему возможность дать показания, вообще сохранить его невредимым для допроса, сохранить его для этих вот судей, сохранить его для нынешнего дня. Что касается Стратона, судьи, то он — знайте это — был распят на кресте после того, как у него вырезали язык. В Ларине все знают об этом. Обезумевшая женщина боялась не своей совести, не ненависти своих земляков, не повсеместной дурной молвы; нет, — словно не все окружающие могли впоследствии стать свидетелями ее злодейства — она испугалась обвинительного приговора из уст своего умиравшего раба.
(188) Какое это чудовище, бессмертные боги! Видели ли где-либо на земле такое страшилище? Как назвать это воплощение отвратительных и беспримерных злодейств? Откуда оно взялось? Теперь вы, конечно, уже понимаете, судьи, что я не без веских и важных причин говорил в начале своей речи о матери Клуенция. Нет бедствия, на которое бы она его не обрекла, нет преступления, которого бы она против него не замыслила, не затеяла, не пожелала совершить и не совершила. Умолчу о первом оскорбительном проявлении ее похоти; умолчу о ее нечестивой свадьбе с собственным зятем; умолчу о расторжении брака ее дочери, вызванном страстью матери; все это еще не угрожало жизни Клуенция, хотя и позорило всю семью. Не стану упрекать ее также за ее второй брак с Оппиаником[683] от которого она предварительно приняла в залог трупы его детей, а затем уже вошла женой в его дом, на горе семье и на погибель своим пасынкам. Не буду говорить и о том, что она, зная об участии Оппианика в проскрипции и убийстве Авла Аврия, тещей которого она когда-то была, а вскоре стала женой, избрала себе для жительства тот дом, где она изо дня в день должна была видеть следы смерти своего прежнего мужа и его расхищенное имущество. (189) Нет, я прежде всего ставлю ей в вину то преступление, которое раскрыто только теперь, — попытку отравления при посредстве Фабрициев[684], уже тогда, когда другие, по горячим следам, заподозрили ее в сообщничестве, одному только Клуенцию оно казалось невероятным; но теперь оно явно и несомненно для всех; конечно, от матери не могла быть скрыта эта попытка; Оппианик ничего не замышлял, не посоветовавшись с Сассией; если бы дело обстояло иначе, то впоследствии, по раскрытии преступления, она бы, несомненно, не говорю уже — разошлась с ним, как с бесчестным мужем, а бежала бы от него, как от лютого врага, и дом его, запятнанный всяческими преступлениями, оставила бы навсегда. (190) Однако она не только не сделала этого, но с того времени не упустила ни одного случая причинить Клуенцию зло. И днем и ночью эта мать только и думала о том, как бы ей погубить своего сына. Прежде всего, чтобы заручиться помощью Оппианика как обвинителя своего сына, она привлекла его на свою сторону подарками, услугами, выдала за него свою дочь, подала ему надежду на наследство.
(LXVII) У других людей раздоры между родственниками, как приходится видеть, часто имеют своим последствием развод, расторжение родственных связей; между тем эта женщина рассчитывала найти надежного обвинителя ее сына только в том человеке, который бы предварительно женился на его сестре! Другие люди, под влиянием новых родственных связей, часто забывают давнюю вражду; она же сочла, что для нее новые родственные связи послужат залогом укрепления вражды. (191) И она не только постаралась подыскать обвинителя против своего сына, но также подумала и о том, каким оружием его снабдить. Отсюда ее старания склонить на свою сторону рабов угрозами и обещаниями; отсюда те нескончаемые жесточайшие допросы об обстоятельствах смерти Оппианика, которым, наконец, положило предел не ее собственное чувство меры, а настояния ее друзей. Три года спустя ее же преступные замыслы привели к допросам, произведенным в Ларине; ее же безумие породило подложные записи допросов; ее же бешенство заставило ее преступно вырвать язык у раба. Словом, подготовка всего этого обвинения против Клуенция и задумана и осуществлена ею.
(192) Снабдив обвинителя своего сына всем необходимым и отправив его в Рим, она сама в течение некоторого времени оставалась в Ларине, чтобы набрать и подкупить свидетелей; но потом, как только ее известили, что день суда над Клуенцием приближается, она немедленно примчалась сюда, опасаясь как бы обвинителям не изменило их усердие, а свидетели не остались без денег и боясь, что она, мать, может пропустить самое желанное для нее зрелище — видеть Авла Клуенция в рубище, в горе и в трауре! (LXVIII) А как представляете вы себе поездку этой женщины в Рим? Живя по соседству с Аквином и Фабратерной, я слышал о ней от многих очевидцев. Как сбегались жители этих городов! Какими воплями встречали ее и мужчины и женщины! Из Ларина, говорили они, мчится какая-то женщина, чуть ли не с берегов Верхнего моря[685] едет она с многочисленными спутниками и большими деньгами, чтобы с возможно большей легкостью предать своего сына уголовному суду и погубить его! (193) Чуть ли не все они были готовы требовать совершения очистительных обрядов[686] в тех местах, где она проезжала. Все считали, что сама земля, мать всего сущего, осквернена следами ног этой преступной матери. Поэтому не было города, который позволил бы ей остановиться в его стенах; среди стольких ее гостеприимцев не нашлось ни одного, который не бежал бы от нее, как от лютой заразы; она предпочитала доверяться мраку и пустыне, а не городам или гостеприимцам. (194) Ну, а теперь? Кто из нас, по ее мнению, не знает, чем занята она, что́ затевает и что́ изо дня в день замышляет? Мы знаем, к кому она обратилась, кому посулила денег, чью верность пыталась поколебать обещанием награды. Более того, мы разузнали все даже о ее ночных жертвоприношениях, которые она считает тайными, о ее преступных молитвах и нечестивых обетах[687]; в них она даже бессмертных богов призывает в свидетели своего злодейства и не понимает, что богов можно умилостивить благочестием, верностью своему долгу и искренними молитвами, а не позорным суеверием и жертвами, закланными ради успеха преступления. Но неистовство ее и жестокость, как я в том уверен, бессмертные боги с отвращением оттолкнули от своих алтарей и храмов.
(LXIX, 195) А вы, судьи, которых Судьба поставила как бы в качестве иных богов для этого вот Авла Клуенция на все время его жизни, отведите удар бесчеловечной матери от головы ее сына. Многие судьи не раз оказывали снисхождение детям из сострадания к их родителям. Вас же мы умоляем не отдавать Клуенция, честнейшим образом прожившего свой век, на произвол его жестокой матери — тем более, что на стороне защиты вы можете видеть весь муниципий. Все жители Ларина, знайте это, судьи, — это невероятно, но я скажу вам сущую правду — все, кто только мог, приехали в Рим, чтобы, по мере своих сил, своей преданностью и многочисленностью поддержать Клуенция в его столь опасном положении Знайте, в настоящее время их город поручен детям и женщинам и ныне находится в безопасности благодаря всеобщему миру в Италии, а не благодаря своим военным силам. Но и те, кто остался дома, равно как и те, кого вы видите здесь, днем и ночью в тревоге ожидают вашего приговора. (196) По их мнению, вам предстоит голосами своими не только решить участь одного их земляка, но и вынести приговор о положении, достоинстве и благополучии всего муниципия Ибо Клуенций, судьи, проявляет величайшую заботу о благе всего муниципия, благожелательность к его отдельным жителям, справедливость и честность по отношению ко всем людям. Кроме того, он свято оберегает честь своего знатного имени и свое положение среди своих земляков, завещанное ему предками, не уступая последним в твердости, непоколебимости, влиянии и щедрости. Поэтому жители Ларина, официально воздавая ему хвалу в таких выражениях, не только выступают свидетелями и высказывают свое мнение о нем, но и выражают свою тревогу и скорбь. Во время чтения этого хвалебного отзыва вас, представивших его, я прошу встать.
(197) Видя их слезы, судьи, вы можете заключить, что все декурионы, принимая это решение, тоже проливали слезы. Далее, какое рвение, какую необычайную благожелательность, какую заботливость проявили жители соседних областей! Они не прислали принятого ими хвалебного отзыва в письменном виде, но постановили, чтобы самые уважаемые среди них люди, известные всем нам, в большом числе явились сюда и лично высказали хвалу Клуенцию. Здесь находятся знатнейшие френтаны и равные им по своему достоинству марруцины; вы видите в качестве представителей весьма уважаемых римских всадников из Теана в Апулии и из Луцерии. Из Бовиана и из всего Самния присланы очень лестные хвалебные отзывы и прибыли весьма влиятельные и очень знатные люди. (198) Что касается людей, владеющих поместьями в Ларинской области, ведущих там дела и занимающихся скотоводством, — честных и весьма известных — то трудно сказать, как они встревожены и озабочены. Мне кажется, немного найдется людей, которых хотя бы одни человек любил так, как присутствующие здесь любят Клуенция.
(LXX) Как я огорчен, что здесь в суде нет Луция Волусиена, блистательного и доблестного человека! Как бы мне хотелось назвать в числе присутствующих именитейшего римского всадника Публия Гельвидия Руфа! Дни и ночи занимаясь делом Клуенция и разъясняя его мне, он тяжело и опасно заболел; при этом он все же тревожится о гражданских правах Клуенция не менее, чем о своей собственной жизни. Что касается сенатора Гнея Тудиция, честнейшего и почтеннейшего мужа, то из его свидетельских показаний и из его хвалебного отзыва вы поймете, что он защищает Клуенция с таким же рвением, как и Гельвидий. С такой же надеждой, но с большей сдержанностью произношу я твое имя, Публий Волумний[688], так как ты — один из судей Авла Клуенция. Коротко говоря, я утверждаю, что все соседи относятся к обвиняемому с глубокой доброжелательностью. (199) Против рвения, заботливости и усердия всех этих людей, а также и против моих усилий, когда я, по старинному обычаю, один произнес всю защитительную речь[689], а заодно и против вашей, судьи, справедливости и человеколюбия борется одна мать Клуенция. Но какая мать! Вы видите ее, ослепленную жестокостью и преступностью, неспособную, потворствуя своим страстям, остановиться ни перед каким гнусным поступком, ее, которая своей порочностью извратила все понятия о человеческом правосудии; ведь она настолько безумна, что никто не станет называть ее человеком, настолько необузданна, что ее нельзя назвать женщиной, и столь жестока, что матерью ее тоже не назовешь. Даже названия родственных отношений она исказила, не говоря уже о названиях и правах, данных ей природой: женой она стала зятю, мачехой — сыну, дочери — разлучницей; наконец, она дошла до того, что, кроме своей наружности, не сохранила никакого подобия человека.
(200) Ввиду всего этого, судьи, если вы ненавидите преступление, преградите матери доступ к крови ее сына, причините родительнице тяжкое огорчение, даровав спасение и победу ее детищу; сделайте так, чтобы мать не могла ликовать, потеряв сына, и ушла, побежденная вашим правосудием. Если вы, как вам свойственно, любите честь, добро и доблесть, то облегчите, наконец, участь этого просителя, судьи, уже столько лет страдающего от незаслуженной им ненависти и подвергающегося опасностям; ведь он ныне впервые, вырвавшись из пламени, зажженного чужими преступлением и страстями, воспрянул духом в надежде на вашу справедливость и вздохнул свободнее, избавившись от страха; все свои упования он возлагает на вас; видеть его спасенным желают очень многие, но спасти его можете только вы одни. (201) Габит умоляет вас, судьи, со слезами заклинает вас: не делайте его жертвой ненависти, которой не место в суде; не выдавайте его ни матери, чьи обеты и молитвы должны быть противны вам, ни Оппианику, нечестивцу, давно уже осужденному и мертвому. (LXXI) Если Авла Клуенция, несмотря на его невиновность, в этом суде постигнет несчастье, то этот злополучный человек, — если только он останется в живых, что мало вероятно, — не раз пожалеет о том, что попытка Фабрициев отравить его некогда была раскрыта. Если бы его тогда о ней не предупредили, то для этого страдальца яд был бы не ядом, а лекарством от многих скорбей; тогда, быть может, сама мать пошла бы проводить его прах и притворилась бы оплакивающей смерть сына. А ныне что выиграет он? Разве только то, что, едва избавившись от смертельной опасности, он в печали будет влачить жизнь, сохраненную ему, а в случае смерти будет лишен погребения в гробнице своих отцов. (202) Достаточно долго томился он, судьи, достаточно много лет страдал от ненависти; но никто не был более враждебен ему, чем его мать, чья ненависть все еще не утолена. Вы же, справедливые ко всем, вы, которые тем благосклоннее поддерживаете человека, чем ожесточеннее на него нападают, спасите Авла Клуенция, возвратите его невредимым его муниципию; его друзьям, соседям, гостеприимцам, чью преданность вы видите, верните его; сделайте его навеки должником вашим и ваших детей. Это будет достойно вас, судьи, достойно вашего звания, вашего милосердия. Мы вправе требовать от вас, чтобы вы, наконец, избавили от этих несчастий честного и ни в чем не повинного человека, дорогого такому множеству людей, дабы все они поняли, что если на народных сходках находится место для ненависти, то в судах господствует правда.
7. Вторая речь о земельном законе народного трибуна Публия Сервилия Рулла [К народу, 2 (?) января 63 г. до н. э.]
Одним из главных источников доходов римской казны в эпоху республики были государственные земли (ager publicus), значительную часть которых составляли земли, конфискованные после побед в Италии и за ее пределами. Судьба этих государственных земель была различной.
Обработанные земли могли быть: 1) проданы квесторами в полную собственность (ager quaestorius); 2) по жребию отданы римским гражданам в полную собственность по два югера на человека (agri dati assignati); они переходили по наследству; 3) арендованы на длительный срок; арендаторы (mancipes) могли передавать аренду другим лицам, но земля при этом оставалась собственностью государства.
Необработанная и пришедшая в запустение земля предоставлялась в бессрочное пользование частным лицам, оставаясь собственностью государства. Этот вид землепользования назывался оккупацией (ager occupatiorius); держатели земли (possessores) должны были платить государству десятину урожая хлебов и одну пятую часть урожая винограда и плодов. Государственная земля отдавалась и под пастбища как отдельным лицам, так и компаниям откупщиков, а также и городским общинам. Держатели этих земель не получали полных прав собственности (dominium); их владение было прекарным, т. е. временным, до отказа со стороны казны; давность владения не имела значения. По Ториеву закону 111 г. оккупированные земли стали частной собственностью.
Такое землепользование порождало злоупотребления: держатели земель (в древнейшее время это были только патриции) часто не платили сборов, считая государственную землю своей собственностью. В связи с войнами в пределах Италии, особенно после второй пунической войны, стала происходить концентрация земель в руках малого числа лиц; при этом разорившиеся мелкие крестьяне и держатели, оставив свою землю и не находя приложения своему труду в больших владениях, так как рабский труд был дешевле, устремлялись в Рим, где скоплялось множество неимущих людей, нуждавшихся в помощи государства. Так возник аграрный вопрос — необходимость расселить этих неимущих римских граждан на предоставляемых им землях. Аграрный вопрос не был разрешен во времена Гракхов и оставался основным вопросом внутренней политики Рима, используемым также и в политических целях.
В консулы на 63 г. были избраны Цицерон и Гай Антоний. 10 декабря 64 г., когда новые народные трибуны приступили к исполнению своих обязанностей, трибун Публий Сервилий Рулл внес широко задуманный проект земельного закона, авторами которого считают Гая Цезаря и Марка Красса. Этот законопроект был политическим шагом, направленным против Гнея Помпея (см. ниже) и против Цицерона: если бы закон, несмотря на противодействие Цицерона, был одобрен народом, Цицерон лишился бы доверия сената; если бы он был отвергнут, то Цицерон утратил бы расположение народных масс.
Закон предусматривал образование комиссии из десяти человек, которая должна была проводить его в жизнь; их должны были избрать 17 триб (из 35), назначенные по жребию; таким образом, для избрания децемвиров было достаточно голосования девяти триб. Для избрания было обязательным присутствие кандидата в Риме, что исключало возможность избрания Помпея, находившегося на Востоке. Децемвиры избирались на пять лет, их полномочия подтверждались изданием куриатского закона об империи. Они пользовались судебной властью и правами пропреторов, в частности, правом авспиций; им придавался вспомогательный персонал; они могли совмещать свою деятельность с любой магистратурой, оставаясь неподсудными в течение всего пятилетия.
Задача децемвиров состояла в устройстве колоний и распределении государственных земель в Италии; вначале подлежали распределению земли в Кампании (по 10 югеров) и в Стеллатской области (по 12 югеров на человека). В Капую должны были вывести 5000 колонов. Так как казенных земель хватить для всех нуждающихся не могло, то предполагалась покупка земель на особые средства: децемвирам предоставлялось право продавать в Италии земли, объявленные государственными в 88 г. и 81 г. и не проданные. Предполагалась продажа и многих земель вне пределов Италии. Децемвирам давалось право отчуждать земли, признанные ими государственными, или же оставлять их владельцам, назначив арендную плату. Продавать землю предполагалось на местах.
1 января 63 г., в первый день своего консульства, Цицерон выступил в сенате с речью против закона Рулла; на другой день он произнес речь перед народом; впоследствии он произнес еще две речи, из которых до нас дошла одна. Законопроект, по-видимому, был взят обратно его автором.
Речи о земельном законе, в защиту Гая Рабирия, против Катилины и некоторые другие, произнесенные в год консульства, относятся к числу речей, которым Цицерон придавал особое значение и которые он называл «консульскими»; он собирался выпустить их в виде сборника. См. письмо Att., II, 1, 3 (XXVII).
(I, 1) Согласно обычаю и установлениям наших предков, квириты, те люди, которые достигли права выставлять изображения своих отцов благодаря милостям с вашей стороны[690], в первой же своей речи перед народом выражают вам свою благодарность за оказанную милость и воздают хвалу своему роду. Произнося эту речь, некоторые из них иногда сами оказываются достойными того положения, какое занимали их предки; но большинству из них удается достигнуть лишь того, что начинает казаться, будто долг народа перед их предками столь значителен, что за счет него можно вознаградить и потомков. Но у меня, квириты, возможности говорить о предках нет — не потому, что они были не такими, каким вы видите меня, происшедшего от их плоти и крови и воспитанного по их заветам, но потому, что хвалы народа и блеск почестей, которые вы оказываете, были неведомы им. (2) Если я стану говорить перед вами о себе самом, то это может вам показаться дерзким самохвальством, а если промолчу, то — неблагодарностью. Ибо, с одной стороны, упоминать о тех усердных трудах, какими я достиг этого высокого положения, мне очень неловко, а с другой стороны, молчать о ваших таких больших милостях я никак не могу. Поэтому я в своей речи буду соблюдать разумную умеренность и расскажу о том, чем я обязан вам; о том, почему вы меня сочли достойным величайшего почета и исключительно высокого суждения, я сам скромно упомяну, если будет нужно; я склонен думать, что обо мне составят себе мнение те же люди, которые уже вынесли свое суждение.
(3) Я — новый человек[691], которого вы, впервые на нашей памяти, после очень долгого промежутка времени[692], избрали в консулы. К тому званию, которое знать всячески обороняла и ограждала валом, вы, под моим водительством, пробили путь и сделали его впредь открытым для доблести. При этом вы меня не только избрали консулом, что чрезвычайно почетно само по себе, но избрали так, как в нашем государстве были избраны консулами из знатных людей лишь немногие, а из новых людей — до меня ни один. (II) И в самом деле, если вы пожелаете вспомнить случаи избрания новых людей, то окажется, что те из них, которые были избраны в консулы, не потерпев поражения на выборах, были избраны благодаря своим продолжительным усилиям или какому-либо благоприятному случаю[693] причем они участвовали в соискании через много лет после своей претуры — гораздо позже, чем им позволяли их возраст и наши законы[694]; что те, кто участвовал в соискании «в свой год», были избраны в консулы только после того, как потерпели неудачу; что я — единственный из всех новых людей, которых мы можем припомнить, кто участвовал в соискании консульства, как только это стало возможным по закону, и был избран консулом при первом же соискании, так что почет, оказанный мне вами и достигнутый мною в положенный мне срок, представляется не случайно выпавшим на мою долю в связи с неудачным соисканием другого человека и не выпрошенным долгими мольбами, а достигнутыми моими заслугами.
(4) Все, о чем я только что говорил, квириты, для меня чрезвычайно почетно: мне первому из новых людей вы, по прошествии многих лет, оказали эту честь; вы оказали ее мне при первом же моем соискании, «в мой год»; но самое прекрасное и лестное для меня то, что во время моих комиций вы не табличками, этим безмолвным залогом свободы, но громкими возгласами выразили свое расположение ко мне и свое рвение. Таким образом, я был объявлен консулом не после окончательного подсчета голосов, но в первом же вашем собрании, не голосами отдельных глашатаев, а единым голосом всего римского народа[695].
(5) Эта столь необычайная, столь исключительная милость с вашей стороны, квириты, приносит мне величайшее удовлетворение и радость, но еще сильнее призывает меня к бдительности и неусыпным заботам. Ибо меня, квириты, терзают разные гнетущие мысли, ни днем, ни ночью не дающие мне покоя, — прежде всего забота о том, чтобы соблюсти достоинство своего консульства, задача трудная и важная для всех людей, а для меня особенно; ведь мне, в случае ошибки, пощады не будет, а за правильные действия меня похвалят скупо и нехотя; в случае сомнений знатные люди не дадут мне доброго совета, а в случае затруднений не окажут надежной поддержки. (III, 6) Если бы какая-либо опасность угрожала мне одному, то я, квириты, принял бы это более спокойно; но есть, мне кажется, определенные люди, которые, если они сочтут, что я в чем-либо погрешил и не только преднамеренно, но даже случайно, станут порицать всех вас, оказавших мне предпочтение перед знатью. Что касается меня, квириты, то я готов скорее претерпеть все что угодно, лишь бы только исполнять свои обязанности консула так, чтобы люди, видя все мои поступки и решения, прославляли ваш поступок и ваше решение, касавшееся меня. К тому же мне, при исполнении консульских обязанностей, предстоят величайшие усилия и труднейшая задача, так как я решил руководствоваться не теми правилами и положениями, какими руководствовались прежние консулы: одни из них всячески избегали выходить на это место[696] и встречаться с вами, а другие к этому не особенно стремились. И я буду говорить так не только с этого места, где легче всего говорить именно так, но даже и в сенате, где, казалось бы, не место для таких речей, я в первой своей речи, в январские календы, сказал, что буду консулом, верным воле народа.
(7) Ведь я хорошо знаю, что я избран в консулы не стараниями могущественных людей, не ввиду исключительного влияния меньшинства, а по решению всего римского народа, причем мне было оказано значительное предпочтение перед знатными людьми. Поэтому я, в своих действиях, не могу не быть верным воле народа и в этой деятельности консула, и в течение всей своей жизни. Но для истолкования смысла этих слов я очень нуждаюсь в вашей мудрости; ибо повсюду распространено глубокое заблуждение, связанное с коварным притворством некоторых людей, которые, нападая и посягая не только на благополучие, но даже на безопасность народа, хотят снискать своими речами славу людей, верных народу.
(8) Каково было положение государства, квириты, когда я в январские календы приступил к своим обязанностям, я знаю хорошо: все были в тревоге и в страхе, не было такого зла, не было такого несчастья, которого бы не опасались честные и не ожидали дурные люди; ходили слухи, что против нынешнего положения государства и против вашего спокойствия мятежные замыслы частью составляются, частью, в бытность нашу избранными консулами, уже составлены[697]. На форуме был подорван кредит, не вследствие какого-либо внезапного нового несчастья, а ввиду недоверия к суду, нарушения правосудия, неисполнения уже вынесенных приговоров. Говорили, что намечаются какие-то новые, необычные виды владычества — уже не экстраординарный империй[698], а царская власть[699].
(IV, 9) Не только подозревая, но и ясно видя это (ведь все это происходило отнюдь не тайно), я сказал в сенате, что я, исполняя свои должностные обязанности, буду консулом, верным народу. И в самом деле, что в такой степени дорого народу, как мир? Ему, мне кажется, радуются не только существа, от природы наделенные разумом, но даже дома и поля. Что так дорого народу, как свобода? Ее, как видите, ценят более всего другого не только люди, но и звери. Что в такой степени дорого народу, как спокойствие? Оно столь приятно, что и вы, и предки ваши, и любой из храбрейших мужей согласны на величайшие труды — с тем, чтобы рано или поздно достигнуть спокойствия, особенно при наличии власти и достоинства. Более того, мы потому должны особенно прославлять и благодарить наших предков, что именно после их трудов мы можем в безопасности наслаждаться спокойствием. Как же я могу не быть сторонником народа, квириты, видя, что все это — мир на наших границах, свобода, неотделимая от вашего рода и имени, спокойствие внутри страны, словом, все то, что дорого и важно для вас, вверено мне и, так сказать, отдано под мое попечение как консула? (10) Ибо вам, квириты, не следует прельщаться и считать полезным для народа провозглашение какой-то раздачи земель, которую на словах обещать легко, а осуществить на деле возможно только ценой полного истощения эрария. Ведь поистине никак нельзя признать полезным для народа потрясение основ правосудия, неисполнение вынесенных приговоров, восстановление осужденных в их правах; именно эти крайние средства приводят гибнущие государства к окончательному крушению. И тех людей, которые обещают римскому народу землю, но, тайно замышляя одно, подают ложные надежды и притворно сулят другое, нельзя считать сторонниками народа.
(V) Ибо — скажу откровенно, квириты! — проведение земельных законов как таковых я порицать не могу. Ведь я вспоминаю, что двое прославленных, умнейших и глубоко преданных римскому плебсу мужей, Тиберий и Гай Гракхи, поселили плебс на государственных землях, которыми ранее владели частные лица. Ведь сам я, конечно, не из тех консулов, которые — а таких большинство — считают преступлением хвалить Гракхов, чьи замыслы, мудрость и законы, как я вижу, способствовали устроению многих государственных дел[700].
(11) Поэтому, как только мне, в бытность мою избранным консулом[701], сообщили, что избранные народные трибуны составляют земельный закон, я пожелал узнать их замыслы. Я действительно думал, что, коль скоро нам предстоит исполнять свои должностные обязанности в один и тот же год, между нами должно быть какое-то единение на благо государству. (12) В то время как я по-дружески пытался завязать с ними разговор, они от меня прятались и меня избегали, а когда я давал понять, что в случае, если закон покажется мне полезным для римского плебса, я буду его сторонником и буду способствовать его принятию, то они все-таки пренебрегли этим моим благожелательным предложением; по их мнению, не было никакой возможности добиться от меня согласия на какую-либо раздачу земли. Я перестал предлагать им свои услуги, чтобы мое усердие, чего доброго, не показалось им коварством или же навязчивостью. Между тем они не переставали тайно собираться, приглашать кое-кого из частных лиц и устраивать тайные собрания под покровом ночи и в уединенных местах. О страхе, какой это у меня вызвало, вы легко составите себе представление, вспомнив о той тревоге, которую испытывали в то время и вы. (13) Наконец, народные трибуны приступили к исполнению своих обязанностей; все ждали, что Публий Рулл выступит на народной сходке с речью, так как он был автором закона и держался более грозно, чем другие. Едва он был избран, как уже постарался иначе глядеть, иным голосом говорить, иначе ходить; в поношенной одежде, неопрятный и препротивный на вид, с лохматыми волосами и длинной бородой, он, казалось, своим взором и своей внешностью возвещал всем, сколь он будет своевластен как трибун, и угрожал государству. Я ждал, каков будет его закон и что он наговорит на народной сходке. Сначала он не предложил никакого закона, а народную сходку велел созвать в канун ид. Народ в большом нетерпении сбежался на сходку. Рулл выступил с очень длинной речью и сказал много превосходных слов. Речь его, по-моему, страдала лишь одним недостатком: в такой большой толпе собравшихся нельзя было найти человека, который бы понимал, что́ он говорил. Сделал ли он это с какой-либо коварной целью, или же именно такой род красноречия ему доставляет удовольствие, — не знаю. Все же более догадливые из присутствовавших на сходке заподозрили, что кое-что насчет земельного закона он все-таки хотел сказать. Наконец, когда я еще был избранным консулом, запись текста закона выставили в общественном месте[702]. По моему приказанию, туда одновременно поспешили несколько писцов и доставили мне переписанный текст закона.
(VI, 14) Искренно заверяю вас, квириты, что я приступил к чтению и изучению закона с желанием — если найду его пригодным и полезным вам — быть его сторонником и способствовать его проведению. Ведь не по велению природы, не по склонности к распрям и не по какой-то застарелой ненависти ведется искони война между консульством и трибунатом; дело в том, что бесчестным народным трибунам честные и храбрые консулы очень часто противодействовали, а народные трибуны своей властью не раз давали отпор произволу консулов. Не различие в характере власти, а расхождение во взглядах порождает раздоры. (15) И вот, я взял текст закона в руки, воодушевленный желанием признать его соответствующим вашим интересам, в надежде найти его таким, чтобы консул, сторонник народа на деле, а не на словах, мог с чистой совестью и охотно защищать его. Но, начиная с первой же главы закона и до самого его конца, квириты, я вижу, что все это задумано, предпринято и проведено только для того, чтобы установить власть десяти царей над эрарием, доходами, всеми провинциями, над всем государством, над царствами и независимыми народами, словом, над всем миром, и что все это делается под лживым предлогом проведения земельного закона. Заверяю вас, квириты, на основании этого пресловутого земельного закона, будто бы составленного ради блага народа, вам не дают ничего, но определенным людям отдают все; римскому народу сулят земли, но лишают его даже свободы; богатства частных людей увеличивают, государственную казну вычерпывают до дна; наконец, — и это самое возмутительное — именно народный трибун, которому предки наши повелели быть оплотом и стражем свободы в нашем государстве, устанавливает царскую власть! (16) Если все, что я изложу вам, квириты, покажется вам неверным, то я подчинюсь вашему авторитету и изменю свое мнение; но если вы поймете, что под видом раздачи земли злоумышляют против вашей свободы, то без колебаний защищайте свободу, завоеванную для вас вашими предками; ведь они, пролив реки пота и крови, передали ее вам, а с помощью вашего консула вам удастся без труда защитить ее.
(VII) Первая глава земельного закона, по их замыслу, направлена на то, чтобы осторожно выяснить, как вы можете отнестись к ограничению своей свободы. Закон велит народному трибуну, автору этого закона, произвести выборы децемвиров семнадцатью трибами — с тем, чтобы всякий, кому отдадут свои голоса девять триб, был децемвиром. (17) В этой связи я и спрашиваю, по какой причине Рулл — в своих действиях и законодательстве — начал с того, что лишил римский народ права голоса. Ведь для проведения земельных законов уже столько раз назначали исполнителей в лице триумвиров, квинквевиров, децемвиров; я и спрашиваю трибуна, этого сторонника народа, были ли они когда-либо избраны иначе, как тридцатью пятью трибами. И в самом деле, если все виды власти, все империи, все заведования[703] должны исходить от римского народа в целом, то это особенно относится к тем из них, которые устанавливаются для пользы и выгоды римского народа, когда, с одной стороны, все сообща избирают человека, который, по их мнению, проявит наибольшую заботу о римском народе, с другой стороны, всякий, своим усердием и подачей своего голоса, может проложить себе путь к получению преимуществ. Но этому народному трибуну пришло на ум лишить права голоса римский народ в целом, и лишь несколько триб (притом не на основании определенных правовых установлений, а по случайной милости жребия) призвать к осуществлению их прав свободных людей.
(18) «Условия и способ избрания, — говорится во второй главе, — будут такие же, как при избрании верховного понтифика комициями»[704]. Этот человек не понял даже вот чего: предки наши были такими сторонниками народа, что, согласно их постановлению, тот, кого, вследствие святости обрядов, нельзя было избирать народным голосованием, все же, ввиду важности его жреческой должности, получал одобрение народа. То же самое предложил насчет других жреческих должностей прославленный муж, народный трибун Гней Домиций: так как народ в целом, по религиозным уставам, жреческих должностей предоставлять не мог, Домиций и предложил, чтобы все же меньшая часть народа к голосованию привлекалась; тот, кто будет избран этой частью народа, будет принят и коллегией[705]. (19) Поймите, как велика разница между народным трибуном Гнеем Домицием, знатнейшим человеком, и Публием Руллом, который, пожалуй, издевался над вами, причисляя себя к знати. То, чем, по правилам религии, народ ведать не мог, Домиций, насколько это было возможно, насколько это допускал божеский закон, насколько это было дозволено, постарался все же предоставить известной части народа. А то, что всегда было достоянием народа, чего никто не умалял, никто не изменял — с тем, чтобы люди, которые должны были раздавать народу землю, сперва сами получили милость от народа, а потом оказывали ему услугу — Рулл и попытался целиком отнять у вас и вырвать у вас из рук. То, что никак нельзя было предоставить народу, Домиций все же в какой-то мере ему дал; а Рулл, наоборот, то, что никакими ухищрениями отнять невозможно, все же каким-то способом хочет вырвать.
(VIII, 20) Меня спросят, что́ он имел в виду, совершая такую большую несправедливость и проявляя такое бесстыдство. Ему не хватило не замыслов; преданности римскому плебсу, квириты; уважения к вам и к вашей свободе — вот чего не хватило ему. Ведь он хочет, чтобы тот человек, который предложил закон, и руководил комициями по выбору децемвиров. Скажу еще яснее: Рулл, этот человек ничуть, конечно, не жадный и не честолюбивый, хочет, чтобы комиции созвал сам Рулл. Впрочем, пока еще я не порицаю его; мы уже видели, что так поступали и другие; но смотрите, к чему клонится этот беспримерный замысел — эти выборы, в которых участвует меньшая часть народа. Он созовет комиции; он же захочет объявить избранными тех, для кого, в силу этого закона, испрашивается царская власть; народу в целом и сам он не доверяет, и те, кто все это задумал[706], с полным основанием не считают возможным довериться народу. (21) Трибы назначит по жребию все тот же Рулл. Ему повезет, конечно, и он допустит к голосованию те трибы, какие захочет допустить. Те, кого изберут децемвирами девять триб, собранные по выбору того же самого Рулла, будут у нас, как я сейчас докажу, владыками над всем. Эти люди, конечно, призна́ют себя в долгу перед своими знакомыми из этих девяти триб и захотят их отблагодарить за полученные от них благодеяния; что же касается остальных двадцати шести триб, то децемвиры сочтут себя вполне вправе отказывать им решительно во всем. Итак, кого же, наконец, хочет он видеть децемвирами? Во-первых, себя самого. А на каком основании? Ведь существуют древние законы и притом предложенные не консулами (если это, по вашему мнению, имеет значение), а трибунами, очень желанные и угодные вам и вашим предкам: есть Лициниев закон и другой — Эбуциев, согласно которому не только тот, кто внесет предложение о каком-либо заведовании и должностных полномочиях, но и его коллеги, родственники и свояки не допускаются к занятию этих должностей и к этому заведованию. (22) И в самом деле, если ты заботишься о народе, отведи от себя подозрение, что ты ищешь какой-либо личной выгоды, докажи, что добиваешься одной только пользы и блага для народа; пусть другие получат власть, а ты — благодарность за свою услугу. Ибо иное положение вещей едва ли подобает независимому народу, едва ли к лицу вам при благородстве вашей души.
(IX) Кто предложил закон? Рулл. Кто лишил бо́льшую часть народа права голосовать? Рулл. Кто председательствовал в комициях, кто к голосованию призвал трибы, какие хотел, произведя жеребьевку без участия наблюдателя[707]; кто объявил об избрании децемвирами тех людей, каких хотел? Все тот же Рулл. Кого объявил он избранным первым? Рулла. По-моему, он, клянусь Геркулесом, едва ли заслужит за это одобрение даже у своих рабов, не говорю уже о вас, владыках над всеми народами. Итак, наилучшие законы будут, без всякой оговорки, отменены этим законом; один и тот же человек на основании своего же закона будет добиваться для себя заведования; он же, лишив бо́льшую часть народа возможности голосовать, созовет комиции; кого захочет, в том числе и самого себя, он объявит избранными и, разумеется, не отвергнет и своих коллег, поддержавших земельный закон и поставивших его имя на первое место в заглавии и вводной части закона; все другие выгоды, полученные от успеха этого закона, они, связанные круговой порукой, поделят между собой поровну.
(23) Но обратите внимание на его предусмотрительность, если вы полагаете, что все это придумал Рулл или что это могло прийти на ум именно Руллу. Те, которые подстроили все это, поняли, что, если вам предоставить право выбирать из всего народа, то всякое дело, требующее честности, неподкупности, мужества и авторитета, вы без каких бы то ни было колебаний передадите в ведение Гнея Помпея[708]. Они понимали, что, коль скоро вы его одного выбрали из числа всех людей, чтобы ему поручить ведение всех войн со всеми народами на суше и на море, то — независимо от того, чем будет сочтено избрание в децемвиры, доверия ли признаком или почета, — надежнее всего будет доверить это дело и всего справедливее предоставить эти полномочия именно ему. (24) Поэтому закон этот не предусматривает отвода ни ввиду молодости, ни в связи с каким-либо законным препятствием, или с какими-либо полномочиями, или государственной должностью, исполнение которой сопряжено с другими занятиями и законными препятствиями; наконец, этот закон не исключает избрания в децемвиры человека, привлеченного к суду; именно Гнея Помпея отводит он, лишая его возможности быть избранным вместе с Публием Руллом (о других молчу). Ведь Рулл требует личного присутствия для заявления о соискании, чего никогда не было ни в одном законе, даже насчет тех должностных лиц, относительно которых установлен определенный порядок[709]; цель этого — чтобы вы в случае, если закон будет принят, не придавали Помпея Руллу в качестве коллеги, который бы наблюдал за ним и карал его за алчность.
(X) Теперь я, видя, что вы высоко цените заслуги Помпея и приняли близко к сердцу обиду, наносимую ему этим законом, повторю сказанное мной вначале: царская власть подготовляется этим законом, ваша свобода с корнем уничтожается. (25) А вы как полагали? Неужели эти несколько человек, раз уж они бросили свои жадные взоры на все ваше достояние, не постараются прежде всего полностью отстранить Гнея Помпея от охраны вашей свободы, лишить его власти, не дать ему возможности опекать и защищать ваши интересы? Они поняли и понимают, что если вы, по своей неосмотрительности и из-за небрежности с моей стороны, примете закон, не ознакомившись с ним, то вы впоследствии, ознакомившись с его коварными уловками уже после того, как изберете децемвиров, сочтете нужным противопоставить всем недостаткам этого преступного закона оплот в лице Гнея Помпея. Неужели же это еще недостаточное для вас доказательство того, что определенные лица стремятся к господству и к власти над всем государством, раз вы видите, что тот, кто будет стоять на страже вашей свободы — а это они понимают — лишается возможности получить почетную должность?
(26) Послушайте же теперь, какую и сколь обширную власть предоставляют децемвирам. Прежде всего, их облекают полномочиями на основании куриатского закона[710]. А ведь уже это одно неслыханно и совершенно необычно — на основании куриатского закона предоставлять должность, которую ранее никакие комиции не предоставляли. Далее, Рулл хочет, чтобы претор римского народа, который будет избран первым, предложил этот закон. И как? Так, чтобы децемвират был предоставлен тем людям, которых изберет римский плебс. Он забыл, что плебс никого не избирает[711]. Итак, всю вселенную опутывает законами человек, который в третьей главе закона забывает, что́ написано во второй? Теперь-то совершенно ясно, какие права вы получили от предков и какие вам оставляет этот народный трибун. (XI) Предки наши повелели, чтобы о каждом роде должностных лиц вы выносили решение дважды. Ведь когда о цензорах издавался центуриатский закон[712], а о прочих патрицианских должностных лицах — куриатский, то об одних и тех же лицах решение выносили дважды, дабы народ мог взять свое решение обратно, если он раскается в милости, какую он оказал.
(27) Теперь вы, квириты, сохранили только первые два вида комиций — центуриатские и трибутские; куриатские же остались только для совершения авспиций. Но так как этот народный трибун понимал, что никто не может получить в руки власть без повеления народа или плебса, он и утвердил эти полномочия за куриатскими, в которые вы не входите, а трибутские, в которых вы участвуете, упразднил. Таким образом, хотя предки наши повелели, чтобы вы выносили решение в комициях двух родов о каждом отдельном должностном лице, этот сторонник народа не оставил народу возможности вынести свое решение даже в комициях одного рода. (28) Но обратите внимание на его добросовестность и рвение. Он увидел и хорошо понял, что без издания куриатского закона децемвиры не могут обладать властью, так как будут избраны только девятью трибами. Он хочет, чтобы о них был внесен куриатский закон, и велит сделать это претору[713]. Насколько это нелепо, мне дела нет. Ведь он хочет, чтобы этот куриатский закон внес тот претор, который будет избран первым; если же он не сможет его внести, то это должен сделать претор, избранный последним; таким образом, может показаться, либо он шутил в таком важном деле, либо он имел что-то в виду, но что́ — неизвестно. Все это настолько ни с чем не сообразно, что вызывает смех, и настолько хитроумно, что непонятно; поэтому оставим это и вернемся к вопросу о его добросовестности. Он видит, что без куриатского закона децемвиры не могут приступить к своей деятельности. (29) Что же произойдет, если этот закон не будет издан? Обратите внимание на его изобретательность. «Тогда эти децемвиры, — говорит он, — должны обладать такими же правами, какими обладают должностные лица, избранные с соблюдением всех законов». Если в таком государстве, как наше, в отношении прав и свобод намного превосходящем другие государства, кто угодно может, без всяких комиций, получить империй или власть, то к чему в третьей главе требовать издания куриатского закона, когда в четвертой ты позволяешь, чтобы децемвиры, без издания куриатского закона, имели такие же права, какие у них были бы, если бы они избирались народом с соблюдением всех законов? Царей, не децемвиров назначают нам, квириты! Вот что получается из таких начал и исходных положений: когда они начнут действовать и даже как только их назначат, то вашим правам, власти и свободе придет конец.
(XII, 30) Но смотрите, как тщательно Рулл оберегает права народных трибунов. Когда консулы предлагали куриатский закон, народные трибуны не раз совершали интерцессию; все же мы не сетуем на то, что народные трибуны обладают такой властью: только в том случае, если кто-нибудь этими своими полномочиями злоупотребит, мы выносим свое суждение; но этот народный трибун уничтожает право интерцессии при издании куриатского закона, который должен внести претор. Прежде всего заслуживает порицания, что трибунская власть ограничивается по воле народного трибуна; но прямо-таки смешно, что, между тем, как консулу, без проведения куриатского закона, нельзя начальствовать над войском, децемвиру, по отношению к которому интерцессия запрещена, Рулл, даже в случае интерцессии, предоставляет такую же власть, какой он обладал бы, если бы закон был принят; поэтому я и не понимаю, ни почему Рулл запрещает интерцессию, ни почему он думает, что кто-нибудь станет ее совершать, когда интерцессия будет свидетельствовать о глупости лица, совершившего ее, но ничему не помешает.
(31) Итак, пусть будут назначены децемвиры, не избранные ни настоящими комициями, то есть голосованием народа, ни хотя бы комициями, созываемыми для видимости, ради соблюдения древнего обычая, по случаю авспиций, при участии тридцати ликторов. Теперь обратите внимание, насколько полномочия, какими Рулл наделяет людей, не получивших от вас никакой власти, больше тех, какими наделены все мы, которым вы дали величайшую власть. Он велит, чтобы при децемвирах по выводу колоний находились пулларии[714] — «на тех же основаниях, — говорит он, — на каких они были при тресвирах в силу Семпрониева закона»[715]. И ты, Рулл, еще смеешь говорить о Семпрониевом законе, и сам закон этот не напоминает тебе, что эти тресвиры были избраны голосованием тридцати пяти триб? И ты, которому столь чуждо то чувство справедливости и чести, каким обладал Тиберий Гракх, думаешь, что к совершенному на совсем иных началах, следует применять те же правовые положения? (XIII, 32) Кроме того, Рулл предоставляет децемвирам власть, на словах преторскую, в действительности же царскую; он ограничивает ее срок пятилетием, но делает ее вечной; ибо он подкрепляет ее такими мощными средствами, что отнять ее у них, против их воли, не будет никакой возможности. Затем, он придает им посыльных, писцов, письмоводителей, глашатаев, архитекторов; кроме того, он дает им мулов, палатки, […] утварь; деньги на расходы он черпает из эрария, берет у союзников; двести землемеров он назначает из всаднического сословия, по двадцати телохранителей — каждому из них; они же будут их прислужниками и приспешниками при осуществлении децемвирами своей власти.
Пока еще перед вами, квириты, один только внешний вид тираннов. Вы видите знаки власти, но еще не самое власть. Кто-нибудь, пожалуй, скажет: «Чем мне все это мешает — писец, ликтор, глашатай, пулларий?» Все эти знаки таковы, квириты, что лицо, обладающее ими без вашего голосования, является либо царем, что нестерпимо, либо частным человеком, потерявшим рассудок. (33) Поймите, сколь великая власть предоставлена децемвирам, и вы скажете, что это уже не безумие частных лиц, а надменность царей. Прежде всего, им предоставляют неограниченную власть собирать несметные богатства с ваших земель, облагаемых податями, и притом не употреблять эти деньги с пользой, а отчуждать их; затем — над всем миром и над всеми народами децемвирам вручается судебная власть, не ограниченная советом судей, право наказывать без провокации[716] и карать, лишая подсудимого права помощи[717]. (34) В течение пяти лет они смогут судить даже консулов, даже самих народных трибунов; между тем их в течение этого времени никто судить не может; добиваться должностей им будет дозволено, а привлекать их к суду не будет дозволено; они смогут покупать земли, у кого захотят и какие захотят, и притом за любую цену; им дозволяется выводить новые колонии, вновь заселять старые, заполнить всю Италию своими колониями; им дается полная власть разъезжать по всем провинциям, отнимать земли у независимых городских общин, продавать царства; им предоставляется право находиться в Риме, когда они захотят, и когда им заблагорассудится — выезжать, куда захотят, облеченными высшим империем и всей полнотой судебной власти; в то же время они смогут отменять приговоры уголовных судов, удалять из совета судей, кого захотят; каждый из них сможет выносить приговор по важнейшим делам, облекать квестора полномочиями, посылать землемера, причем сказанное землемером будет считаться утвержденным. (XIV, 35) Я называю эту власть царской, квириты, потому что я не нахожу иного подходящего слова; но она, конечно, еще более велика. Ведь никогда не было царской власти, которая бы не была ограничена если не законами, то все же пределами страны. Эта же власть поистине беспредельна, коль скоро она, на законном основании, охватывает и все царства, и вашу обширную державу, и земли, частью не зависящие от вас, частью даже вам неизвестные.
Итак, во-первых, децемвирам разрешается продавать все земли, о продаже которых сенат вынес постановления в консульство Марка Туллия и Гнея Корнелия[718] или же впоследствии. (36) Почему это написано так неясно и так темно? Разве не могли они перечислить в своем законе поименно все те земли, насчет которых сенат вынес решение? Есть две причины этой неясности, квириты: одна — это чувство стыда (если только может быть какой-либо стыд при таком необычайном бесстыдстве), другая — преступные намерения. Ибо то, что сенат назначил к продаже, Рулл назвать не решается; это — общественные участки земли в городе Риме, это — священные места, к которым, после восстановления власти трибунов[719], никто не прикоснулся; часть их наши предки повелели превратить в Риме в убежища на случай опасности. А теперь децемвиры все это будут продавать на основании закона, предложенного трибуном. К этому прибавится гора Гавр[720], прибавятся ивняки под Минтурнами[721], сюда же пойдет и знаменитая Геркуланская дорога[722], — ее продать легко, она очень приятна и приносит большой доход — прибавится и многое другое, что сенат в ту пору, вследствие скудости средств в эрарии, назначил к продаже, а консулы, боясь недовольства народа, не продали. (37) Но об этом, пожалуй, из чувства стыда, в законе умалчивают. Особенно же следует остерегаться и страшиться вот чего: разнузданности децемвиров предоставляется полная возможность совершать подлоги в официальных книгах и ссылаться на вымышленные ими постановления сената, которых никогда и не было — тем более, что из числа людей, бывших за то время консулами[723], многие уже умерли. Или вы, быть может, полагаете, что мы не вправе подозревать в преступной дерзости тех, кому в их алчности, весь мир кажется тесным?
(XV, 38) Вот вам тот род продажи, который, как я понимаю, представляется вам заслуживающим внимания; а теперь вдумайтесь в то, что за этим следует. Вы поймете, что это, так сказать, занятая ими исходная позиция[724] и подступ к дальнейшему. «Земли, местности, постройки, которые…» Что следует за этим? Много разного имущества: рабы, скот, золото, серебро, слоновая кость, ковры, мебель и прочее. Что на это сказать? Может быть, он думал, что навлечет на себя всеобщее осуждение, если перечислит все точно? Он не боится осуждения. Что же в таком случае? Он решил, что точный список будет слишком длинен, а пропустить что-либо боялся; потому добавил: «или любое другое имущество». Благодаря этой краткости, как видите, ничего не исключено. Итак, все то, что вне Италии сделалось государственным имуществом римского народа в консульство Луция Суллы и Квинта Помпея[725] или позже, — все это он велит децемвирам пустить в продажу. (39) Этой главой, квириты, утверждаю я, децемвирам выданы головой и отданы на произвол, на суд и во власть все племена, народы, провинции и царства. Прежде всего я спрашиваю: есть ли, скажите мне, где-нибудь такая местность, относительно которой децемвиры не могли бы объявить, что она является государственной собственностью римского народа? Ибо, если судьей будет тот же, кто это объявил, то чего только он не объявит, если ему же будет дозволено судить? Будет выгодно объявить собственностью римского народа Пергам, Смирну, Траллы, Эфес, Кизик, словом, всю Азию, возвращенную нам после консульства Луция Суллы и Квинта Помпея. (40) Разве нельзя будет составить речь по этому вопросу или же, — если обсуждать дело и выносить решение будет один и тот же человек — разве не будет возможности заставить его вынести несправедливое решение? А если он не захочет вынести Азии суровый приговор, неужели же он не возьмет с нее, за избавление от страха перед угрожающей ей карой, любой платы по своему усмотрению? Ну, а Вифинское царство?[726] Ведь оно, несомненно, превращено в государственную собственность римского народа; это неоспоримо, коль скоро это нами уже установлено и решено и мы это наследство приняли. Что же, в таком случае, может помешать децемвирам приступить к продаже всех земель, городов, соляных промыслов, гаваней, словом, всей Вифинии?
(XVI) А Митилены, которые, вне всякого сомнения, стали вашей собственностью, квириты, по закону войны и по праву победы[727], — город, известнейший как по своим естественным условиям и местоположению, так и по расположению и красоте зданий, с его красивыми и плодородными землями? Ведь все это охватывает одна и та же глава закона. (41) А Александрия и весь Египет? Как тщательно они их припрятали, как обходят они вопрос об этих землях, а тайком полностью передают их децемвирам! И в самом деле, до кого из вас не дошла молва, что это царство, в силу завещания царя Алексы[728], стало принадлежать римскому народу? Насчет этого я, консул римского народа, не только не стану выносить решения, но не скажу даже и того, что думаю. Ибо по этому вопросу, мне кажется, трудно не только принять постановление, но даже высказаться. Я вижу, найдутся люди, которые станут утверждать, что завещание действительно было составлено; я согласен, что существует суждение сената[729] о вступлении в права наследства, вынесенное тогда, когда мы, после смерти Алексы, отправили в Тир послов с поручением получить для нас деньги, положенные там царем. (42) Как я хорошо помню, Луций Филипп[730] не раз настаивал на этом в сенате. Что касается человека, который ныне занимает там царский престол[731], то, по-моему, почти все согласятся, что он не царь — ни по своему происхождению, ни по духу. Другие же говорят, что никакого завещания нет, что римскому народу не подобает добиваться всех царств, но что наши сограждане готовы туда переселяться ввиду плодородия земли и всеобщего изобилия. (43) И об этом столь важном деле будет выносить решение Публий Рулл вместе с другими децемвирами, своими коллегами? Будет ли он судить справедливо? Ведь решение — как положительное, так и отрицательное — настолько важно, что небрежное отношение к нему совершенно не допустимо и не терпимо. Предположим, он захочет народу угодить: он присудит Египет римскому народу. И вот, он сам, в силу своего закона, распродаст Александрию, распродаст Египет; над великолепным городом, над землями, прекраснее которых нет, он станет судьей, арбитром, владыкой, словом, царем над богатейшим царством. Но допустим, что он не будет столь притязателен и алчен; он призна́ет, что Александрия принадлежит царю, а у римского народа ее отнимет.
(XVII, 44) Во-первых, почему решение о наследстве, достающемся римскому народу, должны выносить децемвиры, когда вы повелели, чтобы о наследствах частных лиц решение выносили центумвиры?[732] Затем, кто будет защищать интересы римского народа? Где это дело будет обсуждаться? Где найдутся такие децемвиры, которые, как это можно предвидеть, присудят Птолемею царскую власть в Александрии бесплатно? Но если они имели в виду Александрию, то почему они в настоящее время не избрали того же пути, какой они избрали в консульство Луция Котты и Луция Торквата?[733] Почему они нацелились на эту страну не открыто, как некогда, и почему не таким же образом, как тогда — не прямо и не у всех на глазах? Или те, которые не смогли овладеть этим царством во время этесий[734]; совершив прямой морской переход, теперь, под покровом густых туманов и мрака, рассчитывают достигнуть Александрии?
(45) Обратите внимание еще на одно обстоятельство, квириты! Присутствие наших легатов, лиц с незначительными полномочиями, которым предоставляется свободное легатство[735] для устройства их частных дел, чужеземные народы все же едва терпят; ибо само название «власть» им в тягость и внушает им страх, даже когда она представлена незначительной личностью; ведь легаты, всякий раз выезжая из Рима, злоупотребляют вашим, а не своим именем. Что, по вашему мнению, будет, когда эти децемвиры станут разъезжать по всему миру, облеченные империем, с ликторами, с известной нам избранной молодежью в лице землемеров, — в каком настроении, в каком страхе будут эти несчастные народы, какие опасности грозят им! (46) Уже сам империй внушает им ужас — стерпят. Приезд децемвиров сопряжен с издержками — будут нести. На них возложат кое-какие повинности — не откажутся. Но каково будет, квириты, когда тот децемвир, который приедет в какой-нибудь город, — либо долгожданный как гость, либо неожиданно как хозяин — и объявит то самое место, куда он приехал, тот самый гостеприимный дом, в который его привели, государственной собственностью римского народа? Какое страшное несчастье будет для населения, если он это объявит! Какой доход для него самого, если он этого не сделает! И все же эти самые люди, которые добиваются таких полномочий, иногда сетуют, что все страны и все моря отданы во власть Гнея Помпея[736]. Ну, разумеется, это одно и то же — предоставить полномочия или даром отдать все; поручить ли многотрудное дело или вручить доходы и прибыли; быть ли посланным для освобождения союзников или для их угнетения! Наконец, если речь идет об исключительных полномочиях, то разве безразлично, предоставит ли их римский народ тому, кому захочет, или же они будут у римского народа нагло вырваны коварным законом?
(XVIII, 47) Вы уже поняли, как многочисленны и как велики владения, которые децемвиры будут продавать на основании этого закона. Этого недостаточно. Упившись кровью союзников, кровью чужеземных народов, кровью царей, они намерены подсечь жилы римскому народу, наложить руку на ваши доходы и ворваться в эрарий! Ведь следующая глава даже не только позволяет, на случай отсутствия денег (хотя они, на основании вышеупомянутых полномочий, должны поступать в таком количестве, что в них не может быть недостатка), но повелительно требует (будто бы ради вашего блага), чтобы децемвиры продавали облагаемые податями земли, перечисленные по их названиям. (48) Прочитай же мне по порядку, по записи закона, об этой распродаже римского народа; даже самому глашатаю, клянусь Геркулесом, будет печально и горестно объявлять о ней. [Об аукционе.] Как и свое собственное имущество, так и государственное Рулл проматывает, как расточитель, готовый продать свои рощи раньше, чем продаст виноградники. Италию ты уже распродал; переходи к Сицилии. Из всего того, что наши предки оставили нам в этой провинции как нашу собственность, — в городах ли или на полях — не остается ничего; все он велит продавать. (49) И то, что предки наши, после своей недавней победы, оставили вам в городах и на землях наших союзников как залог мира и как памятник войны, вы, получив от них, по воле Рулла, будете продавать? Я вижу, что внушаю вам некоторую тревогу, квириты, раскрывая вам козни, которые они строят, по их мнению, тайком против высокого положения Гнея Помпея. Простите мне, что я так часто называю имя этого мужа. Два года назад, в мою претуру[737], вы сами, квириты, на этом же месте возложили на меня задачу — всем, чем только смогу, защищать вместе с вами его достоинство в его отсутствие. До сего времени я делал все, что мог, не побуждаемый к этому ни дружескими отношениями, ни расчетами на почести и на получение высшего достоинства, которого я достиг благодаря вам, — правда, с его одобрения, но все-таки в его отсутствие. (50) Вот почему, понимая, что почти весь этот закон подготовляют, словно осадную машину, дабы уничтожить все могущество Помпея, я и дам отпор намерениям этих людей и, конечно, добьюсь того, чтобы вы все могли не только видеть то, что вижу я, но также и ощупать это. (XIX) Закон предусматривает продажу земель, принадлежавших жителям Атталии, Фаселиды, Олимпа, а также и земель Аперы, Ороанды и Элевсы[738]. Области эти, благодаря империю и победам прославленного мужа, Публия Сервилия, сделались вашей собственностью. Закон присоединяет к ним также и царские земли в Вифинии, доходы с которых в настоящее время получают откупщики, затем — земли Аттала в Херсонесе[739], земли в Македонии, принадлежавшие царю Филиппу и царю Персею; цензоры и эти земли отдавали на откуп; [они приносят вам] верный доход […].
(51) Он назначает на продажу также и тучные и плодородные земли в Коринфе, затем земли в Кирене, принадлежавшие Апиону[740], а также и земли в Испании, вблизи Нового Карфагена, а в Африке он продает даже старый Карфаген, на который Публий Африканский, по решению совета[741], наложил проклятье[742]. Он, разумеется, сделал это не из благоговения перед этим издревле населенным местом и не для того, чтобы само место это свидетельствовало о бедствии, постигшем тех, кто с нашим городом вступил в борьбу за владычество; нет, просто он не был так рьян, как Рулл, да, пожалуй, он и не мог найти покупателя для этого места. Наконец, к числу этих земель, [принадлежавших царям,] захваченных в прежние войны благодаря мужеству выдающихся императоров, Рулл присоединяет царские земли, которыми Митридат владел в Пафлагонии, Понте и Каппадокии, — с тем, чтобы децемвиры продавали также и их.
(52) Как же так? Пока побежденным еще не предъявлено никаких условий, император доклада не делал, словом, пока война еще не закончена, причем царь Митридат, потерявший свое войско и из царства своего изгнанный, даже теперь что-то замышляет, находясь в странах, лежащих на краю света, и от непобедимой руки Гнея Помпея его защищают Меотида[743] и ее топи, трудности пути и вышина гор, когда наш император еще воюет и в этих местностях еще и поныне сохраняется состояние войны, то неужели децемвиры будут продавать земли, на которые, по обычаю предков, пока еще должна распространяться судебная и всякая другая власть Гнея Помпея? (53) И Публий Рулл (ведь он ведет себя так, словно уже считает себя избранным децемвиром), пожалуй, поедет, чтобы участвовать именно в этой продаже с торгов! (XX) Прежде чем приехать в Понт, он, очевидно, пошлет Гнею Помпею письмо, которое эти люди, мне думается, уже составили приблизительно так: «Народный трибун Публий Сервилий Рулл, децемвир, шлет привет Гнею Помпею, сыну Гнея». Не думаю, чтобы он добавил: «Великому»[744]; ведь он едва ли окажет словом ту честь, какую пытается умалить своим законом. «Предлагаю тебе явиться ко мне в Синопу и привести вспомогательные войска на то время, пока земли, которые ты своими трудами захватил, я, на основании своего закона, буду продавать». А Помпея он к продаже не допустит? Он будет в его провинции продавать имущество, завоеванное этим императором? Представьте себе воочию Рулла, производящим в Понте торги вместе с красавчиками землемерами, после того как он водрузит копье между нашим и вражеским лагерями[745]. (54) И не только в одном этом заключается необычайно тяжкое и доселе неслыханное оскорбление, чтобы — пока условия мира еще не продиктованы, более того, пока император еще ведет войну — ценности, добытые войной, не говорю уже — поступали в продажу, но даже были отданы на откуп. Но эти люди, несомненно, имеют в виду нечто большее, чем одно только оскорбление. Они надеются, что если недругам Гнея Помпея, облеченным империем, полной судебной и неограниченной властью, позволят с огромными деньгами не только разъезжать повсюду, но и добраться также и до его войска, то им удастся строить козни ему самому, а также лишить его части его войска, средств и славы. Они думают, что войско Гнея Помпея, если оно питает какую-то надежду получить от него земли или другие преимущества, оставит его, увидев, что власть распределять все эти блага передана децемвирам. (55) Я вижу не без удовольствия, насколько тупы люди, питающие такие надежды, и насколько наглы люди, делающие такие попытки; но мне обидно, что они настолько презирают меня, рассчитывая осуществить эти чудовищные замыслы именно в мое консульство.
Более того, при продаже всех этих земель и строений децемвирам предоставляется право продавать все это в любом месте, где только им вздумается. О, крушение основ! О, произвол, требующий обуздания! О, превратные и губительные замыслы! (XXI) Отдавать сбор податей на откуп разрешается только в этом вот городе — либо с этого, либо вон с того места[746], когда вы в полном сборе, как сегодня. А продавать наше имущество и навеки его отчуждать будет дозволено и во мраке Пафлагонии, и в пустынных краях Каппадокии? (56) Когда Луций Сулла, на устроенных им роковых торгах, продавал достояние без суда осужденных граждан и говорил, что продает свою добычу[747], он все-таки продавал его с этого места и не осмелился скрыться от тех самых людей, чьи взоры он оскорблял. И неужели децемвиры будут продавать ваши облагаемые податями земли, квириты, не говорю уже — без вашего ведома, но даже без свидетеля в лице государственного глашатая?
Далее говорится обо «всех землях вне Италии»[748], без ограничения давности, а не так, как это было ранее, со времени консульства Суллы и Помпея. Частное ли это имущество или же государственная земля, предоставляется решать децемвирам, причем эти земли облагаются очень большой податью. (57) Ну, кто же не понимает, сколь велика, сколь нестерпима такая судебная власть, насколько она в духе царей — власть, дающая возможность в любой местности, по своему усмотрению, без всякого разбора дела, без всякого совещания забирать частное имущество в казну, казенное освобождать от продажи? В этой же главе делается исключение для земель Реценторика в Сицилии, этой оговорке я сам — и ввиду своих тесных связей с населением этой местности[749], и ввиду справедливости этого решения чрезвычайно рад, квириты! Но какова наглость! Люди, владеющие землей в Реценторике, основывают свое право владения на его давности, а не на законе; они владеют землей ввиду милосердия сената, а не по правовым установлениям. Они признают, что эта земля — государственная, но полагают, что не следует удалять их из их владений, с насиженных с древнейших времен мест, от их богов-пенатов[750]. Но если эти земли в Реценторике — частная собственность, то почему ты их исключаешь? Если же это государственная собственность, то какова цена такой справедливости — позволять, чтобы другие земли, даже являющиеся частной собственностью, признавались государственными, а исключались именно эти, которые их население считает государственными? Итак, исключение делается для земель тех людей, которые каким-либо путем приобрели значение в глазах Рулла, а все прочие земли, где бы они ни находились, без какого-либо выбора, без ведома римского народа, должны быть без решения сената присуждены децемвирам? (XXII, 58) К тому же в предыдущей главе, на основании которой должно поступать в продажу все, есть и другая, весьма выгодная оговорка, которая будет оберегать земли, охраняемые договором. Рулл слыхал, что в сенате, а иногда и на этом месте часто ставился — не мной, а другими лицами — вопрос о том, что царь Гиемпсал владеет на побережье землями, которые Публий Африканский присудил римскому народу; тем не менее впоследствии консул Гай Котта на основании договора обеспечил царю его права[751]. Так как вы не утвердили этого договора, то Гиемпсал опасается, достаточно ли он надежен и прочен. Как? Что же это значит? Отменяется ваше решение, а договор в целом принимается и одобряется. Что Рулл ограничивает продажу земли децемвирами, я хвалю; что он обеспечивает интересы дружественного нам царя, не порицаю; но что все это делается не даром, — на это я вам указываю. (59) Ведь у этих людей все время вертится перед глазами Юба, сын царя, у которого столько же денег, сколько волос на голове[752].
Трудно даже представить себе место, способное принять в себя такие горы денег; Рулл накопляет их, прибавляет, собирает в кучу. «Все золото и серебро, захваченное как добыча и полученное от ее продажи, золото для венка, независимо от того, кому оно досталось, не сданное в казну и не израсходованное на сооружение памятника»[753], — обо всем он велит объявлять децемвирам и передавать это им. Глава эта, как видите, поручает децемвирам даже расследование деятельности прославленных мужей, которые вели войны именем римского народа, а также и суд по делам о вымогательстве. А вот о децемвирах никакой суд уже не будет решать, сколько каждый из них получил от продажи добычи, что́ передано ими в казну, а что оставлено себе. А на будущее время для каждого из ваших императоров устанавливается правило — по своем отъезде из провинции объявлять тем же децемвирам, как велики его добыча и деньги от ее продажи и сколько у него золота для венка. (60) Но этот честнейший муж все же делает исключение для того, кого он так любит, — для Гнея Помпея. Откуда же эта любовь, — столь неожиданная, столь внезапная? Тому самому человеку, которому, чуть ли не называя его по имени, отказывают в почете, связанном с децемвиратом, человеку, чья судебная власть, право ставить условия и выносить решения насчет земель, завоеванных его доблестью, уничтожаются, к которому уже не в провинцию, но в самый лагерь посылают децемвиров, облеченных империем, с огромными деньгами, с неограниченной властью и правом суда по всем делам, человеку, у которого одного вырывают право империя, искони сохранявшееся за всеми императорами, именно ему, в виде исключения, позволяют не передавать своей добычи в казну? Что имеется в виду в этой главе: оказать ли ему почет или же вызвать ненависть к нему?
(XXIII, 61) Гней Помпей обойдется без этих поблажек Рулла; благодеяниями этого закона, милостями децемвиров он пользоваться не хочет. Ибо, если справедливо, чтобы императоры не обращали добычи, захваченной ими, и денег от ее продажи ни на сооружение памятников в честь бессмертных богов, ни на украшение города Рима, а передавали эту добычу децемвирам, словно те — их владыки, то Помпей никаких преимуществ для себя не желает, никаких; он хочет пользоваться обыкновенными правами — такими же, какими пользуются другие. Но если несправедливо, квириты, если позорно, если нестерпимо, чтобы эти децемвиры назначались в качестве надсмотрщиков над всеми деньгами всех людей и обирали не только царей и население чужих стран, но даже и ваших императоров, то для Помпея, по моему мнению, делают исключение вовсе не для того, чтобы оказать ему почет; нет, они боятся, что того оскорбления, какое терпят другие, он не стерпит. (62) Но вот что думает Помпей: все, что угодно вам, он считает нужным переносить; но если вы чего-нибудь переносить не сможете, то он, конечно, добьется того, чтобы вас не принуждали терпеть это слишком долго. Так вот, Рулл вносит оговорку, что все деньги, какие после моего консульства могут поступить благодаря новым податям, должны быть в распоряжении децемвиров. Но он понимает, что новые подати будут поступать с земель присоединенных Помпеем. Таким образом, предоставив Помпею деньги от продажи добычи, Рулл считает себя вправе пользоваться доходами, которые принесла доблесть Помпея.
Но вот для децемвиров, квириты, добыты все деньги, какие только есть на свете; не пропущено ничего; все города, области, как и царства и, наконец, ваши облагаемые податями земли поступили в продажу; в ту же кучу сложены деньги от продажи добычи ваших императоров. Какие огромные, какие чудовищные богатства предстоит собрать децемвирам на таких больших аукционах, посредством стольких судебных решений, своей властью, столь неограниченной во всех отношениях, — вы видите. (XXIV, 63) Узнайте теперь о других видах беспримерного и нестерпимого стяжания и вы поймете, что для удовлетворения наглой алчности определенных людей и выбрали это приятное народу название — земельный закон. На эти деньги Рулл велит покупать земли, чтобы устраивать на них колонии для вас. Не привык я, квириты, говорить о людях резко, кроме случаев, когда меня вызовут на это. Я бы не хотел оскорблять людей, которые рассчитывают сделаться децемвирами. Вы вскоре поймете, каким людям вы предоставите власть все продавать и все покупать. (64) Но то, чего я еще не считаю нужным говорить, вы все же можете и сами представить себе. Во всяком случае, я, мне кажется, могу вполне искренно сказать одно: тогда, когда в нашем государстве были Лусцины, Калатины, Ацидины — люди, украшенные не только почестями, оказанными им народом, и своими подвигами, но также тем терпением, с каким они переносили свою бедность, и тогда, когда жили Катоны, Филы, Лелии[754], чьи мудрость и умеренность в делах государственных и частных, на форуме и среди их домочадцев вам хорошо известны, все же ни одного из них не облекали такими полномочиями, чтобы один и тот же человек выносил судебное решение и продавал земли, делая это в течение пяти лет во всем мире, чтобы он же отчуждал облагаемые податями земли римского народа и, собрав для себя, по своему усмотрению, без свидетелей, огромные деньги, наконец, стал покупать на них у кого захочет то, что ему заблагорассудится. (65) Облекайте же сами, квириты, ныне всеми этими полномочиями этих людей, которые, как вы подозреваете, нацелились на этот децемвират; вы поймете, что одни из них безмерно корыстны, другие — безмерно расточительны. (XXV) Не стану я теперь обсуждать здесь и то, что и так вполне ясно: наши предки не оставляли нам завета покупать земли у частных лиц с тем, чтобы государство выводило на них плебс; на основании всех законов с государственных земель частных лиц удаляли. Сознаюсь, я ожидал от этого страшного и беспощадного народного трибуна какой-нибудь меры в этом роде. Но это доходнейшее и позорнейшее торгашество в виде покупки и продажи земли я всегда считал чуждым деятельности трибунов, чуждым достоинству римского народа. (66) Рулл велит покупать земли. Прежде всего я хочу знать, какие земли и в каких местностях. Я не хочу, чтобы римский плебс, с чувством тревоги и неуверенности, питал неясные надежды и слепо ожидал дальнейших событий. Есть земли Альбы, Сетии, Приверна, Фунд, Весции, Фалерна, Литерна, Кум, Ацерр[755]. Я понимаю. При выезде из других ворот[756] — земли Капена, Фалиска, сабинские, земли Реаты; при выезде из третьих — земли Венафра, Аллиф и Требулы. Ты располагаешь такими большими деньгами, что можешь все эти и подобные им земли не только купить, но и накопить. Почему ты не указываешь их точно и не называешь их, чтобы римский плебс мог хотя бы обсудить, что́ в его интересах, что́ ему выгодно, насколько он может на тебя положиться в деле покупки и продажи земель? «Я указываю, — говорит он, — в границах Италии». Да, это сказано очень точно. И в самом деле, какая разница, у подошвы ли Массика[757] вас поселят, или же где-нибудь в другом месте [в Италии]? (67) Хорошо, местности ты не указываешь. А каково качество почвы? «Конечно, — говорит Рулл, — земли, которые можно распахать или обработать». Можно распахать, говорит он, можно обработать, но не — земли распаханные или обработанные. Что же это: закон или же объявление о Вератиевых торгах? Там, говорят, было написано: «Двести югеров, на которых можно посадить оливы, триста югеров, на которых можно разбить виноградник». И ты, на свои огромные деньги, станешь покупать эти земли, которые можно распахать или обработать? Да существует ли такая бедная и тощая почва, что ее не поднять лемехом, или столь каменистая местность, где труд земледельца окажется напрасным? «Я потому, — говорит он, — и не могу точно назвать земли, что не прикоснусь ни к чьей земле без согласия ее владельца». Это, квириты, дело, гораздо более прибыльное, чем отчуждение земли без согласия ее владельца. Ибо он, конечно, учтет, сколько дохода он может извлечь из ваших денег, и, в конце концов, земля будет куплена только в том случае, когда это будет выгодно покупателю и продавцу.
(XXVI, 68) Но вникните в смысл земельного закона. Даже те, кто занимает государственные земли, уступят их только в том случае, если эти земли будут взяты у них на самых выгодных для них условиях и за огромные деньги. Какой крутой поворот! Ранее достаточно было народному трибуну упомянуть о земельном законе — и людей, занимавших государственные земли или такие имения, владение которыми порождало ненависть, тотчас же охватывало чувство страха; но этот закон приносит им богатство и избавляет их от ненависти. И в самом деле, квириты, сколько, по вашему мнению, людей, которые не могут ни сохранить свои обширные владения, ни выносить ту ненависть, которую вызывают сулланские раздачи земель? Ведь они желали бы продать землю, но не находят покупателя; они уже давно хотят любым способом избавиться от этих земель. Людей, которые еще недавно и днем и ночью дрожали от одного имени трибуна, опасались вашей мощи, страшились упоминания о земельном законе, теперь даже будут просить и умолять о передаче, по назначенной ими цене, децемвирам земель, часть которых принадлежит государству, а часть навлекает ненависть на их владельцев и грозит им опасностью. Но вот песенка, которую этот народный трибун напевает потихоньку, не для вас, а для себя. (69) Его тесть, честнейший муж, под покровом мрака, спустившегося в ту пору на государство, захватил себе столько земли, сколько ему было угодно. Ему, уже изнемогающему и раздавленному бременем, взваленным на него Суллой, Рулл и хочет прийти на помощь своим законом — с тем, чтобы ему можно было от ненависти спастись, а деньги припрятать. Неужели же вы решитесь продавать облагаемые податями земли, добытые кровью и потом ваших предков, только для того, чтобы людей, владеющих землей по воле Суллы, обогатить и избавить от опасности? (70) Ибо эта покупка земель, поручаемая децемвирам, касается двух родов земельных владений, квириты! С одних земель хозяева бегут потому, что владение ими навлекло на них всеобщую ненависть; с других — ввиду их запустения. Сулланские наделы, которые кое-кто уже значительно округлил, вызывают такую ненависть, что они рухнут при первом же слове недовольства со стороны подлинного и стойкого народного трибуна. По какой бы цене ни скупали все эти земли, все же они обойдутся нам необычайно дорого. Земли другого рода, бесплодные и поэтому необработанные, места с нездоровым воздухом, пустынные и заброшенные, будут покупаться у тех людей, которые понимают, что им все равно придется их бросить, если не удастся их продать. Вот, несомненно, причина, почему этот народный трибун и сказал в сенате, что городской плебс чересчур много силы забрал в государстве и что его следует «вычерпать»; ведь он употребил именно это слово, точно говорил о какой-то выгребной яме[758], а не о сословии честнейших граждан.
(XXVII, 71) Но вы, квириты, если хотите послушаться меня, сохраните те блага, которыми вы владеете, — влияние, свободу, право голоса, достоинство, возможность находиться в Риме, форум, игры, праздничные дни и все другие преимущества, — если только вы не предпочитаете, покинув все вот это и расставшись с этим сердцем нашего государства, под водительством Рулла поселиться на засушливых землях Сипонта или в гиблых местностях Сальпина[759]. Но пусть он, по крайней мере, скажет, какие земли намерен он покупать; пусть сообщит, что́ и кому собирается он дать. Но чтобы он, продав все города, земли, облагаемые податями области и царства, стал покупать какие-то жалкие пески и болота — да можете ли вы, скажите мне, это допустить? А впрочем, вот еще что является из ряду вон выходящим: на основании этого закона сначала все поступает в продажу, причем деньги будут собраны и накоплены раньше, чем будет куплен хотя бы ком земли; далее, покупать земли Рулл велит, покупать их в принудительном порядке запрещает. (72) Я хочу знать: если не окажется людей, желающих продать землю, что будет с деньгами? Закон и запрещает передавать их в эрарий и не допускает их возврата децемвирами. Итак, все деньги останутся в руках децемвиров. Для вас землю покупать не будут. После отчуждения облагаемых податями земель, угнетения союзников, разорения царей и всех народов деньги у децемвиров будут, а земли у вас не будет. «Легко будет, — говорит Рулл, — большими деньгами склонить владельцев к продаже земли». Значит, закон сводится к тому, чтобы свое имущество мы продавали, за сколько сможем, а чужое покупали, за сколько захотят его владельцы.
(73) Более того, Рулл велит, чтобы на эти земли, купленные на основании его закона, децемвиры вывели колонии. Как? Разве всякое место годится для этого, разве для государства может быть безразлично, будет ли туда выведены колония или не будет? Ведь одно место требует устройства колонии, а другое его совершенно не допускает. В этом деле, как и в других государственных делах, стоит вспомнить о бдительности наших предков, которые, предвидя возможную опасность, так разместили колонии в подходящих для этой цели местностях, что они кажутся не столько городами Италии, сколько передовыми укреплениями нашего государства. А децемвиры будут выводить колонии на те земли, какие они купят? Даже если это не будет в интересах государства? (74) …«и, кроме того, в любые местности, по своему усмотрению». Почему бы им в таком случае не вывести колонии на Яникул и не посадить свой гарнизон нам на шею как ярмо? Ты, значит, не укажешь нам с точностью, сколько колоний, в какие местности ты хочешь вывести и какова будет численность колонов? И ты займешь любое место, какое только признаешь подходящим для насильственных действий, заселишь его, укрепишь по своему усмотрению, чтобы за счет доходов римского народа и всех его средств связать, задавить сам римский народ и отдать его на произвол и во власть децемвирам?
(XXVIII, 75) Что Рулл действительно рассчитывает занять всю Италию и захватить ее своими гарнизонами, в этом, квириты, прошу вас убедиться: он предоставляет децемвирам право выводить во все муниципии и колонии всей Италии колонов, каких они захотят вывести, и велит давать этим колонам землю. Разве не ясно, что создаются силы и гарнизоны, присутствие которых несовместимо с вашей свободой? Разве не ясно, что устанавливается царская власть, что гибнет ваша свобода? Ибо, когда эти же лица, благодаря своей огромной власти, заберут себе все деньги, привлекут к себе толпы людей… [Лакуна.], то есть всю Италию, когда они зажмут в тиски вашу свободу своими гарнизонами и колониями, какая возможность возвратить себе свободу останется у вас?
(76) Но, скажут мне, на основании этого закона распределят земли в Кампании, самые прекрасные во всем мире, и выведут колонию в Капую, прославленный и великолепный город. Что можем мы ответить на это? Сначала я буду говорить о ваших интересах, квириты! Затем возвращусь к вопросу о вашем почетном положении и достоинстве, чтобы те люди, которые, быть может, прельщаются красотой этой области или города, ни на что не рассчитывали, а те, которые негодуют на недопустимость этих действий, воспротивились этой притворной щедрости. Прежде всего я буду говорить об этом городе — на случай, если кто-нибудь склонен восхищаться Капуей больше, чем Римом. Закон велит назначить в Капую пять тысяч колонов; из этого числа каждый децемвир берет в свое ведение по пятисот человек. (77) Пожалуйста, не обманывайтесь; оцените положение трезво и внимательно. Неужели вы думаете, что среди них найдется место для вас или вам подобных людей, неподкупных, стоящих за спокойствие и мир? Если оно найдется для всех вас или же для большей части из вас, — хотя почет, оказанный мне вами, и велит мне бодрствовать дни и ночи и смотреть на все государственные дела, пристально устремив на них глаза, — то я все же, если это в ваших интересах, на короткое время глаза закрою. Но если для этих пяти тысяч людей, выбранных для насильственных действий, для преступления и резни, ищут место или, вернее, город, который даст им возможность начать войну и вести ее, то неужели вы все-таки потерпите, чтобы вашим именем против вас накопляли силы, вооружали гарнизоны, подготовляли себе опору в городах, в областях и в войсках? (78) Ибо именно тех самых земель в Кампании, которые они сулят вам, они пожелали для себя; они выведут туда своих сторонников, чтобы, прикрываясь их именем, самим владеть землей и получать доход; кроме того, они будут скупать землю; эти участки по десяти югеров они объединят в сплошные владения. Если же они скажут, что законом это не дозволено, то это не дозволено даже Корнелиевым законом[760]; но мы видим, — чтобы далеко не ходить за примерами, — что землями в Пренесте владеет лишь несколько человек[761]. И децемвирам при их денежных средствах, как я вижу, недостает только тех угодий, на доходы с которых они могли бы содержать многочисленную челядь и нести расходы по своим имениям в Кумах и Путеолах[762]. Но если Рулл имеет в виду вашу пользу, пусть он придет и открыто обсудит со мной вопрос о разделе земель в Кампании.
(XXIX, 79) В январские календы я спросил его, между кем и каким образом собирается он распределять эти земли. Он ответил мне, что начнет с Ромилиевой трибы. Во-первых, что это за высокомерное и оскорбительное решение — выделять часть народа, не обращать внимания на порядок триб и давать землю сельским трибам, уже владеющим землей, раньше, чем городским, которых соблазняют приятной надеждой на получение земли? Если же Рулл отрекается от сказанного им и думает удовлетворить всех вас, пусть он это докажет, пусть разделит землю на наделы по десять югеров каждый и перепишет ваши имена, начиная с Субурской трибы и кончая Арнской[763]. Если вы поймете, что нет возможности, уже не говорю — дать вам по десяти югеров, но даже и разместить на землях Кампании такое множество людей, то неужели вы все же потерпите, чтобы народный трибун и далее потрясал основы государства, пренебрегал величеством римского народа и издевался над вами самими? (80) Даже если бы эти земли могли достаться вам, разве вы все-таки не предпочли бы, чтобы они оставались вашим общим имуществом? Допустите ли вы полное уничтожение самых прекрасных владений римского народа, вашего главного достояния, мирной жизни украшения, опоры на случай войны, основы ваших доходов, житницы для ваших легионов, важнейшего источника вашего снабжения хлебом? Или вы забыли, какие многочисленные войска вы во время Италийской войны[764], после утраты других источников доходов, кормили урожаем, собранным в Кампании? Или вы не знаете, что другие доходы римского народа, как ни велики они, часто зависят от малейших превратностей судьбы, от неблагоприятных обстоятельств? Помогут ли нам сколько-нибудь гавани в Азии, пастбищные сборы, все доходы, получаемые нами из-за моря, при малейшей угрозе появления морских разбойников или врагов? (81) Напротив, эти доходы с земель Кампании особенные: они собираются у нас и защищены гарнизонами всех городов и им, кроме того, не угрожают ни войны, ни неурожай, ни бедствия, связанные с погодой и местностью; поэтому наши предки не только не отказались от части земель, отнятых ими у жителей Кампании, но даже скупили земли, находившиеся в руках у людей, у которых их нельзя было отнять без нарушения закона. По этой причине ни оба Гракха, проявившие такую большую заботу о благе римского плебса, ни Луций Сулла, без каких-либо зазрений совести раздававший все, кому хотел, не осмелились и прикоснуться к землям в Кампании. Нашелся один только Рулл, готовый лишить государство тех владений, из которых его не изгнали ни щедрость Гракхов, ни владычество Суллы. (XXX) Земли, которые вы, проезжая мимо, называете своими и о которых путешествующим чужестранцам говорят, что они принадлежат вам, после раздела… [Лакуна.] не будут называться вашими. Но кто же будет ими владеть? (82) Прежде всего это будут беспокойные люди, склонные к насилию, готовые к мятежу; по первому же знаку децемвиров они возьмутся за оружие против граждан и не остановятся перед резней; затем, вы увидите, как все земли в Кампании будут передавать малому числу людей, известных своей мощью и богатством. Между тем вам, получившим от предков эти завоеванные ими прекрасные области, источник ваших доходов, из владений ваших отцов и дедов не оставят и клочка земли. Неужели же о вас будут заботиться гораздо меньше, чем о частных лицах? Как это возможно? Когда предки наши послали в те самые местности Публия Лентула[765], который был первоприсутствующим в сенате, для покупки на государственный счет земель, вклинивавшихся в государственные земли Кампании, он, говорят, сообщил, что один участок земли ему ни за какие деньги купить не удалось и что человек, отказавшийся его продать, заявил ему, что его ничем не удастся склонить к этой продаже, так как он, имея много владений, только из одного этого никогда никаких дурных известий не получал. (83) Как же так? Значит, для частного человека довод этот был убедителен. А римский народ тот же довод не заставит отказаться от безвозмездной передачи земель в Кампании частным лицам в соответствии с рогацией Рулла? Но римский народ может сказать об этих доходах то же самое, что владелец этот, как говорят, сказал о своем именье. Азия в течение многих лет, во время войны с Митридатом, вам доходов не приносила[766], с обеих Испаний мы, во времена Сертория[767], никаких податей не получали. Городским общинам Сицилии, во время войны с беглыми рабами, Маний Аквилий даже дал хлеб заимообразно. Но из этой обложенной податями и налогами области мы никогда не получали дурных известий. Сбор других доходов нарушается вследствие затруднений, вызываемых войной, а эти доходы даже дают возможность вести войну. (84) Затем, по поводу этого распределения земли нельзя сказать даже того, что говорилось в других случаях — не должно быть земли, брошенной плебсом и не обрабатываемой свободными людьми[768]. (XXXI) Я утверждаю: распределить земли в Кампании, значит, разорить плебс и согнать его с земли, а не поселить и разместить его. Ведь все земли в Кампании обрабатывает и держит в своих руках[769] плебс и притом честнейший и умереннейший плебс. Этих высоконравственных людей, прекрасных земледельцев и солдат, наш народный трибун, благожелатель плебса, разоряет дотла. И несчастным людям, родившимся и выросшим на этой земле, опытным хлебопашцам, вдруг негде будет приклонить голову. А этим вот силачам и наглым приспешникам децемвиров будет передано владение всеми землями в Кампании. И если вы ныне с гордостью говорите о своих предках: «Земли эти мы от наших предков получили», — то ваши потомки будут о вас говорить: «Земли эти наши отцы, получив их от своих отцов, загубили». (85) Я, со своей стороны, полагаю: если дойдут до раздела Марсова поля и каждому из вас будут давать по два фута земли, чтобы у него было где встать, вы все же предпочтете владеть всей землей сообща, а не ее малой частью каждый поодиночке. Итак, даже если бы каждому из вас должна была достаться хотя бы малая часть из тех земель, которые сулят вам, а готовят для других, все же для вас было бы больше чести владеть ими сообща, а не каждому порознь. Но так как в действительности вас совершенно не имеют в виду, земли приобретают для других, а у вас их отнимают, то неужели вы, защищая свою землю, не дадите ожесточенного отпора этому закону, как дали бы его вооруженному врагу?
К землям в Кампании Рулл присоединяет Стеллатскую область и в ней назначает каждому гражданину по двенадцати югеров, словно между кампанской и стеллатской землей разница незначительна. (86) Но, чтобы заселить там все города, квириты, требуется множество людей. Ибо, как я уже говорил, закон позволяет децемвирам занимать, по их усмотрению, своими колонами муниципии, а также уже существующие колонии. Они и заполнят муниципий Калы, захватят Теан, свяжут присутствием своих гарнизонов Ателлы, Кумы, Неаполь, Помпеи и Нуцерию. Что касается Путеол, ныне самостоятельных и свободных, то их полностью займут новым населением и пришлым людом. (XXXII) И вот тогда известное нам знамя кампанской колонии, столь опасное для нашей державы, децемвиры водрузят в Капуе; тогда против этого вот Рима, нашей общей родины, воздвигнут тот второй Рим. (87) Делаются преступные попытки перенести управление вашим государством именно в тот город, где наши предки вообще не хотели допускать и существования государственной власти; ведь они признали, что во всем мире носителями величия и имени державы могут быть только три города: Карфаген, Коринф и Капуя. Разрушен был Карфаген, так как он ввиду своей многолюдности, своего местоположения и естественных условий, опоясанный гаванями, огражденный стенами, казалось, стремился выйти за пределы Африки и угрожал двум плодороднейшим островам римского народа. От Коринфа остались одни только следы[770]. Он находился на перешейке, вернее, у входа в Грецию, будучи на суше ключом к этой стране, и почти что соединял два моря, позволяя кораблям проплывать в обе стороны — настолько узок перешеек, разделяющий моря. Города эти, находившиеся за пределами нашей державы, предки наши не только покорили, но даже — дабы они никогда не могли возродиться, встать из праха и войти в силу — уничтожили до основания, как я уже говорил. (88) Насчет Капуи много и долго совещались[771]. До нас, квириты, дошли официальные записи; сохранилось много постановлений сената. Умудренные опытом люди решили, что если отнять у жителей Кампании их земли, если уничтожить в этом городе государственные должности, сенат и народное собрание и не оставить в нем и видимости государственного строя, то у нас не будет оснований бояться Капуи. Итак, вы найдете в старых книгах следующую запись: чтобы существовал город, который мог бы снабжать земли в Кампании всем необходимым для обработки, чтобы существовало место, пригодное для доставки и хранения урожая, чтобы у земледельцев, утомленных полевыми работами, была возможность пользоваться городскими жилищами, — только ради этого все эти здания не были разрушены.
Гай Юлий Цезарь. Базальт. Берлин.
(XXXIII, 89) Посмотрите же, как велика разница между мудростью наших предков и безрассудством этих людей: те хотели, чтобы Капуя была пристанищем для земледельцев, местом торга для жителей деревень, складом и амбаром для земель Кампании, эти, изгнав земледельцев, растратив и рассеяв свой урожай, делают Капую средоточием нового государства, подготовляют оплот против старого государства. Если бы наши предки могли предположить, что в столь знаменитой державе, при столь прославленном римском государственном строе, найдется человек, подобный Марку Бруту[772] или Публию Руллу (ведь только они двое, как мы видели, до сего времени хотели перенести в Капую управление нашим государством), то они, конечно, не сохранили бы и названия этого города. (90) Предки наши, без сомнения, думали, что в Коринфе и в Карфагене — даже если уничтожить сенат и государственные должности и отнять землю у граждан — все же не будет недостатка в людях, способных восстановить прежний порядок и изменить все государственное устройство раньше, чем мы даже услышим об этом; но что здесь, на глазах у сената и римского народа, не может возникнуть ничего такого, что нельзя было бы полностью подавить и уничтожить еще раньше, чем оно вполне проявится и обнаружится. И действительно, события подтвердили правильность решений этих людей, преисполненных божественного разума и мудрости; ибо, после консульства Квинта Фульвия и Квинта Фабия[773], когда Капуя была окончательно побеждена и взята, в городе этом не было, уж не говорю — сделано, но даже и задумано ничего такого, что нанесло бы вред нашему государству. Впоследствии мы вели много войн с царями — Филиппом, Антиохом, Персеем, Лже-Филиппом, Аристоником, Митридатом и другими; кроме того, — много тяжелых войн с Карфагеном, Коринфом, Нуманцией; много было в нашем государстве междоусобий и мятежей, которые я обхожу молчанием; были войны с союзниками — война с Фрегеллами[774], Марсийская; во время этих войн, и междоусобных и с внешними врагами, Капуя не только не вредила нам, но даже оказывала огромные услуги, предоставляя нам все необходимое для ведения войны, снабжая наши войска и принимая их под свой кров и на своей земле. (91) В этом городе не было людей, готовых держать злонамеренные речи на сходках, призывать к мятежу при помощи постановлений сената, несправедливыми решениями вызывать смуту в государстве и искать повод для переворота. Ибо ни у кого не было возможности ни произнести речь на народной сходке, ни всенародно принять решение. Жажда славы не увлекала людей, так как там, где нет почетных государственных должностей, не может быть и жажды славы; нет и раздоров, порождаемых соперничеством или честолюбием. Ведь у них не оставалось ничего такого, из-за чего бы они могли состязаться, что они могли бы оспаривать друг у друга: не было повода к разногласиям. Таким образом, предки наши своим разумом и мудростью превратили пресловутую кампанскую заносчивость и нестерпимую надменность в склонность к полнейшему бездействию и праздности. Так они, не разрушив прекраснейшего города Италии, избежали упрека в жестокости и на очень долгое время устранили опасности; ибо они, подрезав этому городу все жилы, оставили самый город расслабленным и лишенным сил.
(XXXIV, 92) Эти соображения наших предков, о чем я уже говорил, показались Марку Бруту достойными порицания, как и Публию Руллу. А знамения и авспиции, совершенные Марком Брутом, не удерживают тебя, Публий Рулл, от подобного же неистовства? Ведь и тот, кто вывел колонию, и те, которые, по его выбору, взяли на себя государственные должности в Капуе, и те, которые сколько-нибудь участвовали в том выводе колонии, в почестях, в управлении, все подверглись жесточайшему наказанию, положенному нечестивцам. А так как я упомянул о Марке Бруте и о том времени, я расскажу вам и о том, что я видел сам, приехав в Капую после вывода туда колонии, в бытность Луция Консидия и Секста Сальция «преторами», — как они себя величали, — дабы вы поняли, насколько быстро само это место делает людей надменными. Это вполне можно было почувствовать уже в течение нескольких дней, истекших с основания там колонии. (93) Прежде всего, как я уже говорил, хотя в других колониях должностные лица назывались дуовирами, они хотели называться преторами. Если у них уже в первый год появилось такое желание, то не думаете ли вы, что они через несколько лет стали бы добиваться звания консулов? Далее, перед ними шло двое ликторов не с палками, но, как здесь у нас перед городскими преторами, со связками. На форуме были выставлены большие жертвы[775], о принесении которых эти преторы, по решению их совета, объявили с возвышения, — подобно тому, как это делаем мы, консулы; жертвы заклали в присутствии глашатая и трубача. Далее созывали «отцов-сенаторов»[776]. А само выражение лица Консидия поистине было совершенно нестерпимо. Человека этого,
бесплотного от чахлой худобы[777],вы видели в Риме презираемым всеми и забитым; видя в Капуе на его лице кампанскую спесь и царскую заносчивость, я, казалось мне, видел снова памятных нам Блоссиев и Вибеллиев[778]. (94) Но каким страхом были охвачены все люди в туниках![779] И какое было на Альбанской улице и на Сепласии[780] стечение людей, толковавших о том, какой эдикт издал претор, где он обедал, куда сообщил о своем приезде! А нас, приехавших из Рима, называли уже не гостями, а чужестранцами, вернее, пришельцами.
(XXXV, 95) Не думаете ли вы, что людей, предвидевших все это, — я говорю о ваших предках, квириты! — мы должны почитать наравне с бессмертными богами и поклоняться им? И в самом деле, что они предвидели? То, что я прошу вас теперь рассмотреть и понять. Нравы людей определяются не столько их происхождением и их кровью, сколько всем тем, что сама природа предоставляет нам для нашей повседневной жизни, — тем, чем мы питаемся и благодаря чему мы существуем. Карфагеняне стали склонны к обману и лжи[781] не по своему происхождению, а из-за естественных условий места, где они жили, так как они, располагая множеством гаваней, соприкасались с многочисленными купцами и пришельцами, речи которых, возбуждая в них жажду наживы, склоняли их к лжи. Лигурийцы, жители гор, суровы и дики; этому их научила сама земля, ничего не приносящая им без тщательной обработки и огромных трудов. Жители Кампании всегда гордились тучностью своей земли и богатыми урожаями, полезным для здоровья местоположением, благоустройством и красотой своего города. От этого изобилия и притока всех благ прежде всего и возникла та заносчивость, с какой Капуя потребовала от наших предков, чтобы один из консулов был из Капуи. Впоследствии возникла та склонность к роскоши, которая даже самого Ганнибала, тогда еще непобедимого оружием, победила наслаждениями. (96) Когда эти децемвиры выведут сюда, на основании закона Рулла, пять тысяч колонов и назначат сто декурионов, десятерых авгуров, шестерых понтификов, каковы будут, по вашему мнению, их гордость, наглость, дерзость? Рим, расположенный на холмах и в долинах, как бы висящий высоко в воздухе, с его многоэтажными домами, с его не слишком хорошими улицами и тесными улочками, они станут сравнивать со своей Капуей, раскинувшейся на вполне ровном месте и прекрасно расположенной, и он станет предметом их насмешек и презрения. А Ватиканские земли и Пупинскую область они, разумеется, не признают даже достойными сравнения со своими тучными и плодородными полями. Что касается множества соседних городов, то они станут сравнивать их с нашими городами только ради смеха и в шутку. Вейи, Фидены, Коллацию, клянусь Геркулесом, даже Ланувий, Арицию и Тускул[782] они станут сравнивать с Калами, Теаном, Неаполем, Путеолами, Кумами, Помпеями и Нуцерией. (97) По этой причине они, возгордившись и раздувшись от спеси, — если не теперь же, быть может, то, конечно, тогда, когда они с течением времени наберутся сил, — уже перестанут сдерживаться, пойдут дальше и возомнят о себе слишком много. Ведь даже каждому частному человеку, если только он не наделен глубокой мудростью, сто́ит большого труда при полном благополучии и большом богатстве держаться в должных границах; тем более эти люди, привлеченные и выбранные Руллом и подобными ему в качестве колонов, размещенные в Капуе, месте, где обитает надменная роскошь, не упустят случая совершить любое преступление и любую подлость; более того, они даже превзойдут исконных уроженцев Кампании, так как и последних, родившихся и воспитанных в прежних условиях благоденствия, их чрезмерное богатство все же портило, а на этих, сменивших крайне скудное существование на изобилие, будет вредно влиять не только богатство, но и непривычная для них обстановка.
(XXXVI, 98) И ты, Публий Рулл, предпочел идти по преступным следам Марка Брута, а не подражать памятникам мудрости наших предков? Вот что придумал ты вместе со своими вдохновителями: [чтобы вы разграбили] издавна поступающие доходы… [Лакуна.] и нашли возможность получать новые, создать город, который соперничал бы с Римом в своем великолепии; чтобы вы подчинили своим законам, своей судебной власти и своему владычеству города, племена, провинции, независимые народы, царей, словом, весь мир; а после того, как вы растратите все деньги, имеющиеся в эрарии, вытянете из налогов и податей все, что возможно, соберете их со всех царей, народов и наших императоров, чтобы вы все же скупили земли тех, кто их получил благодаря милости Суллы и обречен на ненависть, заброшенные и гиблые земли своих сторонников и собственные, а потом навязали их римскому народу по цене, назначенной вам; чтобы вы заняли при посредстве новых колонов все муниципии и колонии Италии; чтобы вы устраивали колонии всюду, где только призна́ете нужным; (99) чтобы вы окружили все государство своими солдатами, своими городами, своими гарнизонами и держали его под своей пятой; чтобы вы могли самого Гнея Помпея, столько раз бывшего для государства оплотом и против заклятых врагов и против преступных граждан, …[Лакуна.] победителя, лишить возможности видеть наш народ; чтобы вы, захватив, держали под своей пятой все то, что только возможно забрать посредством золота и серебра, что можно объявить принятым на основании большинства поданных голосов, добыть насилием и оружием; чтобы вы тем временем разъезжали по всем странам, по всем царствам, облеченные высшим империем, неограниченной судебной властью, располагая всеми деньгами; чтобы вы явились в лагерь Гнея Помпея и продали, если вам будет выгодно, даже самый лагерь; чтобы вы тем временем, свободные на основании всех законов, могли без страха перед судом, без риска добиваться всех остальных государственных должностей; чтобы никто не мог ни заставить вас предстать перед лицом римского народа, ни вызвать вас в суд, ни заставить вас явиться в сенат; чтобы ни консул не мог применить к вам меры принуждения[783], ни народный трибун — вас удержать.
(100) Что вы этого пожелали при своей глупости и невоздержности, я лично не удивляюсь; что вы возымели надежду достигнуть этого именно в мое консульство, вот в чем я сильно удивлен. Если охрана государственного строя должна быть предметом большой и неусыпной заботы для всех консулов, то это особенно относится к тем из них, которые были избраны консулами не в колыбели, а на поле[784]. Ни один из моих предков не давал за меня обязательств римскому народу; это доверие оказано именно мне; от меня должны вы требовать, чтобы я исполнил свой долг; меня самого должны вы к этому призывать. И подобно тому, как меня, когда я добивался избрания, не препоручал вам ни один представитель моего рода, так — если я в чем-либо погрешу — у меня нет изображений предков, которые бы стали просить вас о снисхождении ко мне. (XXXVII) Поэтому — только бы не пресеклась моя жизнь, которую я высшими …[Лакуна]. [намерен] защищать от их преступных козней, — заверяю вас, квириты, с чистым сердцем: вы доверили дела государства бдительному, далеко не робкому, усердному человеку. (101) Неужели я — такой консул, который станет опасаться народной сходки, трепетать перед народным трибуном, часто и без оснований беспокоиться, бояться, что мне придется жить в тюрьме, если народный трибун повелит взять меня под стражу?[785] Вооруженный вашим оружием, украшенный высшими знаками отличия, облеченный империем и авторитетом, я без всякого страха поднимаюсь на это место, чтобы, с вашего одобрения, дать отпор бесчестности этого человека, и не боюсь, что государство, обладая таким оплотом, может быть побеждено и оказаться под пятой у этих людей. Если бы я ранее и испытывал чувство страха, то на этой сходке, перед этим народом я, конечно, не стал бы опасаться ничего. И право, кто когда-либо уговаривал вас принять земельный закон при столь благоприятном настроении сходки, какое встретил я, чтобы отговорить вас от принятия его? Если только это значит отговорить, а не полностью уничтожить.
(102) Из всего этого можно понять, квириты, что наиболее всего народу по душе то, что я, верный народу консул, приношу вам на этот год: мир, тишина, спокойствие. То, чего вы боялись в то время, когда мы были избранными консулами, предотвращено моей разумной предусмотрительностью. Не только вы будете наслаждаться спокойствием, вы, которые всегда этого хотели; нет, даже тех людей, которым спокойствие всегда ненавистно, я успокою и утихомирю. И в самом деле, для них источником почестей, власти и богатств обычно являются мятежи и раздоры среди граждан; вы же, чье влияние зиждется на голосовании, свобода — на законах, права — на правосудии и беспристрастии должностных лиц, обязаны всеми средствами поддерживать спокойствие. (103) Ведь люди, живущие в спокойствии и пользующиеся досугом, все же в своей позорной лености наслаждаются самим спокойствием; насколько же бо́льшим счастьем будет для вас сохранить свое нынешнее положение, достигнутое вами не бездействием, а мужеством! Это положение я также, благодаря соглашению со своим коллегой[786], — к великому неудовольствию людей, твердивших, что мы, во время своего консульства и являемся и останемся недругами, — для всех обеспечил, предусмотрел, можно сказать, восстановил. И я же объявил народным трибунам, чтобы они не вздумали во время моего консульства вызывать какие-либо беспорядки. Но наилучший и надежнейший оплот для всеобщего благополучия, квириты, — в том, чтобы то рвение, какое вы сегодня проявили на многолюдной сходке, вы и впредь проявляли ради блага государства. Беру на себя ответственность, обещаю и заверяю вас: я добьюсь того, что люди, завидовавшие оказанному мне почету, все же призна́ют, что вы все, избирая консула, проявили величайшее предвидение.
8. Речь в защиту Гая Рабирия, обвиненного в государственном преступлении [Перед центуриатскими комициями, 1-я половина 63 г. до н. э.]
Привлечение Гая Рабирия к суду по обвинению в государственном преступлении, как и изгнание Цицерона в 58 г., было связано с борьбой популяров против сенатской олигархии. Популяры опирались на положения, защищавшие неприкосновенность личности римского гражданина, которые традиция относит к уложению децемвиров (V в.), впоследствии выраженные в Валериевом и Порциевых законах (leges de capite civis Romani): вопрос о смертном приговоре римскому гражданину и даже о лишении его гражданских прав подлежал суду центуриатских комиций. Положения эти были подтверждены в 123 г. Семпрониевым законом о провокации, т. е. об апелляции к народу, причем виновному в нарушении их грозила aquae et ignis interdictio — кара, носившая сакральный и административный характер: лишение гражданских прав и конфискация имущества.
Нобилитет противопоставлял этим положениям так называемое senatus consultum ultimum или senatus consultum de re publica defendenda по формуле: Videant consules, ne quid detrimenti res publica capiat («Да примут консулы меры, чтобы государство не потерпело ущерба»). Такое постановление сената облекало консулов чрезвычайными полномочиями с правом казнить римских граждан без формального суда. Впервые оно было принято в 121 г. во время борьбы нобилитета против движения Гая Гракха, затем в 100 г. — против движения Сатурнина и Главции, в 77 г. — против Лепида, в 63 г. — против движения Катилины, а также и в 62, 52, 49, 48 и 40 гг.
В 100 г., когда консул Гай Марий на основании s. c. u. действовал против претора Гая Сервилия Главции и народного трибуна Луция Аппулея Сатурнина, то последний, хотя ему была гарантирована неприкосновенность (fides publica), все же был убит. Это убийство было двойным кощунством: посягательством на личность трибуна и нарушением fides publica, т. е. неприкосновенности, гарантированной государством.
В первой половине 63 г., т. е. через 36 лет, народный трибун Тит Лабиен, человек, в то время принадлежавший к окружению Гая Юлия Цезаря, привлек престарелого сенатора Гая Рабирия к суду за это убийство. При этом была воскрешена уже отжившая в то время процедура суда за perduellio, т. е. за тягчайшее государственное преступление. В соответствии с этой процедурой, дело Рабирия предварительно было рассмотрено судом в составе двух человек, назначенных претором; этими duoviri perduellionis были Гай Цезарь и его родственник Луций Юлий Цезарь, бывший в 64 г. консулом. Обвиняемый, осужденный ими на позорную казнь (бичевание и распятие на кресте), воспользовался правом провокации, т. е. апеллировал к народу и предстал перед судом центуриатских комиций. В этом, уже окончательном суде Рабирия защищали Квинт Гортенсий и Цицерон, говоривший вторым; тогда и была произнесена настоящая речь. Процесс этот, по свидетельству историка Диона Кассия, не был окончен, так как претор Квинт Цецилий Метелл Целер, не желая допускать вынесения приговора, спустил знамя, развевавшееся на холме Яникуле, вследствие чего центуриатские комиции должны были быть распущены. В дальнейшем обвинение против Гая Рабирия не было возобновлено. Таким образом, выступление популяров против допустимости применения senatus consultum ultimum политически не удалось, и это чрезвычайное постановление в октябре того же 63 г. было принято сенатом для борьбы с движением Катилины.
(I, 1) Хотя не в моем обычае, квириты, начинать речь с объяснения причины, почему я защищаю того или иного человека (ибо всякий раз как кому-либо из моих сограждан грозила опасность, я видел в этом достаточно законную причину для исполнения долга дружбы), все же, при настоящей защите жизни[787], доброго имени и всего достояния Гая Рабирия, я нахожу нужным сообщить вам о соображениях, заставляющих меня оказать ему эту услугу, так как та же причина, которая мне кажется самой законной для выступления в защиту Рабирия, вам должна показаться столь же законной для его оправдания. (2) Если наши давние дружеские отношения, высокое положение обвиняемого, соображения человечности, неизменные правила моего поведения на протяжении всей моей жизни побудили меня защищать Гая Рабирия, то делать это самым ревностным образом меня заставили забота о благе государства, обязанность консула, наконец, само консульство, вместе с которым вы поручили мне благо государства. Ведь Гая Рабирия, квириты, подвергло опасности, грозящей ему смертью, не преступление, совершенное им, не позорный образ жизни, не давняя заслуженная им и глубокая неприязнь сограждан. Нет, чтобы уничтожить в государстве важнейшее средство защиты достоинства нашей державы, завещанное нам предками[788], и чтобы впредь ни авторитет сената, ни консульский империй[789], ни согласие между честными людьми не могли противостоять губительной язве, угрожающей гражданам, именно затем, ниспровергая эти установления, и посягнули на жизнь одного старого, немощного и одинокого человека. (3) Итак, если честный консул, видя, что расшатываются и уничтожаются все устои государства, должен оказать помощь отчизне, защитить всеобщее благо и достояние, воззвать к честности граждан, а своему личному благу предпочесть всеобщее, то честные и стойкие граждане, какими вы показали себя во все опасные для государства времена, также должны преградить все пути к мятежам, создать оплот для государства, признать, что высший империй принадлежит консулам, что высшая мудрость сосредоточена в сенате и что человек, следовавший этим правилам, достоин хвалы и почестей, а не наказания и казни. (4) Итак, весь труд по защите Гая Рабирия я беру на себя, но усердное желание спасти его должно быть у нас с вами общим.
(II) Вы должны твердо знать, квириты, что с незапамятных времен среди всех дел, которые народный трибун возбуждал, в которых консул брал на себя защиту, которые выносились на суд римского народа, не было еще более важного, более опасного дела, которое потребовало бы большей осмотрительности от вас всех. Ведь это дело, квириты, преследует лишь одну цель — чтобы впредь в государстве не существовало ни государственного совета, ни согласия между честными людьми, направленного против преступного неистовства дурных граждан, ни — в случаях крайней опасности для государства — убежища и защиты для всеобщей неприкосновенности. (5) При таком положении дел я прежде всего, как это и необходимо, когда столь велика угроза для жизни, доброго имени и достояния всех граждан, молю Юпитера Всеблагого Величайшего и других бессмертных богов и богинь, чья помощь и поддержка в гораздо большей степени, чем разум и мудрость людей, правят нашим государством, ниспослать нам мир и милость. Я умоляю их о том, чтобы свет этого дня принес Гаю Рабирию спасение, а государство наше укрепил. Далее я умоляю и заклинаю вас, квириты, чья власть уступает только всемогуществу бессмертных богов: так как в одно и то же время в ваших руках находятся и от вашего голосования зависят и жизнь Гая Рабирия, глубоко несчастного и ни в чем не повинного человека, и благополучие нашего государства, то, решая вопрос об участии человека, проявите свойственное вам сострадание; решая вопрос о неприкосновенности государства, — обычную для вас мудрость.
(6) А теперь, так как ты, Тит Лабиен, постарался поставить преграды моему усердию как защитника и время, предоставленное мне и установленное для защиты, ограничил всего получасом[790], я подчинюсь условиям обвинителя, что является величайшей несправедливостью, и власти моего недруга, что является величайшим несчастьем. Впрочем, ограничивая меня этим получасом времени, ты оставляешь мне возможность выполнить свою задачу защитника, хотя и не даешь мне выступить как консулу, так как для защиты мне почти достаточно этого времени, а для сетований его не хватит. (7) Или ты, быть может, находишь нужным, чтобы я подробно ответил тебе о священных местах и рощах, оскверненных, по твоим словам, Гаем Рабирием?[791] Ведь по этой статье обвинения ты никогда не говорил ничего другого, кроме того, что Гай Макр выдвинул ее против Гая Рабирия. В связи с этим меня удивляет, что ты помнишь об обвинениях, предъявленных Гаю Рабирию Макром, его недругом, но забыл о приговоре, вынесенном беспристрастными судьями, давшими присягу. (III, 8) А разве требует длинных объяснений обвинение в казнокрадстве и поджоге архива? По этому обвинению родственник Гая Рабирия, Гай Курций, с большим почетом, в соответствии с его высокими нравственными качествами, был оправдан торжественно произнесенным приговором; но сам Рабирий, не говорю уже — не был привлечен к суду по этим обвинениям; нет, на него не пало даже малейшее подозрение, против него не было сказано ни одного слова. Требует ли более обстоятельного ответа обвинение насчет сына его сестры? По твоим словам, Рабирий убил его, чтобы добиться отсрочки суда в связи с семейным горем. Неужели можно поверить, чтобы муж его сестры был ему дороже, чем ее сын, и притом настолько дороже, чтобы Рабирий был готов со всей жестокостью лишить своего племянника жизни, дабы добиться двухдневной отсрочки суда над Гаем Курцием? Что касается задержания чужих рабов, будто бы совершенного им в нарушение Фабиева закона[792], наказания розгами и казни римских граждан в нарушение Порциева закона[793], то следует ли говорить об этом подробно, когда вся Апулия оказывает Гаю Рабирию честь своим сочувствием, а Кампания — своей исключительной благожелательностью, когда для избавления его от грозящей ему опасности собрались не только отдельные люди, но чуть ли не сами области страны, причем охватившее их волнение распространилось и за пределами и притом гораздо дальше, чем того требовали добрососедские отношения?[794] Стоит ли мне приводить длинное объяснение в ответ на то, что написано в предложении наложить пеню[795], где говорится, что Рабирий не щадил ни своей, ни чужой стыдливости? (9) Нет, я даже подозреваю, что Лабиен ограничил меня получасом времени именно для того, чтобы я не слишком долго говорил о стыдливости. Итак, тебе понятно, что предоставленное тобою получаса времени мне слишком много для ответа на эти обвинения, взывающие к добросовестности защитника. Вторую часть моей речи — об убийстве Сатурнина — ты пожелал особенно ограничить; между тем оно взывает не к оратору, требуя от него дарования, а к консулу, требуя от него помощи. (10) Что касается суда за государственную измену, в упразднении которого ты то и дело обвиняешь меня, то это обвинение относится ко мне, а не к Рабирию. О, если бы я, квириты, был либо первым, либо единственным человеком, упразднившим этот суд в нашем государстве! О, если бы деяние это, в котором он видит преступление, принесло славу именно мне! И в самом деле, чего могу я желать сильнее, чем в консульство свое удалить палача с форума и крест с поля?[796] Но эта заслуга, квириты, принадлежит прежде всего нашим предкам, которые, изгнав царей, не оставили в свободном народе и следа царской жестокости, затем — многим храбрым мужам, по воле которых ваша свобода не внушает страха жестокостью казней, а ограждена милосердием законов.
(IV, 11) Итак, Лабиен, кто же из нас двоих действительно сторонник народа: ты ли, считающий нужным во время самой народной сходки отдавать римских граждан в руки палача и заключать в оковы, ты ли, приказывающий на Марсовом поле, во время центуриатских комиций, на освященном авспициями[797] месте воздвигнуть и водрузить крест для казни граждан, или же я, запрещающий осквернять народную сходку присутствием палача, я, требующий, чтобы форум римского народа был очищен[798] от следов этого нечестивого злодейства, я, утверждающий, что народную сходку следует сохранять чистой, поле — священным, всех римских граждан — неприкосновенными, права на свободу — нетронутыми? (12) Хорош народный трибун, страж и защитник права и свободы! Порциев закон избавил всех римских граждан от наказания розгами; этот сострадательный человек вводит вновь бичевание. Порциев закон защитил свободу граждан от посягательств ликтора; Лабиен, сторонник народа, отдал ее в руки палача. Гай Гракх предложил закон[799], запрещающий без вашего повеления выносить смертный приговор римскому гражданину; этот сторонник народа захотел, чтобы дуовиры не только выносили без вашего повеления приговор о судьбе римского гражданина, но осуждали римского гражданина на смерть даже без слушания дела. (13) И ты еще смеешь толковать мне о Порциевом законе, о Гае Гракхе, о свободе этих вот людей, вообще о каких-то сторонниках народа, когда ты сам попытался не только необычайной казнью, но и неслыханной жестокостью выражений оскорбить свободу нашего народа, подвергнуть испытанию его мягкосердечие, изменить его обычаи? Вот ведь слова, которые тебе, милосердному человеку и стороннику народа, доставляют удовольствие: «Ступай, ликтор, свяжи ему руки», — слова, которые не подходят, не говорю уже — к нашему времени свободы и душевной мягкости, но даже к временам Ромула и Нумы Помпилия. Во вкусе Тарквиния, надменнейшего и жесточайшего царя, эти твои слова, обрекающие на казнь, которые ты, мягкий и благожелательный к народу человек, повторяешь так охотно: «Закутай ему голову, повесь его на зловещем дереве»[800]. В нашем государстве, квириты, давно уже утратили силу эти слова, не только потерявшиеся во тьме веков, но и побежденные светом свободы.
(V, 14) Но если бы этот вид судебного преследования действительно служил благу народа или если бы в нем была хотя бы малая доля справедливости и законности, то неужели Гай Гракх отказался бы от него? Видимо, смерть твоего дяди[801] тебя опечалила больше, чем Гая Гракха — смерть его брата, и для тебя смерть дяди, которого ты никогда не видел, была горше, чем для него смерть его брата, с которым он до того жил в полном согласии. И ты караешь за смерть дяди в силу того же права, в силу которого он мог бы преследовать тех, которые убили его брата, если бы пожелал действовать по твоему способу. И римский народ, видимо, горевал по этому Лабиену, дяде твоему, — кто бы он ни был — так же, как некогда горевал по Тиберию Гракху. Или твои родственные чувства более сильны, чем родственные чувства Гая Гракха, или ты, может быть, превосходишь его мужеством, мудростью, влиянием, авторитетом, красноречием? Даже если он обладал этими качествами в самой малой степени, все же в сравнении с твоими их следовало бы признать выдающимися. (15) Но так как Гай Гракх всеми этими качествами действительно превосходил всех людей, то как велико, по твоему мнению, различие между тобой и им? Однако Гай Гракх скорее согласился бы тысячу раз умереть жесточайшей смертью, лишь бы только не допускать на созванной им народной сходке присутствия палача; ведь палачу цензорские постановления воспретили находиться, не говорю уже — на форуме, нет, даже под нашим небом, а также и дышать нашим воздухом и жить в городе Риме[802]. И этот человек смеет себя называть сторонником народа и говорить, что я не забочусь о вашем благе, хотя он выискал самые разнообразные жесточайшие способы казни и формулы — не из того, что помните вы и ваши отцы, а из летописей и из судебников царей[803], между тем как я всеми своими силами, всеми помыслами, всеми высказываниями и поступками своими боролся с жестокостью и противился ей! Ведь не согласитесь же вы находиться в таком положении, какого даже рабы, не будь у них надежды на освобождение, никак не могли бы терпеть. (16) Несчастье, когда испытываешь на себе весь позор уголовного суда, несчастье, когда у тебя конфискуют имущество, несчастье — удалиться в изгнание; однако даже в этом бедственном положении человек сохраняет какую-то видимость свободы. Наконец, если нам предстоит умереть, то умрем как свободные люди — не от руки палача и не с закутанной головой, и пусть о кресте даже не говорят — не только тогда, когда речь зайдет о личности римских граждан; нет, они не должны ни думать, ни слышать о нем, ни видеть его. Ведь не только подвергнуться такому приговору и такой казни, но даже оказаться в таком положении, ждать ее, наконец, хотя бы слышать о ней унизительно для римского гражданина и вообще для свободного человека. Значит, рабов наших избавляет от страха перед всеми этими мучениями милость и одно прикосновение жезла[804], а нас от порки розгами, от крюка[805], наконец, от ужасной смерти на кресте не избавят ни наши деяния, ни прожитая нами жизнь, ни почетные должности, которые вы нам предоставляли? (17) Вот почему, Лабиен, я заявляю или, лучше, объявляю и с гордостью утверждаю: своим разумным выступлением, мужеством и авторитетом я лишил тебя возможности вести это жестокое и наглое судебное преследование, достойное не трибуна, а царя[806]. Хотя ты во время этого судебного преследования и презрел все заветы наших предков, все законы, весь авторитет сената, все религиозные запреты и все официально установленные права авспиций, все же, при столь ограниченном времени, предоставленном мне, об этом ты не услышишь от меня ни слова; у нас еще когда-нибудь будет время для обсуждения этого вопроса.
(VI, 18) Теперь мы будем говорить об обвинении, связанном со смертью Сатурнина и твоего прославленного дяди. Ты утверждаешь, что Луций Сатурнин был убит Гаем Рабирием. Но ведь Гай Рабирий, на основании показаний многочисленных свидетелей, при красноречивейшей защите Квинта Гортенсия, уже доказал ложность этого обвинения. Я же, будь еще у меня полная возможность говорить по своему усмотрению, принял бы это обвинение, признал бы его, согласился бы с ним. О, если бы само дело позволило мне с гордостью заявить, что Луций Сатурнин, враг римского народа, был убит рукой Гая Рабирия! Крики ваши меня ничуть не смущают, напротив, ободряют, показывая, что если еще есть недостаточно осведомленные граждане, то их немного. Поверьте мне, римский народ — этот вот, который молчит, — никогда не избрал бы меня консулом, если бы думал, что ваши крики приведут меня в замешательство. Но вот, восклицания уже стихают; прекратите же крики, доказывающие ваше неразумие и свидетельствующие о вашей малочисленности! (19) Я охотно признал бы это обвинение, если бы мог это сделать, не греша против истины, или, вернее, если бы у меня еще была полная возможность говорить, что́ найду нужным; повторяю, я признал бы обвинение, что Луций Сатурнин был убит рукой Гая Рабирия, и я счел бы это деяние прекрасным; но, коль скоро я не могу этого сделать, я призна́ю факт, который принесет ему меньшую славу, но для обвинения будет иметь значение не меньшее. Я признаю́, что Гай Рабирий взялся за оружие с целью убийства Сатурнина. Что скажешь ты, Лабиен? Какого более важного признания ждешь ты от меня или, вернее, какого более тяжкого обвинения против Рабирия? Или ты, быть может, усматриваешь некоторую разницу между убийцей и человеком, взявшимся за оружие с целью убийства? Если убить Сатурнина было беззаконием, то взяться за оружие, угрожающее Сатурнину смертью, нельзя было, не совершая злодейства; если ты признаешь, что за оружие взялись законно, [то ты неизбежно должен допустить законность убийства.] [Лакуна.]
(VII, 20) Сенат вынес постановление о том, чтобы консулы Гай Марий и Луций Валерий обратились к народным трибунам и преторам по своему выбору и приложили усилия к сохранению державы и величества римского народа[807]. Они обратились ко всем народным трибунам, за исключением Сатурнина, и ко всем преторам, за исключением Главции. Они приказали всем тем, кому дорого благо государства, взяться за оружие и следовать за ними. Все повиновались им. Из храма Санка[808] и из государственных арсеналов римского народа, по распоряжению консула Гая Мария, было роздано оружие. Тут уже — чтобы мне не говорить о дальнейших событиях — я спрошу тебя самого, Лабиен! Когда Сатурнин с оружием в руках занимал Капитолий и вместе с ним были Гай Главция, Гай Савфей, а также пресловутый Гракх[809], вырвавшийся из колодок и эргастула, ну, и твой дядя Квинт Лабиен (назову также и его, раз ты этого хочешь); когда, с другой стороны на форуме находились консулы Гай Марий и Луций Валерий Флакк, а за ними весь сенат и притом тот сенат, который вы сами, не уважающие нынешних отцов-сенаторов, обычно восхваляете, чтобы вам было еще легче умалить достоинство нынешнего сената; когда всадническое сословие (и какие римские всадники! Бессмертные боги! Это были наши отцы, принадлежавшие к тому поколению, которое тогда играло важную роль в государстве и обладало всей полнотой судебной власти[810]), когда все люди, принадлежавшие ко всем сословиям и полагавшие, что их собственное благополучие зависит от благополучия государства, взялись за оружие, то как же, скажи на милость, следовало поступить Гаю Рабирию? (21) Да, Лабиен, я спрашиваю именно тебя. Когда консулы, в силу постановления сената, призвали народ к оружию; когда Марк Эмилий[811], первоприсутствующий в сенате, появился на комиции[812] вооруженный, причем он, едва будучи в силах ходить, полагал, что его немощные ноги не помешают ему преследовать противника, но не позволят обратиться в бегство перед ним; когда Квинт Сцевола[813], удрученный годами, истощенный болезнью, бессильный, опираясь на копье, явил и силу своего духа и слабость своего тела; когда Луций Метелл, Сервий Гальба, Гай Серран, Публий Рутилий, Гай Фимбрия, Квинт Катул и все тогдашние консуляры ради общего блага взялись за оружие, когда сбежались все преторы, вся знать, все юношество; когда Гней и Луций Домиции[814], Луций Красс, Квинт Муций, Гай Клавдий, Марк Друс, когда все Октавии, Метеллы, Юлии, Кассии, Катоны, Помпеи, когда Луций Филипп, Луций Сципион, Мамерк Лепид, Децим Брут, когда даже присутствующий здесь Публий Сервилий, под чьим империем ты сам служил, Лабиен, когда присутствующий здесь Квинт Катул (тогда еще совсем молодой человек), когда присутствующий здесь Гай Курион, — словом, когда все прославленные мужи были вместе с консулами, что, скажи на милость, подобало делать Гаю Рабирию? Запереться ли, удалиться и спрятаться в неизвестном месте и скрыть свою трусость в потемках и за надежными стенами или, быть может, подняться на Капитолий и примкнуть там к твоему дяде и к другим людям, в смерти искавшим спасения от своей позорной жизни, или же присоединиться к Марию, Скавру, Катулу, Метеллу, Сцеволе, словом, ко всем честным людям, чтобы вместе с ними либо спастись, либо пойти навстречу опасности?
(VIII, 22) А ты сам, Лабиен? Как поступил бы ты при таких обстоятельствах и в такое время? Если бы трусость побуждала тебя бежать и скрыться, если бы бесчестность и бешенство Луция Сатурнина влекли тебя в Капитолий, а консулы призывали тебя к защите всеобщего благополучия и свободы, то чьему, скажи, авторитету, чьему зову, какой стороне, чьему именно приказанию предпочел бы ты тогда повиноваться? «Мой дядя, — говорит он, — был вместе с Сатурнином». А с кем был твой отец? А родственники ваши, римские всадники? А вся ваша префектура, область, соседи? А вся Пиценская область[815]. Бешенству ли трибуна повиновалась она или же авторитету консула? (23) Я лично утверждаю: в том, за что ты теперь восхваляешь своего дядю, до сего времени еще никто никогда не признавался; повторяю, еще не нашлось такого испорченного, такого пропащего человека, до такой степени утратившего, не говорю — честность, нет, даже способность притворяться честным, чтобы он сам сознался в том, что был в Капитолии вместе с Сатурнином. Но ваш дядя, скажут нам, там был; положим, что он там действительно был и притом не вынужденный к этому ни отчаянным положением своих дел, ни каким-либо семейным несчастьем; приязнь к Сатурнину, предположим, побудила его пожертвовать благом отечества ради дружбы. Почему же это могло стать для Гая Рабирия причиной измены делу государства, причиной отказа встать в ряды честных людей, взявшихся за оружие, неповиновения зову и империю консулов? (24) Но положение дел, как мы видим, допускало для него три возможности: либо быть на стороне Сатурнина, либо быть на стороне честных людей, либо скрыться. Скрыться было равносильно позорнейшей смерти; быть на стороне Сатурнина было бы бешенством и преступлением; доблесть, честность и совесть заставляли его быть на стороне консулов. Итак, ты вменяешь Гаю Рабирию в вину, что он был на стороне тех людей, сражаясь против которых, он показал бы себя безумцем, а оставив их без поддержки — негодяем?
(IX) Но, скажешь ты, был осужден Гай Дециан[816] (о котором ты говоришь так часто) за то, что он, при горячем одобрении со стороны честных людей обвиняя Публия Фурия, человека, запятнавшего себя многими позорными делами, осмелился на народной сходке сокрушаться о смерти Сатурнина; Секст Тиций[817] тоже был осужден за то, что хранил у себя в доме изображение Луция Сатурнина; этим своим приговором римские всадники установили, что дурным гражданином, недостойным оставаться в числе граждан, является всякий, кто, храня у себя изображение мятежника и врага государства, тем самым чтит его после его смерти, всякий, кто вызывает сожаление о нем среди мало осведомленных людей, возбуждая их сострадание, или же кто обнаруживает намерение подражать его преступным деяниям. (25) Поэтому я не понимаю, Лабиен, где мог ты найти это хранящееся у тебя изображение Луция Сатурнина, так как после осуждения Секста Тиция не находилось никого, кто бы осмелился хранить у себя это изображение. И если бы ты об этом слышал, или, по возрасту своему, мог об этом знать, ты, конечно, никогда бы не принес на ростры, то есть на народную сходку, того изображения, за которое Секст Тиций, поместивший его у себя в доме, поплатился изгнанием и жизнью; ты никогда бы не направил свое судно на те скалы, о которые, как ты видел, разбился корабль Секста Тиция и где потерпел кораблекрушение Гай Дециан. Но во всем этом ты допускаешь оплошность по своей неосведомленности. Ведь ты взялся вести дело о том, чего ты помнить не можешь; ибо оно еще до твоего рождения стало достоянием прошлого, а ты передаешь в суд такое дело, в котором, если бы тебе позволил твой возраст, ты, конечно, принял бы участие сам. (26) Или ты не понимаешь, прежде всего, кто такие те люди и как славны те мужи, которых ты посмертно обвиняешь в величайшем преступлении, затем — скольких из тех, которые живы, ты тем же обвинением подвергаешь величайшей опасности, угрожающей их гражданским правам? Если бы Гай Рабирий совершил государственное преступление тем, что взялся за оружие против Луция Сатурнина, то некоторым оправданием ему мог бы тогда служить его возраст. Ну, а Квинт Катул, отец нашего современника, отличавшийся величайшей мудростью, редкостной доблестью, исключительной добротой? А Марк Скавр, человек известной всем строгости взглядов, мудрости, дальновидности? А двое Муциев, Луций Красс, Марк Антоний, находившийся тогда во главе войск вне пределов города Рима, — все эти люди, проявившие в нашем государстве величайшую мудрость и дарование, а также и другие, занимавшие разное положение, стражи и кормчие государства? Как оправдаем мы их после их смерти? (27) Что будем мы говорить о тех весьма уважаемых мужах и выдающихся гражданах, римских всадниках, которые тогда, вместе с сенатом, защитили неприкосновенность государства, о тех эрарных трибунах[818] и гражданах всех других сословий, которые тогда взялись за оружие, защищая всеобщую свободу? (X) Но зачем говорю я обо всех тех людях, которые повиновались империю консулов? Что будет с добрым именем самих консулов? И Луция Флакка, жреца и руководителя священнодействий, человека исключительно ревностно относившегося к своей государственной деятельности и к выполнению своих должностных обязанностей, мы посмертно осудим за нечестивое преступление и братоубийство?[819] И мы посмертно запятнаем этим величайшим позором даже имя Гая Мария? Гая Мария, которого мы по всей справедливости можем назвать отцом отчизны, отцом, повторяю, и родителем вашей свободы и этого вот государства, мы посмертно осудим за злодеяние и нечестивое братоубийство? (28) И в самом деле, если для Гая Рабирия за то, что он взялся за оружие, Тит Лабиен признал нужным воздвигнуть крест на Марсовом поле, то какую, скажите мне, казнь придумать для того человека, который призвал граждан к оружию? Более того, если Сатурнина заверили в личной неприкосновенности, о чем ты не перестаешь твердить, то в ней его заверил не Гай Рабирий, а Гай Марий, он же ее и нарушил, конечно, если признать, что он своего слова не сдержал. Но как это заверение, Лабиен, могло быть дано без постановления сената?[820] Настолько ли чужой человек ты в нашем городе, настолько ли не знаком ты с нашими порядками и обычаями, что не знаешь всего этого, так что кажется, будто ты путешествуешь по чужой стране, а не исполняешь должностные обязанности у себя на родине?
(29) «Какой вред, — говорит он, — может все это причинить Гаю Марию, когда он уже бесчувствен и мертв?» Но разве это так? Неужели Гай Марий стал бы переносить такие великие труды и подвергаться таким опасностям в течение всей своей жизни, если бы он, в своих помыслах насчет себя и своей славы, не питал надежд, выходивших далеко за пределы человеческой жизни? Итак, разбив в Италии на голову бесчисленные полчища врагов и избавив государство от непосредственной опасности[821], он думал, что все его деяния умрут вместе с ним, — и я должен этому верить? Нет, это не так, квириты, и всякий из нас, славно и доблестно служа государству и подвергаясь опасностям, надеется на признательность потомков. Вот почему, не говоря о многих других причинах, я думаю, что помыслы честных людей внушены им богами и будут жить века, что все честнейшие и мудрейшие люди обладают даром предвидеть будущее и обращают свои помыслы только к тому, что вечно. (30) Вот почему душу Гая Мария и души других мудрейших и храбрейших граждан, которые после их земной жизни, по моему убеждению, переселились в священную обитель богов, я привожу в свидетели своего обещания бороться за их доброе имя, их славу и память точно так же, как за родные храмы и святилища, и я, если бы мне пришлось взяться за оружие в защиту их заслуг, сделал бы это с такой же решимостью, с какой за него взялись они, защищая всеобщее благополучие. И в самом деле, квириты, не долог путь жизни, назначенный нам природой, но беспределен путь славы. (XI) Поэтому мы, возвеличивая тех людей, которые уже ушли из жизни, подготовим для себя более благоприятную судьбу после смерти. Но если ты, Лабиен, относишься с пренебрежением к людям, видеть которых мы уже не можем, то не следует ли, по твоему мнению, позаботиться хотя бы о тех, кого ты видишь? (31) Я утверждаю: из присутствующих здесь, — если только они находились в Риме в тот день, который ты делаешь предметом судебного следствия, и были взрослыми, — не было никого, кто бы не взялся за оружие и не последовал за консулами. Значит, всех тех, о чьем тогдашнем поведении ты можешь догадаться, приняв во внимание их возраст, ты, привлекая Гая Рабирия к суду, обвиняешь в уголовном преступлении. Но, скажешь ты, Сатурнина убил именно Рабирий. О, если бы он это совершил! В таком случае я не просил бы об избавлении его от казни, а требовал награды для него. И право, если Сцеве, рабу Квинта Кротона, убившему Луция Сатурнина, была дарована свобода, то какая достойная награда могла бы быть дана римскому всаднику? И если Гай Марий за то, что он приказал перерезать водопроводные трубы, по которым вода поступала в храм и жилище Юпитера Всеблагого Величайшего, за то, что он на капитолийском склоне… дурных граждан… [Лакуна.]
ФРАГМЕНТЫ
(XII, 32) Вот почему при рассмотрении этого дела, предпринятом по моему предложению, сенат проявил не больше внимания и суровости, чем проявили вы, выразив свои чувства жестами и криками и отказав в своем согласии на раздачу земли во всем мире и, в частности, в знаменитой Кампанской области[822]. (33) Как и человек, возбудивший это судебное дело, я во всеуслышание говорю, заявляю, утверждаю: нет больше ни царя, ни племени, ни народа, которые внушали бы вам страх; никакое зло, проникающее к нам извне и чуждое нашему строю, не может прокрасться в наше государство. Если вы хотите, чтобы было бессмертно наше государство, чтобы была вечной наша держава, чтобы наша слава сохранилась навсегда, то нам следует остерегаться мятежных людей, падких до переворотов [, остерегаться внутренних зол] и внутренних заговоров[823]. (34) Но именно против этих зол предки ваши и оставили вам великое средство защиты — хорошо известный нам призыв консула: «Кто хочет, чтобы государство было невредимо,…»[824] Поддержите этот призыв, квириты, и не лишайте меня своим приговором… [Лакуна.] и не отнимайте у государства надежды сохранить свободу, сохранить неприкосновенность, сохранить достоинство. (35) Что стал бы я делать, если бы Тит Лабиен, подобно Луцию Сатурнину, устроил резню среди граждан, взломал двери тюрьмы[825] и во главе вооруженных людей захватил Капитолий? Я сделал бы то же, что сделал Гай Марий: доложил бы об этом сенату, призвал бы вас к защите государства, а сам, взявшись за оружие, вместе с вами дал бы отпор поднявшему оружие врагу. Но теперь, так как опасаться оружия не приходится, копий я не вижу, ни насильственных действий, ни резни нет, ни Капитолий, ни крепость[826] не осаждены, но коль скоро предъявлено грозное обвинение, происходит беспощадный суд, и все дело начато народным трибуном против государства, то я и счел нужным не призывать вас к оружию, но склонить к голосованию против посягательств на ваше величество[827]. Поэтому я теперь всех вас молю, заклинаю и призываю. Ведь у нас не в обычае, чтобы консул… [Лакуна.]
(XIII, 36) …боится. человек, который грудью защищал государство и получил эти вот раны[828], свидетельствующие о его мужестве, страшится, что будет нанесена рана его доброму имени. Человек, которого никогда не могли заставить отступить нападения врагов, теперь испытывает ужас перед натиском граждан, против которого ему никак не устоять. (37) Он теперь просит вас дать ему не жить в благоденствии, а умереть с честью, и заботится не о том, чтобы жить в своем доме, а о том, чтобы не лишиться погребения в гробнице своих отцов. И он молит и заклинает вас об одном: не лишать его погребения по установленному обряду, не отнимать у него возможности умереть у себя дома и позволить тому, кто никогда не уклонялся от смертельной опасности, защищая отечество, в своем отечестве и умереть.
(38) Я закончил свою речь ко времени, установленному для меня народным трибуном. Вас же я настоятельно прошу считать эту мою защитительную речь проявлением моей верности другу, находящемуся в опасности, и исполнением долга консула, стоящего на страже благополучия государства.
…и глубоко любимый как всем римским народом, так особенно всадническим сословием[829].
9. Первая речь против Луция Сергия Катилины [В сенате, в храме Юпитера Статора, 8 ноября 63 г. до н. э.]
Дошедшие до нас речи против Катилины представляют собой результат произведенной Цицероном в 61—60 гг. литературной обработки речей, произнесенных им в ноябре и декабре 63 г. при подавлении движения, известного под названием заговора Катилины.
Луций Сергий Катилина (108—62 гг.) принадлежал к патрицианскому роду, был на стороне Суллы и в 82—81 гг. лично участвовал в казнях. В 68 г. был претором, в 67 г. пропретором провинции Африки. В 66 г. Катилина добивался консульства, но был привлечен населением своей провинции к суду за вымогательство и потому был исключен из числа кандидатов, что побудило его принять участие в заговоре с целью захвата власти (см. вводное примечание к речи 14). Этот так называемый первый заговор Катилины не выразился в активных выступлениях; несмотря на то что его наличие было явным, участники его не были привлечены к ответственности.
Суд по обвинению Катилины в вымогательстве закончился его оправданием, но привлечение к суду не позволило ему участвовать в соискании консульства на 64 г. В соискании консульства на 63 г. участвовало семь человек, среди них Цицерон, Катилина, Гай Антоний. Предвыборная агитация, во время которой была обещана отмена долгов, вышла за пределы законного, вследствие чего сенат принял особые постановления на этот счет. Стараниями нобилей и римских всадников были избраны Цицерон и Гай Антоний.
Первые месяцы консульства Цицерона ознаменовались его выступлениями против земельного закона Рулла и защитой Гая Рабирия; вторая половина его консульства прошла в борьбе с движением Катилины. Политическая программа Катилины была неопределенной: приход к власти законным или же насильственным путем, ограничение власти сената. Катилина имел успех среди низших слоев населения, разорившихся ветеранов Суллы и среди разорившихся нобилей, надеявшихся освободиться от долгов и достигнуть высших должностей. В Фезулах (Этрурия) центурион Гай Манлий собрал вооруженные отряды, чтобы двинуться на Рим; Цицерона предполагалось убить. Борьба усилилась летом 63 г. Слухи о поджоге Рима и о резне, подготовляемых Катилиной, усилились, этот вопрос обсуждался в сенате в его присутствии. В октябре Красс получил анонимные письма с советом уехать из Рима и этим спастись от смерти. Были получены сведения, что Манлий двинется на Рим 27 октября и что в ночь с 28 на 29 октября заговорщики подожгут Рим и устроят резню. 2 октября сенат принял senatus consultum ultimum (см. вводное примечание к речи 8). Было решено двинуть войска против Манлия, который был объявлен врагом государства (hostis publicus). Катилина был привлечен к суду по обвинению в насильственных действиях, на основании Плавциева закона. Он предложил ряду лиц взять его под стражу у себя в доме (custodia libera), но встретил отказ.
В ночь с 6 на 7 ноября заговорщики собрались в доме у Марка Порция Леки; были отданы последние распоряжения: насчет восстания и, в частности, убийства Цицерона, который узнал об этом через своих осведомителей и усилил охрану города. 8 ноября Цицерон созвал сенат в храме Юпитера Статора и обвинил Катилину, явившегося в сенат, в противогосударственных действиях. Не имея улик, Цицерон предложил ему покинуть Рим (первая речь против Катилины). В ночь на 9 ноября Катилина выехал из Рима в лагерь Манлия. 9 ноября Цицерон выступил на форуме и сообщил народу о своих действиях (вторая речь), он предостерег заговорщиков, оставшихся в Риме, от каких-либо выступлений.
Военные действия против Катилины были поручены консулу Гаю Антонию и претору Квинту Метеллу Целеру. Прямые улики против заговорщиков были получены в ночь со 2 на 3 декабря, при аресте послов галльского племени аллоброгов; послы везли собственноручные письма заговорщиков к Катилине. Рано утром 3 декабря Цицерон арестовал заговорщиков Лентула Суру, Цетега, Габиния и Статилия. В храме Согласия был созван сенат, которому Цицерон доложил о событиях минувшей ночи; письма были предъявлены заговорщикам, которые признали их подлинность. Сенат заставил Публия Корнелия Лентула Суру сложить с себя звание претора. Цицерон был объявлен «отцом отечества», от его имени было назначено благодарственное молебствие богам. 3 декабря он произнес перед народом речь о получении им прямых улик о заговоре (третья речь против Катилины).
4 декабря сенат объявил заговорщиков врагами государства. 5 декабря сенат собрался в храме Согласия. Избранный консул Децим Юний Силан высказался за смертную казнь как для задержанных, так и для других заговорщиков, если они будут схвачены. Избранный претор Гай Цезарь высказался за пожизненное заключение и конфискацию имущества заговорщиков. Его предложение и колебания среди сенаторов заставили Цицерона выступить с речью (четвертая речь против Катилины); он высказался против предложения Цезаря и за смертную казнь. Речь Марка Катона склонила сенат к решению о немедленной казни пятерых заговорщиков, которая и была совершена вечером 5 декабря в подземелье Мамертинской тюрьмы. 5 января 62 г. под Писторией произошло сражение между войсками Гая Антония, которыми командовал его легат Марк Петрей, и отрядами Катилины, окончившееся истреблением последних вместе с их предводителем.
Цицерон ставил себе в большую заслугу раскрытие и подавление заговора Катилины — «спасение государства, достигнутое им трудами и ценой опасностей»; он описал свое консульство в двух поэмах: «О моем консульстве», 61 г., и «О моем времени», 54 г.
(I, 1) Доколе же ты, Катилина, будешь злоупотреблять нашим терпением? Как долго еще ты, в своем бешенстве, будешь издеваться над нами? До каких пределов ты будешь кичиться своей дерзостью, не знающей узды? Неужели тебя не встревожили ни ночные караулы на Палатине[830], ни стража, обходящая город, ни страх, охвативший народ, ни присутствие всех честных людей, ни выбор этого столь надежно защищенного места для заседания сената[831], ни лица и взоры всех присутствующих? Неужели ты не понимаешь, что твои намерения открыты? Не видишь, что твой заговор уже известен всем присутствующим и раскрыт? Кто из нас, по твоему мнению, не знает, что́ делал ты последней, что́ предыдущей ночью, где ты был, кого сзывал, какое решение принял? (2) О, времена! О, нравы![832] Сенат все это понимает, консул видит, а этот человек все еще жив. Да разве только жив? Нет, даже приходит в сенат, участвует в обсуждении государственных дел, намечает и указывает своим взглядом тех из нас, кто должен быть убит, а мы, храбрые мужи, воображаем, что выполняем свой долг перед государством, уклоняясь от его бешенства и увертываясь от его оружия. Казнить тебя, Катилина, уже давно следовало бы, по приказанию консула[833], против тебя самого обратить губительный удар, который ты против всех нас уже давно подготовляешь. (3) Ведь высокочтимый муж, верховный понтифик Публий Сципион[834], будучи частным лицом, убил Тиберия Гракха, пытавшегося произвести лишь незначительные изменения в государственном строе, а Катилину, страстно стремящегося резней и поджогами весь мир превратить в пустыню, мы, консулы, будем терпеть? О событиях далекого прошлого я, пожалуй, говорить не буду — например, о том, что Гай Сервилий Агала своей рукой убил Спурия Мелия, стремившегося произвести государственный переворот[835]. Была, была некогда в нашем государстве доблесть, когда храбрые мужи были готовы подвергнуть гражданина, несущего погибель, более жестокой казни, чем та, какая предназначена для злейшего врага. Мы располагаем против тебя, Катилина, решительным и веским постановлением сената. Не изменяют государству ни мудрость, ни авторитет этого сословия; мы — говорю открыто — мы, консулы, изменяем ему.
(II, 4) Сенат, своим постановлением, некогда обязал консула Луция Опимия принять меры, дабы государство не понесло ущерба[836]. Не прошло и ночи — и был убит, вследствие одного лишь подозрения в подготовке мятежа, Гай Гракх, сын, внук и потомок знаменитых людей; был предан смерти, вместе со своими сыновьями, консуляр Марк Фульвий[837]. На основании такого же постановления сената, защита государства была вверена консулам Гаю Марию и Луцию Валерию[838]. Заставила ли себя ждать хотя бы один день смерть народного трибуна Луция Сатурнина и претора Гая Сервилия, вернее, кара, назначенная для них государством? А мы, вот уже двадцатый день[839], спокойно смотрим, как притупляется острие полномочий сената. Правда, и мы располагаем таким постановлением сената, но оно таится в записях и подобно мечу, вложенному в ножны; на основании этого постановления сената, тебя, Катилина, следовало немедленно предать смерти, а между тем ты все еще живешь и живешь не для того, чтобы отречься от своей преступной отваги; нет, — чтобы укрепиться в ней. Хочу я, отцы-сенаторы, быть милосердным; не хочу, при таких великих испытаниях для государства, показаться безвольным; но я сам уже осуждаю себя за бездеятельность и трусость. (5) В самой Италии, на путях в Этрурию, устроен лагерь на погибель римскому народу; с каждым днем растет число врагов, а самого начальника этого лагеря, императора[840] и предводителя врагов, мы видим в своих стенах, более того — в сенате; изо дня в день готовит он изнутри гибель государству. Если я тотчас же велю тебя схватить, Катилина, если я велю тебя казнить, то мне, несомненно, придется бояться, что все честные люди признают мой поступок запоздалым, а не опасаться, что кто-нибудь назовет его слишком жестоким.
Но, что уже давно должно было быть сделано, я, имея на это веские основания, все еще не могу заставить себя привести в исполнение. Ты будешь казнен только тогда, когда уже не найдется ни одного столь бесчестного, столь низко падшего, столь подобного тебе человека, который не признал бы, что это совершенно законно. (6) Но пока есть хотя бы один человек, который осмелится тебя защищать, ты будешь жить, но так, как живешь ныне, — окруженный моей многочисленной и надежной стражей, дабы у тебя не было ни малейшей возможности даже пальцем шевельнуть во вред государству. Более того, множество глаз и ушей будет — незаметно для тебя, как это было также и до сего времени, — за тобой наблюдать и следить.
(III) И в самом деле, чего еще ждешь ты, Катилина, когда ни ночь не может скрыть в своем мраке сборище нечестивцев, ни частный дом — удержать в своих стенах голоса́ участников твоего заговора, если все становится явным, все прорывается наружу? Поверь мне, уже пора тебе изменить свой образ мыслей; забудь о резне и поджогах. Ты окружен со всех сторон; света яснее нам все твои замыслы, которые ты можешь теперь обсудить вместе со мной. (7) Разве ты не помнишь, как за одиннадцать дней до ноябрьских календ я говорил в сенате, что в определенный день, а именно за пять дней до ноябрьских календ, возьмется за оружие Гай Манлий, твой приверженец и орудие твоей преступной отваги? Разве я ошибся, Катилина, не говорю уже — в том, что произойдет такое ужасное и невероятное событие, но также, — и это должно вызывать гораздо большее изумление, — в определении его срока? И я же сказал в сенате, что ты назначил резню оптиматов на день за четыре дня до ноябрьских календ — тогда, когда многие из первых наших граждан бежали из Рима не столько ради того, чтобы избегнуть опасности, сколько для того, чтобы не дать исполниться твоим замыслам. Можешь ли ты отрицать, что в тот самый день ты, окруженный со всех сторон моими отрядами, благодаря моей бдительности не смог ни шагу сделать против государства, но, по твоим словам, ввиду отъезда всех остальных[841] ты был бы вполне удовлетворен, если бы тебе удалось убить одного меня, коль скоро я остался в Риме? (8) А потом? Когда ты был уверен, что тебе в самые ноябрьские календы удастся ночью, одним натиском, захватить Пренесту[842], не понял ли ты тогда, что колония эта, именно по моему приказанию, была обеспечена войсками, охраной, ночными дозорами? Ты ничего не можешь ни сделать, ни затеять, ни задумать без того, чтобы я об этом не услыхал, более того — этого не увидел и ясно не ощутил.
(IV) Припомни же, наконец, вместе со мной события достопамятной позапрошлой ночи и ты сразу поймешь, что я с гораздо большим усердием неусыпно охраняю благополучие государства, чем ты готовишь ему гибель. Я утверждаю, что ты в эту ночь пришел на улицу Серповщиков — буду говорить напрямик — в дом Марка Леки[843]; там же собралось множество соучастников этого безрассудного преступления. Смеешь ли ты отпираться? Что ж ты молчишь? Докажу, если вздумаешь отрицать. Ведь я вижу, что здесь, в сенате, присутствует кое-кто из тех, которые были вместе с тобой. (9) О, бессмертные боги! В какой стране мы находимся? Что за государство у нас? В каком городе мы живем? Здесь, здесь, среди нас, отцы-сенаторы, в этом священнейшем и достойнейшем собрании, равного которому в мире нет, находятся люди, помышляющие о нашей всеобщей гибели, об уничтожении этого вот города, более того, об уничтожении всего мира! И я, консул, вижу их здесь, даже предлагаю им высказать свое мнение о положении государства и все еще не решаюсь уязвить словами людей, которых следовало бы истребить мечом.
Итак, ты был у Леки в эту ночь, Катилина! Ты разделил на части Италию[844], ты указал, кому куда следовало выехать; ты выбрал тех, кого следовало оставить в Риме, и тех, кого следовало взять с собой; ты распределил между своими сообщниками кварталы Рима, предназначенные для поджога, подтвердил, что ты сам в ближайшее время выедешь из города, но сказал: что ты все же еще не надолго задержишься, так как я еще жив. Нашлись двое римских всадников, выразивших желание избавить тебя от этой заботы и обещавших тебе в ту же ночь, перед рассветом, убить меня в моей постели[845]. (10) Обо всем этом я узнал, как только было распущено ваше собрание[846]. Дом свой я надежно защитил, усилив стражу; не допустил к себе тех, кого ты ранним утром прислал ко мне с приветствиями[847]; впрочем, ведь пришли как раз те люди, чей приход — и притом именно в это время — я уже заранее предсказал многим виднейшим мужам.
(V) Теперь, Катилина, продолжай идти тем путем, каким ты пошел; покинь, наконец, Рим; ворота открыты настежь, уезжай. Слишком уж долго ждет тебя, императора, твой славный Манлиев лагерь. Возьми с собой и всех своих сторонников; хотя бы не от всех, но от возможно большего числа их очисти Рим. Ты избавишь меня от сильного страха, как только мы будем отделены друг от друга городской стеной. Находиться среди нас ты уже больше не можешь; я этого не потерплю, не позволю, не допущу. (11) Великую благодарность следует воздать бессмертным богам и, в частности, этому вот Юпитеру Статору[848], древнейшему стражу нашего города, за то, что мы уже столько раз были избавлены от столь отвратительной язвы, столь ужасной и столь пагубной для государства. Отныне благополучию государства не должна уже угрожать опасность от одного человека. Пока ты, Катилина, строил козни мне, избранному консулу, я защищался от тебя не с помощью официально предоставленной мне охраны, а принимая свои меры предосторожности. Но когда ты, во время последних комиций по выбору консулов, хотел меня, консула, и своих соискателей убить на поле[849], я пресек твою нечестивую попытку, найдя защиту в лице многочисленных друзей, не объявляя, однако, чрезвычайного положения[850] официально. Словом, сколько раз ни пытался ты нанести мне удар, я отражал его сам, хотя и понимал, что моя гибель была бы большим несчастьем для государства. (12) Но теперь ты уже открыто хочешь нанести удар государству в целом; уже и храмы бессмертных богов, городские дома, всех граждан, всю Италию обрекаешь ты на уничтожение и гибель. Поэтому, коль скоро я все еще не решаюсь совершить то, что является моей первой обязанностью и на что дает мне право предоставленный мне империй[851] и заветы наших предков, я прибегну к каре более мягкой, но более полезной для всеобщего спасения. Если я прикажу тебя казнить, то остальные люди из шайки заговорщиков в государстве уцелеют; но если ты, к чему я уже давно тебя склоняю, уедешь, то из Рима будут удалены обильные и зловредные подонки государства в лице твоих приверженцев[852]. (13) Что же, Катилина? Неужели же ты колеблешься сделать, по моему приказанию, то, что ты был готов сделать добровольно? Консул велит врагу[853] удалиться из Рима. Ты спрашиваешь меня — неужели в изгнание? Я тебе не велю, но, раз ты меня спрашиваешь, советую так поступить.
(VI) И в самом деле, Катилина, что еще может радовать тебя в этом городе, где, кроме твоих заговорщиков, пропащих людей, не найдется никого, кто бы тебя не боялся, кто бы не чувствовал к тебе ненависти? Есть ли позорное клеймо, которым твоя семейная жизнь не была бы отмечена? Каким только бесстыдством не ославил ты себя в своей частной жизни? Каким только непристойным зрелищем не осквернил ты своих глаз, каким деянием — своих рук, какой гнусностью — всего своего тела? Найдется ли юнец, перед которым бы ты, чтобы заманить его в сети и совратить, не нес кинжала на пути к преступлению или же факела на пути к разврату?[854] (14) Разве недавно, когда ты, смертью своей первой жены, приготовил свой опустевший дом для нового брака, ты не добавил к этому злодеянию еще другого, невообразимого?[855] Не стану о нем говорить, — пусть лучше о нем молчат — дабы не казалось, что в нашем государстве такое чудовищное преступление могло произойти или же остаться безнаказанным[856]. Не буду говорить о твоем полном разорении, всю тяжесть которого ты почувствуешь в ближайшие иды[857]. Перехожу к тому, что относится не к твоей позорной и порочной частной жизни, не к твоим семейным бедствиям и бесчестию, а к высшим интересам государства, к нашему существованию и всеобщему благополучию.
(15) Неужели тебе, Катилина, может быть мил этот вот свет солнца или воздух под этим небом, когда каждому из присутствующих, как ты знаешь, известно, что ты, в консульство Лепида и Тулла[858], в канун январских календ стоял на комиции[859] с оружием в руках; что ты, с целью убийства консулов и первых граждан, собрал большую шайку и что твое безумное злодеяние было предотвращено не твоими собственными соображениями и не страхом, а Фортуной римского народа? Я и об этом не стану распространяться; ибо это ни для кого не тайна, а ты и впоследствии совершил немало преступлений. Сколько раз покушался ты на мою жизнь, пока я был избранным консулом, сколько раз — во время моего консульства! От скольких твоих нападений, рассчитанных так, что, казалось, не было возможности их избежать, я спасся, как говорится, лишь чуть-чуть отклонившись в сторону! Ничего тебе не удается, ничего ты не достигаешь, но все-таки не отказываешься от своих попыток и стремлений. (16) Сколько раз уже вырывали кинжал у тебя из рук! Сколько раз он случайно выскальзывал у тебя из рук и падал на землю! Не знаю, во время каких таинств, каким обетом ты посвятил его богам[860], раз ты считаешь необходимым вонзить его именно в грудь консула.
(VII) А теперь какова твоя жизнь? Ведь я теперь буду говорить с тобой так, словно мной движет не ненависть, что было бы моим долгом, а сострадание, на которое ты не имеешь никакого права. Ты только что явился в сенат. Кто среди этого многочисленного собрания, среди стольких твоих друзей и близких приветствовал тебя? Ведь этого — с незапамятных времен — не случалось ни с кем; и ты еще ждешь оскорбительных слов, когда само это молчание — уничтожающий приговор! А то, что после твоего прихода твоя скамья опустела, что все консуляры, которых ты в прошлом не раз обрекал на убийство, пересели, оставив незанятыми скамьи той стороны, где сел ты? Как ты можешь это терпеть?
(17) Если бы мои рабы боялись меня так, как тебя боятся все твои сограждане, то я, клянусь Геркулесом, предпочел бы покинуть свой дом[861]. А ты не считаешь нужным покинуть Рим? И если бы я видел, что я — пусть даже незаслуженно — навлек на себя такое тяжкое подозрение и неприязнь сограждан, то я отказался бы от общения с ними, только бы не чувствовать ненависти в их взглядах. Ты же, зная за собой свои злодеяния и признавая всеобщую ненависть справедливой и давно уже заслуженной, еще колеблешься, бежать ли тебе от взоров и от общества тех людей, чьи умы и чувства страдают от твоего присутствия? Если бы твои родители боялись и ненавидели тебя и если бы тебе никак не удавалось смягчить их, ты, мне думается, скрылся бы куда-нибудь с их глаз. Но теперь отчизна, наша общая мать, тебя ненавидит, боится и уверена, что ты уже давно не помышляешь ни о чем другом, кроме отцеубийства[862]. И ты не склонишься перед ее решением, не подчинишься ее приговору, не испугаешься ее могущества? (18). Она так обращается к тебе, Катилина, и своим молчанием словно говорит: «Не было в течение ряда лет ни одного преступления, которого не совершил ты; не было гнусности, учиненной без твоего участия; ты один безнаказанно и беспрепятственно убивал многих граждан[863], притеснял и разорял наших союзников; ты оказался в силах не только пренебрегать законами и правосудием, но также уничтожать их и попирать. Прежние твои преступления, хотя они и были невыносимы, я все же терпела, как могла; но теперь то, что я вся охвачена страхом из-за тебя одного, что при малейшем лязге оружия я испытываю страх перед Катилиной, что каждый замысел, направленный против меня, кажется мне порожденным твоей преступностью, — все это нестерпимо. Поэтому удались и избавь меня от этого страха; если он справедлив, — чтобы мне не погибнуть; если он ложен, — чтобы мне, наконец, перестать бояться». (VIII, 19) Если бы отчизна говорила с тобой так, неужели ты не должен был бы повиноваться ей, даже если бы она не могла применить силу?
А то, что ты сам предложил взять тебя под стражу, что ты, дабы избегнуть подозрения, заявил о своем желании жить в доме у Мания Лепида?[864] Не принятый им, ты даже ко мне осмелился явиться и меня попросил держать тебя в моем доме. Получив и от меня ответ, что я никак не могу чувствовать себя в безопасности, находясь с тобой под одним кровом, потому что подвергаюсь большой опасности, уже находясь с тобой в одних и тех же городских стенах, ты пришел к претору Квинту Метеллу; отвергнутый им, ты переселился к своему сотоварищу, отличнейшему человеку, Марку Метеллу[865], которого ты, очевидно, считал крайне исполнительным в деле охраны, в высшей степени проницательным в его подозрениях и непоколебимым при наказании. Итак, долго ли до тюрьмы и оков тому, кто уже сам признал себя заслуживающим заключения под стражу? (20) И при таких обстоятельствах, Катилина, ты, если у тебя нет сил спокойно покончить с жизнью, еще не знаешь, сто́ит ли тебе уехать в какую-либо страну и жизнь свою, которую ты спасешь от множества мучений, вполне тобой заслуженных, влачить в изгнании и одиночестве?
«Доложи, — говоришь ты, — об этом сенату». Ведь ты этого требуешь и выражаешь готовность, если это сословие осудит тебя на изгнание, ему повиноваться. Нет, я докладывать не буду — это против моих правил — и все-таки заставлю тебя понять, что́ думают о тебе присутствующие. Уезжай из Рима, Катилина; избавь государство от страха; в изгнание — если ты именно этого слова ждешь от меня — отправляйся. Что же теперь? Ты еще чего-то ждешь? Разве ты не замечаешь молчания присутствующих? Они терпят, молчат. К чему ждать тебе их приговора, если их воля ясно выражена их молчанием? (21) Ведь если бы я сказал это же самое присутствующему здесь достойнейшему молодому человеку, Публию Сестию[866], или же храбрейшему мужу, Марку Марцеллу[867], то сенат в этом же храме, с полным правом, на меня, консула, поднял бы руку. Но когда дело идет о тебе, Катилина, то сенаторы, оставаясь безучастными, одобряют; слушая, выносят решение; храня молчание, громко говорят, и так поступают не только эти вот люди, чей авторитет ты, по-видимому, высоко ценишь, но чью жизнь не ставишь ни во что, но также и вон те римские всадники, глубоко почитаемые и честнейшие мужи, и другие храбрейшие граждане, стоящие вокруг этого храма; ведь ты мог видеть, сколь они многочисленны, почувствовать их рвение, а недавно и услышать их возгласы. Мне уже давно едва удается удержать их от вооруженной расправы с тобой, но я с легкостью подвигну их на то, чтобы они — в случае, если ты будешь оставлять Рим, который ты уже давно стремишься уничтожить, — проводили тебя до самых ворот[868].
(IX, 22) Впрочем, к чему я это говорю? Разве возможно, чтобы тебя что-либо сломило? Чтобы ты когда-либо исправился, помыслил о бегстве, подумал об изгнании? О, если бы бессмертные боги внушили тебе это намерение! Впрочем, я понимаю, какая страшная буря ненависти — в случае, если ты, устрашенный моими словами, решишь удалиться в изгнание — угрожает мне если не в настоящее время, когда память о твоих злодействах еще свежа, то, во всяком случае, в будущем. Но пусть будет так, только бы это несчастье обрушилось на меня одного и не грозило опасностью государству! Однако требовать от тебя, чтобы тебя привели в ужас твои собственные пороки, чтобы ты побоялся законной кары, чтобы ты подумал об опасном положении государства, не приходится. Не таков ты, Катилина, чтобы совесть удержала тебя от подлости, страх — от опасных действий или же здравый смысл — от безумия. (23) Итак, — говорю это уже не в первый раз — уезжай, причем, если ты, как ты заявляешь, хочешь разжечь ненависть ко мне, своему недругу, то уезжай прямо в изгнание. Тяжко будет мне терпеть людскую молву, если ты так поступишь; тяжко будет мне выдерживать лавину этой ненависти, если ты уедешь в изгнание по повелению консула. Но если ты, напротив, предпочитаешь меня возвеличить и прославить, то покинь Рим вместе с наглой шайкой преступников, отправляйся к Манлию и призови пропащих граждан к мятежу, порви с честными людьми, объяви войну отчизне, предайся нечестивому разбою, дабы казалось, что ты выехал из Рима не изгнанный мною к чужим, но приглашенный к своим.
(24) А впрочем, зачем мне тебе это предлагать, когда ты — как я знаю — уже послал вперед людей[869], чтобы они с оружием в руках встретили тебя вблизи Аврелиева Форума[870]; когда ты — как я знаю — назначил определенный день для встречи с Манлием; более того, когда ты даже того серебряного орла[871], который, я уверен, губительным и роковым окажется именно для тебя самого и для всех твоих сторонников[872] и для которого у тебя в доме была устроена нечестивая божница, когда ты этого самого орла, как я знаю, уже послал вперед? Как ты сможешь и долее обходиться без него, когда ты не раз возносил к нему моления, отправляясь на резню, и после прикосновения к его алтарю твоя нечестивая рука так часто переходила к убийству граждан?
(X, 25) И вот, ты, наконец, отправишься туда, куда твоя необузданная и бешеная страсть уже давно тебя увлекает. Ведь это не только не удручает тебя, но даже доставляет тебе какое-то невыразимое наслаждение. Для этого безрассудства тебя природа породила, твоя воля воспитала, судьба сохранила. Никогда не желал ты, не говорю уже — мира, нет, даже войны, если только эта война не была преступной. Ты набрал себе отряд из бесчестного сброда пропащих людей, потерявших не только все свое достояние, но также и всякую надежду. (26) Какую радость будешь ты испытывать, находясь среди них, какому ликованию предаваться! Какое наслаждение опьянит тебя, когда ты среди своих столь многочисленных сторонников не услышишь и не увидишь ни одного честного человека! Ведь именно для такого образа жизни ты и придумал свои знаменитые лишения — лежать на голой земле не только, чтобы насладиться беззаконной страстью, но и чтобы совершить злодеяние; бодрствовать, злоумышляя не только против спящих мужей, но и против мирных богатых людей. У тебя есть возможность блеснуть своей хваленой способностью переносить голод, холод, всяческие лишения[873], которыми ты вскоре будешь сломлен. (27) Отняв у тебя возможность быть избранным в консулы, я, во всяком случае, достиг одного: как изгнанник ты можешь покушаться на государственный строй, но как консул[874] ниспровергнуть его не можешь, — твои злодейские действия будут названы разбоем, а не войной.
(XI) Теперь, отцы-сенаторы, дабы я мог решительно отвести от себя почти справедливую, надо сказать, жалобу отчизны, прошу вас внимательно выслушать меня с тем, чтобы мои слова глубоко запали вам в душу и в сознание. В самом деле, если отчизна, которая мне гораздо дороже жизни, если вся Италия, все государство мне скажут: «Марк Туллий, что ты делаешь? Неужели тому, кого ты разоблачил как врага, в ком ты видишь будущего предводителя мятежа, кого, как ты знаешь, как императора ожидают во вражеском лагере — зачинщику злодейства, главарю заговора, вербовщику рабов и граждан губителю ты позволишь удалиться, так что он будет казаться не выпущенным тобой из Рима, а впущенным тобой в Рим? Неужели ты не повелишь заключить его в тюрьму, повлечь на смерть, предать мучительной казни? (28) Что, скажи, останавливает тебя? Уж не заветы ли предков? Но ведь в нашем государстве далеко не редко даже частные лица карали смертью граждан, несших ему погибель. Или существующие законы о казни, касающиеся римских граждан?[875] Но ведь в нашем городе люди, изменившие государству, никогда не сохраняли своих гражданских прав. Или ты боишься ненависти потомков? Поистине прекрасно воздашь ты благодарность римскому народу, который тебя, человека, известного только личными заслугами и не порученного ему предками[876], так рано[877] вознес по ступеням всех почетных должностей к высшей власти, если ты, боясь ненависти и страшась какой-то опасности, пренебрежешь благополучием своих сограждан. (29) Но если в какой-то мере и следует опасаться ненависти, то разве ненависть за проявленную суровость и мужество страшнее, чем ненависть за слабость и трусость? Когда война начнет опустошать Италию, когда будут рушиться города, пылать дома, что же, тогда, по-твоему, не сожжет тебя пламя ненависти?» (XII) Отвечу коротко на эти священные слова государства и на мысли людей, разделяющих эти взгляды. Да, отцы-сенаторы, если бы я считал наилучшим решением покарать Катилину смертью, я этому гладиатору и часа не дал бы прожить. И в самом деле, если выдающиеся мужи и самые известные граждане не только не запятнали себя, но даже прославились, пролив кровь Сатурнина, Гракхов и Флакка[878], а также многих предшественников их, то мне, конечно, нечего было бояться, что казнь этого братоубийцы, истребляющего граждан, навлечет на меня ненависть грядущих поколений. Как бы ни была сильна эта угроза, я все же всегда буду убежден в том, что ненависть, порожденную доблестью, следует считать не ненавистью, а славой.
(30) Впрочем, кое-кто в этом сословии либо не видит того, что угрожает нам, либо закрывает глаза на то, что видит. Люди эти снисходительностью своей обнадеживали Катилину, а своим недоверчивым отношением благоприятствовали росту заговора при его зарождении. Опираясь на их авторитет, многие не только бесчестные, но просто неискушенные люди — в случае, если бы я Катилину покарал, — назвали бы мой поступок жестоким и свойственным разве только царю[879]. Но теперь я полагаю, что если Катилина доберется до лагеря Манлия, в который он стремится, то никто не будет столь глуп, чтобы не увидеть ясно, что заговор действительно существует, и никто — столь бесчестен, чтобы это отрицать. Я понимаю, что, казнив одного только Катилину, можно на некоторое время ослабить эту моровую болезнь в государстве, но навсегда уничтожить ее нельзя. Если же он сам удалится в изгнание, уведет с собой своих приверженцев и захватит с собой также и прочие подонки, им отовсюду собранные, то будут окончательно уничтожены не только эта, уже застарелая болезнь государства, но также и корень и зародыш всяческих зол. (XIII, 31) И в самом деле, отцы-сенаторы, ведь мы уже давно живем среди опасностей и козней, связанных с этим заговором, но почему-то все злодейства, давнишнее бешенство и преступная отвага созрели и вырвались наружу именно во время моего консульства. Если из такого множества разбойников будет устранен один только Катилина, то нам, пожалуй, на какое-то короткое время может показаться, что мы избавлены от тревоги и страха; но опасность останется и будет скрыта глубоко в жилах и теле государства. Часто люди, страдающие тяжелой болезнью и мечущиеся в бреду, если выпьют ледяной воды, вначале чувствуют облегчение, но затем им становится гораздо хуже; так и эта болезнь, которой страдает государство, ослабевшая после наказания Катилины, усилится еще более, если остальные преступники уцелеют.
(32) Поэтому пусть удалятся бесчестные; пусть они отделятся от честных, соберутся в одно место; наконец, пусть их, как я уже не раз говорил, от нас отделит городская стена. Пусть они перестанут покушаться на жизнь консула у него в доме, стоять вокруг трибунала городского претора[880], осаждать с мечами в руках курию, готовить зажигательные стрелы и факелы для поджога Рима; пусть, наконец, на лице у каждого будет написано, что́ он думает о положении государства. Заверяю вас, отцы-сенаторы, мы, консулы, проявим такую бдительность, вы — такой авторитет, римские всадники — такое мужество, все честные люди — такую сплоченность, что после отъезда Катилины все замыслы его вы увидите раскрытыми, разоблаченными, подавленными и понесшими должную кару.
(33) При этих предзнаменованиях, Катилина, на благо государству, на беду и на несчастье себе, на погибель тем, кого с тобой соединили всяческие братоубийственные преступления, отправляйся на нечестивую и преступную войну. А ты, Юпитер[881], чью статую Ромул воздвиг при тех же авспициях, при каких основал этот вот город, ты, которого мы справедливо называем оплотом нашего города и державы, отразишь удар Катилины и его сообщников от своих и от других храмов, от домов и стен Рима, от жизни и достояния всех граждан; а недругов всех честных людей, врагов отчизны, опустошителей Италии, объединившихся в злодейском союзе и нечестивом сообществе, ты обречешь — живых и мертвых — на вечные муки.
10. Вторая речь против Луция Сергия Катилины [На форуме, 9 ноября 63 г. до н. э.]
(I, 1) На этот раз, квириты, Луция Катилину, безумствующего в своей преступности, злодейством дышащего, гибель отчизны нечестиво замышляющего, мечом и пламенем вам и этому городу угрожающего, мы, наконец, из Рима изгнали или, если угодно, выпустили, или, пожалуй, при его добровольном отъезде проводили напутственным словом. Он ушел, удалился, бежал, вырвался. Этот выродок, это чудовище уже не будет внутри городских стен готовить гибель этим самым стенам. И этого главаря междоусобной войны мы, бесспорно, победили. Уже не будет угрожать нашей груди этот кинжал; ни на поле, ни на форуме, ни в курии, ни, наконец, в своем собственном доме[882] не будем мы трепетать в страхе. С позиции сбит[883] он тем, что удален из Рима. Теперь нам уже никто не помешает по всем правилам вести войну с врагом. Без всякого сомнения, мы уже погубили его и одержали над ним блестящую победу, заставив его от тайных козней перейти к открытому разбою. (2) А тем, что он не обнажил своего окровавленного меча, как хотел, тем, что он удалился, а мы остались живы, тем, что мы вырвали оружие у него из рук, что граждане остались невредимыми, а город целым, — скажите, насколько должен он быть всем этим убит и удручен. Лежит он теперь поверженный, квириты, и чувствует себя пораженным и отброшенным и, конечно, то и дело оборачиваясь, бросает взгляды на этот город, вырванный, к его прискорбию, у него из пасти; а Рим, как я полагаю, радуется тому, что изверг и выбросил вон эту пагубу.
(II, 3) Но если кто-нибудь, придерживаясь такого образа мыслей, какого вам всем следовало бы держаться, станет укорять меня именно за тот мой поступок, который побуждает меня теперь выступать с речью ликующей и торжествующей, — за то, что такого смертельного врага я отпустил вместо того, чтобы схватить его, — то это вина не моя, квириты, а обстоятельств. Предать Луция Катилину смерти и подвергнуть его жесточайшей казни следовало уже давно, этого от меня требовали и заветы наших предков, и суровость моего империя[884], и положение государства. Но сколько — как вы думаете — было людей, не склонных верить в справедливость моих обвинений? Сколько было таких, которые даже защищали Катилину? [Сколько было таких, которые, по своей недальновидности, его не считали врагом; сколько было таких, которые, по своей бесчестности, ему сочувствовали?] Если бы я полагал, что я, уничтожив его, избавлю вас от всякой опасности, то я уже давно уничтожил бы Луция Катилину, рискуя, не говорю уже — навлечь на себя ненависть, но даже поплатиться жизнью. (4) Но я понимал, что если я, пока даже не все вы убеждены в его невиновности, покараю его смертью, как он этого заслужил, то вызову против себя ненависть и уже не смогу преследовать его сообщников; поэтому я и довел дело до нынешнего положения, дабы вы могли открыто бороться с ним, воочию видя в нем врага. Сколь страшным считаю я этого врага, находящегося уже вне пределов города, квириты, вы можете понять из того, что я огорчен даже тем, что он покинул Рим с небольшим числом спутников. О, если б он увел с собой все свои войска! Тонгилия, видите ли, которым он прельстился, когда тот еще носил претексту[885], он с собой увел, а также Публиция и Минуция; за ними осталось по харчевням немало долгов, но это никак не могло вызвать волнений в государстве. Но каких людей он оставил здесь! Какими долгами обременены они! Сколь они влиятельны, сколь знатны!
(III, 5) Поэтому, сравнивая его войско с нашими легионами, находящимися в Галлии, с войсками, набранными Квинтом Метеллом[886] в Пиценской и Галльской областях[887], и с теми военными силами, которые мы снаряжаем изо дня в день, я отношусь к этому войску с полным презрением; ведь оно собрано из стариков[888], которым уже терять нечего, из деревенщины, склонной к мотовству, из поселян, любителей тратить деньги, из людей, которые предпочли не являться в суд[889], а вступить в его войско. Если я им покажу, не говорю уже — наше войско в боевом строю, нет, хотя бы эдикт претора, они рухнут наземь. Что же касается этих вот людей, которые, я вижу, снуют по форуму, стоят перед курией и даже приходят в сенат, которые умащены благовониями, щеголяют в пурпурной одежде, то я предпочел бы, чтобы Катилина увел их с собой как своих солдат; коль скоро они остаются здесь, нам — помните это — следует страшиться не столько его войска, сколько этих людей, покинувших его войско. При этом их надо бояться еще потому, что они, хотя и понимают, что я знаю их помыслы, все же ничуть этим не обеспокоены. (6) Знаю я, кому при дележе досталась Апулия, кто получил Этрурию, кто Пиценскую, кто Галльскую область[890], кто потребовал для себя права остаться в засаде в Риме с целью резни и поджогов. Они понимают, что все планы, составленные позапрошлой ночью, мне сообщены; вчера я раскрыл их в сенате. Сам Катилина испугался и спасся бегством. А они чего ждут? Как бы им не ошибиться в надежде на то, что моя былая мягкость останется неизменной.
(IV) Той цели, какую я себе поставил, я уже достиг; вы все видите, что заговор против государства устроен открыто; ведь едва ли кто-нибудь из вас предполагает, что люди, подобные Катилине, не разделяют его взглядов. Теперь уже мягкость неуместна; суровости требуют сами обстоятельства. Но одну уступку я готов сделать даже теперь: пусть они удалятся, пусть уезжают; не допускать же им, чтобы несчастный Катилина чах от тоски по ним. Путь я им укажу: он выехал по Аврелиевой дороге; если они захотят поторопиться, к вечеру догонят его[891]. (7) О, какое счастье будет для государства, если только оно извергнет эти подонки Рима! Мне кажется, клянусь Геркулесом, что государство, избавившись даже от одного только Катилины, свободно вздохнуло и вернуло себе силы. Можно ли представить или вообразить себе какое-либо зло или преступление, какого бы не придумал он? Найдется ли во всей Италии отравитель, гладиатор, убийца, братоубийца, подделыватель завещаний, злостный обманщик, кутила, мот, прелюбодей, беспутная женщина, развратитель юношества, испорченный или пропащий человек, которые бы не сознались, что их связывали с Катилиной тесные дружеские отношения? Какое убийство совершено за последние годы без его участия, какое нечестивое прелюбодеяние — не при его посредстве? (8) Далее, — кто когда-либо обладал такой способностью завлекать юношей, какой обладает он? Ведь к одним он сам испытывал постыдное влечение, для других служил орудием позорнейшей похоти, третьим сулил удовлетворение их страстей, четвертым — смерть их родителей, причем он не только подстрекал их, но даже помогал им. А теперь? С какой быстротой собрал он огромные толпы пропащих людей не только из города Рима, но и из деревень! Не было человека, не говорю уже — в Риме, даже в любом закоулке во всей Италии, который, запутавшись в долгах, не был бы вовлечен им в этот небывалый союз злодейства.
Начало второй речи против Катилины. Рукопись XI в. Codex Monacensis
(V, 9) А чтобы вы могли ознакомиться с его различными наклонностями, столь непохожими одна на другую[892], я скажу, что в школе гладиаторов не найдется ни одного человека с преступными стремлениями, который бы не объявил себя близким другом Катилины; в театре нет ни одного низкого и распутного актера[893], который бы, по его словам, не был чуть ли не его товарищем. Постоянно предаваясь распутству и совершая злодеяния, он привык переносить холод, голод и жажду и не спать по ночам, и именно за эти качества весь этот сброд превозносил его как храбреца, между тем он тратил силы своего тела и духа на разврат и преступления. (10) Если спутники Катилины последуют за ним, если удалятся из Рима преступные шайки людей, которым нечего терять, то какая это будет для нас радость, какое счастье для государства, как прославится мое консульство! Ибо безмерны преступные страсти этих людей; нет, это уже не люди, и дерзость их нестерпима! Они не помышляют ни о чем другом, кроме резни, поджогов и грабежей. Свое родовое имущество они промотали и свои имения заложили давно, но распутство, каким они отличались в дни своего богатства, у них остается неизменным. Если бы они, пьянствуя и играя в кости, не искали ничего другого, кроме пирушек и общества распутниц, то, будучи, конечно, людьми пропащими, они все же были бы еще терпимы; но можно ли мириться с тем, что бездельники злоумышляют против храбрейших мужей, безумцы — против умнейших, пьяные — против трезвых, неисправимые лентяи — против бдительных? Возлежа на пирушках, они, обняв бесстыдных женщин, упившись вином, объевшись, украсившись венками, умастившись благовониями, ослабев от разврата, грозят истребить честных людей и поджечь города. (11) Я убежден, что им не уйти от их судьбы и что кара, уже давно заслуженная ими за их бесчестность, подлость, преступления и разврат, над ними уже нависла или, во всяком случае, уже близка. Если мое консульство, не будучи в состоянии их исправить, их уничтожит, оно укрепит государство не на какой-нибудь краткий срок, а на многие века. Ведь нет народа, которого бы мы страшились, нет царя, который бы мог объявить войну римскому народу; за рубежом, на суше и на море, все умиротворено мужеством одного человека[894]; остается междоусобная война, внутри государства строятся козни, изнутри нам грозит опасность, внутри находится враг. С развращенностью, с безрассудством, с преступностью должны мы вести борьбу, и полководцем в этой войне обязуюсь быть я, квириты! Вражду этих пропащих людей я принимаю на себя; что поддастся исправлению, буду лечить, чем только смогу; а что́ надо будет отсечь, того я не оставлю на погибель государству. Итак, пусть они либо удалятся из Рима, либо сидят смирно, либо — если они останутся в Риме, но от своих намерений не откажутся — пусть ожидают того, чего заслуживают.
(VI, 12) Но все еще находятся люди, квириты, которые все-таки говорят, что Катилина мной изгнан. Если бы я мог добиться этого одним своим словом, я изгнал бы именно тех, кто это болтает. Катилина, этот робкий или, лучше, скромнейший человек, не мог, видимо, вынести голоса консула: как только ему велели удалиться в изгнание, он повиновался. Вчера, после того как меня чуть не убили в моем собственном доме, я созвал сенат в храме Юпитера Статора и доложил отцам-сенаторам о положении государства. Туда пришел Катилина. Кто из сенаторов заговорил с ним, кто приветствовал его, кто, наконец, своим взглядом не осудил его, как негодного гражданина, более того — как опаснейшего врага? Мало того, первые люди в этом сословии даже пересели с тех скамей, к которым он подошел, и оставили их незанятыми. (13) Тогда я, рьяный консул, одним словом своим посылающий граждан в изгнание, спросил Катилину, участвовал ли он в ночном сборище в доме у Марка Леки или не участвовал. Когда он, при всей своей наглости, сначала промолчал, сознавая свою преступность, я разоблачил другие его поступки. Что делал он в ту ночь, что назначил он на прошлую ночь, как был разработан план всего мятежа, — все я изложил. Он медлил, был смущен. Тогда я спросил, почему он не решается отправиться туда, куда уже давно собирается, коль скоро туда, как мне известно, уже послано оружие, секиры, ликторские связки, трубы, военные знаки[895], тот знаменитый серебряный орел, для хранения которого он даже устроил божницу в своем доме[896]. (14) Значит, это я заставил удалиться в изгнание того, кто, как я видел, уже вступил на путь войны? Следовательно, этот центурион Манлий, ставший лагерем под Фезулами, конечно, от своего имени объявил войну римскому народу, и этот лагерь ныне не ждет Катилины в качестве полководца, а он, изгнанник, направляется в Массилию[897], как говорят, а не в этот лагерь.
(VII) О, сколь жалко положение того, кто, не говорю уже — управляет государством, но даже спасает его! Если теперь Луций Катилина, которого я, своей бдительностью, своими трудами, подвергаясь опасностям, окружил и лишил возможности действовать, внезапно испугается, изменит свои намерения, покинет своих сторонников, откажется от своего замысла начать войну и, сойдя с этого пути преступной войны, обратится в бегство и направится в изгнание, то не будут говорить, что я отнял у него оружие, приготовленное им для дерзостного преступления, привел его в замешательство и устрашил своей бдительностью, что я отнял у него надежды и пресек его попытки, а скажут, что он, не будучи ни осужден, ни виновен, был изгнан консулом, применившим силу и угрозы; и если он поступит так, еще найдутся люди, склонные считать его не бесчестным, но несчастным человеком, а меня не бдительнейшим консулом, но жесточайшим тиранном![898] (15) Я готов, квириты, выдержать эту бурю незаслуженной и несправедливой ненависти, лишь бы только избавить вас от опасности этой ужасной и преступной войны. Пожалуй, пусть говорят, что он был мной выслан, лишь бы он удалился в изгнание. Но не уйдет он в изгнание, поверьте мне. Ради того только, чтобы утихла ненависть ко мне, я никогда не стану, квириты, просить бессмертных богов о том, чтобы до вас дошла весть, что Катилина взялся за оружие и ведет на вас вражеское войско; но через три дня вы об этом услышите. Гораздо больше боюсь я другого: меня когда-нибудь могут упрекнуть в том, что я выпустил его из Рима, а не изгнал. Но если теперь находятся люди, утверждающие, что он изгнан, — хотя он уехал добровольно, — то что стали бы говорить они, будь он казнен? (16) Впрочем, те, которые твердят, что Катилина держит путь в Массилию, не столько на это сетуют, сколько этого опасаются. Ни один из них не жалостлив в такой степени, чтобы пожелать ему отправиться в Массилию, а не к Манлию[899]. А сам он, клянусь Геркулесом, даже если бы он заранее не обдумал того, что будет делать, все же предпочел бы быть казнен как разбойник, а не жить как изгнанник. Но теперь, коль скоро с ним до сего времени не случалось ничего, что не совпало бы с его желанием и замыслами, — кроме того, что он уехал из Рима, оставив меня живым, — пожелаем лучше, чтобы он отправился в изгнание, вместо того, чтобы нам на это сетовать.
(VIII, 17) Но почему мы столько времени толкуем об одном враге и притом о таком, который уже открыто признает себя врагом и которого я не боюсь, так как нас отделяет от него городская стена, — чего я всегда хотел, — а о тех людях, которые скрывают свою вражду, остаются в Риме и находятся среди нас, не говорим ничего? Именно их, если только это возможно, я стараюсь не столько покарать, сколько излечить ради них самих, примирить с государством и не вижу причины, почему бы это не было возможно, если только они согласятся меня выслушать. Итак, я изложу вам, квириты, какого рода люди составляют войска Катилины; затем, если смогу, попытаюсь каждого из них излечить советами и уговорами.
(18) Одни из них — это люди, при своих больших долгах, все же обладающие еще более значительными владениями, привязанность к которым никак не дает им возможности выпутаться из этого положения[900]. По внешнему виду, они — люди почтенные (ведь они богаты), но их стремления и притязания совершенно бесстыдны. И вы, имея в избытке земли, дома, серебряную утварь, рабов, разное имущество, не решаетесь расстаться с частью своей собственности и вернуть себе всеобщее доверие? Чего вы ждете? Войны? А дальше? Не думаете ли вы, что, когда все рухнет, именно ваши владения останутся священными и неприкосновенными? Или вы ждете введения новых долговых записей?[901] Заблуждаются люди, ожидающие их от Катилины. Нет, мной будут выставлены новые записи, но только насчет продажи с аукциона; ведь люди, обладающие собственностью, не могут привести свои дела в порядок никаким другим способом. Если бы они захотели это сделать более своевременно, вместо того, чтобы покрывать проценты доходами со своих имений, — что крайне неразумно, — они и сами были бы богаче, а как граждане полезнее для государства. Но именно этих людей, по моему мнению, менее всего следует страшиться, так как их либо возможно переубедить, либо они, если и останутся верны себе, мне кажется, скорее будут посылать государству проклятия, чем возьмутся за оружие против него.
(IX, 19) Другие, хотя они и обременены долгами, все же рассчитывают достигнуть власти, хотят стать во главе государства и думают, что почетных должностей, на которые им нечего рассчитывать при спокойствии в государстве, они смогут добиться, вызвав в нем смуту. Им следует дать такое же наставление, какое, очевидно, следует дать и всем другим: пусть откажутся от надежды, что они добьются того, чего пытаются добиться. Прежде всего, я сам бдителен, твердо стою на своем посту и на страже государства. Затем, великим мужеством воодушевлены все честные мужи, велико согласие между ними, [огромна их численность,] велики, кроме того, и наши военные силы. Наконец, и бессмертные боги придут на помощь нашему непобедимому народу, прославленной державе и прекрасному городу в их борьбе против столь страшного преступления. Но даже если вообразить себе, что эти люди уже достигли того, к чему они стремятся в своем неистовом бешенстве, то неужели они надеются на пепле Рима и на крови граждан — а ведь именно этого пожелали они своим преступным и нечестивым умом — сделаться консулами и диктаторами, вернее, даже царями? Разве они не понимают, что, даже если они и достигнут того, чего желают, им все-таки неминуемо придется уступить все это какому-нибудь беглому рабу или гладиатору?[902]
(20) Третьи — люди уже преклонного возраста, но испытанные и сильные; из их среды вышел Манлий, которого сменяет теперь Катилина. Это люди из колоний, учрежденных Суллой. Я знаю, что колонии эти, по большей части, заселены честнейшими гражданами и храбрейшими мужами, но все же это те колоны, которые, нежданно-негаданно получив имущество, жили чересчур пышно и не по средствам. Они возводят такие постройки, словно обладают несметными богатствами; их радует устройство образцовых имений, множество челяди, великолепные пирушки, и поэтому они запутались в таких значительных долгах, что им, если бы они захотели с ними разделаться, пришлось бы вызвать из царства мертвых самого Суллу. Они даже подали кое-кому из сельских жителей, бедным и неимущим людям, надежду на такие же грабежи, какие происходили в прошлом. И тех и других людей я отношу к одному и тому же разряду грабителей и расхитителей имущества, но советую им перестать безумствовать и помышлять о проскрипциях и диктатурах. Ведь от тех времен в сердцах наших граждан сохранилась такая жгучая боль, что всего этого, мне думается, теперь не вытерпят, не говорю уже — люди, нет, даже скот[903].
(X, 21) Четвертые — это множество людей крайне разнообразного, смешанного и пестрого состава. Они уже давно испытывают затруднения и никогда уже не смогут встать на ноги; отчасти по лености, отчасти вследствие дурного ведения ими своих дел, отчасти также и из-за своей расточительности они по уши в старых долгах; они измучены обязательствами о явке в суд, судебными делами, описью имущества; очень многие из них, — и из города Рима и из сел — по слухам, направляются в тот лагерь. Вот они-то, по моему мнению, не столько спешат в бой, сколько медлят с уплатой долгов[904]. Пусть эти люди, раз они не могут устоять на ногах, погибнут возможно скорее, но так, чтобы этого не почувствовало, уже не говорю — государство, нет — даже их ближайшие соседи. Ибо я не понимаю одного: если они не могут жить честно, то почему они хотят погибнуть с позором, вернее, почему они считают гибель вместе с многими другими людьми менее мучительной, чем гибель в одиночестве?
(22) Пятые — это братоубийцы[905], головорезы, наконец, всякие преступники; их я не пытаюсь отвлечь от Катилины, да их и невозможно оторвать от него. Пусть же погибнут они, занимаясь разбоем, так как их столько, что тюрьма[906] вместить их не может.
Перейду к последнему роду людей — последнему не только по счету, но и по их характеру и образу жизни; это — самые близкие Катилине люди, его избранники, более того, его любимцы и наперсники; вы видите их, тщательно причесанных, вылощенных, либо безбородых, либо с холеными бородками, в туниках с рукавами и до пят[907], закутанных в целые паруса, вместо тог. Все их рвение и способность бодрствовать по ночам обнаруживаются ими только на пирушках до рассвета. (23) В этой своре находятся все игроки, все развратники, все грязные и бесстыдные люди. Эти изящные и изнеженные мальчики обучены не только любить и удовлетворять любовные страсти, плясать и петь, но и кинжалы в ход пускать и подсыпать яды. Если они не покинут Рим, если они не погибнут, то — знайте это — даже в случае гибели самого Катилины в нашем государстве останется этот рассадник Катилин. И на что рассчитывают эти жалкие люди? Неужели они думают повезти с собой в лагерь своих бабенок? Но как смогут они без них обойтись, особенно в эти ночи? И как они перенесут пребывание на Апеннине с его стужей и снегами? Или они, быть может, думают, что им потому будет легче переносить зимнюю стужу, что они научились плясать нагими во время пирушек?
(XI, 24) О, как должна страшить нас эта война, когда у Катилины будет эта преторская когорта[908] из блудников и блудниц! Выстройте же теперь в боевом порядке, квириты, против столь славных сил Катилины свои гарнизоны и войска и, прежде всего, против этого истрепанного и израненного гладиатора выставьте своих консулов и императоров; затем, против этой шайки отверженного и жалкого отребья двиньте цвет и опору всей Италии. Право, даже города в наших колониях и муниципиях могут помериться силами с Катилиной, укрывающимся на лесистых холмах[909]. Мне, конечно, нет надобности сопоставлять ваши остальные богатые средства снабжения, ваше снаряжение и гарнизоны с бессильным и необеспеченным войском этого пресловутого разбойника. (25) Но если мы, даже не говоря обо всем том, чем располагаем мы и чего Катилина лишен, — я имею в виду сенат, римских всадников, город Рим, эрарий, государственные доходы, всю Италию, все провинции, чужеземные народы — если мы, не говоря обо всем этом, захотим сравнить наше дело с его делом (ведь они вступают в борьбу, одно с другим), то мы сможем понять, как низко пали наши противники. Ведь на нашей стороне сражается чувство чести, на той — наглость; здесь — стыдливость, там — разврат; здесь — верность, там — обман; здесь — доблесть, там — преступление; здесь — непоколебимость, там — неистовство; здесь — честное имя, там — позор; здесь — сдержанность, там — распущенность; словом, справедливость, умеренность, храбрость, благоразумие, все доблести борются с несправедливостью, развращенностью, леностью, безрассудством, всяческими пороками; наконец, изобилие сражается с нищетой, порядочность — с подлостью, разум — с безумием, наконец, добрые надежды — с полной безнадежностью. Неужели при таком столкновении, вернее, в такой битве сами бессмертные боги не даруют этим прославленным доблестям победы над столькими и столь тяжкими пороками?
(XII, 26) При этих обстоятельствах, квириты, сами защищайте свои дома, неся ночные караулы и охрану, как и до сей поры. Я, со своей стороны, позаботился и принял все меры, чтобы обеспечить город надежной охраной, не вызывая чувства тревоги у вас и не объявляя чрезвычайного положения[910]. Всем колонам и вашим землякам из муниципиев, извещенным мной об этом поспешном ночном отъезде Катилины, будет легко защитить свои города и земли. Гладиаторы, на которых он рассчитывал как на свой надежнейший отряд, — хотя они и похрабрее, чем часть наших патрициев, — все же будут в нашей власти. Квинт Метелл, которого я, предвидя эти события, заранее послал в Галльскую и Пиценскую области, либо разобьет Катилину, либо воспрепятствует передвижению его сил и его действиям. Об остальных мерах, которые понадобится принять, ускорить, осуществить, я доложу сенату, который я, как видите, созываю.
(27) Что же касается людей, которые застряли в Риме или, вернее, были оставлены Катилиной на погибель Риму и всем вам в городе, то я, хотя это и враги, все же, коль скоро они родились гражданами, хочу настоятельно предостеречь их. Я при своей мягкости, которая до сего времени кое-кому могла показаться слабостью, ждал только, чтобы вырвалось наружу то, что оставалось скрытым. Но отныне я уже не могу забыть, что здесь моя отчизна, что я — консул этих вот людей, что мой долг — либо вместе с ними жить, либо за них умереть. У городских ворот нет сторожей, на дороге нет засад. Если кто-нибудь захочет уехать, я могу на это закрыть глаза. Но тот, кто в Риме хотя бы чуть-чуть шевельнется, тот, за кем я замечу, не говорю уже — какое-либо действие, но даже стремление или попытку действовать во вред отчизне, поймет, что в этом городе есть бдительные консулы, есть достойные должностные лица, есть стойкий сенат, что в нем есть оружие, есть тюрьма, которая, по воле наших предков, карает за нечестивые преступления, когда они раскрыты.
(XIII, 28) И все эти меры будут проведены так, чтобы величайшие угрозы были устранены при ничтожнейших потрясениях, огромные опасности — без объявления чрезвычайного положения, чтобы междоусобная и внутренняя война, жесточайшая и величайшая из всех, какие помнят люди, была закончена мной одним, единственным полководцем и императором, носящим тогу[911]. Я буду так руководить этим, квириты, чтобы — если только это окажется возможным — даже бесчестный человек не понес кары за свое преступление в стенах этого города. Но если какой-либо открытый дерзостный поступок, если опасность, грозящая нашей отчизне, заставят меня по необходимости отказаться от моей душевной мягкости, то я непременно добьюсь того, на что при такой трудной войне, среди стольких козней, едва ли можно надеяться: ни один честный человек не погибнет, и кара, которой подвергнутся немногие, принесет спасение всем вам. (29) Обещаю это вам, квириты, полагаясь не на свою проницательность и не на человеческую мудрость, а на многочисленные и притом несомненные знамения бессмертных богов. Ведь ими руководясь, я и возымел эту надежду и принял это решение. Уже не издали, как это некогда бывало, и не от внешнего врага, находящегося далеко от нас, защищают они свои храмы и дома Рима; нет, они защищают их, находясь здесь, изъявлением своей воли и своей помощью. Им должны вы молиться, их почитать и умолять о том, чтобы этот город, по их воле ставший самым прекрасным, самым счастливым и самым могущественным, они после побед, одержанных нами на суше и на море над силами всех наших врагов[912], защитили от нечестивого злодеяния преступнейших граждан.
11. Третья речь против Луция Сергия Катилины [На форуме, вечером 3 декабря 63 г. до н. э.]
(I, 1) Государство, ваша жизнь, имущество и достояние, ваши жены и дети, квириты, и этот оплот прославленной державы — богатейший и прекрасный город сегодня, по великому благоволению бессмертных богов, моими трудами и разумными решениями, а также ценой опасностей, которым я подвергался, у вас на глазах, как видите, спасены от огня и меча, можно сказать, вырваны из пасти рока, сохранены и возвращены вам. (2) И если дни нашего избавления нам не менее приятны и радостны, чем день нашего рождения, так как спасение приносит несомненную радость, а рождение обрекает нас на неизвестное будущее, так как мы рождаемся, не сознавая этого, а избавляясь от опасности, испытываем радость, то, коль скоро мы с благоговением превознесли того, кто этот город основал, и причислили его к бессмертным богам, вы и потомки ваши, конечно, должны оказать почет тому, кто этот же город, уже основанный и разросшийся, спас. Ибо факелы, грозившие пожаром всему Риму, его храмам, святилищам, домам и городским стенам, которые окружают его со всех сторон, мы потушили, удары мечей, обнаженных против государства, отразили, а их клинки, направленные вам в грудь, оттолкнули.
(3) Так как в сенате все это мной уже разъяснено, раскрыто и установлено, то я изложу это вам вкратце, дабы вы, находившиеся до сего времени в неведении и ожидании, могли ныне узнать, сколь важно и сколь очевидно все происшедшее и каким путем я напал на след и все обнаружил.
Итак, как только Катилина немного дней назад[913] бежал из Рима, оставив в городе своих соучастников в преступлении, рьяных полководцев в этой нечестивой войне, я непрестанно бодрствовал и принимал меры предосторожности, чтобы вы могли уцелеть, несмотря на столь страшные и столь глубоко затаенные козни. (II) Когда я пытался изгнать Катилину из Рима (ведь я уже не боюсь, что это слово вызовет ненависть против меня; скорее меня могут осудить за то, что он ушел живым), итак, когда я хотел удалить его из нашего города, я думал, что вместе с ним уйдет также и остальная шайка заговорщиков или же что оставшиеся будут без него бессильны и слабы. (4) Но как только я увидел, что именно те люди, которые, по моим сведениям, были воспламенены преступным безумием, остались в Риме среди нас, я стал день и ночь наблюдать за ними, чтобы выследить их и раскрыть их действия и замыслы и чтобы — коль скоро вы могли, ввиду невероятной тяжести их преступления, отнестись к моим словам недоверчиво — захватить преступников с поличным; ведь только когда вы воочию увидите самое злодейство, вы примете меры в защиту своей жизни. И вот, как только я узнал, что Публий Лентул[914], желая вызвать войну в заальпийских странах и взбунтовать галлов, подстрекает послов аллоброгов, что их отправляют в Галлию к их согражданам, дав им письма и поручения, по тому же пути, который ведет к Катилине, а их спутником будет Тит Вольтурций[915], с которым также посылают письма к Катилине, я решил, что мне представился случай выполнить труднейшую задачу, которую я всегда просил у бессмертных богов, — раскрыть все преступление так, чтобы оно стало явным не только для меня, но также для сената и для вас.
(5) Поэтому я вчера призвал к себе преторов Луция Флакка[916] и Гая Помптина[917], мужей храбрейших и преданнейших государству. Я изложил им все обстоятельства и объяснил им, что́ нам следует делать. Они как честные граждане, одушевленные великой любовью к государству, без колебаний и промедления взялись за дело и, когда стало вечереть, тайком подошли к Мульвиеву мосту[918] и расположились в ближайших усадьбах по обеим сторонам Тибра и моста. Туда же и они сами, не вызвав ни у кого подозрения, привели многих храбрых людей, да и я послал из Реатинской префектуры[919] вооруженный мечами отряд отборных молодых людей, к помощи которых я всегда прибегаю при защите государства. (6) Тем временем, к концу третьей стражи[920], когда послы аллоброгов вместе с Вольтурцием и со своей многочисленной свитой уже вступили на Мульвиев мост, на них было совершено нападение; обе стороны обнажили мечи. Одни только преторы знали, в чем дело; прочие были в неведении. (III) Затем подоспели Помптин и Флакк и прекратили схватку. Все письма, какие только оказались у свиты, с неповрежденными печатями[921] были переданы преторам; самих послов задержали и на рассвете привели ко мне. Я тотчас же велел позвать самого бесчестного зачинщика всех этих преступлений — Кимвра Габиния, еще ничего не подозревавшего; затем был вызван также Луций Статилий, а после него — Цетег. Позже всех пришел Лентул, мне думается, потому, что он, занятый составлением писем, вопреки своему обыкновению, не спал всю прошлую ночь[922].
(7) Хотя виднейшие и прославленные мужи из числа наших сограждан, при первом же известии о случившемся собравшиеся в большом числе у меня в доме рано утром, советовали мне вскрыть письма до того, как я доложу о них сенату, чтобы — в случае, если в них не будет найдено ничего существенного, — не оказалось, что я необдуманно вызвал такую сильную тревогу среди граждан, я ответил, что не считаю возможным представить государственному совету улики насчет опасности, угрожающей государству, иначе, как только в нетронутом виде. И в самом деле, квириты, даже если бы то, о чем мне сообщили, не было раскрыто, все же, по моему мнению, при такой большой угрозе существованию государства, мне не следовало бы опасаться, что бдительность с моей стороны покажется чрезмерной. Как вы видели, я быстро созвал сенат в полном составе. (8) Кроме того, по совету аллоброгов, я тут же послал претора Гая Сульпиция, храброго мужа, забрать из дома Цетега оружие, если оно там окажется; он изъял много кинжалов и мечей.
(IV) Я велел ввести Вольтурция без галлов. По решению сената я заверил его в неприкосновенности[923] и предложил ему дать без всякого страха показания обо всем, что знает. С трудом победив свой сильный страх, он сказал, что получил от Публия Лентула письма и поручения к Катилине: Катилина должен прибегнуть к помощи рабов и возможно скорее двинуться с войском на Рим; последнее — с тем, чтобы, после того как они подожгут город со всех сторон, как это было заранее указано каждому, и перебьют бесчисленное множество граждан, он оказался на месте и мог перехватывать беглецов и соединиться с вожаками, оставшимися в городе. (9) Галлы, когда их ввели, сказали, что Публий Лентул, Цетег и Статилий дали им клятвенное обещание и письма к их племени, причем сами они и Луций Кассий велели галлам послать конницу в Италию возможно скорее; пехоты у них самих хватит. Лентул, по словам галлов, утверждал, что на основании предсказаний Сивиллы[924] и ответов гаруспиков[925] он — тот третий Корнелий, которому должны достаться царская власть и империй в этом городе: до него ими обладали Цинна и Сулла. При этом он сказал, что нынешний год — роковой и принесет гибель нашему городу и державе, так как это десятый год после оправдания дев-весталок[926], а после пожара Капитолия — двадцатый[927]. (10) Наконец, они сообщили о разногласиях между Цетегом и прочими заговорщиками: Лентул и другие считали нужным устроить резню и поджечь город в Сатурналии[928], Цетегу же этот срок казался слишком долгим.
(V) Буду краток, квириты: я велел подать дощечки с письмами, которые, как говорили галлы, были им вручены каждым из заговорщиков. Сначала я показал Цетегу печать; он ее признал за свою. Я разрезал нить и прочитал письмо: он собственноручно писал сенату аллоброгов и народу, что сделает то, в чем он ранее заверил их послов; он просит, чтобы и они выполнили обязательства, данные ему их послами. Тогда Цетег, который незадолго до того все-таки пытался дать какие-то объяснения насчет мечей и кинжалов, найденных у него в доме, и говорил, что всегда был любителем хороших клинков, после прочтения писем смутился и, мучимый совестью, вдруг замолчал. Статилий, когда его ввели, признал свою печать и свою руку. Было прочитано его письмо почти такого же содержания, как и письмо Цетега; он сознался. Затем я показал письмо Лентулу и спросил его, узнает ли он печать; он подтвердил это кивком головы. «Это, — говорю я, — несомненно, всем хорошо знакомая печать, изображение твоего деда[929], прославленного мужа, горячо любившего отечество и своих сограждан; уже одно оно, хотя и немое, должно было бы удержать тебя от такого преступления». (11) Было прочитано его письмо к сенату аллоброгов, такого же содержания. Я дал ему возможность сказать по этому поводу, что́ он найдет нужным. Сперва он отказался; но через некоторое время, когда все показания были изложены и прочитаны, он встал и спросил галлов, какие же дела могли быть у него с ними и зачем они приходили к нему на дом. Об этом же он спросил и Вольтурция. Когда же они коротко и твердо ответили, кто их к нему приводил и сколько раз, и спросили его, не говорил ли он им о предсказаниях Сивиллы, то он внезапно, обезумев в преступном неистовстве, доказал нам, как могущественна совесть; ибо, хотя он и мог это отрицать, он внезапно, вопреки всеобщему ожиданию, сознался. Таким образом, ему изменили не только его способности и находчивость в речах, в чем он всегда был силен; нет, его ужасное преступление было столь явно и очевидно, что ему изменило даже его бесстыдство, которым он превосходил всех, даже его бесчестность. (12) Вольтурций же вдруг велел принести и вскрыть письмо, которое, по его словам, Лентул дал ему к Катилине. Тут уже Лентул окончательно растерялся, но все-таки признал и печать и свою руку. Письмо было безымянное, но гласило: «Кто я, узнаешь от человека, которого я к тебе посылаю; будь мужем и обдумай, как далеко ты зашел; решай, что́ тебе теперь делать; обеспечь себе всеобщую поддержку, даже со стороны людей самого низкого положения»[930]. Затем ввели Габиния; вначале он отвечал нагло, но под конец не стал уже ничего отрицать из того, в чем его обвиняли галлы. (13) Что касается меня лично, квириты, то, сколь ни убедительны были все улики и доказательства совершенного преступления — письма, печати, почерк, наконец, признание каждого из заговорщиков, мне показались еще более убедительными их бледность, выражение их глаз и лиц, их молчание. Ведь они так остолбенели, так упорно смотрели в землю, такие взгляды время от времени украдкой бросали друг на друга, что казалось, будто не другие показывали против них, а они сами — против себя.
(VI) Когда показания были изложены и прочитаны, квириты, я спросил сенат, какие меры считает он нужным принять в защиту безопасности государства. Первоприсутствующие сенаторы высказались в высшей степени сурово и решительно, и сенат без всяких колебаний примкнул к ним. Так как постановление сената еще не составлено, я по памяти изложу вам, квириты, что́ сенат решил. (14) Прежде всего в самых лестных выражениях воздается благодарность мне за то, что моей доблестью, мудростью и предусмотрительностью государство избавлено от величайших опасностей. Затем преторам Луцию Флакку и Гаю Помптину за то, что они своей храбростью и преданностью оказали мне помощь, высказывается заслуженная и справедливая хвала. Кроме того, храбрый муж, мой коллега[931], удостоился похвалы за то, что он порвал с участниками этого заговора всякие личные и официальные отношения. Кроме того, было решено, чтобы Публий Лентул, сложив с себя обязанности претора, был взят под стражу, а также чтобы Гай Цетег, Луций Статилий и Публий Габиний, которые все находились налицо, были взяты под стражу[932]; то же было решено насчет Луция Кассия, выпросившего для себя поручение поджечь город; насчет Марка Цепария, которому, согласно показаниям, была назначена Апулия с тем, чтобы он подстрекал пастухов[933] к мятежу; насчет Публия Фурия, принадлежавшего к числу тех колонов, которых Луций Сулла вывел в Фезулы; насчет Квинта Анния Хилона, который вместе с этим Фурием все время склонял аллоброгов к участию в заговоре; насчет вольноотпущенника Публия Умбрена, который, как было установлено, первый привел галлов к Габинию. При этом сенат проявил величайшее мягкосердечие, квириты, и, несмотря на столь значительный заговор и такое множество внутренних врагов все же признавал, что, коль скоро государство спасено, то кара, которая постигнет девятерых преступнейших человек, остальных сможет излечить от безумия. (15) Кроме того, бессмертным богам за их исключительную милость было назначено молебствие[934] от моего имени, причем, со времени основания Рима, из людей, носивших тогу[935], этого впервые удостоился я; молебствие было назначено в следующих выражениях: «Так как я избавил Рим от поджогов, от резни — граждан, Италию — от войны…» Если сравнить это молебствие с другими, то видно, в чем их различие: те были назначены за оказанные государству услуги и одно лишь это — за его спасение. Затем было совершено и доведено до конца то, что надо было сделать прежде всего. Публий Лентул, хотя он на основании неопровержимых показаний, своего собственного признания и решения сената утратил права не только претора, но и гражданина, все же от своей должности отказался сам; таким образом, религиозный запрет, который, правда, не помешал Гаю Марию, прославленному мужу, убить претора Гая Главцию, чье имя в постановлении сената даже не было названо, — этот запрет не будет нам препятствовать покарать Публия Лентула, отныне частное лицо.
(VII, 16) Но теперь, квириты, коль скоро нечестивые зачинщики преступнейшей и опаснейшей войны схвачены и находятся в ваших руках, вы можете быть уверены, что, с устранением этих опасностей, угрожавших Риму, все военные силы Катилины уничтожены, и все его надежды и средства погибли. Право, изгоняя его из Рима, я предвидел, квириты, что после удаления Катилины мне не придется страшиться ни сонливого Публия Лентула, ни тучного Луция Кассия, ни бешено безрассудного Гая Цетега. Из всех этих людей стоило бояться одного только Катилины, но и его — лишь пока он находился в стенах Рима. Он знал все, умел подойти к любому человеку; он мог, он осмеливался привлекать к себе людей, выведывать их мысли, подстрекать их; он обладал способностью задумать преступное деяние, и этой способности верно служили и его язык и его руки. Для выполнения определенных задач он располагал определенными людьми, отобранными и назначенными им, причем он, дав им какое-нибудь поручение, не считал его уже выполненным; решительно во все он входил сам, за все брался сам; был бдителен и рьян; холод, жажда и голод были ему нипочем. (17) Если бы этого человека, столь деятельного, столь отважного, столь предприимчивого, столь хитрого, столь осторожного при совершении им злодейств, столь неутомимого в преступлениях, я не заставил отказаться от козней в стенах Рима и вступить на путь разбойничьей войны (говорю то, что думаю, квириты!), мне не легко было бы отвратить страшную беду, нависшую над вашими головами. Уж он, конечно, не назначил бы нашего истребления на день Сатурналий, не объявил бы государству за столько времени вперед о роковом дне его уничтожения и, наконец, не допустил бы, чтобы были захвачены его печать и письма, эти неопровержимые свидетельства его преступления. Теперь же в его отсутствие все дело повели так, что кражу в частном доме, пожалуй, никогда не удавалось раскрыть с такой очевидностью, с какой был обнаружен и раскрыт этот страшный заговор, угрожавший государству. И если бы Катилина оставался в государстве и по сей день, то, хотя я, пока он был здесь, оказывал ему сопротивление и боролся со всеми его замыслами, все же (выражусь очень мягко) нам пришлось бы сразиться с ним, причем мы никогда — если бы этот враг все еще находился в Риме — не избавили бы государства от таких больших опасностей, сохранив при этом мир, спокойствие и тишину.
(VIII, 18) Впрочем, все это, квириты, было сделано мной так, что кажется свершившимся по решению, по воле и промыслу бессмертных богов. Мы потому можем прийти к такому заключению, что человеческому разуму едва ли могло быть доступно управление такими важными событиями; кроме того, боги в то время своим непосредственным присутствием оказали нам такое содействие и помощь, что мы, можно сказать, могли видеть их воочию. Если не говорить о том, что в ночное время на западе были видны вспышки света и зарево на небе; если удары молнии и землетрясения оставить без внимания; если не упоминать о других, столь многочисленных знамениях, наблюдавшихся в мое консульство, когда бессмертные боги, казалось, предвещали нынешние события, то, конечно, нельзя ни пропустить, ни оставить без внимания, квириты, того, о чем я сейчас буду говорить. (19) Вы, конечно, помните, что в консульство Котты и Торквата[936] в Капитолии много предметов было поражено молнией, причем изображения богов сброшены с их оснований, статуи живших в старину людей низвергнуты, а медные доски с записью законов расплавлены. Это коснулось даже основателя нашего города, Ромула, чья позолоченная статуя, где он изображен в виде грудного ребенка, тянущегося к сосцам волчицы, как вы помните, стояла в Капитолии. Гаруспики, собравшиеся в те времена из всей Этрурии, предсказали, что надвигаются резня, пожары, уничтожение законов, гражданская и междоусобная война, падение Рима и всей нашей державы, если только бессмертные боги, которых надо умилостивить всем, чем только возможно, волей своей не отклонят этих судеб. (20) Поэтому тогда, на основании их ответов, были устроены игры в течение десяти дней и не было упущено ничего такого, что могло бы умилостивить богов. Кроме того, гаруспики велели изваять изображение Юпитера бо́льших размеров, установить его на более высоком подножии и, не в пример прошлому, обратить его лицом к востоку; они, по их словам, надеялись, что если эта статуя, которую вы видите, будет смотреть на восходящее солнце, на форум и на курию, то замыслы, тайно составленные во вред благополучию Рима и нашей державы, будут настолько разоблачены, что станут вполне ясны сенату и римскому народу. На сооружение этой статуи консулы в ту пору сдали подряд, но работы производились так медленно, что ни в консульство моих предшественников, ни в мое статуя так и не была воздвигнута.
(IX, 21) Кто может быть столь враждебен истине, квириты, столь безрассуден, столь безумен, чтобы отрицать, что все находящееся перед нашими глазами, а особенно этот вот город управляется волей и властью бессмертных богов? И в самом деле, тогда нам был дан ответ, что подготовляются — и притом нашими же гражданами — резня, поджоги и уничтожение государства, но кое-кому из вас все это в ту пору казалось слишком тяжким злодеянием и поэтому чем-то невероятным; теперь же вы воочию увидели, что нечестивые граждане не только задумали все это, но и приступили к выполнению. А разве не явным доказательством воли Юпитера Всеблагого Величайшего служит то, что, когда сегодня рано утром, по моему приказанию, заговорщиков и доносчиков вели через форум в храм Согласия[937], именно в это время воздвигали статую? Как только она была установлена и обращена лицом к вам и к сенату, все замыслы против всеобщего благополучия, как вы убедились, были разоблачены и раскрыты. (22) Тем большей ненависти и тем более мучительной казни достойны те люди, которые не только ваши жилища и дома, но храмы и святилища богов пытались предать губительному и нечестивому пламени.
Если я скажу, что это я погасил его, я припишу себе чересчур много и притязания мои будут нестерпимы. Это он, это Юпитер погасил пламя; это он хотел, чтобы Капитолий, эти храмы, весь город, все вы были спасены. Я же, под водительством бессмертных богов, поставил себе эту цель, принял это решение и добыл эти столь важные улики. Право, ни Лентул, ни другие внутренние враги не стали бы с таким безрассудством подстрекать аллоброгов и, конечно, никогда не доверили бы такого важного дела неизвестным им людям и притом варварам и не вручили бы им писем, если бы бессмертные боги не отняли разума у них, полных столь преступной отваги. Как? Неужели можно допустить, что галлы, притом происходящие из не вполне покоренной общины (ведь это — единственное племя, которое может и вовсе не прочь начать войну против римского народа), пренебрегли надеждой на независимость и на огромные выгоды, которую им добровольно подали патриции, и предпочли ваше спасение своей пользе, если не предположить, что все это произошло по промыслу богов, тем более, что галлы могли нас победить, не сражаясь с нами, а лишь храня молчание?
(X, 23) Вот почему, коль скоро молебствие назначено перед ложами всех богов, отпразднуйте, квириты, эти дни вместе со своими женами и детьми; ибо много раз бессмертным богам оказывали вполне заслуженные ими и должные почести, но более заслуженных, конечно, им не было оказано никогда; ибо вы избавлены от самой мучительной и самой жалкой гибели, избавлены без резни, без кровопролития, без участия войска, без боев; вы, носящие тогу, с носящим тогу императором во главе, одержали победу. (24) И в самом деле, припомните, квириты, все раздоры между нашими гражданами — не только те, о которых вы слыхали, но также те, которые вы сами помните и видели. Луций Сулла Публия Сульпиция уничтожил[938]; Гая Мария, стража этого города, и многих храбрых мужей — одних изгнал, других казнил. Консул Гней Октавий, применив оружие, изгнал из Рима своего коллегу[939]; все это место было покрыто грудами тел и полито кровью граждан. Потом победили Цинна и Марий[940]; и вот тогда убиты были знаменитейшие мужи, и этим погашены светила государства[941]. За жестокость этой победы в дальнейшем отомстил Сулла; не стоит даже говорить, сколько граждан погибло при этом и как велики были бедствия государства. Марк Лепид[942] вступил в борьбу с прославленным и храбрейшим мужем, Квинтом Катулом; не столько гибель самого Лепида, сколько гибель многих других людей причинила горе государству. (25) Но все-таки все эти раздоры имели своей целью не уничтожение государства, а изменение государственного строя; все те люди не хотели полного уничтожения государства, но хотели главенствовать в том государстве, которое существовало. И не предать этот город огню хотели они, а наслаждаться властью в нем. (И все же всем этим смутам, из которых ни одна не имела целью уничтожить государство, был положен конец не путем восстановления согласия, а ценой истребления граждан). Напротив, во время этой войны, величайшей и жесточайшей из всех войн, происходивших на памяти людей, во время беспримерной войны, какой даже варвары никогда не вели со своим народом, во время войны, когда Лентул, Катилина, Цетег и Кассий установили правилом считать врагом всякого, кто мог бы остаться невредимым, если невредимым сохранится Рим, я предпринял, квириты, все, чтобы спасены были все вы, и, хотя ваши враги и думали, что уцелеет лишь столько граждан, сколько их спасется от беспощадной резни, а Рим уцелеет лишь настолько, насколько его не удастся уничтожить огнем, я сохранил и город, и граждан целыми и невредимыми.
(XI, 26) За эти столь великие деяния, квириты, ни награды за мужество, ни знаков почета, ни памятника в честь моих заслуг не требую я от вас. Нет, пусть этот день будет для вас памятным навеки. Я хочу, чтобы в сердцах ваших были запечатлены и сохранились все мои триумфы, все мои почетные награды, памятники славы и знаки моих заслуг. Никакой немой, никакой безмолвный памятник не порадует меня и ничто из того, чего могут добиться даже люди, менее достойные. В памяти вашей, квириты, будут жить мои деяния, в речах ваших расти, в памятниках сло́ва приобретут долговечную славу. Я думаю, судьбой назначен один и тот же срок, который, надеюсь, продлится вечно, — и для благоденствия Рима и для памяти о моем консульстве, когда в нашем государстве одновременно оказалось двое граждан, один из которых провел границы нашей державы не по земле, а по небу[943], а другой спас оплот и средоточие этой державы.
(XII, 27) Совершив эти подвиги, я нахожусь, однако, в иных условиях и в ином положении по сравнению с полководцами, которые воевали с внешними врагами, так как мне придется жить среди людей, которых я победил и смирил, между тем как их враги либо истреблены, либо покорены. Поэтому, квириты, от вас зависит, чтобы — в то время как другие получают заслуженную награду за свои подвиги — мои деяния рано или поздно не оказались пагубными для меня. Принять меры, чтобы злодейские и нечестивые замыслы преступнейших людей не могли повредить вам, было моим делом; принять меры, чтобы они не повредили мне, — дело ваше. Впрочем, квириты, мне повредить они уже не могут; ибо сильна охрана со стороны честных людей, навсегда обеспеченная мне; велик авторитет государства, который всегда будет молча защищать меня; велика сила совести — и те, которые ею пренебрегут, когда захотят посягнуть на меня, сами выступят против себя. (28) Я обладаю достаточным мужеством, квириты, чтобы не только не отступать ни перед чьей дерзкой отвагой, но, по собственному побуждению, всегда также и нападать на всех бесчестных людей. И если весь натиск внутренних врагов, отраженный мной от вас, обратится против меня одного, то вам, квириты, придется решать, в каком положении впредь окажутся те люди, которые, защищая ваше благополучие, навлекут на себя ненависть и подвергнутся всяческим опасностям. Что касается меня лично, то каких радостей в жизни мог бы я еще пожелать? Ведь не осталось никакой более высокой цели, которой стоило бы добиваться, после того как я стяжал от вас почет и славу за свою доблесть. (29) Я, конечно, и далее буду действовать так, квириты, чтобы все то, что я совершил во время своего консульства, я продолжал защищать и укреплять как частное лицо — с тем, чтобы ненависть, которую я, быть может, на себя навлек, спасая государство, обратилась против самих ненавистников, а моей славе способствовала. Словом, в своей государственной деятельности я всегда буду памятовать о том, что́ я совершил, и стараться, чтобы это представлялось совершенным мной благодаря моей доблести, а не по милости случая.
Вы же, квириты, так как уже наступила ночь, с чувством благоговения к Юпитеру, хранителю этого города и вашему, расходитесь по домам и, хотя опасность уже устранена, все же, как и в прошлую ночь, защитите их стражей и ночными дозорами. Чтобы вам не пришлось долго так поступать и чтобы вы могли наслаждаться ничем не нарушаемым миром, — об этом позабочусь я, квириты!
12. Четвертая речь против Луция Сергия Катилины [В сенате, в храме Согласия, 5 декабря 63 г. до н. э.]
(I, 1) Я вижу, отцы-сенаторы, что вы все обернулись в мою сторону и устремили на меня свои взоры. Вижу, что не только опасность, угрожающая вам и государству, но — даже если бы удалось ее устранить — также и опасность, которая угрожает мне лично, вас тревожит. Приятно мне среди бедствий и дорого в скорби видеть ваше доброе отношение ко мне. Но — во имя бессмертных богов! — отбросьте его и, забыв о моем благополучии, думайте о себе и о своих детях. Если именно мне в течение моего консульства суждено вынести все горькие беды, все страдания и муки, то я перенесу их не только мужественно, но и с радостью, лишь бы труды мои доставили вам и римскому народу славу и благоденствие.
(2) Я — тот консул, отцы-сенаторы, для которого и форум, средоточие всего правосудия, и поле, освященное консульскими авспициями, и Курия[944], высший оплот всех народов, и дом, убежище для каждого человека, и ложе, предназначенное для отдохновения[945], и, наконец, это вот почетное место всегда таили в себе смертельную опасность и козни. Обо многом я молчал, многое претерпел, во многом уступил и ценой своих тревог избавил вас от многого, внушавшего вам страх. Но теперь, коль скоро бессмертным богам угодно, чтобы я завершил свое консульство спасением вашим и римского народа от ужасов резни; ваших жен и детей, а также и дев-весталок — от жесточайших мучений; храмов и святилищ и этой прекрасной нашей общей отчизны — от губительного пламени; всей Италии — от опустошительной войны, то, какая бы участь меня ни ожидала, я готов один принять ее. И в самом деле, если Публий Лентул, основываясь на предсказаниях, решил, что его имя, по велению судьбы, станет роковым для государства[946], то почему бы мне не радоваться тому, что мое консульство, можно сказать, по велению рока, оказалось спасительным для народа? (II, 3) Поэтому заботьтесь о себе, отцы-сенаторы; думайте о будущем нашей отчизны; берегите себя, своих жен, детей и достояние; имя и благополучие римского народа защищайте, но меня щадить и обо мне думать перестаньте. Ибо я прежде всего должен надеяться на то, что все боги, покровители этого города, вознаградят меня в меру моих заслуг; затем, если что-нибудь случится, я готов умереть спокойно; ведь смерть не может быть ни позорной для храброго мужа, ни преждевременной для консуляра, ни жалкой для мудрого человека. Но я не такой уж черствый человек, чтобы меня не трогало горе присутствующего здесь[947] моего дорогого и горячо любящего брата и слезы всех этих вот людей, которые, как видите, меня окружают. Мысленно я все время переношусь в свой дом к убитой горем жене, к измученной страхом дочери и малютке-сыну[948], которого — я сказал бы — государство держит в своих объятиях как залог моей верности обязанностям консула. Переношусь мысленно также и к тому человеку, который, как я вижу, стоя вон там, ждет окончания нынешнего дня, к своему зятю[949]. Все это волнует меня, но пусть мои родные останутся невредимы вместе с вами, а не погибнут вместе с нами всеми от одной и той же моровой язвы, грозящей государству уничтожением.
(4) Поэтому, отцы-сенаторы, напрягите все свои силы ради спасения государства; подумайте обо всех бурях, с которыми мы столкнемся, если вы не примете мер предосторожности. Не Тиберий Гракх за свое желание быть избранным в народные трибуны во второй раз[950], не Гай Гракх за свою попытку призвать сторонников земельных законов к восстанию, не Луций Сатурнин за убийство Гая Меммия[951] привлечены к ответственности и отданы на ваш строгий суд. Схвачены те, кто остался в Риме, чтобы поджечь город, истребить всех вас, принять Катилину; у нас в руках их письма с печатями и собственноручными подписями; наконец, все они сознались; они подстрекали аллоброгов, рабов призывали к мятежу, Катилину призывали в Рим; коротко говоря, вот что они задумали; истребив всех, не оставить никого, кто бы мог хотя бы оплакивать римский народ и сокрушаться о гибели такой великой державы. (III, 5) Все это сообщили доносчики, в этом сознались виновные, вы сами уже признали это многими своими решениями; прежде всего — тем, что в самых лестных выражениях высказали мне благодарность и установили, что я своим мужеством и бдительностью раскрыл заговор преступников; далее тем, что вы заставили Публия Лентула отказаться от претуры; тем, что вы сочли нужным его и других, о которых вы вынесли решения, взять под стражу; но особенно тем, что вы назначили от моего имени молебствие, а этот почет ни одному должностному лицу, носящему тогу[952], до меня оказан не был; наконец, вы вчера щедро наградили послов аллоброгов и Тита Вольтурция. Все эти решения свидетельствуют о том, что люди, поименно взятые под стражу[953], без всякого сомнения, вами осуждены.
(6) Но я решил доложить вам, отцы-сенаторы, обо всем деле так, словно оно еще не начато, и просить вас вынести решение о происшедшем и назначить кару. Начну с того, что́ подобает сказать консулу. Да, я уже давно увидел, что в государстве нарастает какое-то страшное безумие, и понял что затевается и назревает какое-то зло, неведомое доселе, но я никогда не думал, что этот столь значительный, столь губительный заговор устроили граждане. Теперь во что бы то ни стало, к чему бы вы ни склонялись в своих мнениях и предложениях, вы должны вынести постановление еще до наступления ночи[954]. Сколь тяжко деяние, переданное на ваше рассмотрение, вы видите. Если вы полагаете, что в нем замешаны лишь немногие люди, то вы глубоко заблуждаетесь. Много шире, чем думают, распространилось это зло; оно охватило не только Италию, оно перешло через Альпы и, расползаясь в потемках, уже поразило многие провинции[955]. Уничтожить его отсрочками и оттяжками совершенно невозможно. Какой бы способ наказания вы ни избрали, вы должны быстро покарать преступников.
(IV, 7) Я вижу, что до сего времени внесено два предложения: одно — Децимом Силаном, который полагает, что людей, пытавшихся уничтожить наше государство, следует покарать смертью; другое — Гаем Цезарем, который отвергает смертную казнь, но предлагает любое из других тягчайших наказаний. И тот, и другой в соответствии со своим достоинством и с важностью дела проявляют величайшую суровость. Первый считает, что люди, сделавшие попытку всех нас лишить жизни, разрушить нашу державу, уничтожить имя римского народа, не должны больше ни мгновения наслаждаться жизнью и дышать этим воздухом, нашим общим достоянием; он напоминает нам, что бесчестных граждан в нашем государстве не раз подвергали каре этого рода[956]. Второй полагает, что бессмертные боги определили, чтобы смерть была не казнью, а либо законом природы, либо отдохновением от трудов и несчастий[957]. Поэтому мудрые люди всегда встречали ее спокойно, а храбрые часто даже с радостью. Но тюремное заключение и притом на вечные времена, несомненно, придумано как высшая кара за нечестивое преступление. Цезарь предлагает распределить преступников по муниципиям, но предложение это несправедливо, если муниципиям прикажут, и трудно выполнимо, если к ним обратятся с просьбой. Впрочем, если угодно, пусть будет принято такое решение. (8) Я поищу и, надеюсь, найду людей, которые сочтут несовместимым со своим достоинством отказаться от того, что вы постановите ради всеобщего благополучия. Далее Цезарь предлагает дополнительно назначить тяжкое наказание жителям муниципиев, если кто-нибудь из них окажет содействие побегу преступников. Он предусматривает строжайшее заключение, достойную кару за преступление, совершенное пропащими людьми; он устанавливает, что никто — ни по постановлению сената, ни по решению народа — не вправе облегчить кару, назначенную тем, кого он предлагает осудить, он даже отнимает у них надежду, которая только одна и утешает человека в его несчастьях. Кроме того, он предлагает продать их имущество в пользу казны; одну только жизнь сохраняет он нечестивцам; если бы он отнял у них также и ее, он сразу избавил бы их от многих страданий души и тела и от всех наказаний за злодейства. Поэтому люди древности, желая, чтобы бесчестные люди хотя бы чего-нибудь боялись при жизни, утверждали, что нечестивцам назначены в подземном царстве какие-то ужасные мучения, так как они, по-видимому, понимали, что без угрозы в виде таких наказаний смерть сама по себе не страшна.
(V, 9) Я теперь хорошо понимаю, отцы-сенаторы, какое из решений выгодно мне. Если вы последуете предложению Гая Цезаря, избравшего в своей государственной деятельности путь, считающийся защитой интересов народа, то мне, пожалуй, — при том, что это предложение вносит и защищает именно он, — в меньшей степени придется страшиться нападок сторонников народа. Если же вы последуете другому предложению, то у меня могут возникнуть значительно бо́льшие затруднения. Но все же пусть благо государства будет выше соображений о моей личной безопасности. Ведь Цезарь, как этого требовали его личное достоинство и слава его предков, внес предложение, являющееся как бы залогом его неизменной преданности государству. Стало понятным все различие между ничтожностью крикунов на народных сходках и подлинной преданностью народу и заботой о его благе. (10) Я вижу, что кое-кто из тех, которые хотят считаться сторонниками народа, не явился сюда, видимо, чтобы не выносить смертного приговора римским гражданам, а между тем те же лица отдали третьего дня римских граждан под стражу и голосовали за молебствие от моего имени, а вчера щедро наградили доносчиков; но ведь если человек голосовал за содержание заговорщиков под стражей, за вынесение благодарности должностному лицу, производившему следствие, за награждение доносчиков, то уже едва ли можно сомневаться насчет его приговора по поводу всех событий разбираемого дела. Гай Цезарь, скажут мне, хорошо понимает, что Семпрониев закон[958] касается римских граждан, но тот, кто является врагом государства, быть гражданином никак не может; наконец, сам автор Семпрониева закона понес — без повеления народа — кару за свое преступление против государства. Далее Цезарь полагает, что Лентул, несмотря на всю щедрость и расточительность, не может уже быть назван сторонником народа, коль скоро он с такой жестокостью, с такой беспощадностью задумал истребить римский народ и уничтожить этот город. Поэтому Цезарь, при всем своем мягкосердечии и благожелательности, без всяких колебаний обрекает Публия Лентула на пожизненное заключение в мрачной тюрьме и закрепляет эту кару также и на будущее время с тем, чтобы никто не мог впредь хвалиться, что облегчил это мучительное наказание, и римскому народу на погибель впоследствии выставлять себя сторонником народа. Кроме того, Цезарь предлагает продать имущество заговорщиков в пользу казны, дабы все мучения их души и тела сопровождались также бедностью и нищетой.
(VI, 11) Итак, если вы примете предложение Цезаря, то вы дадите мне для выступления на народной сходке спутника, любимого народом и угодного ему. Если же вы предпочтете последовать предложению Силана, то римский народ едва ли станет упрекать меня и вас в жестокости, а я докажу, что сама эта жестокость была проявлением мягкосердечия. Впрочем, можно ли говорить о жестокости, отцы-сенаторы, когда речь идет о наказании за такое страшное преступление? Я лично сужу на основании того, что́ чувствую сам. Да будет мне дозволено вместе с вами наслаждаться благоденствием нашего государства в такой же мере, в какой я проявляю непримиримость в этом деле, руководствуясь отнюдь не чувством жестокости (право, кто более мягкий человек, чем я?), но, напротив, исключительной, так сказать, добротой и состраданием. Мне кажется, я вижу, как наш город, светоч всего мира и оплот всех народов, внезапно уничтожается огромным пожаром; я воображаю себе лежащие в погребенной отчизне груды жалких тел непогребенных граждан; перед моими глазами встает исступленное лицо Цетега, ликующего при виде того, как вас убивают. (12) А когда я представляю себе, что Лентул царствует[959], на что он, по его собственному признанию, надеялся, ссылаясь на волю судьбы, что Габиний в пурпурном одеянии находится при нем, что Катилина привел сюда свое войско, то я содрогаюсь при мысли о стенаниях матерей, о бегстве девушек и детей, о надругательстве над девами-весталками. И так как все эти несчастья потрясают меня и внушают мне чувство сострадания, то к людям, добивавшимся этого, я буду суров и непреклонен. И в самом деле, скажите мне: если отец, глава семьи, найдя своих детей убитыми рабом, жену зарезанной, а дом сожженным, не подвергнет своих рабов жесточайшей казни, то кем сочтем мы его — милосердным ли и сострадательным или же бесчувственным и жестоким? Мне лично кажется отвратительным и бессердечным тот, кто не облегчит своих страданий и мук, покарав преступника. Таково и наше положение по отношению к этим людям, которые хотели убить нас, наших жен и детей, пытались разрушить наши дома и это государство, наше общее обиталище, старались поселить на развалинах нашего города и на пепелище сожженной ими державы племя аллоброгов: если мы будем беспощадны к ним, то нас сочтут людьми сострадательными; если же мы захотим оказать им снисхождение, то молва осудит нас за величайшую жестокость к нашей отчизне и согражданам, которым грозила гибель. (13) Или, быть может, Луций Цезарь[960], храбрейший и глубоко преданный государству муж, третьего дня показался кому-либо чересчур жестоким, когда признал, что муж его сестры, достойнейшей женщины, должен быть казнен, и заявил это в его присутствии, и также, когда он назвал законным совершенное по приказанию консула убийство своего деда[961] и смерть его юного сына, присланного отцом для переговоров и казненного в тюрьме? А между тем разве их поступки можно сравнить с виной этих людей? Разве у них было намерение уничтожить государство? Тогда в стране было стремление произвести раздачу земли и происходила, так сказать, борьба сторон. Но в то же время дед нашего Лентула[962], прославленный муж, с оружием в руках преследовал Гракха. Он тогда даже был тяжело ранен, защищая государственный строй. А вот внук его, желая разрушить устои государства, призывает галлов, подстрекает рабов, зовет Катилину, Цетегу поручает истребить нас, Габинию — перерезать других граждан, Кассию — сжечь город, Катилине — опустошить и разграбить всю Италию. Да, уж действительно вам следует опасаться, что ваше постановление о таком ужасном и нечестивом преступлении может кому-то показаться чересчур суровым! Нет, гораздо больше нам следует опасаться, как бы нам, если мы смягчим наказание, не оказаться жестокими по отношению к отечеству, а вовсе не того, что мы, проявив суровость при выборе нами кары для них, окажемся слишком беспощадны к своим заклятым врагам.
(VII, 14) Но я не могу скрыть, отцы-сенаторы, того, что мне приходится слышать. До моего слуха доносятся голоса тех, кто, видимо, сомневается, достаточно ли у меня военной силы, чтобы привести в исполнение те решения, которые вам сегодня предстоит принять. Все предусмотрено, подготовлено и устроено, отцы-сенаторы, благодаря моей величайшей заботливости и бдительности и особенно благодаря твердой решительности римского народа, желающего сохранить в своих руках высший империй и спасти достояние всех граждан. Все они находятся здесь: это люди из всех сословий, всех слоев населения, наконец, люди любого возраста; ими полон форум, полны все храмы вокруг форума, полны все пути, ведущие к этому храму и к этому месту. Со времени основания Рима это — единственное дело, в котором все вполне единодушны, за исключением тех людей, которые, видя, что они обречены на гибель, предпочли погибать вместе со всеми гражданами, а не в одиночестве. (15) Их я охотно исключаю и отделяю от всех прочих людей и думаю, что их следует относить даже не к числу бесчестных граждан, а к числу заклятых врагов. Но другие! Бессмертные боги! — как много их, с какой преданностью, с каким мужеством единодушно выступают они в защиту всеобщего благополучия и достоинства! Упоминать ли мне здесь о римских всадниках? Ведь они, если и уступают вам в сословных правах, соперничают с вами в преданности государству. После их многолетних раздоров с сенаторским сословием, нынешний день и это дело возвратили их к союзу и согласию с вами[963]; если это единение, закрепленное во время моего консульства мы сохраним в государстве навсегда, то впредь — заверяю вас — никакие внутренние гражданские распри ничем не будут угрожать государству. С таким же ревностным стремлением защищать государство, вижу я, сошлись сюда эрарные трибуны[964], храбрейшие мужи; также и все писцы, именно сегодня собравшиеся по особому случаю около эрария[965], вижу я, не стали дожидаться исхода жеребьевки и бросились на защиту всеобщего благополучия. (16) Здесь присутствуют все многочисленные свободнорожденные люди, даже беднейшие. В самом деле, найдется ли человек, которому бы эти вот храмы, вид Рима, права свободы, наконец, сам солнечный свет и почва нашего общего отечества не были дороги, более того — не казались сладостными и восхитительными? (VIII) Стоит обратить внимание, отцы-сенаторы, и на рвение, проявленное вольноотпущенниками, которые, благодаря своим заслугам приобщившись к судьбе нашего государства, считают его своей подлинной отчизной, между тем как некоторые люди, рожденные здесь и притом происходящие из знатнейших родов, сочли его не своей отчизной, а вражеским городом. Но зачем я говорю об этих сословиях и об этих людях, которых к защите отечестве побудили забота об их личном благополучии, польза государства и, наконец, свобода, самое ценное наше достояние? Раба не найдется, который — если только его положение как раба терпимо — не испытывал бы чувства ужаса перед преступностью граждан, не желал бы сохранения нынешнего положения и, насколько смеет и насколько может, не способствовал бы успеху дела всеобщего спасения. (17) Поэтому, если кого-нибудь из вас сильно беспокоят слухи о том, что какой-то сводник, сторонник Лентула бродит вокруг торговых рядов в надежде, что ему удастся путем подкупа вызвать волнения среди неимущих и неискушенных людей, то нужно сказать, что такая попытка действительно была сделана[966], но не нашлось ни одного бедняка, ни одного пропащего человека, который бы не желал сохранить в целости место, где он трудится, сидя на своей скамье, и изо дня в день зарабатывает себе на хлеб, сохранить свое жилище и свою постель, словом, свою спокойную жизнь. И действительно, огромное большинство тех, кто владеет лавками, вернее, все они (ибо это более правильно) горячо стоят за спокойствие. Ведь всякий источник существования, всякий труд и заработок поддерживаются спросом и процветают в условиях мира. Если доходы этих людей уменьшаются, когда их лавки на запоре, то что, скажите мне, будет, если эти лавки сожгут?
(18) При этих обстоятельствах, отцы-сенаторы, римский народ вас без поддержки не оставляет; но вам следует принять меры, дабы римский народ не остался без вашей поддержки. (IX) У вас есть консул, уцелевший среди многочисленных опасностей и козней, грозивших ему, вернее, спасшийся от угрожавшей ему смерти не для того, чтобы самому остаться в живых, а чтобы спасти вас. Для спасения государства объединились все сословия своими помыслами, волей, высказываниями. Наша общая отчизна, которой угрожают факелы и оружие нечестивого заговора, с мольбой простирает к вам свои руки; вам препоручает она себя, вам — жизнь всех граждан, вам — крепость и Капитолий[967], вам — алтари Пенатов, вам — вон тот неугасимый огонь Весты, вам — храмы и святилища всех богов, вам — городские стены и дома. Наконец, вам сегодня предстоит вынести приговор, от которого будет зависеть ваша жизнь, существование ваших жен и детей, достояние всех граждан, целость ваших жилищ и домашних очагов. (19) У вас есть руководитель, помнящий о вас и забывающий о себе, — случай, который не всегда бывает. Перед вами все сословия, все люди, весь римский народ и все они вполне единодушны, что в пору гражданской смуты сегодня произошло впервые. Подумайте, какими трудами была основана наша держава, какой доблестью была укреплена свобода, сколь велика милость богов, благодаря которой были созданы и накоплены эти богатства, — и всего этого едва не уничтожила одна ночь[968]. Чтобы граждане впредь не могли, не говорю уже — совершить подобную попытку, но даже помыслить о ней, вот о чем должны вы позаботиться сегодня. И я это сказал не с целью возбудить ваше рвение, — вы, пожалуй, в этом отношении даже превосходите меня — но для того, чтобы мой голос, который должен звучать как первый в государстве, соответствовал моему званию консула.
(X, 20) Теперь, прежде чем переходить к голосованию, скажу несколько слов о себе самом. Я вижу, что численность недругов, которых я приобрел, равна численности шайки заговорщиков, а она, как видите, очень велика; но недругов своих я считаю людьми презренными, слабыми и отверженными. Но даже если эта шайка при подстрекательстве со стороны какого-нибудь бешеного и преступного человека когда-либо окажется сильнее вашего авторитета и достоинства государства, то все же я, отцы-сенаторы, никогда не стану раскаиваться в своих решениях. И в самом деле, смерть, которой они, быть может, мне угрожают, ожидает нас всех, между тем таких высоких похвал, каких вы своими постановлениями удостоили меня при жизни, не достигал никто; ведь другим вы своим постановлением воздавали благодарность за подвиги, совершенные во славу государства, и только мне — за его спасение. (21) Да будет славен Сципион, благодаря мудрому руководству и доблести которого Ганнибал был вынужден покинуть Италию и возвратиться в Африку; пусть воздают высокую хвалу второму Африканскому[969], разрушившему два города, которые были злейшими врагами нашей державы, — Карфаген и Нуманцию; пусть превозносят Павла, за чьей колесницей шел один из некогда самых могущественных и самых знаменитых царей — Персей[970]; вечная слава Марию, дважды избавившему Италию от врагов и от угрозы порабощения[971]; выше всех пусть возносят Помпея, чьи подвиги и чья доблесть охватывают все страны и все пределы, какие посещает солнце[972]. Среди похвал, воздаваемых этим людям, конечно, найдется место и для моей славы, если только завоевывать для нас провинции, где мы можем расселяться, бо́льшая заслуга, чем позаботиться о том, чтобы у отсутствующих было куда возвратиться после побед. (22) Впрочем, в этом отношении победа над внешним врагом выгоднее победы над внутренним: чужеземные враги в случае своего поражения либо становятся рабами, либо, встретив милостивое отношение к себе, чувствуют себя обязанными нам; что же касается граждан, которые в своем безрассудстве однажды оказались врагами отчизны, то их — если им не дали погубить государство — невозможно ни принудить силой[973], ни смягчить милосердием. Поэтому я, как вижу, вступил с дурными гражданами в вечную войну. Но помощь ваша и всех честных людей и воспоминание об огромных опасностях, которое всегда будет храниться в преданиях и в памяти не только нашего народа, спасенного мной, но и всех племен, могут — я в этом уверен — с легкостью отразить угрозу этой войны от меня и от моих родных. И, конечно, не найдется столь великой силы, которая могла бы разорвать и поколебать ваше единение с римскими всадниками и тесный союз между всеми честными людьми.
(XI, 23) Коль скоро это так, взамен империя, взамен войска, взамен провинции, от которой я отказался, взамен триумфа и других знаков славы, отвергнутых мной из желания быть на страже благополучия Рима и вашего, взамен отношений клиентелы[974] и уз гостеприимства[975], которые я мог бы завязать в провинциях и которые я все же средствами, находящимися в моем распоряжении в Риме, оберегаю с таким же старанием, с каким их создаю, словом, взамен всего этого, в воздаяние за мое исключительное рвение, за мою всем вам ведомую бдительность, направленную на спасение государства, я ничего от вас не требую, кроме того, чтобы вы помнили об этом дне и обо всем моем консульстве; пока вы будете твердо хранить в своих сердцах память об этом, я буду считать себя за крепчайшей стеной; но если надежда меня обманет, а сила бесчестных людей восторжествует, то поручаю вам своего малолетнего сына; поистине, если вы будете помнить, что он — сын того, кто спас наше государство, подвергая опасности одного себя, то это не только охранит его от гибели, но и откроет ему путь к почестям. (24) Итак обдуманно и смело, как вы вели себя с самого начала, выносите постановление о самом существовании своем и римского народа, о своих женах и детях, об алтарях и домашних очагах, о святилищах и храмах, о домах и зданиях всего Рима, о нашей державе и свободе, о благополучии Италии, о государстве в целом. У вас есть консул, который без колебаний подчинится вашим постановлениям и, пока будет жив, сможет их защитить и сам за них постоять.
13. Речь в защиту Луция Лициния Мурены [В суде, вторая половина ноября 63 г. до н. э.]
Луций Лициний Мурена происходил из плебейского рода; высшей магистратурой его предков была претура. Он начал военную службу в первую войну с Митридатом; затем был квестором вместе с Сервием Сульпицием Руфом, своим будущим обвинителем. Эдилитет его прошел незаметно. В 74 г. он участвовал в третьей войне с Митридатом как легат Луция Лукулла. В 65 г. он был городским претором, в 64 г. — пропретором в Трансальпийской Галлии. В 62 г. он выставил свою кандидатуру в консулы на 62 г. Его соперниками были Децим Юний Силан, Сервий Сульпиций Руф, известный законовед, и Луций Сергий Катилина.
В октябре 63 г. в консулы были избраны Силан и Мурена. Сульпиций привлек Мурену к суду за домогательство незаконными путями (crimen de ambitu; см. прим. 18 к речи 2) на основании Туллиева закона. Осуждение Мурены повлекло бы за собой кассацию его избрания. Суд происходил во второй половине ноября 63 г., когда Катилина уже покинул Рим, но еще до задержания послов аллоброгов (см. вводное примечание к речам 9—12). Мурену обвиняли также и молодой Сульпиций, Гней Постум и Марк Порций Катон, избранный в трибуны на 62 г. Силан, добившийся избрания такими же средствами, что и Мурена, не был привлечен к суду. Мурену защищали Квинт Гортенсий, Марк Красс и Цицерон, говоривший последним. Суд оправдал Мурену; о его дальнейшей судьбе сведений нет.
Дошедший до нас текст речи — результат позднейшей литературной обработки; это особенно относится к остротам Цицерона. Трудность положения Цицерона усугублялась тем, что он, автор закона о домогательстве, защищал от обвинения в этом преступлении; но его задача облегчалась наличием прямой угрозы со стороны Катилины и его сторонников, оставшихся в Риме, в то время как обвинители Мурены, несмотря на это, добивались кассации избрания одного из консулов и тем самым соглашались на нарушение преемственности верховной власти.
(I, 1) О чем я молил бессмертных богов, судьи, в тот день, когда я, по обычаям и заветам предков, совершив авспиции, объявил в центуриатских комициях об избрании Луция Мурены в консулы[976], — а именно, чтобы это избрание для меня самого, для честного завершения мной своих должностных обязанностей, для римского народа и плебса[977] стало залогом благоденствия и счастья, — об этом же молю я тех же бессмертных богов и теперь, когда речь идет о том, чтобы этот человек достиг консульства и вместе с тем остался цел и невредим; молю их также и о том, чтобы ваши помыслы и ваш приговор совпали с волей и голосованием римского народа и чтобы это принесло вам и римскому народу мир, тишину, спокойствие и согласие. И если торжественное моление, совершаемое по случаю комиций и консульскими авспициями освященное, обладает такой великой силой и святостью, какой требует достоинство государства, то я вознес в нем мольбу также и о том, чтобы это избрание оказалось благоприятным, счастливым и удачным и для тех, кому под моим председательством консульство было предоставлено. (2) Итак, судьи, коль скоро бессмертные боги вам передали или, во всяком случае, с вами разделили свою власть, вашему покровительству поручает консула тот же человек, который уже поручил его бессмертным богам, — дабы Луций Мурена, одним и тем же человеком и объявленный консулом и защищаемый, сохранил оказанную ему римским народом милость на благо вам и всем гражданам.
Но так как обвинители порицают и мое рвение как защитника, и даже то, что я вообще взялся за это дело, то я, прежде чем начать свою речь в защиту Мурены, скажу несколько слов в свою собственную защиту — не потому, чтобы для меня, по крайней мере, в настоящее время, было важнее оправдаться в своей услуге, чем защитить гражданские права Луция Мурены, но для того, чтобы я, получив у вас одобрение своему поступку, с большей уверенностью мог отражать нападения недругов Луция Мурены на его избрание в консулы, на его доброе имя и все его достояние[978].
(II, 3) И прежде всего Марку Катону, который в своей жизни применяет строгое мерило разума[979] и каждую мельчайшую обязанность столь придирчиво взвешивает, отвечу я об исполнении мной своей обязанности. Катон утверждает, что мне, консулу и автору закона о домогательстве, после столь строго проведенного консульства не подобало браться за дело Луция Мурены. Порицание именно с его стороны меня глубоко волнует и заставляет взяться за оправдание своего поведения не только перед вами, судьи, перед которыми я безусловно должен это сделать, но и перед самим Катоном, мужем достойнейшим и неподкупнейшим. Скажи, Марк Катон, кто, как не консул, по всей справедливости должен защищать консула? Кто во всем государстве может или должен быть мне ближе, чем тот, чьей охране я передаю все государство, сохраненное мной ценою великих трудов и опасностей? И если в случае спора из-за вещей, подлежащих манципации, ответственность по суду должно нести лицо, взявшее на себя обязательство[980], то сохранять для избранного[981] консула милость римского народа и защищать его от грозящих ему опасностей в том случае, когда он привлечен к суду, должен, несомненно, именно тот консул, который объявлял о его избрании. (4) Более того, если бы защитник в подобном деле назначался официально, — как это принято в некоторых государствах[982], — то человеку, удостоенному высшего почета, было бы наиболее правильно дать в качестве защитника именно того, кто, будучи отмечен таким же почетом, мог бы выступить столь же авторитетно, сколь и красноречиво. И если те, кто возвращается из открытого моря, сообщают выходящим из гавани все подробности и о бурях, и о морских разбойниках, и об опасных местах (ведь сама природа велит нам принимать участие в людях, вступающих на путь таких же опасностей, какие мы сами уже испытали), то как, скажите, должен я, после продолжительных скитаний по морям видя сушу, отнестись к человеку, которому, как я предвижу, предстоит выдержать величайшие бури в государстве? Поэтому, если долг честного консула — не только видеть, что́ происходит, но и предвидеть, что́ произойдет, то я изложу в дальнейшем, как важно для всеобщего благополучия, чтобы в государстве в январские календы было два консула. (5) Поэтому не столько сознание своей личной обязанности должно было призвать меня к защите благополучия друга, сколько польза государства — побудить консула к защите всеобщей безопасности.
(III) Закон о домогательстве, действительно, провел я, но провел его, уж никак не имея в виду отмены того закона, какой я искони установил для самого себя, — защищать сограждан от грозящих им опасностей. И в самом деле, если бы я признавал, что при выборах был совершен подкуп, а в оправдание утверждал, что он был совершен законно, то я поступал бы бесчестно, даже если бы закон был предложен кем-либо другим; но коль скоро я утверждаю, что ничего противозаконного совершено не было, чем же может внесенный мною закон помешать моему выступлению как защитника?
(6) Но Катон утверждает, что я изменяю своей суровости, раз я своими речами и, можно сказать, империем[983] изгнал из Рима Катилину, который в его стенах замышлял уничтожение государства, а теперь выступаю в защиту Луция Мурены. Но ведь эту роль — мягкого и милосердного человека, которой меня обучила сама природа, я всегда играл охотно, а роли строгого и сурового не добивался[984], но, когда государство ее на меня возложило, исполнял ее так, как этого требовало достоинство моего империя в пору величайших испытаний для граждан. И если я поборол себя, когда государство ожидало от меня проявления силы и суровости, и — по воле обстоятельств, а не по своей — был непреклонен, то теперь, когда все призывает меня к состраданию и к человечности, сколь покорно должен я повиноваться голосу своей натуры и привычки! О своем долге как защитника и о твоих соображениях как обвинителя мне, пожалуй, придется говорить и в другой части своей речи.
(7) Но меня, судьи, не менее, чем обвинение, высказанное Катоном, тревожили сетования мудрейшего и виднейшего человека. Сервия Сульпиция, которого, по его словам, глубоко огорчило и опечалило то, что я, забыв о тесных дружеских отношениях между нами, выступаю против него и защищаю Луция Мурену. Перед ним, судьи, я хочу оправдаться, а вас привлечь в качестве третейских судей. Ибо, если тяжело, когда тебя заслуженно обвиняют в пренебрежении дружбой, то оставлять это без внимания не следует, даже если тебя обвиняют незаслуженно. Да, Сервий Сульпиций, я признаю, что, ввиду дружеских отношений между нами, я во время твоего соискания должен был оказывать тебе всяческое содействие и услуги, и думаю, что я их тебе оказал. Добиваясь консульства, ты не испытывал недостатка в услугах, каких можно было требовать и от друга, и от влиятельного человека, и от консула. То время прошло; положение изменилось. Вот что я думаю, вот в чем я твердо убежден: противодействовать избранию Луция Мурены на почетную должность я должен был в такой мере, в какой ты от меня этого требовал, но выступать против него, когда дело идет о его гражданских правах, я отнюдь не должен. (8) Ведь если тогда, когда ты метил в консулы, я тебя поддержал, то теперь, когда ты в самого Мурену метишь, я не должен помогать тебе таким же образом. Более того, не только не похвально, но даже и вовсе не допустимо, чтобы мы — из-за того, что обвинение предъявлено нашими друзьями, — не защищали даже совершенно чужих нам людей.
(IV) Между тем, судьи, меня с Муреной соединяет тесная и давняя дружба, от которой, во время борьбы из-за его гражданских прав, Сервий Сульпиций не заставит меня отказаться потому только, что он же одержал над этой дружбой победу в споре за избрание. Но даже не будь этой причины, все же ввиду высоких достоинств самого обвиняемого и ввиду великого значения достигнутых им должностей меня заклеймили бы как человека высокомерного и жестокого, если бы я отказался вести дело, столь опасное для того, кто широко известен как своими личными заслугами, так и почетными наградами, полученными им от римского народа. Ведь мне теперь не подобает (да я в этом и не волен) уклоняться от помощи людям, находящимся в опасном положении. Коль скоро беспримерные награды[985] были мне даны именно за эту деятельность, я, по моему мнению, … [Лакуна.] отказываться от тех трудов, благодаря которым они были получены, значит быть лукавым и неблагодарным человеком. (9) И если бы можно было перестать трудиться, если бы я мог это сделать на твою ответственность, не навлекая этим на себя ни осуждения за леность, ни постыдных упреков в высокомерии, ни обвинения в бесчеловечности, то я, право, готов сделать это. Но если стремление бежать от труда свидетельствует о нерадивости, отказ принимать просителей — о высокомерии, пренебрежение к друзьям — о бесчестности, то как раз это судебное дело, бесспорно, таково, что ни один деятельный, ни один сострадательный, ни один верный своему долгу человек не может от него отказаться. Представление об этом деле ты, Сервий[986], очень легко составишь себе на основании своей собственной деятельности. Ибо раз ты считаешь необходимым давать разъяснения даже противникам своих друзей, обращающимся к тебе за советом по вопросам права, и находишь позорным для себя, если после обращения обеих сторон к тебе тот, против кого ты выступишь, проиграет дело по формальным причинам[987], то не будь столь несправедлив, чтобы, в то время как твои родники открыты даже для твоих недругов, полагать, что мои должны быть закрыты даже для моих друзей. (10) И в самом деле, если бы дружеские отношения между тобой и мной помешали мне вести это дело и если бы то же самое произошло с прославленными мужами Квинтом Гортенсием и Марком Крассом, а также и с другими людьми, которые, как мне известно, высоко ценят твое расположение, то избранный консул был бы лишен защитника в том самом государстве, где, по воле наших предков, самый незначительный человек должен иметь защитника в суде. Да я, судьи, право, сам признал бы себя нарушившим божеский закон, если бы отказал в помощи другу, жестоким — если бы отказал несчастному человеку, высокомерным — если бы отказал консулу. Итак, долг перед дружбой будет выполнен мной в полной мере; против тебя, Сервий, я буду выступать так же, как я выступал бы, если бы на твоем месте был мой горячо любимый брат[988]; а о том, о чем я должен буду говорить в силу своей обязанности и верности слову, следуя совести, я буду говорить сдержанно, памятуя, что выступаю против одного друга, защищая другого, находящегося в опасном положении.
(V, 11) Я знаю, судьи, что все обвинение состояло из трех частей; одна из них содержала порицание образа жизни Луция Мурены; другая относилась к спору из-за высокой чести; третья заключала обвинение в незаконном домогательстве. Первая из них, которая должна была быть самой главной, оказалась настолько слабой и незначительной, что наши противники, говоря о прошлой жизни Луция Мурены, по-видимому, скорее следовали каким-то правилам, общепринятым у обвинителей, чем приводили действительные основания для хулы. Так, ему ставили в вину его пребывание в Азии; но ведь он отправился туда не ради наслаждений и излишеств, а прошел ее, участвуя в походах. Если бы он, юношей, не стал служить под начальством своего отца-императора, можно было бы подумать, что он испугался врага или же империя своего отца, или что он был отцом уволен от службы. Или, быть может, в то время как существует обычай, чтобы именно сыновья, носящие претексту, ехали верхами на конях триумфаторов[989], ему следовало уклониться от возможности украсить своими воинскими отличиями триумф отца, как бы справляя триумф вместе со своим отцом после совместно совершенных подвигов? (12) Да, судьи, он действительно был в Азии и отцу своему, храбрейшему мужу, был помощником в опасностях, опорой в трудах, радостью при победах. И если само пребывание в Азии вызывает подозрение в распущенности, то человека следует хвалить не за то, что́ он Азии никогда не видел, а за то, что жил в Азии воздержно. Поэтому Мурену можно было бы попрекать не словом «Азия», коль скоро именно она доставила почет его ветви рода, известность всему его роду, честь и славу его имени, а какими-нибудь отвратительными, позорными пороками, которым он научился в Азии или из Азии вывез. Напротив, нести службу во время войны, не только весьма трудной, но и исключительно опасной, которую тогда вел римский народ, было делом доблести; прослужить с величайшей охотой под началом отца — проявлением сыновнего долга; закончить военную службу одновременно с победой и триумфом отца — велением счастливой судьбы. Поэтому злоречью здесь места нет; все говорит о славе.
(VI, 13) Плясуном[990] называет Луция Мурену Катон. Даже если этот упрек справедлив, то это — бранное слово в устах яростного обвинителя; но если он не заслужен, то это — брань хулителя. Поэтому ты, Марк, пользуясь таким авторитетом, не должен подхватывать оскорбительные выкрики на перекрестках или брань фигляров и необдуманно называть консула римского народа плясуном; следует подумать, какими иными пороками должен страдать тот, кому можно по справедливости бросить такой упрек. Ибо никто, пожалуй, не станет плясать ни в трезвом виде, разве только если человек не в своем уме, ни наедине, ни на скромном и почетном пиру. Нет, напротив, на рано начинающихся пирушках[991] наслаждения и многочисленные развлечения под конец сопровождаются пляской. Ты же ставишь ему в вину тот порок, который всегда является самым последним, и упускаешь из вида те, без которых он вообще не возможен. Ты не указываешь нам ни на непристойные пирушки, ни на любовные связи, ни на попойки, ни на сладострастие, ни на расточительность и, не найдя того, что подразумевают под словом «наслаждение» (хотя было бы вернее все это называть пороком), ты, не обнаружив подлинного разврата, рассчитываешь обнаружить тень развращенности? (14) Итак, о жизни Луция Мурены нельзя сказать ничего предосудительного, повторяю, решительно ничего, судьи! Я защищаю избранного консула, исходя из того, что на протяжении всей его жизни нельзя заметить ни обмана с его стороны, ни алчности, ни вероломства, ни жестокости, ни одного грубого слова. Вот и отлично; основания для защиты заложены. Я, еще не прибегая к похвалам (что я сделаю впоследствии), но, можно сказать, основываясь на словах самих недругов Луция Мурены, утверждаю в его защиту, что он честный муж и неподкупный человек. Раз это установлено, мне легче перейти к вопросу о соискании почетной должности, то есть ко второй части обвинения.
(VII, 15) Ты, Сервий Сульпиций, — я это знаю — весьма родовит, неподкупен, усерден и обладаешь всеми другими достоинствами, дающими право приступить к соисканию консульства. Равные качества я усматриваю также и у Луция Мурены и притом настолько равные, что ни ты не мог бы победить его, ни он не превзошел бы тебя своими достоинствами. К роду Луция Мурены ты отнесся с пренебрежением[992], а свой род превознес. Что касается этого вопроса, то, если ты решаешься утверждать, что никто, кроме патрициев, не может принадлежать к уважаемому роду, ты, пожалуй, добьешься того, что плебс снова удалится на Авентин[993]. Но если существуют известные и уважаемые плебейские ветви родов, то я скажу, что прадед и дед Луция Мурены были преторами, а его отец, с величайшей славой и почетом справив триумф после своей претуры, тем самым подготовил ему исходную позицию[994] для достижения консульства: ведь консульства, уже заслуженного отцом, добивался его сын. (16) Но твоя знатность, Сервий Сульпиций, хотя она и необычайно высока, все же более известна образованным людям и знатокам старины, а народ и сторонники во время выборов знают о ней гораздо меньше. Ведь отец твой был римским всадником, дед особыми заслугами не прославился. Поэтому доказательства твоей знатности приходится разыскивать не в толках современников, а в пыли летописей. Вот почему лично я всегда причисляю тебя к нашим людям[995], так как тебя, сына римского всадника, благодаря твоей доблести и усердию все же считают достойным высшей должности в государстве. Мне никогда не казалось, что Квинт Помпей[996], новый человек и храбрейший муж, обладал меньшей доблестью, чем знатнейший Марк Эмилий[997]. И в самом деле, столь же великое мужество и ум требуются и для того, чтобы передать своим потомкам славу своего имени, ни от кого не полученную, как сделал Помпей, и для того, чтобы обновить своей доблестью почти изгладившуюся память о своем роде, как поступил Скавр.
(VIII, 17) Впрочем, я сам думал, судьи, что трудами своими я добился того, что многих храбрых мужей уже перестали попрекать их незнатностью. Ведь сколько бы ни упоминали, уже не говорю — о Куриях[998], Катонах[999] и Помпеях, храбрейших мужах древности, которые были новыми людьми, но даже о живших недавно — о Мариях[1000], Дидиях, Целиях[1001], они все-таки оставались в пренебрежении. Но когда я, после такого большого промежутка времени, сломал воздвигнутые знатью преграды — с тем, чтобы впредь доступ к консульству был, как во времена наших предков, открыт для доблести столь же широко, как и для знатности, — я не думал, что если консул, сын римского всадника, будет защищать избранного консула, вышедшего из древней и знаменитой ветви рода, то обвинители станут говорить о незнатности его происхождения. И в самом деле, ведь мне самому пришлось участвовать в соискании вместе с двоими патрициями, из которых один был подлейшим и наглейшим человеком, а другой — скромнейшим и честнейшим мужем; все же благодаря своему достоинству, я взял верх над Катилиной, благодаря известности — над Гальбой. И если бы именно это следовало ставить в вину новому человеку, у меня, конечно, не оказалось бы недостатка ни в недругах, ни в ненавистниках. (18) Перестанем же говорить о происхождении; в этом отношении они оба очень достойные люди; рассмотрим другие обстоятельства.
«Квестуры он добивался вместе со мной, но я был избран раньше, чем он». — Не на все сто́ит отвечать. Ведь всякий из вас понимает, что, когда избираются многие люди, равные между собой по своему достоинству, причем занять первое место может только один из них, то при установлении порядка, в каком объявляется об их избрании, не руководствуются оценкой их достоинства, так как объявление происходит по очереди, достоинство же очень часто у всех одинаково. Но квестура каждого из вас была, в силу жребия, можно сказать, одинаковой значимости. Мурене, на основании Тициева закона, выпала тихая и спокойная деятельность, тебе же — такая, которую при метании жребия квесторами даже встречают возгласами, — квестура в Остии, приносящая мало влияния и известности, но много трудов и тягот[1002]. Во время этой квестуры ни об одном из вас не было слышно ничего; ибо жребий не предоставил вам такого поля деятельности, чтобы ваша доблесть могла проявиться и обратить на себя внимание.
(19) Последовавшее за этим время делает сравнение между вами возможным. Вы провели его далеко не одинаково. (IX) Сервий вместе с нами нес свою службу здесь в Риме, давая разъяснения, составляя формулы, охраняя интересы людей; все это чревато тревогами и огорчениями; он изучил гражданское право, не спал много ночей, трудился, был к услугам многих, терпел их глупость, выносил их высокомерие, страдал от их тяжелого нрава, жил, сообразуясь с мнением других, а не со своим собственным. Велика эта заслуга и достойна благодарности людей — когда один человек трудится в области такой науки, которая может принести пользу многим. (20) А что по тем временам делал Мурена? Был легатом храбрейшего и мудрейшего мужа, выдающегося императора Луция Лукулла. Во время этого легатства он начальствовал над войском, дал ряд сражений, вступал в рукопашный бой, разбил полчища врагов, взял города: одни приступом, другие после осады. Твою пресловутую Азию, богатейшую и располагающую к изнеженности, он прошел, не оставив в ней ни следов своей алчности, ни следов своей развращенности; в течение тяжкой войны Мурена сам совершил много великих подвигов без участия своего императора, но император без него ни одного подвига не совершил. Хотя я говорю это в присутствии Луция Лукулла, все же, дабы не казалось, что он сам ввиду опасного положения, в каком мы находимся, позволил нам прибегнуть к вымыслу, я скажу, что все это удостоверено записями, где Луций Лукулл уделяет Мурене столько похвал, сколько император, далекий как от честолюбия, так и от зависти, должен был воздать другому, делясь с ним славой.
(21) Итак, они оба, Сервий Сульпиций и Мурена, пользуются исключительным почетом, оба занимают выдающееся положение; последнее я, с разрешения Сервия, готов признать равным и воздать им обоим одинаковую хвалу. Но он этого не разрешает; он поносит военную службу, хулит все это легатство и полагает, что наша постоянная деятельность и эти наши повседневные труды в Риме должны быть увенчаны именно консульством. «Ты, — говорит он, — станешь проводить время при войсках; на протяжении стольких лет не ступишь ногой на форум; будешь отсутствовать так долго, а когда ты после большого промежутка времени возвратишься, то с этими вот людьми, которые, можно сказать, на форуме жили, еще станешь спорить о занятии высокой должности?» Во-первых, что касается этого нашего постоянного присутствия, Сервий, то ты не знаешь, как оно порой надоедает людям, как оно им докучает. Правда, мне лично оно пошло на пользу: люди обычно благоволят к тем, кто у них постоянно на глазах; пресыщение моим присутствием мне все же удалось преодолеть своим большим усердием и тебе, быть может, тоже. Но все-таки, если бы люди заметили отсутствие каждого из нас, то это отнюдь не повредило бы нам.
(22) Но, оставив все это, вернемся к сравнению двух занятий и двух наук. Можно ли сомневаться в том, что слава воинских подвигов в гораздо большей степени, чем слава законоведа, способствует избранию в консулы? Ты не спишь ночей, чтобы давать разъяснения по вопросам права; он — чтобы вовремя прибыть с войском в назначенное место; тебя будит пение петухов[1003], его — звуки труб; ты составляешь жалобу, он расставляет войска; ты предупреждаешь проигрыш дел твоими доверителями, он — потерю городов и лагеря; он умеет отвратить нападение войска врагов, ты — отвести дождевую воду[1004]; он привык расширять рубежи, ты — их проводить[1005]. Скажу, что́ думаю: воинская доблесть, бесспорно, превосходит все остальные. (X) Это она возвысила имя римского народа; это она овеяла наш город вечной славой; это она весь мир подчинила нашей державе. Все городские дела, все наши прославленные занятия и эта наша хваленая деятельность на форуме находятся под опекой и защитой воинской доблести. При малейшей угрозе чрезвычайного положения[1006] наши науки умолкают.
(23) И так как ты, мне кажется, лелеешь свою науку о праве, словно это твоя дочурка, то я не позволю тебе и далее быть в таком заблуждении и считать те пустяки, которые ты изучил ценой таких усилий, чем-то столь высоким и славным. Я лично всегда считал тебя, ввиду твоих других высоких качеств — воздержности, строгости правил, справедливости, честности и всего прочего, — вполне достойным консульства и всяческого почета. Что же касается изучения гражданского права, то я не стану говорить, что ты затратил свой труд попусту, но скажу, что эта наука вовсе не является надежным путем к консульству. Ибо все виды деятельности, которые могут привлечь к нам благосклонность римского народа, должны обладать высоким достоинством и приносить людям желанную пользу.
(XI, 24) Более всех других пользуются уважением люди с выдающимися воинскими заслугами; по общему мнению, они защищают и укрепляют все то, от чего зависят наше владычество и существование государства; они также и приносят величайшую пользу, так как только ввиду их мудрости и ценой опасностей, угрожающих им, мы можем пользоваться благами государственной жизни и своим собственным имуществом. Важна также и высоко ценится способность, часто имевшая значение при избрании консула, — умение своей разумной речью увлечь за собой и сенат, и народ, и людей, творящих суд. Людям нужен консул, который своей речью мог бы иногда обуздать бешенство трибунов, возбуждение в народе успокоить, подкупу дать отпор. Не удивительно, что, благодаря этой способности, консульства часто достигали даже люди незнатные — тем более, что именно она приносит им благоволение толпы, создает самые прочные дружеские отношения и обеспечивает всеобщее расположение. Между тем в вашем хитроумном ремесле, Сульпиций, ни одного из этих преимуществ нет.
(25) Во-первых, в такой сухой науке никакого достоинства, внушающего уважение, быть не может; ибо она в мелочах, можно сказать, цепляющихся за отдельные буквы и разделения слов. Во-вторых, даже если занятия эти во времена наших предков и вызывали восхищение, то ныне, после разглашения ваших мистерий, они с презрением отвергнуты. Является ли тот или иной день судебным, некогда знали только немногие люди; ведь фасты еще не были всеобщим достоянием. Те люди, у которых получали подобные разъяснения, были очень могущественны; ибо у них, словно это были халдеи, старались разузнать также и о том или ином деле. Нашелся какой-то писец, Гней Флавий[1007]; он выколол воронам глаза[1008], сделал фасты достоянием народа, чтобы народ мог ознакомиться с особенностями каждого дня, и похитил премудрость законоведов из их собственных книжных ларей. И вот они, охваченные гневом, опасаясь, что, с разглашением сведений об особенностях разных дней, можно будет вести судебные дела также и без их участия, составили ряд формул, чтобы иметь возможность самим вмешиваться во все.
(XII, 26) Можно, например, прекраснейшим образом вести дело так: «Это сабинское имение принадлежит мне». — «Нет, мне». Затем происходит суд. Но они не захотели сделать так. «Имение, — говорят они, — находящееся в области, которая называется Сабинской,…» Уже это достаточно многословно. Но что же дальше? «Имение это я, на основании квиритского права[1009], объявляю принадлежащим мне». Что же еще далее? «Предлагаю тебе выйти отсюда и из суда для схватки»[1010]. Ответчик не знал, что и отвечать такому болтливому сутяге. Этот же законовед переходит на другую сторону, уподобляясь флейтисту-латинянину[1011]. «Откуда ты меня, — говорит он, — вызвал для схватки, оттуда я, в свою очередь, зову тебя». Но, дабы претор между тем не воображал, что он может пребывать в полном спокойствии, и мог сказать что-нибудь и от себя, также и для него была составлена формула, бессмысленная как во всем, так особенно вот в чем: «В присутствии свидетелей обеих сторон я вам указываю дорогу; ступайте!» Тут как тут был и тот самый сведущий в праве человек, готовый указать предстоящий им путь. «Вернитесь!» Они и возвращались под его водительством. Уже тогда, во времена знаменитых бородачей[1012], пожалуй, казалось смешным, что людям, после того как они уже стояли именно там, где следовало, велят уйти, чтобы тотчас возвратиться туда же, откуда они ушли. Все это затемнено такими же нелепостями: «Так как я вижу тебя перед судом, …», а также: «Готов ли ты сказать, на каком основании ты заявил притязания?» Пока все это держалось в тайне, в силу необходимости обращались к тем, кто ведал этим. Но после того, как все это стало всеобщим достоянием и оказалось у всех в руках и на устах, оно было признано лишенным малейшего здравого смысла, но преисполненным обмана и нелепостей. (27) Хотя законы и установили много прекрасных правил, большинство из них было извращено и искажено выдумками законоведов. Предки наши признали нужным отдавать всех женщин, ввиду их неразумия, под власть опекунов; законоведы изобрели таких опекунов, которые подпадали под власть женщин. Предки наши повелели сохранять священнодействия неприкосновенными. Законоведы, в своей находчивости, с целью уничтожения священнодействий нашли стариков для коемпции[1013]. Словом, во всем гражданском праве они отказались от справедливости и стали хвататься за точное значение слов; так, коль скоро они — приведем пример — нашли имя Гаи в чьих-то книгах, они сочли, что всех женщин, вступающих в брак путем коемпции, зовут Гаями[1014]. Я, право, склонен удивляться, как такое множество умных людей по прошествии скольких лет и поныне не может решить, как следует говорить: «на третий день» или «послезавтра», «судья» или «арбитр», «дело» или «тяжба»?
(XIII, 28) Поэтому, как я уже говорил, достоинства, подобающего консулу, никогда не могла придать эта ваша наука, всецело основанная на вымыслах и крючкотворстве; возможности снискать расположение народа она и подавно не давала. Ибо то, что открыто для всех и в равной степени доступно и мне, и моему противнику, никогда не может привлечь людскую благодарность. Поэтому вы уже утратили не только надежду обязать кого-либо своей услугой, но также и некогда существовавшую возможность применять формулу: «Нельзя ли посоветоваться?» Ученым не может быть признан тот, кто занимается такой наукой, которая не имеет силы ни где бы то ни было вне Рима, ни в самом Риме после отсрочки разбора дел. Искушенным в ней никто не может считаться потому, что в вопросах, известных всем, расходиться никоим образом не возможно. Трудным же предмет этот нельзя считать потому, что он изложен в нескольких вполне ясных списках. Поэтому, если вы меня выведете из себя, то, как я ни занят, я через три дня объявлю себя законоведом. И в самом деле, тяжбы, которые ведутся по формулам, все записаны, причем не найти такой точной записи, к которой бы я не мог прибавить: «То, о чем ведется дело,…» Что касается устных заключений, то они даются без малейшего риска. Если ты ответишь то, что надо, будет казаться, что ты ответил то же, что ответил бы и Сервий; если — не так, все же покажется, будто ты сведущ в праве и в ведении тяжб.
(29) По этой причине не только военную славу, о которой я говорил, следует поставить выше ваших формул и ваших судебных дел; нет, также и привычка произносить речи имеет, при соискании почетных должностей, гораздо большее значение, чем ваша сноровка. Поэтому многие люди, мне думается, сначала стремились к ораторскому искусству, но впоследствии, когда им не удалось им овладеть, скатились именно к твоему занятию. У греков, говорят, в качестве авледа выступает тот, кто не мог сделаться кифаредом[1015]; так и мы видим, что люди, которым не удалось стать ораторами, обращаются к изучению законоведения. Великих трудов требует красноречие, велика его задача, великое достоинство оно придает, огромно его влияние, и действительно, у вас ищут, так сказать, некоторых спасительных советов, а у ораторов — самого спасения. Затем, ваши заключения и решения часто опровергаются силой красноречия и без защиты оратора прочными быть не могут. Если бы я достаточно преуспел в этом искусстве, я восхвалял бы его более сдержанно; но теперь я говорю не о себе, а о великих ораторах наших дней или прошлого.
(XIV, 30) Человеку могут доставить наиболее высокое положение заслуги двух родов: великого императора и великого оратора. Последний оберегает блага мирной жизни, первый отвращает опасности войны. Но и другие доблести сами по себе имеют большое значение; таковы справедливость, верность слову, добросовестность, воздержность. Качествами этими ты, Сервий, как все знают, обладаешь в полной мере; но я теперь рассуждаю о занятиях, приносящих почет, а не о личных достоинствах, присущих каждому. Первый же звук трубы, призывающей к оружию, отрывает нас от этих занятий. И в самом деле, как сказал выдающийся поэт и свидетель надежный[1016], с объявлением войны «изгнана прочь» не только ваша поддельная многословная ученость, но даже и сама владычица мира — «мудрость»; «решается дело насильем»; «оратор презрен», не только докучливый и болтливый, но даже «честный»; «в почете воитель свирепый», а ваше занятие теряет всякое значение:
Не идут из суда, чтобы длань наложить, но булатом Вещь отнимают свою, —говорит поэт. Коль скоро это так, Сульпиций, то форум, мне думается, должен склониться перед лагерем, мирные занятия — перед военным делом, стиль[1017] — перед мечом, тень — перед солнцем. Словом, да будет в государстве на первом месте та наука, благодаря которой само государство первенствует над всеми другими.
(31) Но Катон хочет доказать, что мы в своих высказываниях преувеличиваем значение этих событий и забыли, что в течение всей той памятной нам войны против Митридата сражались с бабенками. Я совершенно не согласен с ним, судьи, но рассмотрю этот вопрос вкратце, коль скоро дело не в этом. Если все те войны, которые мы вели против греков, заслуживают пренебрежения, то ведь можно осмеять также и триумфы, которые были справлены, когда Маний Курий одержал победу над царем Пирром, Тит Фламинин — над Филиппом, Марк Фульвий — над этолянами, Луций Павел — над царем Персеем, Квинт Метелл — над Лже-Филиппом, Луций Муммий — над коринфянами[1018]. Но если войны эти были очень тяжки для нас, а победы, одержанные во время их, весьма радостны, то почему же народы Азии и, в частности, памятный нам враг[1019] вызывают у тебя презрение? Ведь из летописей о событиях прошлого я вижу, что одной из важнейших войн, какие вел римский народ, была война с Антиохом. Луций Сципион, победитель в этой войне[1020], приобрел славу, равную славе своего брата Публия, и если слава последнего, завоевавшего Африку, запечатлена в самом его прозвании, то первый стяжал такую же славу, отмеченную названием «Азия». (32) Именно во время этой войны особенно прославился своей доблестью Марк Катон, твой прадед[1021]; коль скоро он был таким, каким я его себе представляю и каким вижу тебя, то он никогда не отправился бы туда вместе с Глабрионом, если бы думал, что ему придется сражаться с бабенками. Да и сенат, право, не стал бы предлагать Публию Африканскому выехать вместе с братом в качестве легата, — после того как он недавно, выгнав Ганнибала из Италии, вытеснив его из Африки, сокрушив мощь Карфагена, избавил государство от величайшей опасности, — если бы эту войну не считали трудной и опасной.
(XV) Но если ты хорошенько подумаешь, каково было могущество Митридата, что́ он совершил и каким он был человеком, то ты, бесспорно, поставишь этого царя выше всех других царей, с которыми римский народ вел войны. Ведь именно с ним Луций Сулла, сражаясь во главе многочисленного и храбрейшего войска, будучи сам отважным и испытанным императором и далеко не новичком (не говорю уже обо всем прочем), заключил мир после того, как Митридат распространил военные действия на всю Азию[1022]. Ведь именно с ним Луций Мурена, отец обвиняемого, сражался с величайшей неутомимостью и бдительностью и вытеснил его почти отовсюду, но не уничтожил. Этот царь, затратив несколько лет на составление плана войны и на подготовку средств для ее ведения, зашел в своих надеждах и попытках так далеко, что рассчитывал соединить Океан с Понтом, а войска Сертория со своими[1023]. (33) Когда для ведения этой войны послали обоих консулов[1024] с тем, чтобы один из них преследовал Митридата, а другой защищал Вифинию, то неудачи, постигшие одного из них на суше и на море, сильно способствовали усилению царя и росту его славы. Но успехи Луция Лукулла были так велики, что едва ли можно припомнить более значительную войну, которая бы велась с бо́льшим искусством и мужеством. Когда во время военных действий весь удар пришелся на крепостные стены Кизика, причем Митридат предполагал, что город этот будет для него дверью в Азию и что он, взломав и сорвав ее, откроет себе путь во всю провинцию, то Лукулл повел все действия так, что город наших преданнейших союзников был защищен, а все силы царя, вследствие длительной осады, истощились. А тот морской бой под Тенедосом, когда вражеский флот, под начальством рьяных начальников, окрыленный надеждами и уверенностью в победе, стремился прямо в сторону Италии?[1025] Разве это была легкая битва и незначительная схватка? Не буду говорить о сражениях, обойду молчанием осаду городов. Митридат, наконец, изгнанный нами из его царства, все же был настолько силен своей изворотливостью и влиянием, что он, заключив союз с царем Армении, получил новые средства и свежие войска.
(XVI) Если бы мне теперь предстояло говорить о подвигах наших войск и нашего императора, я мог бы назвать множество величайших сражений; но речь не об этом. (34) Я утверждаю одно: если бы война эта, если бы этот враг, если бы сам этот царь заслуживали пренебрежения, то ни сенат, ни римский народ не сочли бы нужным уделять им столько внимания, не вел бы этой войны в течение стольких лет и с такой славой Луций Лукулл, а римский народ с таким воодушевлением не поручил бы, конечно, Гнею Помпею завершить эту войну. Из многих сражений, данных Помпеем, — а им нет числа — пожалуй, самым страшным кажется мне то сражение, которое он дал самому царю: оно отличалось необычайным ожесточением[1026]. Когда царь вырвался из этого сражения и бежал в Боспор, куда наше войско дойти не могло, он, даже потерпев величайшие неудачи, и в бегстве своем все же сохранил за собой царский сан. Поэтому Помпей, уже овладев самим царством и вытеснив врага со всего побережья и из всех значительных поселений, придавал, однако, жизни одного этого человека величайшее значение; даже одерживая победу за победой, захватывая все, что Митридат уже держал в руках, что он покорил, на что рассчитывал, Помпей тем не менее полагал, что война будет завершена только после того, как Митридат будет вынужден расстаться с жизнью. И такого врага, ты, Катон, презираешь, врага, с которым в течение стольких лет, в стольких сражениях, столько императоров вело войны, врага, которому, пока он был жив, хотя и был выгнан и вытеснен отовсюду, придавали такое важное значение, что сочли войну законченной только после известия о его смерти? И вот, в этой войне, утверждаю я, Луций Мурена проявил себя как легат в высшей степени храбрый, необычайно предусмотрительный, исключительно выносливый, и эти его труды дали ему не в меньшей степени право стать консулом, чем нам — наша деятельность на форуме.
(XVII, 35) Но, скажут нам, при избрании их обоих преторами первым был объявлен Сервий[1027]. Вы так упорно обращаетесь к народу, словно действуете на основании долговой расписки, — точно народ при замещении следующий должности обязан предоставлять ее в той же очередности, в какой он уже однажды предоставил ее тому или другому лицу. Но в каком проливе, в каком Еврипе[1028] увидите вы такое движение воды, такое сильное и столь непостоянное волнение и перемену течений, чтобы их можно было сравнить с потрясениями и бурями в комициях? Пропущенный день или протекшая ночь часто расстраивает все, и самый ничтожный слух нарушает иногда все расчеты. Часто, даже без всякой видимой причины, исход выборов не соответствует нашим ожиданиям, так что иногда народ даже удивляется тому, что совершилось, как будто не сам он это совершил. (36) Нет ничего менее надежного, чем толпа, ничего более темного, чем воля людей, ничего более обманчивого, чем весь порядок выборов. Кто думал, чтобы Луция Филиппа, при его выдающемся уме, заслугах, влиянии, знатности, мог победить Марк Геренний; чтобы над Квинтом Катулом, человеком редкостного образования, мудрости и бескорыстия, мог взять верх Гней Маллий; чтобы Марка Скавра, человека строжайших правил, выдающегося гражданина, достойнейшего сенатора, мог победить Квинт Максим[1029]. Такого исхода не предполагали; более того, даже когда это случилось, никто не мог понять, почему так случилось. Ибо, если бури часто вызываются каким-либо определенным созвездием, а часто разражаются неожиданно и необъяснимо, и причины их остаются скрытыми, то и при этой народной буре в комициях часто можно понять, под какой звездой она возникла; часто же причина ее настолько темна, что она кажется возникшей случайно.
(XVIII, 37) Все же — если нужно привести объяснение — при соискании претуры не было налицо двух обстоятельств, которые оба впоследствии очень помогли Мурене при соискании консульства: одним было ожидание игр, усиливавшееся в связи с какими-то слухами, которые старательно раздували его соперники; другим — что те лица, которые в провинции и во время его легатства все были свидетелями его благородства и мужества, в то время еще не возвратились в Рим[1030]. Оба эти обстоятельства счастливая судьба приберегла ему ко времени соискания консульства. Ибо войско Луция Лукулла, которое собралось для триумфа, было к услугам Луция Мурены во время комиций, и те великолепные игры, которые не состоялись во время соискания им претуры, были устроены им уже во время самой претуры[1031]. (38) Неужели тебе кажется слабой помощью и поддержкой при выборах в консулы приязнь солдат, имеющая значение и сама по себе как вследствие их многочисленности, так и ввиду их влияния на близких, — тем более, что при провозглашении консула голоса солдат оказывают огромное влияние на весь римский народ. Ведь во время консульских комиций избирают императоров, а не истолкователей слов. Поэтому большой вес имеют такие заявления «Я был ранен, а он спас мне жизнь»; «Со мной он поделился добычей»; «Под его начальством мы взяли лагерь, вступили в бой»; «Он никогда не заставлял солдат переносить больше трудностей, чем терпел сам»; «Он столь же храбр, сколь и удачлив». Как все это, по-твоему, действует на людскую молву и волю? И в самом деле, если в этих комициях укоренилась такая сильная богобоязненность, что и поныне голосование первоочередной центурии[1032] всегда признается знамением, то следует ли удивляться, что при избрании Луция Мурены оказали влияние молва и толки о его счастливой судьбе?
(XIX) Но если то, что является очень важным, ты считаешь незначительным и если голоса городских жителей ты ставишь выше голосов солдат, не вздумай смотреть свысока на красоту игр, устроенных Муреной и на великолепие сцены: все это принесло ему большую пользу. Стоит ли мне говорить, что народ и неискушенная толпа наслаждаются играми? Этому совершенно нечего удивляться; впрочем, нашему делу это идет на пользу; ведь комиции принадлежат народу и толпе. Поэтому, если великолепие игр услаждает народ, то нечего удивляться, что именно оно и расположило народ в пользу Луция Мурены. (39) Но если мы сами, которым дела мешают предаваться общедоступным развлечениям (причем мы от самих занятий своих получаем много удовольствий другого рода), все же радуемся играм и увлекаемся ими, то можно ли удивляться поведению невежественной толпы[1033]. (40) Луций Отон, храбрый муж и мой близкий друг, возвратил всадническому сословию не только его высокое положение, но и возможность получать удовольствие. Закон, касающийся игр[1034], народу потому более по сердцу, чем все остальные, что он возвратил этому весьма уважаемому сословию, наряду с блеском, также и возможность приятно проводить время. Поверь мне, игры радуют даже тех людей, которые это скрывают, а не только тех, которые в этом сознаются. Я понял это во время своего соискания; ибо и моей соперницей была сцена. И вот, если я, в бытность свою эдилом, устраивал игры трижды и все-таки испытывал беспокойство из-за игр, устроенных Антонием[1035], то не думаешь ли ты, который в силу обстоятельств ни разу не устраивал игр, что именно эта убранная серебром сцена Мурены, предмет твоих насмешек, и оказалась твоей противницей?
(41) Но допустим, что все ваши заслуги во всех отношениях равны, что труды на форуме равны трудам военной службы, что голоса военных не уступают голосам горожан, что дать великолепные игры и не дать никаких — одно и то же. Ну, а во время самой претуры между твоим и его жребием никакой разницы не было? Как ты полагаешь? (XX) Ему выпал тот жребий, какого все мы, твои близкие друзья, желали тебе, — творить суд по гражданским делам[1036]. В этом деле славу приносит значительность занятий, расположение, глубокая справедливость; при исполнении этих обязанностей мудрый претор, каким был Мурена, избегает недовольства народа правотой своих решений, снискивает благожелательность своей готовностью выслушивать людей. Это полномочия из ряду вон выходящие; они вполне могут подготовить избрание в консулы — хвала за справедливость, бескорыстие и доступность под конец увенчиваются удовольствием, доставляемым играми (42) А твой жребий? Печальный и жестокий — суд за казнокрадство — с одной стороны, одни только слезы и траур; с другой стороны, одни только цепи и доносы. Судьи, которых приходится собирать против их воли и удерживать против их желания; осужден писец — враждебно все сословие[1037]; порицают сулланские раздачи[1038] — недовольны многие храбрые мужи и чуть ли не половина граждан; строго определены суммы, подлежащие возмещению[1039] — кто остался доволен, забывает, кто обижен, помнит. В довершение всего ты отказался выехать в провинцию. Порицать тебя за это не могут, так как сам я — во время своей претуры и своего консульства — поступил так и счел это правильным. Однако Луцию Мурене управление провинцией много раз приносило благодарность и доставило всеобщее уважение. При своем отъезде в провинцию он произвел набор солдат в Умбрии; государство дало ему возможность быть щедрым, чем он привлек на свою сторону множество триб, в состав которых входят муниципии Умбрии. Сам он своей справедливостью и заботливостью достиг того, что наши сограждане могли взыскать в Галлии уже безнадежные долги[1040]. Ты же, оставаясь в Риме, тем временем, разумеется, был к услугам своих друзей — это я признаю; но все же не забывай, что преданность некоторых друзей по отношению к людям, явно пренебрегающим провинциями, обычно уменьшается.
(XXI, 43) Как я уже указал, судьи, у Мурены и у Сульпиция было одинаково высокое положение, дававшее им право добиваться консульства, но неодинаковые заслуги в связи с выполнением ими своих полномочий; теперь же я скажу более открыто, в чем мой близкий друг Сервий отставал, и ныне, когда время уже упущено, скажу в вашем присутствии то, что часто говорил ему с глазу на глаз, пока еще не было поздно. Не умел ты добиваться консульства, Сервий! Я твердил это тебе не раз. И даже при тех обстоятельствах, когда ты, как я видел, действовал и высказывался стойко и решительно, я обычно говорил тебе, что ты кажешься мне скорее решительным обвинителем, чем разумным кандидатом. Прежде всего те страшные угрозы возбудить обвинение[1041], к которым ты прибегал изо дня в день, конечно, свойственны храброму мужу, но внушают народу мненье, что сам соискатель не надеется на успех, и ослабляют старания друзей. Почему-то всегда, — и это было замечено не в одном-двух, а уже во многих случаях — как только поймут, что кандидат готовит обвинение, уже начинают думать, что он потерял надежду на избрание. (44) «Что же в таком случае? Мне не подобает преследовать за нанесенную мне обиду?» — Да нет же, вполне подобает; но на все есть время — и для соискания, и для судебного преследования. Сам я хочу, чтобы соискатель, особенно соискатель консульства, спускался на форум и на поле[1042] полный надежд, с твердой уверенностью в успехе и в сопровождении большой толпы. Не нравится мне, когда кандидат производит расследование; это предвещает неудачу при выборах; не нравится мне подготовка свидетелей вместо подготовки голосующих, угрозы вместо любезностей, громогласные выкрики вместо взаимных приветствий, особенно когда ныне, по новому обычаю, люди толпой обходят дома чуть ли не всех кандидатов и, по выражению их лиц, судят об уверенности и возможностях каждого из них. (45) «Видишь, как он опечален и удручен? Он пал духом, не уверен в себе, сложил оружие». Ползет слух: «Ты знаешь — он подготовляет обвинение, собирает сведения насчет соискателей, ищет свидетелей; проголосую я лучше за другого, так как он сам потерял надежду на успех». Даже самые близкие друзья таких кандидатов теряют мужество, перестают прилагать старания; либо совсем отказываются поддерживать кандидата, либо приберегают свое содействие и влияние для суда и обвинения. (XXII) К тому же и сам кандидат не может направить на соискание все свои заботы, усилия и внимание. Ведь прибавляются помыслы об обвинении — дело не малое и, бесспорно, самое важное из всех. Ведь это большой труд — подготовить такие средства, чтобы при помощи их удалось вычеркнуть из числа граждан человека, тем более далеко не бедного и не лишенного поддержки — такого, который сумеет себя защитить сам и при посредстве своих близких и даже при посредстве чужих ему людей. Ибо все мы спешим на помощь, чтобы отвратить грозящую опасность (если только мы не открытые недруги), и даже совершенно чужим людям, чьи гражданские права находятся под угрозой, оказываем такие услуги и проявляем такую преданность, какую проявляют лишь лучшие друзья. (46) И вот, я сам, изведав тяготы, связанные с соисканием, с защитой, с обвинением, понял, что соискание требует необычайной настойчивости, защита — глубокого сознания долга, обвинение — величайшего труда. Из этого я заключаю, что один и тот же человек никак не может со всем вниманием подготовить и обставить обвинение и соискание. Даже одна из этих задач по силам лишь немногим, но обе — никому. Свернув с пути соискания и перейдя к обвинению, ты решил, что сможешь выполнить обе задачи; ты глубоко ошибся. И в самом деле, после того как ты вступил на этот путь подготовки обвинения, был ли в твоем распоряжении хоть один день, который бы тебе не пришлась полностью затратить только на это дело?
(XXIII) Ты потребовал издания закона о домогательстве; он тебе вовсе не был нужен, так как существовал строжайший Кальпурниев закон[1043]. Твое желание и твое почетное положение были приняты во внимание. Но этот закон в целом, пожалуй, был бы для тебя пригодным оружием, если бы ты как обвинитель преследовал виновного; в действительности же соисканию твоему он помешал. (47) Ты своими настояниями добился назначения более строгого наказания для плебса; более бедные люди были встревожены; для нашего сословия ты добился кары в виде изгнания; сенат уступил твоему требованию, и согласно твоему предложению, установил более суровые условия для всех граждан, но неохотно. Для тех, кто стал бы объяснять свою неявку в суд болезнью[1044], кара была усилена. Многие были этим недовольны: ведь таким людям приходится либо напрягать свои силы в ущерб своему здоровью, либо из-за болезни отказываться от прочих жизненных благ. И что же? Кто это провел? Тот, кто повиновался авторитету сената и твоему желанию, словом, тот, кому это менее всего было выгодно[1045]. Ну, а те предложения, которые, согласно с моим сильнейшим желанием, отверг сенат, собравшийся в полном составе? Неужели ты не понимаешь, что они немало повредили себе? Ты требовал совместной подачи голосов, принятия Манилиева закона[1046], уравнения во влиянии, в положении, в праве голоса. Люди уважаемые, пользовавшиеся влиянием среди своих соседей и в своих муниципиях, были удручены тем, что такой муж выступил за уничтожение всех различий в почетном положении и влиянии. Кроме того, ты хотел, чтобы судей назначал обвинитель[1047] — с тем, чтобы ненависть граждан, в настоящее время скрытая и ограниченная глухими распрями, вырвалась наружу и поразила благополучие любого из честнейших людей. (48) Все это путь к обвинению тебе пролагало, путь к избранию закрывало.
К тому же вот еще один удар, нанесенный твоему соисканию, и, как я не раз говорил, тяжелейший; о нем многое было убедительно сказано высоко одаренным и красноречивейшим человеком, Квинтом Гортенсием. Мне же труднее говорить в предоставленную мне очередь именно потому, что до меня говорили и он, и муж, занимающий самое высокое положение, необычайно добросовестный и красноречивый — Марк Красс, а я в заключение должен рассмотреть не ту или иную часть дела, а дело в целом по своему усмотрению. Итак, я рассматриваю, можно сказать, почти те же вопросы, судьи, и, насколько смогу, постараюсь не утомить вас. (XXIV) Но все-таки, как ты думаешь, Сервий, — какой удар секирой ты нанес своему соисканию, внушив римскому народу страх, что Катилина будет избран в консулы, пока сам ты будешь подготовлять обвинение, отбросив всякую мысль о соискании? (49) Правда, тебя видели ведущим расследование; ты был мрачен, твои друзья были опечалены; люди видели, как ты вел наблюдение, устанавливал факты, беседовал со свидетелями, удалялся с субскрипторами[1048] — делал все то, от чего обычно, как нам кажется, даже набеленные мелом тоги кандидатов темнеют. Тем временем Катилину видели бодрым и веселым, в сопровождении свиты молодых людей, окруженным доносчиками и убийцами, воодушевленным как надеждами на солдат, так и — он сам это говорил — посулами моего коллеги. Вокруг него толпилось его войско, составленное из колонов Арреция и Фезул, и среди этой своры, резко от нее отличаясь, были видны жертвы сулланского безвременья. Его лицо дышало неистовством, взор — преступлением, речь — высокомерием. Ему, видимо, казалось, что консульство ему уже обеспечено и у него в руках. К Мурене он относился с презрением, Сульпиция же считал своим обвинителем, а не соискателем; ему он сулил расправу; государству угрожал.
(XXV, 50) Какой страх охватил при этом всех честных людей, как они отчаивались в судьбе государства в случае избрания Катилины! Не заставляйте меня напоминать вам. Подумайте об этом сами. Ведь вы не забыли: когда повсюду разнеслись слова этого нечестивого гладиатора, которые он, говорят, сказал на сходке у себя дома, — что никто не может быть преданным защитником обездоленных людей, кроме того, кто обездолен сам; что посулам благоденствующих и богатых людей пострадавшие и обездоленные верить не должны; поэтому пусть те, которые хотят возместить себе растраченное и вернуть себе отнятое у них, взглянут, как велики его долги, каково его имущество, какова его отвага; бесстрашным и неимущим должен быть тот, кто станет вождем и знаменосцем неимущих; (51) итак, когда об этом узнали, то сенат, как вы помните, по моему докладу принял постановление — на следующий день комиции отменить, дабы мы могли обсудить этот вопрос в сенате. И вот на другой день я перед лицом всего сената привлек Катилину к ответу и предложил ему высказаться о том, что мне сообщили. Он же, как всегда, выступавший совершенно открыто, не стал оправдываться, но сам себя обличил. Именно тогда он и сказал, что у государства есть два тела: одно — слабосильное, с некрепкой головой, другое — крепкое, но без головы; это последнее, если пойдет ему навстречу, не будет нуждаться в голове, пока он жив. Весь сенат зароптал, но достаточно суровое постановление, какого заслуживало его возмутительное поведение, принято не было; ибо одни, вынося постановление, не были решительны именно потому, что ничего не боялись, другие — потому, что боялись чересчур. И вот Катилина выбежал из сената, ликуя от радости, — он, которому вообще не следовало бы выйти оттуда живым, тем более после ответа, несколькими днями ранее данного им опять-таки в сенате Катону, храбрейшему мужу, грозившему ему судом; он сказал, что, если попытаются разжечь пожар, который будет угрожать его благополучию, то он потушит его не водой, а развалинами.
(XXVI, 52) Встревоженный этим и зная, что Катилина уже тогда привел на поле заговорщиков с мечами, я спустился на поле с надежной охраной из храбрейших мужей и в широком, бросавшемся в глаза панцире — не для того, чтобы он прикрывал мое тело (ведь я знал, что Катилина метит мне не в бок и не в живот, а в голову и шею), но чтобы все честные люди это заметили и, видя, что консулу грозит страшная опасность, сбежались к нему на помощь, чтобы его защитить, как это и произошло. И вот, думая, что ты, Сервий, слишком медлителен в своем соискании, видя, что Катилина горит надеждой и желанием быть избранным, все те, которые хотели избавить государство от этого бича, тотчас же перешли на сторону Мурены. (53) Огромное значение имеет во время консульских комиций неожиданное изменение взглядов, особенно тогда, когда оно совершилось в пользу честного мужа, располагающего при соискании и многими другими преимуществами. Так как Мурена, происходящий от высокопочитаемого отца и предков, проведший свою молодость в высшей степени скромно, прославившийся как легат и заслуживший во время своей претуры одобрение как судья, за устроенные им игры — благодарность, за наместничество — признание, добивался избрания со всей заботливостью и притом не отступал ни перед кем из угрожавших ему людей, сам же не угрожал никому, то следует ли удивляться, что ему сильно помогла внезапно возникшая у Катилины надежда на консульство?
(54) Теперь мне в своей речи остается рассмотреть третью часть обвинения — в незаконном домогательстве, тщательно разобранную говорившими до меня; к ней я, по желанию Мурены, должен вернуться. Тут я отвечу своему близкому другу Гаю Постуму, виднейшему мужу, о заявлениях раздатчиков и об изъятых у них деньгах; умному и честному молодому человеку, Сервию Сульпицию, — о центуриях всадников[1049]; человеку, выдающемуся всяческой доблестью, Марку Катону, — о выдвинутом им обвинении о постановлении сената, о положении государства.
(XXVII, 55) Но сначала я в нескольких словах выскажу то, что меня неожиданно взволновало, и посетую на судьбу, постигшую Луция Мурену. Если я, судьи, ранее, на опыте чужих несчастий и своих повседневных забот и трудов считал счастливыми людей, далеких от честолюбивых стремлений и проводящих свою жизнь праздно и в спокойствии, то при столь сильных и совершенно непредвиденных опасностях, угрожающих Луцию Мурене, я, право, потрясен так, что не в силах достаточно оплакать ни нашего общего положения, ни исхода, к которому судьба привела Мурену; ведь вначале он, попытавшись подняться еще на одну ступень в ряду почетных должностей, которых неизменно достигала их ветвь рода и его предки, оказался перед угрозой утратить и то, что ему было оставлено, и то, что он приобрел сам; затем, ему, вследствие его стремления к новым заслугам, стала угрожать опасность потерять также и свое прежнее благополучие. (56) Все это тяжко, судьи, но самое горькое то, что его обвинители не из ненависти и враждебности дошли до обвинения, а из стремления обвинить дошли до враждебности. Ибо (если не говорить о Сервии Сульпиции, который, как я понимаю, обвиняет Луция Мурену не из-за испытанной им обиды, а в связи с борьбой за почетную должность) его обвиняет Гай Постум, как он и сам говорит, друг и давнишний сосед его отца, свой человек, который привел много оснований для дружеских отношений между ними и не мог назвать ни одного основания для раздора; его обвиняет Сервий Сульпиций, отец которого принадлежит к тому же товариществу[1050], что и Мурена; он всеми силами своего ума должен был бы защищать всех близких друзей отца; его обвиняет Марк Катон, который никогда ни в чем не расходился с Муреной, причем он рожден в нашем государстве для того, чтобы его влияние и дарование служили защитой многим, даже чужим ему людям и не губили даже его недругов. (57) Итак, сначала я отвечу Постуму, который, будучи кандидатом в преторы, почему-то бросается на кандидата в консулы, словно конь для вольтижировки — на беговую дорожку квадриг. Если его собственные соперники ни в чем не погрешили, то он, отказавшись от соискания, признал их превосходство над собой; но если кто-нибудь из них подкупил избирателей, то надо добиваться дружбы человека, который готов преследовать скорее за обиду, нанесенную другому, чем за обиду, нанесенную ему самому. [Об обвинениях со стороны Постума и молодого Сервия Сульпиция[1051].]
(XXVIII, 58) Перехожу теперь к Марку Катону, так как на его участии зиждется и держится все обвинение. Как он ни суров, как он ни рьян в качестве обвинителя, все же его авторитет страшит меня гораздо больше, чем обвинения, предъявленные им. Говоря об этом обвинителе, судьи, я прежде всего буду просить, чтобы ни его высокое положение, ни предстоящий ему трибунат, ни его блистательная и достойная жизнь не повредили как-нибудь Луцию Мурене, чтобы Мурена, в конце концов, не оказался единственным человеком, которому вредили бы все добродетели Марка Катона, которые тот воспитал в себе с целью быть полезным многим людям. Дважды был консулом Публий Африканский и уже успел разрушить два города, наводившие ужас на нашу державу, — Карфаген и Нуманцию, когда обвинил Луция Котту[1052]. Он отличался необычайным красноречием, необычайной честностью, необычайным бескорыстием, а авторитет его был столь же велик, как авторитет, присущий самой державе римского народа, чьей опорой он был. Я не раз слышал от старших, что именно исключительная убедительность и достоинство, с какими он поддерживал обвинение, пошли Луцию Котте очень и очень на пользу. Мудрейшие люди, бывшие тогда судьями по этому делу, не хотели вызвать впечатления, что какой бы то ни было обвиняемый может быть осужден, будучи повержен исключительно сильным влиянием своего противника. (59) А Сервий Гальба?[1053] Ведь предание о нем сохранилось: не вырвал ли его римский народ из рук твоего прадеда, Марк Катон, храбрейшего и виднейшего мужа, старавшегося погубить его? Всегда в нашем государстве весь народ и мудрые и предусмотрительные мужи противодействовали чрезмерным усилиям обвинителей. Я против того, чтобы обвинитель подавлял в суде своим могуществом, своим особым превосходством, выдающимся авторитетом, непомерным влиянием. Пусть все это способствует спасению невиновных, защите слабых, помощи несчастным, но при наличии опасности для граждан и при угрозе их существованию этому не должно быть места! (60) Если кто-нибудь случайно скажет, что Катон не стал бы обвинять, если бы заранее не вынес суждения по делу, то такой человек, судьи, установит несправедливый закон и поставит людей, привлеченных к суду, в жалкое положение, признав, что суждение обвинителя об обвиняемом должно иметь значение предварительного приговора.
(XXIX) За твое решение я лично, ввиду своего исключительно высокого мнения о твоих нравственных качествах, Катон, порицать тебя не хочу; но кое в чем я, пожалуй, мог бы тебя поправить и указать тебе несколько лучший путь. «Ты делаешь не много ошибок, — сказал храбрейшему мужу его престарелый наставник, — но все-таки делаешь их; значит, я могу тебя кое-чему научить»[1054]. Но мне тебя не учить. Поистине я готов вполне искренне сказать, что ты ни в чем не делаешь ошибок и что в тебе нет ничего такого, в чем бы тебя следовало поправить, а не слегка исправить. Ведь сама природа создала тебя великим и выдающимся человеком, обладающим честностью, вдумчивостью, воздержностью, великодушием, справедливостью, словом, всеми доблестями. К этому присоединилось влияние философского учения, далекого от умеренности и мягкости, но, как мне кажется, несколько более сурового и строгого, чем это допускает действительность или природа. (61) И так как мне приходится держать эту речь не перед необразованной толпой и не в собрании невежественных людей[1055], то я буду несколько смелее рассуждать о просвещении, которое знакомо и дорого мне и вам. Знайте, судьи, те дарованные богами и выдающиеся качества, какие мы видим у Марка Катона, свойственны ему самому; те же, каких мы подчас ищем у него и не находим, все происходят не от природы, а от его учителя. Жил некогда муж необычайного ума, Зенон[1056]; ревнителей его учения называют стоиками. Его мысли и наставления следующие: мудрый никогда не бывает лицеприятен, никогда и никому не прощает проступков; никто не может быть милосердным, кроме глупого и пустого человека; муж не должен ни уступать просьбам, ни смягчаться; одни только мудрецы, даже безобразные, прекрасны; в нищете они богаты; даже в рабстве они цари; нас же, не являющихся мудрецами, стоики называют беглыми рабами, изгнанниками, врагами, наконец, безумцами; по их мнению, все погрешности одинаковы, всякий поступок есть нечестивое злодейство, и задушить петуха, когда в этом не было нужды, не меньшее преступление, чем задушить отца; мудрец ни над чем не задумывается, ни в чем не раскаивается, ни в чем не ошибается, своего мнения никогда не изменяет[1057].
Марк Порций Катон (Утический). Мрамор. Рим, Капитолийский музей
(XXX, 62) Вот взгляды, которые себе усвоил Марк Катон, человек высокого ума, следуя ученейшим наставникам, и не для того, чтобы вести споры, как поступает большинство людей, но чтобы так жить. Откупщики просят о чем-либо. — «Не вздумайте что-нибудь сделать в их пользу»[1058]. Какие-нибудь несчастные и находящиеся в беде люди умоляют о помощи. — «Ты будешь преступником и нечестивцем, если сделаешь что-либо, уступив голосу сострадания». — Человек признает себя виновным и просит о снисхождении к своему проступку. — «Простить — тяжкое преступление». — Но проступок невелик. — «Все проступки одинаковы». — Ты высказал какое-либо мнение, … — «Оно окончательно и непреложно». — …руководствуясь не фактом, а предположением. — «Мудрец никогда ничего не предполагает». — Ты кое в чем ошибся. Он оскорблен. Этому учению он обязан следующими словами: «Я заявил в сенате, что привлеку к суду кандидата в консулы»[1059]. Ты сказал это в гневе. — «Мудрец, — говорит Катон, — никогда не знает гнева». Но это связано с обстоятельствами. — «Лишь бесчестному человеку, — говорит он, — свойственно обманывать, прибегая к лжи; изменять свое мнение — позор, уступить просьбам — преступление, проявить жалость — гнусность». (63) А вот мои учителя (я призна́юсь, Катон, и я в молодости своей, не полагаясь на свой ум, искал помощи в изучении философии), повторяю, мои учителя, последователи Платона и Аристотеля, люди умеренные и сдержанные, говорят, что и мудрец порой руководствуется приязнью, что хорошему человеку свойственно проявлять сострадание, что проступки бывают разные, потому неодинаковы и наказания; что и непоколебимый человек может прощать; что даже мудрец иногда высказывает предположение насчет того, чего не знает; что он иногда испытывает чувство гнева, доступен просьбам и мольбам, изменяет ранее сказанное им, если это оказывается более правильным, порой отступает от своего мнения; что все доблести смягчаются соблюдением известной меры[1060].
(XXXI, 64) Если бы судьба направила тебя, Катон, к этим учителям, то ты, при своем характере, конечно, не был бы ни более честным, ни более стойким, ни более воздержным, ни более справедливым мужем (ведь это и невозможно), но несколько более склонным к мягкости. Ты не стал бы обвинять человека, в высшей степени добросовестного, занимающего высокое положение и весьма уважаемого, не питая к нему неприязни и не будучи им оскорблен. Ты считал бы, что, коль скоро судьба в один и тот же год поставила тебя и Мурену на страже государства, ты в какой-то мере соединен с ним узами государственной деятельности. Суровых слов, сказанных тобой в сенате, ты либо совсем не произнес бы, либо, высказав их, смягчил бы их значение. (65) Впрочем, насколько я могу предсказать на основании своих соображений, тебя самого, охваченного теперь, так сказать, душевным порывом, увлеченного силой своей натуры и ума, тебя, горящего от недавних занятий философией, вскоре опыт изменит, время смягчит, возраст успокоит. И в самом деле, даже ваши учителя и наставники в доблести, мне думается, провели границы долга несколько дальше, чем велит природа, — для того, чтобы мы, умом устремившись к самой далекой цели, все же остановились там, где нужно. «Ничего не прощай». — Да нет же, кое-что можно, но не все. «Ничего не делай, уступая чьему-либо влиянию». — Да нет же, давай отпор влиянию, когда этого потребуют твой долг и честность. «Не поддавайся чувству сострадания». — Да, конечно, если это ослабляет суровость, но все же и доброта в какой-то мере похвальна. «Твердо держись своего мнения». — Да, если это мнение не будет побеждено другим лучшим. (66) Например, знаменитый Сципион, не колеблясь, поступал так же, как и ты, поселив у себя в доме ученейшего Панэтия[1061]. Но от его высказываний и наставлений, хотя они вполне совпадали с теми, какими восхищаешься ты, он все-таки не стал более суров, но, как я слыхал от стариков, сделался очень мягок душой. Кто поистине был более благожелателен, более ласков, чем Гай Лелий, принадлежавший к той же школе, кто был более строг, чем он, более мудр? Это же я могу сказать о Луции Филе и о Гае Галле[1062]; но теперь я вернусь с тобой в твой дом. Кто, по твоему мнению, был более доступен, более участлив, более умерен, чем твой прадед Катон, кто, более него, обладал всеми чертами, свойственными подлинному человеку? Справедливо и с достоинством говоря о его выдающейся доблести, ты сказал, что пример для подражания есть в твоем собственном доме. Правда, пример этот в твоем доме тебе дан; натура прадеда тебе, его потомку, могла передаться более, чем кому-либо из нас; но, как образец для подражания, он стоит передо мной, право, так же, как и перед тобой. Если же ты добавишь к своей строгости и суровости его благожелательность и доступность, то твои качества, и без того выдающиеся, правда, лучше не станут, но, во всяком случае, будут приправлены приятнее.
(XXXII, 67) Поэтому — чтобы возвратиться к тому, с чего я начал, — не ссылайся при разборе этого дела на имя Катона, не оказывай давления, не ссылайся на авторитет, который в суде либо не должен иметь силы, либо должен способствовать оправданию обвиняемого; борись со мной только по статьям обвинения. В чем ты обвиняешь Мурену, Катон? Что предлагаешь ты для судебного разбирательства? Что ты ставишь ему в вину? Ты осуждаешь незаконное домогательство. Его я не защищаю. Меня ты упрекаешь в том, что я оправдываю то самое, за что я, своим законом, назначил кару. Я караю незаконное домогательство, а не невиновность. Само домогательство я, даже вместе с тобой, буду осуждать, если захочешь. Ты сказал, что по моему докладу сенат принял постановление, гласящее, что если люди, за плату, выйдут навстречу кандидатам, если они, будучи наняты, станут их сопровождать, если во время боев гладиаторов места для народа, а также и угощение будут предоставлены трибам, то это будет признано нарушением Кальпурниева закона. И вот, сенат, признавая эти действия противозаконными, — если они действительно совершены — выносит в угоду кандидатам решение, в котором нет надобности; ведь весь вопрос о том, совершены ли противозаконные действия или не совершены; если они совершены, то сомневаться в их противозаконности не может никто. (68) Поэтому смешно оставлять невыясненным то, что сомнительно, и выносить решение о том, что ни для кого сомнительным быть не может. К тому же это было решено по требованию всех кандидатов, так что из постановления сената нельзя понять, ни в чьих интересах, ни против кого оно вынесено. Докажи поэтому, что Луций Мурена совершил подобные действия, тогда я соглашусь с тобой, что они были совершены противозаконно.
(XXXIII) «Когда он возвращался из провинции, навстречу ему вышло множество людей»[1063]. — Так обычно поступают, когда человек добивается консульства; кроме того, кому только не выходят навстречу, когда он возвращается домой? «Кто был в этой толпе?» — Прежде всего — допустим, что я не мог бы объяснить тебе это, — следует ли удивляться, что при прибытии такого мужа, кандидата в консулы, навстречу ему вышло так много народа? Если бы этого не произошло, пожалуй, было бы более удивительно. (69) А если я даже добавлю то, что не противоречит обычаю, — многих об этом просили? Неужели можно считать преступным или необычайным то, что в государстве, где мы, уступая просьбе, часто чуть ли не среди ночи приходим с окраин Рима, чтобы сопровождать на форум сыновей самых незначительных людей[1064], — что в этом государстве люди не сочли для себя трудным выйти в третьем часу на Марсово поле, особенно когда их попросили от имени такого мужа? А если пришли все товарищества откупщиков, к которым принадлежат многие из судей, сидящих здесь? А если это были многие весьма уважаемые люди из нашего сословия? А если все кандидаты сообща, эти любезнейшие люди, которые не могут допустить, чтобы кому-либо при въезде в Рим не было оказано должного почета, если, наконец, сам наш обвинитель Постум вышел навстречу Мурене с внушительной толпой своих друзей, то можно ли удивляться тому, что скопилось такое множество людей? Не говорю уже о клиентах, о соседях, о членах его трибы, обо всем войске Лукулла, прибывшем в те дни в Рим для участия в триумфе. Скажу одно: не было случая, чтобы в подобной услуге — и притом совершенно бескорыстной — любому человеку, не только если он ее вполне заслужил, но даже если он выразил такое желание, было отказано. (70) «Но его сопровождали многие». — Докажи, что это было сделано за плату, и я соглашусь с тобой в том, что это преступление. Но что, кроме этого, ставишь ты ему в вину? (XXXIV) «Зачем, — спрашивает обвинитель, — нужна вся эта свита?» Меня спрашиваешь ты, зачем нужно то, что всегда было в обычае? У незначительных людей есть лишь одна возможность либо заслужить милость нашего сословия, либо отблагодарить за нее, а именно содействовать нашему соисканию и сопровождать кандидата. Ведь невозможно, — да и нечего требовать, — чтобы мы или римские всадники целыми днями сопровождали своих близких [кандидатов]; если такие люди посетят наш дом, если они иногда проводят нас на форум, если они окажут нам честь один раз пройтись с нами по басилике, то мы уже в этом усматриваем большое уважение и внимание к себе. Но друзья, занимающие более скромное положение и ничем не занятые, должны непрерывно быть при нас; честные и щедрые мужи обычно не могут пожаловаться на недостаток внимания со стороны множества таких людей. (71) Итак, не отнимай у этих людей из низшего сословия приятной им возможности оказать нам услугу, Катон! Ведь они надеются получить от нас все; позволь же и им самим что-нибудь сделать для нас. Если это будут только их голоса, то этого мало: ведь их голоса большого значения не имеют. Наконец, они, как склонны говорить эти люди, не могут ни произносить речи в нашу пользу, ни давать обещания за нас, ни приглашать нас к себе домой. Всего этого они ожидают от нас и, по их мнению, за все то, что они от нас получают, они могут вознаградить нас одним только своим содействием. Поэтому они не посчитались ни с Фабиевым законом о численности сопровождающих, ни с постановлением сената, принятым в консульство Луция Цезаря[1065]. Ведь не существует кары, которая бы могла удержать услужливых людей низшего положения от соблюдения древнего обычая оказывать услуги.
(72) «Но места для присутствия во время зрелищ были распределены по трибам и множество людей было приглашено для угощения». Хотя Мурена этого вовсе не делал, судьи, а сделали это его друзья, следуя обычаю и соблюдая меру, все же я в связи с этим вспоминаю, Сервий, сколько точек[1066] потеряли мы из-за этих жалоб, высказанных в сенате. В самом деле, было ли время, — на нашей ли памяти или же на памяти наших отцов — когда бы не проявлялось этого честолюбия или, быть может, щедрости, выражавшейся в предоставлении друзьям и членам трибы мест в цирке и на форуме?[1067] Маленькие люди получали эти награды и преимущества от членов своей трибы в силу древнего обычая… [Лакуна.]
(XXXV, 73) [Если Мурене ставят в вину,] что начальник войсковых рабочих[1068] один раз предоставил места членам своей трибы, то что сказать о виднейших мужах, позаботившихся о целых отделениях в цирке для членов своей трибы? Все эти статьи обвинения насчет сопровождения, зрелищ и угощения народ счел проявлением излишнего рвения с твоей стороны, Сервий! Мурену же в этом отношении оправдывает авторитет сената. Разве сенат считает выход навстречу преступлением? — «Нет, но выход за плату». — Приведи улики. А если сопровождает большая толпа? — «Нет, только если она нанята». — Докажи. Разве предоставлять места во время зрелищ и приглашать для угощения — преступление? — «Отнюдь нет, но не такое множество людей». — Что это значит — множество людей? — «Всех без исключения». Однако, если Луций Натта[1069], молодой человек из знатного рода (кто он такой, каковы его намерения ныне и каким мужем он станет, мы видим), хотел снискать расположение всаднических центурий как в этом случае, выполняя свой долг родства, так и на будущее время, то это не должно быть вменено в вину и в преступление его отчиму; и если дева-весталка, близкая родственница Луция Мурены, отдала ему свое место для присутствия на боях гладиаторов[1070], то ни она не нарушила долга чести, ни он ни в чем не виноват. Все это — взаимные услуги между близкими людьми, удовольствие для маленьких людей, обязанности кандидатов.
(74) Но сурово и по-стоически говорит со мной Катон; он не находит допустимым снискивать расположение угощением и считает, что во время предоставления должностей подкупать людей удовольствиями не подобает. Поэтому если человек по случаю соискания пригласит людей на обед, то его следует осудить? «Разумеется, — говорит он, — и ты станешь добиваться высшего империя, высшего авторитета, хочешь встать у кормила государства, потворствуя страстям людей, ослабляя их мужество и доставляя им наслаждения? Чего ты добивался, — спрашивает он, — доходов ли сводника, получаемых им от кучки развратных юношей, или же владычества над миром, которое вручает римский народ?» Наводящая ужас речь, но ее отвергают наши обычаи, условия жизни, нравы, даже наши гражданские установления. Ведь ни лакедемоняне, у которых ты заимствовал житейские правила и особенности речи[1071] и которые каждый день едят, возлежа на деревянных ложах, ни, во всяком случае, критяне, из которых никто никогда не вкушал пищи лежа, не сохранили своих государств в неприкосновенности лучше, чем римляне, уделяющие должное время и удовольствию и труду. Из этих двух народов один был покорен одним только прибытием нашего войска[1072]; другой сохраняет свои установления и законы под защитой нашей державы. (XXXVI, 75) Поэтому не осуждай, Катон, своей не в меру суровой речью установлений наших предков, оправдываемых самой действительностью и продолжительным существованием нашей державы. К той же школе, что и ты, принадлежал живший во времена наших отцов ученый муж, уважаемый и знатный человек, Квинт Туберон. Квинт Максим, устраивая угощение для римского народа в память своего дяди, Публия Африканского[1073], попросил его приготовить триклиний, так как Туберон был сыном сестры того же Африканского. А этот ученейший человек и притом стоик постелил какие-то козлиные шкуры на жалкие пунийские ложа и расставил самосскую посуду[1074], как будто умер киник Диоген[1075], а не устраивалось торжество в память божественного Публия Африканского. Когда Максим произносил хвалебную речь в день его похорон, он вознес бессмертным богам благодарность за то, что такой человек родился именно в нашем государстве; ибо владычество над миром должно было быть именно там, где находился он. Во время этих торжественных похорон римский народ негодовал на неуместную мудрость Туберона. (76) И вот, бескорыстнейшему человеку, честнейшему гражданину, внуку Луция Павла и, как я уже сказал, сыну сестры Публия Африканского, было отказано в претуре из-за жалких козлиных шкур. Ненавидит римский народ роскошь у частных лиц, а пышность в общественных делах ценит; не любит он роскошных пиршеств, но скаредность и грубость — еще того менее. Сообразно со своими обязанностями и обстоятельствами, он умеет чередовать труд и удовольствия. Ты вот говоришь, что при соискании государственной должности нельзя привлекать людей к себе ничем иным, кроме своих высоких достоинств; а ведь сам ты, при своих необычайных достоинствах, этого не соблюдаешь. Почему ты просишь других содействовать и помогать тебе? Ведь ты мне предлагаешь свое покровительство с тем, чтобы я был к твоим услугам. Как же так? Следует ли тебе предлагать это мне? Разве не мне следовало бы просить тебя об этом, дабы ты, ради моего блага, взял на себя этот опасный труд? (77) А зачем тебе номенклатор?[1076] Ведь при его помощи ты людей обманываешь и вводишь в заблуждение. Ибо, если обращаться к согражданам по имени значит оказывать им честь, то позорно, что твоему рабу они знакомы лучше, чем тебе. А если тебе, даже когда ты их знаешь, все же приходится называть их по имени в соответствии с указаниями советчика, то зачем же ты спрашиваешь об их именах, словно ты их не знаешь?[1077] Далее, почему также и в тех случаях, когда их имена тебе приходится напоминать, ты все же приветствуешь их, словно сам их знаешь? Почему, после того как тебя изберут, ты приветствуешь их уже более небрежно? Если оценивать все это в соответствии с нашими гражданскими обычаями, то это правильно; но если ты захочешь взвесить это применительно к требованиям своей философии, то это окажется весьма дурным. Поэтому не следует лишать римский плебс удовольствий в виде игр, боев гладиаторов и пиршеств — всего того, что было введено нашими предками, — и у кандидатов нельзя отнимать эту возможность проявить внимание, свидетельствующее скорее о щедрости, чем о подкупе[1078].
(XXXVII, 78) Но ты, пожалуй, скажешь, что выступаешь с обвинением ради пользы государства. Верю, Катон, что ты пришел именно с таким намерением и с такими мыслями; но ты поступаешь неразумно. То, что сам я делаю, судьи, я делаю из дружеского отношения к Луцию Мурене и ввиду его высоких достоинств. Кроме того, я — во всеуслышание заявляю и свидетельствую — поступаю так во имя мира, спокойствия, согласия, свободы, благополучия и, наконец, нашей всеобщей личной безопасности. Слушайте, слушайте консула, судьи! Не стану хвалиться; скажу только — консула, дни и ночи думающего о делах государства. Луций Катилина не настолько презирал государство, чтобы полагать, что он при посредстве того сброда, который он вывел с собой из Рима, сможет одолеть нашу державу. Шире, чем думают, распространилась зараза его преступления, и больше людей затронуто ею. Внутри, да, внутри наших стен Троянский конь, но никогда, пока я буду консулом, ему не захватить вас спящими.
(79) Ты спрашиваешь меня, неужели я так боюсь Катилины. Вовсе нет, и я позаботился о том, чтобы никто не боялся его, но я утверждаю, что его приспешников, которых я здесь вижу, бояться следует. И теперь мне внушает страх не столько войско Луция Катилины, сколько те, которые, как говорят, его войско покинули. Нет, они его вовсе не покинули; они были оставлены Катилиной на сторожевых башнях и в засадах, чтобы угрожать нам ударом в голову и в шею. Именно они и хотят, чтобы неподкупный консул и доблестный император, которого и его характер, и сама судьба предназначили для служения делу благополучия государства, был, вашим голосованием, от защиты Рима отстранен и лишен возможности охранять граждан. Их оружие, их натиск я отбил на поле, сломил на форуме, не раз одолевал даже в своем доме, судьи! Если вы выдадите им одного из консулов, то они, голосованием вашим, достигнут большего, чем своими мечами. Очень важно, судьи, чтобы — как я, несмотря на противодействие многих, этого и добился — в январские календы в государстве консулов было двое.
(80) Не думайте, что эти люди питают обычные замыслы и идут избитой тропой. Нет, их цель уже — не преступный закон, не губительная расточительность, не какое-нибудь иное бедствие для государства, о котором уже слыхали. Среди наших граждан, судьи, возникли планы разрушения города, истребления граждан, уничтожения имени римлянина. И граждане, повторяю, граждане — если только их дозволено называть этим именем — замышляют и замыслили это на гибель своей отчизне! Изо дня в день я противодействую их замыслам, борюсь с их преступной отвагой, даю отпор их злодейству. Но напоминаю вам, судьи: мое консульство уже приходит к концу. Не отнимайте у меня человека, столь же бдительного, способного меня заменить, не устраняйте того, кому я желаю передать государство невредимым, дабы он защищал его от этих столь грозных опасностей.
(XXXVIII, 81) А чем усугубляются эти несчастья? Неужели вы этого не видите, судьи? К тебе, к тебе, Катон, обращаюсь я. Разве ты не видишь, какая буря угрожает нам в год твоего трибуната? Ведь уже на вчерашней сходке раздался угрожающий голос избранного народного трибуна, твоего коллеги[1079], против которого меры предосторожности благоразумно приняты тобой и всеми честными гражданами, призвавшими тебя к соисканию трибуната. Замыслы, зародившиеся в течение последних трех лет, — с того времени, когда Луций Катилина и Гней Писон, как вы знаете, задумали убить сенаторов[1080], — все эти замыслы в эти дни, в эти месяцы, в это время готовы к осуществлению. (82) Можно ли, судьи, назвать место, время, день, ночь, когда бы я не избежал и не ускользнул от их козней, от их кинжалов не столько по своему разумению, сколько по промыслу богов? Не меня убить, но отстранить от дела защиты государства неусыпно бодрствующего консула — вот чего добиваются они. В такой же мере они хотели бы избавиться также и от тебя, Катон, если бы могли. Поверь мне, именно к этому они и стремятся, это и замышляют. Они видят, сколь ты мужествен, умен, влиятелен, каким оплотом для государства являешься. Но они полагают, что, когда власть трибунов будет лишена опоры в виде авторитета и помощи консулов, им будет легче уничтожить тебя, безоружного и лишенного силы. Ибо они не боятся, что будет решено доизбрать нового консула. Они понимают, что это будет во власти твоих коллег, и надеются, что Децим Силан, прославленный муж, оставшись без коллеги, ты, оставшись без консула, а государство, оставшись без защиты, попадут в их руки.
(83) При этих важных обстоятельствах, и перед лицом столь грозных опасностей, твой долг, Катон, — коль скоро ты, мне кажется, рожден не для себя, а для отчизны — видеть, что́ происходит, сохранить свою опору, своего защитника, союзника в государственной деятельности, консула бескорыстного, консула (обстоятельства повелительно этого требуют), ввиду своего высокого положения стремящегося к миру в стране, благодаря своим знаниям способного вести войну, благодаря своему мужеству и опыту готового выполнить любую задачу.
(XXXIX) Впрочем, все это в ваших руках, судьи! Это вы в настоящем деле — опора всего государства; это вы им управляете. Если бы Луций Катилина вместе со своим советом из преступных людей, которых он увел за собой, мог вынести приговор по этому делу, он признал бы Мурену виновным; если бы он мог его убить, он казнил бы его. Ведь замыслы Катилины ведут к тому, чтобы государство лишилось помощи; чтобы число императоров, способных противостоять его неистовству, уменьшилось; чтобы народным трибунам, после устранения такого противника, как Мурена, была дана бо́льшая возможность разжигать мятежи и распри. Неужели честнейшие и мудрейшие мужи, избранные из виднейших сословий, вынесут такой же приговор, какой вынес бы этот наглейший гладиатор, враг государства? (84) Поверьте мне, судьи, в этом судебном деле вы вынесете приговор о спасении не только Луция Мурены, но и о своем собственном. Мы находимся в крайне опасном положении; ибо уже нет возможности восполнить наши потери, вернее, подняться, если мы падем. Ведь враг не на берегу Анио, что во время пунической войны было признано величайшей опасностью[1081], но в Риме, на форуме. О, бессмертные боги! Об этом без тяжелых вздохов нельзя и говорить. Даже в святилище государства, да, в само́й Курии враги! Дали бы боги, чтобы мой коллега[1082], храбрейший муж, истребил вооруженной рукой эту преступную шайку разбойников Катилины! Я же, нося тогу, с помощью вашей и всех честных людей, своими продуманными действиями рассею и устраню эту опасность, семя которой воспринято государством и которую оно ныне в муках рождает. (85) Но что произойдет, если все это зло, вырвавшись из моих рук, выступит наружу в будущем году? У нас будет только один консул и притом занятый не ведением войны, а доизбранием своего коллеги; кое-кто станет создавать ему препятствия [при проведении выборов,]… вырвется страшная и жестокая моровая язва в лице Катилины, угрожающая римскому народу; Катилина неожиданно налетит на окрестности Рима; [ростры] охватит неистовство, Курию — страх, форум — заговор; на поле будут войска, нивы будут опустошены; в каждом селении, в любой местности нам придется страшиться меча и пламени; все это уже давно подготовляется. Но все это, если государство будет ограждено средствами защиты, будет легко устранить мудрыми мерами должностных и бдительностью частных лиц.
(XL, 86) Ввиду всего этого, судьи, ради государства, дороже которого для нас ничто не должно быть, я, по своей неустанной и известной вам преданности общему благу, прежде всего напоминаю вам и с ответственностью консула советую, а ввиду огромной угрожающей нам опасности именем богов заклинаю: подумайте о спокойствии, о мире, о благополучии, о жизни своей и других граждан. Затем, я, движимый долгом защитника и друга, прошу и умоляю вас, судьи, видя перед собой несчастного Луция Мурену, удрученного телесным недугом и душевной скорбью, не допускайте, чтобы его недавнее ликование было омрачено сетованиями. Не так давно, будучи удостоен римским народом величайшей милостью, он был осчастливлен, так как первым в старинную ветвь рода, первым в древнейший муниципий[1083] он принес звание консула. Теперь тот же Мурена в траурной одежде, удрученный болезнью, от слез и горя обессилевший, является к вам, судьи, как проситель, заклинает вас быть справедливыми, умоляет вас о сострадании, обращается к вашему могуществу и к вашей помощи. (87) Во имя бессмертных богов, судьи! — не лишайте его ни этого звания, которое, как он думал, должно было принести ему еще больший почет, ни других, ранее заслуженных им почестей, а также его высокого положения и достояния. Да, Луций Мурена молит и заклинает вас, судьи, если он никому не нанес обиды, если он не оскорбил ничьего слуха и никому наперекор не поступал, если он, выражусь возможно мягче, ни у кого, ни в Риме, ни во время походов, не вызвал чувства ненависти, то пусть скромность найдет у вас пристанище, смирение — убежище, а добросовестность — помощь. Горячее сострадание должна вызывать у людей утрата консульства, судьи! Ведь вместе с консульством у человека отнимают все; зависти же в наше время консульство само по себе, право, не может вызывать; ведь именно против консула направлены речи на сходках мятежников, козни заговорщиков и оружие Катилины; словом, всяческим опасностям и всяческой ненависти противостоит он один. (88) Итак, в чем можно завидовать Мурене или кому-нибудь из нас, когда речь идет об этой хваленой должности консула, судьи, понять трудно; но то, что действительно должно вызывать сострадание, вот оно теперь у меня перед глазами, да и вы сами можете это понять и увидеть.
(XLI) Если вы — да отвратит Юпитер такое предзнаменование! — уничтожите Мурену своим приговором, куда пойдет он в своем несчастье?[1084] Домой ли, чтобы то самое изображение прославленного мужа[1085], своего отца, на которое он, несколькими днями ранее, принимая поздравления, смотрел, когда оно было украшено лаврами, увидеть обезображенным от позора и плачущим? Или к матери своей, которая недавно обнимала своего сына-консула, а теперь, несчастная, мучается в тревоге, что она вскоре увидит его лишенным всех знаков его высокого положения? (89) Но зачем я говорю о матери и о доме того человека, которого новая кара[1086] по закону лишает и дома, и матери, и общения со всеми близкими ему людьми? Следовательно, он, в своем несчастье, удалится в изгнание? Куда? В страны Востока, где он много лет был легатом, полководцем, совершил величайшие подвиги? Но очень прискорбно туда, откуда ты уехал с почетом, возвращаться опозоренным. Или же он отправится на другой край света, чтобы того, кого Трансальпийская Галлия недавно с великой радостью видела облеченным высшим империем, она теперь увидела в печали, в юдоли и в изгнании? Более того, как встретится он в этой провинции со своим братом, Гаем Муреной? Какова будет скорбь одного, каково будет горе другого, каковы будут сетования их обоих! Какая потрясающая перемена судьбы! Что будут говорить там, где несколькими днями ранее прославляли избрание Мурены в консулы и откуда его гостеприимцы и друзья съезжались в Рим поздравить его! И там он вдруг появится сам в качестве вестника своего несчастья! (90) Если все это тяжко, горестно и плачевно, если все это противоречит вашему чувству жалости и сострадания, судьи, то сохраните Мурене милость, оказанную ему римским народом, возвратите государству консула, сделайте это ради его доброго имени, ради его умершего отца, его рода и семьи, ради честнейшего муниципия Ланувия; ведь толпы его опечаленных жителей вы видели здесь при разборе всего этого дела. Не отрывайте от священнодействий в честь Юноны Спасительницы, которые все консулы должны совершать, консула, унаследовавшего эти обряды от предков, консула ей близкого и родного. Если мои слова, судьи, и мое поручительство имеют значение и авторитет, то я, как консул препоручает консула, препоручаю вам Мурену, усерднейшего сторонника мира среди граждан, глубоко преданного честным людям, непримиримого противника мятежей, храбрейшего воина и ярого борца против заговора, который ныне колеблет устои государства. Что Мурена таков и будет, это я вам обещаю и за это ручаюсь.
14. Речь в защиту Публия Корнелия Суллы [В суде, середина 62 г. до н. э.]
Публий Корнелий Сулла был родственником диктатора Суллы и разбогател во время проскрипций 82 г.
В 66 г. он участвовал в попытке достигнуть высших магистратур путем тайного объединения людей, связанных между собой клятвой (конъюрация). Главными руководителями этого заговора, по некоторым данным, были Марк Лициний Красс и Гай Юлий Цезарь. В случае удачи Красс должен был стать диктатором, а Цезарь — его помощником (начальником конницы). В заговоре участвовали Луций Сергий Катилина, Гней Кальпурний Писон и другие разорившиеся нобили.
В консулы на 65 г. были избраны Публий Сулла и Публий Автроний Пет. Луций Манлий Торкват, сын Луция Торквата, добивавшегося консульства, но не избранного, на основании Кальпурниева закона обвинил Суллу в домогательстве. Сулла был осужден, его избрание в консулы было кассировано. Такая же судьба постигла и Автрония. В консулы на 65 г. были избраны Луций Манлий Торкват и Луций Аврелий Котта. Сулла и Автроний присоединились к заговорщикам. Заговорщики решили убить консулов и видных сенаторов 1 января 65 г., во время торжественного собрания сената и жертвоприношения, и захватить власть. Об этом стало известно, и выступление перенесли на 5 февраля, но и этот замысел не был осуществлен. Несмотря на огласку, заговорщики остались безнаказанными, а Гней Писон даже был избран в квесторы.
Впоследствии Сулла жил в Неаполе, где приобрел для себя гладиаторов — будто бы для устройства боев в память диктатора Суллы — и общался с Публием Ситтием, явно причастным к заговору Катилины; но прямых указаний на причастность Суллы к заговору 63 г. нет.
В 62 г., наряду с другими лицами, привлеченными к суду на основании Плавциева закона о насильственных действиях (сенаторы Луций Варгунтей, Марк Порций Лека, Публий Автроний и др.), к суду был привлечен и Сулла. Его обвинителем был Луций Торкват, сын консула 65 г. Вторым обвинителем (субскриптором) был Гай Корнелий, отец которого в 63 г. намеревался убить Цицерона. Из всех людей, привлеченных в 62 г. к суду за участие в заговоре Катилины, Сулла оказался единственным человеком, которого Цицерон согласился защищать. Цицерону пришлось оправдывать перед судьями свое выступление в защиту человека, обвиненного в причастности к заговору Катилины. Суд оправдал Луция Суллу[1087].
Во время гражданской войны Сулла был на стороне Цезаря. После его победы Сулла обогатился за счет конфискованного имущества помпеянцев. Публий Сулла умер в 45 г. См. Цицерон, письма Att., IV, 3, 3 (XCII); 18, 3 (CLII); XI, 21, 2 (CCCCXLIV); 22, 2 (CCCCXLV); Q. fr., III, 3, 2 (CXLIX); Fam., IX, 10, 3 (DXXXV); 15, 5 (CCCCXCIV); XV, 17, 2 (DXLI); 19, 3 (DXLV); Цезарь, «Гражданская война», III, 51. См. вводное примечание к речам 9—12.
(I, 1) Мне было бы гораздо приятнее, судьи, если бы Публию Сулле некогда удалось достигнуть высокого положения и блеска и если бы после несчастья, постигшего его, он был вознагражден за свою умеренность. Но неблагоприятное стечение обстоятельств привело, с одной стороны, к тому, что он из-за всеобщей неприязни к искательству и вследствие исключительной ненависти к Автронию был лишен почета, связанного с высокой должностью, с другой стороны, к тому, что все еще находятся люди, гнева которых он не смог бы насытить даже видом своей казни, хотя теперь уже от его прежнего благополучия остаются лишь жалкие крохи; поэтому, хотя мое огорчение из-за несчастий, постигших его, и велико, все же я, несмотря на свои злоключения[1088], рад воспользоваться удобным случаем, когда честные мужи могут оценить мою мягкость и милосердие, некогда известные всем, а теперь будто бы исчезнувшие, бесчестные же и пропащие граждане, окончательно обузданные и побежденные, должны будут признать, что я, когда государство рушилось, показал себя непреклонным и мужественным, а после того, как оно было спасено[1089], — мягким и сострадательным. (2) Коль скоро Луций Торкват, очень близкий мне человек[1090], судьи, полагал, что он, если не станет в своей обвинительной речи считаться с нашими тесными дружескими отношениями, сможет тем самым несколько умалить убедительность моей защитительной речи, то я, устраняя опасность, угрожающую Публию Сулле, докажу, что я верен своему долгу. Я, конечно, не стал бы при нынешних обстоятельствах выступать с такой речью, судьи, если бы это имело значение только для меня; ведь уже во многих случаях у меня была возможность поговорить о своих заслугах, и она представится мне еще не раз; но подобно тому как Луций Торкват понял, что в той же мере, в какой он подорвет мой авторитет, он ослабит и средства защиты Публия Суллы, так и я думаю следующее: если я объясню вам причины своего поведения и докажу, что я, защищая Публия Суллу, неуклонно выполняю свой долг, то тем самым я докажу и невиновность Суллы.
(3) Прежде всего я спрашиваю тебя, Луций Торкват, об одном: почему ты, когда дело идет об этом долге и о праве защиты, отделяешь меня от других прославленных мужей и первых людей среди наших граждан? По какой это причине ты не порицаешь поведения Квинта Гортенсия[1091], прославленного и виднейшего мужа, а мое порицаешь? Ведь если Публий Сулла действительно возымел намерение предать этот город пламени, уничтожить державу, истребить граждан, то не у меня ли должно это вызывать скорбь бо́льшую, чем у Квинта Гортенсия, не у меня ли — бо́льшую ненависть? Наконец, не мое ли суждение о том, кому следует помогать в судебных делах такого рода, на кого нападать, кого следует защищать, кого оставить на произвол судьбы, должно быть наиболее строгим? «Да, — отвечает обвинитель, — ведь это ты напал на след заговора, это ты его раскрыл». (II, 4) Говоря так, он упускает из виду следующее: ведь человек, раскрывший заговор, позаботился также и о том, чтобы то, что ранее было тайным, теперь увидели все. Таким образом, этот заговор, если он был раскрыт благодаря мне, явен для Гортенсия так же, как и для меня. Если Гортенсий, при своем высоком положении, влиянии, доблести, мудрости, как видишь, не поколебался утверждать, что Публий Сулла невиновен, то почему, спрашиваю я, мне должен быть прегражден доступ к делу, открытый для Гортенсия? Я спрашиваю также и вот о чем: если ты считаешь, что за выступление в защиту Публия Суллы меня следует порицать, то что ты думаешь об этих вот выдающихся мужах и прославленных гражданах, чье рвение и высокие достоинства, как видишь, привлекли столь многих на этот суд, принесли этому делу широкую известность и служат доказательством невиновности Публия Суллы? Ибо произнесение речи не единственный способ защиты: все, кто присутствует здесь[1092], кто тревожится, кто хочет, чтобы Публий Сулла был невредим, защищают его в меру своих возможностей и влияния. (5) Как мог бы я, достигший ценой многих трудов и опасностей столь высокого звания и достойнейшего положения, не стремиться занять свое место на этих скамьях[1093], где я вижу все украшения и светочи государства? Впрочем, Торкват, чтобы понять, кого ты обвиняешь, — а тебя, как видно, удивляет, что я, никогда будто бы по делам такого рода не выступавший, Публию Сулле в поддержке не отказал, — подумай и о тех, кого ты видишь перед собой, и ты поймешь, что мое и их суждение и о Публии Сулле, и о других людях совершенно одинаково. (6) Кто из нас поддержал Варгунтея?[1094] Никто, даже присутствующий здесь Квинт Гортенсий, хотя ранее, что особенно важно, он один защищал Варгунтея от обвинения в незаконном домогательстве должности; но теперь Гортенсий уже не считает себя связанным с ним каким-либо обязательством — после того, как Варгунтей совершил столь тяжкое преступление и тем самым расторг союз, основанный на выполнении взаимных обязанностей. Кто из нас считал нужным защищать Сервия, кто — Публия Суллу[1095], кто — Марка Леку, кто — Гая Корнелия? Кто из присутствующих поддержал их? Никто. Почему же? Да потому, что в других судебных делах честные мужи считают недопустимым покидать даже виновных людей, если это их близкие; что же касается именно этого обвинения, то если станешь защищать человека, на которого падает подозрение в том, что он замешан в деле отцеубийства отчизны[1096], ты будешь не только виноват в необдуманном поступке, но в какой-то мере также и причастен к злодеянию. (7) Далее, разве Автронию не отказали в помощи его сотоварищи, его коллеги[1097], его старые друзья, которых у него когда-то было так много? Разве ему не отказали все эти люди, первенствующие в государстве? Мало того, большинство из них даже дало свидетельские показания против него. Они решили, что его поступок столь тяжкое злодеяние, что они не только не должны помогать ему утаить его, но обязаны его раскрыть и полностью доказать.
(III) Так почему же ты удивляешься, видя, что я выступаю на стороне обвиняемого в этом судебном деле вместе с теми же людьми, заодно с которыми я отказал в поддержке обвиняемым по другим делам? Уж не хочешь ли ты, чего доброго, чтобы один я прослыл более диким, чем кто-либо другой, более суровым, более бесчеловечным, наделенным исключительной свирепостью и жестокостью? (8) Если ты, Торкват, ввиду моих действий, возлагаешь на меня эту роль на всю мою жизнь, то ты сильно ошибаешься. Природа велела мне быть сострадательным, отчизна — быть суровым; быть жестоким мне не велели ни отчизна, ни природа; наконец, от этой самой роли решительного и сурового человек, возложенной тогда на меня обстоятельствами и государством, меня уже освободила моя природная склонность, ибо государство потребовало от меня суровости на короткое время, а склонность моя требует от меня сострадательности и мягкости в течение всей моей жизни. (9) Поэтому у тебя нет оснований меня одного отделять от такого множества окружающих меня прославленных мужей. Ясен долг и одинаковы задачи всех честных людей. Впредь у тебя не будет оснований изумляться, если на той стороне, на какой ты заметишь этих вот людей, ты увидишь и меня; ибо в государстве я не занимаю какого-либо особого положения; действовать было мне более удобно, чем другим; но повод для скорби, страха и опасности был общим для всех; я бы в тот раз не мог первым вступить на путь спасения государства, если бы другие люди отказалась быть моими спутниками. Поэтому все то, что было моей исключительной обязанностью, когда я был консулом, для меня, ныне уже частного лица, неминуемо должно быть общим делом вместе с другими. И я говорю это не для того, чтобы навлечь на кого-либо ненависть, а для того, чтобы поделиться своей заслугой; доли своего бремени не уделяю никому, долю славы — всем честным людям. (10) «Против Автрония ты дал свидетельские показания, — говорит обвинитель, — Суллу ты защищаешь». Смысл всех этих слов таков, судьи: если я действительно не последователен и не стоек, то моим свидетельским показаниям не надо было придавать веры, а теперь моей защитительной речи тоже не надо придавать значения; коль скоро забота о пользе государства, сознание своего долга перед частными лицами, стремление сохранить расположение честных людей мне присущи, то у обвинителя нет никаких оснований упрекать меня в том, что Суллу я защищаю, а против Автрония дал свидетельские показания. Ведь для защиты в суде я не только прилагаю усердие, но в какой-то мере опираюсь и на свое доброе имя и влияние; последним средством я, конечно, буду пользоваться с большой умеренностью, судьи, и вообще не воспользовался бы им, если бы обвинитель не заставил меня это сделать.
(IV, 11) Ты утверждаешь, Торкват, что было два заговора: один, который, как говорят, был устроен в консульство Лепида и Волькация, когда твой отец был избранным консулом[1098]; другой — в мое консульство; по твоим словам, к обоим заговорам Сулла был причастен. Ты знаешь, что в совещаниях у твоего отца, храбрейшего мужа и честнейшего консула, я участия не принимал. Хотя я и был очень хорошо знаком с тобой, все же я, как ты знаешь, не имел отношения к тому, что тогда происходило и говорилось, очевидно, потому, что я еще не всецело посвятил себя государственной деятельности[1099], так как еще не достиг намеченного себе предела почета, так как подготовка собрания и труды на форуме[1100] отвлекали меня от размышлений о тогдашнем положении дел. (12) Кто же участвовал в ваших совещаниях? Все эти люди, которые, как видишь, поддерживают Суллу, и прежде всего Квинт Гортенсий. Его как ввиду его почетного и высокого положения и исключительной преданности государству, так и ввиду теснейшей дружбы и величайшей привязанности к твоему отцу сильно тревожили опасности — общие для всех и угрожавшие именно твоему отцу. Итак, обвинение насчет участия Суллы в этом заговоре было опровергнуто как раз тем человеком, который был участником этих событий, расследовал их, обсуждал их вместе с вами и разделял ваши опасения; хотя его речь, опровергающая это обвинение, отличалась большой пышностью и была сильно разукрашена, она была столь же убедительна, сколь и изысканна. Итак, по вопросу о том заговоре, устроенном, как говорят, против вас, о котором вас оповестили и вы сами сообщили, быть свидетелем я никак не мог: я не только не имел о заговоре никаких сведений, но даже до ушей моих дошла только молва о подозрении. (13) Что же касается тех лиц, которые у вас совещались и вместе с вами расследовали все это дело, тех, для кого тогда, как считали, создавалась непосредственная опасность, кто не поддержал Автрония, кто дал против него важные свидетельские показания, то эти самые лица защищают Публия Суллу, поддерживают его и теперь, когда он в опасности, заявляют, что от оказания поддержки другим лицам их отпугнуло вовсе не обвинение этих последних в заговоре, а их действительные злодеяния. Что же касается времени моего консульства и обвинения Суллы в участии в главном заговоре, то защитником буду я. Это распределение защиты произведено, судьи, между нами не случайно и не наобум; более того, каждый из нас, видя, что нас приглашают в качестве защитников по тем судебным делам, по каким мы могли бы быть свидетелями, признал нужным взяться за то, о чем он сам мог кое-что знать и составить себе собственное мнение. (V, 14) А так как вы внимательно выслушали Гортенсия, говорившего об обвинениях Публия Суллы в участии в первом заговоре, то я сначала расскажу вам о заговоре, устроенном в мое консульство.
В бытность свою консулом многое услыхал я о величайших опасностях для государства, многое расследовал, многое узнал; никаких известий никогда не доходило до меня насчет Суллы: ни доноса, ни письма, ни подозрения. Голос того человека, который в бытность свою консулом благодаря своей проницательности разведал злые умыслы против государства, со всей убедительностью раскрыл их, благодаря мужеству своему покарал виновных, мне думается, должен был бы иметь огромное значение, как и если бы этот человек сказал, что он о причастности Публия Суллы ничего не слыхал и его ни в чем не заподозрил. Но я пока еще пользуюсь этим голосом не для того, чтобы защищать Суллу; дабы себя обелить, я лучше воспользуюсь им — с тем, чтобы Торкват перестал удивляться тому, что я, не поддержав Автрония, защищаю Суллу. (15) И действительно, каково было дело Автрония? Каково теперь дело Суллы? Слушание дела о незаконном домогательстве Автроний захотел прервать, а судей — разогнать, сначала мятежными выступлениями гладиаторов и беглых рабов, а затем, как все мы видели сами, с помощью толпы, бросавшей камни. Сулла же, полагаясь на свое чувство чести и на свое достоинство, ни у кого помощи не искал. Автроний после своего осуждения держал себя так, что не только его помыслы и речи, но также и весь его вид и выражение лица изобличали в нем недруга высших сословий, угрозу для всех честных людей, врага отчизны. Сулла же почувствовал себя настолько сломленным и униженным своим несчастьем, что от его прежнего достоинства ему, по его мнению, удалось сохранить только свое самообладание. (16) Что касается этого последнего заговора, то кто был так тесно связан с Катилиной и Лентулом[1101], как Автроний? Был ли между какими-либо людьми такой тесный союз в честнейших делах, какой был между Автронием и ими в преступлениях, произволе, дерзости? Какую задуманную им гнусность Лентул совершил не вместе с Автронием? При каком злодеянии Катилина обошелся без участия того же Автрония? Между тем Сулла тогда не только не выбирал ночного времени и уединения для совещаний с теми людьми, но не встречался с ними даже для краткой беседы. (17) Автрония изобличили аллоброги, правдивейшие свидетели важнейших событий, изобличили письма и устные сообщения многих людей; между тем Суллу никто не заподозрил, его имени никто не назвал. Наконец, после того как Катилину уже изгнали, вернее, выпустили из Рима, Автроний отправил ему оружие, рожки, трубы, связки, знаки легиона[1102]; его оставили в стенах Рима и ждали в лагере[1103], но казнь Лентула задержала его в городе; он перепугался, но не образумился. Сулла, напротив, ни в чем участия не принимал и в течение всего того времени находился в Неаполе, где людей, заподозренных в причастности к этому заговору, не было, да и природа этого места не столько волнует людей, которых постигло несчастье, сколько их успокаивает.
(VI) Именно вследствие столь огромного различия между этими двумя людьми и их судебными делами я и обошелся с ними по-разному. (18) Приходил ведь ко мне Автроний и приходил не раз и со слезами молил меня о защите; напоминал мне, что он был моим соучеником в детстве, приятелем в юности, коллегой по квестуре; ссылался на многочисленные услуги, оказанные ему мною, и на некоторые услуги, оказанные им мне. Все это, судьи, меня настолько трогало и волновало, что я уже был готов вычеркнуть из своей памяти те козни, которые он строил против меня в прошлом, и я уже начинал забывать, что им был подослан Гай Корнелий, чтобы убить меня в моем доме, на глазах у моей жены и детей[1104]. Если бы его замыслы угрожали мне одному, то я при своей уступчивости и душевной мягкости, клянусь Геркулесом, никогда бы не устоял против его слезных просьб; (19) когда же я вспоминал об отчизне, об опасностях, грозивших вам, об этом городе, о тех вон святилищах и храмах, о младенцах, матронах и девушках, когда я представлял себе воочию грозные и зловещие факелы и пожар Рима, сражения, резню, кровь граждан и пепел отчизны, когда эти воспоминания растравляли мою душу, вот тогда я и отвечал ему отказом и не только ему самому, врагу и братоубийце, но также этим вот его близким людям — Марцеллам, отцу и сыну; первого я почитал, как отца, второй был дорог мне, как сын[1105]. Однако я думал, что совершу величайшее преступление, если я, покарав злодеев, их заведомого союзника возьмусь защищать. (20) Но в то же время я был не в силах ни слушать мольбы Публия Суллы, ни видеть тех же Марцеллов в слезах из-за опасностей, грозивших ему, ни устоять против просьб этого вот Марка Мессаллы, близкого мне человека[1106]; ибо ни суть дела не была противна моему характеру, ни личность Публия Суллы, ни обстоятельства его дела не препятствовали мне быть сострадательным. Нигде не значилось его имени; нигде не было и следа его соучастия: ни обвинения, ни доноса, ни подозрения. Я взялся за это дело, Торкват, взялся за него и сделал это охотно — для того, чтобы меня, которого честные люди, надеюсь, всегда считали непоколебимым, даже бесчестные не называли жестоким.
(VII, 21) В связи с этим, судьи, обвинитель говорит, что он не может терпеть мою царскую власть[1107]. О какой же это царской власти ты говоришь, Торкват? Если не ошибаюсь, речь идет о моем консульстве? Но в это время я вовсе не властвовал, а, наоборот, повиновался отцам-сенаторам и всем честным людям; именно в то время, когда я был облечен полномочиями, царская власть, как это ясно для всех, мной была не установлена, а подавлена[1108]. Или ты говоришь, что не в то время, когда я обладал таким империем и такой властью[1109], я был царем, а именно теперь я, будучи частным лицом, говоришь ты, царствую? «Потому что те, против кого ты выступил как свидетель, — говорит он, — осуждены; тот, кого ты защищаешь, надеется на оправдание». О моих свидетельских показаниях отвечу тебе вот что: положим, они были ложны; но против тех же людей выступал также и ты; если же они были правдивы, то согласно присяге говорить правду и приводить доказательства не значит царствовать. Что же касается надежд, питаемых Публием Суллой, то я скажу одно: он не рассчитывает ни на мое положение, ни на мое могущество, словом, ни на что, кроме моей честности как защитника. (22) «Если бы ты, — говорит обвинитель, — не взялся за дело Публия Суллы, он никогда не устоял бы против меня, но удалился бы в изгнание еще до разбора дела в суде»[1110]. Если я, уступая тебе, даже соглашусь признать, что Квинт Гортенсий, человек, обладающий таким большим достоинством, и эти столь значительные мужи руководствуются не своим суждением, а моим; если я соглашусь с твоим невероятным утверждением, будто они, если бы я не поддерживал Публия Суллы, тоже не стали бы поддерживать его, то кто же из нас двоих ведет себя как царь: тот ли, против кого не могут устоять невиновные люди, или же тот, кто не оставляет людей в беде? Но здесь ты — что было совсем некстати — захотел быть остроумным и назвал меня третьим чужеземным царем после Тарквиния и Нумы[1111]. Насчет «царя» я уже не стану спрашивать тебя; я спрашиваю вот о чем: почему ты сказал, что я чужеземец?[1112] Если я — чужеземец, то следует удивляться не столько тому, что я — царь (так как, по твоим словам, и чужеземцы бывали царями в Риме), сколько тому, что чужеземец был в Риме консулом. «Я утверждаю одно, — говорит он, — ты происходишь из муниципия»[1113]. (23) Признаю это и даже добавляю: из того муниципия, из которого уже во второй раз этому городу и нашей державе было даровано спасение[1114]. Но я очень хотел бы узнать от тебя, почему те, которые приезжают из муниципиев, кажутся тебе чужеземцами. Никто никогда не корил этим ни знаменитого старца Марка Катона[1115], хотя у него и было очень много недругов, ни Тиберия Корункания[1116], ни Мания Курия[1117], ни даже самого нашего Гая Мария, хотя многие его ненавидели. Я, со своей стороны, очень рад, что ты, несмотря на все свое желание, не мог бросить мне в лицо такое оскорбление, которое не коснулось бы подавляющего большинства граждан[1118].
(VIII) Но все же я, придавая большое значение дружеским отношениям между нами, глубоко убежден в необходимости еще и еще раз указать тебе на следующее: все не могут быть патрициями, а если хочешь знать правду, даже и не стремятся ими быть[1119], да и ровесники твои не думают, что по этой причине у тебя есть какие-то преимущества перед ними. (24) А если чужеземцами тебе кажемся мы, чье имя и достоинства уже стали широко известны в этом городе и у всех на устах, то тебе, конечно, покажутся чужеземцами те твои соперники по соисканию, цвет всей Италии, которые поспорят с тобой о почете и всяческом достоинстве. Не вздумай назвать чужеземцем кого-либо из них, чтобы не потерпеть неудачи, когда эти самые чужеземцы начнут голосовать. Если они возьмутся за это дело смело и настойчиво, то, поверь мне, они выбьют из тебя это бахвальство, не раз встряхнут тебя от сна и не потерпят, чтобы ты, коль скоро они не уступят тебе в доблести, превзошел их в почете. (25) И даже если я и вы, судьи, иным патрициям казались чужеземцами, то Торквату все-таки следовало бы умолчать об этом нашем пороке; ведь и сам он муниципал со стороны матери, происходящей из рода, правда, глубоко почитаемого и знатнейшего, но все же аскульского[1120]. Итак, либо пусть он докажет, что одни только пиценцы не являются чужеземцами, либо пусть будет рад тому, что я не ставлю свой род выше его рода. Поэтому не называй меня впредь ни чужеземцем, дабы не получить более суровой отповеди, ни царем, дабы тебя не осмеяли. Или ты, быть может, считаешь царскими замашками жить так, чтобы не быть рабом, не говорю уже — человека, но даже страсти; презирать все излишества; не нуждаться ни в золоте, ни в серебре, ни в чем-либо другом; в сенате высказывать мнение независимо; заботиться более о пользе народа, чем о его прихотях; никому не уступать, многим противостоять? Если ты это считаешь царскими замашками, то признаю себя царем. Но если тебя возмущает моя власть, мое господство или, наконец, какие-нибудь мои заносчивые или надменные слова, то почему ты не скажешь этого прямо, а пользуешься ненавистным для всех словом и прибегаешь к оскорбительной брани?
(IX, 26) Что же касается меня самого, то, если бы я, оказав государству такие большие услуги, не требовал для себя от сената и римского народа никакой иной награды, кроме предоставления мне почетного покоя, кто отказал бы мне в ней? Пусть другим достаются почести, им — империй, им — наместничества, им — триумфы, им — все прочие знаки славы и блеска; мне же пусть только позволят спокойно и безмятежно наслаждаться видом того города, который я спас[1121]. Но что, если я этого не требую? Если, как и прежде, мои труды и тревоги, мои служебные обязанности, мои старания, мои неусыпные заботы имеют своей целью служить моим друзьям и быть к услугам всех; если ни друзья мои, ни государство не замечают, что я стал менее усерден в делах, решающихся на форуме или в Курии[1122], если я не только не требую предоставления мне отдыха на основании подвигов, совершенных мной, но и думаю, что ни мое высокое положение, ни мой возраст не дают мне права отказываться от труда; если моя воля и настойчивость к услугам всех людей, если мой дом, мой ум, мои уши для всех открыты; если у меня не остается времени даже для того, чтобы вспомнить и обдумать то, что я совершил ради всеобщего спасения[1123], то будет ли это все-таки называться царской властью? Ведь человека, который согласился бы заменить такого царя, найти невозможно. (27) Нет ни малейших оснований подозревать меня в стремлении к царской власти. Если ты хочешь знать, кто такие были люди, пытавшиеся захватить царскую власть в Риме, то — дабы тебе не рыться в преданиях летописей — ты найдешь их среди своих родовых изображений[1124]. Послушать тебя, деяния мои чересчур высоко вознесли меня и внушили мне самомнение. Об этих столь славных, столь безмерных подвигах, судьи, могу сказать одно: я, избавивший этот город от величайших опасностей и спасший жизнь всех граждан, буду считать достаточной наградой, если это огромное благодеяние, оказанное мной всем людям, не навлечет опасности на меня самого. (28) И действительно, в каком государстве я совершил столь великие деяния, я помню; в каком городе нахожусь, понимаю. Форум заполняют люди, чей удар я отвел от вашей груди, но не отбил от своей. Или вы, быть может, думаете, что те, кто мог попытаться или кто надеялся уничтожить такую великую державу, были малочисленны? Вырвать факелы у них из рук и отнять у них мечи я мог, это я и сделал; что же касается их преступных и беззаконных замыслов, то ни изменить, ни подавить их я не мог. Поэтому я хорошо знаю, сколь опасно для меня жить среди такого множества бесчестных людей, когда, как я вижу, только я один вступил в вечную войну со всеми бесчестными.
(X, 29) И если ты, быть может, завидуешь тому, что у меня есть и некоторые средства защиты, и если признаком царской власти тебе кажется то, что все честные люди всех родов и сословий считают свое благополучие неотделимым от моего, то утешайся тем, что, напротив, все бесчестные люди чрезвычайно раздражены и враждебно настроены против меня одного — меня одного ненавидят они — и не только за то, что я пресек их нечестивые попытки и преступное неистовство, но еще больше за то, что они, по их мнению, уже не могут попытаться учинить что-нибудь подобное, пока я жив. (30) Почему же, однако, я удивляюсь, что бесчестные люди меня всячески поносят, если Луций Торкват, который, во-первых, и сам уже в юности заложил основания для успехов, видя перед собой возможность достигнуть наивысшего почета; во-вторых, хотя он и сын Луция Торквата, храбрейшего консула, непоколебимейшего сенатора, Луций Торкват, всегда бывший лучшим гражданином, все-таки порой заходит слишком далеко и бывает несдержан в речах? После того как он, понизив голос так, чтобы его могли услышать только вы, которые одобряете его слова, высказался о преступлении Публия Лентула, о дерзости всех заговорщиков, он во всеуслышание и сетуя говорил о казни, [о Лентуле,] о тюрьме. (31) Во-первых, он поступил нелепо; ему хотелось, чтобы сказанное им вполголоса вы одобрили, а те, кто стоял вокруг судилища, не услышали его; но при этом он не сообразил, что если его слова, сказанные громко, услышат те, кому он хотел угодить, то их услышите и вы, а вашего одобрения они не заслужат; во-вторых, большой недостаток оратора — не видеть, чего требует то или иное дело[1125]. Ведь самое неуместное, что может сделать тот, кто обвиняет другого в заговоре, — это оплакивать кару и смерть заговорщиков. Когда это делает тот народный трибун, который, по-видимому, единственный из числа заговорщиков, уцелел именно для того, чтобы их оплакивать[1126], то это ни у кого не вызывает удивления; ведь трудно молчать, когда скорбишь. Но то же самое делаешь и ты, не говорю уже — юноша из такой семьи, но даже в таком деле, в котором ты хочешь выступить как каратель за участие в заговоре, — вот что меня сильно удивляет. (32) Но более всего я порицаю тебя все-таки за то, что ты — при своей одаренности и при уме — не стоишь за интересы государства, думая, что римский плебс не одобряет действий, совершенных в мое консульство всеми честными людьми ради общего блага.
(XI) Кто из этих вот, присутствующих здесь людей, перед которыми ты, вопреки их желанию, заискивал, был, по твоему мнению, либо столь преступен, чтобы жаждать гибели всего, что мы видим перед собой, либо столь несчастен, чтобы и желать своей собственной гибели, и не иметь ничего, что ему хотелось бы спасти? Разве кто-нибудь осуждает прославленного мужа, носившего ваше родовое имя, за то, что он казнил своего сына, дабы укрепить свою власть?[1127] А ты порицаешь государство, которое уничтожило внутренних врагов, чтобы не быть уничтоженным ими. (33) Поэтому посуди сам, Торкват, уклоняюсь ли я от ответственности за свое консульство! Громогласно, дабы все могли меня хорошо слышать, я говорю и всегда буду говорить: почтите меня своим вниманием вы, почтившие меня своим присутствием и притом в таком огромном числе, чему я чрезвычайно рад; слушайте меня внимательно, напрягите свой слух, я расскажу вам о событиях, которые, как полагает обвинитель, возмущают всех. Это я, в бытность свою консулом, когда войско пропащих граждан, втайне сколоченное преступниками, уготовало нашему отечеству мучительную и плачевную гибель, когда Катилина в своих лагерях грозил государству полным уничтожением, а в наших храмах и домах предводителем стал Лентул, я своими решениями, своими трудами, с опасностью для своей жизни, не объявляя ни чрезвычайного положения[1128], ни военного набора[1129], без применения оружия, без войска, схватив пятерых человек, сознавшихся в своем преступлении, спас Рим от поджога, граждан от истребления, Италию от опустошения, государство от гибели. Это я, покарав пятерых безумцев и негодяев[1130], спас жизнь всех граждан и порядок во всем мире, наконец, самый этот город, место, где все мы живем, прибежище для чужеземных царей и народов, светоч для иноземных племен, средоточие державы. (34) Или ты думал, что я, не присягнув, не скажу на суде того, что я, присягнув, сказал на многолюднейшей сходке?[1131] (XII) А чтобы никому из бесчестных людей не вздумалось проникнуться приязнью к тебе, Торкват, и возлагать на тебя надежды, я скажу следующее и скажу это во всеуслышание, дабы это дошло до слуха всех: во всех тех действиях, какие я предпринял и совершил в свое консульство ради спасения государства, этот же самый Луций Торкват, мой соратник во время моего консульства (да и ранее во время моей претуры), был в то же время моим советчиком и помощником и принимал участие в событиях, так как был главой, советчиком и знаменосцем юношества[1132]. Что же касается его отца, человека, глубоко любящего отечество, обладающего величайшим присутствием духа, исключительной непоколебимостью, то он, хотя и был болен, все же принял участие во всех событиях того времени, никогда не покидал меня и своим рвением, советом, влиянием оказал мне величайшую помощь, превозмогая слабость своего тела доблестью своего духа. (35) Видишь ли ты, как я отрываю тебя от бесчестных людей с их мимолетной приязнью и снова мирю со всеми честными? Бесчестные расположены к тебе, они хотят удержать тебя на своей стороне и всегда будут хотеть этого, а если ты вдруг даже отойдешь от меня, они не потерпят, чтобы ты вследствие этого изменил им, нашему государству и своему собственному достоинству.
Но теперь я возвращаюсь к делу, а вы, судьи, засвидетельствуйте, что говорить так много обо мне самом заставил меня Торкват. Если бы он обвинил одного только Суллу, то я даже в настоящее время не стал бы заниматься ничем иным, кроме защиты обвиняемого; но так как он на протяжении всей своей речи нападал на меня и, как я сказал вначале, хотел подорвать доверие к моей защитительной речи, то, даже если бы моя скорбь по этому поводу не заставила меня отвечать, само дело все-таки потребовало бы от меня сказать все это.
(XIII, 36) Аллоброги, утверждаешь ты, назвали имя Суллы. Кто же это отрицает? Но прочти их показания и посмотри, как именно он был назван. Луций Кассий[1133], сказали они, упомянул, что с ним заодно был Автроний вместе с другими лицами. Я спрашиваю: разве Кассий назвал Суллу? Вовсе нет. Аллоброги, по их словам, спросили Кассия, каковы взгляды Суллы. Обратите внимание на осторожность галлов: хотя они ничего не знали об образе жизни и характере этих двух людей и только слышали, что их постигло одно и то же несчастье[1134], они спросили, одинаково ли они настроены. Что же тогда сказал Кассий? Даже если бы он ответил, что Сулла придерживается тех же взглядов, каких придерживается и он сам, и действует с ним заодно, то мне и тогда это не показалось бы достаточным основанием для привлечения Суллы к суду. Почему так? Потому что тот, кто подстрекал варваров к войне, не должен был ослаблять их подозрения и обелять тех людей, насчет которых они, видимо, кое-что подозревали[1135]. (37) И все же Кассий не ответил, что Сулла заодно с ним. В самом деле, было бы нелепо, если бы он, добровольно назвав других заговорщиков, не упомянул о Сулле, пока ему о нем не напомнили и его об этом не спросили. Или, быть может, Кассий не помнил имени Публия Суллы? Если бы знатность Суллы, несчастья, постигшие его, его прежнее достоинство, ныне пошатнувшееся, не были так известны, то все же упоминание об Автронии вызвало бы в памяти Кассия имя Суллы; более того, Кассий, перечисляя влиятельных людей среди вожаков заговора, чтобы таким путем воздействовать на аллоброгов, и зная, что на чужеземцев сильнее всего действует знатность происхождения, мне думается, упомянул бы имя Автрония только после имени Суллы. (38) И уже совершенно никого не убедить в том, что, когда галлы, после того как было названо имя Автрония, сочли нужным разузнать что-нибудь насчет Суллы только потому, что Автрония и Суллу постигло одинаковое несчастье, то Кассий — будь Сулла причастен к тому же преступлению — мог бы не вспомнить о нем даже после того, как уже назвал имя Автрония. Но что Кассий все-таки ответил насчет Суллы? Что он не знает о нем ничего определенного. «Он не обеляет Суллы», — говорит обвинитель. Ранее я сказал: даже если бы Кассий оговорил его, как только об этом спросили его, то и тогда это не показалось бы мне достаточным основанием, чтобы привлечь Суллу к суду. (39) Но я думаю, что в суде по гражданским делам и в судах по уголовным делам вопрос должен ставиться не о том, доказана ли невиновность обвиняемого, а о том, доказано ли само обвинение. И в самом деле, когда Кассий утверждает, что он не знает ничего определенного, то делает ли он это, чтобы облегчить положение Суллы, или же действительно ничего не знает? — «Он обеляет Суллу перед галлами». — Зачем? — «Чтобы они на него не донесли». — Как же так? Если бы у Кассия явилось опасение, что они рано или поздно донесут, то неужели он сознался бы в своем собственном участии? — «Нет, он, по-видимому, ничего не знал». Если так, то Кассия, очевидно, держали в неведении насчет одного только Суллы; ибо об остальных он был отлично осведомлен; ведь было известно, что почти всё задумали у него в доме. Чтобы обнадежить галлов, он не хотел отрицать, что Сулла принадлежит к числу заговорщиков, но и сказать неправду не осмелился; вот он и сказал, что ничего не знает. Но ясно одно: если тот, кому обо всех прочих участниках было известно все, заявил, что о Сулле он ничего не знает, то его отрицание имеет такое же значение, какое имело бы его утверждение, что, по его сведениям, Сулла к заговору непричастен. Ибо если тот, о ком достоверно известно, что он знал все обо всех заговорщиках, говорит, что он о том или ином человеке ничего не знает, то следует признать, что этим самым он его уже обелил. Но я уже не спрашиваю, обеляет ли Кассий Суллу. Для меня достаточно и того, что против Суллы в его показаниях нет ничего.
(XIV, 40) Потерпев неудачу по этой статье обвинения, Торкват снова набрасывается на меня, укоряет меня; послушать его, я внес показания в официальные отчеты не в той форме, в какой они были даны. О, бессмертные боги! Вам воздаю я подобающую вам благодарность; ибо поистине я не могу достичь своим умом столь многого, чтобы в стольких событиях, столь важных, столь разнообразных, столь неожиданных, во время сильнейшей бури, разразившейся над государством, разобраться своими силами; нет, это вы, конечно, зажгли меня в ту пору страстным желанием спасти отечество; это вы отвлекли меня от всех прочих помышлений и обратили к одному — к спасению государства; это благодаря вам, наконец, среди такого мрака заблуждения и неведения перед моим умственным взором зажегся ярчайший светоч. (41) Тогда-то я и понял, судьи: если я, на основании свежих воспоминаний сената, не засвидетельствую подлинности этих показаний официальными записями, то когда-нибудь не Торкват и не человек, подобный Торквату (хотя именно в этом я глубоко ошибся), а какой-нибудь другой человек, растративший отцовское наследство, недруг спокойствию, честным людям враг, скажет, что показания эти были иными, и, вызвав таким образом шквал, который обрушится на всех честнейших людей, постарается найти в несчастьях государства спасительную пристань, чтобы укрыться от своих личных бедствий. Поэтому, когда доносчиков привели в сенат[1136], я поручил нескольким сенаторам записывать со всей точностью все слова доносчиков, вопросы и ответы. (42) И каким мужам я поручил это! Не говорю уже — мужам выдающейся доблести и честности (в таких людях в сенате недостатка не было), но таким, которые, как я знал, благодаря их памяти, знаниям и умению быстро записывать, могли очень легко следить за всем тем, что говорилось: Гаю Косконию, который тогда был претором, Марку Мессалле, который тогда добивался претуры, Публию Нигидию, Аппию Клавдию[1137]. Думается мне, никто не станет утверждать, что эти люди недостаточно честны и недостаточно умны и не сумели верно передать все сказанное.
(XV) Что же было впоследствии? Что сделал я? Зная, что показания, правда, внесены в официальные отчеты, но эти ответы, по обычаю предков, все же находятся в моем личном распоряжении[1138], я не стал прятать их и не оставил их у себя дома, но приказал, чтобы они тотчас же были переписаны всеми писцами, разосланы повсеместно, распространены и розданы римскому народу. Я разослал их по всей Италии, разослал во все провинции. Я хотел, чтобы не было человека, который бы не знал о показаниях, принесших спасение всем гражданам. (43) Поэтому, утверждаю я, во всем мире нет места, где было бы известно имя римского народа и куда бы не дошли эти показания в переписанном виде. В то столь богатое неожиданностями смутное время, не допускавшее промедления, я, как уже говорил, по внушению богов, а не по своему разумению, предусмотрел многое. Во-первых, чтобы никто не мог, вспоминая об опасности, угрожавшей государству или отдельным лицам, думать о ней то, что ему заблагорассудится; во-вторых, чтобы никому нельзя было ни оспорить эти показания, ни посетовать на легковерие, будто бы проявленное к ним; в-третьих, чтобы впредь ни меня ни о чем не расспрашивали, ни в моих заметках не справлялись, дабы никому не казалось, что я уж очень забывчив или чересчур памятлив; словом, чтобы меня не обвиняли в постыдной небрежности или жестокой придирчивости. (44) Но я все-таки спрашиваю тебя, Торкват: положим, что против твоего недруга были даны показания и что сенат в полном составе был этому свидетелем, что воспоминания еще были свежи; ведь тебе, моему близкому человеку и соратнику, мои писцы, если бы ты захотел, сообщили бы показания даже до внесения их в книгу; почему ты промолчал, если видел, что их вносят с искажениями, почему ты допустил это, не пожаловался мне или же моему близкому другу[1139] или же — коль скоро ты с такой легкостью нападаешь на своих друзей — не потребовал объяснений более резко и настойчиво? Тебе ли — хотя твой голос и не был слышен ни при каких обстоятельствах, хотя ты, после того как показания были прочитаны, переписаны и распространены, бездействовал и молчал — неожиданно прибегать к такому злостному вымыслу и ставить себя в такое положение, когда ты еще до того, как станешь меня уличать в подлоге показаний, своим собственным суждением сам признаешь доказанной свою величайшую небрежность?
(XVI, 45) Неужели чье-либо благополучие могло быть для меня настолько ценным, чтобы я пренебрег своим собственным? Неужели я стал бы истину, раскрытую мной, пятнать ложью? Неужели я оказал бы помощь кому-либо из тех, кто, по моему убеждению, строил жестокие козни против государства и притом именно в мое консульство? И если бы я даже забыл свою суровость и непоколебимость, то настолько ли безумен я был, что — в то время как письменность для того и изобретена, чтобы она служила нашим потомкам и могла быть средством против забвения, — мог думать, что свежие воспоминания всего сената могут иметь меньшее значение, чем мои записи? (46) Терплю я тебя, Торкват, уже давно терплю и иногда сам себя успокаиваю и сдерживаю свое возмущение, побуждающее меня наказать тебя за твою речь; кое-что я объясняю твоей вспыльчивостью, снисхожу к твоей молодости, делаю уступку дружбе, считаюсь с твоим отцом; но если ты сам не будешь соблюдать какой-то меры, ты заставишь меня, забыв о нашей дружбе, думать о своем достоинстве. Не было человека, который бы задел меня даже малейшим подозрением без того, чтобы я полностью не опроверг и не разбил его. Но, пожалуйста, поверь мне, что я обычно наиболее охотно отвечаю не тем, кого я, как мне кажется, могу одолеть с наибольшей легкостью. (47) Так как ты не можешь не знать моих обычных приемов при произнесении речи, не злоупотребляй этой необычной для меня мягкостью; не думай, что жала моей речи вырваны; нет, они только спрятаны; не думай, что я вовсе потерял их, раз я кое-что тебе простил и сделал тебе кое-какие уступки. Я объясняю твои обидные слова твоей вспыльчивостью, твоим возрастом; принимаю во внимание нашу дружбу; кроме того, не считаю тебя достаточно сильным и не вижу необходимости вступать с тобой в борьбу и меряться силами. Будь ты поопытнее, постарше и посильнее, то и я выступил бы так, как выступаю обычно, когда меня заденут; но теперь я буду держать себя с тобой так, чтобы было ясно, что я предпочел снести оскорбление, а не отплатить за него.
(XVII, 48) Но я, право, не могу понять, за что ты так рассердился на меня. Если за то, что я защищаю того, кого ты обвиняешь, то почему же я не сержусь на тебя за то, что ты обвиняешь того, кого я защищаю? «Я обвиняю, — говоришь ты, — своего недруга». — А я защищаю своего друга. — «Ты не должен защищать никого из тех, кто привлечен к суду за участие в заговоре». — Напротив, человека, на которого никогда не падало никакое подозрение, лучше всех будет защищать именно тот, кому пришлось много подумать об этом деле. — «Почему ты дал свидетельские показания против других людей?» — Я был вынужден это сделать. — «Почему они были осуждены?» — Так как мне поверили. — «Обвинять, кого хочешь, и защищать, кого хочешь, — царская власть». — Наоборот, не обвинять, кого хочешь, и не защищать, кого хочешь, — рабство. И если ты задумаешься над вопросом, для меня ли или же для тебя было наиболее настоятельной необходимостью поступать так, как я — тогда, а ты — теперь, то ты поймешь, что ты с большей честью для себя мог бы соблюдать меру во вражде, чем я — в милосердии[1140]. (49) А вот, например, когда решался вопрос о наивысшем почете для вашего рода, то есть о консульстве твоего отца, мудрейший муж, твой отец, не рассердился на своих ближайших друзей, когда они защищали и хвалили Суллу[1141]; он понимал, что наши предки завещали нам правило: ничья дружба не должна нам препятствовать бороться с опасностями. Но на этот суд та борьба была совершенно непохожа: тогда, в случае поражения Публия Суллы, для вас открывался путь к консульству, как он и открылся в действительности; борьба шла за почетную должность; вы восклицали, что требуете обратно то, что у вас вырвали из рук, чтобы вы, побежденные на поле[1142], на форуме победили. Тогда те, которые против вас бились за гражданские права Публия Суллы, — ваши лучшие друзья, на которых вы, однако, не сердились, — пытались вырвать у нас консульство, воспротивиться оказанию почета вам и они все-таки делали это, не оскорбляя вашей дружбы, не нарушая своих обязанностей по отношению к вам, по старинному примеру и обычаю всех честнейших людей. (XVIII, 50) А я? Какие отличия отнимаю я у тебя или какому вашему достоинству наношу ущерб? Чего еще нужно тебе от Публия Суллы? Твоему отцу оказан почет, тебе предоставлены знаки почета. Ты, украшенный доспехами, совлеченными с Публия Суллы, приходишь терзать того, кого ты уничтожил, а я защищаю и прикрываю лежачего и обобранного[1143]. И вот, именно здесь ты и упрекаешь меня за то, что я его защищаю, и сердишься на меня. А я не только не сержусь на тебя, но даже не упрекаю тебя за твое поведение. Ведь ты, думается мне, сам решил, что тебе следовало делать, и выбрал вполне подходящего судью, дабы он мог оценить, как ты исполнишь свой долг.
(51) Но обвиняет сын Гая Корнелия, это должно иметь такое же значение, как если бы донос был сделан его отцом. О мудрый Корнелий-отец! От обычной награды за донос[1144] он отказался; но позор, связанный с признанием[1145], он навлек на себя обвинением, которое возбудил его сын. Но о чем же Корнелий доносит при посредстве этого вот мальчика?[1146] Если о давних событиях, мне неизвестных, о которых было сообщено Гортенсию, то на это ответил Гортенсий; если же, как ты говоришь, о попытке Автрония и Катилины устроить резню на поле во время консульских комиций, которыми я руководил[1147], то Автрония мы тогда видели на поле. Но почему я сказал, что видели мы? Это я видел; ибо вы, судьи, тогда ни о чем не тревожились и ничего не подозревали, а я, под надежной охраной друзей, тогда подавил попытку Автрония и Катилины и разогнал их отряды. (52) Так скажет ли кто-нибудь, что Сулла тогда стремился появиться на поле? Ведь если бы он тогда был связан с Катилиной как соучастник его злодеяния, то почему он отошел от него, почему его не было вместе с Автронием, почему же, если их судебные дела одинаковы, не обнаружено одинаковых улик? Но так как сам Корнелий даже теперь, как вы говорите, колеблется, давать ли ему показания или не давать, и наставляет сына для этих, составленных в общих чертах, показаний, то что же, наконец, говорит он о той ночи, сменившей день после ноябрьских нон, когда он, в мое консульство, ночью пришел, по вызову Катилины, на улицу Серповщиков к Марку Леке? За все время существования заговора ночь эта была самой страшной; она грозила величайшими жестокостями. Именно тогда и был назначен день отъезда Катилины; тогда и было принято решение, что другие останутся на месте; тогда и были распределены обязанности, касавшиеся резни и поджогов во всем городе. Тогда твой отец, Корнелий, — в этом он все-таки, наконец, признается — и потребовал, чтобы ему дали весьма ответственное поручение: прийти на рассвете приветствовать консула и, когда его примут по моему обыкновению и по праву дружбы, убить меня в моей постели. (XIX, 53) В это время, когда заговор был в полном разгаре, когда Катилина выезжал к войску, когда в Риме оставляли Лентула, Кассию поручали поджоги, Цетегу — резню, когда Автронию приказывали занять Этрурию, когда делались все распоряжения, указания, приготовления, где был тогда Сулла, Корнелий? Разве он был в Риме? Вовсе нет, он был далеко. В тех ли местностях, куда Катилина пытался вторгнуться? Нет, он находился гораздо дальше. Может быть, он был в Камертской области, в Пиценской, в Галльской? Ведь именно там сильнее всего и распространилось это, так сказать, заразное бешенство[1148]. Отнюдь нет; он был, как я уже говорил, в Неаполе; он был в той части Италии, которой подобные подозрения коснулись менее всего[1149]. (54) Что же в таком случае показывает или о чем доносит сам Корнелий или вы, которые выполняете эти поручения, полученные от него? — «Были куплены гладиаторы, якобы для Фавста, а на самом деле, чтобы устроить резню и беспорядки». — Ну, разумеется, и этих гладиаторов выдали за тех, которые, как мы видим, должны были быть выставлены по завещанию отца Фавста[1150]. — «Этот отряд был собран очень уж поспешно; если бы его не купили, то, во исполнение обязанности Фавста, в боях мог бы участвовать другой отряд». — О, если бы этот отряд, — такой, каким он был, — мог не только успокоить ненависть недоброжелателей, но также и оправдать ожидания доброжелателей! — «Все было сделано весьма спешно, хотя до игр было еще далеко»[1151]. — Словно время для устройства игр не наступало. — «Отряд был набран неожиданно для Фавста, причем он об этом не знал и этого не хотел». — (55) Но имеется письмо Фавста, в котором он настоятельно просит Публия Суллу купить гладиаторов, причем купить именно этих; такие были отправлены письма не только Сулле, но и Луцию Цезарю[1152], Квинту Помпею[1153] и Гаю Меммию[1154], с одобрения которых все и было сделано. — «Но над отрядом начальствовал вольноотпущенник Корнелий». — Если самый набор отряда не вызывает подозрений, то вопрос о том, кто над ним начальствовал, не имеет никакого отношения к делу; правда, Корнелий, по обязанности раба, взялся позаботиться о вооружении отряда, но никогда над ним не начальствовал; эту обязанность всегда исполнял Белл, вольноотпущенник Фавста.
(XX, 56) «Но ведь Ситтий[1155] был послан Публием Суллой в Дальнюю Испанию, чтобы вызвать в этой провинции беспорядки». — Во-первых, Ситтий, судьи, уехал в консульство Луция Юлия и Гая Фигула за некоторое время до того, как у Катилины появилось безумное намерение и было заподозрено существование этого заговора; во-вторых, он тогда выезжал не впервые, но после того, как он недавно по тем же самым делам провел в тех же местах несколько лет, и выехал он, имея к этому не только некоторые, но даже весьма веские основания, ибо заключил важное соглашение с царем Мавретании. Но именно после его отъезда, когда Сулла ведал и управлял его имуществом, были проданы многочисленные великолепнейшие имения Публия Ситтия и были уплачены его долги, так что та причина, которая других натолкнула на злодеяние, — желание сохранить свою собственность — у Ситтия отсутствовала, так как имения его уменьшились. (57) Далее, сколь мало вероятно, как нелепо предположение, что тот, кто хотел устроить резню в Риме, кто хотел предать пламени этот город, отпускал от себя своего самого близкого человека и выпроваживал его в дальние страны! Уж не для того ли он сделал это, чтобы с тем большей легкостью осуществить свою попытку мятежа в Риме, если в Испании произойдут беспорядки? Но ведь они происходили и без того, сами собой, без какой-либо связи с заговором. Или же Сулла при таких важных событиях, при столь неожиданных для нас замыслах, столь опасных, столь мятежных, нашел нужным отослать от себя человека, глубоко преданного ему, самого близкого, теснейшим образом связанного с ним взаимными услугами, привычкой, общением? Не правдоподобно, чтобы того, кого он всегда при себе держал при благоприятных обстоятельствах и в спокойное время, он отпустил от себя при обстоятельствах неблагоприятных и в ожидании того мятежа, который он сам подготовлял. (58) Что касается самого Ситтия — ведь я не должен изменять интересам старого друга и гостеприимца[1156], — то такой ли он человек, из такой ли он семьи и таких ли он взглядов, чтобы можно было поверить, что он хотел объявить войну римскому народу? Чтобы он, отец которого с исключительной верностью и сознанием долга служил нашему государству в ту пору, когда другие люди, жившие на границах, и соседи от нас отпадали[1157], решился начать преступную воину против отечества? Правда, судьи, долги у него были, но он делал их не по развращенности, а в связи со своей предприимчивостью; он задолжал в Риме, но и ему были должны в провинциях и царствах[1158] огромные деньги; взыскивая их, он не допустил, чтобы управляющие его имуществом испытывали в его отсутствие какие-либо затруднения; он предпочел, чтобы все его владения поступили в продажу и чтобы сам он лишился прекраснейшего имущества, только бы не отсрочить платежей кому-либо из заимодавцев. (59) Как раз таких людей, судьи, лично я никогда не боялся, действуя во времена той бури, разразившейся в государстве. Ужас и страх внушали мне люди другого рода — те, которые держались за свои владения с такой страстью, что у них, пожалуй, скорее можно было оторвать и разметать члены их тела. Ситтий же никогда не считал себя кровно связанным со своими имениями[1159], поэтому оградой ему не только от подозрения в таком тяжком преступлении, но даже от всяческих пересудов послужило не оружие, а имущество.
(XXI, 60) Далее, против Суллы выдвинуто обвинение, что он побудил жителей Помпей присоединиться к этому заговору и преступному деянию. Не могу понять, в чем здесь дело. Уж не думаешь ли ты, что жители Помпей устроили заговор? Кто когда-либо это говорил, было ли насчет этого хотя бы малейшее подозрение? «Он поссорил их, — говорит обвинитель, — с колонами, чтобы, вызвав этот разрыв и разногласия, иметь возможность держать город в своей власти при посредстве жителей Помпей»[1160]. Во-первых, все разногласия между жителями Помпей и колонами были переданы их патронам для разрешения, когда они уже утратили новизну и существовали много лет; во-вторых, дело было расследовано патронами, причем Сулла во всем согласился с мнениями других людей; в-третьих, сами колоны не считают, что Сулла защищал жителей Помпей более усердно, чем их самих. (61) И вы, судьи, можете в этом убедиться по стечению множества колонов, почтеннейших людей, которые здесь присутствуют[1161], тревожатся, которые желают, чтобы их патрон, защитник, охранитель этой колонии, — если они уже не смогли сохранить ему полного благополучия и почета — все же в этом несчастье, когда он повержен, получил при вашем посредстве помощь и спасение. Здесь присутствуют, проявляя такое же рвение, жители Помпей, которых наши противники также обвиняют; у них, правда, возникли раздоры с колонами из-за галереи[1162] и из-за подачи голосов, но о всеобщем благе они держатся одних и тех же взглядов. (62) Кроме того, мне кажется, не следует умалчивать еще вот о каком достойном деянии Публия Суллы: хотя колония эта была выведена им самим и хотя, вследствие особых обстоятельств в государстве, интересы колонов пришли в столкновение с интересами жителей Помпей, Сулла был настолько дорог и тем и другим и любим ими, что казалось, что он не выселил последних, а устроил тех и других.
(XXII) «Но ведь гладиаторов и все эти силы подготовляли, чтобы поддержать Цецилиеву рогацию»[1163]. В связи с этим обвинитель в резких словах нападал и на Луция Цецилия, весьма добросовестного и виднейшего мужа. О его доблести и непоколебимости, судьи, я скажу только одно: та рогация, которую он объявил, касалась не восстановления его брата в правах, а облегчения его положения. Он хотел позаботиться о брате, но выступать против государства не хотел; он совершил промульгацию[1164], движимый братской любовью, но по настоянию брата от промульгации отказался. (63) И вот, нападая на Луция Цецилия, Суллу косвенно обвиняют в том, за что следует похвалить их обоих: прежде всего Цецилия за то, что он объявил такую рогацию, посредством которой он, казалось, хотел отменить уже принятые судебные решения, дабы Сулла был восстановлен в правах. Твои упреки справедливы; ибо положение государства особенно прочно, когда судебные решения незыблемы, и я думаю, что братской любви не следует уступать настолько, чтобы человек, заботясь о благополучии родных, забывал об общем. Но ведь Цецилий ничего не предлагал насчет данного судебного решения; он внес предложение о каре за незаконное домогательство должностей, недавно установленной прежними законами[1165]. Таким образом, этой рогацией исправлялось не решение судей, а недостаток самого закона. Сетуя на кару, никто не порицает приговора как такового, но порицает закон; ведь осуждение зависит от судей, оно оставалось в силе; кара — от закона, она смягчалась. (64) Так, не старайся же вызвать недоброжелательное отношение к делу Суллы в тех сословиях, которые с необычайной строгостью и достоинством ведают правосудием[1166]. Никто не пытался поколебать суд; ничего в этом роде объявлено не было; при всем бедственном положении своего брата Цецилий всегда считал, что власть судей следует оставить неизменной, но суровость закона — смягчить.
(XXIII) Однако к чему мне обсуждать это более подробно? Я поговорил бы об этом, пожалуй, и притом охотно и без труда, если бы Луций Цецилий, побуждаемый преданностью и братской любовью, переступил те границы, которые обычное чувство долга нам повелевает соблюдать. Я стал бы взывать к вашим чувствам, ссылаться на снисходительность каждого из вас к родным, просить вас о снисхождении к ошибке Луция Цецилия во имя ваших личных чувств и во имя человечности, свойственной всем нам. (65) Возможность ознакомиться с законом была дана в течение нескольких дней; на голосование народа он поставлен не был; в сенате он был отклонен. В январские календы, когда я созвал сенат в Капитолии, это было первое дело, поставленное на обсуждение, и претор Квинт Метелл[1167], заявив, что выступает по поручению Суллы, сказал, что Сулла не хочет этой рогации насчет него. Начиная с того времени, Луций Цецилий много раз принимал участие в обсуждении государственных дел: он заявил о своем намерении совершить интерцессию[1168] по земельному закону, который я полностью осудил и отверг[1169]; он возражал против бесчестных растрат; он ни разу не воспрепятствовал решению сената; во время своего трибуната он, отложив попечение о своих домашних делах, думал только о пользе государства. (66) Более того, кто из нас во время самой рогации опасался, что Суллой и Цецилием будут совершены какие-нибудь насильственные действия? Разве все опасения, весь страх перед мятежом и толки о нем не были связаны с бесчестностью Автрония? О его высказываниях, о его угрозах говорилось повсюду; его внешний вид, стечение народа, его приспешники, толпы пропащих людей внушали нам страх и предвещали мятежи. Таким образом, имея этого наглеца сотоварищем и спутником как в почете, так и в беде, Публий Сулла был вынужден упустить благоприятный случай и остаться в несчастье без всякой помощи и облегчения своей судьбы[1170].
(XXIV, 67) В связи с этим ты часто ссылаешься на мое письмо к Гнею Помпею, в котором я ему писал о своей деятельности и о важнейших государственных делах[1171], и стараешься выискать в нем какое-либо обвинение против Публия Суллы. И если я написал, что то невероятное безумие, зачатки которого проявились уже двумя годами ранее, вырвалось наружу в мое консульство, то я, по твоим словам, указал, что в том первом заговоре Сулла участвовал. Ты, очевидно, думаешь, что, по моему представлению, Гней Писон, Катилина, Варгунтей и Автроний никакого преступного и дерзкого поступка самостоятельно, без участия Публия Суллы, совершить не могли. (68) Что касается Суллы, то, даже если бы кто-нибудь ранее спросил себя, действительно ли он замышлял те действия, в которых ты его обвиняешь, — убить твоего отца и как консул спуститься в январские календы на форум в сопровождении ликторов, — то ты сам устранил это подозрение, сказав, что он набрал шайку и отряд для действий против твоего отца, дабы добиться консульства для Катилины. Итак, если я призна́ю справедливость этих твоих слов, то тебе придется согласиться со мной, что Публий Сулла, хотя и подавал голос за Катилину, совершенно не думал о насильственном возвращении себе консульства, которого он лишился вследствие судебного приговора. Ведь личные качества Публия Суллы, судьи, исключают обвинение его в таких столь тяжких, столь жестоких деяниях.
(69) Теперь, опровергнув почти все обвинения, я, наконец, постараюсь — в отличие от обычного порядка, соблюдаемого при слушании других судебных дел[1172], — рассказать вам о жизни и нравах Публия Суллы. И в самом деле, сначала у меня было стремление возразить против столь тяжкого обвинения, оправдать ожидания людей, сказать кое-что о себе самом, так как был обвинен и я; теперь вас, наконец, следует вернуть туда, куда само дело, даже при молчании с моей стороны, заставляет вас направить свой ум и помыслы. (XXV) Во всех сколько-нибудь важных и значительных делах, судьи, желания, помыслы, поступки каждого человека следует оценивать не на основании предъявленного ему обвинения, а соответственно нравам того, кто обвиняется. Ведь никто из нас не может вдруг себя переделать; ничей образ жизни не может внезапно измениться, а характер исправиться. (70) Взгляните мысленно на короткое время — чтобы нам не касаться других примеров — на тех самых людей, которые были причастны к этому злодеянию. Катилина устроил заговор против государства. Чьи уши когда-либо отвергали молву о том, что это пытался дерзостно сделать человек, с детства — не только по своей необузданности и преступности, на также по привычке и склонности — искушенный в любой гнусности, разврате, убийстве? Кто удивляется, что в битве против отечества погиб тот, кого все всегда считали рожденным для гражданских смут? Кто, вспоминая связи Лентула с доносчиками[1173], его безумный разврат, его нелепые и нечестивые суеверия, станет удивляться, что у него появились преступные замыслы и пустые надежды?[1174] Если кто-нибудь подумает о Гае Цетеге, о его поездке в Испанию и о ранении Квинта Метелла Пия[1175], то ему, конечно, покажется, что тюрьма для того и построена, чтобы Цетег понес в ней кару. (71) Имена других я опускаю, чтобы моя речь не затянулась до бесконечности; я только прошу, чтобы каждый из вас сам про себя подумал обо всех тех, чье участие в заговоре доказано; вы поймете, что любой из них был осужден скорее своей собственной жизнью, а не по вашему подозрению. А самого Автрония — коль скоро его имя теснейшим образом связано в этом судебном деле и в этом обвинении с именем Суллы — разве не изобличают его характер и его образ жизни? Он всегда был дерзок, нагл и развратен; мы знаем, что он, защищаясь от обвинения в распутном поведении, привык не только употреблять самые непристойные слова, но и пускать в ход кулаки и ноги; что он выгонял людей из их владений, устраивал резню среди соседей, грабил храмы союзников, разгонял вооруженной силой суд, при счастливых обстоятельствах презирал всех, при несчастливых сражался против честных людей, не подчинялся государственной власти, не смирялся даже перед превратностями судьбы. Если бы его виновность не подтверждалась самыми явными доказательствами, то его нравы и его образ жизни все-таки изобличили бы его.
(XXVI, 72) Ну, а теперь, судьи, с его жизнью сравните жизнь Публия Суллы, отлично известную вам и римскому народу, и представьте себе ее воочию. Есть ли какой-либо поступок его или шаг, не скажу — дерзкий, но такой, что он мог бы показаться кому-нибудь несколько необдуманным? Поступок, спрашиваю я? Слетело ли когда-либо с его уст слово, которое бы могло кого-нибудь оскорбить? Более того, в смутные времена роковой победы Луция Суллы кто оказался более мягким, кто — более милосердным человеком, чем Публий Сулла? Сколь многим он вымолил пощаду у Луция Суллы! Сколь многочисленны те выдающиеся виднейшие мужи из нашего и из всаднического сословий, за которых он, чтобы спасти их, поручился перед Суллой! Я назвал бы их, — ведь они и сами не отказываются от этого и с чувством величайшей благодарности поддерживают его, — но так как милость эта больше, чем та, какую гражданин должен быть в состоянии оказать другому гражданину, то я потому и прошу вас приписать обстоятельствам того времени то, что он имел возможность так поступать, а то, что он так поступал, поставить в заслугу ему самому. (73) К чему говорить мне о его непоколебимости в его дальнейшей жизни, о его достоинстве, щедрости, умеренности в частной, о его успехах в общественной жизни? Все качества эти, правда, обесславлены его злоключениями, но все же ясно видны как прирожденные. Какой дом был у него! Сколько людей стекалось туда изо дня в день! Каково достоинство близких! Какова преданность друзей! Какое множество людей из каждого сословия собиралось у него! Все это, приобретавшееся долго, упорно и ценой большого труда, отнял у него один час. Публий Сулла получил тяжелую и смертельную рану, судьи, но такую, какую его жизнь и природные качества, по-видимому, могли вынести; было признано, что он чрезмерно стремился к почету и высокому положению; если бы такой жаждой почета при соискании консульства не обладал никто другой, то, пожалуй, можно было бы признать, что Сулла этого жаждал более, чем другие; но если также и некоторым другим людям было присуще это жадное стремление к консульству, то судьба была к Публию Сулле, пожалуй, более сурова, чем к другим людям. (74) Кто впоследствии не видел, что Публий Сулла сокрушен, угнетен и унижен? Кто мог предположить когда-либо, что он избегает взглядов людей и широкого общения с ними из ненависти к людям, а не из чувства стыда? Хотя многое и привязывало его к Риму и форуму ввиду необычайной преданности его друзей, которая одна оставалась у него среди постигших его несчастий, он не показывался вам на глаза и, хотя по закону он и мог бы остаться[1176], он, можно сказать, сам покарал себя изгнанием.
(XXVII) И вы, судьи, поверите, что при этом чувстве собственного достоинства, при этом образе жизни можно было задумать такое страшное злодеяние? Взгляните на самого Суллу, посмотрите ему в лицо; сопоставьте его обвинение с его жизнью, а жизнь его на всем ее протяжении — от ее начала и вплоть до настоящего времени — пересмотрите, сопоставляя ее с обвинением. (75) Не говорю о государстве, которое всегда было для Суллы самым дорогим. Но неужели он мог желать, чтобы эти вот друзья его, такие мужи, столь ему преданные, которые в дни его счастья когда-то украшали его жизнь, а теперь поддерживают его в дни несчастья, погибли в жестоких мучениях для того, чтобы он, вместе с Лентулом, Катилиной и Цетегом, мог вести самую мерзкую и самую жалкую жизнь в ожидании позорнейшей смерти? Не может пасть, повторяю я, на человека таких нравов, такой добросовестности, ведущего такой образ жизни, столь позорное подозрение. Да, в ту пору зародилось нечто чудовищное; невероятным и исключительным было неистовство; на почве множества накопившихся с молодых лет пороков пропащих людей внезапно вспыхнуло пламя дерзкого, неслыханного злодеяния. (76) Не думайте, судьи, что на нас пытались напасть люди; ведь никогда не существовало ни такого варварского, ни такого дикого племени, в котором, не говорю — нашлось бы столько, нет, нашелся бы хоть один столь жестокий враг отечества; это были какие-то лютые и дикие чудовища из сказаний, принявшие внешний облик людей. Взгляните пристально, судьи, — это дело говорит само за себя — загляните глубоко в душу Катилины, Автрония, Цетега, Лентула и других; какую развращенность увидите вы, какие гнусности, какие позорные, какие наглые поступки, какое невероятное исступление, какие знаки злодеяний, какие следы братоубийств, какие горы преступлений! На почве больших, давних и уже безнадежных недугов государства внезапно вспыхнула эта болезнь, так что государство, преодолев и извергнув ее, может, наконец, выздороветь и излечиться; ведь нет человека, который бы думал, что нынешний строй мог бы и дольше существовать, если бы государство носило в себе эту пагубу. Поэтому некие фурии[1177] и побудили их не совершить злодеяние, а принести себя государству как искупительную жертву. (XXVIII, 77) И в эту шайку, судьи, вы бросите теперь Публия Суллу, изгнав его из среды этих вот честнейших людей, которые с ним общаются или общались? Вы перенесете его из этого круга друзей, из круга достойных близких в круг нечестивцев, в обиталище и собрание братоубийц? Где в таком случае будет надежнейший оплот для честности? Какую пользу принесет нам ранее прожитая жизнь? Для каких обстоятельств будут сохраняться плоды приобретенного нами уважения, если они в минуту крайней опасности, когда решается наша судьба, будут нами утрачены, если они нас не поддержат, если они нам не помогут?
(78) Обвинитель нам угрожает допросом и пыткой рабов. Хотя я в этом и не вижу опасности, но все же при пытке решающее значение имеет боль; все зависит от душевных и телесных качеств каждого человека; пыткой руководит председатель суда; показания направляются произволом; надежда изменяет их, страх лишает силы, так что в таких тисках места для истины не остается. Пусть же будет подвергнута пытке жизнь Публия Суллы; ее надо спросить, не таится ли в ней разврат, не скрываются ли в ней злодеяние, жестокость, дерзость. В деле не будет допущено ни ошибки, ни неясности, если вы, судьи, будете прислушиваться к голосу жизни на всем ее протяжении — к тому голосу, который должен быть признан самым правдивым и самым убедительным. (79) В этом деле нет свидетеля, которого бы я боялся; думаю, что никто ничего не знает, ничего не видел, ничего не слыхал. Но все-таки, если вас, судьи, ни мало не заботит судьба Публия Суллы, то позаботьтесь о своей собственной судьбе. Ведь для вас, проживших свою жизнь вполне безупречно и бескорыстно, чрезвычайно важно, чтобы дела честных людей не оценивались по произволу или на основании неприязненных или легковесных показаний свидетелей, но чтобы при крупных судебных делах и внезапно возникающих опасностях свидетельницей была жизнь каждого из нас. Не подставляйте ее, судьи, под удары ненависти, обезоруженную и обнаженную, не отдавайте ее во власть подозрения. Оградите общий оплот честных людей, закройте перед бесчестными путь в их прибежища. Пусть наибольшее значение для наказания и оправдания имеет сама жизнь, которую, как видите, легче всего обозреть полностью в ее существе и нельзя ни вдруг изменить, ни представить в искаженном виде.
(XXIX, 80) Что же? Мое влияние (а о нем всегда следует говорить, хотя я буду говорить о нем скромно и умеренно), повторяю, неужели это мое влияние — коль скоро от прочих судебных дел, связанных с заговором, я отстранился, а Публия Суллу защищаю — все-таки ему совсем не поможет? Неприятно, быть может, говорить это, судьи! Неприятно, если мы высказываем какие-то притязания; если мы сами о себе не молчим, когда о нас молчат другие, это неприятно; но если нас оскорбляют, если нас обвиняют, если против нас возбуждают ненависть, то вы, судьи, конечно, согласитесь с тем, что свободу мы имеем право за собой сохранить, если уж нам нельзя сохранить свое достоинство. (81) Здесь было выставлено обвинение против всех консуляров в целом, так что звание, связанное с наивысшим почетом, теперь, видимо, скорее навлекает ненависть, нежели придает достоинство. «Они, — говорит обвинитель, — поддержали Катилину[1178] и высказали похвалу ему». Но в ту пору заговор не был явным, не был доказан; они защищали своего друга, поддерживали умолявшего; ему грозила страшная опасность, поэтому они не вдавались в гнусные подробности его жизни. Более того, твой отец, Торкват, в бытность свою консулом, был заступником в деле Катилины, обвиненного в вымогательстве[1179], — человека бесчестного, но обратившегося к нему с мольбами, быть может, дерзкого, но в прошлом его друга. Поддерживая Катилину после поступившего к нему доноса о первом заговоре, твой отец показал, что кое о чем слыхал, но этому не поверил. «И он же не поддержал его во время суда по другому делу[1180], хотя другие поддерживали его». — Если сам он впоследствии узнал кое-что, чего не знал во время своего консульства, то тем, кто и впоследствии ничего не слыхал, это простительно; если же на него подействовало первое обстоятельство, то неужели оно с течением времени должно было стать более важным, чем было с самого начала? Но если твой отец, даже подозревая грозившую ему опасность, все же, по своему милосердию, отнесся с уважением к заступникам бесчестнейшего человека, если он, восседая в курульном кресле, своим достоинством — и личным, и как консул — почтил их, то какое у нас основание порицать консуляров, поддерживавших Катилину? — (82) «Но они же не поддержали тех, кто до суда над Суллой был судим за участие в заговоре». — Они решили, что людям, виновным в столь тяжком злодеянии, они не должны оказывать никакой поддержки, никакого содействия, никакой помощи. К тому же — я хочу поговорить о непоколебимости и преданности государству, проявленных теми людьми, чьи молчаливая строгость и верность говорят сами за себя и не нуждаются в красноречивых украшениях, — может ли кто-нибудь сказать, что когда-либо существовали более честные, более храбрые, более стойкие консуляры, нежели те, какие были во время опасных событий, едва не уничтоживших государства? Кто из них, когда решался вопрос о всеобщем спасении не голосовал со всей честностью, со всей храбростью, со всей непоколебимостью? Но я говорю не об одних только консулярах; ведь общая заслуга виднейших людей, бывших тогда преторами[1181], и всего сената заключается в том, что все сословие сенаторов проявило такую доблесть, такую любовь к государству, такое достоинство, каких не припомнит никто; так как намекнули на консуляров, то я и счел нужным сказать именно о них то, что, как мы все можем засвидетельствовать, относится и ко всем другим: из людей этого звания не найдется никого, кто не посвятил бы делу спасения государства всю свою преданность, доблесть и влияние.
(XXX, 83) Как? Неужели я, который никогда не восхвалял Катилину, я, который в свое консульство отказал Катилине в заступничестве, я, который дал свидетельские показания о заговоре, направленные против некоторых других людей, неужели я кажусь вам настолько утратившим здравый смысл, настолько забывшим свою непоколебимость, настолько запамятовавшим все совершенное мной, что я, после того как в бытность свою консулом вел войну с заговорщиками, теперь, по вашему мнению, желаю спасти их предводителя и намереваюсь защищать дело и жизнь того, чей меч я недавно притупил и пламя погасил? Клянусь богом верности[1182], судьи, даже если бы само государство, спасенное моими трудами и ценой опасностей, угрожавших мне, величием своим не призвало меня вновь быть строгим и непоколебимым, то все же от природы нам свойственно всегда ненавидеть того, кого мы боялись, с кем мы сражались за жизнь и достояние, от чьих козней мы ускользнули. Но так как дело идет о моем наивысшем почете, об исключительной славе моих деяний, так как всякий раз, как кого-либо изобличают в участии в этом преступном заговоре, оживают и воспоминания о спасении, обретенном благодаря мне, то могу ли я быть столь безумен, могу ли я допустить, чтобы то, что я совершил ради всеобщего спасения, казалось совершенным мной скорее благодаря случаю и удаче, чем благодаря моей доблести и предусмотрительности? (84) «Какой же из этого вывод, — пожалуй, скажет кто-нибудь, — ты настаиваешь на том, что Публия Суллу следует признать невиновным именно потому, что его защищаешь ты?» Нет, судьи, я не только не приписываю себе ничего такого, в чем тот или иной из вас мог бы мне отказать; даже если все воздают мне должное в чем-либо, я это возвращаю и оставляю без внимания. Не в таком государстве нахожусь я, не при таких обстоятельствах подвергся я всяческим опасностям, защищая отечество, не так погибли те, кого я победил, и не так благодарны мне те, кого я спас, чтобы я пытался добиться для себя чего-то большего, нежели то, что могли бы допустить все мои недруги и ненавистники. (85) Может показаться удручающим, что тот, кто напал на след заговора, кто его раскрыл, кто его подавил, кому сенат выразил благодарность в особенно лестных выражениях[1183], в чью честь (чего никогда не делалось для человека, носящего тогу) он назначил молебствия[1184], говорит на суде: «Я не стал бы защищать Публия Суллу, если бы он участвовал в заговоре». Но я и не говорю ничего удручающего; я говорю лишь то, что в этих делах, касающихся заговора, относится не к моему влиянию, а к моей чести: «Я, напавший на след заговора и покаравший за него, в самом деле не стал бы защищать Суллу, если бы думал, что он участвовал в заговоре». Так как именно я, судьи, расследовал все то, что было связано с такими большими опасностями, угрожавшими всем, именно я многое выслушивал, хотя верил не всему, но все предотвращал, то я говорю то же, что я уже сказал вначале: насчет Публия Суллы мне никто ничего не сообщал ни в виде доноса, ни в виде извещения, ни в виде подозрения, ни в письме.
(XXXI, 86) Поэтому привожу в свидетели вас, боги отцов и пенаты[1185], охраняющие наш город и наше государство, в мое консульство изъявлением своей воли и своей помощью спасшие нашу державу, нашу свободу, спасшие римский народ, эти дома и храмы: бескорыстно и добровольно защищаю я дело Публия Суллы, не скрываю какого-либо его проступка, который был бы мне известен, не защищаю и не покрываю какого-либо его преступного посягательства на всеобщее благополучие. В бытность свою консулом, я насчет него ни о чем не дознался, ничего не заподозрил, ничего не слышал. (87) Поэтому я, оказавшийся непреклонным по отношении к другим людям и неумолимым по отношению к прочим участникам заговора, исполнил свой долг перед отчизной; в остальном я теперь должен оставаться верным своей неизменной привычке и характеру. Я сострадателен в такой мере, в какой сострадательны вы, судьи, мягок так, как бывает мягок самый кроткий человек; то, в чем я был непреклонен вместе с вами, я совершил, только будучи вынужден к этому. Государство погибало — я пришел ему на помощь. Отчизна тонула — я ее спас. Движимые состраданием к своим согражданам, мы были тогда непреклонны в такой мере, в какой это было необходимо. Гражданские права были бы утрачены всеми в течение одной ночи[1186], если бы мы не применили самых суровых мер. Но как моя преданность государству заставила меня покарать преступников, так моя склонность побуждает меня спасать невиновных.
(88) В присутствующем здесь Публии Сулле, судьи, я не вижу ничего такого, что вызывало бы ненависть, но вижу многое, вызывающее сострадание. Ведь он теперь обращается к вам, судьи, с мольбой не для того, чтобы от себя отвести поражение в правах, но для того, чтобы не выжгли клейма́ преступления и позора на его роде и имени; ибо, если сам он и будет оправдан по вашему приговору, то какие у него остались теперь знаки отличия, какие утехи, которые бы могли доставлять ему радость и наслаждение на протяжении оставшейся ему жизни? Дом его, вы скажете, будет украшен, будут открыты изображения предков[1187], сам он снова наденет прежние убор и одежду[1188]. Все это уже утрачено, судьи! Все знаки отличия и украшения, связанные с родом, именем, почетом, погибли из-за одного злосчастного приговора[1189]. Но не носить имени губителя отечества, предателя, врага, не оставлять в семье этого пятна столь тяжкого злодеяния — вот из-за чего он тревожится, вот чего он боится; и еще, чтобы этого несчастного[1190] не называли сыном заговорщика, преступника и предателя. Этому мальчику, который ему гораздо дороже жизни, которому он не сможет нетронутыми передать плоды своих почетных трудов, он боится оставить навеки память о своем позоре. (89) Сын его, этот ребенок, молит вас, судьи, позволить ему, наконец, выразить свою радость отцу — если не по поводу его полного благополучия, то все же в той мере, в какой это возможно в его униженном положении. Этому несчастному знакомы пути в суд и на форум лучше, чем пути на поле и в школу. Спор, судьи, идет уже не о жизни Публия Суллы, а о его погребении; жизни его лишили в прошлый раз; теперь мы стараемся о том, чтобы не выбрасывали его тела[1191]. И в самом деле, что остается у него такого, что удерживало бы его в этой жизни или благодаря чему эта жизнь может кому-либо еще казаться жизнью?
(XXXII) Публий Сулла недавно был среди своих сограждан человеком, выше которого никто не мог поставить себя ни в почете, ни во влиянии, ни в богатстве; теперь, лишившись всего своего высокого положения, он не требует возвращения ему того, что у него отняли; что же касается того, что́ судьба оставила ему при его злоключениях, — позволения оплакивать свое бедственное положение вместе с матерью, детьми, братом, этими родственниками, — то он заклинает вас, судьи, не отнимать у него и этого. (90) А тебе, Торкват, уже давно следовало бы насытиться его несчастьями, если бы вы лишили его только консульства, то вам надо было бы удовольствоваться уже и этим; ведь вас привел в суд спор из-за почетной должности, а не враждебные отношения. Но так как у Публия Суллы вместе с почетом отняли все, так как он был покинут в этом жалком и плачевном положении, то чего еще добиваешься ты? Неужели ты хочешь лишить его возможности жить в слезах и горе, когда он должен влачить жизнь, полную величайших мучений и скорби? Он охотно отдаст ее, если с него будет смыт позор обвинения в гнуснейшем преступлении. Или же ты добиваешься изгнания своего недруга? Если бы ты был самым жестоким человеком, то ты, видя его несчастья, получил бы большее удовлетворение, чем то, какое ты бы получал, о них слыша. (91) О, горестный и несчастливый день, когда все центурии объявили Публия Суллу консулом! О, ложная надежда! О, непостоянная судьба! О, слепая страсть! О, неуместное проявление радости! Как быстро все это из веселия и наслаждения превратилось в слезы и рыдания, так что тот, кто недавно был избранным консулом, внезапно утратил даже след своего прежнего достоинства! И каких только злоключений, казалось, не испытал Публий Сулла, лишившись доброго имени, почета, богатства, какое новое бедствие было еще возможно? Но та же судьба, которая начала его преследовать, преследует его и дальше; она придумала для него новое горе, она не допускает, чтобы этот злосчастный человек был поражен только одним несчастьем и погибал от одного только бедствия.
(XXXIII, 92) Но мне самому, судьи, душевная скорбь уже не позволяет продолжать речь о несчастной судьбе Публия Суллы. Это уже ваше дело, судьи! Поручаю всю его судьбу вашей снисходительности и доброте. После отвода судей, произведенного так, что наша сторона ни о чем не подозревала, неожиданно заняли свои места вы как судьи, выбранные обвинителем в надежде на вашу суровость, а для нас назначенные судьбой как оплот невинных[1192]. Подобно тому, как я беспокоился о том, что подумает римский народ обо мне, который когда-то был суров к бесчестным людям, и подобно тому, как я взялся за первую же представившуюся мне возможность защищать невиновного, так и вы своей мягкостью и милосердием умерьте суровость приговоров, вынесенных в течение последних месяцев при суде над преступными людьми. (93) Так как само дело должно требовать именно такого отношения с вашей стороны, то ваша обязанность, при вашем благородстве и доблести, — доказать, что вы не те люди, к которым нашим противникам следовало обращаться после отвода судей. При этом, судьи, я — в такой мере, в какой этого требует моя приязнь к вам, — призываю вас лишь к одному: так как мы объединены общим рвением к делам государства, то нашими общими стараниями и вашей снисходительностью и милосердием отведем от себя ложные толки о нашей жестокости.
15. Речь в защиту поэта Авла Лициния Архия [В суде, 62 г. до н. э.]
Поэт Архий, родом из Антиохии, уже в молодости приобрел известность своей способностью импровизировать. Посетив ряд городов южной Италии (Тарент, Регий, Неаполь), где он получил права почетного гражданства, Архий в 102 г. поселился в Риме, где ему покровительствовала знать, в частности Лицинии Лукуллы. Незадолго до Италийской войны он выехал вместе с молодым Марком Лукуллом в Сицилию, а на обратном пути заезжал в союзный город Гераклею, где, по всей вероятности, жил в изгнании отец Марка Лукулла. В Гераклее Архий получил права гражданства. После того как в 89 г. был принят предложенный трибунами Марком Плавцием Сильваном и Гаем Папирием Карбоном закон о предоставлении прав римского гражданства жителям союзных городов, Архий заявил претору Квинту Метеллу Пию о своем желании получить права римского гражданства и был внесен в списки римских граждан под именем Авла Лициния Архия.
Во время ценза 86 г., как и во время ценза 70 г., Архий отсутствовал, сопровождая Луция Лукулла: в 86 г. во время его квестуры в Азии, в 70 г. во время войны с Митридатом. То, что Архий ни разу не проходил ценза, позволило некоему Граттию обвинить его в незаконном присвоении прав римского гражданства, что каралось изгнанием на основании Папиева закона 65 г. Возможно, что Граттий действовал по указанию сторонников Помпея, выступавших против Лукуллов. Председателем суда был претор Квинт Цицерон, младший брат оратора. Архия защищал Марк Цицерон. Согласие прославленного оратора и консуляра взять на себя защиту поэта-грека объясняли по-разному: 1) расчетами Цицерона на то, что Архий опишет в стихах его консульство; 2) возможностью выступить с речью в духе эпидиктического красноречия; 3) особенностями политического положения Цицерона в 62 г., когда его надежды играть важную политическую роль также и после консульства не оправдались и он начал отводить себе роль советчика при Помпее; подчеркивая в своей речи значение наук и поэзии и, тем самым, значение ученых и поэтов, оратор косвенно обращал внимание на свою возможную роль в политической жизни. Процесс окончился оправданием Архия. Его эпические произведения до нас не дошли. В греческой (Палатинской) антологии содержится 35 эпиграмм, приписываемых Архию; является ли их автором подзащитный Цицерона, не установлено. См. письма Fam., V, 7 (XV); Att, I, 16, 15 (XXII).
(I, 1) Если я в какой-то мере, судьи, обладаю природным даром слова (его незначительность я признаю), или навыком в произнесении речей (в чем не отрицаю некоторой своей подготовки), или знанием существа именно этого дела, основанным на занятиях и на изучении самых высоких наук (чему я, сознаюсь, не был чужд ни в одну пору своей жизни), то Авл Лициний[1193], пожалуй, более, чем кто-либо другой, должен, можно сказать, с полным правом потребовать от меня плодов всего этого. Ибо, насколько мой ум может охватить минувшую жизнь и предаться воспоминаниям об отдаленном детстве, я, возвращаясь мыслью к тем временам, вижу, что именно он первый пробудил во мне желание избрать эти занятия и вступить на этот путь. И если мой дар слова, сложившийся благодаря его советам и наставлениям, некоторым людям иногда приносил спасение, то ему самому, от которого я получил то, чем я могу помогать одним и охранять других, я, насколько это зависит от меня, конечно, должен нести помощь и спасение. (2) А дабы никто не удивлялся этим моим словам, так как Авл Лициний, могут сказать, обладает неким иным даром, а не знанием ораторского искусства или умением говорить, я скажу, что и я никогда не был всецело предан одному только этому занятию[1194]. Ведь все науки, воспитывающие просвещенного человека, как бы сцеплены между собой общими звеньями и в какой-то мере родственны одна другой. (II, 3) Но для того, чтобы никому из вас не показалось странным, что в вопросе, разбираемом на основании законов, и в уголовном суде, когда дело слушается в присутствии претора римского народа, в высокой степени выдающегося мужа, и перед строжайшими судьями, при таком огромном стечении людей, я прибегаю к подобному роду красноречия, чуждому не только обычаям, принятым в суде, но даже и речам на форуме, я прошу вас оказать мне в настоящем деле, имея в виду личность обвиняемого, вот какое снисхождение, для вас, надеюсь, не тягостное. В моей речи в защиту выдающегося поэта и образованнейшего человека при таком стечении просвещеннейших людей, при вашей доброте, наконец, при этом преторе, вершащем суд, позвольте мне высказаться несколько свободнее о занятиях, связанных с просвещением и литературой, и, говоря о таком человеке, который, будучи далек от общественных дел и занимаясь литературой, не имеет опыта в судебных делах и не подвергался опасностям, прибегнуть к новому и, можно сказать, необычному роду красноречия.
(4) Если я почувствую, что вы охотно предоставляете мне эту возможность, то я, конечно, достигну того, что вы признаете присутствующего здесь Авла Лициния не только не подлежащим исключению из числа граждан — коль скоро он действительно является гражданином, — но решите, что если бы даже он им не был, его следовало бы принять в их число.
(III) Ведь Архию, как только он вышел из детского возраста и после изучения наук, которые подготовляют детей к восприятию просвещения[1195], обратился к занятию писателя, удалось вскоре превзойти всех славой своего дарования сначала в Антиохии (там он родился в знатной семье), в городе, некогда славном и богатом, где было множество ученейших людей и процветали благороднейшие науки. Впоследствии в других областях Азии и во всей Греции его посещения привлекали к себе внимание, причем от него ожидали большего, чем вещала молва, а по приезде его изумлялись ему больше, чем обещало ожидание. (5) В ту пору в Италии[1196] были широко распространены искусства и учения Греции, и в Лации к этим занятиям относились тогда более горячо, чем относятся к ним теперь в тех же самых городах, да и здесь, в Риме, ими не пренебрегали — ведь в государстве в то время царило спокойствие[1197]. Поэтому и жители Тарента, и жители Регия, и жители Неаполя даровали Архию права гражданства[1198] и другие награды; все те, кто сколько-нибудь мог оценить дарование, признавали его достойным знакомства и уз гостеприимства[1199]. Когда он, благодаря столь широко распространившейся молве о нем, уже стал известен заочно, он приехал в Рим в консульство Мария и Катула[1200]. Вначале он еще застал тех консулов, из которых один мог ему предоставить для описания величайшие деяния, а другой — наряду с подвигами — подарить его своим вниманием знатока. Хотя Архий тогда еще носил претексту[1201], Лукуллы[1202] тотчас приняли его в свой дом; однако не только своему литературному дарованию, но и своим природным качествам и своим достоинствам он был обязан тем, что тот самый дом, который первым благосклонно его принял в его юности, остается самым близким ему в его старости. (6) В то время Архий пользовался расположением знаменитого Квинта Метелла Нумидийского и сына его Пия[1203]; его слушал Марк Эмилий[1204]; он общался с Квинтами Катулами, отцом и сыном[1205], пользовался уважением Луция Красса[1206]. Что же касается Лукуллов, Друса[1207], Октавиев[1208], Катона[1209] и всего дома Гортенсиев[1210], то они, постоянно близко общаясь с Архием, оказывали ему величайший почет, причем к нему относились с вниманием не только те, кто действительно стремился что-либо воспринять и услышать от него, но также и те, кто, пожалуй, притворялся, что хочет этого.
(IV) Между тем, по истечении довольно долгого срока, после того как Архий выезжал в Сицилию вместе с Марком Лукуллом[1211], он, возвращаясь из этой же провинции вместе с тем же Лукуллом, приехал в Гераклею. Так как эта городская община пользовалась широкими правами на основании союзного договора[1212], то он захотел получить в ней права гражданства и исходатайствовал их тогда у гераклеян как благодаря тому, что его самого сочли достойным этого, так и благодаря авторитету и влиянию Лукулла. (7) На основании закона Сильвана и Карбона[1213] права гражданства были даны «всякому, кто был приписан к союзной городской общине, кто имел свое местожительство в Италии тогда, когда проводился закон, и кто в шестидесятидневный срок заявил об этом претору…». Так как Архий жил в Риме уже много лет, он и подал заявление своему ближайшему другу претору Квинту Метеллу.
(8) Если дело идет только о правах гражданства[1214] и о законе, то я ничего больше не скажу — дело рассмотрено. И правда, что из этого можно оспаривать, Граттий? Станешь ли ты отрицать, что он был приписан к Гераклее? Здесь находится весьма влиятельный, добросовестный и честный муж — Марк Лукулл; он утверждает, что он не предполагает, а знает достоверно, не руководится слухами, а верит своим глазам, не только присутствовал при этом деле, но и принимал в нем живое участие. Здесь находятся посланцы из Гераклеи, знатнейшие люди; они прибыли на этот суд с полномочиями и со свидетельскими показаниями от имени общины[1215]; они утверждают, что Архий приписан к общине Гераклее. И ты еще требуешь официальные списки гераклеян, уничтоженные, как все мы знаем, пожаром в архиве во время Италийской войны[1216]. Но смешно на то, чем мы располагаем, ничем не отвечать; требовать того, чем мы располагать не можем; молчать о свидетельствах людей и требовать письменных свидетельств; располагая клятвенным показанием прославленного мужа, клятвой и заверением честнейшего муниципия[1217], отвергать то, что не может быть искажено, а представления списков, которые, как ты сам говоришь, обычно подделываются, требовать. (9) Неужели нельзя считать жителем Рима того, кто за столько лет до дарования ему прав гражданства избрал Рим, чтобы связать с ним все свои дела и всю свою судьбу? Или он не делал заявления? Да нет же, он его сделал, его внесли в списки, которые, на основании заявления, сделанного перед коллегией преторов, одни только и являются подлинными официальными списками.
(V) В то время как списки Аппия[1218], как говорили, хранились несколько небрежно, а к спискам Габиния[1219] — вследствие его ненадежности, пока он еще ни в чем не провинился, и ввиду несчастья, которое постигло его после осуждения, — какое бы то ни было доверие было утрачено, Метелл, честнейший и добросовестнейший человек, был столь заботлив, что явился к претору Луцию Лентулу[1220] и к судьям и заявил, что он смущен обнаруженным им исправлением одного имени. И вот, в этих списках никакого исправления, касающегося имени Авла Лициния, вы не видите. (10) Коль скоро это так, какие же у вас основания сомневаться в его гражданских правах, особенно после того, как он был приписан также и к другим общинам? И правда, многим заурядным людям, не имевшим никакого ремесла или занимающимся каким-либо низким ремеслом, права гражданства в Греции предоставлялись неохотно; но неужели регийцы, или локрийцы, или неаполитанцы, или тарентинцы, которые нередко награждали правами гражданства актеров, выступавших на сцене[1221], отказались бы Авла Лициния, увенчанного высшей славой дарования, наградить тем же? Как? Между тем, как иные, не говорю уже — после предоставления прав гражданства[1222], но даже после издания Папиева закона тем или иным способом прокрались в списке этих муниципиев, Авл Лициний, который не ссылается даже на те списки, куда он внесен, — так как он всегда хотел быть гераклеянином — будет исключен?
(11) Ты требуешь наши цензорские списки; по-видимому, так; словно никому не известно, что при последних цензорах[1223] Авл Лициний был при войске вместе с прославленным императором[1224] Луцием Лукуллом; при предпоследних[1225] он был с ним же (тот был тогда квестором в Азии), при первых[1226] — при Юлии и Крассе — ценз народа вовсе не производился. Но ведь ценз сам по себе еще не подтверждает прав гражданства, а только указывает, что человек, который подвергся цензу, тем самым уже тогда вел себя как гражданин; между тем Авл Лициний, которого ты обвиняешь в том, что он, даже по его собственному признанию, не обладал правами римских граждан, в те времена не раз составлял завещание в соответствии с нашими законами и получал наследство от римских граждан[1227], его имя было сообщено в эрарий[1228] проконсулом Луцием Лукуллом в числе имен лиц, заслуживших награду[1229]. (VI) Ищи доказательств, если можешь; никогда не будет он изобличен — ни на основании своего собственного признания, ни на основании признания его друзей.
(12) Ты спросишь меня, Граттий, почему так по душе мне Авл Лициний; потому что он нам дарит то, благодаря чему отдыхает ум после шума на форуме, что ласкает наш слух, утомленный препирательствами. Или ты, быть может, думаешь, что мы можем знать, что́ именно нам говорить изо дня в день при таком большом разнообразии вопросов, если мы не будем совершенствовать свой ум наукой, или же что наш ум может выносить такое напряжение, если мы не будем давать ему отдыха опять-таки в виде той же науки? Я, во всяком случае, сознаюсь в своей преданности этим занятиям. Пусть будет стыдно другим, если кто-нибудь настолько углубился в литературу, что уже не в состоянии ни извлечь из нее что-либо для общей пользы, ни представить что-нибудь для всеобщего обозрения. Но почему стыдиться этого мне, судьи, если я в течение стольких лет веду такой образ жизни, что не было случая, когда желание отдыха отвлекло бы меня от оказания помощи кому бы то ни было — при грозившей ли ему опасности или для защиты его интересов, — когда стремление к наслаждению отклонило бы меня от моего пути, наконец, когда, желая поспать подольше, я опоздал бы? (13) Так кто же может порицать меня и кто вправе на меня негодовать, если столько времени, сколько другим людям предоставляется для занятий личными делами, для празднования торжественных дней игр, для других удовольствий и непосредственно для отдыха души и тела, сколько другие уделяют рано начинающимся пирушкам, наконец, игре в кости и в мяч[1230], я лично буду тратить на занятия науками, постоянно к ним возвращаясь? И тем более следует предоставить мне такую возможность, что благодаря этим занятиям также совершенствуется мое красноречие, которое, каково бы оно ни было, никогда не изменяло моим друзьям, находившимся в опасном положении. Если оно и кажется кому-нибудь незначительным, то я, во всяком случае, понимаю, из какого источника мне черпать то, что выше всего.
(14) Ведь если бы я в юности, под влиянием наставлений многих людей и многих литературных произведений, не внушил себе, что в жизни надо усиленно стремиться только к славе и почестям, а преследуя эту цель — презирать все телесные муки, все опасности, грозящие смертью и изгнанием, то я никогда бы не бросился, ради вашего спасения, в столь многочисленные и в столь жестокие битвы и не стал бы подвергаться ежедневным нападениям бесчестных людей. Но таких примеров полны все книги, полны все высказывания мудрецов, полна старина; все это было бы скрыто во мраке, если бы этого не озарил свет литературы. Бесчисленные образы храбрейших мужей, созданные не только для любования ими, но и для подражания им, оставили нам греческие и латинские писатели! Всегда видя их перед собой во время своего управления государством, я воспитывал свое сердце и ум одним лишь размышлением о выдающихся людях.
(VII, 15) Кто-нибудь спросит: «Что же? А разве именно те выдающиеся мужи, о чьих доблестных делах рассказано в литературе, получили то самое образование, которое ты превозносишь похвалами?» Это трудно утверждать насчет всех, но все же я хорошо знаю, что мне ответить. Я знаю, что было много людей выдающихся душевных качеств и доблести, что они сами по себе, без образования, можно сказать, в силу своих прирожденных как бы божественных свойств, были воздержны и строги. Я даже добавлю: природные качества без образования вели к славе чаще, чем образование без природных качеств. Но я все-таки настаиваю, что всякий раз, когда к выдающимся и блестящим природным качествам присоединяются некое разумное начало и просвещение, получаемое от науки, обычно возникает нечто превосходное и замечательное. (16) Из числа таких людей был тот человек, которого видели наши отцы, — божественный Публий Африканский; из их числа были Гай Лелий, Луций Фурий[1231], самые умеренные и самые воздержные люди; из их числа был храбрейший и по тем временам образованнейший муж, старец Марк Катон[1232]. Если бы литература не помогала им проникнуться доблестью и воспитать ее в себе, они к ней, конечно, никогда бы не обратились. И даже если бы плоды занятий науками не были столь явны и если бы даже в этих занятиях люди искали только удовольствия, все же вы, я думаю, признали бы такое направление ума самым достойным и благородным. Ведь другие занятия годятся не для всех времен, не для всех возрастов, не во всех случаях, а эти занятия воспитывают юность, веселят старость, при счастливых обстоятельствах служат украшением, при несчастливых — прибежищем и утешением, радуют на родине, не обременяют на чужбине, бодрствуют вместе с нами по ночам, странствуют с нами и живут с нами в деревне.
(VIII, 17) Но если бы мы сами не могли ни постичь их, ни наслаждаться, воспринимая их своим умом, мы все же должны были бы восхищаться ими, даже видя их достоянием других. Кто из нас оказался настолько грубым и черствым человеком, что его не взволновала недавняя смерть Росция?[1233] Хотя он и умер стариком, все же, ввиду своего выдающегося искусства и изящества игры, он, казалось, вообще не должен был бы умирать. И если Росций снискал нашу всеобщую и глубокую любовь своими живыми телодвижениями, то неужели мы пренебрежем невероятной живостью движений души и быстротой ума? (18) Сколько раз видел я, судьи, как присутствующий здесь Архий — воспользуюсь вашей благосклонностью, раз вы так внимательно слушаете эту мою необычную речь, — сколько раз видел я, как он, не записав ни одной буквы, произносил без подготовки большое число прекрасных стихов именно о событиях, которые тогда происходили; сколько раз, когда его вызывали для повторения, он говорил о том же, изменив слова и обороты речи! Что же касается написанного им после тщательного размышления, то оно, как я видел, встречало большое одобрение; он достигал славы, равной славе писателей древности. Его ли мне не любить, им ли не восхищаться, его ли не считать заслуживающим защиты любым способом? Ведь мы узнали от выдающихся и образованнейших людей, что занятия другими предметами основываются на изучении, на наставлениях и на науке; поэт же обладает своей мощью от природы, он возбуждается силами своего ума и как бы исполняется божественного духа. Поэтому наш знаменитый Энний[1234] справедливо называет поэтов священными, так как они кажутся препорученными нам как милостивый дар богов. (19) Да будет поэтому у вас, судьи, у образованнейших людей, священно это имя — «поэт», которое даже в варварских странах никогда не подвергалось оскорблениям. Скалы и пустыни откликаются на звук голоса, дикие звери часто поддаются действию пения и замирают на месте[1235]; а нас, воспитанных на прекраснейших образцах, не взволнует голос поэта? Жители Колофона говорят, что Гомер был их согражданином, хиосцы считают его своим; саламинцы заявляют на него права, а жители Смирны утверждают, что он принадлежит им; поэтому они даже воздвигли ему храм в своем городе; кроме того, очень многие другие города состязаются друг с другом и спорят об этом[1236].
(IX) Итак, даже чужеземца, за то, что он был поэтом, они стремятся и после его смерти признать своим согражданином; так неужели же мы отвергнем этого вот, находящегося в живых, который и по своей доброй воле и по законам — наш, тем более что Архий издавна направил все свое усердие и все свое дарование на то, чтобы возвеличивать славу римского народа и воздавать ему хвалу? Ведь он еще юношей принялся за описание войны с кимврами и пользовался расположением самого Гая Мария, который, казалось, довольно жестко относился к этим занятиям. (20) Ибо едва ли найдется человек, настолько враждебный Музам, чтобы сопротивляться увековечению в стихах своих деяний. Знаменитый Фемистокл, самый выдающийся афинянин, на вопрос, какого исполнителя и вообще чей голос слушает он с наибольшим удовольствием, говорят, сказал: «Голос того, кто лучше всех рассказывает о моей доблести». Поэтому и знаменитый Марий особенно ценил Луция Плоция[1237], который, по мнению Мария, своим дарованием мог прославить его деяния. (21) Что же касается войны с Митридатом, великой, тяжкой и протекавшей на суше и на море с переменным успехом, то вся она описана Архием; книги эти возвеличивают не только Луция Лукулла, храбрейшего и знаменитейшего мужа, но и имя римского народа; ибо ведь это римский народ, под империем Лукулла, открыл для себя доступ в Понт, охранявшийся издревле властью своих царей и естественными условиями; ведь римского народа войско, под водительством того же Лукулла, незначительными силами разбило неисчислимые войска армян; римского народа заслуга в том, что дружественный нам город Кизик, по решению того же Лукулла, был избавлен от нападения царя, спасен от всех опасностей и, так сказать, вырван из пасти войны[1238]; и всегда будут превозносить и восхвалять тот беспримерный морской бой под Тенедосом, в котором Луций Лукулл, перебив вражеских военачальников, потопил флот врагов[1239]; нам принадлежат трофеи[1240], нам — памятники, нам — триумфы. И кто посвящает свое дарование восхвалению всего этого, тот возвеличивает славу римского народа.
(22) Дорог был старшему Публию Африканскому наш Энний; поэтому даже в гробнице Сципионов поставлено, как полагают, его мраморное изображение[1241]. Но такими восхвалениями, несомненно, возвеличивается не только тот, кого восхваляют, но также и само имя римского народа. До небес превозносят имя Катона, прадеда нашего современника[1242]; тем самым величайший почет воздается делам римского народа. Также и похвалы, воздаваемые Максимам, Марцеллам, Фульвиям[1243], относятся в некоторой мере и ко всем нам. (X) И вот, того, кто создал все это, — уроженца Рудий, предки наши приняли в число граждан; а мы из числа наших граждан исключим этого гераклеянина, желанного во многих городских общинах, но в силу законов утвердившегося в нашей?
(23) Далее, если кто-нибудь думает, что греческие стихи способствуют славе в меньшей степени, чем латинские, то он глубоко заблуждается, так как на греческом языке читают почти во всех странах, а на латинском — в ограниченных, очень тесных пределах[1244]. Поэтому, если деяния, совершенные нами, ограничиваются на земле какими-то пределами, то мы должны желать, чтобы туда, куда копья, брошенные нашими руками, пожалуй, не долетят, проникла слава и молва о нас; ибо, если для самих народов, о подвигах которых пишут, это имеет большое значение, то для тех, кто рискует своей жизнью ради славы, это, несомненно, служит величайшим побуждением к тому, чтобы подвергаться опасностям и переносить труды. (24) Сколь многочисленных повествователей о своих подвигах имел при себе, как говорит предание, великий Александр![1245] И все же он, остановившись в Сигее[1246] перед могилой Ахилла, сказал: «О, счастливый юноша, ты, который нашел в лице Гомера глашатая свой доблести!» И верно: если бы у Гомера не было его искусства, то та же могильная насыпь, которая покрыла тело Ахилла, погребла бы в себе также и его имя. Далее, разве не даровал наш Великий[1247], чья удачливость равна его доблести, на солдатской сходке права гражданства Феофану из Митилены, описывавшему его деяния, и разве наши сограждане, храбрые, но неотесанные солдаты, не одобрили этого громкими возгласами, будучи привлечены, так сказать, сладостью славы, как бы отнеся к себе часть этой хвалы? (25) Значит, если бы Архий не был римским гражданином на законном основании, то он, видите ли, не смог бы добиться, чтобы кто-либо из императоров даровал ему права гражданства! Сулла, предоставляя их испанцам и галлам, уж конечно, отказал бы Архию в его просьбе! Тот самый Сулла, который, как мы знаем, однажды, на сходке, когда плохой уличный поэт подбросил ему тетрадку с написанной в честь Суллы эпиграммой (а это только потому была эпиграмма, что в ней чередовались стихи разной длины[1248]), тотчас же приказал вручить поэту награду из тех вещей, которые тогда продавал, но с условием, чтобы тот впредь ничего не писал! Неужели тот, кто признал усидчивость плохого поэта все же достойной какой-то награды, не постарался бы привлечь к себе даровитого Архия с его умением писать и с его богатством речи? (26) Как? Неужели Архий не исходатайствовал бы — сам или через Лукуллов — для себя прав гражданства у Квинта Метелла Пия, очень близкого ему человека, даровавшего их многим людям? Ведь Метелл так жаждал, чтобы его деяния описывались, что был готов слушать даже поэтов родом из Кордубы[1249], хотя они пели как-то напыщенно и непривычно для нас. (XI) Нечего скрывать то, что не может остаться тайным и о чем следует заявить открыто: всех нас влечет жажда похвал, все лучшие люди больше других стремятся к славе. Самые знаменитые философы даже на тех книгах, в которых они пишут о презрении к славе, ставят, однако, свое имя; они хотят, чтобы за те самые сочинения, в которых они выражают свое презрение к прославлению и известности, их прославляли и восхваляли их имена. (27) Децим Брут[1250], выдающийся муж и император, украсил преддверия сооруженных им храмов и памятников стихами своего лучшего друга Акция[1251]. Далее, тот, кто воевал с этолийцами, имея своим спутником Энния, — Фульвий[1252], без колебаний посвятил Музам добычу Марса. Поэтому в городе, где императоры, можно сказать, еще с оружием в руках почтили имя «поэт» и святилища Муз, в этом городе судьи, носящие тоги, не должны быть чужды почитанию Муз и делу спасения поэтов.
(28) А для того, чтобы вы, судьи, сделали это охотнее, я укажу вам на самого себя и призна́юсь вам в своем славолюбии, быть может, чрезмерном, но все же достойном уважения. Ведь Архий уже начал описывать стихами деяния, совершенные мной в мое консульство вместе с вами ради спасения нашей державы, а также для защиты жизни граждан и всего государственного строя[1253]. Прослушав их, я, так как это показалось мне важным и приятным, поручил ему закончить его работу. Ведь доблесть не нуждается в иной награде за свои труды, кроме награды в виде хвалы и славы; если она у нас будет похищена, то к чему нам, судьи, на нашем столь малом и столь кратком жизненном пути так тяжко трудиться? (29) Во всяком случае, если бы человек в сердце своем ничего не предчувствовал и если бы в те же тесные границы, какими определен срок его жизни, он замыкал все свои помыслы, то он не стал бы ни изнурять себя такими тяжкими трудами, ни тревожиться и лишать себя сна из-за стольких забот, ни бороться столь часто за самое свою жизнь. Но теперь в каждом честном человеке живет доблестное стремление, которое днем и ночью терзает его сердце жаждой славы и говорит о том, что память о нашем имени не должна угаснуть с нашей жизнью, но должна жить во всех последующих поколениях.
(XII, 30) Неужели же мы все, отдаваясь государственной деятельности, подвергая опасностям свою жизнь и перенося столько трудов, столь ничтожны духом, чтобы поверить, что с нами, не знавшими до нашего последнего дыхания ни покоя, ни досуга, все умрет? Если многие выдающиеся люди постарались оставить после себя статуи и изображения, передававшие не их душу, а их внешний облик, то не должны ли мы предпочесть, чтобы после нас осталась картина наших помыслов и доблестных деяний, искусно созданная людьми величайшего дарования? Я, по крайней мере, думал, что все деяния, какие я совершал, уже в то время, когда они совершались, становились семенами доблести, рассыпающимися по всему миру, и что память о них сохранится навеки. Но, будут ли эти воспоминания, после моей смерти, далеки от моего сознания или же, как думали мудрейшие люди[1254], они будут соприкасаться с какой-то частью моей души, теперь я, несомненно, услаждаю себя размышлениями об этом и питаю какую-то надежду.
(31) Итак, судьи, спасите человека, столь благородного душой, что порукой за него, как видите, является высокое положение его друзей и их давняя дружба с ним, и столь высоко одаренного (а это можно видеть из того, что к его услугам прибегали люди выдающегося ума). Что касается правоты его дела, то она подтверждается законом, авторитетом муниципия, свидетельскими показаниями Лукулла, записями Метелла. Коль скоро это так, прошу вас, судьи, — если люди столь великого дарования имеют право на покровительство не только людей, но и богов, — то этого человека, который всегда возвеличивал вас, ваших императоров, подвиги римского народа, человека, который обещает увековечить славу недавней борьбы с теми опасностями, что внутри государства угрожали мне и вам, который принадлежит к числу людей, каких всегда считали и называли священными, примите под свое покровительство, чтобы его участь была облегчена вашим милосердием, а не ухудшена вашим бессердечием.
(32) Что я, по своему обыкновению, коротко и просто сказал о судебном деле, судьи, не сомневаюсь, заслужило всеобщее одобрение. Что касается сказанного мной о даровании Архия и о его занятиях вообще, — когда я, можно сказать, отступил от своего обыкновения и от судебных правил, — то вы, надеюсь, приняли это благосклонно. Тот, кто вершит этот суд, воспринял это именно так; в этом я уверен.
16. Речь в сенате по возвращении из изгнания [5 сентября 57 г. до н. э.]
В феврале 58 г. трибун Публий Клодий Пульхр предложил закон «О правах римского гражданина» (de capite civis Romani), подтверждавший положения прежних законов и определявший, что всякий, кто без суда казнил римского гражданина, лишается гражданских прав. Цицерон, хотя и не был назван по имени, усмотрел в этом законе угрозу для себя и после тщетной попытки добиться защиты Помпея и консулов покинул Рим в ночь на 20 марта. Возможно, что 20 марта Клодий провел в комициях этот закон, а также и свой закон о консульских провинциях (см. [1291]). В апреле Клодий провел закон об изгнании Цицерона, запрещавший оказывать ему гостеприимство. Дом Цицерона в Риме и его усадьбы были разрушены.
Цицерон сначала направился в Сицилию, но ее наместник Гай Вергилий запретил ему находиться в Сицилии и на Мелите. Тогда он, после кратковременной остановки в Брундисии, в конце апреля уехал в Диррахий; оттуда он хотел поехать в Кизик, но Гней Планций, квестор Македонии, принял его и убедил остаться у него в Фессалонике.
Уже 1 июня 58 г. трибун Луций Нинний Квадрат предложил в сенате возвратить Цицерона из изгнания, но этому своей интерцессией помешал трибун Публий Элий Лигур. 29 октября восемь народных трибунов (из десяти) внесли в сенат предложение о возвращении Цицерона; Публий Корнелий Лентул Спинтер, избранный в консулы на 57 г., выступил в его защиту. Консулы Писон и Габиний и трибун Лигур снова своей интерцессией не дали сенату принять решение.
В ноябре 58 г. Цицерон, в надежде на успех своего дела и во избежание встречи с войсками проконсула Македонии Луция Писона, переехал из Фессалоники в Диррахий. Через брата Квинта он, видимо, дал Цезарю и Помпею обязательства насчет признания им мероприятий и законов Цезаря. После этого Цезарь и Помпей согласились на его возвращение из изгнания.
1 января 57 г. во время собрания сената консул Корнелий Лентул предложил возвратить Цицерона из изгнания; его поддержал его коллега Квинт Цецилий Метелл Непот, но решение принято не было. Не прошло и такое же предложение трибуна Квинта Фабриция, внесенное им 28 января в комиции; этому помешали гладиаторы Клодия. Стычки на улицах и на форуме продолжались, причем трибуны Публий Сестий и Тит Анний Милон, сторонники Цицерона, составили собственные отряды гладиаторов. В январе 57 г. на улице были тяжело ранены Сестий и трибун Квинт Нумерий Руф, противник Цицерона.
В течение первой половины 57 г. Помпей посетил ряд муниципиев и колоний Италии и добился от них постановлений в пользу Цицерона. В июле консул Корнелий Лентул предложил в сенате возвратить Цицерона из изгнания; за его предложение голосовало 416 сенаторов, против — Публий Клодий. 4 секстилия (августа) центуриатские комиции приняли Корнелиев-Цецилиев закон о возвращении Цицерона из изгнания; 5 августа Цицерон приехал в Брундисий; 4 сентября ему была устроена торжественная встреча в Риме; 5 сентября он произнес в сенате благодарственную речь, 7 сентября — такую же речь перед народом на форуме.
(I, 1) Если я воздам благодарность вам, отцы-сенаторы, не в такой полной мере, в какой этого требуют ваши бессмертные услуги, оказанные мне, моему брату и нашим детям[1255], то прошу и заклинаю вас приписать это не особенностям моего характера, а значительности ваших милостей. В самом деле, может ли найтись такое богатство дарования, такое изобилие слов, столь божественный и столь изумительный род красноречия, чтобы можно было посредством него, не скажу — охватить в своей речи все услуги, оказанные нам вами, но хотя бы перечислить их; ведь вы возвратили мне дорогого брата, меня — глубоко любящему брату, детям нашим — родителей, нам — детей. Вы нам возвратили наше высокое положение, принадлежность к сословию, имущество, наше великое государство, нашу отчизну, дороже которой не может быть ничто; наконец, вы возвратили нам нас самих. (2) Но если дороже всего должны для нас быть родители, так как они дали нам жизнь, родовое имущество, свободу, гражданские права; дороже всего — бессмертные боги, по чьей благости мы сохранили все это и приобрели многое другое; дороже всего — римский народ, так как почестям, которые он оказывает нам, мы обязаны своим местом в прославленном совете, знаками высшего достоинства и своим присутствием в этой твердыне всего мира[1256]; дороже всего — само это сословие, не раз почтившее нас торжественными постановлениями[1257], — если все это должно быть для нас дороже всего, то неизмерим и беспределен наш долг перед всеми вами; ведь вы своим исключительным рвением и единодушием возвратили нам одновременно благодеяния наших родителей, дары бессмертных богов, почести, оказанные нам римским народом, ваши собственные многочисленные почетные суждения обо мне. Мы многим обязаны вам, великим обязаны римскому народу, неисчислимым — родителям, всем — бессмертным богам. Ранее мы, по их милости, обладали каждым из этих благ порознь; ныне мы при вашем посредстве вернули себе все это в совокупности.
(II, 3) Поэтому, отцы-сенаторы, нам кажется, что мы благодаря вам достигли того, о чем человеку даже и мечтать нельзя, — как бы бессмертия. И в самом деле, наступит ли когда-нибудь время, когда может умереть память и молва о милостях, оказанных мне вами? Ведь вы именно в то самое время, когда вас держали в осаде, запугивали и угрожали вам насилием и мечом, вскоре после моего отъезда единодушно решили возвратить меня из изгнания, причем докладывал Луций Нинний, храбрейший и честнейший муж, бывший в тот губительный год наиболее верным и — если бы было решено сражаться — наиболее смелым поборником моего восстановления в правах. После того как при посредстве того народного трибуна, который, сам не имея силы терзать государство, прикрылся чужим преступлением[1258], вас лишили возможности принять решение, вы никогда не молчали обо мне, никогда не переставали требовать восстановления моих прав теми консулами, которые их продали. (4) Таким образом, благодаря вашему рвению и авторитету, в тот самый год, который я предпочел видеть роковым для себя, но только не для отчизны, выступило восемь народных трибунов, которые объявили закон о моем восстановлении в правах и не раз докладывали его вам[1259]. Ведь добросовестным и соблюдавшим законы консулам сделать это препятствовал закон — не тот, который был издан насчет меня, а тот, который был издан насчет них[1260], когда мой недруг объявил закон, гласивший, что я мог бы возвратиться лишь в том случае, если бы вернулись к жизни те, которые едва не уничтожили всего существующего строя. Этим своим поступком он признал два обстоятельства: первое, что он сожалеет об их смерти, и второе, что государство будет в большой опасности, если, после того как оживут враги и убийцы государства, не возвращусь я. При этом именно в тот год, когда я уехал, а первый гражданин государства вверял защиту своей жизни стенам, а не законам[1261], когда государство было без консулов и было лишено не только отцов, постоянно заботящихся о нем, но даже опекунов с годичными полномочиями[1262], когда вам препятствовали высказывать свое мнение и читалась глава о моей проскрипции[1263], вы ни разу не поколебались связать мое спасение со всеобщим благополучием. (III, 5) Но после того как вы, благодаря исключительной и выдающейся доблести консула Публия Лентула[1264], после тьмы и мрака предыдущего года, в январские календы узрели луч света в государстве, когда величайшее достоинство Квинта Метелла, знатнейшего человека и честнейшего мужа, а также и доблесть и честность преторов и почти всех народных трибунов[1265] пришли государству на помощь, когда Гней Помпей доблестью своей, славой, деяниями, несомненно, занявший первое место у всех народов, во все века, в памяти всех людей, решил, что он может, не подвергаясь опасности, явиться в сенат, ваше единодушие насчет моего восстановления в правах было столь полным, что, хотя сам я еще отсутствовал, честь моя уже возвратилась в отечество.
(6) По крайней мере, в течение этого месяца вы могли оценить разницу между мной и моими недругами: я отказался от своего благополучия, чтобы государство не было из-за меня обагрено кровью от ран, нанесенных гражданам; они сочли нужным преградить мне путь для возвращения не голосами, поданными римским народом, а рекой крови[1266]. Поэтому, когда это произошло, вы ничего не ответили ни гражданам, ни союзникам, ни царям; судьи не вынесли ни одного приговора, народ не голосовал, наше сословие не приняло никакого решения; форум мы видели немым, Курию — лишенной речи, государство — молчащим и сломленным. (7) И в это время, после отъезда того человека, который, с вашего одобрения, некогда предотвратил резню и поджоги[1267], вы видели людей, мечущихся по всему городу с оружием и с факелами в руках; вы видели дома должностных лиц осажденными, храмы богов — объятыми пламенем[1268], ликторские связки выдающегося мужа и прославленного консула — сломанными, а неприкосновенного храбрейшего и честнейшего народного трибуна — не только тронутым нечестивой рукой и оскверненным, но и пронзенным и поверженным[1269]. Некоторые должностные лица, потрясенные этим разгромом, отчасти из страха смерти, отчасти изверившись в судьбах государства, несколько отстранились от моего дела; но остальных ни ужас, ни насилие, ни осторожность, ни страх, ни обещания, ни угрозы, ни оружие, ни факелы не заставили изменить ни вашему авторитету, ни достоинству римского народа, ни делу моего спасения.
(IV, 8) Первым Публий Лентул, которого я чту как отца и как бога, вернувшего мне мою жизнь, имущество, славу, имя, решил, что если он возвратит меня мне самому, моим родным, вам, государству, то это будет доказательством его доблести, свидетельством его мужества и блеском его консульства. Как только он был избран, он не переставал высказывать о моем восстановлении в правах мнение, достойное его самого и нашего государства. Когда народный трибун налагал запрет, когда читали знаменитую главу о том, чтобы никто не докладывал вам, не выносил постановления, не обсуждал, не высказывался, не голосовал, не участвовал в составлении[1270], — Лентул, как я уже говорил[1271], отказывался признать все это[1272] законом и называл это проскрипцией, раз на таком основании гражданин с величайшими заслугами перед государством был, с упоминанием его имени, без суда отнят у государства вместе с сенатом. Но как только он принял должность, разве он не почел своим первым, нет, не первым, а единственно важным делом — сохранив меня, на будущее время оградить от посягательств ваше государство и ваш авторитет? (9) Бессмертные боги! Какую великую милость оказали вы мне тем, что в этом году Публий Лентул стал консулом римского народа! Насколько бо́льшую милость оказали бы вы мне, будь он им в предыдущий год! Ведь я бы не нуждался во врачующей руке консула, если бы рука консулов не нанесла мне смертельной раны. Я слыхал от мудрейшего человека и честнейшего гражданина и мужа, от Квинта Катула[1273], что не часто попадается даже один бесчестный консул, но оба — никогда, за исключением памятного нам времени Цинны[1274]; поэтому положение мое — говорил он — будет вполне прочным, пока в государстве будет налицо хотя бы один настоящий консул. И он был прав, если только это его мнение насчет двух консулов — будто в государстве этого не бывало — могло остаться навеки в силе. А если бы Квинт Метелл в то время был консулом, то можно ли сомневаться в мужестве, какое он был бы готов проявить, оберегая меня, раз он поднял вопрос о моем восстановлении в правах и дал свою подпись?
(10) Но консулами тогда были люди, которые своим ограниченным, низким, ничтожным умом, преисполненным мрака и подлости, не могли ничего ни видеть, ни поддержать, ни понять: ни самого названия «консульство», ни блеска этой почетной должности, ни величия столь обширного империя; это были не консулы, а покупатели провинций и продавцы вашего достоинства; один из них[1275] в присутствии многих лиц требовал от меня, чтобы я возвратил ему Катилину, чьим возлюбленным он был, другой[1276] — чтобы я возвратил ему его родственника Цетега. Эти двое, преступнее которых не было на людской памяти — не консулы, а разбойники — не только покинули меня в деле, касавшемся, главным образом, государства и консулов, но предали, напали на меня, захотели, чтобы я был лишен не только всякой их помощи, но и помощи вашей и других сословий.
Впрочем, первому не удалось ввести в заблуждение ни меня, ни кого бы то ни было другого; (V, 11) в самом деле, чего можно было бы ожидать от человека, чья юность, на глазах у всех, была доступна любому развратнику; от человека, не сумевшего свою чистоту, которая должна быть неприкосновенна, охранить от нечистой разнузданности людей; от человека, который столь же усердно проматывал свое собственное имущество, как впоследствии — государственное, и, впав в бедность, удовлетворял свою страсть к роскоши сводничеством в своем собственном доме; от человека, который, не найди он убежища у алтаря трибуната[1277], не мог бы уйти от власти претора, ни от толпы заимодавцев, ни от описи имущества?[1278] Если бы он, в должности трибуна, не провел закона о войне с пиратами, то он, по своей бедности и подлости, сам, конечно, пошел бы в пираты и этим, право, нанес бы меньший ущерб государству, чем тем, что он, нечестивый враг и грабитель, находился внутри стен Рима. На его глазах и при его попустительстве народный трибун провел закон о том, чтобы не считались с авспициями[1279], чтобы не дозволялась обнунциация собранию[1280] или комициям, чтобы не дозволялась интерцессия при издании закона, чтобы утратил силу Элиев и Фуфиев закон[1281], который, по воле наших предков, должен был быть для государства самым надежным оплотом против неистовства трибунов. (12) А впоследствии, когда бесчисленное множество честных людей в трауре[1282] пришло к нему из Капитолия с мольбой, когда знатнейшие юноши и все римские всадники бросились в ноги этому бесстыднейшему своднику, с каким выражением лица этот завитой распутник отверг, не говорю уже — слезы граждан, нет, мольбы отечества! Но и этим он не удовольствовался; он даже предстал перед народной сходкой и сказал то, чего не осмелился бы сказать его супруг Катилина, если бы он вновь ожил: за декабрьские ноны моего консульства и за капитолийский склон[1283] ему ответят римские всадники; и он не только сказал это, но и стал преследовать тех, кого ему было выгодно; так, римскому всаднику Луцию Ламии, человеку выдающегося достоинства, моему лучшему другу и преданнейшему стороннику моего восстановления в правах, человеку состоятельному, преданному поборнику государственного строя, этот консул, упоенный властью, велел покинуть Рим[1284]. И после того как вы постановили надеть траурные одежды и когда все надели их, причем то же самое уже ранее сделали все честные люди, он, умащенный благовониями, в тоге-претексте, которую все преторы и эдилы тогда сняли, он, издеваясь над вашим трауром и над скорбью благодарнейшего государства, сделал то, чего не делал ни один тиранн: тайно скорбеть о вашем несчастье он не препятствовал вам, но открыто оплакивать несчастья государства он своим эдиктом запретил.
(VI, 13) Когда же на сходку во Фламиниевом цирке[1285] не народный трибун привел консула, а разбойник — архипирата, то сколь достойный муж выступил первым! Осоловевший от пьянства, от беспробудного разврата, с умащенными волосами, старательно причесанный, с тяжелым взглядом, с обвислыми щеками, с охрипшим и пропитым голосом! Он с уверенностью человека, отвечающего за свои слова, изрек, что наказание, какому были подвергнуты граждане, не будучи осуждены, ему чрезвычайно не нравится. Где так долго скрывался от нас столь великий авторитет? Почему в непотребстве и кутежах этого завитого плясуна так долго пропадала столь исключительная доблесть?
Ну, а тот другой, Цезонин Кальвенций[1286], с молодых лет бывал на форуме; однако, кроме его притворной и мнимой строгости, в его пользу не говорило ничто: у него не было ни знания законов, ни умения говорить, ни опыта в военном деле, ни старания узнать людей, ни щедрости. Мимоходом увидев его, неопрятного, дикого, унылого, пожалуй, можно было бы подумать, что он груб и необразован, но едва ли можно было бы счесть его человеком распутным и пропащим. (14) С ним ли остановиться для беседы или же со столбом на форуме, никакой разницы не заметишь; скажешь, пожалуй, что это какое-то существо без чувств, без смысла, без языка, медлительное, тупое, каппадокийский раб[1287], только что выхваченный из толпы, выставленной для продажи. Но как распутен он у себя дома, как грязен, как невоздержан! Вожделения свои он не вводит через дверь, а впускает тайком через укромный ход. Когда же у него появляется интерес к наукам и когда этот дикий зверь начинает философствовать с какими-то греками, тогда это эпикуреец, правда, не преданный этому учению по существу, каково бы оно ни было[1288], но увлеченный одним только словом — «наслаждение». Наставники его, однако, не из тех безумцев, что дни напролет рассуждают о долге и о доблести, склоняют нас к труду, к усердию, к преодолению опасностей ради отечества, но из тех, кто утверждает, что не должно быть ни одного часа, лишенного наслаждения, что каждая часть нашего тела всегда должна испытывать какую-нибудь радость и удовольствие. (15) Они являются для него как бы руководителями в его распутстве; они выслеживают и разнюхивают все, что может доставить ему наслаждение; они — повара и устроители пирушек; они же оценивают и обсуждают наслаждения, высказывают свое мнение и судят, с каким вниманием следует отнестись к каждому виду распутства. Обученный их искусством, он был настолько низкого мнения о проницательности наших граждан, что воображал, будто все его распутство, все гнусности могут оставаться скрытыми, если он появится на форуме с наглым видом. (VII) Меня лично он отнюдь не ввел в заблуждение; ведь я, ввиду моего свойства́ с Писонами[1289], понял, как сильно его отдалила от этого рода заальпийская кровь в его жилах, которой он обязан матери; но вас и римский народ он ввел в заблуждение и притом не умом и не красноречием, как бывает нередко, а своими морщинами и нахмуренными бровями. (16) Луций Писон, как осмелился ты, с твоим выражением глаз, не говорю — при твоем образе мыслей; с твоим выражением лица, не говорю — при твоем образе жизни; со столь важным видом (ведь я не могу сказать — после столь важных деяний), объединиться с Авлом Габинием в пагубных для меня замыслах? Разве аромат его умащений, винные пары, выдыхаемые им, его лоб, носящий следы щипцов для завивки, не внушили тебе мысли, что, если ты уподобишься Габинию и на деле, то тебе не удастся долго прятать свои лоб под покрывалом, чтобы скрыть такой тяжкий позор?[1290] И с Габинием ты осмелился вступить в соглашение, чтобы за договор о провинциях[1291] продать звание консула, благо государства, авторитет сената, достояние высоко заслуженного гражданина? В твое консульство твои эдикты и твой империй не дозволили сенату римского народа прийти на помощь государству, не говорю уже — предложениями и авторитетом, но даже выражением горя и ношением траурной одежды. (17) Как ты думаешь, где ты был консулом: в Капуе ли, городе, где некогда обитала надменность (ты действительно там и находился[1292]), или же в Римском государстве, где все консулы, бывшие до вас, повиновались сенату? И ты во Фламиниевом цирке, когда тебе предоставили слово вместе с твоим дружком, осмелился сказать, что ты всегда был сострадателен? Этим словом ты давал понять, что сенат и все честные люди тогда, когда я спасал отечество от гибели, были жестоки. Это ты, сострадательный человек, меня, свойственника своего, которого ты во время комиций, избиравших тебя, поставил первым наблюдателем над центурией, голосовавшей первой[1293], меня, которому ты в январские календы предложил высказать свое мнение в третью очередь, ты выдал головой недругам государства. Это ты надменными и жестокими словами оттолкнул моего зятя, обнимавшего твои колени, твоего родственника, оттолкнул свою свойственницу, мою дочь, и опять-таки это ты — по своей исключительной мягкости и милосердию, когда я пал вместе с нашим государством, получив удар не от трибуна, а от консула, — оказался столь преступным и столь невоздержным человеком, что не допустил, чтобы между моей гибелью и совершенным тобой захватом добычи прошел хотя бы час, пока не смолкнут сетования и стоны города. (18) Еще не успела распространиться весть о крушении государства, как к тебе уже начали поступать взносы на похороны[1294]: в одно и то же время подвергался разграблению и пылал мой дом, перетаскивалось мое имущество с Палация к одному из консулов, который был моим соседом[1295], а из тускульской усадьбы — к другому консулу, также моему соседу[1296]. В то время как эти же шайки подавали голоса и тот же гладиатор[1297] был докладчиком, когда форум опустел и на нем не было, уже не говорю — честных, нет, даже свободных людей, когда римский народ не знал, что именно происходит, а сенат был уничтожен и унижен, двоим нечестивым и преступным консулам передавали эрарий, провинции, легионы, империй.
(VIII) Разрушения, произведенные этими консулами, исправили, благодаря своей доблести, вы, консулы[1298], поддержанные преданностью и рвением народных трибунов и преторов. (19) Что мне сказать о Тите Аннии, столь выдающемся муже?[1299] Или, лучше, кто когда бы то ни было сможет достойно прославить такого гражданина? Он увидел, что в том случае, если возможно применить законы, то преступного гражданина, вернее, внутреннего врага надо сломить судом, но если насилие препятствует правосудию или его уничтожает, то наглость надо побеждать доблестью, бешенство — храбростью, дерзость — благоразумием, шайки — войсками, силу — силой. Поэтому Тит Анний сначала привлек Клодия к суду за насильственные действия[1300]; потом, увидев, что суды Клодием уничтожены, он постарался, чтобы Клодий ничего не мог добиться насильственным путем; он доказал, что ни жилища, ни храмы, ни форум, ни Курию нет возможности защитить от междоусобия и разбоя, не проявив наивысшей доблести и не приложив величайших стараний и усердия; после моего отъезда он первый избавил честных людей от опасении, отнял надежду у дерзких, рассеял страхи этого сословия, отвратил от государства угрозу рабства.
(20) Последовав его образу действий с таким же мужеством, присутствием духа и верностью, Публий Сестий, защищая мои гражданские права, ваш авторитет и государственный строй, ни разу не счел для себя возможным уклониться от каких бы то ни было враждебных столкновений, насильственных действий, нападений и смертельной опасности. Он выступил в защиту сената, подвергшегося нападкам на сходках бесчестных людей, и своим рвением внушил толпе такое уважение к сенату, что народу всего милей стало само ваше имя и всего дороже стал для него ваш авторитет. Он защищал меня всеми средствами, какие только были в его распоряжении, как народного трибуна, и поддержал меня, оказав мне и другие услуги, словно он был моим братом; он оказывал мне поддержку через своих клиентов, вольноотпущенников и рабов, своими денежными средствами и письмами, как будто он не только был моим помощником в моем бедственном положении, но и моим сотоварищем.
(21) Такое сознание долга и рвение проявили и многие другие люди, в чем вы могли убедиться воочию: как верен был мне Гай Цестилий, как предан вам, как непоколебим. А Марк Циспий?[1301] В каком долгу я перед ним самим, перед его отцом и братом, я чувствую: хотя я однажды доставил им неприятность в суде по одному частному делу, они, памятуя о моих заслугах перед государством, предали забвению свою личную обиду. Далее, Тит Фадий, который был у меня квестором[1302], Марк Курций, у отца которого я сам был квестором[1303], не отказались поддержать эту тесную связь между нами своей преданностью, приязнью, усердием. Многое сказал обо мне Гай Мессий[1304] и по дружбе и ради пользы государства; он, после своего вступления в должность, самостоятельно объявил закон о моем восстановлении в правах. (22) Если бы Квинт Фабриций мог наперекор вооруженной силе совершить то, что он попытался сделать для меня, то я уже в январе месяце возвратил бы себе свое прежнее положение. Его добрая воля подвигнула его на то, чтобы ходатайствовать за меня, насилие воспрепятствовало ему в этом, ваш авторитет побудил его выступить снова. (IX) А преторы? Как они ко мне отнеслись, вы сами могли судить, когда Луций Цецилий как частное лицо старался поддержать меня всеми своими средствами, а как должностное лицо он чуть ли не со всеми своими коллегами[1305] объявил закон о моем восстановлении в правах, а тем, кто разграбил мое имущество, не дал возможности обратиться в суд[1306]. Что касается Марка Калидия, то он, как только был избран, дал понять своим предложением, какое значение он придает моему восстановлению в правах. (23) Величайшие услуги оказали и мне и государству Гай Септимий, Квинт Валерий, Публий Красс, Секст Квинктилий и Гай Корнут[1307].
С удовольствием вспоминая об этом, я охотно прохожу мимо беззаконий, которые кое-кто совершил по отношению ко мне. В моем положении мне не подобает помнить об обидах, которые я, даже если бы имел возможность за них мстить, все же предпочел бы забыть; мне следует направить все свои стремления в другую сторону — на то, чтобы людей, оказавших мне большие услуги, отблагодарить, дружеские отношения, выдержавшие испытание огнем, оберегать, с явными врагами вести войну, боязливым друзьям прощать, предателей карать и находить утешение в том, что мое почетное возвращение изгладило скорбь, испытанную мной при отъезде. (24) И если бы у меня, во всей моей жизни, не осталось никакой другой обязанности, кроме одной — заслужить признание, что я достаточно отблагодарил руководителей, зачинателей и вдохновителей дела моего восстановления в правах, — то я все-таки думал бы, что остающийся мне срок жизни слишком ничтожен, не говорю уже — чтобы воздать вам благодарность, но даже для того, чтобы о ней упоминать.
В самом деле, когда смогу я отблагодарить этого человека и его детей, когда смогут сделать это все мои родные? Как прочно надо запечатлеть все это в памяти, как надо напрячь всю силу ума, какое глубокое уважение надо проявить, чтобы достойно воздать за такие многочисленные и такие великие милости? Мне, приниженному и поверженному, он, консул, первым оказал покровительство и протянул руку, он от смерти возвратил меня к жизни, от отчаяния — к надежде, от гибели — на путь спасения. Он проявил такую приязнь ко мне, такую преданность государству, что придумал не только как облегчить мое бедственное положение, но также — как превратить его в почетное. Что могло случиться со мной более прекрасное, более славное, чем принятое на основании его доклада ваше постановление, чтобы все жители всей Италии, которые хотят блага государства, явились восстановить в правах и защитить меня одного, человека, уже сломленного и, можно сказать, уничтоженного, чтобы — подобно тому, как консул, всего только трижды с основания Рима, призывал к защите государства[1308], но лишь тех, до кого достигал его голос, — теперь сенат созвал всех граждан с полей и из городов и всю Италию, чтобы защитить одного человека? (X, 25) Что более славное мог я оставить своим потомкам, чем решение сената, признавшего, что гражданин, который не будет меня защищать, не радеет о благе государства? И столь велик был ваш авторитет, столь исключительно было достоинство консула, что всякий почитал свою неявку позорным и гнусным поступком. А когда это неописуемое множество людей и, можно сказать, сама Италия пришли в Рим, этот же консул созвал вас в полном составе в Капитолий. Тогда-то вы могли понять, сколь сильны прирожденное великодушие и истинное благородство; ибо Квинт Метелл, будучи моим недругом и братом моего недруга, отбросил всю личную ненависть, выполняя вашу волю[1309]. Публий Сервилий[1310], прославленный и честнейший муж и лучший друг мне, как бы божественной силой своего авторитета и красноречия снова призвал его к подвигам и доблести, свойственным его роду и их общей крови, напомнив ему о заветах его брата[1311], участника в моих деяниях, и всех Метеллов, выдающихся граждан, вызвав их чуть ли не с берегов Ахеронта[1312], среди них — знаменитого Нумидийского[1313], чей отъезд из отечества когда-то показался всем, правда, почетным, но все же горестным. (26) И кто до этого величайшего благодеяния был моим недругом, тот, по внушению богов, не только выступил как борец за мое восстановление в правах, но и дал свою подпись во имя охраны моего достоинства. Именно в тот день, когда вас было четыреста семнадцать сенаторов, а должностные лица присутствовали все, не согласился один[1314], — тот, кто думал, что на основании его закона заговорщиков можно вызвать даже из подземного царства. И после того, как вы в убедительных и длинных речах признали в тот день, что государство спасено моими решениями, этот же консул постарался о том, чтобы на другой день первые среди граждан высказали это же самое на народной сходке, а сам защищал мое дело блистательнейшим образом и, выступая перед всей Италией, достиг того, что дерзкий голос какого-либо наймита или негодяя, враждебный честным людям, не достиг ничьего слуха. (XI, 27) Кроме того, вы не только приняли меры, чтобы помочь моему восстановлению в правах, но также и иначе выразили свое уважение ко мне: вы постановили, что никто не должен препятствовать этому делу каким бы то ни было образом; что вы, если кто-либо этому воспротивится, отнесетесь к нему крайне неблагосклонно; что он совершит проступок, который вреден для государства, честным людям и согласию между гражданами, и что об этом следует доложить вам тотчас же[1315], а мне, даже если бы и впоследствии мои недруги стали чинить препятствия, вы повелели возвратиться. А ваше решение выразить благодарность людям, приехавшим из муниципиев? А ваше решение обратиться к ним с просьбой собраться вновь с таким же рвением к тому сроку, когда дело будет рассматриваться снова?[1316] О чем, наконец, говорит тот день, который Публий Лентул превратил в новый день рождения для меня, моего брата и наших детей, день, который будет запечатлен не только в нашей памяти, но и навеки, — день, когда он в центуриатских комициях, которые, по воле наших предков, называются и считаются наиболее торжественными комициями, вызвал меня в отечество, так что те же центурии, которые меня консулом избрали, мое консульство одобрили? (28) Какой гражданин, какого бы возраста он ни был и каково бы ни было состояние его здоровья, счел в этот день дозволенным не подать своего голоса за мое восстановление в правах? Когда видели вы такое многолюдное собрание на поле, такой блеск всей Италии и всех сословий, когда видели вы занимающих столь высокое положение собирателей голосов, счетчиков и наблюдателей?[1317] Поэтому, по исключительной и внушенной богами милости Публия Лентула, я был не просто возвращен в отечество так, как были возвращены некоторые прославленные граждане, а привезен обратно разукрашенными конями на золоченой колеснице[1318].
(29) Могу ли я оказаться когда-либо достаточно благодарным Гнею Помпею? Ведь он не только в вашем присутствии (вы все были того же мнения), но и перед лицом всего народа сказал, что благополучие римского народа сохранено мной и связано с моим благополучием; мое дело он разумным людям поручил, неискушенным разъяснил и в то же время, авторитетом своим, дурных людей заставил замолчать, честных воодушевил; он ради меня, словно ради родного брата или отца, обратился к римскому народу не только с уговорами, но и с мольбой; уже в ту пору, когда он сам не выходил из дому из опасения стычек и кровопролития, он попросил трибунов минувшего года объявить и доложить закон о моем восстановлении в правах; он, сам будучи должностным лицом в недавно основанной колонии, где не было ни одного человека, подкупленного для совершения интерцессии, признал, что привилегия была произвольной и жестокой, и, опираясь на авторитет самых уважаемых людей, закрепил это в официальных письмах; он первый признал нужным, в целях моего восстановления в правах, обратиться ко всей Италии с мольбой о защите; он, сам всегда будучи лучшим другом мне, постарался сделать друзьями мне и своих близких[1319].
(XII, 30) Но какими одолжениями воздам я за услуги Титу Аннию, чье все поведение, помыслы, словом, весь трибунат был не чем иным, как непоколебимой, постоянной, храброй, непреодолимой защитой дела моего восстановления в правах? Что сказать мне о Публии Сестии, который доказал мне свою преданность и верность не только своей скорбью, но также и ранами на своем теле? А вам, отцы-сенаторы, я высказал и буду высказывать благодарность каждому в отдельности. Всем вам сообща я высказал ее вначале, насколько мог; высказать ее в достаточно украшенной речи я никак не могу. Хотя многие люди оказали мне очень важные услуги (умолчать о них нельзя), все же в настоящее время я, при таком смятении, не могу и попытаться упомянуть о благодеяниях, оказанных мне каждым из вас в отдельности: ведь трудно не пропустить кого-нибудь, непозволительно пропустить кого бы то ни было. Всех вас, отцы-сенаторы, я должен почитать наравне с богами. Но, подобно тому, как мы, обращаясь к самим бессмертным богам, обычно молим благоговейно не всегда одних и тех же богов, но в одном случае — одних, в другом — других, так и вся моя дальнейшая жизнь будет посвящена прославлению людей, оказавших мне, по внушению богов, услуги, и воспоминанию об этих услугах. (31) Но сегодня я решил высказать благодарность должностным лицам поименно, а из частных лиц — одному тому[1320], кто, чтобы восстановить меня в правах, объехал муниципии и колонии, с мольбой заклинал римский народ и высказывал мнение, последовав которому, вы возвратили мне мое высокое положение. В дни моего блеска вы меня всегда возвеличивали; в дни моих страданий вы, доколе это было разрешено, выступали в мою защиту, надев траурную одежду и как бы оплакивая меня. На моей памяти сенаторы не имели обыкновения надевать траур даже при наличии опасности для них самих; но когда опасность угрожала мне, сенат носил траур, пока это допускали эдикты тех людей, которые лишили меня в моем опасном положении не только своей защиты, но и вашего заступничества.
(32) Столкнувшись с такими препятствиями и видя, что мне придется как частному лицу сражаться против того войска, над которым я, в бытность свою консулом, взял верх не оружием, а благодаря вашему решению, я обдумал многое. (XIII) Ведь один из консулов сказал тогда на народной сходке, что покарает римских всадников за капитолийский склон: одних он обвинял поименно, других привлекал к судебной ответственности, третьих высылал. Доступу в храмы препятствовало не только то, что их занимала вооруженная стража, но также и то, что их разрушили[1321]. Другой консул[1322], выговорив себе награды, обязался не только оставить меня и государство на произвол судьбы, но и предать врагам государства. У ворот города находился еще один человек с империем[1323] на много лет вперед и с большим войском. Что он был недругом мне, не скажу; что он молчал, когда его моим недругом называли, знаю. (33) Когда было распространено мнение, что в государстве существуют две стороны, то думали, что одна из них хочет моей гибели, а другая защищает меня робко из страха резни. Но те, кто явно хотел погубить меня, еще более усилили страх перед междоусобицей, ни разу не выступив с опровержением и не ослабив всеобщих подозрений и тревог. Видя, что сенат лишен руководителей, что из должностных лиц одни нападают на меня, другие меня предают, третьи покинули, что под видом коллегий в списки внесены рабы[1324], что всем шайкам Катилины, почти при тех же вожаках, снова подана надежда на резню и поджоги, что римские всадники боятся проскрипции, муниципии — разорения, а все боятся резни, я мог, да, видя все это, я мог, отцы-сенаторы, при поддержке многих храбрейших мужей, защищаться оружием, и мое прежнее, не безызвестное вам присутствие духа не изменило мне. Но я знал, что мне в случае победы над ближайшим противником[1325] пришлось бы добиваться победы над слишком большим числом других врагов, а в случае моего поражения многим честным людям грозила бы гибель и из-за меня, и вместе со мной, и даже после меня, и что — в то время как мстители за кровь трибуна явиться не замедлят — кара за мою смерть будет предоставлена суду потомков. (XIV, 34) Будучи консулом, я защитил всеобщую неприкосновенность, не обнажив меча; но как частное лицо я свою личную неприкосновенность защищать оружием не захотел и предпочел, чтобы честные мужи оплакивали мою участь, а не отчаивались в своей собственной. Быть убитым одному казалось мне позорным; быть убитым вместе с многими людьми — гибельным для государства. Если бы я думал, что мои несчастья будут длиться вечно, я скорее покарал бы себя смертью, чем безмерной скорбью. Но видя, что меня не будет в этом городе не дольше, чем будет отсутствовать и само государство, я не счел для себя возможным оставаться, когда оно изгнано, а оно, как только было призвано обратно, тут же возвратило с собой и меня. Вместе со мной отсутствовали законы, вместе со мной — постоянные суды, вместе со мной — права должностных лиц, вместе со мной — авторитет сената, вместе со мной — свобода, вместе со мной — даже обильный урожай, вместе со мной — все священнодействия и религиозные обряды, божественные и совершаемые людьми. Если бы все это исчезло навсегда, то я в большей степени стал бы оплакивать вашу участь, чем сокрушаться о своей собственной; но я понимал, что если все это когда-нибудь будет возвращено, то и мне предстоит вернуться вместе с ним. (35) Надежнейшим свидетелем этих моих помыслов является тот же человек, который оберегал мою жизнь, — Гней Планций[1326]. Он, отказавшись от всех знаков отличия и от всех выгод, связанных с управлением провинцией, посвятил всю свою квестуру тому, чтобы поддержать и спасти меня. Если бы он был квестором у меня как императора, он заменил бы мне сына; теперь он заменит мне отца, так как был квестором не моего империя, а моего несчастья.
(36) Итак, отцы-сенаторы, коль скоро я возвращен в государство одновременно с государством, я, защищая его, не только нимало не поступлюсь своей прежней независимостью, но буду проявлять ее даже в большей степени. (XV) В самом деле, если я защищал государство тогда, когда оно было в каком-то долгу передо мной, то что следует делать мне теперь, когда я в величайшем долгу перед ним? Что могло бы меня сломить или ослабить мое мужество, когда само несчастье мое, как видите, свидетельствует не только о моей безупречности, но даже о благодеяниях, оказанных мной государству и внушенных богами? Ведь это несчастье обрушилось на меня, так как я защитил государство, и я добровольно вынес его, дабы государство, защищенное мной, не подверглось из-за меня крайней опасности.
(37) За меня римский народ не упрашивали юные сыновья, как за Публия Попилия[1327], знатнейшего человека, не упрашивала толпа близких; не обращались к римскому народу с мольбой, как за Квинта Метелла, выдающегося и прославленного мужа, с плачем и в трауре, ни его сын[1328], уже уважаемый, несмотря на свою молодость, ни консуляры Луций и Гай Метеллы[1329], ни их дети, ни Квинт Метелл Непот, который тогда добивался консульства, ни Лукуллы, ни Сервилии, ни Сципионы, сыновья женщин из рода Метеллов[1330]; один только брат мой, который по преданности своей оказался мне сыном, по своему благоразумию — отцом, по любви — братом, кем он и был, своими траурными одеждами, слезами и ежедневными мольбами возбудил в людях желание вновь увидеть меня и оживил воспоминание о моих деяниях. Решив разделить со мной мою судьбу и потребовать, чтобы ему дали жить и умереть вместе со мной, если он, при вашем посредстве, не возвратит меня из изгнания, брат мой все же ни разу не испугался ни трудности этой задачи, ни своего одиночества, ни сил и оружия недругов. (38) Был также и другой поборник и ревностный защитник моего благополучия, человек величайшей доблести и преданности — зять мой, Гай Писон, который ради моего восстановления в правах пренебрег угрозами моих недругов, враждебным отношением консула, моего свояка и своего родственника, пренебрег выгодами квестуры в Понте и Вифинии[1331]. Никогда сенат не выносил постановления о Публии Попилии; никогда это сословие не упоминало имени Квинта Метелла. Их, когда были убиты их недруги, по предложению трибунов восстановили в правах после того, как первый из них покорился сенату, а второй, уехав, предотвратил насильственные действия и резню. Что касается Гая Мария, третьего до меня консуляра[1332], на памяти наших современников изгнанного гражданской бурей, то он не только не был восстановлен в своих правах сенатом, но возвращением своим, можно сказать, уничтожил весь сенат. Насчет их возвращения среди должностных лиц единодушия не было, к римскому народу с призывом защищать государство не обращались, движения в Италии не было никакого, постановлений муниципиев и колоний не было никаких. (39) Поэтому, так как вы меня вытребовали своим решением, так как меня призвал римский народ, умоляло государство, чуть ли не на своих руках принесла обратно вся Италия, то теперь, отцы-сенаторы, когда мне возвращено то, что не было в моей власти, я не откажусь от выполнения того, что могу осуществить сам, — тем более, что потерянное мной я себе возвратил, а доблести и честности своей не терял никогда.
17. Речь о своем доме [В коллегии понтификов, 29 сентября 57 г. до н. э.]
Речь эту Цицерон произнес 29 сентября 57 г. в коллегии понтификов и доказывал в ней незаконность трибуната и действий Публия Клодия; Цицерон требовал возвращения ему его земельного участка на Палатинском холме, где до изгнания стоял его дом, разрушенный Клодием после издания закона «Об изгнании Марка Туллия». Клодий разрушил также и находившийся рядом портик, воздвигнутый консулом 102 г. Квинтом Лутацием Катулом. На этом участке Клодий построил дом для себя, галерею и поставил статую Свободы; затем галерея и участок, где находилась статуя Свободы, были освящены и на них был наложен религиозный запрет. Коллегия понтификов признала освящение и наложение религиозного запрета недействительными, так как Клодий не был уполномочен на это решением комиций. 2 октября сенат постановил возвратить Цицерону его земельный участок и восстановить портик Катула. Цицерону было отпущено 2.000.000 сестерциев на постройку дома и 750.000 сестерциев на восстановление усадеб в Тускуле и Формиях. См. введение к речи 16.
(I, 1) Среди многочисленных правил, понтифики[1333], по воле богов установленных и введенных нашими предками, наиболее прославлен их завет, требующий, чтобы одни и те же лица руководили как служением бессмертным богам, так и важнейшими государственными делами, дабы виднейшие и прославленные граждане, хорошо управляя государством, оберегали религию, а требования религии мудро истолковывая, оберегали благополучие государства. И если ведению и власти жрецов римского народа когда-либо подлежало важное дело, то дело, о котором идет речь сейчас, конечно, столь значительно, что все достоинство государства, благополучие всех граждан, их жизнь, свобода, алтари, очаги, боги-пенаты[1334], движимое и недвижимое имущество оказываются ныне порученными и доверенными вашей мудрости, покровительству и власти. (2) Вам сегодня предстоит решить, что вы предпочитаете на будущее: лишить ли безумных и безнравственных должностных лиц защиты со стороны бесчестных и преступных граждан или же, напротив, даже страх перед бессмертными богами сделать оружием в их руках? Ибо, если этот разрушитель и поджигатель государства[1335] при помощи божественных установлений защитит свой пагубный и роковой трибунат, оборонить который с помощью человеческой справедливости он не может, то нам придется искать других священнодействий, других служителей бессмертных богов, других истолкователей правил религии. Но если благодаря вашему авторитету и мудрости, понтифики, будет вырвано с корнем все то, что из-за бешенства бесчестных и из-за робости честных людей произошло в государстве, одними захваченном, другими покинутом, третьими проданном, то у нас будет основание прославлять справедливо и по заслугам мудрость предков, избиравших для жречества самых выдающихся мужей.
(3) Но этот безумец решил, что если он осудит те предложения по государственным делам, какие я в течение последних дней внес в сенат, то вы в какой-то мере прикло́ните ухо к его речам; поэтому я отступлю от своего обычного порядка; отвечу не на речь, к которой этот помешанный не способен, а на его брань, в которой он понаторел как по своей нестерпимой наглости, так и ввиду продолжительной безнаказанности.
(II) Прежде всего я спрашиваю тебя, полоумного и неистового человека: уж не пала ли на твою голову какая-то кара за твои преступления и гнусности[1336], раз ты думаешь, что присутствующие здесь такие мужи, оберегающие достоинство государства не только своими советами, но уже и самим обликом своим, раздражены против меня за то, что я, внося свое предложение, связал благополучие граждан с предоставлением почетной должности Гнею Помпею[1337], и что в настоящее время их мнение насчет важнейших вопросов религии не то, какое у них было в мое отсутствие? (4) «Тогда, — говорит Клодий, — ты взял верх в глазах понтификов, но теперь, коль скоро ты перешел на сторону народа[1338], ты неизбежно должен проиграть»[1339]. Действительно ли это так? То, что является самым большим недостатком неискушенной толпы, — колебания, непостоянство, склонность к частой смене мнений, напоминающей перемены погоды, — ты готов приписать этим вот людям, которых от непоследовательности ограждает их достоинство, от произвольных решений — строгие и определенные правила религии, давность примеров, значение записей и памятников? «Ты ли, — спрашивает он, — тот, без кого не мог обойтись сенат, кого оплакали честные люди, по ком тосковало государство; тот, с чьим восстановлением в правах мы считали восстановленным авторитет сената, который ты, тотчас же по своем прибытии, предал?» Я еще ничего не говорю о своем предложении; отвечу сначала на твои бесстыдные слова.
(III, 5) Значит, вот кого ты, злодей и губитель государства, вот какого гражданина ты мечом и оружием, страхом перед войском[1340], преступлением консулов[1341], угрозами наглейших людей, вербовкой рабов, осадой храмов[1342], занятием форума, захватом Курии принудил покинуть дом и отечество, так как он не хотел, чтобы честным людям пришлось мечом сразиться с бесчестными? Ведь ты сам признаешь, что сенат, все честные люди и вся Италия, сожалея о его отсутствии, вытребовали и вызвали его ради спасения государства. — «Но тебе не следовало приходить в Капитолий в тот тревожный день»[1343]. — (6) Да я и не приходил, а был дома в течение всего тревожного времени, так как было известно, что твои рабы, уже давно подготовленные тобой для истребления честных людей, с твоей шайкой преступников и негодяев и вместе с тобой пришли в Капитолий вооруженные. Когда мне об этом говорили, я — знай — остался дома и не дал тебе и твоим гладиаторам возможности возобновить резню. Но когда я был извещен, что римский народ, напуганный недостатком хлеба, собрался в Капитолии, а твои пособники в злодеяниях разбежались в ужасе (одни из них бросили мечи сами, у других их отобрали), тогда я пришел, уж не говорю — без каких-либо войск или отряда, а всего только с несколькими друзьями. (7) Неужели же, когда консул Публий Лентул, оказавший величайшую услугу мне и государству, и брат твой Квинт Метелл[1344], который, хотя и был моим недругом, все же поставил мое восстановление в правах и мое достоинство выше раздоров между нами и выше твоих просьб, требовали моего прихода в сенат, когда такое множество граждан призывало именно меня, чтобы я мог поблагодарить их за их столь недавнюю услугу, мне не следовало приходить — тем более, что ты, как было известно, со своей шайкой беглых рабов оттуда уже удалился? При этом ты даже осмелился назвать меня, охранителя и защитника Капитолия и всех храмов, «Капитолийским врагом», — не за то ли, что я пришел в Капитолий, когда двое консулов собрали в нем сенат? Бывает ли время, когда приход в сенат позорен? Или вопрос, который рассматривался, был таков, что я должен был отвергнуть самое дело и осудить тех, кто его рассматривал? (IV, 8) Скажу прежде всего, что долг честного сенатора — всегда являться в сенат, я не согласен с теми, кто при неблагоприятных обстоятельствах решает не являться в сенат, не понимая, что такое излишнее упорство всегда весьма по сердцу и приятно тем людям, которых они хотели обидеть[1345]. — «Но ведь некоторые удалились из страха, полагая, что присутствие в сенате для них небезопасно». — Не упрекаю их и не спрашиваю, следовало ли им чего-либо страшиться; думаю, что дело каждого — решать, надо ли ему бояться. Ты спрашиваешь, почему не побоялся я? Потому что было известно, что ты оттуда ушел. Почему, когда некоторые честные мужи считали, что для них небезопасно присутствовать в сенате, я не был того же мнения? Почему, когда я, напротив, признал, что для меня вовсе не безопасно даже находиться в государстве, они остались? Или другим дозволено — и по справедливости дозволено — не бояться за себя, когда я в страхе, а мне одному непременно надо бояться и за себя и за других?
(9) Или же я заслуживаю порицания за то, что в предложении своем не осудил двоих консулов?[1346] Значит, я должен был осудить именно тех людей, по чьему закону я, который не был осужден и имел величайшие заслуги перед государством, не несу кары, положенной осужденным? Ведь даже если бы они совершили какие-либо проступки, то за их исключительно благожелательное отношение к делу моего спасения не только мне, но и всем честным людям следовало бы отнестись к ним снисходительно; мне ли, восстановленному ими в моем прежнем достоинстве, отвергать своим советом их весьма благоразумное решение? Но какое же предложение внес я? Во-первых, то, какое народная молва нам уже давно внушала; во-вторых, то, какое обсуждалось в сенате в течение последних дней; наконец, то, какому последовал, согласившись со мной, собравшийся в полном составе сенат. Так что я не предлагал ничего неожиданного и нового; а если в предложении и кроется ошибка, то ошибка того, кто его внес, не больше ошибки тех, кто его одобрил. — (10) «Но решение сената не было свободным вследствие страха». — Если ты утверждаешь, что побоялись те, которые удалились, то согласись, что не побоялись те, которые остались. Но если не было возможности свободно принять решение без отсутствовавших тогда, то я скажу, что предложение об отмене постановления сената было внесено в присутствии всех — весь сенат воспротивился этой отмене.
(V) Ну, а в самом предложении — я хочу знать, так как это я его внес и я его автор — есть ли что-нибудь предосудительное? Разве не было повода для нового решения, разве мне не следовало принять в этом деле особое участие, или же нам надо было обратиться к другому лицу? Какая причина могла быть более важной, чем голод, чем смута, чем замыслы твои и твоих сторонников, коль скоро ты, когда представилась возможность возбудить недовольство среди людей неискушенных, решил использовать недостаток хлеба и возобновить свой пагубный разбой?
(11) Хлебородные провинции[1347] отчасти не имели хлеба, отчасти отправили его в другие страны (пожалуй, вследствие алчности поставщиков), отчасти (рассчитывая заслужить бо́льшую благодарность, если придут на помощь во время голода) держали хлеб под замком и под охраной, чтобы прислать его накануне нового урожая. Это были не слухи, а подлинная и явная опасность и ее возможность не на основании догадок предвидели, а видели ее уже воочию, на деле. И вот тогда, когда началось повышение цен на хлеб, так что уже появилась угроза явного недостатка хлеба и голода, а не только вздорожания хлеба, народ сбежался к храму Согласия, причем консул Метелл созвал туда сенат. Если эти волнения действительно были вызваны бедственным положением людей и голодом, то консулам, несомненно, надо было заняться этим, а сенату принять какое-то решение; но если причиной волнений было вздорожание хлеба, а подстрекателем к мятежу и нарушителем спокойствия был ты, то разве всем нам не следовало постараться лишить пищи твое бешенство? (12) Далее, если было налицо и то, и другое, причем людей побуждал голод, а ты был как бы почвой, на которой язва возникла, то разве не следовало применить тем более сильное средство, которое могло бы вылечить и от той врожденной, и от этой привнесенной болезни? Итак, была дороговизна и нам грозил голод; но это еще не все; стали бросать камни; если это случилось в связи со страданиями народа, когда его никто не подстрекал, то это — большое зло; но если это случилось по наущению Публия Клодия, то это — обычное злодеяние преступного человека; если же было и то и другое, то есть и причина, сама по себе возбуждавшая толпу, и присутствие подготовленных и вооруженных вожаков мятежа, то не кажется ли вам, что само государство взмолилось к консулу о помощи, а к сенату о покровительстве? Но вполне ясно, что и то, и другое было налицо. Что были затруднения с продовольствием и крайний недостаток хлеба, так что люди явно боялись уже не продолжительной дороговизны, а голода, — никто не отрицает. Что тот враг спокойствия и мира намеревался воспользоваться создавшимся положением как предлогом для поджогов, резни и грабежей — прошу вас не подозревать, понтифики, пока не увидите воочию. (13) Кто были люди, во всеуслышание названные в сенате твоим братом, консулом Квинтом Метеллом, — те, которые, по его словам, метили в него камнями и даже нанесли ему удар? Он назвал Луция Сергия и Марка Лоллия. Кто же этот Лоллий? Тот, кто без меча не сопровождает тебя даже теперь; тот, кто, в бытность твою народным трибуном, потребовал для себя поручения убить — о себе говорить не стану, — нет, убить Гнея Помпея! Кто такой Сергий?[1348] Подручный Катилины, твой телохранитель, знаменосец мятежа, подстрекатель лавочников, человек, осужденный за оскорбления, головорез, метатель камней, опустошитель форума, вожак при осаде курии. Когда ты под предлогом защиты бедных и неискушенных людей, имея этих и подобных им вожаков, во времена дороговизны хлеба подготовлял внезапные нападения на консулов, на сенат, на добро и имущество богатых людей, когда при спокойствии в стране не могло быть благополучия для тебя, когда ты, имея отчаянных вожаков, располагал распределенным на декурии и правильно устроенным войском из негодяев, то неужели сенат не должен был принять мер, дабы на этот столь подходящий горючий материал не попал твой губительный факел?
(VI, 14) Итак, основание принять новое решение было. Судите теперь, следовало ли мне принимать в этом деле особое участие? Чье имя было на устах у твоего знаменитого Сергия, у Лоллия, у других негодяев, когда они бросали камни? Кто должен был, по их словам, заботиться о доставке хлеба? Не я ли? А разве эти шайки, собиравшиеся по ночам, подстрекаемые тобой самим, не требовали хлеба от меня? Словно именно я ведал продовольственным делом, или держал у себя какое-то количество припрятанного хлеба, или вообще имел какое-нибудь значение в этом деле, заведовал им или обладал какими-то полномочиями! Но человек, жаждавший резни, сообщил своим наймитам мое имя, бросил его неискушенным людям. После того как собравшийся в полном составе сенат, при несогласии этого вот одного человека, принял в храме Юпитера Всеблагого Величайшего постановление о возвращении мне моего высокого положения, внезапно, в тот же самый день, необычайную дороговизну сменила неожиданная дешевизна. (15) Кое-кто говорил (таково и мое мнение), что бессмертные боги изъявлением своей воли одобрили мое возвращение. Но некоторые объясняли это другими соображениями и догадками: так как с моим возвращением, казалось, была связана надежда на спокойствие и согласие, а с моим отсутствием — постоянная боязнь мятежа, то цены на хлеб, по их словам, изменились как будто с устранением угрозы войны. Так как после моего возвращения хлеба снова стало меньше, но, по утверждению честных мужей, после моего прибытия должна была наступить дешевизна, то именно от меня стали настойчиво требовать хлеба. (VII) Словом, мое имя не только называли, по твоему наущению, твои наймиты, но и после того, как они были отогнаны и рассеяны, меня, хотя в тот день я был нездоров, стал призывать в сенат весь римский народ, собравшийся тогда в Капитолии.
(16) Я пришел долгожданный; после того, как многие уже высказались, меня спросили о моем предложении; я внес предложение, самое спасительное для государства, единственно возможное для меня. От меня требовали изобилия хлеба, дешевизны продовольствия; мог ли я что-либо сделать или не мог, в расчет не принималось; честные люди настоятельно предъявляли мне требования, выдержать брань бесчестных я не мог. Я передал эту заботу более могущественному другу — не для того, чтобы взвалить это бремя на человека, оказавшего мне такую большую услугу (я скорее сам изнемог бы под таким бременем), но так как видел то, что видели все: Гнею Помпею, при его честности, мудрости, доблести, авторитете, наконец, удачливости, будет очень легко выполнить то, в чем мы за него поручимся. (17) И вот, независимо от того, бессмертные ли боги даровали римскому народу за мое возвращение награду, состоящую в том, что — после того, как с моим отъездом были связаны скудость продовольствия, голод, опустошение, резня, пожары, грабежи, безнаказанность злодеяний, изгнание, страх, раздоры, а с моим возвращением, вместе со мной, казалось, вернулись плодородие полей, обильный урожай, надежда на мир, душевное спокойствие, правосудие, законы, согласие в народе, авторитет сената, — или же я сам в ответ на такую большую милость римского народа должен был принять на себя, при своем приезде, какую-то ответственность и помогать своим советом, авторитетом, рвением, ручаюсь, обещаю, заверяю (не утверждаю ничего лишнего; только то, что достаточно для нынешнего положения, утверждаю я): по части снабжения хлебом государство в том угрожаемом положении, в какое его пытались поставить, не окажется. (VIII, 18) Итак, разве потому, что я выполнил этот долг, который лежал именно на мне, мое предложение осуждают? Никто не отрицает, что положение дошло до крайности, что грозила страшная опасность, — не только голода, но и резни, поджогов и опустошения — коль скоро к дороговизне присоединялось присутствие этого соглядатая, следившего за нашими общими несчастьями, всегда готового зажигать факелы своих злодеяний от пламени бед, постигающих государство.
Он утверждает, что не следовало облекать одного человека чрезвычайными полномочиями[1349]. Не стану отвечать теперь тебе так, как ответил бы другим людям: Гнею Помпею в чрезвычайном порядке уже было поручено ведение очень многих опаснейших, величайших войн на море и на суше; если кто-нибудь на это досадует, он неизбежно должен досадовать на победу римского народа. (19) Я говорю так не с тобой. Эту речь я могу вести перед этими вот людьми[1350], которые рассуждают так: если следует поручить что-нибудь одному человеку, они поручат это скорее всего Гнею Помпею, но они никому ничего не предоставляют в чрезвычайном порядке; так как это было, однако, предоставлено Помпею, то они, ввиду его высоких достоинств, склонны превозносить и защищать это решение. Хвалить их за такое мнение мне не позволяют триумфы Гнея Помпея, которыми он, в чрезвычайном порядке призванный защищать отечество, возвеличил имя римского народа и прославил его державу; но их твердость я одобряю; такую же твердость пришлось проявить и мне, по чьему предложению Помпей, в чрезвычайном порядке, вел войну с Митридатом и Тиграном. (20) С этими людьми я хотя бы могу спорить. Но как велико твое бесстыдство, раз ты осмеливаешься говорить, что чрезвычайных полномочий не следует предоставлять никому! Ты, который на основании преступного закона, не расследовав дела, в казну забрал самого Птолемея, царя Кипра, брата александрийского царя, царствовавшего на таких же правах, и сделал римский народ причастным к преступлению, распространив власть нашей державы на царство, добро и имущество того, с чьим отцом, дедом и предками у нас были союз и дружба! Вывезти его достояние и начать войну в случае, если бы он стал защищать свое право, ты поручил Марку Катону[1351]. (21) Ты скажешь: «Какому мужу! Неподкупнейшему, дальновиднейшему, храбрейшему, лучшему другу государства, человеку прославленных и, можно сказать, исключительных доблестей, мудрости, образа жизни!» Но какое тебе до этого дело, раз ты считаешь неправильным, чтобы кого-нибудь в чрезвычайном порядке ставили во главе какого бы то ни было государственного дела? (IX) Да и не только в этом отношении я могу изобличить тебя в непоследовательности: ведь самому Катону, которого ты в этом деле вовсе не почтил в соответствии с его достоинством, а по своей подлости убрал подальше, ему, кого ты подставил под удары своих Сергиев, Лоллиев, Тициев и других вожаков при резне и поджогах, ему, кто, по твоим словам, был палачом граждан, первым зачинщиком убийства людей неосужденных, сторонником жестокости[1352], ему ты своей рогацией в чрезвычайном порядке с упоминанием имени, предоставил почетную должность и империй. И ты проявил при этом такую несдержанность, что скрыть цели своего злодеяния не можешь. (22) Ты прочитал на народной сходке письмо, которое тебе, по твоим словам, прислал Гай Цезарь — «Цезарь Пульхру», причем ты даже указывал, что Цезарь пользуется только прозванием, не прибавляя слов «проконсул» или «народному трибуну», и что это — знак особой любви к тебе; затем, он будто бы поздравляет тебя с тем, что ты на время своего трибуната избавился от Марка Катона и на будущее время лишил его возможности свободно высказываться о чрезвычайных полномочиях[1353]. Либо Цезарь никогда не присылал тебе этого письма, либо он, если его и прислал, не хотел, чтобы его читали на народной сходке. Но — независимо от того, прислал ли Цезарь его тебе или же ты придумал это, — оглашение этого письма сделало явным, с каким умыслом ты оказал почет Катону.
(23) Но я не стану говорить о Катоне, чья выдающаяся доблесть и достоинство, а в том поручении, которое он выполнил, добросовестность и воздержность, пожалуй, сделали менее заметной бесчестность твоего закона и твоего поступка. А кто предоставил человеку, наиболее опозорившемуся, преступнейшему, наиболее запятнанному из всех когда-либо живших людей[1354], богатую и плодородную Сирию, кто поручил ему вести войну с самыми мирными народами, кто дал ему деньги, предназначенные для покупки земли[1355], вырвав их из живого тела эрария[1356], кто облек его неограниченным империем? Но после того как ты отдал ему Киликию, ты изменил соглашение и передал Киликию претору[1357], опять-таки в чрезвычайном порядке. Габинию же, с указанием его имени, ты предоставил Сирию, получив с него большую взятку[1358]. Далее, разве ты не отдал, также с указанием имени, отвратительнейшему человеку, крайне жестокому, в высшей степени лживому, заклейменному и запятнанному всяческими преступлениями и развратом, — Луцию Писону независимые народы, которым, на основании многих постановлений сената, а также в силу последнего закона его собственного зятя[1359], была предоставлена независимость? А ты отдал ему их скованными и связанными. И хотя Писон моей кровью оплатил тебе твою услугу и стоимость провинции, разве ты не принял участия в дележе эрария? (24) Разве не так? Гай Гракх, преданнейший из всех сторонников народа, не только не отнял консульских провинций у сената, но даже установил своим законом, что они из года в год непременно должны назначаться сенатом; ты отменил это и, хотя провинции были назначены сенатом на основании Семпрониева закона[1360], отдал их в чрезвычайном порядке, без метания жребия, не консулам, а поименно губителям государства. А я? Неужели за то, что я поставил во главе важнейшего — уже почти безнадежного — дела именно этого выдающегося мужа, не раз избиравшегося для отвращения крайней опасности, угрожавшей нашему государству, ты станешь меня порицать?
(X) Что сказать мне? Если бы то, что ты тогда, среди мрака и непроглядных туч и бурь в государстве, оттолкнув сенат от кормила, выбросив народ с корабля, а сам как архипират, плывя на всех парусах с шайкой подлейших разбойников, если бы то, что ты тогда объявил, постановил, обещал, распродал, ты смог осуществить, то какое место в мире было бы свободно от клодиева империя и от его ликторских связок[1361], данных ему в чрезвычайном порядке? (25) Но, наконец, вызванное этим негодование Гнея Помпея — с каким бы настроением он ни стал слушать меня, я все же скажу в его присутствии, что́ я почувствовал и что́ чувствую, — наконец, повторяю, вызванное этим негодование Гнея Помпея, чересчур долго скрывавшееся им и глубоко затаенное, внезапно пришло на помощь государству и заставило граждан, сломленных бедами, понесших потери, ослабевших и охваченных страхом, воспрянуть духом, получив надежду на свободу и на восстановление своего былого достоинства. Неужели же этого мужа не следовало в чрезвычайном порядке поставить во главе продовольственного дела?
Ведь это ты своим законом[1362] весь хлеб (и принадлежавший частным лицам, и казенный), все хлебородные провинции, всех подрядчиков, ключи от всех амбаров передал в распоряжение грязнейшего кутилы, дегустатора твоих любовных похождений, человека нищего и запятнанного тяжкими преступлениями — Секста Клодия, твоего дальнего родственника, который языком своим отдалил от тебя даже твою сестру[1363]. Закон этот сначала вызвал дороговизну, затем недостаток хлеба; нам угрожал голод, поджоги, резня, грабежи. Твое бешенство угрожало имуществу и добру всех граждан. (26) И этот наглый негодяй еще сетует на то, что снабжение хлебом было вырвано из опоганенной пасти Секста Клодия и что государство, находясь в величайшей опасности, взмолилось о помощи к тому мужу, который, как оно помнило, не раз спасал и возвеличивал его! И Клодий не хочет, чтобы что-либо проводилось в чрезвычайном порядке! Ну, а те законы, которые ты, отцеубийца, братоубийца, сестроубийца[1364], по твоим словам, провел насчет меня? Разве ты не в чрезвычайном порядке провел их? Или, может быть, о погибели гражданина, признанного богами и людьми спасителем государства и, как ты сам сознаешься, не только не осужденного, но даже не обвиненного, тебе разрешили провести не закон, а преступную привилегию[1365], когда его оплакивал сенат, когда горевали все честные люди, когда мольбы всей Италии были отвергнуты, когда было уничтожено и захвачено государство? А мне, в то время как об этом умолял римский народ, просил сенат, требовало положение государства, нельзя было внести предложение, спасительное для римского народа?
(27) Так как этим предложением достоинство Гнея Помпея было возвеличено во имя всеобщей пользы, то я, во всяком случае, заслуживал бы похвалы, если бы оказалось, что я голосовал за предоставление полномочий тому, кто способствовал и помог моему восстановлению в правах. (XI) Пусть перестанут, пусть перестанут эти люди надеяться, что они смогут меня, восстановленного в правах, низвергнуть теми же коварными кознями, какими они мне нанесли удар ранее, когда я стоял на ногах! В самом деле, какие два консуляра в этом государстве были когда-либо связаны более тесной дружбой, чем были мы с Гнеем Помпеем?[1366] Кто более блистательно говорил перед римским народом о достоинстве Гнея Помпея, кто чаще говорил об этом в сенате? Разве были какие-либо трудности, нападки, борьба, на которые, как бы велики они ни были, я бы не пошел ради защиты его высокого положения? А он разве когда-либо упустил случай почтить меня, высказать мне хвалу, воздать ее мне за мое расположение? (28) Этот наш союз, это наше единодушие в разумном руководстве государственными делами, это приятнейшее житейское содружество, этот обмен услугами известные люди расстроили своими измышлениями и ложными обвинениями, причем одни и те же люди советовали Помпею опасаться и остерегаться меня[1367], а в моем присутствии говорили, что он относится ко мне весьма недружелюбно, так что ни я не решился просить его достаточно смело о том, о чем мне следовало просить, ни он, огорченный столькими подозрениями, которые были ему преступно внушены известными людьми, не обещал мне, с достаточной готовностью, той поддержки, какой требовало мое положение.
(29) За свое заблуждение, понтифики, я заплатил дорого, так что мне не только досадно на свою глупость, но и стыдно за нее; ведь хотя меня и соединило с этим храбрейшим и прославленным мужем не какое-то случайное обстоятельство, а мои давние, задолго до того предпринятые и обдуманные мной труды, я все же допустил, чтобы такую нашу дружбу расстроили, и не понял, кому мне следует дать отпор как открытым недругам, кому мне не верить как коварным друзьям[1368]. Поэтому пусть, наконец, перестанут подстрекать меня одними и теми же словами: «Чего ему надо? Разве он не знает, как велик его авторитет, какие подвиги он совершил, с каким достоинством он восстановлен в правах? Почему он превозносит человека, который его покинул?» (30) А я, право, думаю, что я тогда был не просто покинут, а, можно сказать, предан; но, полагаю я, мне не следует раскрывать ни того, что было совершено во вред мне во время пожара, охватившего государство, ни каким образом, ни при чьем посредстве было это совершено. Если для государства было полезно, чтобы меня, одного за всех, постигло несчастье, совершенно не заслуженное мной, то для него полезно также, чтобы я это скрывал и молчал о тех, чьим преступлением это было вызвано[1369]. Но было бы неблагодарностью умолчать об одном обстоятельстве. Поэтому я с величайшей охотой буду повторять, что о моем восстановлении в правах особенно постарались Гней Помпей своим рвением и влиянием, а также каждый из вас — своим усердием, средствами, просьбами, наконец, даже ценой опасностей. (XII) Когда ты, Публий Лентул, дни и ночи думал об одном только моем восстановлении в правах, то во всех твоих решениях участвовал также и он; Гней Помпей был твоим влиятельнейшим советчиком при начале дела, надежнейшим союзником при подготовке, храбрейшим помощником при его завершении; он посетил муниципии и колонии[1370]; умолял о помощи всю Италию, тосковавшую по мне; был в сенате автором предложения и он же, внеся это предложение, обратился к римскому народу с призывом восстановить меня в правах. (31) Поэтому ты, Клодий, можешь отказаться от высказанного тобой мнения, что после внесенного мной предложения насчет снабжения хлебом взгляды понтификов переменились; как будто они относятся к Гнею Помпею не так, как я, как будто они не понимают, как мне следовало поступить в соответствии с чаяниями римского народа, отвечая на услуги, оказанные мне Гнеем Помпеем, и принимая во внимание свои собственные обстоятельства, как будто, даже если мое предложение и задело кого-нибудь из понтификов (а я уверен, что это не так), то он — как понтифик о религии и как гражданин о положении государства — вынесет иное решение, а не такое, какое его заставят вынести правила священнодействий и благо граждан.
(32) Я понимаю, понтифики, что сказал в виде отступления больше, чем это полагается и чем я сам хотел бы, но я считал нужным оправдаться в ваших глазах; кроме того, благосклонное внимание, с каким вы меня слушаете, увлекло меня во время моей речи. Зато я буду более краток в той части речи, которая относится к самому предмету вашего расследования; так как оно касается правил религии и законов государства, то относящуюся к религии часть, которая была бы более длинной, я опущу и буду говорить о праве, существующем в государстве. (33) В самом деле, возможна ли бо́льшая дерзость, чем попытка обучать коллегию понтификов правилам религии, почитанию богов, священнодействиям, обрядам, или бо́льшая глупость, чем желание рассказывать вам о том, что можно найти в ваших книгах, или бо́льшая назойливость, чем желание знать то, что́ предки наши повелели блюсти и знать одним только вам? (XIII) Я утверждаю, что на основании публичного права[1371], на основании тех законов, которые применяются к нашим гражданам, ни одного гражданина не могло, без суда, постигнуть несчастье, подобное испытанному мной; заявляю, что такие права существовали в нашей общине даже во времена царей; что они завещаны нам предками; наконец, что основным признаком свободного государства является невозможность нанести правам и имуществу гражданина какой бы то ни было ущерб без приговора сената, или народа, или людей, которые были назначены быть судьями в том или ином деле.
(34) Понимаешь ли ты, что я вовсе не отменяю всех твоих мер полностью и не обсуждаю того, что без того видно, — а именно, что ты вообще ничего не совершил согласно законам, что народным трибуном ты не был, что ты и ныне патриций?[1372] Говорю я перед понтификами; авгуры присутствуют здесь; я нахожусь среди представителей публичного права.
В чем состоит, понтифики, право адопции?[1373] Очевидно, в том, чтобы усыновлял другого тот, кто уже не в состоянии произвести на свет детей, а когда мог, пытался. Затем, перед коллегией понтификов обычно ставят вопрос, какова для обеих сторон причина адопции, каковы соотношения, касающиеся происхождения и положения, а также и родовых обрядов. О чем из всего перечисленного мной спросили при твоей адопции? Двадцатилетний и чуть ли не еще более молодой человек усыновляет сенатора. Для чего? Чтобы иметь детей? Но он может их произвести на свет; у него есть жена; он вырастит детей от нее[1374]. Следовательно, отец лишит своего сына наследства. (35) Далее, почему, насколько это связано с тобой, уничтожаются религиозные обряды Клодиева рода? Когда тебя усыновляли, все это должно было быть предметом расследования со стороны понтификов. Или тебя, быть может, спросили, не хочешь ли ты потрясать государство мятежами и быть усыновленным не ради того, чтобы сделаться сыном человека, усыновлявшего тебя, а для того, чтобы быть избранным в народные трибуны и ниспровергнуть государственный строй? Ты, наверное, ответил, что ты именно этого и хочешь. Понтификам причина эта показалась вполне основательной, они одобрили ее. О возрасте усыновителя не спрашивали, как это было сделано по отношению к Гнею Авфидию и Марку Пупию; и тот и другой, как мы помним, в глубокой старости усыновили один Ореста, другой Писона[1375]; усыновление это, как и во множестве подобных случаев, сопровождалось наследованием родового имени, имущества, обрядов. А ты и не Фонтей, которым ты должен был бы быть, и не наследник своего отца; отказавшись от обрядов своих отцов, ты не приобщился к обрядам, вытекающим из адопции. Так, перепутав все обряды, запятнав оба рода (и тот, который ты покинул, и тот, который ты осквернил), отказавшись от законного квиритского права на опеку и наследование, ты, вопреки естественному праву, стал сыном человека, которому ты, по своему возрасту, мог бы быть отцом.
(XIV, 36) Я говорю в присутствии понтификов; я утверждаю, что твоя адопция не была совершена в соответствии с понтификальным правом: во-первых, потому, что твой усыновитель по своему возрасту мог быть тебе сыном или же тем, кем он в действительности для тебя был; далее, потому, что обычно спрашивают о причине адопции, дабы усыновлял человек, который по закону и на основании понтификального права ищет того, чего уже не может получить естественным путем, и дабы он усыновлял для того, чтобы не были умалены достоинство обоих родов и святость обрядов. Но прежде всего необходимо, чтобы не прибегали ни к мошенничеству, ни к обману, ни к коварству, чтобы эта мнимая адопция сына возможно больше напоминала то подлинное признание, когда ребенка поднимают с земли. (37) Возможно ли большее мошенничество, чем приход безбородого юнца, вполне здорового и женатого, и его заявление о желании усыновить сенатора римского народа? Чем то, что все знают и видят: Клодия усыновляли не для того, чтобы он был утвержден в правах сына, а для того, чтобы он вышел из сословия патрициев и имел возможность сделаться народным трибуном? И этого не держат в тайне; ведь усыновленный немедленно подвергается эманципации. Зачем? Чтобы не быть сыном того, кто его усыновил. Зачем же тот старался его усыновить? Стоит вам только одобрить такую адопцию — и тут же погибнут обряды всех родов, охранителями которых вы должны быть, и уже не останется ни одного патриция. В самом деле, почему бы человек захотел оставаться в таком положении, чтобы ему нельзя было быть избранным в народные трибуны, чтобы для него было затруднено соискание консульства[1376]; почему он, имея возможность достигнуть жречества, должен отказываться от него, так как это звание предназначено не патрицию?[1377] В любом случае, когда окажется выгоднее быть плебеем, каждый, рассуждая так же, захочет быть усыновленным. (38) Таким образом, у римского народа в скором времени не будет ни царя священнодействий, ни фламинов, ни салиев, ни половины остальных жрецов, ни тех, кто дает законную силу постановлениям центуриатских и куриатских комиций[1378], а авспиции римского народа — если патрициев не будут избирать должностными лицами — неминуемо прекратятся, так как не будет интеррекса[1379]; ведь также и он непременно должен сам быть патрицием и избираться патрициями. Я заявил перед понтификами, что твою адопцию, не одобренную постановлением этой коллегии, совершенную вопреки всему понтификальному праву, надо считать недействительной, а с ее отменой, как ты понимаешь, рухнул весь твой трибунат.
(XV, 39) Теперь обращаюсь к авгурам, в чьи книги, коль скоро некоторые из них хранятся в тайне, вникнуть я не стараюсь; я не стану любопытствовать насчет авгурского права; то, чему я научился вместе с народом, те ответы, которые они не раз давали на народных сходках, я знаю. Они утверждают, что к народу нельзя обращаться с предложением, когда наблюдают за небесными знамениями. Ты осмеливаешься отрицать, что в тот день, когда о тебе, как говорят, был внесен куриатский закон[1380], наблюдали за небесными знамениями? Здесь присутствует муж исключительной доблести, непоколебимости, достоинства — Марк Бибул[1381]; я утверждаю, что именно в этот день он как консул наблюдал за небесными знамениями. — «Следовательно, ты объявляешь недействительными решения Гая Цезаря, храбрейшего мужа?» — Совсем нет; да меня это теперь уже нисколько не заботит, после того как я был поражен теми копьями, которые, в связи с его действиями, вонзились в мое тело. (40) Но сейчас я очень кратко коснусь того, что ты совершил по отношению к авспициям. Это ты, во время своего уже рушившегося и обессилевшего трибуната, вдруг стал защитником авспиций; ты предоставил Марку Бибулу и авгурам слово на народной сходке; на твой вопрос авгуры ответили, что во время наблюдений за небесными знамениями держать речь к народу нельзя; а Марк Бибул на твой вопрос ответил, что эти наблюдения он действительно производил, и он же, когда твой брат Аппий[1382] предоставил ему слово, сказал на народной сходке, что ты вообще не был трибуном, так как усыновили тебя вопреки авспициям. Наконец, ведь именно ты в последующие месяцы доказывал, что все меры, которые провел Цезарь, коль скоро они были проведены вопреки авспициям, должны быть при посредстве сената отменены. Если бы это произошло, то ты, по твоим словам, был бы готов принести меня обратно в Рим на своих плечах как стража Рима[1383]. Обратите внимание на его безумие… [ведь сам он] обязан своим трибунатом мерам Цезаря.
(41) Если понтифики на основании правил, по которым совершаются обряды, а авгуры в силу святости авспиций объявляют весь твой трибунат недействительным, то чего тебе еще? Требуется ли еще какое-нибудь более ясное народное и установленное законом право? (XVI) Приблизительно в шестом часу дня, защищая своего коллегу Гая Антония[1384], я посетовал в суде на некоторые события в государстве, которые, как мне показалось, имели отношение к делу этого несчастного человека. Бесчестные люди передали мои слова кое-кому из влиятельных мужей[1385] совершенно иначе, чем они мной были сказаны. В девятом часу, в тот же день, ты был усыновлен. Если при адопции достаточно трех часов для того, на что при издании других законов требуются три нундины[1386], то мне сказать ничего; но если в обоих случаях надо соблюдать одни и те же правила, то я напомню, что сенат признал законы Марка Друса[1387] необязательными для народа, так как они были приняты вопреки Цецилиеву и Дидиеву закону. (42) Ты уже понимаешь, что на основании права в целом, выраженного в религиозных обрядах, в авспициях, в законах, ты народным трибуном не был.
Впрочем, я прохожу мимо всего этого и не без оснований. Ведь я вижу, что некоторые прославленные мужи, первые среди граждан, в нескольких случаях признали, что ты имел право обращаться к плебсу с предложением. Они и по поводу моего дела говорили, что, хотя, по твоему предложению, было похоронено государство, но все решение об этих похоронах, правда, печальных и безвременных, было вынесено законно. По их словам, своим предложением обо мне, гражданине с такими заслугами перед государством, ты похоронил государство; но так как предложение твое было внесено в соответствии с авспициями, то ты действовал согласно закону. Поэтому нам, полагаю я, будет позволительно не сомневаться в действительности тех решений, на которых был основан твой трибунат, одобренный этими мужами.
(43) Но допустим, что ты был народным трибуном по праву и по закону в такой же мере, в какой им был сам Публий Сервилий[1388], присутствующий здесь, муж широко прославленный и всем известный. На основании какого же права, какого обычая, какого примера провел ты закон о лишении гражданина, который не был осужден, его гражданских прав, притом назвав его по имени? (XVII) Предлагать законы, направленные против частных лиц, запрещают священные законы[1389], запрещают Двенадцать таблиц[1390], ибо это — привилегия; никто никогда не предлагал ее. При нашем гражданском устройстве это самая жестокая, самая губительная, самая нестерпимая мера. К чему сводятся значение злосчастного слова «проскрипция»[1391] и все бедствия времен Суллы, особенно памятные нам ввиду их жестокости? Я думаю — к каре, постигшей римских граждан поименно и без суда. (44) И вы, понтифики, дадите своим решением и авторитетом народному трибуну власть подвергать проскрипции тех, кого он захочет? Я спрашиваю вас: что это, как не проскрипция, — «Повелеваете ли вы, приказываете ли вы, чтобы Марк Туллий не находился среди граждан и чтобы его имущество принадлежало мне?» Ибо так было на деле, хотя он составил ее в других выражениях? Разве это плебисцит? Или закон? Или рогация?[1392] Можете ли вы это стерпеть? Может ли государство перенести, чтобы отдельных граждан удаляли из государства на основании одной строчки? Я, со своей стороны, уже все испытал; не боюсь ни насилия, ни нападок; я доставил удовлетворение ненавистникам, успокоил ненависть бесчестных людей, насытил также и вероломство и преступность предателей; наконец, о моем деле, на которое, казалось, была обращена ненависть пропащих граждан, уже вынесли свое суждение все города, все сословия, все боги и люди. (45) О самих себе, понтифики, о детях своих и о прочих гражданах должны вы позаботиться в соответствии со своим авторитетом и мудростью. Ибо, с одной стороны, предками нашими судам народа была дана власть в столь разумных границах, что, во-первых, поражение в правах не должно было сопровождаться денежной пеней; во-вторых, никто не мог быть обвинен без заблаговременного назначения дня суда — с тем, чтобы должностное лицо объявляло об обвинении трижды, каждый раз через день, прежде чем наложить пеню и начинать суд, чтобы четвертое обвинение было заблаговременно назначено через три нундины; в этот день и должен состояться суд. С другой стороны, обвиняемому было сделано много уступок, позволяющих ему умилостивить судей и привлечь к себе сострадание; далее, народ доступен мольбам, оправдательного приговора легко добиться; наконец, даже в том случае, если какое-нибудь обстоятельство — в связи ли с авспициями или по какой другой причине — делало суд невозможным в тот день, то отменялся суд по всему делу[1393]. Но если таков порядок в деле, где имеются налицо обвинение, обвинитель, свидетели, то может ли быть что-либо более недостойное, чем случай, когда о гражданских правах, о детях и обо всем достоянии человека, который и не получал приказания явиться, и не был вызван в суд, и не был обвинен, подают голос наймиты, убийцы, нищие и негодяи, причем это считается законом? (XVIII, 46) И если он мог сделать это по отношению ко мне, которого оберегали почетное положение, достоинство, общее благо, государственная деятельность; по отношению ко мне, чье имущество, наконец, не было предметом домогательства, ко мне, которому повредило только изменение и ухудшение общего положения в государстве[1394], то что же произойдет с теми людьми, которые по своему образу жизни далеки от всенародных почестей, от блеска и известности, но чье имущество так велико, что на него находится уж очень много охотников среди обнищавшей расточительной знати? (47) Сделайте такие меры дозволенными для народного трибуна и бросьте хотя бы один взгляд на молодежь, а особенно на тех, кто, по своей алчности, видимо, уже добивается власти трибуна: клянусь богом верности, стоит только вам подтвердить это право, как найдутся целые коллегии народных трибунов, которые сговорятся между собой насчет захвата имущества самых богатых людей, особенно если дадут народу возможность поживиться и посулят ему раздачу.
И что предложил этот опытный и искусный составитель законов?[1395] «Повелеваете ли вы, приказываете ли вы, чтобы Марк Туллий был лишен воды и огня?» Жестокое беззаконие, недопустимое без суда даже по отношению к преступнейшему гражданину. Но ведь он не предложил, «…чтобы был лишен». Что же предложил он? «Чтобы оказался лишенным». О негодяй, о чудовище, о злодей! Это Клодий составил для тебя этот закон, еще более грязный, чем его язык, чтобы оказался лишенным тот, кто не был лишен воды и огня? С твоего позволения, любезнейший Секст, так как ты теперь диалектик и лижешь также и такое[1396], может ли то, что не было сделано, оказаться сделанным и быть внесено на рассмотрение народа, закреплено какими-то словами или подтверждено голосованием? (48) Вот с каким составителем законов, вот с каким советчиком, вот с каким слугой, самым нечистым из всех не только двуногих, но даже и четвероногих существ, ты и погубил государство. И ведь ты не был так туп и так безумен, чтобы не знать, что Секст Клодий для того и живет, чтобы нарушать законы, а чтобы их составлять, есть другие люди. Но ни над одним из них и ни над одним из других людей, хоть сколько-нибудь благоразумных, ты властен не был. И ты не мог пригласить ни тех составителей законов, кого приглашали другие, ни архитекторов для строительства[1397], ни того понтифика, какого хотел[1398]; далее, даже ценой доли в добыче ты не мог найти ни скупщика, ни поручителя, кроме своих же головорезов, ни, наконец, человека, готового подать голос за твою проскрипцию, если не считать воров и убийц.
(XIX, 49) И вот, когда ты, гордый и всесильный, носился по форуму, как всенародно известная распутница, твои пресловутые дружки, прикрывавшиеся и сильные одной твоей дружбой и понадеявшиеся на народ, терпели полное поражение, так что теряли голоса даже твоей Палатинской трибы[1399]. Те из них, которые являлись в суд, — независимо от того, были ли они обвинителями или же обвиняемыми, — подвергались осуждению, хотя ты и выступал в их защиту. Наконец, даже небезызвестный выскочка Лигур, твои продажный приспешник и помощник[1400], который был обойден в завещании своего брата Марка Папирия и получил отказ в суде[1401], сказал, что хочет возбудить преследование за его смерть. Секста Проперция он привлек к суду, но обвинять его он, будучи соучастником в злоупотреблении властью и в преступлении, совершенном другим человеком, не решился, боясь наказания за злостное обвинение[1402]. (50) Вот о каком законе я говорю; он кажется предложенным как будто по правилам, но всякий, кто хотя бы прикоснулся к нему (пальцем ли, словом ли, в связи с грабежом ли или с голосованием[1403]), куда бы ни обратился, отступал отвергнутый и разбитый.
А если эта проскрипция составлена в таких выражениях, что она сама себя отменяет? Ведь она гласит: «Так как Марк Туллий внес в книги подложное постановление сената, …»[1404]. Итак, если он внес в книги подложное постановление сената, то рогация действительна; если не вносил, то нет. Не кажется ли тебе, что сенат признал достаточно ясно, что я не только не подменял решения сословия сенаторов, но даже был, с основания Рима, единственным человеком, строжайше повиновавшимся сенату? Вот сколькими способами я доказываю, что этот твой закон, как ты называешь его, законом не является! Далее, если даже ты по нескольким вопросам провел решение при единственном метателе жребия[1405], то неужели же ты все-таки думаешь, что того, чего в большинстве своих законов не добился Марк Друс, этот неподкупный муж, имея советчиками Марка Скавра и Луция Красса[1406], можешь добиться ты, человек, способный на всяческие злодеяния и гнусности, имея сторонниками Децимов и Клодиев? (51) Насчет меня ты провел решение, чтобы мне не предоставляли крова, а не решение, чтобы я уехал; ведь даже ты не мог сказать, что мне нельзя было находиться в Риме. (XX) В самом деле, что мог бы ты сказать? Что я осужден? Ни в коем случае. Что я изгнан? Каким же образом? Но не было написано даже, чтобы я удалился; говорилось о каре, которой подлежал тот, кто бы меня принял; этой карой все пренебрегли; об изгнании не говорилось нигде. Но пусть даже и говорилось. А надзор за общественными работами?[1407] А написание твоего имени?[1408] Не кажется ли тебе все это равносильным грабежу моего имущества? Не говорю уже о том, что, по Лициниеву закону, ты не мог забрать это заведывание[1409] себе. Как? А то, что ты сейчас защищаешь перед понтификами, — консекрация моего дома[1410], сооружение памятника в моем владении, дедикация статуи — все, совершенное тобой на основании одной жалкой рогации, так же ли нераздельно все это, как то, что ты провел насчет меня, назвав меня по имени? (52) Так же нераздельно, клянусь Геркулесом, как те постановления, которые ты же провел в одном законе, — чтобы царь Кипра, чьи предки всегда были союзниками и друзьями нашего народа, вместе со всем своим имуществом был передан глашатаю для продажи с аукциона, и чтобы в Византий были возвращены изгнанники. «На одного и того человека, — говорит Клодий, — я возложил два поручения». Что же? Если бы он поручил одному и тому же человеку потребовать в Азии кистофоры, затем поехать в Испанию — с тем, чтобы ему после отъезда из Рима можно было добиваться консульства и чтобы он, будучи избран, получил провинцию Сирию[1411], то разве это было бы одним и тем же делом, потому что ты упомянул здесь одного и того же человека? (53) Но если бы об этом спросили тогда римский народ, если бы ты не совершил всего этого с помощью рабов и разбойников, то разве не могло случиться, чтобы народ одобрил меры, касавшиеся кипрского царя, и не одобрил мер, касавшихся византийских изгнанников? Каково, скажи на милость, иное значение, иной смысл Цецилиева и Дидиева закона, как не стремление избавить народ, при наличии многих объединенных вопросов, от необходимости принять то, чего он не одобряет, или же отвергнуть то, что он одобряет?
Далее, если ты провел что-либо насильственным путем, неужели это все-таки можно считать законом? Другими словами, может ли казаться совершенным законно что-либо, совершенное, несомненно, насильственным путем? Если именно в то время, когда ты предлагал закон, — уже после того, как ты захватил Рим, — никого не побили камнями и не было рукопашной схватки, то следует ли из этого, что ты мог достигнуть памятного нам потрясения и гибели государства, не прибегнув к ужасающему насилию? (XXI, 54) Когда ты открыто вербовал на Аврелиевом трибунале[1412], не говорю уже — свободных людей, нет, рабов, созванных тобой со всех улиц, ты тогда, видимо, не готовился к насильственным действиям! Когда ты, эдиктами своими, приказывал запирать лавки, ты не к насильственным действиям призывал неискушенную толпу, а честных людей — к умеренности и благоразумию! Когда ты доставлял оружие в храм Кастора, ты намеревался только воспрепятствовать каким бы то ни было насильственным действиям! А когда ты сломал и разобрал ступени храма Кастора, то ты, конечно, именно для того, чтобы тебе позволили проявить свою умеренность, отогнал преступников, не дав им подняться на подножие храма и войти в него! Когда ты велел явиться тем людям, которые на собрании честных мужей высказались за мое восстановление в правах, и разогнал их сторонников кулаками, оружием и камнями, вот тогда ты на деле доказал, что совсем не одобряешь насильственных действий! (55) Эти безрассудные насильственные действия обезумевшего народного трибуна было, пожалуй, легко пресечь и сломить либо доблестью честных мужей, либо их численным превосходством. Но когда Габинию отдавали Сирию, а Македонию — Писону, причем им обоим предоставляли неограниченный империй и огромную сумму денег именно за то, чтобы они тебе все позволяли, тебе помогали, для тебя подготовляли отряды, войска, своих испытанных центурионов, деньги, шайки рабов, тебя поддерживали на своих преступных народных сходках, над авторитетом сената издевались, римским всадникам угрожали смертью и проскрипцией[1413], меня запугивали, предрекали мне резню и схватку, при посредстве своих друзей наводили страх перед проскрипцией на мой дом, полный честных мужей, лишали меня окружения честных мужей, оставляли меня без защиты сената, препятствовали виднейшему сословию; уже не говорю — за меня сражаться, но даже плакать и умолять, надев траур[1414], то неужели и тогда все это не было насилием?
(XXII, 56) Почему же я удалился, вернее, откуда возникла эта боязнь? О себе говорить не стану. Допустим, я боязлив от природы. А столько тысяч храбрейших мужей? А наши римские всадники? А сенат? Наконец, все честные люди? Если насильственных действий не было, то почему предпочли они сопровождать меня с плачем, а не удержали своими упреками или не покинули в гневе? Или я боялся, что если со мной поступят по обычаю и порядку, установленному предками, то я, находясь в Риме, не смогу защитить себя об обвинения? (57) Чего мне следовало страшиться? Суда ли, если бы мне назначили срок явки, или же — без суда — привилегии? Суда? В столь позорном деле я, очевидно, оказался бы неспособен изложить в своей речи его суть, даже если бы оно не было известно. Неужто я не мог бы доказать правоту своего дела, которая настолько ясна, что оно само оправдало не только себя, но и меня в мое отсутствие? Неужели сенат, все сословия, все те люди, которые слетелись из всей Италии, чтобы возвратить меня из изгнания, были бы в моем присутствии менее деятельны и не стремились бы меня удержать и сохранить, причем дело мое, как уже говорит и сам братоубийца, было таково, что меня, к его огорчению, все ждали и призывали занять мое прежнее высокое положение? (58) Или же, раз суд не был для меня опасен, я испугался привилегии, то есть думал, что никто не совершит интерцессии, если на меня в моем присутствии будет наложена пеня?[1415] Но разве у меня было так мало друзей, а в государстве не было должностных лиц? Как? Если бы трибы были созваны, неужели они одобрили бы проскрипцию, имевшую в виду, не скажу — даже меня, человека с такими заслугами в деле их спасения, но вообще любого гражданина? А если бы я был в Риме, то разве своры матерых заговорщиков, твои пропащие и нищие солдаты и новый отряд, собранный преступнейшими консулами, пощадили бы меня? Ведь я, отступив перед их жестокостью и преступностью, не смог, даже отсутствуя, скорбью своей насытить их ненависть. (XXIII, 59) В самом деле, чем оскорбила вас моя несчастная жена, которую вы измучили, ограбили, истерзали всяческими жестокостями?[1416] А моя дочь, чей постоянный плач и скорбный траур были приятны вам, но привлекали к себе внимание и взоры всех других людей? А мой маленький сын, которого в мое отсутствие все видели плачущим и удрученным? Что сделал он такого, что вы столько раз хотели убить его из-за угла? А чем оскорбил вас мой брат? Когда он возвратился из провинции[1417] вскоре после моего отъезда, чувствуя, что ему не стоит жить, если я не буду восстановлен в правах, когда его горе и непередаваемая скорбь вызывали всеобщее сожаление, — сколько раз ускользал он от вашего меча и из ваших рук![1418] (60) Но к чему распространяюсь я о жестокости, проявленной вами по отношению ко мне и моим родным, когда вы, упиваясь ненавистью, пошли непримиримой и беззаконной войной на стены и на кровли, на колонны и на дверные косяки моего дома? Ведь я не думаю, чтобы ты, с расчетливой алчностью сожрав после моего отъезда достояние всех богачей, доходы со всех провинции, имущество тетрархов[1419] и царей, был охвачен жаждой захватить мое серебро и утварь. Не думаю, чтобы этот кампанский консул с коллегой-плясуном[1420] — после того как одному из них ты отдал на разграбление всю Ахайю, Фессалию, Беотию, Грецию, Македонию и все варварские страны, а также имущество римских граждан, а другому — Сирию, Вавилонию, Персию, честнейшие и миролюбивейшие народы — могли польститься на пороги, колонны и дверные створы моего дома. (61) Ведь хорошо известные нам отряды и шайки Катилины не рассчитывали утолить свой голод щебнем и черепицей с кровель моего дома; но подобно тому, как мы обычно разрушаем города врагов и даже не всех врагов, а лишь таких, на которых мы пошли с грозной и истребительной войной, движимые не расчетами на добычу, а ненавистью, так как нам всегда кажется, что война до некоторой степени распространяется даже на кров и жилища тех людей, против которых, ввиду их жестокости, мы тоже пылали гневом… [Лакуна.]
(XXIV, 62) Закона насчет меня издано не было; в суд я вызван не был; я уехал, не получив вызова; даже по твоему признанию я был полноправным гражданином, когда мой дом на Палатине и усадьба в Тускульской области передавались — дом одному, а усадьба другому консулу (так их называли); на глазах у римского народа мраморные колонны от моих строений перетаскивали к теще консула, а во владение консула-соседа переносили не только обстановку и украшения усадьбы, но даже деревья, в то время как усадьбу разрушали до основания не из жадности к поживе (в самом деле, велика ли там была пожива?), а из ненависти и жестокости[1421]. Дом на Палатине горел не вследствие несчастного случая, а от явного поджога. Консулы пировали и принимали поздравления от заговорщиков, причем один из консулов говорил, что был усладой Катилины, другой — что он родственник Цетега[1422]. (63) От этих насильственных действий, понтифики, от этого злодеяния, от этого бешенства я телом своим заслонил всех честных людей и принял на себя весь натиск раздоров, всю долго накоплявшуюся силу негодяев, которая, укоренившись вместе с затаенной и молчаливой ненавистью, уже вырывалась наружу при столь наглых главарях; в меня одного попали факелы консулов, брошенные рукой трибуна, в мое тело вонзились все преступные копья заговора, которые я некогда притупил. Но если бы я и захотел вооруженной силой сразиться против силы, как это находили нужным многие храбрейшие мужи, то я бы либо победил, — что сопровождалось бы большим истреблением негодяев, которые все же были гражданами, — либо (и это было самым желательным для них) пал вместе с государством, после гибели всех честных людей. (64) Но я уже видел перед собой свое быстрое и чрезвычайно почетное возвращение в случае, если сенат и римский народ будут живы, и понимал, что на более долгий срок не возможно такое положение, при котором мне нельзя было бы находиться в том государстве, которое я спас. Но если бы мне это и не удалось, то неужели я бы поколебался — в то время как прославленные мужи из числа наших граждан, как я слышал и читал, бросались, желая спасти войско, в самую гущу врагов, на верную смерть — сделать все ради спасения государства, и притом находясь в лучшем положении, чем были Деции?[1423] Ведь они даже не могли слышать, как их прославляли, а я мог бы даже видеть воочию свою славу. (XXV) Поэтому бешенство твое, Клодий, пошло на убыль, нападки твои были тщетны; ведь на то, чтобы довести меня до моего тяжелого положения, были затрачены все силы всех злодеев. Несправедливость была так велика и потрясения так сильны, что не оставляли места для новой жестокости.
(65) Ближайшим соратником моим был Катон. Что тебе было делать? Положение не допускало, чтобы тот, кто был связан со мной дружбой, разделил со мной также и несправедливость, постигшую меня. Что ты мог сделать? Выпроводить его для сбора денег на Кипре?[1424] Пожива пропадает, но найдется другая. Лишь бы удалить его отсюда! Так ненавистного Марка Катона, словно в виде милости, высылают на Кипр. Изгоняют двоих, которых бесчестные люди не могли видеть, — одного, оказав ему позорнейший почет, другого, ввергнув его в почетнейшее несчастье. (66) А дабы вы знали, что Клодий всегда был врагом не людям, а доблестям, я скажу, что он, изгнав меня, удалив Катона, обратился именно против того человека, по чьему совету и с чьей помощью он, как говорил, и сделал все то, что совершил, и делал все то, что совершал: он понимал, что Гней Помпей, который, как он видел, по всеобщему признанию главенствовал среди граждан, в дальнейшем не станет потворствовать его бешенству. Клодий, вырвав хитростью из-под охраны Помпея его пленного врага[1425], сына одного царя, приятеля своего, оскорбив храбрейшего мужа этим беззаконием, надеялся сразиться с ним при помощи тех же войск, против которых я отказался биться, так как это представляло опасность для честных людей; вначале Клодий рассчитывал на помощь консулов; впоследствии Габиний расторг этот союз, но Писон все-таки остался верен ему. (67) Вы видели, какие побоища он устроил тогда, какие избиения камнями, скольких людей он запугал, как легко было ему — хотя наиболее стойкие люди из числа его сторонников тогда уже покинули его — мечом и беспрерывными кознями лишить Гнея Помпея возможности бывать на форуме и в Курии и принудить его оставаться дома. На основании этого можете судить, как велика была та сила, когда она возникла и была собрана, коль скоро она внушила ужас Гнею Помпею, уже рассеянная и уничтоженная.
(XXVI, 68) Поняв это, Луций Котта, дальновиднейший муж и лучший друг государству, мне и правде, в январские календы внес предложение[1426]; он не счел нужным вносить закон о моем возвращении из изгнания. Он сказал, что я проявил заботу о государстве, отступил перед бурей, вам и другим гражданам оказался лучшим другом, чем себе и своим родным, что я был изгнан насильственно, оружием, беспримерным самовластьем[1427], после вербовки людей, произведенной в расчете на резню; что о лишении меня гражданских прав никакого предложения нельзя было внести, что ни одной записи, составленной согласно закону, не было, поэтому ничто не может иметь силы; что все было совершено вопреки законам и обычаю предков, опрометчиво, беспорядочно, насильственно и безумно и что, будь это законом, ни консулам нельзя было бы докладывать сенату, ни ему самому — вносить предложение[1428]; но так как ныне происходит и то, и другое, то не надо принимать постановления о том, чтобы обо мне был проведен закон, дабы то, что законом не являлось, не было признано таковым. Более справедливого, более строгого, более честного, более полезного для государства предложения быть не могло. Ведь тем, что злодеяние и безумие Клодия были заклеймены, подобное бедствие для государства предотвращалось и на будущее время. (69) Да и Гней Помпей, который внес насчет меня весьма лестное предложение, и вы, понтифики, защитившие меня своим мнением и авторитетом, не могли не понять, что это отнюдь не закон, а скорее пламя, вспыхнувшее в связи с событиями, преступный интердикт[1429], голос безумия.
Однако вы приняли меры, чтобы я никогда не мог вызвать против себя недовольство в народе, если я, как может показаться, буду восстановлен в правах без его решения. Из тех же соображений сенат согласился с храбрейшим мужем Марком Бибулом, предложившим вам принять постановление насчет моего дома, не потому, чтобы сомневался в том, что все совершенное Клодием противоречит законам, требованиям религии, праву, но для того, чтобы при таком множестве бесчестных людей не появился когда-либо человек, который мог бы сказать, что на мои строения в какой-то степени распространяется религиозный запрет. Ведь сенат, сколько бы раз он ни принимал решение насчет меня, всякий раз признавал, что тот закон не действителен, так как записью Клодия запрещалось вносить какое бы то ни было предложение. (70) И та достойная пара, Писон и Габиний, это поняла; самый полный состав сената изо дня в день требовал от них доклада обо мне, эти люди, столь строго соблюдавшие законы и судебные постановления, говорили, что самое дело они вполне одобряют, но закон Клодия им препятствует. Это была правда; ибо они действительно наталкивались на препятствие — в виде того закона, который тот же Клодий провел насчет Македонии и Сирии[1430]. (XXVII) Этого закона ты, Публий Лентул, ни как частное лицо, ни как консул, никогда не признавал; ибо ты, уже как избранный консул, не раз вносил обо мне предложение на основании доклада народных трибунов; начиная с январских календ и вплоть до того времени, пока мое дело не было закончено, ты докладывал обо мне, ты объявил закон и внес его. Будь закон Клодия действителен, тебе нельзя было бы совершить ничего подобного. Мало того, твой коллега Квинт Метелл, прославленный муж, хотя и был братом Публия Клодия, не признал законом того, что признали таковым совсем посторонние Клодию люди, Писон и Габиний; он вместе с тобой докладывал обо мне сенату. (71) Ну, а как же эти люди, побоявшиеся законов Клодия, соблюдали другие законы? По крайней мере, сенат, чье суждение о правомерности законов наиболее веское, сколько раз его ни запрашивали насчет меня, всякий раз признавал, что этот закон не действителен. Это же самое ты, Лентул, предусмотрел в том законе, который ты провел насчет меня. Ведь в нем не было предложено разрешить мне вернуться в Рим, а было предложено вернуться; ибо ты хотел не внести предложение о дозволении уже дозволенного, но предоставить мне такое положение в государстве, чтобы было ясно, что я приглашен по воле римского народа, а не восстановлен в гражданских правах.
(72) И такого человека, как я, ты, чудовище и губитель, даже осмелился назвать изгнанником[1431], ты, запятнавший себя такими тяжкими преступлениями и гнусностями, что всякое место, где ты только появлялся, становилось местом изгнания? И в самом деле, кто такой изгнанник? Название это само по себе означает несчастье, но не позор. Когда же оно позорно? В действительности тогда, когда это кара за преступление, а по общему мнению, также и в том случае, когда это кара, связанная с осуждением[1432]. Так разве я — собственным ли проступком или по решению суда — заслужил это имя? Проступком? Сказать это теперь не смеешь ни ты, которого твои сподвижники называют «удачливым Катилиной», ни кто бы то ни было из тех, кто говаривал это ранее. Теперь ни один человек, как бы неопытен он ни был, не назовет моих действий во время моего консульства преступлением, да и нет никого, кто был бы отечеству столь враждебен, чтобы не признать, что оно спасено моими решениями. (XXVIII, 73) И в самом деле, есть ли на земле какой-либо общественный совет, большой ли или малый, который бы не вынес о моих действиях решения, самого желательного и самого лестного для меня? Наиболее высокий совет — как для римского народа, так и для всех народов, племен и царей — это сенат; он и постановил, чтобы все те, кто хочет блага государства, прибыли защищать одного меня, и указал, что государство не осталось бы невредимым, если бы меня не было, что оно вообще не будет существовать, если я не возвращусь из изгнания. (74) Следующее сословие после сенаторского — всадническое; все общества откупщиков приняли о моем консульстве и моих действиях самые почетные и самые лестные для меня постановления. Писцы, занимающиеся под нашим началом составлением отчетов и записей по делам государства, хотели, чтобы их суждение и мнение об услугах, оказанных мной государству, не оставалось неизвестным. В этом городе нет ни одной коллегии, ни сельских жителей, ни жителей холмов[1433] (ведь наши предки повелели, чтобы у городского плебса были свои небольшие собрания и как бы советы), которые бы не приняли самых почетных решений не только о моем возвращении, но и о моих заслугах. (75) В самом деле, к чему мне упоминать о тех внушенных богами и бессмертных постановлениях муниципиев, колоний и всей Италии, по которым я, как мне кажется, словно по ступеням, взошел на небо, не говорю уже — возвратился в отечество? А каков был тот день[1434], когда ты, Публий Лентул, предлагал закон насчет меня, а римский народ сам увидел и понял, как он велик и как велико его достоинство? Ведь все знают, что никогда, ни при каких комициях Марсово поле не радовало глаза такой многолюдностью, такой блистательностью присутствующих, разных людей, людей всех возрастов и сословий. Умалчиваю о единомыслии и о единодушном мнении всех городских общин, народов, провинций, царей, наконец, всего мира насчет моих заслуг перед всеми людьми. Каковы были мой приезд и мое вступление в Рим?[1435] Как меня приняло отечество? Так ли, как оно должно было принять возвращенные ему и восстановленные свет и благополучие, или же как жестокого тиранна? Ведь вы, приспешники Катилины, не раз называли меня этим именем. (76) Поэтому один тот день, когда римский народ почтил меня, явившись ликующими толпами и проводив от городских ворот до Капитолия, а оттуда до моего дома, был для меня столь приятен, что мне, пожалуй, не только не надо было бороться против твоего преступного насилия, но даже надо было стремиться испытать его. Таким образом, мое несчастье (если его надо так называть) искоренило этот род клеветы, чтобы никто уже не осмелился порицать мое консульство, одобренное столь многими, столь высокими, столь лестными суждениями, свидетельствами и официальными решениями. (XXIX) И если ты своей хулой не только ничуть не позоришь меня, но даже прославляешь мои заслуги, то можно ли увидеть или вообразить себе более безумное существо, чем ты? Ведь ты, хуля меня одновременно за два разных поступка, тем самым признаешь, что отечество было спасено мною дважды: один раз, когда я совершил то, что, по всеобщему утверждению, следовало бы, если это возможно, объявить бессмертным деянием, а ты счел нужным покарать; вторично, когда ожесточенное нападение на всех честных людей, совершенное тобой и, кроме тебя, многими другими, я принял на себя, чтобы мне не пришлось, взявшись за оружие, подвергать опасности то государство, которое я спас безоружный.
(77) Теперь допустим, что не за преступление понес я кару, но был осужден по суду. За что? Кто привлекал меня когда-либо к суду на основании того или иного закона? Кто требовал меня в суд? Кто мне назначал день явки? Так может ли нести наказание, установленное для осужденного, человек, который осужден не был? Разрешено ли это трибуну или народу? Впрочем, когда же проявил ты себя сторонником народа, кроме того случая, когда ты совершил жертвоприношение за народ?[1436] Но предки оставили нам закон, гласящий, что римский гражданин может утратить право распоряжаться самим собой и свои гражданские права только при условии своего собственного согласия, что ты мог понять на своем личном примере: хотя при твоей адопции ничего не было совершено законно, тебя, я уверен, все же спросили, согласен ли ты на то, чтобы Публий Фонтей имел по отношению к тебе право жизни и смерти, как по отношению к сыну? Поэтому я и спрашиваю: если бы ты дал отрицательный ответ или промолчал, а тридцать курий все же приняли такое постановление, имело ли бы оно силу? Разумеется, нет. Почему же? Потому, что предки наши, которые держали сторону народа не притворно и не ложно, а искренне и мудро, составили законы так, что ни один гражданин не может утратить свободы против своей воли. (78) Более того, по их повелению, даже если децемвиры[1437] вынесут несправедливый приговор по делу о свободе, то и в этом случае уже решенное дело может (и это установлено только для дел такого рода) пересматриваться, сколько бы раз осужденный этого ни пожелал. Что же касается гражданских прав, то никто никогда не должен их терять без своего согласия, несмотря ни на какое повеление народа. (XXX) Римские граждане, выезжавшие в латинские колонии, могли становиться латинянами только в том случае, если давали на это согласие и вносили свои имена в списки; осужденные за уголовные преступления лишались прав нашего гражданства только после того, как их принимали в число граждан того места, куда они прибывали с целью «перемены местожительства», то есть переселения. Но поступать так их заставляли не лишением гражданских прав, а запретом предоставлять им кров, воду и огонь. (79) Римский народ по предложению диктатора Луция Суллы[1438], внесенному им в центуриатские комиции, отнял у муниципиев гражданские права, отнял у них и землю; решение о земле было утверждено, так как на то была власть народа; лишение гражданских прав не осталось в силе даже в течение того времени, пока оставалось в силе оружие Суллы. У жителей Волатерры, хотя они тогда даже не сложили еще оружия, Луций Сулла, победитель, восстановив государственную власть, не смог отнять гражданских прав при посредстве центуриатских комиций, и поныне жители Волатерры, не говорю уже — как граждане, но как честнейшие граждане, вместе с нами пользуются этими гражданскими правами. А мог ли Публий Клодий, ниспровергнув государственную власть, лишить гражданских прав консуляра, созвав собрание, наняв шайки не только неимущих людей, но даже и рабов, во главе с Фидулием, который утверждает, что его самого в тот день в Риме не было? (80) А если его не было в Риме, то как велика твоя наглость! Ведь ты вырезал [на меди] его имя! Насколько безвыходно было твое положение, когда, даже солгав, ты не мог представить лучшего поручителя! Но если он подал свой голос первым, что ему было легко сделать, так как он за неимением крова переночевал на форуме, то почему ему было не поклясться, что он был в Гадах, раз ты доказал, что ты был в Интерамне?[1439] Итак, ты, сторонник народа, думаешь, что наши гражданские права и свобода должны быть ограждены законом, гласящим, что в случае, если на вопрос народного трибуна: «Повелеваете ли вы, приказываете ли вы, …» сотня Фидулия скажет, что она повелевает и приказывает, каждый из нас может утратить свои гражданские права? Если это так, то предки наши не были сторонниками народа; ведь они свято установили такие законы о гражданских правах и свободе, которые не могут быть поколеблены ни силой обстоятельств, ни полномочиями должностных лиц, ни уже принятым судебным решением, ни, наконец, властью всего римского народа, которая в остальных делах — всего выше. (81) А ты, похититель гражданских прав, провел закон насчет уголовных преступлений[1440] в угоду какому-то Менулле из Анагнии[1441], который в благодарность за этот закон воздвиг тебе статую в моих владениях, чтобы само это место, ввиду твоего столь великого преступления, опровергло законность и надпись на статуе. Это обстоятельство причинило виднейшим членам анагнийского муниципия гораздо большее огорчение, чем то, какое им причинили преступления, совершенные в Анагнии этим гладиатором.
(XXXI, 82) Далее, даже если о лишении меня прав и никогда не было написано в самой твоей рогации, за которую Фидулий, по его словам, не голосовал (а ведь ты, желая возвеличить свои деяния во время своего блистательного трибуната, ссылаешься на великие достоинства такого человека и за него, как своего поручителя, держишься крепко), итак, если ты не вносил насчет меня предложения о том, чтобы я не только не был в числе граждан, но и лишился того положения, какое я занял на основании почетных должностей, предоставленных мне римским народом, то как же ты все-таки решаешься оскорблять своими речами того, кого, после неслыханного преступления прежних консулов, как видишь, почтили своими решениями сенат, римский народ, вся Италия? Того, о ком даже в его отсутствие ты, на основании своего собственного закона, не мог утверждать, что он не сенатор? И в самом деле, где провел ты закон о запрещении предоставлять мне воду и огонь? Те предложения, какие Гай Гракх провел о Публии Попилии, а Сатурнин — о Метелле[1442], эти величайшие мятежники внесли о честнейших гражданах не в той форме, чтобы предоставлять воду и огонь «оказалось запрещенным» (так это не могло быть проведено), но чтобы «было запрещено». Где сделал ты оговорку о том, чтобы цензор не вносил меня в список сенаторов в подобающем мне месте списка? Обо всех, даже об осужденных людях, подвергнутых такому интердикту, это записано в законах. (83) Спроси же об этом у Клодия, составителя твоих законов; вели ему явиться; он, конечно, прячется, но если ты прикажешь его разыскать, его найдут у твоей сестры, притаившимся, с опущенной головой. Но если никто, будучи в здравом уме, никогда не называл изгнанником твоего отца[1443], клянусь богом верности, выдающегося и непохожего на вас гражданина, который, после того как народный трибун совершил промульгацию о нем, отказался явиться в суд ввиду несправедливостей, царивших в памятные нам времена Цинны, и был лишен империя; если законная кара не навлекла на него позора, так как постигла его во времена произвола, то могла ли кара, установленная для осужденного, быть применена ко мне, кому никогда не был назначен срок явки в суд, кто и не был обвинен и никогда не был привлечен к суду народным трибуном, тем более такая кара, которая не указана даже в самой рогации? (XXXII, 84) Обрати при этом внимание на разницу между величайшей несправедливостью, постигшей твоего отца, и моей судьбой и моим положением. Имя твоего отца, честнейшего гражданина, сына прославленного мужа (будь твой отец жив, ты, ввиду его строгости, конечно, не был бы жив), цензор Луций Филипп[1444], его племянник, пропустил, оглашая список сенаторов; ибо он не мог объяснить, почему не должно оставаться в силе то, что было решено при том государственном строе, при котором он в те самые времена захотел быть цензором. Что касается меня, то цензорий[1445] Луций Котта, принеся клятву, сказал в сенате, что если бы он был цензором в мое отсутствие, то назвал бы меня в числе сенаторов в мою очередь.
(85) Кто назначил судью на мое место?[1446] Кто из моих друзей составил завещание в мое отсутствие, не уделив мне того же, что уделил бы мне, будь я в Риме?[1447] Кто, уже не говорю — из числа граждан, но даже из числа союзников поколебался принять меня вопреки твоему закону и мне помочь? Наконец, весь сенат задолго до внесения закона обо мне постановил выразить благодарность тем городским общинам, которые приняли Марка Туллия, — и только? Да нет же, — гражданина с величайшими заслугами перед государством[1448]. И один ты, злонамеренный гражданин, утверждаешь, что, будучи восстановлен в правах, не является гражданином тот, кого и во время его изгнания весь сенат всегда считал, не говорю уже — гражданином, нет, даже выдающимся гражданином!
(86) Правда, нам скажут, что по свидетельству летописей римского народа и памятников древности знаменитый Кесон Квинкций[1449], Марк Фурий Камилл[1450] и Гай Сервилий Агала[1451], несмотря на свои величайшие заслуги перед государством, все же испытали на себе силу гнева народа, возбужденного против них; однако, после того как они, осужденные центуриатскими комициями, удалились в изгнание, тот же народ, смилостивившись, снова восстановил их в их прежнем высоком положении. Но если — даже несмотря на то, что они были осуждены, — их несчастья не только не уменьшили славы их знаменитого имени, но принесли ему почет (ибо, хотя и больше хочется завершить свой жизненный путь, не изведав скорби и несправедливости, все же сожаление сограждан об отсутствии человека больше способствует его бессмертной славе, чем жизнь, прошедшая без какого-либо унижения), то неужели мне, уехавшему без какого бы то ни было приговора народа и восстановленному в правах на основании почетнейших решений всех граждан, эти несчастья принесут хулу и обвинения? (87) Храбрым гражданином и стойким сторонником честнейших людей всегда был Публий Попилий; но из всей его жизни ничто так не прославило его, как постигшее его несчастье. И в самом деле, кто теперь помнил бы о его больших заслугах перед государством, если бы он не был изгнан бесчестными людьми и возвращен при посредстве честных? Квинт Метелл был прославленным императором[1452], выдающимся цензором, человеком, преисполненным достоинства в течение всей своей жизни; все же заслуги этого мужа увековечило его несчастье.
(XXXIII) Если им, изгнанным несправедливо, но все-таки на основании законов, и возвращенным, после того как были убиты их недруги, по предложению трибунов, — не по решению сената, не центуриатскими комициями[1453], не на основании постановлений Италии, не по требованию граждан — несправедливость недругов не принесла позора, то неужели ты думаешь, что твое злодеяние должно принести позор мне? Ведь я уехал незапятнанным, отсутствовал вместе с государством и вернулся с величайшим достоинством, еще при тебе и в то время, когда один твой брат, консул, способствовал моему возвращению, а другой брат, претор, согласился на него. (88) И если бы римский народ, разгневавшись или возненавидев меня, удалил меня из среды граждан, а потом сам же, вспомнив о моих заслугах перед государством, одумался и заклеймил допущенные им безрассудство и несправедливость, восстановив меня в правах, то даже и тогда никто, конечно, не был бы столь безумен, чтобы подумать, что такое суждение народа должно было меня не возвеличить, а обесчестить. А уж теперь, так как ни один человек не привлекал меня к суду народа, так как я и не мог быть осужден, не будучи предварительно обвинен; наконец, так как я даже не был изгнан при таких обстоятельствах, что не мог бы одержать верх, если бы стал бороться; напротив, так как римский народ меня всегда защищал, возвеличивал и отличал, то на основании чего кто-либо может поставить себя выше меня именно в глазах народа?
(89) Или ты думаешь, что римский народ составляют те люди, которых нанимают за плату, толкают на насильственные действия против должностных лиц, подстрекают к тому, чтобы они осаждали сенат, изо дня в день стремились к резне, к поджогам, к грабежам? Этот народ ты мог собрать, только заперев лавки; этому народу ты дал вожаков в лице Лентидиев, Лоллиев, Плагулеев, Сергиев[1454]. Ну и достойный образ римского народа, которого должны страшиться цари, чужеземные народы, далекие племена, — этот сброд, сборище рабов, наймитов, преступников, нищих! (90) Истинную красоту, подлинный облик римского народа ты видел на поле[1455] тогда, когда даже у тебя была возможность произнести речь вопреки суждению и стремлению сената и всей Италии. Вот этот народ и есть властитель над царями, повелитель всех племен; ты, злодей, видел его в тот прекрасный день, когда все первые граждане, все люди всех сословий и возрастов были уверены, что они, подавая голос, решают вопрос не о благополучии одного гражданина, а о гражданских правах вообще; наконец, когда люди пришли на поле, заперев уже не лавки, а муниципии. (XXXIV, 91) При таком народе я — если бы тогда в государстве были подлинные консулы или даже если бы консулов совсем не было — без всякого труда дал бы отпор твоему безудержному бешенству и нечестивой преступности. Но я не хотел защищать дело государства от насильственных действий вооруженных людей, не располагая поддержкой должностных лиц государства, и не потому, чтобы я не одобрял насильственных действий, совершенных частным лицом Публием Сципионом[1456], храбрейшим мужем, против Тиберия Гракха; ведь консул Публий Муций, который сам, как считалось, показал себя человеком в государственных делах нерешительным, не только тут же защитил, но и превознес в многочисленных постановлениях сената поступок Сципиона; мне же предстояло с оружием в руках биться, если бы ты пал, с консулами или, если бы ты остался в живых, и с тобой и с ними. (92) В те времена было и многое другое, чего следовало бояться. Государство, клянусь богом верности, попало бы в руки рабов: до такой степени нечестивцами руководила ненависть к честным людям, овладевшая их преступными умами со времен прежнего заговора. Но ведь ты запрещаешь мне даже похвалиться; по твоим словам, то, что я обычно говорю о себе, нестерпимо, и ты как человек остроумный даже заявляешь тонко и изящно, что я склонен называть себя Юпитером, а Минерву — своей сестрой. Я не столь дерзок, чтобы называть себя Юпитером, и не столь необразован, чтобы считать Минерву сестрой Юпитера. Но я, по крайней мере, выбрал в сестры деву, а ты не потерпел, чтобы твоя собственная сестра осталась девой. Но смотри, как бы у тебя самого не вошло в привычку называть себя Юпитером, потому что ты по праву можешь звать одну и ту же женщину и сестрой и женой[1457]. (XXXV, 93) А так как ты упрекаешь меня в том, что я склонен сверх меры прославлять себя, то кто, скажи, когда-либо слышал от меня речи о себе самом, кроме случаев, когда я был вынужден о себе говорить и когда это было необходимо? Если я, когда мне бросают обвинения в хищениях, в подкупах, в разврате, имею обыкновение отвечать, что благодаря моим решениям и трудам, ценой угрожавших мне опасностей отечество было спасено, то это означает, что я не столько хвалюсь своими действиями, сколько отвергаю брошенные мне обвинения. Но если до нынешнего тяжелейшего для государства времени меня никогда не упрекали ни в чем, кроме жестокости, проявленной мной только один раз и именно тогда, когда я избавил отчизну от гибели, то подобало ли мне совсем не отвечать на эту хулу или же отвечать униженно? (94) Я действительно всегда думал, что для самого государства важно, чтобы я речами своими напоминал о величии и славе того прекрасного поступка, который я с одобрения сената и с согласия всех честных людей совершил для спасения отечества, тем более, что в нашем государстве мне одному было дозволено клятвенно заявить в присутствии римского народа, что город этот и государство это остались невредимыми ценой моих усилий[1458]. Голоса, осуждавшие меня за жестокость, уже умолкли, так как все относятся ко мне не как к жестокому тиранну, а как к самому нежному отцу, желанному, обретенному вновь, призванному стараниями всех граждан. (95) Возникло другое обвинение: мне ставят в вину мой отъезд. На это обвинение я не могу отвечать, не превознося самого себя. В самом деле, понтифики, что должен я говорить? Что я бежал, сознавая за собой какой-то проступок? Но то, что мне ставили в вину, проступком не было; нет, это было со дня появления людей на земле прекраснейшим деянием. Что я испугался суда народа? Но никакой суд мне не угрожал, а если бы он и состоялся, то я, выйдя из него, прославился бы вдвое больше Что у меня не было защиты в лице честных людей? Это ложь. Что я испугался смерти? Подлая клевета. (XXXVI, 96) Следует сказать то, чего я не сказал бы, если бы меня к этому не вынуждали (ведь я никогда не говорил о себе ничего, чтобы стяжать славу, а говорил лишь ради того, чтобы отвести обвинение); итак, я говорю и говорю во всеуслышание: когда под предводительством народного трибуна, с согласия консулов, — в то время как сенат был подавлен, римские всадники запуганы, а граждане были в смятении и тревоге — все негодяи и заговорщики в своем раздражении нападали не столько на меня, сколько в моем лице на всех честных людей, я понял, что в случае моей победы от государства сохранятся ничтожные остатки, а в случае моего поражения не останется ничего. Решив это, я оплакал разлуку с несчастной женой, одиночество горячо любимых детей, несчастье преданнейшего и наилучшего брата, находившегося в отсутствии, неожиданное разорение благоденствующей семьи. Но жизнь своих сограждан я поставил выше всего и предпочел, чтобы государство пошло на уступки и согласилось на отъезд одного человека, а не пало вместе со всеми гражданами. Я надеялся, что я, поверженный, смогу подняться, если храбрые мужи будут живы; так это и произошло; но в случае своей гибели вместе с честными людьми я не видел никакой возможности для возрождения государства.
(97) Я испытал глубочайшую и сильнейшую скорбь, понтифики! Не отрицаю этого и не приписываю себе той мудрости, которой требовали от меня некоторые люди, говорившие, что я сломлен духом и убит. Но разве, когда меня отрывали от всего мне столь дорогого, — о чем я не говорю именно потому, что даже теперь не могу вспомнить об этом без слез, — разве я мог отрицать, что я человек, и отказаться от естественных чувств, свойственных всем? В таком случае я действительно сказал бы, что поступок мой никакой хвалы не заслуживает и что никакой услуги государству я не оказал, если ради него покинул то, без чего мог спокойно обойтись, если закаленность духа, которая подобна закаленности тела, не чувствующего, когда его жгут, считаю доблестью, а не оцепенением[1459]. (XXXVII, 98) Испытать столь сильные душевные страдания и, когда город еще держится, одному претерпеть то, что случается с побежденными после падения города, и видеть, как тебя вырывают из объятий твоих близких, как разрушают твой кров, как расхищают твое имущество; наконец, ради отечества потерять самое отечество, лишиться величайших милостей римского народа, быть низвергнутым после того, как занимал самое высокое положение, видеть, как недруги в претекстах требуют возмещения им издержек на похороны[1460], хотя смерть еще не оплакана; испытать все это ради спасения граждан, со скорбью присутствуя при этом и не будучи столь благоразумным, как те, кого ничто не трогает, а любя своих родных и самого себя, как этого требуют свойственные всем человеческие чувства, — вот наивысшая и внушенная богами заслуга. Кто ради государства равнодушно покидает то, чего никогда не считал ни дорогим, ни приятным, тот не проявляет особенной преданности делу государства; но тому, кто ради государства оставляет все, от чего отрывается с величайшей скорбью, вот тому отчизна действительно дорога — он ставит ее благо превыше любви к своим близким. (99) Поэтому пусть лопнет от злобы эта фурия, эта язва, она услышит от меня то, на что сама меня вызвала: дважды спас я государство; я — консул, носящий тогу, — победил вооруженных людей; я — честный человек — отступил перед вооруженными консулами. От того и от другого я во всех отношениях выиграл: от первого — так как увидел, что по решению сената и сам сенат, и все честные люди надели траур во имя моего спасения; от второго — так как сенат, римский народ и все люди, частным образом и официально, признали, что государство не может быть невредимо, если я не буду возвращен из изгнания.
(100) Но это возвращение мое, понтифики, зависит от вашего решения; ибо если вы водворите меня в моем доме, — а вы во всем моем деле всегда старались сделать это, прилагая все свои усилия, давая мне советы, вынося авторитетные постановления, — я буду считать и чувствовать себя вполне восстановленным в правах; но если мой дом не только не возвращен мне, но даже служит моему недругу напоминанием о моей скорби, о его преступлении, о всеобщем несчастье, то кто сочтет это возвращением, а не вечной карой? Мой дом находится на виду почти у всего города, понтифики! Если в нем остается этот — не памятник доблести, а гробница ее, на которой вырезано имя моего недруга, то мне лучше переселиться куда-нибудь в другое место, чем жить в этом городе, где я буду видеть трофеи[1461], воздвигнутые в знак победы надо мной и государством. (XXXVIII, 101) Могу ли я обладать настолько черствым сердцем и быть настолько лишенным чувства стыда, чтобы в том городе, спасителем которого сенат, с всеобщего согласия, меня столько раз признавал, смотреть на свой дом, снесенный не личным моим недругом, а всеобщим врагом[1462], и на здание, им же выстроенное и стоящее на виду у всех граждан, дабы честные люди никогда не могли перестать плакать? Дом Спурия Мелия, добивавшегося царской власти[1463], был сравнен с землей, а так как римский народ признал, что Мелий это заслужил по всей справедливости, то законность этой кары была подтверждена самим названием «Эквимелий»; дом Спурия Кассия был снесен по такой же причине, а на его месте был построен храм Земли[1464]. На лугах Вакка стоял дом Марка Вакка[1465]; он был забран в казну и снесен, чтобы злодеяние Вакка было заклеймено памятью об этом и самим названием места. Отразив на подступах к Капитолию натиск галлов, Марк Манлий не удовольствовался славой своей заслуги[1466]; было признано, что он добивается царской власти, — и вот вы видите на месте его дома две рощи. Так неужели же ту жестокую кару, какой наши предки признали возможным подвергать преступных и нечестивых граждан, испытаю и претерплю я, чтобы наши потомки сочли меня не усмирителем злодейского заговора, а его зачинщиком и вожаком? (102) Но можно ли терпеть, понтифики, чтобы достоинство римского народа было запятнано таким позорным непостоянством, что при здравствующем сенате, при вашем руководстве делами государства дом Марка Туллия Цицерона будет соединен с домом Марка Фульвия Флакка[1467] в память о каре, назначенной государством? Марк Флакк за то, что он вместе с Гаем Гракхом действовал во вред государству, был убит на основании постановления сената[1468]; дом его был взят в казну и снесен; немного позже на этом месте Квинт Катул построил портик за счет добычи, захваченной им у кимвров. Но когда он, эта фурия, этот факел для поджога отечества, пользуясь как вожаками Писоном и Габинием, захватил Рим, когда он его удерживал, то он в одно и то же время разрушил памятник умершего прославленного мужа и соединил мой дом с домом Флакка с тем, чтобы, унизив сенат, подвергнуть человека, которого отцы-сенаторы признали стражем отечества, такой же каре, какой сенат подверг разрушителя государственного строя.
(XXXIX, 103) И вы потерпите, чтобы на Палатине, то есть в красивейшем месте Рима, стоял этот портик, этот памятник бешенства трибуна, злодеяния консулов, жестокости заговорщиков, несчастья государства, моей скорби, памятник, воздвигнутый перед всеми народами на вечные времена? При той преданности государству, какую вы питаете и всегда питали, вы готовы разрушить этот портик, не говорю уже — своим голосованием, но если понадобится, даже своими руками. Разве только кто-нибудь из вас страшится благоговейной дедикации, совершенной этим непорочнейшим жрецом.
(104) О, событие, над которым эти развратные люди не перестают издеваться и о котором люди строгих взглядов не могут и слышать, не испытывая сильнейшей скорби! Так это Публий Клодий, святотатец, проникший в дом верховного понтифика, внес святость в мой дом? Так это его вы, верховные жрецы при совершении священнодействий и обрядов, считаете поборником и блюстителем государственной религии? О, бессмертные боги! — я хочу, чтобы вы слышали меня, — Публий Клодий печется о ваших священнодействиях, страшится изъявления вашей воли, думает, что все дела человеческие держатся на благоговении перед вами? Да разве он не насмехается над авторитетом всех этих вот выдающихся мужей, присутствующих здесь? Да разве он, понтифики, не злоупотребляет вашим достоинством? Да может ли с его уст слететь или сойти слово благочестия? Ведь этими же устами ты кощунственно и гнусно оскорбил нашу религию, когда обвинял сенат в том, что он слишком строго охраняет обряды. (XL, 105) Взгляните же на этого богобоязненного человека, понтифики, если вы находите нужным, — а это долг хороших понтификов, — напомните ему, что в религии существует мера, что слишком усердствовать в благочестии не следует. Какая необходимость была у тебя, исступленный человек, присутствовать при жертвоприношении, происходившем в чужом доме, словно ты какая-то суеверная старуха? Неужто ты настолько потерял разум, что, по-твоему, богов нельзя было умилостивить иным способом, кроме твоего участия даже в обрядах, совершаемых женщинами? Слыхал ли ты, чтобы кто-либо из твоих предков, которые и обряды, совершавшиеся частными лицами, почитали и стояли во главе жреческих коллегий, присутствовал во время жертвоприношения Доброй богине? Ни один из них, даже тот, кто ослеп[1469]. Из этого следует, что люди о многом в жизни судят неверно: тот, кто ни разу не посмотрел с умыслом ни на что запретное, утратил зрение, а этот человек, осквернивший священнодействие не только взглядом, но также и блудом, кощунством и развратом, наказан не слепотой, а ослеплением ума. Неужели этот человек, столь непорочный поручитель, столь религиозный, столь безупречный, столь благочестивый, не тронет вас, понтифики, если скажет, что он своими руками снес дом честнейшего гражданина и этими же руками совершил его консекрацию?
(106) Какова же была твоя консекрация? «Я внес предложение, — говорит Клодий, — чтобы мне ее разрешили». Как же это? Ты не оговорил, чтобы в случае, если та или иная рогация была незаконна, она не считалась внесенной?[1470] Следовательно, вы признаете законным, чтобы дом, алтари, очаги, боги-пенаты любого из вас были отданы на произвол трибуна? Чтобы дом того человека, на которого возбужденной толпой совершено нападение и которому нанесен сокрушительный удар, не только подвергся разрушению (что свойственно временному помрачению ума, подобному внезапной буре), но и впредь находился под вечным религиозным запретом? (XLI, 107) Я лично, понтифики, усвоил себе следующее: при установлении религиозных запретов главное — это истолковать волю бессмертных богов; благоговейное отношение к богам выражается не в чем ином, как только в честных помыслах о воле и намерениях богов, когда человек убежден, что их нельзя просить ни о чем беззаконном и бесчестном. Тогда, когда все было в руках у этого вот губителя, ему не удавалось найти никого, кому он мог бы присудить, передать, подарить мой дом. Хотя он и сам горел желанием захватить этот участок, забрать себе дом и по одной этой причине захотел посредством своей губительной рогации — какой честный муж! — стать хозяином моего добра, он все же, как неистов он ни был, не осмелился вступить во владение моим домом, который он страстно хотел получить. А неужели вы думаете, что бессмертные боги захотели вселиться в дом того человека, чьи труды и мудрость сохранили для них самих их храмы, когда этот дом был разрушен и разорен нечестивым разбоем преступника? (108) Если не говорить о запятнанной и обагрившей себя кровью шайке Публия Клодия, то во всем нашем народе нет ни одного гражданина, который бы прикоснулся хотя бы к единой вещи из моего имущества, который бы по мере своих сил не защищал меня во время этой бури. Но люди, запятнавшие себя даже прикосновением к добыче, соучастием, покупкой, не смогли избежать кары по суду как по частным, так и по уголовным делам. Итак, из всего этого имущества, ни к одной вещи из которого никто не прикоснулся без того, чтобы его на основании всеобщего приговора не признали преступнейшим человеком, бессмертные боги пожелали иметь мой дом? Эта твоя прекрасная Свобода изгнала богов-пенатов и моих домашних ларов[1471], чтобы водвориться самой, словно на захваченном участке? (109) Есть ли что-нибудь более святое, более огражденное всяческими религиозными запретами, чем дом любого гражданина? Здесь находятся алтари, очаги, боги-пенаты, здесь совершаются религиозные обряды, священнодействия, моления; убежище это настолько свято для всех, что вырвать из него кого-либо запрещено божественным законом. (XLII) Тем более вам следует отвернуться и не слушать этого бешеного человека, который то, что, по воле наших предков, должно быть для нас неприкосновенным и священным, вопреки религиозным запретам не только поколебал, но даже, прикрываясь именем самой религии, ниспроверг.
(110) Но кто такая эта богиня? Уж, конечно, ей надо быть «Доброй», коль скоро дедикацию совершил ты. «Это, — говорит Клодий, — Свобода». Так ты водворил в моем доме ту, кого ты изгнал из всего Рима? Когда ты отказал в свободе коллегам своим, облеченным высшей властью; когда в храм Кастора ни для кого доступа не было[1472]; когда этого вот прославленного мужа весьма знатного происхождения, удостоенного народом высших почестей, понтифика и консуляра, человека исключительной доброты и воздержности[1473] (слов не нахожу, чтобы выразить, как меня удивляет то, что ты смеешь на него глядеть), ты перед лицом римского народа приказал своим слугам топтать ногами; когда ты меня, хотя я не был осужден, изгнал, предложив привилегии в духе тираннов; когда ты держал самого выдающегося в мире мужа взаперти в его доме[1474]; когда ты занимал форум вооруженными отрядами пропащих людей, — то неужели ты изображение Свободы старался водворить в том доме, который сам был уликой твоего жестокого господства и прискорбного порабощения римского народа? (111) И разве Свобода должна была изгнать из его дома именно того человека, без которого все государство оказалось бы во власти рабов?
(XLIII) Но где же была найдена эта самая твоя Свобода? Я точно разузнал. В Танагре[1475], говорят, была распутница. Мраморную статую ее поставили на ее могиле, невдалеке от Танагры. Один знатный человек, не чужой нашему благочестивому жрецу Свободы[1476], вывез эту статую для придания блеска своему эдилитету. Ведь он думал превзойти всех своих предшественников блеском, с каким выполнял свои обязанности; поэтому он вполне по-хозяйски, во славу римского народа, перевез к себе в дом из всей Греции и со всех островов все статуи, картины, все украшения, какие только оставались в храмах и общественных местах. (112) После того как он понял, что может, уклонившись от эдилитета[1477], быть провозглашен претором при помощи консула Луция Писона, если только у него будет соперник по соисканию с именем, начинающимся на ту же букву[1478], он разместил украшения своего эдилитета в двух местах: часть в сундуках, часть в своих садах. Изображение, снятое с могилы распутницы, он отдал Публию Клодию, так как оно было скорее изображением их свободы, а не свободы всех граждан. Посмеет ли кто-нибудь оскорбить эту богиню — изображение распутницы, украшение могилы, унесенное вором, установленное святотатцем? И это она выгонит меня из моего дома? Эта победительница, уничтожившая гражданские права, будет украшена доспехами[1479], совлеченными с государства? Это она будет находиться на памятнике, поставленном, чтобы быть доказательством унижения сената, увековечивающим позор?
(113) О, Квинт Катул! — к отцу ли воззвать мне сначала или же к сыну? Ведь более свежа и более тесно связана с моими деяниями память о сыне — неужели ты так сильно ошибся, думая, что я во время своей государственной деятельности буду получать наивысшие и с каждым днем все бо́льшие награды? По твоим словам, божественный закон не допускал, чтобы среди наших граждан двое консулов сразу были недругами государству[1480]. Но нашлись такие, которые были готовы выдать сенат неиствовавшему народному трибуну связанным, своими эдиктами и властью запретить отцам-сенаторам просить за меня и умолять народ, такие, на глазах у которых мой дом разрушали и расхищали, наконец, такие, которые приказывали переносить в свои дома обгоревшие остатки моего имущества. (114) Обращаюсь теперь к отцу. Ты, Квинт Катул, захотел, чтобы дом Марка Фульвия (хотя Фульвий и был тестем твоего брата) стал памятником, воздвигнутым за счет твоей добычи с тем, чтобы всякое напоминание о человеке, принявшем решения, пагубные для государства, бесследно исчезло с глаз людей и было предано забвению. Но если бы кто-нибудь во время постройки этого портика сказал тебе, что настанет время, когда народный трибун, пренебрегший решением сената и суждением всех честных людей, разрушит и снесет сооруженный тобой памятник не только на глазах у консулов, но даже при их пособничестве и присоединит его к дому гражданина[1481], в бытность свою консулом защитившего государство на основании решения сената, то разве ты не ответил бы, что это возможно только после полного уничтожения государства?
(XLIV, 115) Но обратите внимание на нестерпимую дерзость Публия Клодия, сочетающуюся с беспримерной и безудержной жадностью. Да разве он когда-либо думал о памятниках или вообще о какой-либо святыне? Просторно и великолепно жить захотел он и соединить два больших и широко известных дома. В то же мгновение, когда мой отъезд отнял у него повод для резни, он настоятельно потребовал от Квинта Сея, чтобы тот продал ему свой дом. Когда Сей стал отказываться, Клодий сначала грозил, что загородит ему свет постройкой. Постум заявил, что, пока он жив, дом этот принадлежать Клодию никогда не будет. Догадливый юноша понял из этих слов, что́ ему надо делать: он вполне открыто устранил Постума посредством яда; одолев соперников на торгах, он заплатил за дом почти в полтора раза больше, чем он был оценен. (116) К чему же клонится моя речь? Мой дом почти весь свободен от запрета: к портику Катула была присоединена едва ли десятая часть моих строений, потому что там находились галерея[1482] и памятник, а после уничтожения свободы стояла эта самая Свобода из Танагры. Клодия охватило желание иметь на Палатине с великолепным открывающимся видом мощеный портик с комнатами, длиной в триста футов, обширнейший перистиль[1483] и прочее в этом роде, чтобы с легкостью превзойти всех просторностью и внушительностью своего дома. Но Клодий, человек совестливый, в одно и то же время и покупая и продавая мои дом[1484], среди царившего тогда густого мрака все же не осмелился совершить эту покупку от своего имени. Он выставил небезызвестного Скатона, человека неимущего, — наверное, от большой доблести, — чтобы тот, у которого на его родине, в марсийской области, не было крова, где бы он мог спрятаться от дождя, говорил, что купил самый известный на Палатине дом. Нижнюю часть здания Клодий отвел не для своего рода — Фонтеева, а для рода Клодиева, от которого он отказался; но из многих Клодиев ни один не дал своего имени, за исключением нескольких пропащих людей, либо нищих, либо преступников. (XLV) И вы, понтифики, одобрите эти столь сильные, столь разнообразные, во всех отношениях столь необычные вожделения, бесстыдство, дерзость, жадность?
(117) «Понтифик, — говорит Клодий, — при этом присутствовал». И не стыдно тебе, когда дело рассматривается перед понтификами, говорить, что присутствовал понтифик, а не коллегия понтификов, тем более что ты как народный трибун мог либо потребовать их присутствия, либо даже принудить их к этому? Пусть так, коллегии ты к этому не привлекал. А из коллегии — кто все-таки присутствовал? Тебе, правда, был нужен какой-то авторитет, а он присущ всем этим лицам; но возраст и почетная должность все же придают больше достоинства; тебе были нужны также познания; правда, ими обладают все они, но старость, во всяком случае, делает людей более опытными. (118) Кто же присутствовал? «Брат моей жены»[1485], — говорит он. Если мы ищем авторитета, то брат его жены по возрасту своему авторитета еще не приобрел, но даже и тот авторитет, которым мог обладать этот юнец, надо оценить еще ниже ввиду такого тесного родства. А если нужны были познания, то кто же мог быть неопытнее человека, только недавно вступившего в коллегию? К тому же он был крайне обязан тебе ввиду твоей недавней услуги; ведь он видел, что ты его, брата жены, предпочел своему родному брату[1486]; впрочем, в этом случае ты принял меры, чтобы твой брат не мог тебя обвинить. Итак, все это ты называешь дедикацией, хотя ты и не мог привлечь для участия в этом ни коллегии понтификов, ни какого-либо одного понтифика, отмеченного почестями, оказанными ему римским народом, ни, наконец, хотя бы какого-нибудь сведущего юноши, несмотря на то, что у тебя были в коллегии очень близкие люди? И вот присутствовал — если только он действительно присутствовал — тот, кого ты принудил, сестра попросила, мать заставила. (119) Подумайте же, понтифики, какое решение вам следует вынести при рассмотрении моего дела, касающегося, однако, имущества всех граждан: признаете ли вы, что чей бы то ни было дом может быть подвергнут консекрации одним только словом понтифика, если тот будет держаться за дверной косяк и что-то произнесет, или же подобная дедикация и неприкосновенность храмов и святилищ установлены нашими предками для почитания бессмертных богов без какого-либо ущерба для граждан? Нашелся народный трибун, который опираясь на силы консулов, с неистовым натиском ринулся на гражданина, которого после нанесенного ему удара подняло своими руками само государство.
(XLVI, 120) А если кто-нибудь, подобный Клодию (теперь ведь не будет недостатка в людях, которые захотят ему подражать), применив насилие, нападет на какого-нибудь человека, но не такого, как я, а на человека, перед которым государство не в таком большом долгу, и совершит дедикацию его дома при посредстве понтифика, то разве вы подтвердите своим решением, что это должно иметь силу? Вы говорите: «Где же он найдет такого понтифика?» Как? Разве понтифик не может быть в то же самое время и народным трибуном? Марк Друс[1487], прославленный муж, народный трибун, был понтификом. Так вот, если бы он, держась за дверной косяк дома, принадлежавшего его недругу Квинту Цепиону, произнес несколько слов, то разве дом Цепиона был бы подвергнут дедикации? (121) Я ничего не говорю о понтификальном праве, о словах самой дедикации, об обрядах и священнодействиях; не скрываю своей неосведомленности в том, что скрывал бы, даже если бы знал, дабы не показаться другим людям докучливым, а вам — излишне любопытным. Впрочем, из вашего учения становится известным многое, что часто доходит даже до наших ушей. Мне кажется, я слыхал, что при дедикации храма надо держаться за его дверной косяк; ибо косяк находится там, где вход в храм и где дверные створы. Что касается галереи, то за ее косяк при дедикации никто не держался никогда, а изображение и алтарь, если ты и совершил дедикацию их, можно сдвинуть с их места, не нарушая религиозного запрета. Но тебе теперь нельзя будет это говорить, так как ты сказал, что понтифик держался за дверной косяк.
(XLVII, 122) Впрочем, к чему я рассуждаю, вопреки своему намерению, о дедикации, о вашем праве и обрядах? Даже если бы я сказал, что все было совершено с произнесением установленных слов, по старинным и завещанным нам правилам, я все-таки стал бы защищаться на основании законов государства. Если после отъезда того гражданина, который один усилиями своими, по неоднократному признанию сената и всех честных людей, сохранил граждан невредимыми, ты, властвуя над государством, угнетаемым омерзительнейшим разбоем, вместе с двумя преступнейшими консулами, при посредстве какого-то понтифика совершил дедикацию дома человека, не согласившегося на то, чтобы спасенное им отечество из-за него же погибло, то думаешь ли ты, что государство, воспрянув, может примириться с этим? (123) Стоит вам открыть путь для этого религиозного запрета, понтифики, и у вас вскоре не окажется возможности спасать достояние всех людей. Или, если понтифик возьмется рукой за дверной косяк и выражения, придуманные для почитания бессмертных богов, обратит на погибель гражданам, то священное слово «религия» будет при беззаконии иметь силу? А если народный трибун, произнеся не менее древние и одинаково торжественные слова, подвергнет чье-либо имущество консекрации, то это слово иметь силы не будет? Однако на памяти наших отцов Гай Атиний, поставив на ростры треножник с углями и призвав флейтиста, подверг консекрации[1488] имущество Квинта Метелла[1489], который, будучи цензором, исключил его из сената. Метелл этот был твоим дедом, Квинт Метелл, и твоим, Публий Сервилий, и твоим прадедом, Публий Сципион! Что за этим последовало? Разве этот безумный поступок народного трибуна, внушенный ему несколькими примерами из древнейших времен, повредил Квинту Метеллу, выдающемуся и прославленному мужу? Конечно, нет. (124) Мы видели, что народный трибун так же поступил и по отношению к цензору Гнею Лентулу[1490]. Но разве он наложил какой-либо религиозный запрет на имущество Лентула? Но к чему я упоминаю о других? Ты сам, повторяю, ты сам, с накрытой головой, созвав народную сходку, поставив треножник с углями, подверг консекрации имущество друга своего Габиния, которому ты отдал все сирийские, аравийские и персидские царства[1491]. А если это тогда не имело никакого значения, то что можно было решить насчет моего имущества? Но если это осталось в силе, то почему этот мот, вместе с тобою упившийся кровью государства, все же возвел до небес свою усадьбу в Тускульской области на последние крохи эрария, а мне нельзя было даже и взглянуть на развалины своего дома, которым мог бы уподобиться весь Рим, если бы я допустил это?
(XLVIII, 125) Но о Габинии я не стану говорить. А не по твоему ли примеру Луций Нинний[1492], храбрейший и честнейший муж, совершил консекрацию твоего имущества? Но если ты заявляешь, что она не имеет силы, так как касается тебя, то ты, очевидно, во время своего прославленного трибуната установил такое правосудие, что, когда оно обращается против тебя самого, ты можешь против него возражать, а других людей разорять. Если же твоя консекрация законна, то что же из твоего имущества не принадлежит богам? Или же консекрация не имеет законной силы, а дедикация влечет за собой религиозный запрет? Что же означали бы тогда привлечение флейтиста, треножник с углями, молитвы, произнесение древних формул? Значит, ты хотел солгать, обмануть, злоупотребить волеизъявлением бессмертных богов, чтобы внушить людям страх? Если это имеет силу, — Габиния я оставляю в стороне — то твой дом и все твое остальное имущество обречены Церере[1493]. Но если это было с твоей стороны игрой, то ты величайший нечестивец; ведь ты осквернил все религиозные запреты либо ложью, либо развратом. (126) «Теперь я признаю, — говорит Клодий, — что в случае с Габинием я поступил нечестиво». Ты видишь, что та кара, которую ты установил для другого, обратилась против тебя самого. Но, воплощение всех злодеяний и гнусностей, уж не думаешь ли ты, что по отношению ко мне не имеет силы то, что ты признаешь по отношению к Габинию, чье бесстыдство с самого детства, разврат в юные годы, позор и нищету на протяжении остальной жизни, разбой во времена консульства мы видели, Габинию, которого даже это несчастье не могло постигнуть незаслуженно, или то, что ты совершил при свидетеле в лице одного юноши, ты считаешь более тяжким проступком, чем то, что ты совершил при свидетелях в лице всей народной сходки?
(XLIX, 127) «Велика священная сила дедикации», — говорит Клодий. Не кажется ли вам, что говорит сам Нума Помпилий?[1494] Вдумайтесь в его слова, понтифики, и вы, фламины, а ты, царь[1495], поучись у своего сородича. Хотя он и покинул твой род, поучись все-таки закону всех религий у человека, преданного правилам религии. Как? Разве при дедикации не спрашивают и о том, кто ее совершает, над чем и как? Или же ты это так запутываешь и извращаешь, чтобы всякий, кто бы ни захотел, мог совершить дедикацию всего, чего захочет и как захочет? Кем был ты, совершавший дедикацию? По какому праву ты совершил ее? На основании какого закона? Какого примера? Какой властью? При каких обстоятельствах римский народ поручил тебе руководство этим делом? Ведь я знаю, что существует древний, проведенный трибуном закон, запрещающий консекрацию дома, земли, алтаря без постановления плебса. И знаменитый Квинт Папирий[1496], предложивший этот закон, тогда не предчувствовал и не подозревал опасности, что будет совершаться консекрация жилищ и владений граждан, не осужденных по суду. Ибо это было противозаконным деянием и этого никто никогда не делал до того времени, да у Квинта Папирия и не было оснований для такого запрещения, которое могло бы не столько отпугнуть, сколько навести на такую мысль. (128) Коль скоро совершалась консекрация зданий — не жилищ частных лиц, а таких, которые назывались посвященными; коль скоро совершалась консекрация земель — не так, как моих имений (кому вздумается), а так, как император совершал консекрацию земель, захваченных у врагов[1497]; коль скоро воздвигались алтари, дабы они придавали святость тому самому месту, где была совершена консекрация, то Папирий и запретил делать это, если только плебс не вынесет такого постановления. Если это, по твоему толкованию, было написано о моих домах и землях, то я не отвергаю такой консекрации, но спрашиваю, какой закон был издан насчет того, чтобы ты совершил консекрацию моего дома, при каких обстоятельствах тебе была дана эта власть, по какому праву ты это сделал. И я рассуждаю теперь не о религии, а об имуществе, принадлежащем всем нам, и не о понтификальном, а о публичном праве. (L) Папириев закон запрещает консекрацию дома без соответствующего постановления плебса. Вполне допускаю, что это касается наших домов, а не общественных храмов. Покажи мне в самом твоем законе хотя бы одно слово, касающееся консекрации, если только это закон, а не голос твоей преступности и жестокости. (129) Но если бы тогда, при крушении государственного корабля, ты имел возможность все обдумать, если бы при пожаре, охватившем государство, твой писец не заключал письменных соглашений с византийскими изгнанниками и с посланцами Брогитара[1498], а с полным вниманием составлял для тебя эти, правда, не постановления, а чудовищную бессмыслицу, то ты добился бы всего — если не на деле, то хотя бы использовав формулы, установленные законом. Но в одно и то же время давали поручительства за денежные суммы, заключали договоры о провинциях[1499], продавали титулы царей, по всему городу расписывали всех рабов по кварталам, заключали мир с недругами, писали необычные приказы для молодежи[1500], приготовляли яд для несчастного Квинта Сея, составляли план убийства Гнея Помпея, защитника и охранителя нашей державы — с тем, чтобы сенат не имел никакого значения, чтобы всегда горевали честные люди, чтобы государство, захваченное вследствие предательства консулов, было во власти трибуна. Не удивительно, что при стольких и столь важных событиях многое ускользнуло от внимания твоего писца и твоего собственного, тем более что вы обезумели и были ослеплены.
(130) Но посмотрите, какое важное значение имеет в подобных делах этот Папириев закон: не то, какое ему придаешь ты, — полное преступления и безумия. Цензор Квинт Марций велел изваять статую Согласия и установил ее в общественном месте. Когда цензор Гай Кассий[1501] перенес эту статую в Курию, он запросил вашу коллегию, находит ли она препятствия к тому, чтобы он совершил дедикацию этой статуи и курии богине Согласия. (LI) Сравните, прошу вас, понтифики, друг с другом этих людей, и обстоятельства, и самые дела: то был необычайно воздержный и полный достоинства цензор, это — народный трибун исключительно преступный и дерзкий; то было время спокойное, когда народ был свободен, а сенат управлял государством; в твое время свобода римского народа подавлена, авторитет сената уничтожен; (131) сами действия Гая Кассия были преисполнены справедливости, мудрости, достоинства: ведь цензор, в чьей власти было, по воле наших предков, судить о достоинстве сенаторов (как раз это ты и упразднил[1502]), хотел совершить дедикацию находившейся в курии статуи Согласия и самой курии этому божеству — прекрасное желание, достойное всяческих похвал; ибо это, по его мнению, должно было побуждать к тому, чтобы предложения вносились без стремления к разногласиям, раз он подчинил священной власти Согласия самое место и храм для совещаний по делам государства. А ты, властвуя над порабощенными гражданами оружием, страхом, эдиктами, привилегиями, с помощью толп негодяев, находившихся здесь, величайшими угрозами со стороны войска, которого здесь не было, союзом и преступным договором с консулами, воздвиг статую Свободы скорее, чтобы потешить свое бесстыдство, чем чтобы показаться богобоязненным человеком. Кассий поместил в курии статую Согласия, дедикацию которой можно было совершить без ущерба для кого бы то ни было; ты же на крови, вернее, чуть ли не на костях гражданина с огромными заслугами перед государством поместил изображение не всеобщей свободы, а своеволия. (132) При этом Кассий все же доложил коллегии об этом деле, а кому докладывал ты? Если бы ты все это обдумал, если бы тебе предстояло совершить какой-либо искупительный или ввести какой-либо новый обряд в связи с почитанием ваших родовых богов, то ты, в силу древнего обычая, все-таки обратился бы к понтифику. Когда ты, так сказать, нечестиво и неслыханным путем основывал новое святилище в пользующемся наибольшей известностью месте Рима, то не следовало ли тебе обратиться к жрецам, уполномоченным государством? А если ты не находил нужным привлекать коллегию понтификов, неужели ни один из них, по своему возрасту, достоинству и авторитету, не заслуживал, чтобы ты посоветовался с ним насчет дедикации? Нет, ты не пренебрег их достоинством, ты просто испугался его. (LII) Разве ты осмелился бы спросить Публия Сервилия или Марка Лукулла[1503] — на основании их авторитетного решения я, в бытность свою консулом, вырвал государство из ваших рук и спас его от ваших факелов, — в каких именно выражениях и по какому обряду (я говорю сначала об этом) ты мог бы подвергнуть консекрации дом гражданина и при этом дом того гражданина, который спас наш город и державу, что засвидетельствовали первоприсутствующий в сенате[1504], затем все сословия, потом вся Италия, а впоследствии и все народы? (133) Что мог бы ты сказать, ужасная и губительная язва государства? «Будь здесь, Лукулл, будь здесь, Сервилий, чтобы подсказывать мне и держаться за дверной косяк, пока я буду совершать дедикацию дома Цицерона!» Хотя ты и отличаешься исключительной наглостью и бесстыдством, тебе все же пришлось бы опустить глаза, тебе изменили бы выражение лица и голос, если бы эти мужи, ввиду своего достоинства являющиеся представителями римского народа и поддерживающие авторитет его державы, прогнали тебя словами, исполненными строгости, и сказали, что божественный закон не велит им участвовать в твоем безумии и ликовать при отцеубийстве отчизны. (134) Понимая это, ты тогда и обратился к своему родственнику — не потому, что он был тобой выбран, а потому, что от него отвернулись все прочие. И все-таки я уверен — если только он произошел от тех людей, которые, как гласит предание, научились религиозным обрядам у самого Геркулеса после завершения им его подвигов, — он не был, при бедствиях, постигших стойкого мужа, настолько жесток, чтобы своими руками насыпать могильный холм над головой[1505] живого и еще дышавшего человека. Он либо ничего не сказал и вообще ничего не сделал и понес кару за опрометчивость матери, будучи немым действующим лицом в этом преступлении, давшим только имя свое, либо, если он и сказал что-нибудь запинаясь и коснулся дрожащей рукой дверного косяка, то он, во всяком случае, ничего не совершил по обряду, ничего не совершил с благоговением, согласно обычаю и установленным правилам. Он видел, как его отчим, избранный консул Мурена, вместе с аллоброгами доставил мне, в мое консульство, улики, свидетельствовавшие об угрозе всеобщей гибели; он слыхал от Мурены, что тот был дважды спасен мной: один раз — от опасности, грозившей лично ему, в другой раз — вместе со всеми[1506]. (135) Кто мог бы подумать, что у этого нового понтифика, совершающего, впервые после своего вступления в число жрецов, этот религиозный обряд, не дрожал голос, не отнялся язык, не затекла рука, не ослабел ум, обессилевший от страха, тем более что из такой большой коллегии никого не было налицо — ни царя, ни фламина, ни понтифика, а его заставляли сделаться против его воли соучастником в чужом преступлении и он должен был нести тяжелейшую кару за своего нечестивого свойственника?
(LIII, 136) Но вернемся к публичному праву дедикации, которое понтифики всегда осуществляли в соответствии не только со своими обрядами, но также и с постановлениями народа; в ваших записях значится, что цензор Гай Кассий обращался к коллегии понтификов по поводу дедикации статуи Согласия, а верховный понтифик Марк Эмилий ответил от имени коллегии, что, по их мнению, если римский народ его лично на это не уполномочил, назвав его по имени, и если Гай Кассий не сделает этого по повелению народа, то дедикация статуи этой, по правилам, совершена быть не может. Далее, когда дева-весталка Лициния, происходившая из знатнейшего рода, поставленная во главе священнейшей жреческой коллегии, в консульство Тита Фламинина и Квинта Метелла, совершила под Скалой[1507] дедикацию алтаря, молельни и ложа[1508], то разве об этом не докладывал вашей коллегии, по решению сената, претор Секст Юлий? Тогда верховный понтифик Публий Сцевола ответил от имени коллегии: «То, дедикацию чего Лициния, дочь Гая, совершила в общественном месте, когда на это не было постановления народа, не священно». С какой строгостью и с каким вниманием сенат отнесся к этому делу, вы легко поймете из самого постановления сената. [Постановление сената.] (137) Не ясно ли вам, что городскому претору было дано поручение позаботиться о том, чтобы это место не считалось посвященным и чтобы надпись, если она была вырезана или сделана, была уничтожена? О, времена, о, нравы! Тогда понтифики воспрепятствовали цензору, благочестивейшему человеку, совершить дедикацию статуи Согласия в храме, освященном авспициями[1509], а впоследствии сенат, на основании суждения понтификов, признал должным удалить алтарь, уже подвергнутый консекрации в почитаемом месте, и не потерпел, чтобы после этой дедикации оставалось какое-либо напоминание в виде надписи. А ты, буря, разразившаяся над отечеством, смерч и гроза, нарушившие мир и спокойствие! — в ту пору, когда при крушении государственного корабля распространилась тьма, когда римский народ пошел ко дну, когда был повержен и разогнан сенат, когда ты разрушал одно и строил другое, когда ты, оскорбив все религиозные обряды, все осквернил, когда ты всем честным людям на го́ре поставил памятник разрушения государства на крови гражданина, спасшего Рим своими трудами и ценой опасностей, и вырезал надпись, уничтожив имя Квинта Катула, неужели ты все же надеялся, что государство станет терпеть все это дольше того срока, в течение которого оно, изгнанное вместе со мной, будет лишено пребывания в этих вот стенах?
(LIV, 138) Но если, понтифики, и дедикацию совершил не тот, кому это было дозволено, и не ту, какую надлежало совершить, то надо ли мне доказывать третье положение, которое я имел в виду, — что он совершил ее не на основании тех правил и не в тех выражениях, в каких этого требуют священнодействия? Я сказал вначале, что не буду говорить ни о вашей науке, ни о религиозных обрядах, ни о скрытом в тайне понтификальном праве. То, что я до сего времени говорил о праве дедикации, не извлечено мной из каких-либо тайных сочинений, но взято из известных всем правил, из того, что было всенародно совершено при посредстве должностных лиц и доложено коллегии [на основании постановления сената, на основании закона]. Но вот, что является вашим делом и подлежит уже вашему ведению: что следовало произнести, провозгласить, к чему прикоснуться, за что держаться? (139) Даже если бы было известно, что все было совершено в соответствии с учением Тиберия Корункания[1510], который, по преданию, был опытнейшим понтификом, даже если бы сам знаменитый Марк Гораций Пульвилл, который, когда многие люди, по злобе придумывая религиозные запреты[1511], препятствовали ему, оказался непоколебимым и со всей твердостью духа совершил дедикацию Капитолия, если бы даже он возглавил какую-либо дедикацию в этом роде, то священный обряд, совершенный на основе преступления, все-таки не имел бы силы. Так пусть же не имеет силы то, что, как говорят, совершил тайком, неуверенно и запинаясь, неопытный юноша, новичок в своем жречестве, подвигнутый на это просьбами сестры и угрозами матери, несведущий, против своей воли, без коллег, без книг, без руководителя, без лепщика[1512], — тем более, что и сам этот нечистый и нечестивый враг всех религиозных запретов, который, вопреки божественному закону, часто бывал среди мужчин женщиной и среди женщин мужчиной, провел все это дело настолько поспешно и беспорядочно, что ему не повиновались ни ум, ни голос, ни язык. (LV, 140) Вам было сообщено, понтифики, а впоследствии и распространилась молва о том, как он в искаженных выражениях, при зловещих знамениях[1513], неоднократно поправляясь, колеблясь, боясь, мешкая, провозгласил и совершил все не так, как написано в ваших наставлениях. Нисколько не удивительно, что при таком тяжком злодеянии и таком безумии не было места для дерзости, которая помогла бы ему подавить свой страх. И в самом деле, ни один морской разбойник никогда не был таким диким и свирепым, чтобы он, ограбив храмы, а затем, под влиянием сновидений или угрызений совести, воздвигнув алтарь на пустынном берегу, не ужаснулся, будучи вынужден умилостивить своими мольбами божество, оскорбленное его злодеянием. В каком же смятении ума был, по вашему мнению, этот разбойник, ограбивший все храмы, все дома и весь Рим, когда он, отвращая от себя последствия стольких злодеяний, нечестиво совершал консекрацию одного алтаря? (141) Хотя его неограниченная власть и вскружила ему голову, хотя дерзость его была невероятна, он все же никак не мог не ошибиться в своих действиях и не погрешить много раз, особенно при таком понтифике и наставнике, который был принужден обучать, прежде чем научился сам. Великой силой обладают как воля бессмертных богов, так и само государство. Бессмертные боги, видя, что охранитель и защитник их храмов преступнейшим образом изгнан, не хотели переселяться из своих храмов в его дом. Поэтому они тревожили душу этого безрассуднейшего человека заботами и страхами. Государство же, хотя и было изгнано вместе со мной, все-таки появлялось перед глазами своего разрушителя и уже тогда требовало своего и моего возвращения от него, охваченного пламенем необузданного бешенства. Следует ли удивляться тому, что он, обезумев в своем бешенстве, потеряв голову от своего злодеяния, не смог ни совершить установленные обряды, ни произнести хотя бы одно торжественное слово?
(LVI, 142) Коль скоро это так, понтифики, отвлекитесь теперь умом от этих подробных доказательств и обратитесь к государству в целом, которое вы ранее поддерживали вместе со многими храбрыми мужами. Неизменный авторитет всего сената, которым вы всегда превосходнейшим образом руководили при рассмотрении моего дела, великодушнейшее движение в Италии, стечение муниципиев, поле и единый голос всех центурий, старшинами и советчиками которых вы были, все общества откупщиков, все сословия, словом, все те, кто обладает достатком или на него надеется, доверяют и поручают все свои усилия и решения, клонящиеся в мою пользу, именно вам одним. (143) Наконец, сами бессмертные боги, оберегающие этот город и нашу державу, мне кажется, именно для того, чтобы для всех народов и наших потомков было очевидно, что я возвращен государству по воле богов, передали во власть и на рассмотрение своих жрецов, после моего радостного возвращения из изгнания, вопрос о возмещении мне моих убытков. Ведь в этом и состоит возвращение, понтифики, в этом и заключается восстановление в правах: в возврате дома, земельного участка, алтарей, очагов, богов-пенатов. Хотя Публий Клодий разорил своими преступнейшими руками их кров и обитель и, пользуясь консулами как вожаками (словно он завоевал Рим), признал нужным разрушить один этот дом, точно это был дом сильнейшего защитника Рима, все же эти боги-пенаты и мои домашние лары, при вашем посредстве, вернутся в мой дом вместе со мной.
(LVII, 144) И вот к тебе, Юпитер Капитолийский, которого римский народ за твои благодеяния назвал Всеблагим, а за силу — Величайшим, и к тебе, царица Юнона, и к тебе, Минерва, охранительница Рима, всегда помогавшая мне в моих замыслах и видевшая мои труды, обращаюсь я с мольбой и просьбой; и вас, которые настойчиво потребовали и вызвали меня из изгнания, вас, за чьи жилища я веду этот спор, — боги отцов, пенаты и домашние лары, защищающие этот город и государство, заклинаю я, вас, от чьих храмов и святилищ я отогнал губительное и преступное пламя; и тебя, матерь Веста, чьих непорочнейших жриц я защитил от преступного бешенства безумных людей и чьему вечному огню не дал ни погаснуть в крови граждан, ни смешаться с пожаром всего Рима: (145) в то время, едва не ставшее роковым для государства, я в защиту ваших обрядов и храмов подставил свою голову под удар неистовствующего меча преступнейших граждан и, когда, в случае моего сопротивления, всем честным людям грозила бы гибель, к вам я воззвал снова, вам поручил себя и своих родных и обрек себя и свои гражданские права в жертву с тем, чтобы, если я и в то самое время и ранее, будучи консулом, презрев все свои преимущества, выгоды и награды, направил все свои заботы, помыслы, бдение только на спасение сограждан, то мне, наконец, было дано порадоваться восстановлению государства; но — молил я — если мои решения отечеству пользы не принесли, то пусть я, оторванный от своих родных, терплю постоянную скорбь; и вот за то, что я обрек в жертву свои гражданские права, я призна́ю себя полностью оправданным и вознагражденным только тогда, когда буду возвращен в свой дом. (146) В настоящее время, понтифики, я лишен не только дома, о котором вы произвели расследование, но и всего Рима, в который я, как кажется, возвращен. Ведь самые многолюдные и самые величественные части города глядят на этот — не памятник, а рану отчизны. Так как вы видите, что я должен бежать этого зрелища и страшиться его больше, чем смерти, то, прошу вас, не допускайте, чтобы тот, с чьим возвращением государство, как вы признали, будет восстановлено, захотел лишиться, не говорю уже — внешних знаков своего достоинства, нет, даже самой возможности пребывать в городе своих отцов. (LVIII) Ни расхищение моего имущества, ни уничтожение моего крова, ни опустошение имений, ни добыча, беспощадно захваченная консулами из моего достояния, меня не волнует. Тленным и преходящим все это казалось мне всегда; это — дары не доблести и ума, а удачи и обстоятельств; я всегда не столько старался собирать их в изобилии, сколько разумно использовать их, а отсутствие их переносить терпеливо[1514]. (147) И в самом деле наше скромное достояние почти что удовлетворяет нашим потребностям[1515], а детям своим я оставлю достаточно богатое наследство в виде имени их отца и памяти обо мне[1516]. Но того дома, который был у меня отнят злодеянием, захвачен разбоем, вновь отстроен под предлогом религиозного обряда, еще более злодейского, чем само разрушение, я лишиться не могу без величайшего позора для государства, без бесчестия и скорби для себя самого. Итак, если вы полагаете, что мое возвращение из изгнания радостно и приятно бессмертным богам, сенату, римскому народу, всей Италии, провинциям, чужеземным народам, вам самим, которые всегда были первыми и главными сторонниками моего восстановления в правах, то прошу и заклинаю вас, понтифики, — коль скоро такова воля сената — меня, восстановленного в правах вашим авторитетом, преданностью, голосованием, водворите теперь своими руками в моем доме.
18. Речь в защиту Публия Сестия [В суде, 11 марта 56 г. до н. э.]
С событиями 58—57 гг. был связан процесс Публия Сестия, трибуна 57 г., способствовавшего возвращению Цицерона из изгнания. Сестий был при участии Публия Клодия в 56 г. привлечен к суду Гнеем Нерием по обвинению в домогательстве (de ambitu) и Публием Туллием Альбинованом — по обвинению в насильственных действиях (de vi). О первом обвинении сведений нет. Второе касалось организации отрядов гладиаторов для борьбы с политическими противниками. Дело Сестия слушалось 10—11 марта 56 г. в суде под председательством Марка Эмилия Скавра. Свидетелями обвинения были Луций Геллий Попликола и Публий Ватиний, народный трибун 59 г., цезарианец. Защищали Сестия Квинт Гортенсий, Марк и Луций Лицинии Крассы и Цицерон, говоривший последним. Сестий был оправдан.
Дошедшая до нас речь, видимо, сильно отличается от произнесенной Цицероном. Это политическая брошюра, в которой излагаются политические взгляды Цицерона: он говорит о наличии двух «партий» в государстве — «популяров», выдающих себя за защитников интересов народа, и «оптиматов», «честнейших людей», стремящихся к тому, чтобы «их решения находили одобрение у всех честнейших людей». Понятие «оптиматы» Цицерон толкует широко, относя к ним «руководителей государственного совета» (сенат), людей из важнейших сословий (сенаторы и римские всадники), жителей муниципиев и сел, дельцов, вольноотпущенников. Цель «кормчих государства» — мир среди граждан в сочетании с достоинством. Цицерон говорит о необходимости союза между сословием сенаторов и сословием римских всадников; в этом союзе он видит основу римской государственности.
См. письма Q. fr., II, 3, 5 сл. (CII); 4, 1 (CIV). См. вводные примечания к речам 16 и 17.
(I, 1) Если ранее, судьи, можно было удивляться тому, что, несмотря на столь великое могущество нашего государства и достоинство нашей державы, почему-то нельзя найти достаточно большого числа храбрых и сильных духом граждан, готовых рисковать собой и своим благополучием ради сохранения государства и общей свободы, то теперь, видя гражданина честного и стойкого, скорее следует удивиться, чем видя боязливого и заботящегося о себе, а не о государстве. Ибо нет необходимости вспоминать и размышлять о каждом отдельном случае; достаточно бросить хотя бы один взгляд на тех, которые вместе с сенатом и всеми честными людьми восстановили низвергнутое государство и избавили его от царившего в нем разбоя[1517], а теперь печальные, в траурных одеждах[1518], обвиняемые[1519] борются за свои гражданские права[1520], за свое доброе имя, за своих сограждан, за свое достояние, за своих детей; а те, которые нарушили, поколебали, потрясли, ниспровергли все установления божеские и человеческие, не только бодры и ликуют, но и угрожают храбрейшим и честнейшим гражданам, нисколько не опасаясь за себя.
(2) Все это уже само по себе возмутительно, но нестерпимее всего то, что ныне они не пытаются уже с помощью разбойников-наймитов и людей, погрязших в нищете и преступлениях, подвергнуть нас опасности, а хотят использовать для этой цели вас, честнейших мужей, против нас, честнейших граждан, и думают, что тех, кого им не удалось истребить, бросая камни, мечом, огнем, насилием, избиением, своими вооруженными шайками, они уничтожат, опираясь на ваш авторитет, на вашу добросовестность, на ваш приговор. Но я, судьи, до сего времени полагал, что голос мне нужен только для того, чтобы благодарить этих людей, памятуя их услуги и милости[1521]; теперь же я вынужден возвысить его, отвращая угрожающие им опасности; так пусть же голос мой служит тем именно людям, чьими усилиями он возвращен и мне, и вам, и римскому народу.
(II, 3) И хотя Квинт Гортенсий, муж прославленный и красноречивый, уже подробно высказался по делу Публия Сестия и не пропустил ничего из того, что следовало сказать и о прискорбном положении государства, и в пользу обвиняемого, я все же выступлю, чтобы не казалось, что моей защиты лишен именно тот человек, благодаря которому ее не лишились другие граждане. При этом, судьи, я считаю, что, выступая последним[1522], я взял на себя обязанность скорее уплатить долг благодарности, чем вести защиту, принести жалобу, а не блеснуть красноречием, выразить свою скорбь, а не показать свое дарование. (4) Итак, если я поведу речь более резко или более независимо, чем те, которые говорили до меня, то прошу вас отнестись к моей речи настолько снисходительно, насколько вы считаете возможным быть снисходительными к проявлению искренней скорби и справедливого гнева; ибо никакая скорбь не может быть теснее связана с чувством долга, чем моя, — ведь она вызвана опасностью, угрожающей человеку, оказавшему мне величайшие услуги, — и никакой гнев не заслуживает большей похвалы, чем мой, воспламененный злодеянием тех, кто признал нужным вести войну со всеми защитниками моих гражданских прав. (5) Но так как на отдельные статьи обвинения уже ответили другие защитники, то я буду говорить обо всем положении Публия Сестия, о его образе жизни, о его характере, нравах, необычайной преданности честным людям, стремлении оберегать всеобщее благо и спокойствие и постараюсь, — если только смогу этого достигнуть, — чтобы вам не показалось, что в этой защитительной речи, многосторонней и затрагивающей разные статьи обвинения, пропущено что-либо, относящееся к предмету вашего судебного разбирательства, к самому обвиняемому, к благу государства. А так как сама Фортуна поставила Публия Сестия трибуном в самое тяжкое для граждан время, когда поверженное и уничтоженное государство лежало в развалинах, то я приступлю к описанию его важнейших и широко известных деяний только после того, как покажу, каковы были начала и основания, давшие ему возможность во время столь значительных событий снискать столь великую славу.
(III, 6) Отцом Публия Сестия, как большинство из вас, судьи, помнит, был мудрый, благочестивый и суровый человек; после того, как он первым из виднейших людей был избран в народные трибуны в наилучшие для государства времена[1523], он стремился не к тому, чтобы занимать другие почетные должности, а к тому, чтобы казаться достойным их. С его согласия[1524], Публий Сестий женился на дочери честнейшего и виднейшего человека, Гая Альбина, которая родила ему этого вот мальчика и дочь, ныне уже замужнюю. Публий Сестий заслужил расположение этих двух мужей, отличавшихся величайшей, древней строгостью нравов, и был им обоим чрезвычайно дорог и приятен. Смерть дочери лишила Альбина возможности называться тестем Сестия, но дорогих ему тесных дружеских отношений и взаимной благожелательности она его не лишила. Насколько он ценит Публия Сестия и поныне, вам очень легко судить по его постоянному присутствию здесь, по его волнению и огорчению[1525]. (7) Еще при жизни отца Публий Сестий женился вторично на дочери Луция Сципиона, мужа честнейшего, но злополучного[1526]. Публий Сестий относился к нему с глубоким уважением и заслужил всеобщее одобрение, немедленно выехав в Массилию, чтобы повидаться и утешить тестя, изгнанного во времена волнений в государстве и влачившего существование на чужбине, между тем как ему подобало твердо идти по стопам своих предков. Сестий привез к нему его дочь, чтобы он, неожиданно для себя увидев и обняв ее, если и не совсем, то хотя бы на некоторое время забыл свою скорбь. Кроме того, Сестий своими величайшими и неизменными заботами поддерживал и тестя в его горестном положении, пока тот был жив, и его осиротевшую дочь. Многое мог бы я сказать о его щедрости, об исполнении им своих обязанностей в домашней жизни, о его военном трибунате[1527], о его воздержности при исполнении им этих должностных обязанностей в провинции; но мой взор направляется на достоинство государства, которое меня призывает и требует, чтобы я отбросил все менее важное. (8) Квестором моего коллеги, Гая Антония, судьи, он был по жребию[1528], но по общности наших замыслов был квестором моим. Обязательства, налагаемые на меня долгом, как я его понимаю, не позволяют мне рассказать вам, как много Сестий узнал, находясь при моем коллеге, как много он сообщил мне, насколько раньше многое предвидел[1529]. Поэтому об Антонии я скажу одно: в то необычайно грозное и опасное для государства время, когда все были охвачены страхом, а кое-кто питал подозрения против него самого, Антоний не захотел ни оправдаться, опровергнув эти подозрения, ни успокоить опасения, прибегнув к притворству. Если вы обычно — и притом справедливо — хвалили меня за мою снисходительность к коллеге, которого я сдерживал и останавливал, в то же время в высшей степени тщательно охраняя государство, то почти та же хвала заслужена Публием Сестием, так как он проявлял к своему консулу такое внимание[1530], что тот видел в нем честного квестора, а все честные люди — честнейшего гражданина.
(IV, 9) Когда памятный нам заговор вырвался наружу из потайных углов и из мрака и, вооружившись, стал открыто распространяться, тот же Публий Сестий привел войско в город Капую, на который, как мы подозревали, собирался напасть отряд этих нечестивых преступников, так как обладание Капуей давало очень много преимуществ для ведения войны. Военного трибуна Антония, Гая Мевулана, негодяя, явно вербовавшего в Писавре[1531] и в других частях Галльской области[1532] сторонников заговора, Публий Сестий выгнал из Капуи, не дав ему опомниться. А Гая Марцелла[1533], который не только приехал в Капую, но и присоединился к огромному отряду гладиаторов, будто бы желая научиться владеть оружием, тот же Публий Сестий постарался удалить из пределов города. По этой причине население Капуи, признавшее меня своим единственным патроном[1534], так как в мое консульство была сохранена свобода этого города, тогда выразило в моем присутствии свою глубочайшую благодарность Публию Сестию, а в настоящее время те же люди, храбрейшие и честнейшие мужи, изменив свое название и именуясь колонами и декурионами, в своих свидетельских показаниях заявляют о благодеянии, оказанном им Публием Сестием, а в своем постановлении просят избавить его от опасности. (10) Прошу тебя, Луций Сестий[1535], огласи постановление декурионов Капуи, чтобы ваши недруги услышали твой, еще отроческий, голос и в какой-то степени поняли, какой силы он достигнет, когда окрепнет. [Постановление декурионов.] Постановление, которое я оглашаю, не является принудительной данью отношениям соседства, или клиентелы, или официального гостеприимства[1536], оно вынесено не ради искательства и не с целью рекомендации; я оглашаю воспоминание о пережитой опасности, заявление о славной услуге, выражение благодарности в настоящее время и свидетельство о прошлом. (11) К тому же в это самое время, после того как Сестий уже избавил Капую от страха, а сенат и все честные люди, схватив и подавив внутренних врагов, под моим руководством устранили величайшие опасности, угрожавшие Риму, я письмом вызвал Публия Сестия из Капуи вместе с войском, которое тогда у него было. Прочитав это письмо, он поспешно, с необычайной быстротой примчался в Рим. А дабы вы могли мысленно перенестись в то ужасное время, ознакомьтесь с этим письмом и вызовите вновь в памяти испытанный вами страх. [Письмо консула Цицерона.]
(V) Это прибытие Публия Сестия прекратило нападки и посягательства как со стороны новых народных трибунов[1537], которые именно в последние дни моего консульства стремились опорочить то, что я совершил, так и со стороны уцелевших заговорщиков. (12) Но после того как стало ясно, что, коль скоро народный трибун Марк Катон[1538], храбрейший и честнейший гражданин, будет защищать государство, то сенат и римский народ легко смогут сами без военной силы оградить своим величием достоинство тех людей, которые с опасностью для себя защитили всеобщее благополучие, Сестий со своим войском необычайно быстро последовал за Гаем Антонием. К чему мне здесь объявлять во всеуслышание, какими средствами именно он как квестор заставил консула действовать, какими способами он подстегивал человека, который, быть может, и стремился к победе, но все же слишком опасался общего для всех Марса[1539] и случайностей войны? Это заняло бы много времени, и я скажу коротко только вот что: если бы не исключительное присутствие духа, проявленное Марком Петреем[1540], не его преданность государству, не его выдающаяся доблесть в государственных делах, не его необычайный авторитет среди солдат, не его исключительный военный опыт и если бы не Публий Сестий, неизменно помогавший ему подбодрять, убеждать, осуждать и подгонять Антония, то во время этой войны зима вступила бы в свои права, и Катилину, после того как он появился бы из туманов и снегов Апеннина[1541] и, выиграв целое лето, начал заблаговременно занимать тропы и пастушьи стоянки в Италии[1542], можно было бы уничтожить только ценой большого кровопролития и ужаснейшего опустошения всей Италии. (13) Вот каков был Публий Сестий, когда приступил к своим обязанностям трибуна, так что теперь я уже оставлю в стороне его квестуру в Македонии и обращусь, наконец, к событиям более близким. Впрочем, нечего умалчивать о его исключительной неподкупности, проявленной им в провинции; я недавно[1543] видел в Македонии ее следы и притом не слегка оттиснутые на краткий срок, а глубоко врезанные, дабы провинция эта помнила о нем вечно. Итак, пройдем мимо всего этого, но с тем, чтобы, оставляя, оглянуться на это с уважением. К его трибунату, который уже давно зовет и, так сказать, захватывает и влечет к себе мою речь, обратимся мы теперь в своем напряженном и стремительном беге.
(VI, 14) Именно о трибунате Публия Сестия Квинт Гортенсий говорил так, что его речь, пожалуй, не только стала защитой от обвинений, но и предложила юношеству достойный запоминания образец и наставление в том, как следует заниматься государственной деятельностью. Но все же, так как трибунат Публия Сестия был всецело посвящен защите моего доброго имени и моего дела, то я нахожу необходимым для себя если и не рассмотреть события эти более подробно, то, во всяком случае, хотя бы с прискорбием оплакать их. Если бы я в этой речи захотел напасть кое на кого более резко, то неужели кто-нибудь не позволил бы мне выразить мое мнение несколько свободнее и задеть тех людей, которые в своем преступном бешенстве нанесли мне удар? Но я проявлю умеренность и буду подчиняться обстоятельствам, а не чувству личной обиды. Если кто-нибудь недоволен тем, что я остался невредим, пусть он это скроет; если кто-нибудь когда-либо причинил мне зло, но теперь молчит и ведет себя тихо, то и я готов предать это забвению; если кто-нибудь задевает меня и преследует, то я буду терпеть, доколе будет возможно, и моя речь не оскорбит никого, разве только кто-нибудь сам наскочит на меня так сильно, что я не толкну его нарочно, а с разбегу на него налечу.
(15) Прежде чем начать говорить о трибунате Публия Сестия, я должен вам рассказать о крушении государственного корабля, которое произошло годом ранее[1544]. И в рассказе о том, как вновь собирались уцелевшие обломки корабля и как восстанавливалось всеобщее благополучие, перед вами раскроются все поступки, слова и намерения Публия Сестия.
(VII) Государство наше, судьи, в ту пору уже пережило год[1545], когда во время смуты и всеобщего страха был натянут лук, по мнению людей несведущих, против меня одного, в действительности же — против государства в целом; это сделали, переведя в плебеи бешеного и пропащего человека, дышавшего гневом против меня, но в гораздо большей степени недруга спокойствию и всеобщему благу. Прославленный муж и, несмотря на противодействие многих людей, лучший друг мне — Гней Помпей, потребовав от него всяческих заверений, торжественной клятвой и договором обязал его ничего не делать во вред мне во время его трибуната[1546]. Но этот нечестивец, это исчадие всех злодейств, решил, что он лишь мало нарушит уговор, если не запугает человека, поручившегося за чужую безопасность, и не внушит ему страха перед опасностью, грозящей ему самому. (16) До той поры этот отвратительный и свирепый зверь был связан авспициями[1547], опутан заветами предков[1548], закован в цепи священных законов[1549], и вдруг изданием куриатского закона от всего этого его освободил консул[1550], либо, как я полагаю, уступивший просьбам, либо, как некоторые думали, на меня разгневанный, но, во всяком случае, не ведавший и не предвидевший столь тяжких злодеяний и бед. Этот народный трибун оказался удачлив в ниспровержении государства и притом без всякой затраты своих сил (и в самом деле, какие могли быть при таком образе жизни силы у человека, истощенного гнусностями с братьями, блудом с сестрами, всяческим неслыханным развратом?). (17) Итак, это, конечно, была роковая судьба государства, когда этот ослепленный и безумный народный трибун привлек на свою сторону — что говорю я? Консулов? Но разве можно так назвать разрушителей нашей державы, предателей вашего достоинства, врагов всех честных людей? Разве не думали они, что именно для уничтожения сената, для угнетения всаднического сословия, для отмены всех прав, а также и установлений предков они и снабжены ликторскими связками и другими знаками высшего почета и империя?[1551] Во имя бессмертных богов! — если вы все еще не хотите вспомнить об их злодеяниях, о ранах, выжженных ими на теле государства, то представьте себе мысленно выражение их лиц и их повадки; вам будет легче вообразить себе их поступки, если вы представите себе хотя бы их лица.
(VIII, 18) Один из них[1552], купающийся в благовониях, с завитой гривой, глядя свысока на своих соучастников в разврате и на тех, кто в свое время попользовался его свежей юностью, с остервенением смотрел на толпы ростовщиков у ограды, от преследования которых он был вынужден искать убежища в гавани трибуната, чтобы ему, утопавшему в долгах, словно в проливе Сциллы[1553], не пришлось цепляться за столб; он презирал римских всадников, угрожал сенату, продавался наемным шайкам[1554], которые, как он открыто признавал, спасли его от суда за домогательство, говорил о своей надежде получить от них же провинцию даже против воли сената и думал, что если он ее не добьется, то ему никак несдобровать[1555]. (19) А другой[1556], — о, всеблагие боги! — с каким отвратительным, с каким угрюмым, с каким устрашающим видом расхаживал он! Ни дать, ни взять — один из тех славных бородачей, образчик древней державы, лик седой старины, столп государства. Неряшливо одетый, в плебейском и чуть ли не в темном пурпуре[1557], с прической, настолько разлохмаченной, что казалось, будто в Капуе (он тогда как раз был там дуовиром, чтобы ему было чем украсить свое изображение[1558]) он намеревался уничтожить Сепласию[1559]. А что уж говорить мне о его бровях, которые тогда казались людям не бровями, а залогом благополучия государства? Строгость в его взоре была так велика, складки на его лбу — так глубоки, что эти брови, казалось, ручались за благополучие в течение всего года. (20) Все толковали так: «Что ни говори, а государство обладает великой и крепкой опорой! У нас есть кого противопоставить этой язве, этому отребью; одним только своим выражением лица он, клянусь богом верности, одержит верх над развращенностью и ненадежностью своего коллеги; у сената будет за кем следовать в этот год, честные люди не останутся без советчика и вождя». Наконец, как раз меня поздравляли особенно усердно, так как я, по общему мнению, для защиты от бешеного и дерзкого народного трибуна располагал как другом и родственником[1560], так и храбрым и стойким консулом.
(IX) И вот, первый из них не обманул никого. В самом деле, кто мог поверить, что держать в своих руках кормило такой большой державы и управлять государством в его стремительном беге по бурным волнам сможет человек, неожиданно вынырнувший из ночных потемок непотребных домов и разврата, загубленный вином, кутежами, сводничеством и блудом и вдруг, сверх ожидания, поставленный с чужой помощью[1561] на наивысшую ступень? Да этот пропойца не мог, не говорю уже — предвидеть надвигавшуюся бурю, нет, даже глядеть на непривычный для него дневной свет. (21) Зато второй обманул многих решительно во всем. Ведь за него ходатайствовала сама его знатность, а она умеет привлекать к себе сердца: все мы, честные люди, всегда благосклонно относимся к знатности; во-первых, для государства полезно, чтобы знатные люди были достойны своих предков; во-вторых, память о людях славных и имеющих заслуги перед государством живет для нас даже после их смерти. Так как его всегда видели угрюмым, молчаливым, несколько суровым и неопрятным, так как имя он носил такое, что добропорядочность казалась врожденной в этой семье[1562], то к нему относились благосклонно и, питая надежду, что он по бескорыстию будет подражать своим предкам, забывали о роде его матери[1563]. (22) Да и я, по правде говоря, судьи, никогда не думал, что он отличается преступностью, наглостью и жестокостью в такой мере, в какой и мне и государству пришлось это испытать на себе. Что он ничтожный и ненадежный человек, а его добрая слава с юных лет лишена основания — я знал. И действительно, выражение его лица скрывало его подлинные намерения, стены его дома — его позорные поступки, но и то и другое — преграда недолговечная, да и возведена она была не так, чтобы через нее не могли проникнуть пытливые взоры.
(X) Мы все были свидетелями его образа жизни, его праздности, бездеятельности; скрытые в нем пороки были видны тем, кто соприкасался с ним ближе; да и его собственные речи давали нам основания судить о его затаенных чувствах; (23) расхваливал этот ученый человек неведомо каких философов; назвать их по имени он, правда, не мог; однако особенно превозносил он тех, которые слывут поборниками и поклонниками наслаждения; какого именно, в какое время и каким образом получаемого, он не спрашивал, но само слово это впитал всеми частями души и тела; по его словам, эти самые философы совершенно правильно утверждают, что мудрец делает все только для себя, что стремиться к государственной деятельности здравомыслящему человеку не подобает, что самое лучшее — праздная жизнь, полная и даже переполненная наслаждениями[1564]; а те, которые говорят, что надо строго блюсти свое достоинство, заботиться о государстве, руководствоваться в течение всей своей жизни соображениями долга, а не выгоды, ради отечества подвергаться опасностям, получать раны, идти на смерть[1565], по его мнению, бредят и сходят с ума. (24) На основании этих постоянных речей, которые он вел изо дня в день, на основании того, что я видел, с какими людьми он общался во внутренних покоях своего дома, а также и ввиду того, что над самим домом вился дымок, который своим запахом указывал на что-то недоброе, я решил, что ничего хорошего от этих бездельников не дождешься, но что и дурного опасаться нечего. Однако ведь вот как бывает, судьи: если дать меч маленькому мальчику или немощному и дряхлому старику, то своею силой он никому вреда не нанесет; но если он направит оружие на обнаженное тело даже самого храброго мужа, то острый клинок может и сам поранить его. Так же, когда консульство, подобно мечу, было вручено таким немощным и слабосильным людям, эти люди, которые сами никогда никого не смогли бы даже уколоть, вооруженные именем высшего империя, изрубили беззащитное государство на куски. Они открыто заключили договор с народным трибуном, чтобы получить от него те провинции, какие захотят, а войско и деньги в том количестве, в каком им захочется, — на том условии, что они сначала выдадут государство народному трибуну поверженным и связанным; договор этот, когда он будет заключен, можно будет, по их словам, освятить моей кровью[1566]. (25) Когда это открылось (ведь столь тяжкое преступление не могло ни быть скрыто, ни оставаться неизвестным), тот же самый трибун в одно и то же время объявил рогации: о моей погибели и о назначении провинций для каждого из консулов поименно[1567].
(XI) Тогда-то сенат, охваченный беспокойством, вы, римские всадники, встревоженные, вся Италия, взволнованная, одним словом, все граждане всех родов и сословий сочли нужным искать помощи для государства, находившегося под угрозой, у консулов, то есть у высшего империя, хотя, кроме бешеного трибуна, только эти два консула и были гибельным смерчем для государства; ведь они не только не пришли на помощь отечеству, падавшему в пропасть, но даже горевали из-за того, что оно падает слишком медленно. Все честные люди обращались к ним с сетованиями, их молил сенат, от них изо дня в день требовали, чтобы они взяли на себя мою защиту, внесли какое-нибудь предложение и, наконец, доложили обо мне сенату. Они же не только отказывались сделать это, но даже преследовали своими насмешками всех виднейших людей из нашего сословия. (26) И вот, когда внезапно огромное множество людей собралось в Капитолий из всего Рима и из всей Италии, все признали нужным надеть траурные одежды и защищать меня любыми средствами как частные лица, потому что официальных руководителей государство было лишено. В то же самое время сенат собрался в храме Согласия (именно этот храм был памятником моего консульства[1568]), причем все сословие, плача, обратилось с мольбами к консулу в завитых локонах; ведь другой, лохматый и суровый, намеренно не выходил из дому. С какой надменностью этот выродок, этот губитель отверг мольбы славнейшего сословия и слезные просьбы прославленных граждан! А ко мне самому с каким презрением отнесся этот расхититель отечества! Ибо к чему говорить «расхититель отцовского достояния»? Его он полностью утратил, хотя даже торговал собой. Вы подошли к сенату; вы, повторяю, римские всадники, и все честные люди в траурной одежде бросились в ноги развратнейшему своднику, защищая мои гражданские права; затем, когда этот разбойник отверг ваши мольбы, Луций Нинний, муж чрезвычайной честности, величия духа, непоколебимости, доложил сенату о положении государства, и собравшийся в полном составе сенат постановил, в защиту моих гражданских прав, надеть траур[1569].
(XII, 27) О, этот день, судьи, роковой для сената и для всех честных людей, для государства горестный, для меня — ввиду несчастья, постигшего мою семью, — тяжкий, а в памяти грядущих поколений славный! Ибо какое более блистательное событие можно привести из всего нашего памятного нам прошлого, чем этот день, когда в защиту одного гражданина надели траурные одежды все честные люди по своему единодушному решению и весь сенат по официальному постановлению? И траур этот был надет не с целью заступничества, а в знак печали. Ибо кого было просить о заступничестве, когда траурные одежды носили все, причем достаточно было не надеть их, чтобы считаться человеком бесчестным? О том, что́ этот народный трибун, этот грабитель, покусившийся на все божеское и человеческое, совершил уже после того, как траур был надет всеми гражданами, пораженными горем, я и говорить не хочу; ведь он велел знатнейшим юношам, весьма уважаемым римским всадникам, ходатаям за мое избавление от опасности, явиться к нему, и его шайка набросилась на них, обнажив мечи и бросая камни. О консулах говорю я, чья честность должна быть опорой государства. (28) Задыхаясь, Габиний взбегает из сената — с таким же встревоженным и расстроенным лицом, какое у него было бы, попади он несколькими годами ранее в собрание своих заимодавцев; тут же он созывает народную сходку и — консул! — произносит речь, какой сам Катилина, даже после победы, никогда бы не произнес: люди заблуждаются, — говорил он, — думая, что сенат в данное время обладает в государстве какой-то властью; римские всадники понесут кару за тот день, когда они, в мое консульство, стояли с мечами в руках на капитолийском склоне[1570]; для тех, кто тогда был в страхе (он, видимо, имел в виду заговорщиков), пришло время отомстить за себя. Если бы он сказал даже только это одно, он был бы достоин любой казни; ибо преступная речь консула сама по себе может потрясти государство; а что́ он совершил, вы видите: (29) Луцию Ламии, который был глубоко предан мне ввиду моей тесной дружбы с его отцом, а ради государства даже был готов пойти на смерть, Габиний во время народной сходки приказал оставить Рим и своим эдиктом повелел ему находиться на расстоянии не менее двухсот миль от города — только за то, что он осмелился заступиться за гражданина, за гражданина с большими заслугами, за друга, за государство[1571].
(XIII) Как же поступить с таким человеком и для чего сохранять ни на что не годного гражданина, вернее, столь преступного врага?[1572] Ведь он — я уже не говорю о других делах, в которых он замешан вместе со своим свирепым и мерзким коллегой, — сам виноват уже в том, что изгнал, выслал из Рима, не говорю — римского всадника, не говорю — виднейшего и честнейшего мужа, не говорю — гражданина, бывшего лучшим другом государству, не говорю — человека, именно в то время вместе с сенатом и всеми честными людьми оплакивавшего падение своего друга и падение государства; нет, повторяю я, римского гражданина он эдиктом своим, без всякого суда, будучи консулом, выгнал из отечества. (30) Ведь для союзников и латинян[1573] бывало горше всего, если консулы приказывали им покинуть Рим[1574], что случалось очень редко. Но тогда для них было возможно возвращение в их городские общины к их домашним ларам[1575]; это было общим несчастьем и в нем не заключалось бесчестия для кого-либо лично. А это что? Консул будет эдиктом своим разлучать римских граждан с их богами-пенатами[1576], изгонять их из отечества, выбирать, кого захочет, поименно осуждать и выгонять? Если бы Габиний когда-либо мог подумать, что вы будете вести государственные дела так, как теперь, если бы он поверил, что в государстве останется хотя бы какое-то подобие или видимость правосудия, разве он осмелился бы уничтожить в государстве сенат, презреть мольбы римских всадников, словом, подавить необычными и неслыханными эдиктами всеобщие права и свободу?
(31) Хотя вы, судьи, слушаете меня очень внимательно и весьма благосклонно, но я все же боюсь, что некоторые из вас не понимают, к чему клонится эта моя столь длинная и столь издалека начатая речь, вернее, какое отношение к делу Публия Сестия имеют проступки тех людей, которые истерзали государство еще до его трибуната. Но я поставил себе целью доказать, что все намерения Публия Сестия и смысл всего его трибуната свелись к тому, чтобы, насколько возможно, лечить раны поверженного и погубленного государства. И если вам покажется, что я, повествуя об этих ранах, буду говорить слишком много о себе самом, простите мне это. Ведь и вы и все честные люди признали несчастье, постигшее меня, величайшей раной, нанесенной государству; значит, Публий Сестий обвиняется не по своему, а по моему делу. Так как он обратил все силы своего трибуната на то, чтобы восстановить меня в правах, то мое дело, касающееся прошлого, должно быть связано с его нынешней защитой.
(XIV, 32) Итак, сенат горевал, граждане скорбели, по официально принятому решению надев траурные одежды. В Италии не было ни одного муниципия, ни одной колонии[1577], ни одной префектуры[1578], в Риме — ни одного общества откупщиков, ни одной коллегии или собрания, или вообще какого-либо общего совещания, которое бы тогда не приняло самого почетного для меня решения о моем восстановлении в правах, как вдруг оба консула эдиктом своим велят сенаторам снова надеть обычное платье. Какой консул когда-либо препятствовал сенату следовать его собственным постановлениям, какой тиранн запрещал несчастным горевать? Неужели тебе, Писон (о Габинии и говорить не стоит), мало того, что ты, обманывая людей, пренебрег волей сената, презрел советы всех честных людей, предал государство, опозорил имя консула? И ты еще осмелился издать эдикт, запрещающий людям горевать о несчастье, постигшем меня, их самих, государство, и выражать свою скорбь ношением траурных одежд? Для чего бы они ни надели этот траур — для выражения ли печали или же для заступничества за меня, — существовал ли когда-либо такой жестокий человек, который бы стал препятствовать кому-либо горевать о себе или умолять других? (33) Разве люди не имеют обыкновения по своему собственному почину надевать траур, когда их друзья в опасности? В твою собственную защиту, Писон, разве никто не наденет его?[1579] Даже те, кого ты сам послал как своих легатов, не говорю уже — без постановления сената, нет, даже против его воли?
Итак, кто захочет, тот будет, быть может, оплакивать падение пропащего человека и предателя государства, а оплакивать гражданина, пользующегося величайшей благосклонностью всех честных людей, имеющего огромные заслуги, спасителя государства, когда и ему самому, а с ним вместе и государству угрожает опасность, сенату разрешено не будет? И те же консулы, — если только следует называть консулами тех, кого все считают необходимым вычеркнуть, не говорю — из памяти, но даже из фаст[1580], — уже после заключения договора о провинциях, когда та же самая фурия, тот же губитель отечества предоставил им слово на народной сходке во Фламиниевом цирке[1581], среди ваших сильнейших стонов, своими речами и голосованием одобрили все то, что тогда предлагалось во вред мне и в ущерб государству.
(XV) При безучастном отношении тех же консулов и у них на глазах был предложен закон о том, чтобы не имели силы авспиции, чтобы никто не совершал обнунциации, чтобы никто не совершал интерцессии при издании закона, чтобы дозволялось предлагать закон во все присутственные дни, чтобы не имели силы ни Элиев закон, ни Фуфиев закон[1582]. Кто не понимает, что одной этой рогацией был уничтожен весь государственный строй? (34) На глазах у тех же консулов перед Аврелиевым трибуналом[1583], под предлогом учреждения коллегий[1584], вербовали рабов, причем людей переписывали по кварталам, распределяли на десятки, призывали к насилию, к стычкам, к резне, к грабежу. При тех же консулах открыто доставляли оружие в храм Кастора, разбирали ступени этого храма[1585], вооруженные люди занимали форум и места народных сходок, людей убивали и побивали камнями; не существовало ни сената, ни прочих должностных лиц; один человек, опираясь на вооруженных разбойников, обладал всей полнотой власти, причем сам он не имел какой-либо особой силы, но после того как он посредством договора о провинциях заставил обоих консулов предать государство, он стал глумиться над всеми, чувствовал себя властелином, иным давал обещания, многих держал в руках, запугивая их и наводя на них страх, а еще большее число людей заманивал надеждами и посулами.
(35) При таком положении вещей, судьи, хотя у сената и не было руководителей, а вместо руководителей были предатели или, вернее, явные враги; хотя консулы привлекали римских всадников к суду, отвергали решения всей Италии, одних отправляли в ссылку поименно, других запугивали угрозами и опасностью; хотя в храмах было оружие, а на форуме — вооруженные люди, причем консулы не скрывали этого, храня молчание, а одобряли в своих речах и при голосовании; хотя все мы видели Рим, правда, еще не уничтоженным и разрушенным, но уже захваченным и покоренным, — все же, при такой глубокой преданности честных людей, судьи, я устоял бы против этих несчастий, как велики они ни были; но другие опасения, другие заботы и подозрения повлияли на меня.
(XVI, 36) Я изложу сегодня, судьи, все доводы, оправдывающие мое поведение и мое решение, и, конечно, не обману ни вашего пристального внимания, с каким вы меня слушаете, ни, во всяком случае, ожиданий этого многолюдного собрания, какого, насколько я помню, ни при одном суде не бывало. Ведь если в столь честном деле, при таком большом рвении сената, при столь исключительном единодушии всех честных людей, при такой готовности [всаднического сословия], словом, когда вся Италия шла на любые испытания, я отступил перед бешенством подлейшего народного трибуна и испугался ненадежности и наглости презренных консулов, то я был, признаю́ это, слишком робок, пал духом и растерялся. (37) Было ли какое-либо сходство между моим положением и положением Квинта Метелла?[1586] Хотя все честные люди и одобряли его решение, однако ни сенат официально, ни какое-либо сословие в отдельности, ни вся Италия не поддержали его своими постановлениями. Ведь он, так сказать, имел в виду скорее свою собственную славу, чем очевидное для всех благо государства, когда он один отказался поклясться в соблюдении закона, проведенного насильственным путем. Словом, он, по-видимому, проявил такую непоколебимость с той целью, чтобы, поступившись любовью к отечеству, приобрести славу человека стойкого. Ведь ему предстояло иметь дело с непобедимым войском Гая Мария; недругом его был Гай Марий, спаситель отечества, бывший тогда консулом уже в шестой раз[1587]. Ему предстояло иметь дело с Луцием Сатурнином, народным трибуном во второй раз, человеком бдительным и выступавшим на стороне народа — хотя и недостаточно сдержанно, но, во всяком случае, преданно и бескорыстно. Квинт Метелл удалился, дабы в случае своего поражения не пасть с позором от руки храбрых мужей или же в случае своей победы не отнять у государства многих храбрых граждан. (38) Что касается моего дела, то сенат взялся за него открыто, сословие всадников — ревностно, вся Италия — официально[1588], все честные люди — каждый в отдельности и весьма рьяно. Я совершил такие деяния, которые принадлежат не мне одному; нет, я был руководителем всеобщей воли, и они не составляют мою личную славу, а имеют целью общую неприкосновенность всех граждан и, можно сказать, народов. Я совершил их, твердо веря, что все люди всегда должны будут меня одобрять и защищать.
(XVII) Но мне предстояла борьба не с победоносным войском, а со сбродом наймитов, подстрекаемых на разграбление Рима; противником моим был не Гай Марий, гроза для врагов, надежда и опора отчизны, а два опасных чудовища, которых нищета, огромные долги, ничтожность и бесчестность отдали во власть[1589] народному трибуну связанными по рукам и по ногам. (39) И мне предстояло иметь дело не с Сатурнином, который, зная, что снабжение хлебом отнято у него, квестора в Остии[1590], с целью опорочить его и передано Марку Скавру, первоприсутствующему в сенате и первому среди граждан, с большой решимостью пытался отомстить за свою обиду, а с любовником богатых фигляров, с сожителем родной сестры, со жрецом блудодеяний[1591], с отравителем[1592], с подделывателем завещаний, с убийцей из-за угла, с разбойником. Я не опасался, что в случае, если я одолею этих людей вооруженной силой, — а это было легко сделать и следовало сделать, причем этого требовали от меня честнейшие и храбрейшие граждане, — кто-нибудь станет либо укорять меня за то, что я прибег к насилию, чтобы отразить насилие, либо горевать о смерти пропащих граждан, вернее, внутренних врагов. Но на меня подействовало вот что: на всех народных сходках этот безумный вопил, что все, что он делает во вред мне, исходит от Гнея Помпея, прославленного мужа, который и ныне мой лучший друг и ранее был им, пока мог[1593]. Марка Красса, храбрейшего мужа, с которым я был также связан теснейшими дружескими отношениями, этот губитель изображал крайне враждебным моему делу. А Гая Цезаря, который без какой бы то ни было моей вины захотел держаться в стороне от моего дела, тот же Публий Клодий называл на ежедневных народных сходках злейшим недругом моему восстановлению в правах. (40) Он говорил, что, принимая решения, будет прибегать к ним троим как к советчикам и помощникам в действиях; один из них[1594], по его словам, располагал в Италии огромным войском, двое других, которые тогда были частными лицами, могли — если бы захотели — стать во главе войска и снарядить его; они, говорил он, именно так и собирались поступить. И не судом народа, не борьбой на каком-либо законном основании[1595], не разбирательством или же привлечением к суду угрожал он мне, а насилием, оружием, войском, императорами[1596], войной.
(XVIII) И что же? Неужели же речь недруга, особенно столь лишенная оснований, столь бесчестно обращенная против прославленных мужей, подействовала на меня? Нет, не речь его на меня подействовала, а молчание тех, на кого эта столь бесчестная речь ссылалась; молчали они тогда, правда, по другим причинам, но людям, боящимся всего, казалось, что они молчанием своим говорят, не опровергая соглашаются. Но они, думая, что указы и распоряжения минувшего года[1597] подрываются преторами, отменяются сенатом и первыми среди граждан людьми, поддались страху и, не желая рвать отношений с влиятельным в народе трибуном, говорили, что опасности, угрожающие лично им, для них страшнее, чем опасности, угрожающие мне. (41) Но все же Красс утверждал, что за мое дело должны взяться консулы, а Помпей умолял их о покровительстве и заявлял, что он, будучи даже частным лицом, не оставит официально начатого дела без внимания. Этому мужу, преданному мне, горячо желавшему спасти государство, известные люди, нарочито подосланные в мой дом, посоветовали быть более осторожным и сказали, что у меня в доме подготовлено покушение на его жизнь; одни возбудили в нем это подозрение, посылая ему письма, другие — через вестников, третьи[1598] — при личной встрече, поэтому хотя он, несомненно, ничуть не опасался меня, все же считал нужным остерегаться их самих — как бы они, прикрывшись моим именем, не затеяли чего-нибудь против него. Что касается самого Цезаря, которого люди, не знавшие истинного положения вещей, считали особенно разгневанным на меня, то он стоял у городских ворот и был облечен империем; в Италии было его войско, а в этом войске он дал назначение брату того самого народного трибуна, моего недруга[1599].
(XIX, 42) И вот, когда я видел — ведь это и вовсе не было тайной, — что сенат, без которого государство существовать не может, вообще отстранен от государственных дел; что консулы, которые должны быть руководителями государственного совета, довели дело до того, что государственный совет совершенно уничтожен ими самими; что тех, кто был наиболее могуществен[1600], на всех народных сходках выставляют как вдохновителей расправы со мной (это была ложь, но устрашающая); что на сходках изо дня в день произносятся речи против меня; что ни в мою защиту, ни в защиту государства никто не возвышает голоса; что знамена легионов, по мнению многих, грозят вашему существованию и благосостоянию (это было неверно, но так все-таки думали); что прежние силы заговорщиков и рассеянный и побежденный отряд негодяев Катилины снова собраны при новом вожаке[1601] и при неожиданном обороте дел, — когда я все это видел, что было делать мне, судьи? Ведь тогда, знаю я, не ваша преданность изменила мне, а, можно сказать, моя изменила вам. (43) Возможно ли было мне, частному лицу, браться за оружие против народного трибуна? Если бы бесчестных людей победили честные, а храбрые — малодушных; если бы был убит тот человек, которого только смерть могла излечить от его намерения погубить государство, что произошло бы в дальнейшем? Кто поручился бы за будущее? Кто, наконец, мог сомневаться в том, что консулы выступят в качестве защитников трибуна и мстителей за его кровь, особенно если она будет пролита при отсутствии официального решения?[1602] Ведь кто-то уже сказал на народной сходке, что я должен либо однажды погибнуть, либо дважды победить. Что означало это «дважды победить»? Конечно, одно: что я, сразившись не на жизнь, а на смерть с обезумевшим народным трибуном, должен буду биться с консулами и другими мстителями за него. (44) Но даже если бы мне пришлось погибнуть, а не получить рану, для меня излечимую, но смертельную для того, кто ее нанесет, я, право, все же предпочел бы однажды погибнуть, судьи, а не дважды победить. Ведь эта вторая борьба была бы такова, что мы, кем бы мы ни оказались, — побежденными или победителями, — не смогли бы сохранить наше государство в целости. А если бы я при первом же столкновении пал на форуме вместе со многими честными мужами, побежденный насильственными действиями трибуна? Консулы, я полагаю, созвали бы сенат, который они ранее полностью отстранили от государственных дел; они призвали бы к защите государства оружием, они, которые даже ношением траура не позволили его защищать; после моей гибели они порвали бы с народным трибуном, хотя до того они условились, что час моего уничтожения будет часом их вознаграждения.
(XX, 45) И вот, мне, без всякого сомнения, оставалось одно то, что, пожалуй, сказал бы всякий храбрый, решительный муж, сильный духом:
Дал бы ты отпор, отбросил, встретил бы ты смерть в сраженье![1603]Привожу в свидетели тебя, повторяю, тебя, отчизна, и вас, пенаты и боги отцов, — ради ваших жилищ и храмов, ради благополучия своих сограждан, которое всегда было мне дороже жизни, уклонился я от схватки и от резни. И в самом деле, судьи, если бы случилось так, что во время моего плавания на корабле вместе с друзьями на наш корабль напали со всех сторон многочисленные морские разбойники и стали угрожать кораблю уничтожением, если им не выдадут одного меня, то, даже если бы мои спутники отказали им в этом и предпочли погибнуть вместе со мной, лишь бы не выдавать меня врагам, я скорее сам бросился бы в пучину, чтобы спасти других, а не обрек бы столь преданных мне людей на верную смерть и даже не подверг бы их жизнь большой опасности. (46) Но так как после того как из рук сената вырвали кормило, а на наш государственный корабль, носившийся в открытом море по бурным волнам мятежей и раздоров, по-видимому, собиралось налететь столько вооруженных судов, если бы не выдали меня одного; так как нам угрожали проскрипцией, резней и грабежом; так как одни меня не защищали, опасаясь за себя, других возбуждала их дикая ненависть к честным людям, третьи завидовали, четвертые думали, что я стою на их пути, пятые хотели отомстить мне за какую-то обиду, шестые ненавидели само государство, нынешнее прочное положение честных людей и спокойствие и именно по этим причинам, столь многочисленным и столь различным, требовали только моей выдачи, — то должен ли был я дать решительный бой, не скажу — с роковым исходом, но, во всяком случае, с опасностью для вас и для ваших детей, вместо того, чтобы одному за всех взять на себя и претерпеть то, что угрожало всем?
(XXI, 47) «Побеждены были бы бесчестные люди». Но ведь это были граждане; но они были бы побеждены вооруженной силой, побеждены частным лицом — тем человеком, который, даже как консул, спас государство, не взявшись за оружие. А если бы побеждены были честные люди, то кто уцелел бы? Не ясно ли вам, что государство попало бы в руки рабов? Или мне самому, как некоторые думают, следовало, не дрогнув, идти на смерть? Но разве от смерти я тогда уклонялся? Не было ли у меня какой-то цели, которую я считал более желанной для себя? Или же я, совершая столь великие деяния среди такого множества бесчестных людей, не видел перед собой смерти, не видел изгнания? Наконец, разве в то время, когда я совершал эти деяния, я не предрекал всего этого, словно ниспосланного мне роком? Или мне, среди такого плача моих родных, при такой разлуке, в таком горе, при такой утрате всего того, что мне дала природа или судьба[1604], стоило держаться за жизнь? Так ли неопытен был я, так ли несведущ, так ли нерассудителен и неразумен? Неужели я ничего не слышал, ничего не видел, ничего не понимал сам, читая и наблюдая; неужели я не знал, что путь жизни короток, а путь славы вечен, что, хотя смерть и определена всем людям, надо жизнь свою, подчиненную необходимости, желать отдать отчизне, а не сберегать до ее естественного конца? Разве я не знал, что между мудрейшими людьми был спор? Одни говорили, что души и чувства людей уничтожаются смертью; другие — что умы мудрых и храбрых мужей больше всего чувствуют и бывают сильны именно тогда, когда покинут тело[1605]: что первого — утраты сознания — избегать не следует, а второго — лучшего сознания — следует даже желать. (48) Наконец, после того как я всегда оценивал все поступки сообразно с их достоинством и полагал, что человеку в его жизни не следует добиваться ничего, что не связано с этим достоинством, подобало ли мне, консуляру, совершившему такие великие деяния, бояться смерти, которую в Афинах ради отчизны презрели даже девушки, дочери, если не ошибаюсь, царя Эрехфея[1606], — тем более, что я — гражданин того города, откуда происходил Гай Муций, пришедший один в лагерь царя Порсенны и, глядя в лицо смерти, пытавшийся его убить[1607]; города, откуда вышли Публии Деции[1608], а они — сначала отец, а через несколько лет и сын, наделенный доблестью отца, — построив войско, обрекли себя на смерть ради спасения и победы римского народа; того города, откуда произошло бесчисленное множество других людей, одни из которых ради славы, другие во избежание позора, в разных войнах с полным присутствием духа шли на смерть; среди этих граждан, как я сам помню, был отец этого вот Марка Красса, храбрейший муж, который, дабы, оставаясь в живых, не видеть своего недруга победителем, лишил себя жизни той же рукой, какой он так часто приносил смерть врагам[1609].
(XXII, 49) Обдумывая все это и многое другое, я понимал одно — если моя смерть нанесет делу государства последний удар, то впредь никто никогда не решится взять на себя защиту государства от бесчестных граждан; поэтому, казалось мне, не только в случае, если я буду убит, но даже в случае, если я умру от болезни, вместе со мной погибнет образцовый пример того, как надо спасать государство. В самом деле, если бы я не был восстановлен в своих правах сенатом, римским народом и столь великим рвением всех честных людей, — а этого, конечно, не могло бы случиться, если бы я был убит, — то кто осмелился бы когда-либо заниматься в какой-то мере государственной деятельностью, рискуя вызвать к себе малейшую недоброжелательность? Итак, я спас государство отъездом своим, судьи! Ценой своей скорби и горя избавил я вас и ваших детей от резни, от разорения, от поджогов и грабежей; я один спас государство дважды: в первый раз — своими славными деяниями, во второй раз — своим несчастьем. Говоря об этом, я никогда не стану отрицать, что я — человек, и хвалиться тем, что я, лишенный общения с лучшим из братьев, с горячо любимыми детьми, с глубоко преданной мне женой, не имея возможности видеть вас и отечество, не пользуясь подобающим мне почетом, не испытывал скорби. Если бы это было так, если б я ради вас покинул то, что для меня не представляло никакой ценности, то разве это было бы благодеянием, оказанным вам мною? По крайней мере, по моему мнению, самым верным доказательством моей любви к отчизне должно быть следующее: хотя я и не мог быть разлучен с ней, не испытывая величайшего горя, я предпочел претерпеть это горе, только бы не позволить бесчестным людям поколебать основы государства. (50) Я помнил, судьи, что муж, вдохновленный богами и рожденный там же, где и я, на благо нашей державы, — Гай Марий[1610], будучи глубоким стариком, бежал, уступив почти законной вооруженной силе; сначала он скрывался, погрузившись всем своим старческим телом в болота, затем искал убежища у сострадательных жалких, бедных жителей Минтурн, а оттуда бежал на утлом судне, избегая всех гаваней и стран, и пристал к пустыннейшему берегу Африки. Но он спасался, дабы не остаться неотмщенным, питал шаткие надежды и сохранил свою жизнь на погибель государству[1611]; что касается меня, жизнь которого — как многие в мое отсутствие говорили в сенате — была залогом спасения государства, меня, который по этой причине на основании решения сената консульскими посланиями был поручен попечению чужеземных народов, то разве я, если бы расстался с жизнью, не предал бы дела государства? Ведь теперь, после моего восстановления в правах, вместе со мной жив пример верности гражданскому долгу. Если он сохранит бессмертие, неужели кто-нибудь не поймет, что бессмертным будет и наше государство?
(XXIII, 51) Ведь войны за рубежом, против царей, племен и народов прекратились уже настолько давно[1612], что мы находимся в прекрасных отношениях с теми, кого считаем замиренными; ведь победы на войне почти ни на кого не навлекали ненависти граждан. Напротив, внутренним смутам и замыслам преступных граждан давать отпор приходится часто и против этой опасности надо в государстве закреплять целебное средство, а оно было бы полностью утрачено, если бы моя гибель лишила сенат и римский народ возможности выражать свою скорбь по мне. Поэтому советую вам, юноши, и по праву наставляю вас, стремящихся к высокому положению, к государственной деятельности, к славе: если необходимость когда-либо призовет вас к защите государства от бесчестных граждан, не будьте медлительны и, памятуя о моей злосчастной судьбе, не бойтесь принять мужественное решение. (52) Во-первых, никому не грозит опасность когда-либо столкнуться с такими консулами, особенно если они получат должное возмездие. Во-вторых, ни один бесчестный человек, надеюсь, никогда уже не скажет, что покушается на государственный строй по указанию и с помощью честных людей — причем сами эти люди молчат, — и не станет запугивать граждан, носящих тоги, вооруженной силой, а у императора, стоящего у городских ворот, не будет законного основания допускать, чтобы в целях устрашения лживо злоупотребляли его именем. Наконец, никогда не будет так угнетен сенат, чтобы даже умолять и горевать не мог он; никогда не будет до такой степени сковано всадническое сословие, чтобы римских всадников консул мог высылать. Хотя все это, а также и другое, даже гораздо большее, о чем я намеренно умалчиваю, и произошло, однако мое прежнее почетное положение, как видите, после кратковременного несчастья мне возвращено голосом государства.
(XXIV, 53) Итак (хочу вернуться к тому, что я себе наметил во всей этой речи, — к происшедшему в тот год уничтожению государства вследствие преступления консулов), прежде всего в тот самый день, роковой для меня и горестный для всех честных людей, — после того как я вырвался из объятий отчизны и скрылся от вас и, в страхе перед опасностью, угрожавшей вам, а не мне, отступил перед бешенством Публия Клодия, перед его преступностью, вероломством, оружием, угрозами и покинул отчизну, которую любил больше всего, именно из любви к ней, когда мою столь ужасную, столь тяжкую, столь неожиданную участь оплакивали не только люди, но и дома и храмы Рима, когда никто из вас не хотел смотреть на форум, на Курию, на дневной свет, — в тот самый, повторяю, день (я говорю — день, нет, в тот же час, вернее, даже в то же мгновение) была совершена рогация о гибели моей и государства и о провинциях для Габиния и Писона. О, бессмертные боги, стражи и хранители нашего города и нашей державы, каких только чудовищных поступков, каких только злодеяний не видели вы в этом государстве! Был изгнан тот гражданин, который, на основании суждения сената[1613], вместе со всеми честными людьми защитил государство, был изгнан не за какое-либо другое, а именно за это преступление; изгнан был он без суда, насильственно, камнями, мечом, наконец, натравленными на него рабами. Закон был проведен, когда форум был пуст, покинут и отдан во власть убийцам и рабам, и это был тот закон, из-за которого сенат, дабы воспрепятствовать его изданию, надел траурные одежды. (54) При таком сильном смятении среди граждан консулы не стали ждать, чтобы между моей гибелью и их обогащением прошла хотя бы одна ночь; как только мне был нанесен удар, они тотчас же прилетели пить мою кровь и, хотя государство еще дышало, совлекать с него доспехи. Умалчиваю о ликовании, о пиршествах, о дележе эрария, о подачках, о надеждах, о посулах, о добыче, о радости для немногих среди всеобщего горя. Мучили мою жену, детей моих искали, чтобы убить их[1614]; моего зятя, — зятя, носившего имя Писона! — бросившегося с мольбой к ногам Писона-консула, оттолкнули; имущество мое грабили и перетаскивали к консулам; мой дом на Палатине горел; консулы пировали. Даже если мои несчастья их радовали, опасность, угрожавшая Риму, все же должна была бы взволновать их.
(XXV, 55) Но дабы мне уже покончить со своим делом — вспомните об остальных язвах того года (ибо так вам легче будет понять, сколь многих лекарств ожидало государство от должностных лиц последующего года): о множестве законов — как о тех, которые были проведены, так особенно о тех, которые были объявлены. Ведь в то время, когда эти консулы, сказать ли мне — «молчали»? — нет, даже одобряли, были проведены законы о том, чтобы цензорское замечание и важнейшее решение неприкосновеннейшего должностного лица были в государстве отменены[1615]; чтобы, вопреки постановлению сената, не только были восстановлены памятные нам прежние коллегии, но чтобы, по воле одного гладиатора, было основано бесчисленное множество новых других коллегий; чтобы с уничтожением платы в шесть ассов с третью была отменена почти пятая часть государственных доходов[1616]; чтобы Габинию вместо его Киликии, которую он выговорил себе, если предаст государство, была отдана Сирия и чтобы этому одному кутиле была предоставлена возможность дважды обсуждать одно и то же дело и уже после того, как закон был предложен, обменять провинцию на основании нового закона.
(XXVI, 56) Не касаюсь того закона, который уже одной рогацией уничтожил все права религиозных запретов, авспиций, властей, все существующие законы о праве и времени предложения законов[1617]; не касаюсь всего внутреннего развала; мы видели, что даже чужеземные народы пришли в ужас от безумия, разразившегося в этот год. На основании закона, проведенного трибуном[1618], пессинунтский жрец Великой Матери был изгнан и лишен жречества, а храм, где совершались священнейшие и древнейшие обряды, был за большие деньги продан Брогитару[1619], человеку мерзкому и недостойному этой святыни, — тем более, что он добивался ее не для почитания, а для осквернения. Но народным собранием были объявлены царями те, кто этого никогда не посмел бы потребовать даже от сената; были возвращены в Византий[1620] изгнанники, осужденные по суду, а неосужденных граждан тем временем изгоняли из государства. (57) Царь Птолемей, хотя и не получивший еще от сената почетного имени союзника[1621], все же приходился братом тому царю, который, находясь в таком же положении, был удостоен сенатом этого почета; Птолемей этот был такого же происхождения, имел тех же предков, причем союзнические отношения с ним были столь же давними, словом, это был царь, если еще не союзник, то все же и не враг; пользуясь миром, покоем, полагаясь на державу римского народа, он в царственном спокойствии безраздельно владел отцовским и дедовским царством. И вот, когда он ни о чем не помышлял, ничего не подозревал, насчет него при голосовании тех же наймитов было предложено, чтобы он, восседающий на престоле в пурпурной одежде, с жезлом и всеми знаками царского достоинства, был передан государственному глашатаю и чтобы, по повелению римского народа, который привык возвращать царства даже царям, побежденным во время войны, дружественный царь, без упоминания о каком-либо беззаконии с его стороны, без предъявления ему каких-либо требований[1622], был взят в казну вместе со всем своим имуществом.
(XXVII, 58) Много прискорбных, много позорных, много тревожных событий принес нам этот год. Но наиболее сходным со злодеянием этих свирепых людей, от которого я пострадал, пожалуй, можно по справедливости назвать следующее: предки наши повелели Антиоху Великому[1623], побежденному ими в многотрудной войне на суше и на море, царствовать в пределах хребта Тавра; Азию, которую они отняли у него, они передали Атталу[1624], дабы он царствовал в ней; сами мы недавно вели тяжелую и продолжительную войну с армянским царем Тиграном[1625], так как он, беззакониями своими по отношению к нашим союзникам, можно сказать, пошел войной на нас. Он и сам был нашим заклятым врагом и, кроме того, своими силами и в своем царстве защитил Митридата, злейшего врага нашей державы, вытесненного нами из Понта; будучи отброшен Луцием Лукуллом, выдающимся мужем и императором, Тигран все же сохранил вместе с остатками своих войск свою вражду к нам и свои прежние намерения. Гней Помпей, увидев его в своем лагере умолявшим и распростертым на земле, поднял его и снова надел на него царскую диадему[1626], которую царь снял с головы; потребовав выполнения определенных условий, Помпей повелел ему царствовать, причем решил, что и для него самого и для нашей державы посадить царя на престол будет не менее славным делом, чем заключить его в оковы[1627]. (59) [Итак, армянский царь], который и сам был врагом римского народа и принял его злейшего врага в свое царство, с нами сразился, вступил в бой, чуть ли не поспорил о владычестве, ныне царствует, причем своими просьбами он добился того самого имени друга и союзника, которое оскорбил оружием, а несчастный царь Кипра, всегда бывший нашим другом, нашим союзником, о котором ни сенату, ни нашим императорам никогда не было сообщено ни одного сколько-нибудь тяжкого подозрения, был, как говорится, «живым и зрячим» взят в казну вместе со всем своим достоянием. Как же могут быть уверены в своей судьбе другие цари, видя на примере этого злосчастного года, что при посредстве любого трибуна и нескольких сотен наймитов их возможно лишить их достояния и отнять у них царство?
(XXVIII, 60) Но даже славное имя Марка Катона пожелали запятнать поручением люди, не ведавшие, сколь сильны стойкость, неподкупность и величие духа, сколь сильна, наконец, доблесть, которая и в бурную непогоду бывает спокойна и светит во мраке, а изгнанная остается нерушимой и хранится в отечестве, сияет своим собственным блеском и не может быть затемнена мерзкими поступками других людей. Не возвеличить Марка Катона, а выслать его считали они нужным, не возложить, а взвалить на него это поручение. Ибо они открыто говорили на народной сходке, что вырвали язык у Марка Катона, всегда слишком свободно высказывавшегося против чрезвычайных полномочий[1628]. Вскоре они, надеюсь, почувствуют, что свобода эта сохраняется и что она — если только будет возможно — станет даже большей, так как Марк Катон, даже отчаявшись в возможности принести пользу своим личным авторитетом, все же сразился с этими консулами самим голосом своим, выражавшим скорбь, а после моего отъезда, оплакивая падение мое и государства, напал на Писона в таких выражениях, что этот пропащий и бесстыдный человек чуть ли не начал сожалеть о том, что добился наместничества. (61) Почему же Катон повиновался рогации? Словно он уже и ранее не клялся соблюдать и некоторые другие законы[1629], которые он считал тоже предложенными несправедливо! Он не вступил в открытую борьбу с безрассудными действиями с тем, чтобы государство без всякой для себя пользы не лишилось такого гражданина, как он[1630]. Когда он, в мое консульство, был избран в народные трибуны, он подверг свою жизнь опасности; внося предложение[1631], вызвавшее сильное недовольство, он предвидел, что может поплатиться за него своими гражданскими правами; он выступил резко, действовал решительно; что чувствовал, то и высказал открыто, был предводителем, вдохновителем, исполнителем во время тех общеизвестных событий — не потому, что не видел опасности, угрожавшей ему самому, но так как он во время такой сильной бури в государстве считал нужным не думать ни о чем другом, кроме опасностей, угрожавших государству.
(XXIX, 62) Затем он стал трибуном. К чему говорить мне о его исключительном величии духа и необычайной доблести? Вы помните тот день, когда он (в этот день храм был захвачен его коллегой, и все мы боялись за жизнь такого мужа и гражданина) с необычайной твердостью духа пришел в храм и успокоил кричавших людей своим авторитетом, а нападение бесчестных отразил своей доблестью[1632]. Он тогда пошел навстречу опасности, но сделал это по причине, о значительности которой мне теперь нет необходимости говорить. Но если бы он не повиновался той преступнейшей рогации о Кипре, государство было бы запятнано позором отнюдь не в меньшей степени; ведь рогация о самом Катоне, с упоминанием его по имени, была совершена уже после того, как царство было взято в казну. И вы сомневаетесь в том, что к Катону, отвергни он это поручение, была бы применена сила, так как показалось бы, что он один подрывает все, что было принято в этот год? (63) При этом он понимал также и следующее: коль скоро наше государство уже было запятнано взятием царства в казну, а этого пятна никто смыть не мог, то было полезнее, чтобы добро, которое могло бы достаться государству после всех зол, взял под свою охрану он сам, а не кто-либо другой. И какая бы любая другая сила ни изгнала его из нашего города, он все равно перенес бы это спокойно. И в самом деле, как мог он, годом ранее[1633] отказывавшийся бывать в сенате, где он все же видел бы меня участником своих государственных замыслов, спокойно оставаться в этом городе, после того как был изгнан я и в моем лице были осуждены как весь сенат, так и его собственное предложение? Нет, он отступил перед теми же обстоятельствами, что и я, перед бешенством того же человека, перед теми же консулами, перед теми же угрозами, кознями и опасностями. Бедствие я испытал большее, огорчение он — не меньшее.
(XXX, 64) На столь многочисленные и столь великие беззакония по отношению к союзникам, царям, независимым городским общинам[1634] консулы обязаны были заявить жалобу; ведь покровительству именно этих должностных лиц всегда поручались цари и чужеземные народы. Но прозвучал ли хоть раз голос консулов? Впрочем, кто стал бы их слушать, даже если бы они захотели жаловаться в полный голос? Да и разве пожалели бы о судьбе кипрского царя те люди, которые меня, гражданина, ни в чем не обвиненного, страдавшего во имя отечества, не только не защитили, пока я еще твердо держался на ногах, но даже не заслонили, когда я уже был повергнут наземь? Я отступил — если вы утверждаете, что плебс был мне враждебен, чего в действительно не было, — перед ненавистью; если ожидался всеобщий переворот — перед обстоятельствами; если подготовлялось насилие — перед оружием; если в деле были замешаны должностные лица — перед сговором; если существовала опасность для граждан — ради блага государства. (65) Почему тогда, когда предлагали проскрипцию о правах гражданина[1635] (уж не стану обсуждать, какого именно гражданина) и об его имуществе (хотя священными законами и Двенадцатью таблицами установлено, что предлагать привилегию[1636] о ком бы то ни было и совершать рогацию, касающуюся всей полноты гражданских прав, можно только в центуриатских комициях[1637]), голоса консулов слышно не было, почему в тот год — насколько это зависело от тех двух губителей нашей державы — было постановлено, что в собрании[1638], устроенном народным трибуном, возможно при посредстве мятежных наймитов на законном основании назвать имя любого гражданина и изгнать его из государства?
(66) Какие законы были объявлены в тот год, что́ многим сулили, что́ записывали, на что́ надеялись, что́ замышляли — стоит ли мне обо всем этом говорить? Какое место на земле не было уже распределено и предназначено тому или иному? Возможно ли было измыслить, пожелать, выдумать какое-либо официальное поручение, которое бы не было уже предоставлено и расписано? Какой только вид империя, вернее, какие только полномочия, какой только способ бить монету и выколачивать деньги не был изобретен? В какой области или в каком краю на земле, если только они были сколько-нибудь обширны, не было устроено царства? Какой царь не считал нужным в тот год либо купить то, чего у него не было, либо выкупить то, что у него было? Кто только у сената не выпрашивал наместничества, денег[1639], должности легата? Для людей, осужденных за насильственные действия[1640], подготовлялось восстановление в правах, соискание консульства — для самого «священнослужителя», знаменитого сторонника народа. Это удручало честных людей, обнадеживало бесчестных; это все проводил народный трибун, а консулы помогали.
(XXXI, 67) При таких обстоятельствах Гней Помпей, наконец, — позже, чем он сам хотел, и к крайнему неудовольствию тех, кто своими советами и внушенными ему ложными опасениями отвлек этого честнейшего и храбрейшего мужа от борьбы за мое восстановление в правах, — разбудил свою если еще и не усыпленную, то вследствие какого-то подозрения на время забытую им привычку заботиться о благе государства. Знаменитый муж, который своей доблестью победил и покорил преступнейших граждан[1641], злейших врагов, многочисленные народы, царей, дикие и неведомые нам племена, бесчисленные шайки морских разбойников[1642], а также и рабов[1643], который, завершив все войны на суше и на море, расширил державу римского народа до пределов мира, этот муж не допустил, чтобы вследствие злодеяния нескольких человек погибло государство, которое он не раз спасал не только своими разумными решениями, но и проливая свою кровь. Он снова приступил к государственной деятельности, авторитетом своим воспротивился тому, что угрожало, выразил свое недовольство тем, что произошло. Казалось, совершался какой-то поворот, позволявший надеяться на лучшее. (68) В июньские календы собравшийся в полном составе сенат единогласно принял постановление о моем возвращении из изгнания; докладывал Луций Нинний, чьи честность и доблесть, проявленные им в моем деле, не поколебались ни разу. Интерцессию совершил какой-то Лигур[1644], прихвостень моих недругов. Обстоятельства были уже таковы, а мое дело уже в таком положении, что оно, казалось, поднимало глаза и оживало. Всякий, кто в горестные для меня времена был сколько-нибудь причастен к злодейству Клодия, подвергался осуждению, куда бы он ни пришел, к какому бы суду ни был привлечен. Уже не находилось человека, который бы признался в том, что подал голос по моему делу. Брат мой выехал из Азии[1645] в глубоком трауре и в еще большем горе. Когда он подъезжал к Риму, все граждане со слезами и стонами вышли навстречу ему; более независимо заговорил сенат; спешно собирались римские всадники; зять мой Писон, которому не пришлось получить от меня и от римского народа награду за свою преданность, требовал от своего родича возвращения своего тестя; сенат отказывался рассматривать дела, пока консулы не доложат ему обо мне.
(XXXII, 69) Когда успех уже считался несомненным, когда консулы, связав себя сговором о провинциях и тем самым утратив какую бы то ни было независимость, в ответ на требования частных лиц внести в сенат предложение обо мне, говорили, что боятся Клодиева закона[1646], но уже не могли противиться этим требованиям, возник замысел убить Гнея Помпея. Когда он был раскрыт и оружие было захвачено[1647], Помпей, запершись, провел в своем доме все то время, пока мой недруг был трибуном. Промульгацию закона о моем возвращении из изгнания совершило восемь трибунов[1648]. Из этого можно было заключить не то, что у меня в мое отсутствие появились новые друзья (тем более в таком положении, когда даже из тех, кого я считал друзьями, некоторые мне друзьями не были), а что у моих друзей были всегда одни и те же стремления, но не всегда одна и та же возможность свободно проявлять их. Ибо из девяти трибунов, бывших ранее на моей стороне, один покинул меня в мое отсутствие — тот, кто себе присвоил прозвание самовольно, взяв его с изображений Элиев[1649], так что его имя, пожалуй, доказывает его принадлежность скорее к народу, чем к роду. (70) Итак, в тот же год, после избрания новых должностных лиц, когда все честные люди, доверяя им, стали твердо надеяться на улучшение общего положения, Публий Лентул первым взялся за мое дело и, опираясь на свои авторитет, подал за него свой голос[1650], несмотря на противодействие Писона и Габиния; на основании доклада восьмерых народных трибунов, он внес предложение, исключительно благоприятное для меня. Хотя он и видел, что для его славы и для высокой оценки его величайшего благодеяния более важно, чтобы это дело было отложено до его консульства, он все же предпочел, чтобы оно было завершено, хотя бы при посредстве других людей, возможно раньше, а не им самим, но позже.
(XXXIII, 71) Между тем, судьи, Публий Сестий, в это время избранный народный трибун, ради моего восстановления в правах ездил к Гаю Цезарю. О чем он говорил с Цезарем, чего достиг, не имеет отношения к делу[1651]. Я, правда, полагаю, что если Цезарь был настроен благожелательно, как думаю я, то поездка Сестия не принесла никакой пользы; если же Цезарь был несколько раздражен, то — небольшую; но вы все же видите рвение и искреннюю преданность Сестия. Перехожу теперь к его трибунату. Ведь эту первую поездку он как избранный трибун взял на себя ради блага государства; по его мнению, для согласия между гражданами и для возможности завершить дело было важно, чтобы Цезарь не отнесся к нему неблагожелательно. И вот, тот год истек. Казалось, люди вздохнули свободнее: если государство еще и не было восстановлено, то можно было надеяться на это. Выехали, при дурных знамениях и проклятиях, два коршуна в походных плащах[1652]. О, если бы все те пожелания, которые люди слали им вслед, обрушились на них! Мы не потеряли бы ни провинции Македонии, ни нашего войска, ни конницы и лучших когорт в Сирии[1653]. (72) Приступают к своим должностным обязанностям народные трибуны; все они заранее подтвердили, что объявят закон обо мне; первым из них мои недруги подкупают того, кого в это печальное время люди в насмешку прозвали Гракхом; ибо таков был рок, тяготевший над нашими гражданами: эта ничтожная полевая мышь, вытащенная из терновника, пыталась подточить государство![1654] Другой же, Серран — не тот знаменитый Серран, взятый от плуга, а Серран из захолустной деревни Гавия Олела, пересаженный семейным советом Гавиев к калатинским Атилиям, — вдруг, заприходовав в своей книге денежки, стер свое имя с доски[1655]. Наступают январские календы. Вам лучше знать все это, я же говорю то, о чем слыхал, — как многолюден был тогда сенат, как велико было стечение посланцев из всей Италии, каковы были доблесть, стойкость и достоинство Публия Лентула, какова была также и уступчивость его коллеги[1656], проявленная им по отношению ко мне: сказав, что между нами были нелады из-за наших разногласий насчет государственных дел, он заявил, что откажется от своей неприязни из внимания к отцам-сенаторам и положению государства.
(XXXIV, 73) Тогда Луций Котта, которому было предложено внести предложение первым[1657], сказал то, что было наиболее достойным государства: все, что было предпринято против меня, было сделано вопреки праву, обычаю предков, законам; никто не может быть удален из среды граждан без суда; о лишении гражданских прав возможно только в центуриатских комициях, не говорю уже — выносить приговор, но даже предлагать закон[1658]. Но в ту пору господствовало насилие, потрясенное государство пылало, все было в смятении; право и правосудие были уничтожены; когда нам угрожал великий переворот, я несколько отступил и в надежде на будущее спокойствие бежал от тогдашних волнений и бурь; поэтому, так как я, отсутствуя, избавил государство от опасностей, не менее страшных, чем те, от которых я некогда избавил его, присутствуя, то сенат должен не только восстановить меня в правах, но и оказать мне почести. Далее Котта основательно обсудил и многое другое, указав, что этот обезумевший и преступный враг чести и стыдливости все записанное им относительно меня записал так (это касается выражений, содержания и выводов), что оно, даже будь оно предложено в законном порядке, все же не может иметь силы; поэтому меня, коль скоро я удален не на основании закона, следует не восстанавливать в правах изданием закона, а призвать обратно решением сената. Не было человека, который бы не сказал, что все сказанное Коттой — чистая правда. (74) Но когда после Котты спросили Гнея Помпея о его мнении, то он, одобрив и похвалив предложение Котты, сказал, что ради моего спокойствия — дабы избежать какого бы то ни было волнения в народе — он находит нужным, чтобы к суждению сената была присоединена также и милость римского народа, которую тот мне окажет[1659]. После того как все присутствовавшие, состязаясь друг с другом, один убедительнее и изощреннее другого, высказали свое мнение о моем восстановлении в правах и когда без каких-либо разногласий уже происходило голосование[1660], поднялся, как вы знаете, Атилий, этот вот — Гавиан; но он, хотя и был куплен, все же не осмелился совершить интерцессию; он потребовал для себя ночи на размышление; крик сенаторов, сетования, просьбы; его тесть[1661] бросился ему в ноги; он стал уверять, что на следующий день не будет затягивать дело. Ему поверили, разошлись. Пока тянулась длинная ночь, ему, любителю подумать, плата была удвоена. Оставалось всего несколько дней в январе месяце, в которые сенату разрешается собираться[1662]; но не было рассмотрено ни одного дела, кроме моего.
(XXXV, 75) Хотя решению сената и препятствовали всяческими проволочками, издевательскими уловками и мошенничеством, наконец, наступил день, когда мое дело должно было обсуждаться в собрании, — за семь дней до февральских календ. Первое лицо, поддерживающее предложение, мой ближайший друг Квинт Фабриций занял храм[1663] еще до рассвета. Сестий — тот, кого обвиняют в насильственных действиях, в этот день не предпринимал ничего. Этот деятельный борец за мое дело не выступает, он хочет узнать намерения моих недругов. А что же делают те люди, по чьему замыслу Публий Сестий привлекается к суду? Как ведут себя они? Захватив глубокой ночью с помощью вооруженных людей и многочисленных рабов форум, комиций и Курию[1664], они нападают на Фабриция, сражаются врукопашную, нескольких человек убивают, многих ранят. (76) Народного трибуна Марка Циспия, честнейшего и непоколебимейшего мужа, явившегося на форум, выгоняют насильно, учиняют на форуме жесточайшую резню и все с обнаженными окровавленными мечами в руках начинают искать по всему форуму и громко звать моего брата, честнейшего мужа, храбрейшего и меня горячо любящего. Горюя и сильно тоскуя по мне, он охотно встретил бы грудью удар их оружия — не для того, чтобы его отразить, но чтобы умереть, — если бы не оберегал своей жизни, надеясь на мое возвращение. И все же он подвергся беззаконнейшему насилию от руки преступников и разбойников и, явившись ходатайствовать перед римским народом о восстановлении брата в его правах, он, сброшенный с ростр, лежал на комиции под телами рабов и вольноотпущенников; потом он спасся бегством под покровом ночи, а не под защитой права и правосудия[1665]. (77) Вы помните, судьи, как Тибр тогда был переполнен телами граждан, как ими были забиты сточные канавы, как кровь с форума смывали губками, так что, по общему мнению, все было поставлено так пышно, подготовлено так великолепно, что казалось делом рук не частного лица и плебея, а патриция и притом претора[1666].
(XXXVI) Ни до того времени, ни в этот тревожнейший день вы Сестия не обвиняли ни в чем. — «Но все же на форуме были совершены насильственные действия». — Несомненно; когда они были более устрашающими? Избиение камнями мы видели очень часто; не так часто, но все же слишком часто — обнаженные мечи. Но кто видел когда-либо на форуме такую жестокую резню, такие груды тел? Пожалуй, только в памятный нам день Цинны и Октавия[1667]. А что породило такую смуту? Ведь мятеж часто возникает из-за упорства и непоколебимости лица, совершившего интерцессию, или по вине и по бесчестности лица, предложившего закон, после того как неискушенных людей соблазнят какими-либо выгодами, или же из-за подкупа. Мятеж возникает в связи с борьбой между должностными лицами, возникает постепенно, сначала из криков; затем начинается раскол на народной сходке; только нескоро и редко дело доходит до схватки врукопашную. Но кто слышал, чтобы мятеж вспыхнул ночью, когда не было произнесено ни слова, народной сходки не созывали, никакого закона не вносили? (78) Можно ли поверить тому, что на форум, с целью помешать внесению закона насчет меня, с мечом в руках спустился римский гражданин или вообще свободный человек, если не говорить о тех, кого этот несущий погибель и пропащий гражданин уже давно вспаивает кровью государства?[1668] Здесь я спрашиваю уже самого обвинителя, заявляющего жалобу на то, что Публий Сестий во время своего трибуната был окружен множеством людей и большой стражей: были ли они при нем в тот день? Несомненно, нет. Следовательно, дело государства потерпело поражение и потерпело его не на основании авспиций, не вследствие интерцессии или голосования, а из-за насильственных действий, рукопашной схватки, применения оружия. Если бы по отношению к Фабрицию совершил обнунциацию тот претор, который, как он говорил, производил наблюдения за небесными знамениями[1669], то государству, правда, был бы нанесен удар, но такой, который оно могло бы оплакивать; если бы интерцессию по отношению к Фабрицию совершил его коллега, то последний, правда, причинил бы государству ущерб, но причинил бы его согласно законам государства. Но чтобы ты[1670] еще до рассвета посылал новичков-гладиаторов, собранных тобой под предлогом ожидаемого эдилитета, вместе с убийцами, выпущенными из тюрьмы, чтобы ты сбрасывал должностных лиц с храма, учинял страшнейшую резню, очищал форум и, совершив все это вооруженной силой, обвинял того, кто себя обеспечил охраной не для того, чтобы напасть на тебя, но чтобы быть в состоянии защитить свою жизнь![1671]
(XXXVII, 79) Но Сестий даже после этого не постарался обеспечить себя охраной из своих сторонников, чтобы в безопасности выполнять свои должностные обязанности на форуме и ведать делами государства. И вот, будучи уверен в неприкосновенности трибуна, считая себя огражденным священными законами не только от насилия и меча, но даже и от оскорбления словами и от вмешательства во время произнесения речи, он пришел в храм Кастора и заявил консулу[1672] о неблагоприятных знамениях, как вдруг хорошо знакомый нам сброд Клодия, уже не раз выходивший победителем из резни граждан, поднял крик, разъярился и напал на него; на безоружного и застигнутого врасплох трибуна одни набросились с мечами в руках, другие — с кольями из ограды[1673] и с дубинами. Получив много ран, ослабевший и исколотый Сестий упал бездыханный и спасся от смерти только благодаря тому, что его сочли мертвым. Видя его лежащим и израненным, испускающим дух, бледным и умирающим, они, наконец, перестали его колоть — скорее ввиду усталости и по ошибке, чем проявив сострадание и опомнившись. (80) И Сестия привлекают к суду за насильственные действия? Почему же? Потому, что он остался жив. Но это не его вина: недоставало последнего удара; если бы добавили его, Сестий испустил бы дух. Обвиняй Лентидия: он нанес удар неудачно. Ругай Тиция, сабинянина из Реаты, за то, что он так необдуманно воскликнул: «Убит!» Но почему ты обвиняешь самого Публия Сестия? Разве он отступил перед мечами, разве он отбивался, разве он, как это обычно велят гладиаторам, не принял удары мечом?[1674]
(XXXVIII) Или «насильственные действия» заключаются именно в том, что он остался жив? Или же они в том, что народный трибун обагрил своей кровью храм? Или — в том, что Сестий, после того как его унесли, не велел отнести себя обратно, едва придя в себя? (81) В чем здесь преступление? Что ставите вы ему в вину? Вот я и спрашиваю, судьи: если бы эти отпрыски Клодиева рода завершили то, что хотели совершить, если бы Публий Сестий, которого оставили в покое, приняв за убитого, действительно был убит, были бы вы готовы взяться за оружие? Были бы вы готовы проявить прославленное мужество отцов и доблесть предков? Были бы вы, наконец, готовы вырвать государство из рук этого зловредного разбойника? Или же вы бездействовали бы, медлили бы, боялись бы даже тогда, когда видели бы, что государство уничтожено и растоптано преступнейшими убийцами и рабами? Итак, коль скоро за смерть Публия Сестия вы бы отомстили, то — если только вы действительно думаете быть свободными и сохранить государство — можете ли вы сомневаться в том, что́ вы должны говорить, чувствовать, думать, какой вынести приговор о его доблести, раз он остался жив? (82) Или же те самые братоубийцы, чье разнузданное бешенство поддерживается продолжительной безнаказанностью, действительно почувствовали такой страх перед последствиями своего собственного деяния, что в случае, если бы уверенность в смерти Сестия продержалась немного дольше, стали бы подумывать, не убить ли им пресловутого Гракха, чтобы свалить это преступление на нас? Он, не лишенная осторожности деревенщина (ведь негодяи молчать не могли), почувствовал, что его крови жаждут, чтобы успокоить возмущение, вызванное злодеянием Клодия; он схватил свой плащ погонщика мулов, в котором когда-то приехал в Рим на выборы, и прикрылся корзиной для сбора урожая. В то время как одни искали Нумерия, а другие — Квинция, он спасся благодаря недоразумению из-за своего двойного имени[1675]. И вы все знаете, что ему грозила опасность, пока не выяснилось, что Сестий жив. Если бы это не обнаружилось несколько ранее, чем мне хотелось бы, то они, убив своего наймита, правда, не могли бы направить ненависть против тех, против кого хотели, но их меньше стали бы осуждать за первое жесточайшее злодеяние, так как их второе злодеяние, так сказать, было бы людям по сердцу. (83) А если бы Публий Сестий, судьи, тогда, в храме Кастора, испустил дух, который он едва сохранил, то ему, не сомневаюсь, — во всяком случае, если бы в государстве существовал сенат, если бы величество римского народа возродилось, — рано или поздно была бы воздвигнута статуя на форуме как человеку, павшему за дело государства. И ни один из тех, кому после их смерти, как видите, предки наши поставили статуи на этом месте, установив их на рострах[1676], ни по мучительности своей смерти, ни по своей верности государству не заслуживал бы более высокой оценки, чем Публий Сестий, который взялся за дело гражданина, сраженного несчастьем, за дело друга, человека с большими заслугами перед государством, за дело сената, Италии, государства; ведь он, совершая в соответствии с авспициями и религиозным запретом обнунциацию о том, что наблюдал, мог быть убит при свете дня, в присутствии всех, нечестивым губителем перед лицом богов и людей в священнейшем храме, защищая священнейшее дело, будучи неприкосновеннейшим должностным лицом. Итак, скажет ли кто-нибудь, что Публия Сестия следует лишить почета, когда он жив, коль скоро вы в случае его смерти сочли бы нужным почтить его памятником на вечные времена?
(XXXIX, 84) «Ты, — говорит обвинитель, — подкупил, собрал, подготовил людей». Для чего? Разве для того, чтобы осаждать сенат[1677], изгонять граждан, не осужденных судом, расхищать их имущество, поджигать здания, разрушать дома, предавать пламени храмы бессмертных богов[1678], сбрасывать мечом народных трибунов с ростр, распродавать провинции, какие вздумается и кому вздумается, провозглашать царей, при посредстве наших легатов отправлять людей, осужденных за государственные преступления, в независимые города, с мечом в руках держать в осаде нашего первого гражданина?[1679] И чтобы иметь возможность это совершить, — а это было бы осуществимо только после уничтожения государства вооруженной силой — именно с этой целью Публий Сестий и подготовил для себя шайку и сильные отряды? — «Но для этого время еще не наступило, сами обстоятельства еще не заставили честных мужей прибегнуть к такой охране». — Лично я был изгнан, правда, не одним твоим отрядом, но все же не без его участия; вы горевали, храня молчание. (85) Два года назад форум был захвачен, после того как храм Кастора, словно какую-то крепость, заняли беглые рабы; вы — ни слова. Все совершалось под крики и при стечении пропащих, нищих и наглых людей, насилием и рукопашными схватками, вы это терпели. Должностных лиц прогоняли из храмов, другим вообще не позволяли даже войти на форум; отпора не давал никто. Гладиаторы из свиты претора были схвачены и приведены в сенат; они сознались, Милон наложил на них оковы, Серран их выпустил[1680]; никто об этом даже не упомянул. После ночной резни форум был завален телами римских граждан; не только не было назначено чрезвычайного суда[1681], но даже был отменен разбор дел, принятых ранее[1682]. Вы видели народного трибуна лежащим при смерти более чем с двадцатью ранами; на дом другого народного трибуна[1683] (скажу то, что́ вместе со мной чувствуют все), человека, вдохновленного богами, наделенного замечательным, невиданным, необычайным величием духа, строгостью взглядов, честностью, войско Клодия напало с оружием в руках и с факелами.
(XL, 86) Даже и ты сам[1684] в связи с этим хвалишь Милона и притом справедливо. И действительно, видели ли мы когда-либо мужа столь бессмертной доблести? Мужа, который, не имея в виду никакой награды, кроме награды, считающейся уже дешевой и презренной, — признания со стороны честных людей — пошел на все опасности, на необычайные труды, на тяжелейшую борьбу и вражду; который, как мне кажется, единственный из всех граждан, сумел на деле, а не на словах показать, как подобает поступать выдающимся мужам в их государственной деятельности и как они вынуждены поступать. Им подобает при помощи законов и правосудия давать отпор злодеяниям наглых людей, разрушителей государства; но если законы бессильны и правосудия не существует, если государство находится во власти наглецов, стакнувшихся между собой, то выдающиеся мужи вынуждены защищать свою жизнь и свободу военной силой. Так думать свойственно благоразумию, так поступать — храбрости; так думать и так поступать свойственно совершенной и законченной доблести. (87) Защиту дела государства взял на себя Милон как народный трибун; о его заслугах я скажу подробнее (не потому, что сам он предпочитает, чтобы это говорили вслух, а не думали про себя, а также и не потому, что я в его присутствии воздаю ему эту награду за заслуги особенно охотно, хотя и не могу для этого найти подходящих слов), так как вы, я полагаю, поймете, — если я докажу, что сам обвинитель расхвалил действия Милона, — что в отношении этого обвинения положение Сестия ничем не отличается от положения Милона; итак, Тит Анний взял на себя защиту дела государства, желая возвратить отчизне гражданина, отнятого у нее. Дело совершенно ясное, решение непоколебимое, полное единомыслие между всеми, полное согласие. Коллеги были помощниками ему; необычайное рвение одного консула, почти благожелательное отношение другого[1685], из числа преторов противником был один; необычайная решимость сената; римские всадники, горящие желанием помочь делу; поднявшаяся Италия. Только двоих подкупили, дабы они чинили препятствия[1686]. Милон понимал, что эти ничтожные и презренные люди не смогут справиться с такой большой задачей и что он без всякого труда выполнит дело, взятое им на себя. Он действовал своим авторитетом, действовал разумно, действовал при посредстве высшего сословия, действовал по примеру честных и храбрых граждан. Что соответствует достоинству государства, что — его собственному достоинству, кто такой он сам, на что он должен надеяться, к чему его обязывает его происхождение — все это он обдумывал тщательнейшим образом.
(XLI, 88) А тот гладиатор понимал, что он, действуя подобающим образом, помериться силами с таким достойным человеком не сможет. Вместе со своим войском он стал учинять резню изо дня в день, поджоги, грабежи; начал нападать на дом Милона, попадаться ему на дороге, тревожить и устрашать его насилием. Это не оказало никакого действия на человека, в высшей степени стойкого и непоколебимого; но, хотя негодование, врожденное чувство свободы, явная для всех и выдающаяся доблесть и побуждали храбрейшего мужа сломить и отразить силу силой, тем более силу, которую направляли против него уже не раз, его самообладание, его рассудительность были столь велики, что он сдерживал свое возмущение и не мстил теми же средствами, какими на него нападали; того, кто уже столько раз ликовал и плясал на похоронах государства, он пытался по возможности связать законами как путами. (89) Тит Анний спустился на форум, чтобы обвинять[1687]. Кто когда-либо поступал так лишь ради блага государства, без всякой личной вражды, без расчетов на награду[1688], без требования окружающих и даже без ожидания, что он когда-либо так поступит? Клодий пал духом: при обвинителе в лице Тита Анния он терял надежду на то, что суд поведет себя так же постыдно, как когда-то[1689]. Но вот вдруг консул, претор, народный трибун[1690] издают необычные эдикты в необычном роде: чтобы обвиняемый не являлся, чтобы его не вызывали в суд, не допрашивали, вообще чтобы никому не дозволялось даже упоминать о судьях или о правосудии. Что было делать мужу, рожденному для доблести, для высокого положения, для славы, когда силы преступных людей получили поддержку, а законы и правосудие были уничтожены? Должен ли был народный трибун подставить свое горло под удар частного лица, самый выдающийся муж — под удар самого презренного человека, или, может быть, ему следовало отказаться от дела, взятого им на себя, запереться дома? Он решил, что позорно и потерпеть поражение, и поддаться угрозам, и скрываться. Так как ему нельзя было применить к Клодию законы, он постарался о том, чтобы ему не пришлось страшиться насилия и подвергать опасности и себя, и государство[1691].
(XLII, 90) Как же ты предъявляешь Сестию обвинение в том, что он обеспечил себя охраной, когда ты за это же самое одобряешь Милона? Или тот, кто защищает свой кров, кто отражает меч и пламя от алтарей и очагов, кто хочет, не подвергаясь опасности, бывать на форуме, на храме, в Курии, тот законно обеспечивает себя охраной, а тот, кому раны, которые он каждый день видит на своем теле, напоминают о необходимости защищать свою голову, шею, горло, грудь, по твоему мнению, должен быть обвинен в насильственных действиях? (91) Кто из нас, судьи, не знает, что, по велению природы, в течение какого-то времени, когда еще не было установлено ни естественного, ни гражданского права[1692], люди, рассеявшись, кочевали, блуждая по земле, и владели лишь тем, что путем насилия и борьбы, убивая и нанося раны, могли или захватить или удержать? И вот те, которые первыми проявили выдающуюся доблесть и мудрость, постигли, что человек обладает способностью к развитию и прирожденным умом; они собрали разбредшихся людей в одно место, вывели их из состояния дикости и направили по пути справедливости и миролюбия. Затем они, установив право божественное и человеческое, огородили стенами общеполезное имущество, которое мы называем государственным, далее — места небольших совместных поселений, названные впоследствии общинами, затем — объединенные места жительства, которые мы называем городами[1693]. (92) Между нашей жизнью, утонченной и облагороженной, и прежней, дикой, главным различием является власть законов или господство силы: прибегать к силе мы не хотим, законами же руководствоваться следует. Насилие мы хотим уничтожить; необходимо, чтобы действовали законы, то есть правосудие, которым поддерживается всякое право. Если нам неугодно правосудие или если его вообще нет, господство силы неминуемо. Это понимают все. Милон понял это и постарался, чтобы право возобладало, а насилие было устранено. Он обратился к законам, дабы доблестью победить преступность; силой он воспользовался лишь по необходимости, дабы доблесть не была побеждена преступностью. Таким же путем пошел и Сестий: он, правда, не выступил как обвинитель (ведь не всем надо делать одно и то же), но, ввиду необходимости защищать свою жизнь, обеспечил себя охраной против насилия и нападений.
(XLIII, 93) О, бессмертные боги! Какой конец уготовали вы нам? Какую надежду подаете вы государству? Много ли найдется столь доблестных мужей, чтобы взяться за любое честнейшее государственное дело, усердно послужить честным мужам, искать прочной и истинной славы? Ведь всякий знает, что из тех двоих, можно сказать, губителей государства — Габиния и Писона — первый изо дня в день черпает из сокровищниц мирной и богатейшей страны, Сирии, неисчислимые запасы золота, объявляет войну мирным народам, чтобы швырять их древние и неоскудевающие богатства в бездонную пучину своего разврата, строить у всех на виду такую большую усадьбу, что уже хижиной кажется та усадьба, изображение которой он, в бытность свою народным трибуном, когда-то показывал на сходках (этим он — бескорыстный и ничуть не алчный человек! — старался возбудить ненависть к храбрейшему и выдающемуся гражданину[1694]). (94) Всякий знает, что второй[1695] сначала потребовал огромные деньги от фракийцев и дарданцев за сохранение мира с ними, а потом, чтобы они эти деньги могли собрать, отдал им Македонию на разорение и разграбление; что он поделился с должниками-греками имуществом их заимодавцев, римских граждан; что он взыскивает огромные суммы с жителей Диррахия[1696], обирает фессалийцев, потребовал от ахеян ежегодного взноса определенной суммы денег, но при этом не оставил ни в одном общественном, ни в одном священном месте ни статуи, ни картины, ни украшения; что так нагло ведут себя люди, которые по всей справедливости подлежат любой казни, любому наказанию, а вот эти двое, которых вы видите[1697], напротив, обвинены! Не говорю уже о Нумерии, о Серране, об Элии, об этих подонках из Клодиевой шайки мятежников; эти люди, как видите, и теперь храбрятся, и пока вы будете хоть сколько-нибудь бояться за себя, им страшиться за себя не придется никогда.
(XLIV, 95) Далее, к чему мне говорить о самом эдиле[1698], который даже назначил день явки в суд и обвинил Милона в насильственных действиях? Никакой несправедливостью не удастся заставить Милона раскаяться в проявленной им выдающейся доблести и столь большой преданности государству. Но что станут думать юноши, видящие это? Тот, кто подверг осаде, разрушил, поджег воздвигнутые государством памятники[1699], священные храмы, дома своих недругов[1700], кто всегда был окружен убийцами, находился под охраной вооруженных людей, под защитой доносчиков, каковых теперь множество; тот, кто составил отряд из преступников-чужеземцев[1701], скупил рабов, способных на убийство, а во время своего трибуната выпустил из тюрем на форум всех заключенных, появляется всюду как эдил, обвиняет того человека, который в какой-то мере сдержал его безудержное бешенство. А тому, кто оборонялся, защищая в частном деле своих богов-пенатов, а в государственном — права трибуната и авспиций[1702], тому, используя авторитет сената, не позволили с умеренностью обвинять того, кто его самого обвиняет беззаконно[1703] (96) Очевидно, в связи с этим ты именно меня и спросил в своей обвинительной речи, что это за «порода людей — оптиматы», о которых я упомянул. Ведь ты именно так и сказал. Ты задаешь вопрос, превосходный для обучения молодежи; разъяснить его мне не трудно. Скажу об этом вкратце, судьи, и речь моя, думается мне, не окажется ни бесполезной для слушателей, ни несогласной с вашим долгом, ни неуместной в деле Публия Сестия.
(XLV) Среди наших граждан было два рода людей, стремившихся участвовать в государственной деятельности и играть в государстве выдающуюся роль: одни из этих людей хотели и считаться и быть популярами, другие — оптиматами. Те, кто хотел, чтобы их поступки и высказывания были приятны толпе, считались популярами, а те, кто действовал так, чтобы их решения находили одобрение у всех честнейших людей, считались оптиматами[1704]. (97) «Кто же в таком случае все эти честнейшие люди, как ты их называешь?» По численности своей они, если хочешь знать, неисчислимы (ведь иначе мы не могли бы держаться); это — руководители государственного совета; это — те, кто следует за ними; это — люди из важнейших сословий[1705], для которых открыт доступ в Курию; это — жители римских муниципиев и сел; это — дельцы; есть даже вольноотпущенники-оптиматы. Как я уже сказал, число людей этого рода велико, они встречаются повсюду и по своему составу не однородны; но всех их в целом, дабы не возникало недоразумения, можно определить кратко и точно. Оптиматы — все те, кто не преступен, кто от природы не склонен ни к бесчестности, ни к необузданности, кто не обременен расстроенным состоянием. Следовательно, те, кого ты назвал «породой людей», — люди неподкупные, здравомыслящие и живущие в достатке. Те, которые при управлении государством сообразуются с их волей, выгодами, чаяниями, считаются защитниками оптиматов и сами являются влиятельнейшими оптиматами, прославленными гражданами и первыми людьми в государстве. (98) Итак, какую цель должны видеть перед собой эти кормчие государства, на что смотреть, куда направлять свой путь? Самое важное и наиболее желательное для всех здравомыслящих, честных и благоденствующих — это покой в сочетании с достоинством. Те, кто этого хочет, все считаются оптиматами; те, кто это осуществляет, — выдающимися мужами и охранителями государства. Ведь людям не подобает ни настолько гордиться достоинством, достигнутым деятельностью, чтобы не заботиться о своем покое, ни ценить высоко какой бы то ни было покой, если он не совместим с достоинством[1706].
(XLVI) И вот, основами для этого достоинства, сочетающегося с покоем и началами, оберегать и защищать которые должны все первые в государстве люди даже с опасностью для своей жизни, являются религиозные установления, авспиции, власть должностных лиц, авторитет сената, законы, заветы предков, уголовный и гражданский суд, кредит, провинции, союзники, слава нашей державы, военное дело, эрарий. (99) Чтобы быть поборником и защитником всего этого строя, столь многостороннего и столь важного, надо обладать величием духа, величием ума и великой непоколебимостью. И действительно, при таком большом числе граждан очень много таких, кто либо из страха перед наказанием, сознавая свои проступки, стремится к новым смутам и переворотам в государстве, либо вследствие, так сказать, врожденного безумия упивается раздорами среди граждан и мятежами, либо вследствие запутанности своих имущественных дел предпочитает погибнуть в пламени всеобщего пожара, а не сгореть в одиночку. Всякий раз, когда такие люди находят вдохновителей и руководителей для своих порочных стремлений, в государстве начинаются волнения, так что тем, кто твердо держит кормило отечества в своих руках, приходится бодрствовать и применять все свое знание и рвение, дабы, сохранив то, что я выше назвал основами и началами, держать правильный путь и прийти в гавань покоя и достоинства. (100) Если бы я, судьи, стал отрицать, что дорога эта сурова, трудна и полна опасностей и козней, то я солгал бы — тем более, что я не только всегда это понимал, но даже испытал это на себе сильнее, чем кто-либо другой.
(XLVII) Вооруженные силы и отряды, осаждающие государство, более многочисленны, чем защищающие его, так как чуть кивнешь дерзким и пропащим людям — и они уже пришли в движение, да они даже и по своей охоте восстают против государства; а вот честные люди почему-то мало деятельны, упускают из виду начало событий и только по необходимости, когда дело уже идет к концу, начинают действовать. Таким образом, они, желая сохранить покой даже без достоинства, иногда из-за своей медлительности и нерешительности лишаются и того и другого по собственной вине. (101) Что же касается людей, пожелавших быть защитниками государства[1707], то менее стойкие покидают ряды, несколько трусливые заранее уклоняются. Остаются непоколебимы и выносят все ради государства только такие люди, каким был твой отец, Марк Скавр[1708], дававший отпор всем мятежникам, начиная с Гая Гракха и вплоть до Квинта Вария; ведь его ни разу не заставили поколебаться ни насилие, ни угрозы, ни ненависть; или такие, каким был Квинт Метелл[1709], дядя твоей матери, который как цензор вынес порицание человеку, чрезвычайно влиятельному среди народа, — Луцию Сатурнину, и, несмотря на насилие возбужденной толпы, отказал в цензе самозванному Гракху[1710], был единственным человеком, не согласившимся поклясться в соблюдении того закона, который он считал внесенным вопреки праву, и предпочел отказаться от пребывания в государстве, но не от своего мнения; или — оставим примеры из давнего прошлого, число которых достойно славы нашего государства, и не станем называть никого из живущих — такие люди, каким был недавно умерший Квинт Катул[1711], которого ни опасные бури, ни легкий ветерок почета никогда не могли сбить с пути, ни подавая надежду, ни устрашая.
(XLVIII, 102) Этим примерам — во имя бессмертных богов! — подражайте вы, которые стремитесь к высокому положению, к хвале, к славе! Вот высокое, вот божественное, вот бессмертное! Оно прославляется молвой, передается памятниками летописей, увековечивается для потомков. Это — труд, не отрицаю; опасности велики, признаю.
Много козней против честных.Это сказано совершенно справедливо; но, как говорит поэт:
То, что зависть вызвать может, то, к чему толпа стремится, Без усилий и заботы безрассудно и желать[1712].О, если бы тот же поэт не сказал в другом месте слов, которые бесчестные граждане готовы подхватить:
Пусть ненавидят, лишь бы боялись![1713]Ведь он, как мы видели, дал молодежи такие прекрасные наставления. (103) Но все же этот путь и этот способ вести государственные дела[1714] уже давно был сопряжен со значительными опасностями, когда стремления толпы и выгоды народа во многом шли вразрез с интересами государства. Луций Кассий предложил закон о голосовании подачей табличек[1715]. Народ думал, что дело идет о его свободе. Иного мнения были первые люди в государстве, которые радели о благе оптиматов и страшились безрассудства толпы и произвола при подаче табличек. Тиберий Гракх предлагал земельный закон[1716]; он был по сердцу народу; благополучие бедняков он, казалось, обеспечивал; оптиматы противились ему, так как видели, что это вызывает раздоры, и полагали, что, коль скоро богатых удалят из их давних владений, государство лишится защитников. Гай Гракх предлагал закон о снабжении хлебом, бывший по душе плебсу, которому щедро предоставлялось пропитание без затраты труда, этому противились честные мужи, считая, что это отвлечет плебс от труда и склонит его к праздности, и видя, что это истощит эрарий.
(XLIX) Также и на нашей памяти из-за многого, о чем я сознательно умалчиваю[1717], происходила борьба, так как желания народа расходились со взглядами первых людей в государстве. (104) Но как раз теперь больше нет оснований для разногласий между народом и избранными и первенствующими людьми, и народ ничего не требует, не жаждет государственного переворота и радуется мирной жизни, какую он ведет, высокому положению всех честнейших людей и славе всего государства. Поэтому мятежные и неспокойные люди уже не могут одной только щедростью возбудить волнения в римском народе, так как плебс, переживший сильные мятежи и раздоры, ценит спокойствие; они собирают на сходки людей, подкупленных ими, и даже не стараются говорить и предлагать то, что этим людям было бы действительно по сердцу; но, платя им и награждая их, добиваются того, что их слушатели делают вид, будто охотно слушают все, что бы им ни говорили. (105) Неужели вы думаете, что Гракхи, или Сатурнин, или кто-нибудь из тех древних, считавшихся популярами, располагал когда-либо на сходке хотя бы одним наймитом? Никто. Ведь сама щедрая раздача и надежда на предстоящую выгоду возбуждали толпу и без какой-либо платы. Поэтому в те времена популяры, правда, вызывали недовольство в значительных и почтенных людях, но благодаря признанию и всяческим знакам одобрения со стороны народа были в силе; им рукоплескали в театре, при голосовании они достигали того, к чему стремились; людям были милы их имена, их речи, выражение лица, осанка. Их противники считались людьми с весом и значением, но, хотя в сенате они и пользовались большим влиянием, а у честных мужей — величайшим, толпе они угодны не были; при голосовании их намерения часто терпели поражение; а если кого-нибудь из них когда-либо и встречали рукоплесканиями, то этот человек начинал бояться, не совершил ли он какой-нибудь ошибки. Но все же в более важных делах тот же самый народ внимательнейшим образом прислушивался к их советам.
(L, 106) Но теперь, если не ошибаюсь, настроение таково, что все граждане, если удалить шайки наймитов, видимо, будут одного и того же мнения о положении государства. Ибо суждение римского народа и его воля могут проявляться более всего в трех местах: на народной сходке, в комициях, при собраниях во время театральных представлений и боев гладиаторов[1718]. На какой народной сходке за последние годы — если только это было не сборище наймитов, а настоящая сходка — не было возможности усмотреть единодушие римского народа? Преступнейший гладиатор созвал по моему делу много сходок, на которые приходили одни только подкупленные, одни только корыстные люди; никто, оставаясь честным человеком, не мог смотреть на его мерзкое лицо, не мог слышать голоса этой фурии. Эти сходки пропащих людей неизбежно становились бурными. (107) Созвал — опять-таки по моему делу — консул Публий Лентул народную сходку; поспешно собрался римский народ; все сословия, вся Италия присутствовали на этой сходке. Он убедительно и красноречиво изложил дело при таком глубоком молчании, при таком одобрении со стороны всех, что казалось, будто до ушей римского народа никогда не доходило ничего, что было бы столь угодным народу. Он предоставил слово Гнею Помпею, который выступил перед римским народом не только как вдохновитель дела моего восстановления в правах, но и как проситель. Если его речь всегда была доходчива и по сердцу народной сходке, то его предложения, настаиваю я, никогда не были более убедительными, а его красноречие — более приятным. (108) В какой тишине присутствовавшие выслушали и других наших первых граждан, говоривших обо мне! Не называю их здесь, чтобы не быть неблагодарным, сказав о ком-нибудь меньше, чем следует, и чтобы речь моя не показалась бесконечной, если я достаточно скажу обо всех. Перейдем теперь к речи моего недруга, произнесенной им на народной сходке на Марсовом поле опять-таки обо мне и обращенной к подлинному народу[1719]. Был ли кто-нибудь, кто не осудил ее, кто не признал позорнейшим преступлением того, что Клодий, не говорю уже — выступает с речью, но вообще жив и дышит? Нашелся ли человек, который не подумал, что голос Публия Клодия позорит государство и что, слушая его, сам он участвует в злодеянии?
(LI, 109) Перехожу к комициям; если хотите — к комициям по выбору должностных лиц или к комициям по изданию законов. Мы часто видим, что предлагают много законов. Умалчиваю о тех законах, которые предлагают при таких условиях, что для голосования едва находится по пяти человек из каждой и притом из чужой трибы[1720]. Этот самый губитель государства говорит, что обо мне, человеке, которого он называл тиранном и похитителем свободы, он предложил закон. Найдется ли человек, который бы сознался в том, что при проведении закона, направленного против меня, он подал свой голос? И, напротив, кто откажется громогласно заявить, что он присутствовал и подал свой голос за мое восстановление в правах, когда на основании постановления сената в центуриатских комициях проводился закон опять-таки обо мне? Итак, какое же из двух дел должно казаться угодным народу: то ли, в котором все уважаемые люди в государстве, все возрасты, все сословия проявляют полное единодушие, или же то, в котором разъяренные фурии как бы слетаются на похороны государства? (110) Или народу будет угодно любое дело, стоит только в нем участвовать Геллию, человеку, недостойному ни своего брата, прославленного мужа и честнейшего консула[1721], ни сословия всадников, каковое звание он сохраняет, утратив присвоенные ему отличия?[1722] — «Но ведь этот человек предан римскому народу». — Да, пожалуй, более преданного человека я не видел. Человек, который в юности мог блистать благодаря необычайно высокому положению своего отчима, выдающегося мужа, Луция Филиппа[1723], был настолько далек от народа, что промотал свое имущество один. Затем, после мерзко и развратно проведенной юности, он довел состояние отца, достаточное для среднего человека, до имущества нищего философа, захотел считаться «греком» и погруженным в науки человеком и вдруг посвятил себя литературным занятиям. Прелести его чтеца[1724] не доставляли ему никакого удовольствия; зачастую он даже оставлял книги в залог за вино; ненасытное брюхо оставалось, а средств не хватало Таким образом, он всегда жил надеждой на переворот; при спокойствии и тишине в государстве он увядал.
(LII) В каком мятеже не был он вожаком? Какому мятежнику не был он близким другом? Какая бурная народная сходка была устроена не им? Какому честному человеку когда-либо сказал он доброе слово? Доброе слово? Какого храброго и честного гражданина не преследовал он самым наглым образом? Ведь он — я в этом уверен — даже на вольноотпущеннице женился вовсе не по влечению, а для того, чтобы казаться сторонником плебса[1725]. (111) И это он голосовал по моему делу, это он участвовал в пирушках и празднествах братоубийц[1726]. А впрочем, он отомстил за меня моим недругам, расцеловав их своим поганым ртом. Можно подумать, что свое состояние он потерял по моей вине и стал недругом мне потому, что у него самого ничего нет. Но разве я отнял у тебя имущество, Геллий? Не сам ли ты проел его? Как? Ты, пожиратель и расточитель отцовского имущества, кутил в расчете на грозившую мне опасность, так что, раз я как консул защитил государство от тебя и от твоей своры, ты не хотел, чтобы я находился среди граждан? Ни один из твоих родичей не хочет тебя видеть; все избегают твоих посещений, беседы, встречи с тобой. Сын твоей сестры, Постумий, строгий молодой человек с разумом старца, выразил тебе недоверие: в число многих опекунов своих детей он тебя не включил. Но, увлеченный ненавистью за себя во имя государства (кому из нас он больший недруг, не знаю), я сказал больше, чем нужно было, против взбесившегося и нищего гуляки. (112) Возвращаюсь к делу: когда, после взятия и захвата Рима, принималось решение, направленное против меня, то Геллий, Фирмидий и Тиций[1727] — фурии в одном и том же роде — были вожаками и руководителями шаек наймитов, а тот, кто вносил закон, не уступал им ни в низости, ни в наглости, ни в подлости. Но, когда вносили закон о моем восстановлении в правах[1728], никому не пришло в голову сослаться ни на нездоровье, ни на старость, чтобы оправдать свою неявку; не было человека, который бы не думал, что, возвращая меня, он возвращает и государство в его жилище.
(LIII, 113) Рассмотрим теперь комиции по выбору должностных лиц. В одной недавно существовавшей коллегии трибунов троих отнюдь не считали популярами, а двоих, напротив, — ревностными популярами[1729]. Из тех, которые популярами не считались и которым не хватило сил устоять во время народных сходок, составленных из наймитов, римский народ, как я вижу, двоих избрал в преторы[1730]. И — насколько я мог понять из толков толпы и из ее голосования — римский народ ясно показал, что непоколебимость и выдающееся присутствие духа Гнея Домиция, честность и храбрость Квинта Анхария, проявленные ими во время их трибуната, все же были ему по сердцу; хотя они и ничего не смогли сделать, все же их добрые намерения говорили в их пользу. Далее, каково мнение народа о Гае Фаннии, мы видим; в том, каково будет суждение римского народа при его избрании, сомневаться нечего. (114) А что совершили те двое популяров? Один из них, который был достаточно сдержан[1731], никакого предложения не вносил; муж честный и неподкупный, всегда пользовавшийся одобрением у честных мужей, он только высказал о положении государства не такое мнение, какого от него ожидали; видимо, он, будучи народным трибуном, плохо понял, что́ именно находит одобрение у подлинного народа, а так как полагал, что толпа на сходках и есть римский народ, то он и не достиг положения, какое он, не пожелай быть популяром, занял бы с величайшей легкостью. Другой, который настолько кичился своей принадлежностью к популярам, что ничуть не уважал ни авспиций, ни Элиева закона[1732], ни авторитета сената[1733], ни консула[1734], ни своих коллег, ни суждения честных людей, добивался эдилитета вместе с честными людьми и видными мужами, однако не с самыми богатыми и не с самыми влиятельными; голосов своей трибы[1735] он не получил, потерял даже Палатинскую трибу, которая, как говорят, помогала губить и разорять государство, и во время этих выборов не добился ничего, кроме полной неудачи, а этого честные мужи и хотели. Итак, вы видите, что сам народ, так сказать, уже не является популяром, если он так решительно отвергает людей, считающихся популярами, а тех людей, которые являются их противниками, признает вполне достойными почета.
(LIV, 115) Перейдем к театральным представлениям. Ибо ваше внимание, судьи, и ваши взоры, обращенные на меня, заставляют меня думать, что мне уже можно говорить более вольно. Проявление чувств в комициях и на народных сходках бывает иногда искренним, а порой лживым и продажным; собрания же в театре и во время боев гладиаторов, вследствие легкомыслия некоторых людей, говорят, вообще сопровождаются купленными рукоплесканиями, скудными и редкими, причем, как это бывает, все же легко понять, чьих рук это дело и каково мнение неподкупленного большинства. Сто́ит ли мне теперь говорить, каким мужам и каким гражданам рукоплещут более всего? Ни один из вас не заблуждается на этот счет. Пусть эти рукоплескания — сущие пустяки (впрочем, это не так, коль скоро ими награждают всех честнейших людей); так вот, даже если это и пустяки, то это пустяки для человека достойного, но для того, кто придает значение ничтожнейшим вещам, кто считается с молвой и, как они сами говорят, зависит от благоволения народа и руководствуется им, рукоплескания, разумеется, означают бессмертие, а свист — смерть. (116) Итак, я спрашиваю именно тебя, Скавр[1736], так как ты устраивал роскошнейшие и великолепнейшие представления: присутствовал ли кто-нибудь из этих пресловутых популяров на представлениях, устроенных тобой, решился ли кто-нибудь появиться в театре и среди римского народа? Даже этот лицедей от природы[1737], не только зритель, но и актер и исполнитель, который знает все пантомимы своей сестры, которого приводят в собрание женщин вместо кифаристки, во время своего жаркого трибуната не присутствовал ни на устроенных тобой, ни на каких-либо других представлениях, кроме тех, с которых он едва спасся живым. Всего однажды, повторяю, популяр этот решился появиться во время представлений — в тот день, когда в храме Доблести воздавались почести доблести и когда этот памятник Гая Мария[1738], спасителя нашей державы, предоставил место для восстановления в правах его земляку и защитнику государства.
(LV, 117) Именно в это время стало ясным, каким образом римский народ умеет выразить свое настроение; это проявилось двояким образом: во-первых, когда все, выслушав постановление сената, стали рукоплескать и самому делу и отсутствовавшему сенату; во-вторых, когда рукоплескали отдельным сенаторам, выходившим из сената взглянуть на представления. А когда сам консул, устраивавший представления[1739], сел на свое место, то люди, стоя выражая ему благодарность, простирая руки и плача от радости, проявили свое расположение ко мне и сострадание. Но когда в бешенстве явился Клодий, раздраженный и обезумевший, то римский народ едва сдержался, люди с трудом подавили в себе ненависть, чтобы не избить этого нечестивца и мерзавца; все испустили вопль, протягивая руки и выкрикивая проклятия. (118) Но к чему упоминать мне о силе духа и о доблести римского народа, уже узревшего свободу после долгого рабства, раз дело шло об отношении к человеку, которого даже актеры не пощадили в его присутствии в ту пору, когда тот добивался эдилитета? Ибо, когда представляли комедию тоги, — «Притворщика»[1740], если не ошибаюсь, — все актеры согласно и звонко запели хором, бросая угрозы мерзавцу в лицо:
Вот, он, конец — исход твоей порочной жизни, Тит![1741]Он сидел помертвевший, а того, кто раньше оживлял созываемые им сходки перебранкой певцов, теперь сами певцы изгоняли своими возгласами. А так как было упомянуто о театральных представлениях, то я не обойду молчанием еще одного обстоятельства: как ни разнообразны были выступления, ни разу не было случая, когда бы какое-нибудь слово поэта, напоминавшее о моем положении, осталось незамеченным присутствующими или же не было подчеркнуто самим исполнителем. (119) Но не подумайте, пожалуйста, судьи, что я по легкомыслию унизился до какого-то необычного рода красноречия, раз я говорю на суде о поэтах, об актерах и о представлениях[1742].
(LVI) Я не столь несведущ, судьи, в ведении дел в суде, не столь неопытен в ораторском искусстве, чтобы хвататься за различные выражения и отовсюду срывать и подбирать всяческие цветочки. Знаю я, чего требует ваше достоинство, эти вот заступники, чего требуют вон те собравшиеся люди, достоинство Публия Сестия, степень угрожающей ему опасности, мой возраст, мое высокое положение. Но в этом случае я взял на себя, так сказать, задачу объяснить молодежи, кто такие оптиматы; при разъяснении этого вопроса следует показать, что популярами являются не все те, которые ими считаются. Мне будет очень легко этого достигнуть, если я выражу истинное и неподдельное суждение всего народа и сокровенные чувства граждан. (120) Представьте себе — после того как во время представлений было получено на сцене свежее известие о постановлении сената, принятом в храме Доблести, величайший актер[1743], клянусь Геркулесом, игравший и на сцене и в государстве честнейшие роли, этот актер, при необычайном скоплении зрителей, плача и с внезапной радостью, смешанной со скорбью и с тоской по мне, выступил по моему делу перед римским народом со словами, много более убедительными, чем те, с какими мог бы выступить я сам. Ведь он выразил мысль величайшего поэта[1744] не только своим искусством, но и своей скорбью. С какой силой произнес он:
Смело он пришел на помощь государству, Укрепил его, с ахеянами рядом встал.С вами вместе стоял я, по его словам; на ваши ряды он указывал. Все заставляли его повторять:
…в час опасный Жизнь отдал бы без сомнений, голову сложил бы он.(121) Какие восторженные возгласы сопровождали его выступление! Зрители, уже не обращая внимания на его игру, рукоплескали, надеясь на мое возвращение, словам поэта и вдохновению актера.
Лучший друг в годину мятежа!Ведь сам актер прибавил эти слова из дружбы, а люди, быть может, в тоске по мне, одобряли:
Ум и дух высокий!(LVII) Далее, при каких тяжких стонах римского народа он, играя в той же трагедии, немного позже произнес:
О, отец![1745]Это меня, меня, отсутствовавшего, считал он нужным оплакивать как отца, меня, которого Квинт Катул, как и многие другие, не раз называл в сенате отцом отчизны[1746]. С какими рыданиями он, говоря о поджогах и о разорении моего имущества, оплакивая изгнание отца, удар, нанесенный отечеству, мой горящий и разрушенный дом, поведал о моем былом благосостоянии, повернулся к зрителям и со словами:
И видел я, как все это пылало! —заставил заплакать даже недругов и ненавистников! (122) О, бессмертные боги! А как произнес он другие стихи! Мне, по крайней мере, это кажется сыгранным и написанным так, что сам Квинт Катул, если бы ожил, мог бы это произнести. Ведь он иногда, не стесняясь, порицал и осуждал опрометчивость народа, вернее, ошибку сената:
Неблагодарные аргосцы, греки, Забывшие о долге и добре!Однако упрек этот был несправедлив: они не были неблагодарны, а были несчастны, так как уплатить долг благодарности и спасти того, кто спас их, им не было дозволено; ни один из них никому никогда не был более благодарен, чем все они — мне. Но вот что написал в мою защиту искуснейший поэт и сказал обо мне храбрейший — не только наилучший — актер, указывая на все ряды в театре, обвиняя сенат, римских всадников и весь римский народ:
Вы позволяете его сослать. Изгнание его вы допустили. Уж изгнан он — молчите вы!О том, как все тогда выражали свои чувства, какую благожелательность проявил весь римский народ в деле человека, который будто бы не был другом народу, сам я только слыхал; судить об этом легче тем, кто при этом был.
(LVIII, 123) А коль скоро я в своей речи уже заговорил об этом, то скажу и о том, что актер этот много раз оплакивал мое несчастье, говоря о моем деле с такой скорбью, что его столь звучный голос дрожал от слез; да и поэты, чьим дарованием я всегда восхищался, не оставили меня без поддержки, а римский народ одобрил это не только своими рукоплесканиями, но и своими стонами. Но если бы римский народ был свободным, то кто должен был бы выступить в мою защиту? Эзоп и Акций или первые люди среди наших граждан? Мое имя было прямо названо в «Бруте»[1747]:
Тот, свободу утвердивший для своих сограждан, — Туллий.Это повторялось тысячу раз. Разве не было ясно, что, по мнению римского народа, я и сенат утвердили именно то, в уничтожении чего нас обвиняли пропащие граждане? (124) Но поистине важнейшее суждение всего римского народа в целом проявилось, когда он весь собрался вместе во время боев гладиаторов. Это был дар Сципиона, достойный его самого и Квинта Метелла[1748], в чью честь они устраивались. Это зрелище посещали очень охотно и притом люди самого разного рода, зрелище, доставляющее толпе огромное удовольствие. Народный трибун Публий Сестий, в течение своего трибуната не упускавший случая содействовать решению моего дела, пришел на это собрание и показался народу — не из жажды рукоплесканий, но для того, чтобы даже недруги наши увидели наглядно, чего хочет весь народ. Подошел он, как вы знаете, со стороны Мениевой колонны. Рукоплескания всех зрителей, заполнявших места от самого Капитолия, рукоплескания со стороны ограды форума[1749] были таковы, что, по словам присутствовавших, никогда еще римский народ не выражал своего мнения так единодушно и открыто. (125) Где же были тогда знаменитые руководители народных сходок, владыки над законами, мастера изгонять граждан? Или для бесчестных граждан существует какой-то другой, особенный народ, которому я был противен и ненавистен?
(LIX) Я лично думаю, что большего стечения народа, чем то, какое было во время этих боев гладиаторов, не бывает никогда: ни при сходке, ни, во всяком случае, во время каких бы то ни было комиций. Итак, о чем же свидетельствовало присутствие этого неисчислимого множества людей, это могучее, без малейших разногласий, проявление чувств всем римским народом именно в те дни, когда, как все думали, должно было быть решено мое дело, как не о том, что неприкосновенность и достоинство честнейших граждан дороги всему римскому народу? (126) А тот претор, который имел обыкновение — не по обычаю отца, деда, прадеда, словом, всех своих предков, а по обычаю жалких греков — обращаться по моему делу к сходке и спрашивать, согласна ли она на мое возвращение из изгнания, который, когда наймиты едва слышно заявляли о своем несогласии, говорил, что отказывает римский народ, так вот, этот претор, хотя и присутствовал постоянно на боях гладиаторов, но ни разу не вошел открыто. Он появлялся внезапно, прокравшись под настилом, казалось, готовый сказать:
О, мать, тебя я призываю![1750]Поэтому тот скрытый во тьме путь, которым он приходил на зрелища, уже стали называть Аппиевой дорогой. Когда бы его ни заметили, немедленно раздавался такой свист, что не только гладиаторы, но даже их кони[1751] пугались. (127) Итак, не ясно ли вам, как велико различие между римским народом и сходкой? Не ясно ли вам, что повелителей сходок народ клеймит всей ненавистью, на какую он только способен, а тех, кому на сходках наймитов и показаться нельзя, римский народ возвеличивает, всячески выражая им свою приязнь?
Ты мне напоминаешь также и о Марке Атилии Регуле, который, по твоим словам, сам предпочел добровольно возвратиться в Карфаген на казнь, только бы не оставаться в Риме без тех пленников, которыми он был послан к сенату[1752], и утверждаешь, что мне не следовало желать возвращения, если для этого нужны были отряды рабов и вооруженных людей?
(LX) Следовательно, это я хотел прибегнуть к насилию, я, который ничего не предпринимал, пока господствовало насилие, я, положения которого — если бы насильственных действий не было — ничто не могло бы пошатнуть. (128) И от этого возвращения надо было мне отказаться? Ведь оно было столь блистательным, что кто-нибудь, пожалуй, подумает, будто я из жажды славы для того и уезжал, чтобы возвратиться таким образом. В самом деле, какого гражданина, кроме меня, сенат когда-либо поручал чужеземным народам? За чью неприкосновенность, кроме моей, сенат официально выражал благодарность союзникам римского народа? Насчет меня одного отцы-сенаторы постановили, чтобы те лица, которые управляют провинциями, обладая империем, чтобы те, которые являются квесторами и легатами, охраняли мою неприкосновенность и жизнь. По поводу меня одного, с самого основания Рима, письмами консулов созывались в силу постановления сената из всей Италии все те, кто хотел благополучия государства. То, чего сенат никогда не постановлял при наличии опасности для всего государства, он признал нужным постановить ради сохранения моей личной неприкосновенности. Чье отсутствие более остро чувствовала Курия, кого оплакивал форум, кого не хватало и трибуналам? С моим отъездом все стало заброшенным, диким, безмолвным, преисполнилось горя и печали. Какое найдется в Италии место, где бы не были увековечены официальными записями преданность делу моего спасения и признание моего достоинства?
(LXI, 129) К чему упоминать мне о тех внушенных богами постановлениях сената, принятых обо мне?[1753] О том ли, которое было вынесено в храме Юпитера Всеблагого Величайшего, когда муж, тремя триумфами отметивший присоединение к нашей державе трех стран света с их внутренними областями и побережьями[1754], внося предложение и читая запись, засвидетельствовал, что отечество было спасено мной одним, а собравшийся в полном составе сенат принял его предложение, причем не согласился лишь один человек — враг[1755], и это было внесено в официальные записи для потомков на вечные времена?[1756] Или о том постановлении, какое было принято на другой день в Курии по предложению самого римского народа и тех, кто съехался в Рим из муниципиев, — чтобы никто не наблюдал за небесными знамениями[1757], чтобы никто не требовал отсрочки (если кто-либо поступит иначе, то он будет настоящим разрушителем государства, а сенат будет этим крайне удручен), чтобы о таком поступке тотчас же было доложено? Хотя сенат этим своим твердым решением и пресек преступную дерзость некоторых людей, он все же добавил, чтобы в случае, если в течение пяти дней[1758], пока будет возможно внести предложение обо мне, оно внесено не будет, я возвратился в отечество и мое высокое положение было полностью восстановлено.
(LXII) В то же самое время сенат постановил, чтобы тем людям, которые съехались из всей Италии ради моего восстановления в правах, была выражена благодарность и чтобы им было предложено приехать, когда рассмотрение дела будет возобновлено[1759]. (130) При моем восстановлении в правах состязание в усердии дошло до того, что те люди, которых сенат просил за меня, сами умоляли за меня сенат. Но при этих обстоятельствах человек, открыто не соглашавшийся с таким настойчивым изъявлением воли честнейших людей, оказался в таком одиночестве, что даже консул Квинт Метелл, который когда-то был моим злейшим недругом ввиду сильных споров между нами по поводу государственных дел[1760], доложил о моем восстановлении в правах. На него оказали влияние высокий авторитет сената и исключительная сила речи Публия Сервилия[1761], который, вызвав из подземного царства тени чуть ли не всех Метеллов, отвлек мысли своего родича от разбойничьих поступков Клодия и напомнил ему о достоинстве общего их рода[1762] и о памятной судьбе — быть может, славной, быть может, тяжкой — знаменитого Метелла Нумидийского; тогда этот выдающийся муж прослезился и, как истинный Метелл, уже во время речи Публия Сервилия всецело предоставил себя в его распоряжение; будучи человеком той же крови, он не мог не уступить внушенной богами убедительности слов Публия Сервилия, дышавших древней строгостью, и своим благородным поступком в мое отсутствие примирился со мной. (131) Если у прославленных мужей сохраняется какое-то сознание после их смерти, то его поступок, несомненно, заслужил бы одобрение как всех Метеллов, так и особенно храбрейшего мужа и выдающегося гражданина, его брата, разделявшего мои труды, опасности и замыслы[1763]. (LXIII) А мое возвращение? Кто не знает, каково оно было, когда жители Брундисия, при моем приезде, протянули мне как бы руку всей Италии и самого отечества, когда одни и те же секстильские ноны были днем моего приезда, первым днем моего пребывания и днем рождения моей горячо любимой дочери, которую я тогда впервые увидел после горестной и печальной разлуки? Этот же день был днем основания само́й Брундисийской колонии и, как вы знаете, днем дедикации храма Благоденствия[1764]. При этом меня с величайшей радостью принял тот же дом честнейших и ученейших мужей, Марка Ления Флакка, его отца и брата; этот дом годом ранее в печали принимал и защищал меня, предоставив мне охрану с опасностью для себя[1765]. На всем моем пути все города Италии, казалось, справляли праздник в честь моего приезда, на всех дорогах толпились посланцы, отправленные отовсюду; при моем приближении к Риму огромные толпы людей приветствовали меня. Путь от городских ворот[1766], подъем на Капитолии, возвращение домой[1767] были таковы, что я, при всей своей радости, скорбел о том, что столь благодарные граждане были ранее так несчастны и так угнетены.
(132) Итак, вот тебе ответ на твой вопрос, кто такие оптиматы. Это не «порода людей», как сказал ты; я вспомнил это выражение; оно принадлежит тому человеку, который, по мнению Публия Сестия, на него больше всего и нападает, — тому, кто пожелал уничтожить и истребить эту «породу людей», тому, кто часто упрекал, часто осуждал Гая Цезаря, человека мягкого и далекого от какого-либо насилия, утверждая, что Цезарь никогда не будет свободен от забот, пока эта «порода людей» будет жива. Выступая против всех этих людей, он успеха не имел; против меня же он выступал непрестанно; прежде всего он напал на меня при посредстве доносчика Веттия, которого он на народной сходке допросил обо мне и о многих прославленных мужах. Но при этом он подверг их и меня одинаковой опасности и предъявил такое же обвинение, как и мне, таким гражданам, что заслужил мою благодарность, отнеся меня к числу знаменитейших и храбрейших мужей[1768].
(LXIV, 133) Но впоследствии, без какого-либо проступка с моей стороны, если не говорить о моем желании пользоваться расположением честных людей, Ватиний стал строить мне самым подлым образом всяческие козни. Изо дня в день он сообщал людям, которые были готовы его слушать, тот или иной вымысел обо мне; он советовал человеку, относящемуся ко мне с величайшей приязнью, — Гнею Помпею — опасаться моего дома и остерегаться меня самого; он так тесно объединился с моим недругом, что Секст Клодий[1769], человек, вполне достойный тех, с кем общается, называл себя составителем моей проскрипции[1770], которой он сам способствовал, а Ватиния — доской для записи ее. Ватиний, единственный из нашего сословия, открыто ликовал по поводу моего отъезда и радовался вашему горю. Хотя он изо дня в день рвал и метал, я ни разу не сказал о нем ни слова, судьи, и, подвергаясь осаде с применением разных орудий и метательных машин, насилия, войска, отрядов, считал неприличным жаловаться на нападки одного лучника. По словам Ватиния, ему не нравятся мои действия[1771]. Кто этого не знает? Ведь Ватиний не считается с моим законом, строго запрещающим устраивать бои гладиаторов на протяжении двух лет, в течение которых человек добивался или собирается добиваться государственной должности. (134) В этом отношении, судьи, я не могу в достаточной степени выразить свое удивление по поводу его наглости. Вполне открыто действует он наперекор закону, действует тот человек, который не может ни избавиться от суда[1772] благодаря своей приятной внешности, ни выпутаться благодаря влиянию, ни своим богатством и могуществом сломить законы и правосудие. Что же побуждает его быть таким несдержанным? [Его обуревает жажда славы.] Ему, как видно, достался великолепный, пользующийся известностью, прославленный отряд гладиаторов. Он знал пристрастие народа к их боям; предвидел, каковы будут восклицания и стечение людей. Окрыленный такой надеждой, он, горя жаждой славы, не мог удержаться, чтобы не показать этих гладиаторов, самым красивым из которых был он сам[1773]. Если бы он погрешил даже только по этой одной причине, ввиду недавнего расположения римского народа к нему[1774], увлеченный стремлением угодить народу, то все же этого никто не простил бы ему; но так как гладиаторами он назвал даже не людей, которые были отобраны им из числа рабов, выставленных на продажу, а людей, купленных им в эргастулах[1775], и по жребию сделал одних из них самнитами, а других провокаторами[1776], то неужели он не страшится последствии такого своеволия, такого пренебрежения к законам? (135) Но у него есть два оправдания: во-первых, «я, — говорит он, — выставляю бестиариев, а в законе говорится о гладиаторах». Ловко сказано! А вот вам нечто еще более остроумное. Он скажет, что выставляет не многих гладиаторов, а только одного гладиатора и что этим даром он ознаменовал весь свой эдилитет. Прекрасный эдилитет: один лев, две сотни бестиариев[1777]. Но пусть он прибегает к этому оправданию; я даже хотел бы, чтобы он был уверен в том, что выиграет дело; ведь он, когда не уверен в этом, бывает склонен призывать народных трибунов[1778] и нарушать судебное разбирательство насильственными действиями[1779]. Удивляюсь не столько тому, что он пренебрегает моим законом, законом своего недруга, сколько тому, что он решил вообще не признавать ни одного из законов, проведенных консулами. Он пренебрег законами Цецилиевым-Дидиевым и Лициниевым-Юниевым[1780]. Не отказывается ли он считать законом также и закон Гая Цезаря о вымогательстве? Ведь он не прочь похвастать, что своим законом[1781] и своей услугой он возвеличил, защитил и вооружил Цезаря. Говорят, есть и другие люди, готовые отменить меры Цезаря, тем более, что этим превосходным законом пренебрегают и его тесть[1782], и этот вот его прихвостень. (LXV) И обвинитель еще осмелился посоветовать вам, судьи, наконец, проявить в этом деле суровость и, наконец, подвергнуть государство лечению. Но это не лечение, когда нож приставляют к здоровой и не пораженной болезнью части тела; это калечение и жестокость. Государство лечат те люди, которые иссекают какую-либо язву, какой-либо нарост на теле государства[1783].
(136) Наконец, чтобы моя речь закончилась, чтобы я перестал говорить раньше, чем вы перестанете столь внимательно меня слушать, я закончу свою мысль об оптиматах и их руководителях, а также и о защитниках государства; тех из вас, юноши, которые принадлежат к знати, я призову подражать вашим предкам, а тем из вас, которые своим дарованием и доблестью могут достигнуть знатности, посоветую избрать деятельность, при которой многие новые люди[1784] снискали высшие почести и славу. (137) Поверьте мне, вот единственный путь славы, достоинства и почета — быть прославляемым и почитаемым честными и мудрыми мужами, хорошо одаренными от природы, знать государственное устройство, мудрейшим образом установленное нашими предками, которые, не стерпев власти царей, избрали должностных лиц с годичными полномочиями — с тем, чтобы навсегда поставить во главе государства совет в лице сената, но чтобы члены этого совета избирались всем народом[1785] и чтобы доступ в это высшее сословие был открыт для всех деятельных и доблестных граждан. Сенат они поставили стражем, хранителем, защитником государства; должностным лицам они повелели руководствоваться авторитетом этого сословия и быть как бы слугами этого высшего совета; более того, они повелели, чтобы сам сенат укреплял высокое положение ближайших к нему сословий, оберегал свободу и благоденствие плебса и способствовал и тому и другому.
(LXVI, 138) Люди, защищающие это по мере своих сил, — оптиматы, к какому бы сословию они ни принадлежали, а те, которые более всего выносят на своих плечах бремя таких больших обязанностей и государственных дел, всегда считались первыми среди оптиматов, руководителями и охранителями государства. Как я уже говорил, я признаю́, что у таких людей есть много противников, недругов, завистников, на их пути много опасностей, они терпят много несправедливостей и им приходится выносить и брать на себя много трудов. Но вся речь моя посвящена доблести, а не праздности, достоинству, а не наслаждению и обращена к тем, кто считает себя рожденным для отечества, для сограждан, для заслуг и славы, а не для дремоты, пиров и развлечений; ибо если кто-нибудь стремится к наслаждениям и поддался приманкам пороков и соблазнам страстей, то пусть он откажется от почестей, пусть не приступает к государственной деятельности, пусть удовлетворится тем, что ему можно наслаждаться покоем благодаря трудам храбрых мужей. (139) Но тот, кто добивается признания у честных людей, которое одно и может по справедливости называться славой, должен добиваться покоя и наслаждений для других, а не для себя. Такому человеку приходится упорно трудиться ради общего блага, навлекать на себя вражду, ради государства не раз испытывать бури, сражаться с множеством преступных, бесчестных людей, иногда даже и с людьми могущественными. Об этом мы слыхали из рассказов о замыслах и поступках прославленных мужей, это мы усвоили, об этом мы читали. Но мы не видим, чтобы были прославлены люди, когда-либо поднявшие народ на мятеж, или люди, ослепившие умы неискушенных граждан посредством подкупа, или люди, возбудившие ненависть к мужам храбрым и славным, с большими заслугами перед государством. Ничтожными людьми всегда считали их наши соотечественники, дерзкими, дурными и зловредными гражданами. Но те, кто подавлял их натиск и попытки, те, кто своим авторитетом, честностью, непоколебимостью, величием духа противился замыслам наглецов, — они-то всегда и считались людьми строгих правил, первенствующими, руководителями, создателями всего этого великолепия и нашей державы.
(LXVII, 140) А для того, чтобы никто не боялся вступить на этот жизненный путь, опасаясь несчастья, постигшего меня, а также и некоторых других людей, я скажу, что из наших граждан только один муж с огромными заслугами перед государством, которого я, впрочем, могу назвать, — Луций Опимий, умер недостойной его смертью; памятник его, известный каждому, находится на форуме, его всеми забытая гробница — на побережье близ Диррахия. Хотя он из-за гибели Гая Гракха и навлек на себя жгучую ненависть, подлинный римский народ оправдал даже его; этого выдающегося гражданина погубил, так сказать, иной вихрь — вихрь пристрастного суда[1786]. Другие же, после того как на них обрушилась с внезапной силой буря народного гнева, все же либо были, волею самого народа[1787], восстановлены в правах и возвращены из изгнания, либо прожили свою жизнь вполне благополучно, не подвергаясь нападкам. Но тех, кто пренебрег мудростью сената, авторитетом честных людей, установлениями предков, кто захотел быть угодным неискушенной или возбужденной толпе, государство почти всех покарало либо быстрой смертью, либо позорным изгнанием. (141) И если даже у афинян, греков, уступающих нашим соотечественникам в силе духа, не было недостатка в людях, готовых защищать дело государства от безрассудства народа, — хотя всех, кто так поступал, постигало изгнание из государства; если Фемистокла, спасителя отечества, не отпугнуло от защиты государства ни несчастье, постигшее Мильтиада, незадолго до того спасшего государство, ни изгнание Аристида, по преданию, справедливейшего из всех людей; если впоследствии самые выдающиеся мужи того же государства — называть их по именам нет необходимости, — имея перед глазами столько примеров, когда народ проявлял гнев или легкомыслие, все же государство свое защищали, то что же должны делать мы, родившиеся в государстве, где, кажется мне, и зародились сила и величие духа, мы, шествующие по пути такой великой славы, что все человеческое должно казаться нам незначительным, мы, взявшие на себя защиту государства, столь великого, что, защищая его, погибнуть — более желанный удел, чем, на него нападая, захватить власть?[1788]
(LXVIII, 142) Имена ранее названных мной греков, несправедливо осужденных и изгнанных их согражданами, ныне все же — так как у них были большие заслуги перед их городскими общинами — высоко прославлены не только в Греции, но и у нас, и в других странах. Между тем как имена тех, кто их унизил, остались бесславны; несчастье, постигшее первых, все ставят выше владычества вторых. Кто из карфагенян превзошел Ганнибала мудростью, доблестью и подвигами? Ведь он один не на жизнь, а на смерть боролся за владычество и славу со столькими нашими императорами в течение стольких лет. И сограждане изгнали его из государства[1789], а у нас, мы видим, он, враг наш, прославлен в писаниях и в памяти. (143) Поэтому будем подражать нашим Брутам, Камиллам, Агалам, Дециям, Куриям, Фабрициям, Максимам, Сципионам, Лентулам, Эмилиям, бесчисленному множеству других людей, укрепивших наше государство; их я по праву отношу к сонму и числу бессмертных богов[1790]. Будем любить отчизну, повиноваться сенату, радеть о честных людях; выгодами нынешнего дня пренебрежем, грядущей славе послужим; наилучшим для нас пусть будет то, что будет справедливейшим; будем надеяться на то, чего мы хотим, но то, что случится, перенесем; наконец, будем помнить, что тело храбрых мужей и великих людей смертно, а их побуждения и слава их доблести вечны, и — видя, что вера в это освящена примером божественного Геркулеса, чья доблестная жизнь удостоилась бессмертия, после того как его тела погибло в пламени[1791], — будем верить, что те, кто своими решениями или трудами либо возвеличил, либо защитил, либо спас это столь обширное государство, не менее достойны бессмертной славы.
(LXIX, 144) Но когда я говорил о достоинстве и славе храбрейших и виднейших граждан, судьи, и намеревался сказать еще больше, я внезапно, во время своей речи, взглянул на этих вот людей[1792] и остановился. Публия Сестия, защитника, бойца, охранителя моих гражданских прав, вашего авторитета и блага государства, я вижу обвиняемым; вижу, как его сын, еще носящий претексту, смотрит на меня глазами, полными слез; Тита Милона, борца за вашу свободу, стража моих гражданских прав, опору поверженного государства, усмирителя внутреннего разбоя, карателя за ежедневные убийства, защитника храмов и жилищ, оплот Курии, я вижу обвиняемым и в траурной одежде; Публия Лентула, чьего отца я считаю богом и покровителем нашей судьбы и нашего имени, — моего, брата моего и наших детей — я вижу в этом жалком траурном одеянии; человека, которому один и тот же минувший год принес тогу мужа по решению отца, тогу-претексту по решению народа, я вижу в нынешнем году одетым в эту темную тогу и умоляющим об избавлении своего храбрейшего отца и прославленного гражданина от последствий неожиданной, жестокой и несправедливейшей рогации[1793]. (145) И я один виной, что столь многочисленные и столь выдающиеся граждане надели эти траурные одежды и предались этой печали, этому горю, так как меня они защищали, так как о моем несчастье и бедствии они скорбели, так как меня возвратили они плакавшему по мне отечеству, уступив требованиям сената, просьбам Италии, вашим общим мольбам. В чем же мое столь тяжкое преступление? Какой проступок совершил я в тот день, когда сообщил вам показания, письма, признания, касавшиеся всеобщей гибели[1794], когда я повиновался вам?[1795] Но если любовь к отечеству преступна, то я уже перенес достаточно наказаний: был разрушен мой дом, имущество разорено; со мной разлучили моих детей, была схвачена моя жена; лучший из братьев, человек необычайно преданный, полный исключительной любви ко мне, в глубоком трауре бросался к ногам моих злейших недругов; сам я, прогнанный от алтарей, очагов, богов-пенатов, разлученный с родными, был вдали от отечества, которое — скажу очень осторожно — я, во всяком случае, любил. Я испытал жестокость недругов, предательство ненадежных людей, был обманут завистниками. (146) Если этого недостаточно — так как все это как будто искуплено моим возвращением из изгнания, — то для меня, судьи, гораздо лучше, да, гораздо лучше снова испытать ту же печальную участь, чем навлечь столь тяжкое несчастье на своих защитников и спасителей. Смогу ли я находиться в этом городе после изгнания этих вот людей, которые вернули меня в этот город? Нет, я не останусь здесь, не смогу остаться, судьи! И этому вот мальчику, чьи слезы свидетельствуют о его сыновней любви, никогда не придется увидеть меня самого невредимым, если он из-за меня лишится отца; ведь всякий раз как он увидит меня, он вздохнет и скажет, что перед ним человек, погубивший его самого и его отца. Нет, я разделю с ним любую участь, какова бы она ни оказалась, и никакая судьба никогда не разлучит меня с теми людьми, которых вы видите носящими траур из-за меня, а те народы, которым сенат меня поручил, которым он за меня выразил благодарность, не увидят Публия Сестия изгнанным из-за меня и без меня.
(147) Но бессмертные боги, которые, при моем приезде, приняли в своих храмах меня, сопровождаемого этими вот мужами и консулом Публием Лентулом, а также и само государство, священнее которого ничего быть не может, доверили все это вашей власти, судьи! Это вы приговором своим можете укрепить дух всех честных людей и лишить мужества бесчестных. Вы можете привлечь к себе этих лучших граждан, вы можете возвратить мне мужество и обновить государство. Я умоляю и заклинаю вас: коль скоро вы захотели видеть меня целым и невредимым, сохраните тех, с чьей помощью вы себе вернули меня.
19. Речь в защиту Марка Целия Руфа [В суде, 4 апреля 56 г. до н. э.]
Марк Целий Руф происходил из семьи богатого римского всадника. В 59 г. он, достигнув совершеннолетия, начал обучаться у Цицерона ораторскому искусству и впоследствии был известен как обвинитель. В 62—60 гг. он был в Африке в составе преторской когорты Квинта Помпея Руфа. По возвращении из Африки Целий, вместе с Квинтом Фабием Максимом и Гаем Корнелием Галлом, привлек к суду Гая Антония, консула 63 г., обвинив его в вымогательстве. В марте 59 г. Антоний, которого защищал Цицерон, был осужден.
В начале 56 г. Целий на основании Кальпурниева закона привлек к суду бывшего народного трибуна 63 г. Луция Кальпурния Бестию, обвинив его в домогательстве (de ambitu). Дело слушалось 11 февраля и закончилось оправданием Бестии. Целий привлек его к суду вторично, но в это же самое время его самого привлек к суду Луций Семпроний Атратин, сын Бестии, усыновленный неким Семпронием Атратином и принявший его имя. На основании Лутациева закона он обвинил Целия в насильственных действиях (de vi). Субскрипторами Атратина были Луций Геренний Бальб и Публий Клодий. Целия обвиняли в мятеже в Неаполе, в избиении послов из Александрии, приехавших в Рим после низложения Птолемея Авлета, в попытке отравить главу этого посольства, философа Диона, для чего Целий будто бы подкупил рабов Луция Лукцея, у которого жил Дион, золотом, которое Целий будто бы взял у Клодии, сестры Публия Клодия и вдовы Квинта Метелла Целера, наконец, в попытке отравить и Клодию.
Дело слушалось 4 апреля 56 г. перед трибуналом претора Гнея Домиция Кальвина. После защитительной речи самого Целия говорили Марк Красс и Цицерон, опровергавший обвинение в попытке отравления. При этом он выступил и против своих политических врагов Клавдиев Пульхров. Целий был оправдан.
В 52 г. Целий был трибуном, поддерживал Тита Анния Милона во время волнений, вызванных убийством Публия Клодия, и выступал против некоторых законопроектов Помпея. В 50 г., в начале гражданской войны, Целий перешел на сторону Цезаря и в 48 г. был претором. Его действия в долговом вопросе привели к волнениям в Риме, окончившимся восстанием Целия против Цезаря. Восстание было подавлено; Целий был убит.
См. переписку Цицерона с Целием: «К близким», II, 8—16; VIII. См. также Квинтилиан, «Обучение оратора», IV, 2.
(I, 1) Если бы здесь, судьи, случайно присутствовал человек, незнакомый с нашими законами, судоустройством и обычаями, то он, конечно, с удивлением спросил бы, какое же столь ужасное преступление разбирается в этом суде, раз в торжественные дни, во время общественных игр[1796], когда все судебные дела приостановлены, происходит один только этот суд; у него не было бы сомнения, что подсудимый обвиняется в столь тяжком деянии, что государство — если только преступлением этим пренебрегут — существовать не сможет; а когда этот же человек услышит, что есть закон[1797], повелевающий привлекать к суду в любой день мятежных и преступных граждан, которые с оружием в руках подвергнут сенат осаде, учинят насилие над должностными лицами, пойдут на государство войной, то порицать этот закон он не станет, но узнать, какое же обвинение возбуждено в суде, захочет; если же он услышит, что к суду привлекают не за злодеяние, не за дерзкие поступки, не за насилие, но что юношу блестящего ума, деятельного, влиятельного обвиняет сын того человека, которого сам этот юноша в настоящее время привлекает и уже привлекал к суду, и что при этом его обвинителей снабжает денежными средствами распутная женщина[1798], то сыновнюю преданность самого́ Атратина он осуждать не станет, но женскую похоть сочтет нужным укротить, а вас признает чрезвычайно трудолюбивыми, коль скоро вам, даже когда отдыхают все, передохнуть нельзя. (2) Право, если вы захотите тщательно вникнуть в это судебное дело и справедливо его оценить, то вы, судьи, придете к такому заключению: с одной стороны, обвинение это не согласился бы взять на себя ни один человек, вольный в своих поступках; с другой стороны, никто, унизившись до такого обвинения, не питал бы надежды на успех, если бы его не поддерживало чье-то нестерпимое своеволие и безмерная, жгучая ненависть. Но Атратину, юноше образованному и честному, моему близкому приятелю, я это прощаю, так как извинением ему может служить либо чувство сыновнего долга, либо принуждение, либо его возраст. Если он добровольно взял на себя обязанность обвинителя, то я приписываю это его чувству долга по отношению к отцу; если это ему было приказано, то он сделал это по принуждению; если же он надеялся на успех, то это потому, что он очень молод[1799]. Но другие люди прощения не заслуживают ни в каком случае; напротив, им надо дать решительный отпор.
(II, 3) Что касается меня, судьи, то вот какое начало защитительной речи кажется мне, ввиду молодости Марка Целия, наиболее подходящим: прежде всего я отвечу на слова обвинителей, сказанные ими с целью очернить Марка Целия, умалить и принизить его достоинство. Его неоднократно попрекали его отцом: говорилось, что и сам он не был достаточно блистателен[1800], да и сыну не внушил уважения к себе. Что касается высокого положения, то Марк Целий отец, даже без моей речи, мог бы легко своим молчанием ответить тем, кто его знает, и вообще людям пожилым. Тем же, с кем он, ввиду своего преклонного возраста (ведь он уже давно не бывает на форуме и среди нас), так близко не знаком, следует запомнить, что те достоинства, какими может обладать римский всадник, — а достоинства эти могут быть весьма велики — были всегда в высшей степени свойственны Марку Целию; это знают в настоящее время не только его родные, но также и все те, с кем по какой-либо причине он мог быть знако́м. (4) А ставить Марку Целию в вину, что он — сын римского всадника, обвинителям не подобает ни перед лицом этих судей, ни при мне, как его защитнике[1801]. Относительно того, что вы сказали об уважении Марка Целия к отцу, у нас есть свое мнение, но окончательное суждение, во всяком случае, есть дело отца; о нашем мнении вы узна́ете от людей, давших клятву[1802]; что́ чувствуют родители, показывают слезы и несказанное горе его матери, траурные одежды его отца и его печаль, которую вы видите, и его слезы. (5) Что же касается упрека, будто Марк Целий в молодости не пользовался расположением у членов своего муниципия, то я скажу, что жители Претуттия[1803] никогда никому не оказывали — даже если данное лицо находилось в их муниципии — бо́льших почестей, чем те, какие они оказали Марку Целию, хотя его и не было на месте; ведь они в его отсутствие приняли его в именитейшее сословие[1804] и ему, не искавшему почестей, предоставили то, в чем многим искателям отказали. Они же прислали теперь — с полномочиями участвовать в этом суде — самых избранных мужей (и из нашего сословия, и римских всадников) с убедительнейшим и почетнейшим хвалебным отзывом[1805]. Мне кажется, я уже заложил основания для своей защитительной речи, которые весьма прочны, если зиждутся на суждении людей, близких ему; ведь Марк Целий, ввиду своего возраста, не встретил бы достаточно благосклонного отношения с вашей стороны, если бы его порицал, не говорю уже — его отец, такой достойный муж, но и его муниципий, столь известный и столь уважаемый. (III, 6) Что касается меня лично, то это послужило источником моей известности, и этот труд мой на форуме и мой образ жизни доставили мне всеобщее признание в довольно широких пределах как раз благодаря высокой оценке их моими близкими.
Что касается упреков в безнравственности, которые Марку Целию бросали в лицо его обвинители, не столько обвинявшие, сколько во всеуслышание поносившие его, то он никогда не будет расстроен этим в такой степени, чтобы пожалеть о том, что не родился безобразным[1806]. Ибо это самая обычная хула на тех, чья внешность и облик были в молодости привлекательны. Но одно дело — хулить, другое — обвинять. Обвинение предполагает наличие преступления, чтобы можно было изложить обстоятельства дела, дать им название, привести доказательства, подтвердить показаниями свидетелей[1807]; хула же ставит себе только одну цель — поношение; если ее пускают в ход более нагло, она называется бранью; если более тонко, то — остроумием. (7) Но именно эта сторона обвинения — что меня удивило и огорчило — была предоставлена как раз Атратину; ведь этого не допускали ни правила приличия, ни его возраст, да к тому же — вы могли это заметить — этому порядочному юноше было стыдно касаться в своей речи подобного предмета. Я жалел, что этой задачи не взял на себя ни один из вас, людей более зрелых; тогда я несколько свободнее и решительнее и более обычным для себя способом пресек бы вашу злоречивость. Но с тобой, Атратин, я обойдусь более мягко, так как и твоя скромность требует от меня сдержанности во время моей речи, и сам я должен помнить об услуге, оказанной мной тебе и твоему отцу. (8) Но я хочу дать тебе такой совет: прежде всего, пусть все люди считают тебя таким, каков ты в действительности, и в такой же степени, в какой ты далек от позорных поступков, откажись от вольности в выражениях; затем, не говори во вред другому того, что вогнало бы тебя в краску, если бы тебе ответили тем же, хотя бы и без оснований. И в самом деле, кому не открыт этот путь? Кто не мог бы невозбранно, даже не имея никаких оснований для подозрения, но все же приводя какие-то доводы, хулить этот возраст? Но в том, что ты взял на себя эту задачу, виноваты те люди, которые заставили тебя выступить с речью, причем надо отдать честь твоей скромности (ты, как мы видели, говорил это нехотя) и должное твоему дарованию — ты произнес речь цветистую и обработанную. (IV, 9) Но на всю эту твою речь защитник ответит очень кратко. Ведь насколько юный возраст Марка Целия мог дать повод для подобных подозрений, настолько же он был огражден и его собственным чувством чести и заботливым отцовским воспитанием. Как только отец облек его в тогу взрослого (о себе я здесь ничего говорить не стану; думайте, что хотите; скажу только одно — отец немедленно поручил его мне), все видели Марка Целия в расцвете его молодости только с его отцом или со мной, или в высоконравственном доме Марка Красса, когда он обучался наукам, приносящим наивысший почет[1808].
(10) Что же касается брошенного Целию упрека в дружеских отношениях с Катилиной, то это подозрение менее всего должно на него падать; ибо Катилина, как вы знаете, вместе со мной добивался консульства, когда Целий был еще юношей. Если кто-либо докажет, что Целий тогда присоединился к Катилине или что он отошел от меня, то — хотя немало порядочных юношей было на стороне этого негодяя и бесчестного человека — пусть будет признано, что Целий общался с Катилиной чересчур близко. Но, возразят мне, ведь впоследствии он — это мы знали и видели — был даже в числе его друзей. Кто же станет это отрицать? Но я пока защищаю ту пору его молодости, которая сама по себе является нестойкой, а ввиду похотливости других людей легко поддается соблазнам. В бытность мою претором он неизменно находился при мне; с Катилиной, который тогда управлял Африкой как претор[1809], он знако́м не был. Годом позже Катилина предстал перед судом, обвиненный в вымогательстве. Целий был при мне; к Катилине он ни разу не пришел даже как заступник[1810]. Затем наступил год, когда я добивался консульства; Катилина добивался его вместе со мной. Целий к нему никогда не ходил, от меня никогда не отходил. (V, 11) Но вот, после того как Целий уже в течение стольких лет, не навлекая на себя ни подозрения, ни осуждения, посещал форум, он оказал поддержку Катилине, вторично добивавшемуся избрания[1811]. До какого предела, по твоему мнению, надо было оберегать юношей? По крайней мере, в мое время был установлен только одногодичный срок, когда мы должны были прятать руку под тогу[1812] и упражняться в школе на поле, одетые в туники[1813], и такой же порядок был в лагере и на военной службе, если мы немедленно начинали получать жалование. И кто уже в этом возрасте не умел защитить себя сам своим строгим поведением, нравственной чистотой, воспитанием, полученным дома, и своими природными добрыми задатками, тот — как бы его ни оберегали его близкие — не мог избежать дурной славы и притом не лишенной основания. Но кто сохранил свою раннюю молодость чистой и незапятнанной, о добром имени и целомудрии того — тогда, когда он уже созрел и был мужем среди мужей, — не злословил никто. (12) Однако — скажут мне — Целий, после того как уже в течение нескольких лет выступал на форуме, оказал поддержку Катилине. И это же самое сделали многие люди из всех сословий и всякого возраста. Ведь Катилина, как вы, мне думается, помните, обладал очень многими если и не ярко выраженными, то заметными задатками величайших доблестей. С многими бесчестными людьми он общался, но притворялся, что предан честнейшим мужам. Его манил к себе разврат, но подчас увлекали настойчивость и труд. Его обуревали пороки сладострастия; у него также были сильные стремления к военным подвигам. И я думаю, на земле никогда не было такого чудовища, сочетавшего в себе столь противоположные и разнородные и борющиеся друг с другом прирожденные стремления и страсти[1814]. (VI, 13) Кто когда-либо был более по душе прославленным мужам[1815], кто был теснее связан с опозоренными? Кто как гражданин был когда-либо ближе честным людям, кто был более жестоким врагом нашим гражданам? Кто был более запятнан распутными наслаждениями и кто более вынослив в лишениях? Кто был более алчным в грабежах и более щедрым в раздачах? Вот какие качества, судьи, были в этом человеке поистине изумительны: он умел привлекать к себе многих людей дружеским отношением, осыпа́ть их услугами, делиться с любым человеком своим имуществом, в беде помогать всем своим сторонникам деньгами, влиянием, ценой собственных лишений, а если нужно — даже преступлением и дерзкой отвагой; он умел изменять свой природный характер и владеть собой при любых обстоятельствах, был гибок и изворотлив, умел с суровыми людьми держать себя строго, с веселыми приветливо, со старцами с достоинством, с молодежью ласково; среди преступников он был дерзок, среди развратников расточителен. (14) Обладая этим столь переменчивым и многообразным характером, он собрал вокруг себя всех дерзких и бесстрашных людей из всех стран и в то же время удерживал при себе даже многих храбрых и честных мужей, так сказать, видимостью своей притворной доблести. И у него никогда не возникло бы столь преступного стремления погубить нашу державу, если бы такое безмерное множество чудовищных пороков не сопровождалась у него обходительностью и выдержкой.
Поэтому эту статью обвинения надо отвергнуть, судьи, и дружеские связи с Катилиной нельзя ставить Целию в вину; ведь она касается многих, притом и некоторых честных людей. Даже меня, повторяю, меня Катилина когда-то едва не ввел в заблуждение[1816], когда мне казалось, что он добрый гражданин, стремящийся сблизиться с лучшими людьми, стойкий и верный друг. Преступления его я увидел воочию раньше, чем понял их; схватил их руками раньше, чем заподозрил. Даже если Целий и был среди многочисленной толпы друзей Катилины, ему скорее следует пожалеть о своем заблуждении, — как и мне иногда досадно, что я так ошибся в том же самом человеке, — чем страшиться обвинения в дружбе с ним.
(VII, 15) Итак, вы в своей речи, вместо осуждения Целия за безнравственность, сбились на обвинение в причастности к заговору. Ведь вы утверждали, — впрочем, нерешительно и мимоходом — что Целий из-за своей дружбы с Катилиной участвовал в заговоре. Не говорю уже о том, что для этого никаких оснований не было, да и сама речь красноречивого юноши[1817] была совсем не основательна. И в самом деле, разве Целию было свойственно такое безумие, разве его прирожденный характер и его нравы столь порочны, разве так тяжко его имущественное положение? Да, наконец, разве мы слышали имя Целия, когда возникли подозрения о заговоре? Слишком много говорю я о деле, менее всего вызывающем сомнения, но все-таки скажу вот что: будь Целий участником заговора или даже не будь он решительным противником этого преступного дела, никогда не стал бы он в молодые годы добиваться успеха, обвиняя другого в заговоре[1818]. (16) Пожалуй, такой же ответ — коль скоро я этого коснулся — следует дать насчет незаконного домогательства и обвинения в подкупе избирателей его сотоварищами и посредниками[1819]. Ведь Целий никогда не мог быть столь безумен, чтобы, запятнав себя этим безудержным домогательством, обвинить другого человека в домогательстве, никогда не стал бы подозревать другого в том, что сам хотел бы всегда делать безнаказанно; думая, что ему хоть раз может грозить обвинение в незаконном домогательстве[1820], он не стал бы повторно обвинять другого человека в этом преступлении. Хотя Целий делает это неразумно и наперекор мне, все же его рвение настолько велико, что он кажется мне человеком, скорее преследующим невиновного, нежели поддавшимся страху за себя самого.
(17) Далее, Целия попрекают долгами, порицают за расходы, требуют представить приходо-расходные книги; вот вам мой краткий ответ. Кто находится под властью отца[1821], тот не ведет приходо-расходных книг. Займа для покрытия долгов Целий вообще никогда не делал. Его упрекнули в одних расходах — на наем квартиры; вы сказали, что он снимает ее за тридцать тысяч сестерциев. Только теперь я понял, что дело идет о доходном доме Публия Клодия, в крыле которого Целий и снимает квартиру, если не ошибаюсь, за десять тысяч. Вы же солгали, стремясь угодить Публию Клодию.
(18) Вы порицаете Целия за то, что он выехал из дома отца. Именно это в его возрасте менее всего заслуживает порицания. Уже одержав победу в возбужденном им уголовном деле, для меня, правда, огорчительную, но для него славную, и, по возрасту своему, имея возможность добиваться государственных должностей[1822], Целий выехал из дома отца не только с его позволения, но даже по его совету; а так как от дома его отца далеко до форума, то он, дабы ему было легче посещать наши дома[1823], а его близким — оказывать ему внимание, нанял дом на Палатине за умеренную плату. (VIII) По этому поводу могу сказать то, что недавно говорил прославленный муж Марк Красс, сетуя на приезд царя Птолемея:
О, если бы на Пелионе в роще…И мне, пожалуй, можно было бы продолжить эти стихи[1824]:
Ведь госпожа, в смятенье, никогдане причинила бы нам этих неприятностей —
С больной душой, любовью дикой ранена Медея.Именно к такому заключению вы, судьи, и придете, когда я, дойдя в своей речи до этого места, докажу, что эта вот палатинская Медея и переезд этот явились для юноши причиной всех бед, вернее, всех пересудов.
(19) Поэтому всего того, что — как я понял из речей обвинителей — они тут нагородили и наплели, я, полагаясь на вашу проницательность, судьи, ничуть не страшусь. Ведь говорили, что в качестве свидетеля явится сенатор[1825], который скажет, что во время комиции по выбору понтификов[1826] он был избит Целием. Я спрошу его, если он выступит, во-первых, почему он не дал хода делу тогда же[1827]; во-вторых, если он предпочел сетовать, а не дать ход делу, то почему он предпочел сетовать, будучи вызван вами, а не по собственному почину, почему так много времени спустя, а не немедленно. Если этот сенатор ответит мне на это метко и хитроумно, тогда я, в конце концов, спрошу, из какого родника притек он к нам. Если он появится и предстанет перед нами сам собой, то я, пожалуй (как со мной бывает обычно), буду смущен. Если же это маленький ручеек, искусственно отведенный из самих истоков вашего обвинения, то я буду очень рад тому, что — хотя ваше обвинение и опирается на такое большое влияние и на такие большие силы — все же вам удалось раздобыть всего лишь одного сенатора, который согласился вам услужить. [О свидетеле Фуфии.]
(20) Не страшат меня и свидетели другого рода — «ночные». Ведь обвинители заявили, что явятся свидетели, которые покажут, что Целий приставал к их женам, возвращавшимся с пира. Это будут люди строгих правил, раз они под присягой осмелятся это заявить; ведь им придется сознаться в том, что они, будучи тяжко оскорблены, никогда не пытались добиться удовлетворения путем встречи и по обычаю[1828]. (IX) Но все нападки подобного рода вы, судьи, уже предвидите и в свое время должны будете отбить. Ведь обвиняют Целия вовсе не те люди, которые ведут с ним войну. Мечут копья в него открыто, а подносят их тайком. (21) И говорю я это не для того, чтобы возбудить в вас ненависть к тем, кто этим может даже стяжать славу: они выполняют свой долг, они защищают своих близких, они поступают так, как обычно поступают храбрейшие мужи — оскорбленные, они страдают; разгневанные, негодуют; задетые за живое, дерутся. Но даже если у этих храбрых мужей и есть справедливое основание нападать на Марка Целия, то долг вашей мудрости, судьи, не считать, что и у вас поэтому есть справедливое основание придавать чужой обиде большее значение, чем своей клятве. Какая толпа заполняет форум, каков ее состав, стремления, сколь разнородны эти люди, вы видите. Как по-вашему, разве в этой толпе мало таких, которые, видя, что людям могущественным, влиятельным и красноречивым что-то требуется, склонны сами предлагать им свои услуги, оказывать содействие, обещать свои свидетельские показания? (22) Если кто-нибудь из них вдруг появится на этом суде, будьте разумны, судьи, и отведите их пристрастные заявления, дабы было видно, что вы позаботились о благополучии Целия, поступили согласно со своей совестью и, действуя против опасного могущества немногих, тем самым послужили благу всех граждан. Я, со своей стороны, постараюсь, чтобы вы не дали веры этим свидетелям, и не позволю, чтобы приговор этого суда, который должен быть справедливым и непоколебимым, основывался на произвольных свидетельских показаниях, которые очень легко выдумать и ничуть не трудно перетолковать и извратить. Я приведу доводы, опровергну обвинения доказательствами, которые будут яснее солнечного света; факт будет сражаться с фактом, дело с делом, соображение с соображением.
(X, 23) Поэтому я охотно мирюсь с тем, что одну сторону дела — о беспорядках в Неаполе, о побоях, нанесенных александрийцам в Путеолах, об имуществе Паллы[1829] — убедительно и цветисто обсудил Марк Красс. Мне жаль, что он не упомянул и о Дионе. Какого высказывания о нем вы ждете? Ведь тот, кто это сделал, либо не боится кары, либо даже все признает; ведь он царь[1830]. А тот, кто был назван его пособником и сообщником, — Публий Асиций — по суду оправдан[1831]. Так что же это за обвинение! Тот, кто совершил преступление, не отрицает; тот, кто отрицал, оправдан, а бояться должен тот, кто не был заподозрен, уже не говорю — в самом преступлении, но даже в том, что он о нем знал? И если судебное дело послужило Асицию на пользу более, чем повредила ему ненависть, то нанесет ли твоя хула ущерб тому, кого не коснулось, не говорю уже — подозрение, но даже злоречие? (24) Да ведь Асиций, скажут нам, оправдан благодаря преварикации[1832]. Ответить на это очень легко, особенно мне, выступавшему в качестве защитника в этом деле. Но Целий, полагая, что дело Асиция вполне честное, думает, что оно, каково бы оно ни было, с собственным его делом ничуть не связано. И не только Целий, но и просвещеннейшие и ученейшие юноши, посвятившие себя благородным занятиям и самым высоким наукам, — Тит и Гай Копонии[1833], которые более, чем кто бы то ни было, скорбели о смерти Диона, которых с Дионом связывала не только преданность его учению и просвещенности, но и узы гостеприимства. Дион, как вы слышали, жил у Тита, был с ним знаком в Александрии. Какого мнения о Марке Целии он или его брат, человек весьма блистательный, вы услышите от них самих, если им предоставят слово. (25) Итак, оставим это, чтобы, наконец, обратиться к тому, на чем основано само наше дело.
(XI) Ведь я заметил, судьи, что моего близкого друга Луция Геренния вы слушаете с величайшим вниманием. И вот, хотя увлекало вас главным образом его дарование и, так сказать, тот род красноречия, который ему свойствен, я все же порой опасался, что его обвинительная речь, очень тонко построенная, постепенно и незаметно вас убедит. Ведь он много говорил о распущенности, о разврате, о пороках молодости, о нравах и тот, кто вообще в жизни был мягким человеком и обычно держал себя в высшей степени любезно, обладая тою тонкостью в обращении, какая теперь заслуживает почти всеобщего одобрения, в этом деле оказался старым брюзгой[1834], цензором, наставником. Он выбранил Марка Целия так, как никого никогда не бранил отец; говорил без конца о его невоздержности и неумеренности. Чего вам еще, судьи? Я прощал вам внимание, с каким вы его слушали, так как сам содрогался, слушая эту столь суровую и столь резкую речь. (26) Но первая часть ее меня меньше взволновала — будто Целий был в дружеских отношениях с Бестией, человеком, близким мне, обедал у него, хаживал к нему, способствовал его избранию в преторы. Не волнует меня явная ложь; ведь Геренний сказал, что вместе обедали либо те, которых здесь нет, либо те, кто вынужден сказать то же самое. Не волнует меня и заявление Геренния, назвавшего Целия своим товарищем среди луперков[1835]. Это товарищество — какое-то дикое, пастушеское и грубое «братство луперков», сборища которых начали устраивать в лесах раньше, чем появились просвещение и законы; товарищи не только привлекают друг друга к суду, но, внося обвинение, даже упоминают о своем товариществе, словно боятся, что кто-нибудь случайно не знает этого. (27) Но я и это опущу; отвечу на то, что меня взволновало сильнее.
За любовные похождения Целия бранили долго, но довольно мягко и о них скорее рассуждали, чем сурово их осуждали; поэтому их и слушали более внимательно. Ведь когда приятель мой, Публий Клодий[1836], выступал необычайно убедительно и резко и, горя гневом, говорил обо всем в самых суровых выражениях и громовым голосом, то я, хотя и одобрял его красноречие, все же не боялся. Ведь я уже видал, как безуспешно он выступал в нескольких судебных делах. Но тебе, Бальб, я отвечаю, если дозволишь, если разрешается, если допустимо именно для меня защищать такого человека, который не отказывался ни от одной пирушки, посещал сады, умащался, видал Байи[1837]. (XII, 28) Впрочем, я и видал, и слыхал, что среди наших граждан многие — и не только те, кто вкусил этой жизни лишь краями губ и коснулся ее, как говорится, лишь кончиками пальцев[1838], но и те, кто всю свою молодость посвятил удовольствиям, — рано или поздно выбирались из этого омута, возвращались, как говорится, на честный путь и становились уважаемыми и известными людьми. Ведь этому возрасту с всеобщего согласия позволяются кое-какие любовные забавы, и сама природа щедро наделяет молодость страстями. Если они вырываются наружу, не губя ничьей жизни, не разоряя чужого дома, их обычно считают допустимыми и терпимыми. (29) Но ты, казалось мне, хотел, используя всеобщее дурное мнение о молодежи, вызвать в какой-то мере ненависть к Целию; поэтому то общее молчание, каким была встречена твоя речь, объяснялось тем, что мы, видя перед собой одного обвиняемого, думали о пороках, присущих многим. Обвинять в распущенности легко. Дня не хватило бы мне, если бы я попытался изложить все то, что можно сказать по этому поводу; о совращениях, о блудодеяниях, о наглости, о расточительности можно говорить без конца. Коль скоро ты не имеешь в виду никакого определенного обвиняемого, а пороки вообще, то этому самому предмету можно предъявлять обвинения многословные и беспощадные; но долг вашей мудрости, судьи, — не терять из виду обвиняемого и тех острых жал, которые обвинитель направил на предмет вообще, на пороки, на нравы и на времена, жал вашей суровости и строгости не вонзать в самого обвиняемого, так как не его личное преступление, а порочность многих людей навлекла на него какую-то неоправданную ненависть. (30) Поэтому я и не решаюсь отвечать тебе на твои суровые нападки так, как подобало бы; ведь мне следовало бы сослаться на его молодость, просить о снисхождении; но, повторяю, я на это не решаюсь; я не ссылаюсь на его возраст, отказываюсь от прав, предоставленных всем; я только прошу, — если ныне все испытывают ненависть к долгам, к наглости, к развращенности молодежи (а ненависть эта, вижу я, велика) — чтобы Целию не ставили в упрек чужих проступков, не ставили в упрек пороков, свойственных его возрасту и нашему времени. При этом сам я, обращаясь к вам с такой просьбой, от подробнейшего ответа на обвинения, возводимые на самого Марка Целия, не отказываюсь.
(XIII) Итак, предъявлено два обвинения — насчет золота и насчет яда; к ним причастно одно и то же лицо. Золото взято у Клодии; яд искали, как говорят, чтобы дать его Клодии. Все прочее не обвинения, а хула и больше похоже на дерзкую брань, чем на уголовное обвинение. «Блудник, бессовестный, посредник при подкупе избирателей» — все это ругань, а не обвинение; ибо эти обвинения не имеют под собой никакого основания, никакой почвы. Это оскорбительные слова, безответственно брошенные раздраженным обвинителем. (31) Вижу я вдохновителя этих двух обвинений, вижу их источник, вижу определенное лицо, ту, кто всему голова. Понадобилось золото; Целий взял его у Клодии, взял без свидетеля, держал у себя столько времени, сколько хотел. Я усматриваю в этом важнейший признак каких-то исключительно близких отношений. Ее же он захотел умертвить; приобрел яд, подговорил рабов, питье приготовил, место назначил, тайно принес яд. Опять-таки я вижу, что между ними была жестокая размолвка и страшная ненависть. В этом суде все дело нам придется иметь, судьи, с Клодией, женщиной не только знатной, но и всем знакомой; о ней я не стану говорить ничего, кроме самого необходимого, чтобы опровергнуть обвинение. (32) Но ты, Гней Домиций[1839], при своей выдающейся проницательности, понимаешь, что нам предстоит иметь дело с ней одной. Если она не заявляет, что предоставила Целию золото, если она не утверждает, что Целий для нее приготовил яд, то я поступаю необдуманно, называя мать семейства не так, как того требует уважение к матроне. Но если, когда мы отвлечемся от роли этой женщины, у противников не остается ни возможности обвинять Марка Целия, ни средств для нападения на него, то что же другое тогда должен сделать я как защитник, как не отразить выпады тех, кто его преследует? Именно это я и сделал бы более решительно, если бы мне не мешали враждебные отношения с мужем этой женщины; с братом ее, хотел я сказать — постоянная моя обмолвка[1840]. Теперь я буду говорить сдержанно и постараюсь не заходить дальше, чем этого потребуют мой долг и само дело. Ведь я никогда не находил нужным враждовать с женщинами, а особенно с такой, которую все всегда считали скорее всеобщей подругой, чем чьим-либо недругом.
(XIV, 33) Но я все-таки сначала спрошу самое Клодию, что́ она предпочитает: чтобы я говорил с ней сурово, строго и на старинный лад или же сдержанно, мягко и изысканно? Ведь если мне придется говорить в прежнем жестком духе и тоне, то надо будет вызвать из подземного царства кого-нибудь из тех бородачей — не с такой бородкой, какими эта женщина восхищается, но с той, косматой бородой, какую мы видим на древних статуях и изображениях, — пусть бы он ее выбранил и вступился за меня, а то она, чего доброго, на меня разгневается. Итак, пусть восстанет перед ней кто-нибудь из этой же ветви рода, лучше всего — знаменитый Слепой[1841]; ведь меньше всех огорчится тот, кто ее не увидит. Если он восстанет, то он, конечно, так поведет речь и произнесет вот что: «Женщина, что у тебя за дело с Целием, с юнцом, с чужаком? Почему ты была либо так близка с ним, что дала ему золото, либо столь враждебна ему, что боялась яда? Разве ты не видела своего отца, разве не слышала, что твой дядя, дед, прадед, [прапрадед,] прапрапрадед были консулами?[1842] (34) Наконец, разве ты не знала, что ты еще недавно состояла в браке с Квинтом Метеллом, прославленным и храбрым мужем, глубоко любившим отечество[1843], который, всякий раз как переступал порог дома, доблестью своей, славой и достоинством превосходил, можно сказать, всех граждан? Почему, после того как ты, происшедшая из известнейшего рода, вступив в брак, вошла в прославленное семейство, Целий был с тобой так близок? Разве он был родичем, свояком, близким другом твоего мужа? Ничего подобного. Что же это в таком случае, как не безрассудство и разврат? Если на тебя не производили впечатления изображения мужей из нашего рода, то почему тебя не побудила к подражанию в женской доблести, свойственной нашему дому, происшедшая от меня знаменитая Квинта Клавдия[1844], или знаменитая дева-весталка Клавдия, которая, обняв своего отца во время его триумфа, не позволила его недругу, народному трибуну, совлечь его с колесницы?[1845] Почему тебя привлекали пороки твоего брата, а не добрые качества отцов и дедов, неизменные как в мужчинах, так и в женщинах, начиная с моего времени? Для того ли расстроил я заключение мира с Пирром[1846], чтобы ты изо дня в день заключала союзы позорнейшей любви? Для того ли провел я воду, чтобы ты пользовалась ею в своем разврате? Для того ли проложил я дорогу, чтобы ты разъезжала по ней в сопровождении посторонних мужчин?»[1847]
(XV, 35) Но почему, судьи, я ввел такое важное лицо, как Аппий Клавдий? Боюсь, как бы он вдруг не обратился к Целию и не начал его обвинять со свойственной ему цензорской строгостью. Впрочем, я рассмотрю это впоследствии, судьи, причем я уверен, что, выступая даже перед самыми строгими и требовательными людьми, я сумею оправдать образ жизни Марка Целия. А ты, женщина, — это уже я сам говорю с тобой, не от другого лица, — если думаешь заслужить одобрение за все то, что ты делаешь, что говоришь, что взводишь на Целия, о чем хлопочешь, что утверждаешь, непременно должна привести и изложить основания для такой большой близости, для столь тесного общения, для столь прочного союза. Обвинители, со своей стороны, твердят о разврате, о любовных связях, о блуде, о Байях, о взморье, о пирах, о попойках, о пении, о хорах, о прогулках на лодках и указывают, что не говорят ничего такого, что не угодно тебе. Так как ты, по разнузданности и безрассудству, захотела перенести все это дело в суд и на форум, то тебе надо либо опровергнуть все эти слухи как ложные, либо признать, что ни твое обвинение, ни твои свидетельские показания не заслуживают доверия.
(36) Но если ты предпочитаешь, чтобы я говорил с тобой более вежливо, я так и заговорю: удалю этого сурового и даже, пожалуй, неотесанного старика; итак, я выберу кого-нибудь из твоих родных и лучше всего твоего младшего брата[1848], который в своем роде самый изящный; уж очень он любит тебя; по какой-то странной робости и, может быть, из-за пустых ночных страхов он всегда ложился спать с тобою вместе, как малыш со старшей сестрой. Ты должна считать, что это он тебе говорит: «Что ты шумишь, сестра, что безумствуешь?
Что безделицу ты с криком вещью важною зовешь?[1849]Ты приметила юного соседа; белизна его кожи, его статность, его лицо и глаза тебя поразили; ты захотела видеть его почаще; иногда бывала в тех садах, где и он; знатная женщина, ты хочешь, чтобы сын хозяина этого дома, человека скупого и скаредного, прельстился твоими чарами; тебе это не удается; он брыкается, плюется, отвергает тебя, думает, что твои дары не так уж дорого сто́ят. Обрати лучше внимание на кого-нибудь другого. У тебя же есть сады на Тибре и они устроены тобой как раз в том месте, куда вся молодежь приходит плавать; здесь ты можешь выбирать себе ровню хоть каждый день. Почему ты пристаешь к этому юноше, который тобой пренебрегает?»
(XVI, 37) Возвращаюсь снова к тебе, Целий, и беру на себя роль важного и строгого отца. Но я в сомнении, какого именно отца сыграть мне: в духе ли Цецилия[1850], крутого и сурового —
Вот теперь горю я злостью, вот теперь весь в гневе я,или же такого:
О, несчастный! О, злодей ты!Ведь у таких отцов сердца железные:
Что мне сказать, чего же мне хотеть? Ты сам Проступками отбил охоту у меня.Они почти невыносимы. Такой отец, пожалуй, скажет: «Почему же ты рядом с распутницей поселился? Почему ты соблазнов явных бежать не решился?»
С чужой женой ты почему стал близок? Оставь и брось ее. По мне — изволь! Придет нужда — тебе страдать, не мне. Мне хватит, чем остаток дней мне скрасить.(38) Этому суровому и прямому старику Целий ответил бы, что он, правда, сбился с пути, но вовсе не был увлечен страстью. Как это доказать? Ни больших трат, ни денежных потерь, ни займов для покрытия долгов. Но, скажут мне, ходили всякие слухи. А кто из нас может их избежать, особенно среди столь злоречивых сограждан? Ты удивляешься, что о соседе этой женщины говорят дурно, когда ее родной брат не мог избежать несправедливых людских пересудов? Но для мягкого и снисходительного отца, подобного такому:
Двери выломал? Поправят. Платье изорвал? Починится[1851].— дело Целия не представляет решительно никаких затруднений. Ну в чем бы не мог он с легкостью оправдаться? Во вред этой женщине я уже ничего говорить не стану. Но, положим, существовала какая-нибудь другая, — на эту непохожая — которая всем отдавалась; ее всегда кто-нибудь открыто сопровождал; в ее сады, дом, Байи с полным основанием стремились все развратники, она даже содержала юношей и шла на расходы, помогая им переносить бережливость их отцов; как вдова она жила свободно, держала себя бесстыдно и вызывающе; будучи богатой, была расточительна; будучи развращенной, вела себя как продажная женщина. Неужели я мог бы признать развратником человека, который при встрече приветствовал бы ее несколько вольно?
(XVII, 39) Но кто-нибудь, пожалуй, скажет: «Так вот каковы твои взгляды? Так ты наставляешь юношей? Для того ли отец поручил и передал тебе этого мальчика, чтобы он проводил свою молодость, предаваясь любви и наслаждениям, а ты этот образ жизни и эти увлечения защищал?» Нет, судьи, если кто и обладал такой силой духа и такой врожденной доблестью и воздержанностью, что отвергал всяческие наслаждения и проводил всю свою жизнь, закаляя тело и упражняя ум, причем ему не доставляли удовольствия ни покой, ни отдых, ни увлечения сверстников, ни игры, ни пиры, и если он не считал нужным добиваться в жизни ничего иного, кроме славы и достоинства, то такой человек, по моему мнению, наделен и украшен, так сказать, дарами богов. Такими людьми, полагаю я, были знаменитые Камиллы, Фабриции, Курии и все те, которые из самого малого создали это вот, столь великое[1852]. (40) Но подобные доблести исчезли не только из наших нравов, но даже и в книгах их уже не найдешь. Даже свитки, в которых содержались заветы той былой строгости, устарели и не только у нас, следовавших этим правилам и образу жизни на деле более, чем на словах; даже у греков, ученейших людей, которые, не имея возможности действовать, все же могли искренне и пышно говорить и писать, после изменения положения в Греции появились некоторые другие наставления. (41) Поэтому одни[1853] сказали, что мудрые люди все делают ради наслаждения, и ученые не отвергли этого позорного мнения; другие[1854] сочли нужным соединять с наслаждением достоинство, чтобы эти вещи, глубоко противоречащие одна другой, связать своим изощренным красноречием; те, которые избрали один прямой путь к славе, сопряженный с трудом, остались в школах чуть ли не в одиночестве[1855]. Ведь много соблазнов породила для нас сама природа; усыпленная ими доблесть иногда смежает глаза; много скользких путей показала она молодости, на которые та едва ли может встать, вернее, пойти по ним без того, чтобы не споткнуться и не упасть; она предоставила нам много разнообразных привлекательных вещей, которые могут увлечь не только это вот юное, но и уже возмужавшее поколение. (42) Поэтому если вы случайно найдете человека, с презрением смотрящего на великолепие всего того, что нас окружает, которого не привлекают ни запах, ни прикосновение, ни вкус и который закрывает свои уши для всего приятного, то, быть может, я и еще немногие будем считать, что боги к нему милостивы, но большинство призна́ет, что они на него разгневаны. (XVIII) Итак, оставим этот безлюдный, заброшенный и уже прегражденный ветвями и кустарниками путь; следует предоставить юному возрасту кое-какие забавы; пусть молодость будет более свободна; нечего отказываться от всех наслаждений; пусть не всегда берет верх разумный и прямой образ мыслей; пусть страсть и наслаждение порой побеждают рассудок, только бы удержалось одно, вот какое правило в соблюдении меры: пусть юношество бережет свою стыдливость, не посягает на чужую, не расточает отцовского имущества, не разоряется от уплаты процентов, не вторгается в чужой дом и семью, не позорит целомудренных, не губит бескорыстных, не порочит ничьего доброго имени; пусть юношество никому не угрожает насилием, не участвует в кознях, от злодеяний бежит. Наконец, пусть оно, отдав дань наслаждениям, уделив некоторое время любовным забавам, свойственным его возрасту, и пустым страстям молодости, возвратится к заботе о своем доме, о правосудии и о благе государства, дабы было видно, что юношество, пресытившись, отвергло и, испытав, презрело все то, что ранее разумом своим не могло оценить по достоинству.
(43) На памяти нашей и отцов и предков наших, судьи, было много выдающихся людей и прославленных граждан, которые, после того как перебродили страсти их молодости, уже в зрелом возрасте проявили исключительные доблести. Мне не хочется никого из них называть; вы сами о них помните. Ибо я не хочу воздавать хвалу какому-либо храброму и знаменитому мужу и в то же время говорить хотя бы о малейшем его проступке. Если бы я думал это сделать, я бы во всеуслышание назвал многих выдающихся и виднейших мужей и упомянул отчасти об их чрезмерном своеволии в молодости, отчасти об их расточительности и любви к роскоши, об их огромных долгах, расходах, безнравственных поступках. После того как они впоследствии загладили все это многими доблестями, тот, кто захочет, сможет защищать и оправдывать их, ссылаясь на их молодость. (XIX, 44) Но в жизни Марка Целия — я буду теперь говорить о его достойных уважения занятиях с большей уверенностью, так как, полагаясь на вашу мудрость, решаюсь кое-что открыто признать, — право, не отыщется ни любви к роскоши, ни трат, ни долгов, ни увлечения пирушками и развратом. Правда, порок чревоугодия с возрастом человека не только не уменьшается, но даже растет. А любовные дела и утехи, как их называют, которые людей, обладающих большой стойкостью духа, обычно тревожат не слишком долго (ведь они в свое время и притом быстро теряют свою привлекательность), никогда не захватывали и не опутывали Марка Целия. (45) Вы слушали его, когда он говорил в свою защиту; вы слушали его и ранее, когда он выступал как обвинитель (говорю это с целью защиты, а не ради того, чтобы похвастать[1856]); его красноречие, его одаренность, его богатый запас мыслей и слов вы своим искушенным умом оценили. При этом вы видели, что у Целия не только проявлялось дарование, которое часто, даже если оно не поддерживается трудолюбием, все же обладает собственной силой воздействия; у него — если только я случайно не заблуждался ввиду своего расположения к нему — были основательные знания, приобретенные изучением наук и закрепленные усердным трудом в бессонные ночи. Но знайте, судьи, те страсти, какие Целию ставят в упрек, и то рвение, о котором я говорю, едва ли могут быть присущи одному и тому же человеку. Ведь невозможно, чтобы человек, преданный наслаждениям, которым владеют желания и страсти, то расточительный, то нуждающийся в деньгах, мог не только на деле, но даже в своих мыслях перенести те трудности, какие мы, произнося речи, переносим, каким бы образом мы это ни делали. (46). Или, по вашему мнению, есть какая-то другая причина, почему при таких больших наградах за красноречие, при таком большом наслаждении, получаемом от произнесения речи, при такой большой славе, влиянии, почете находится и всегда находилось так мало людей, занимающихся этой деятельностью? Надо отрешиться от всех наслаждений, оставить развлечения, любовные игры, шутки, пиры; чуть ли не от бесед с близкими надо отказаться. Поэтому такая деятельность и неприятна людям и отпугивает их, но не потому, что у них недостает способностей или образования, полученного ими в детстве. (47) Разве Целий, избери он в жизни тот легкий путь, мог бы, будучи еще совсем молодым человеком, привлечь консуляра к суду? Если бы он избегал труда, если бы он попал в сети наслаждений, разве стал бы он выступать изо дня в день на этом поприще, вызывать вражду к себе, привлекать других к суду, сам подвергаться опасности поражения в гражданских правах[1857] и на глазах у римского народа уже в течение стольких месяцев биться либо за гражданские права, либо за славу? (XX) Итак, ничем дурным не попахивает это житье по соседству[1858], ничего не значит людская молва, ни о чем не говорят, наконец, сами Байи? Уверяю вас, Байи не только говорят, но даже гремят о том, что одну женщину ее похоть довела до того, что она уже не ищет уединенных мест и тьмы, обычно покрывающих всякие гнусности, но, совершая позорнейшие поступки, с удовольствием выставляет себя напоказ в наиболее посещаемых и многолюдных местах и при самом ярком свете.
(48) Но если кто-нибудь думает, что юношеству запрещены также и любовные ласки продажных женщин, то он, конечно, человек очень строгих нравов — не могу этого отрицать — и при этом далек не только от вольностей нынешнего века, но даже от обычаев наших предков и от того, что было дозволено в их время. И в самом деле, когда же этого не было? Когда это осуждалось, когда не допускалось, когда, наконец, существовало положение, чтобы не было разрешено то, что разрешено? Здесь я самое суть дела определю; женщины ни одной не назову; весь вопрос оставлю открытым. (49) Если какая-нибудь незамужняя женщина откроет свой дом для страстных вожделений любого мужчины и у всех на глазах станет вести распутную жизнь, если она привыкнет посещать пиры совершенно посторонних для нее мужчин, если она так будет поступать в Риме, в загородных садах, среди хорошо знакомой нам сутолоки Бай, если это, наконец, будет проявляться не только в ее поведении, но и в ее наряде и в выборе ею спутников, не только в блеске ее глаз[1859] и в вольности ее беседы, но также и в объятиях и поцелуях, в пребывании на морском берегу, в участии в морских прогулках и пирах, так что она будет казаться, не говорю уже — распутницей, но даже распутницей наглой и бесстыдной, то что подумаешь ты, Луций Геренний, о каком-нибудь молодом человеке, если он когда-нибудь проведет время вместе с ней? Что он блудник или любовник? Что он хотел посягнуть на целомудрие или же удовлетворить свое желание? (50) Я уже забываю обиды, нанесенные мне тобой, Клодия, отбрасываю воспоминания о своей скорби; твоим жестоким обращением с моими родными в мое отсутствие[1860] пренебрегаю; не считай, что именно против тебя направлено все сказанное мной. Но я спрашиваю тебя, Клодия, так как, по словам обвинителей, судебное дело поступило к ним от тебя, и ты сама являешься их свидетельницей в этом деле: если бы какая-нибудь женщина была такой, какую я только что описал, — на тебя непохожей — с образом жизни и привычками распутницы, то разве тебе показалось бы позорнейшим или постыднейшим делом, что молодой человек был с ней в каких-то отношениях? Коль скоро ты не такая (предпочитаю это думать), то какие у них основания упрекать Целия? А если они утверждают, что ты именно такая, то какие у нас основания страшиться этого обвинения, если им пренебрегаешь ты? Поэтому укажи нам путь и способ для защиты; ибо или твое чувство стыда подтвердит, что в поведении Марка Целия не было никакой распущенности, или твое бесстыдство даст ему и другим полную возможность защищаться.
(XXI, 51) Но так как моя речь как будто перебралась через мели, а подводные камни миновала, то остающийся путь представляется мне очень легким. Ведь от одной преступнейшей женщины исходят два обвинения: насчет золота, как говорят, взятого у Клодии, и насчет яда, в приобретении которого, с целью умерщвления той же Клодии, обвиняют Целия. Золото он взял, как вы утверждаете, для передачи рабам Луция Лукцея[1861], чтобы они убили александрийца Диона, жившего тогда у Лукцея[1862]. Великое преступление — как злоумышлять против послов, так и подстрекать рабов к убийству гостя их господина. Это замысел злодейский, дерзкий! (52) Что касается этого обвинения, то я прежде всего хочу знать одно: сказал ли он Клодии, для чего берет золото, или не говорил? Если не сказал, почему она дала его? Если сказал, то она сознательно стала его соучастницей в преступлении. И ты осмелилась достать золото из своего шкафа, осмелилась, отняв у нее украшения, ограбить свою Венеру Грабительницу[1863], зная, для какого большого преступления это золото требовалось, — для убийства посла? При этом вечный позор за это злодейство пал бы на Луция Лукцея, честнейшего и бескорыстнейшего человека! В этом столь тяжком преступлении твое щедрое сердце не должно было быть соучастником, твой общедоступный дом — пособником, наконец, твоя гостеприимная Венера — помощницей. (53) Бальб понял это; он сказал, что цель была от Клодии скрыта, что Целий внушил ей, что ищет золото для устройства пышных игр[1864]. Если он был так близок с Клодией, как утверждаешь ты, говоря столь много о его развращенности, то он, конечно, сказал ей, для чего ему нужно золото; если он так близок с ней не был, то она ему золота не давала. Итак, если Целий сказал тебе правду, о, необузданная женщина, то ты сознательно дала золото на преступное деяние; если он не посмел сказать правду, то ты золота ему не давала.
(XXII) К чему мне теперь противопоставлять этому обвинению доказательства, которым нет числа? Я могу сказать, что столь жестокое злодеяние противно характеру Марка Целия; что менее всего можно поверить, чтобы такому умному и рассудительному человеку не пришло в голову, что, идя на столь тяжкое злодеяние, незнакомым и притом чужим рабам доверять нельзя. Могу также, по обыкновению других защитников, да и по своему собственному, спросить обвинителя вот о чем: где встретился Целий с рабами Лукцея, как обратился он к ним; если сам, то насколько опрометчиво он поступил; если через кого-либо другого, то через кого же? В своей речи я могу пробраться во все подозрительные закоулки; ни причины, ни места, ни возможности, ни соучастника, ни надежды совершить злодеяние, ни надежды скрыть его, ни какого-либо плана, ни следа тягчайшего деяния — ничего не будет обнаружено. (54) Но все это, обычное для оратора, что — благодаря не моему дарованию, а опыту и привычке говорить — могло бы принести мне некоторую пользу (так как казалось бы, что все это я разработал сам), я ради краткости полностью опускаю. Ведь со мной рука об руку стоит тот, кому вы, судьи, охотно позволите принять участие в выполнении вами своих обязанностей, подтвержденных клятвой; это Луций Лукцей, честнейший человек, важнейший свидетель, который не мог бы не знать о таком страшном покушении Марка Целия на его доброе имя и благополучие, никак не пренебрег бы им и его не стерпел бы. Неужели знаменитый муж, отличающийся известным всем благородством духа, рвением, познаниями в искусствах и науках, мог бы пренебречь опасностью, угрожавшей человеку, которого он ценил именно за его ученость? Неужели он отнесся равнодушно к злодейскому покушению на своего гостя? Ведь он, даже будь оно направлено против чужого ему человека, жестоко осудил бы его. Разве он оставил бы без внимания покушение своих рабов на такое деяние, весть о котором опечалила бы его, будь оно делом рабов, ему незнакомых? Неужели он спокойно перенес бы, если бы в Риме и притом у него в доме было задумано преступление, которое он осудил бы, будь оно совершено в деревне или в общественном месте? Неужели он, образованный человек, счел бы нужным скрыть коварные козни против ученейшего человека, когда он не оставил бы без внимания опасности, грозившей какому-нибудь невежде? (55) Но почему я отнимаю у вас время, судьи? Выслушайте записанные добросовестные показания самого свидетеля, давшего клятву, и вдумайтесь во все его слова. Читай! [Свидетельские показания Луция Лукцея.] Чего еще ждете вы? Или вы думаете, что само дело и истина могут подать голос в свою защиту? Вот оправдание невиновного человека, вот что говорит само дело, вот подлинный голос истины! Само обвинение не дает возможности подозревать; обстоятельства дела не доказаны; деяние, говорят, было совершено, но нет и следов договоренности, нет указаний ни на место, ни на время; не называют имен ни свидетеля, ни соучастника; все обвинение исходит из враждебного, из опозоренного, из жестокого, из преступного, из развратного дома; напротив, тот дом, который, как говорят, запятнан нечестивым злодеянием, на самом деле преисполнен неподкупности, достоинства, сознания долга, добросовестности; из этого дома в вашем присутствии и оглашают записанные свидетельские показания, скрепленные клятвой, так что вам предстоит решить вопрос, не вызывающий сомнений: кому верить — безрассудной, наглой, обозлившейся женщине, измыслившей обвинение, или же достойному, мудрому, воздержному мужчине, добросовестно давшему свидетельские показания?
(XXIII, 56) Итак, осталось обвинение в попытке отравления. Тут я не могу ни найти начало, ни конец распутать. И в самом деле, по какой же причине Целий хотел дать этой женщине яд? Чтобы не возвращать ей золота? А разве она его требовала? Чтобы ему не предъявили обвинения?[1865] Но разве кто-нибудь бросил ему упрек? Наконец, разве кто-нибудь упомянул бы о Целии, если бы он сам не возбудил судебного преследования? Более того, как вы слышали, Луций Геренний говорил, что если бы после оправдания близкого ему человека Целий во второй раз не привлек этого человека к суду по тому же делу, то он не сказал бы Целию ни единого неприятного слова. Так вероятно ли, чтобы столь тяжкое преступление было совершено без всякого основания? И вы не видите, что обвинение в величайшем злодеянии измышляется для того, чтобы казалось, будто было основание совершить другое злодеяние?[1866] (57) Кому, наконец, Целий дал такое поручение, кто был его пособником, кто — соучастником, кто знал о нем? Кому доверил он столь тяжкое деяние, кому доверился сам, кому доверил свое существование? Рабам этой женщины? Ведь именно в этом его и обвиняют. И он, уму которого вы, во всяком случае, воздаете должное, хотя своей враждебной речью и отказываете ему в других качествах, был настолько безрассуден, чтобы доверить все свое благополучие чужим рабам? И каким рабам! Ведь именно это очень важно. Не таким ли, которые, как он понимал, не находятся на обычном положении рабов, но живут более вольно, более свободно, будучи в более близких отношениях со своей госпожой? В самом деле, судьи, кто не понимает, вернее, кто не знает, что в таком доме, где «мать семейства» ведет распутный образ жизни, откуда нельзя выносить наружу ничего из того, что там происходит, где обитают беспримерный разврат, роскошь, словом, все неслыханные пороки и гнусности, — что там рабы не являются рабами? Ведь им все поручается, при их посредстве все совершается; они тоже предаются всяческим удовольствиям, им доверяют тайны и им кое-что перепадает при ежедневных тратах и излишествах. (58) И Целий этого не понимал? Ведь если он был с этой женщиной так близок, как вы утверждаете, то он знал, что и эти рабы близки со своей госпожой. А если у него такой тесной связи с ней, на какую вы указываете, не было, то как могла у него быть такая тесная близость с ее рабами?
(XXIV) Что же касается самого покушения на отравление, то как же оно, по их навету, произошло? Где яд был приобретен? Как был он добыт, каким образом, кому и где передан? Целий, говорят, его хранил дома и испытал его силу на рабе, которого купил именно с этой целью; мгновенная смерть раба убедила его в пригодности яда. (59) О, бессмертные боги! Почему вы иногда либо закрываете глаза на величайшие злодеяния людей, либо кару за совершенное у нас на глазах преступление откладываете на будущее время? Ведь я видел, видел и испытал скорбь, пожалуй, самую сильную в своей жизни, когда Квинта Метелла отрывали от груди и лона отчизны и когда того мужа, который считал себя рожденным для нашей державы, через день после того, как он был на вершине своего влияния в Курии, на рострах, в государстве вообще, самым недостойным образом, в цветущем возрасте, полного сил, отнимали у всех честных людей и у всего государства. Именно в то время он, умирая, когда его сознание уже было несколько затемнено, сохранял остатки своего разума, чтобы вспомнить о положении государства; глядя на мои слезы, он прерывающимся и замирающим голосом объяснял мне, какой сильный вихрь угрожал мне[1867], какая сильная буря — государству, и, стуча в стену, которая у него была общей с Квинтом Катулом[1868], то и дело обращался к Катулу, часто — ко мне, но чаще всего — к государству, скорбя не столько из-за того, что умирает, сколько из-за того, что и отчизна, и я лишаемся его защиты. (60) Если бы этот муж не был устранен неожиданным злодеянием, то какое, подумайте, противодействие он мог бы как консуляр оказать своему бешеному брату, когда он, будучи консулом, в сенате во всеуслышание сказал, что убьет его своей рукой, когда тот начал буйствовать и орать![1869] И эта женщина, выйдя из такого дома, осмелится говорить о быстро действующем яде?[1870] Неужели не побоится она самого́ дома — как бы он не заговорил? И на нее не наведут ужаса стены-сообщницы и воспоминания о той роковой, горестной для нас ночи? Но я возвращаюсь к обвинению; правда, при воспоминании о прославленном и храбрейшем муже мой голос ослабел и прерывается слезами, а ходу моих мыслей мешает скорбь.
(XXV, 61) Но все-таки о том, откуда яд был добыт, как он был приготовлен, не говорится. Он будто бы был дан этому вот Публию Лицинию, порядочному и честному юноше, близкому другу Целия; был, говорят, уговор с рабами: они должны были прийти к Сениевым баням; туда же должен был прийти Лициний и передать им баночку с ядом. Здесь я, прежде всего, спрошу, почему надо было приносить яд в условленное место, почему эти рабы не пришли к Целию домой. Если такое тесное общение, такие близкие отношения между Целием и Клодией все еще поддерживались, то разве показалось бы подозрительным, если бы у Целия увидели раба этой женщины? Но если ссора уже произошла, общение прекратилось, совершился разрыв, то, конечно, ясно, «откуда эти слезы»[1871], и вот причина всех злодеяний и обвинений. (62) «Мало того, — говорит обвинитель, — когда рабы донесли своей госпоже об обстоятельствах этого дела и о злодействе Целия, умная женщина подучила их надавать Целию обещаний. А для того, чтобы была возможность на глазах у всех захватить яд, когда Лициний будет его передавать, она велела им назначить местом для передачи Сениевы бани — с тем, чтобы послать туда своих друзей, которые должны были спрятаться, а затем, когда Лициний придет и станет передавать яд, выбежать вперед и схватить его».
(XXVI) Опровергнуть все это, судьи, очень легко. В самом деле, почему он выбрал именно общественные бани? Не вижу, какое может быть там укромное место для людей, одетых в тоги. Ибо, если бы они стояли в вестибуле[1872], они не могли бы спрятаться; если бы они захотели войти внутрь, то это было бы неудобно, так как они были обуты и одеты, и их, пожалуй, не впустили бы, если только эта всесильная женщина, получив и уплатив один квадрант[1873], уже не сблизилась с банщиком. (63) Право, я с нетерпением ожидал, какие именно честные мужи будут объявлены свидетелями этого захвата яда на глазах у всех; ведь до сего времени еще не назвали ни одного. Но это, не сомневаюсь, люди очень строгих правил, раз они, во-первых, близки с такой женщиной и, во-вторых, взяли на себя поручение столпиться в банях, чего она, конечно, — как она ни всесильна — не могла бы добиться ни от кого, разве только от столь высокочтимых мужей, преисполненных величайшего достоинства! Но к чему я говорю так много о достоинстве этих свидетелей? Оцените лучше их доблесть и рвение. «Они спрятались в банях». Превосходные свидетели! «Затем стремглав бросились вперед». Какие решительные люди! Ведь вы изображаете дело так: когда Лициний пришел, держа в руке баночку, и пытался ее передать, но еще не передал, тогда-то вдруг и налетели эти славные свидетели, правда, безымянные; а Лициний уже протянул, было, руку, чтобы передать баночку, но отдернул ее и, подвергшись неожиданному нападению этих людей, обратился в бегство. О, великая сила истины, которая с легкостью защищает себя сама от изобретательности, хитрости и ловкости людей и от любых измышленных ими козней! (XXVII, 64) Как бездоказательна вся эта басенка бывалой сочинительницы многих басен! Ведь для нее даже развязки не придумаешь! Подумать только! Почему столько мужчин (а их ведь потребовалось немало, чтобы легко было схватить Лициния и чтобы дело было лучше засвидетельствовано многими очевидцами) выпустили Лициния из рук? Почему схватить Лициния, когда он уже отступил назад, чтобы не передавать баночки, было менее удобно, чем в случае, если бы он ее уже передал? Ведь они были расставлены, чтобы схватить Лициния, чтобы на глазах у всех задержать Лициния, либо когда яд еще был у него в руках, либо после того, как он его передаст. Вот каков был весь замысел этой женщины, вот какое поручение дала она этим людям. Почему ты говоришь, что они бросились вперед необдуманно и преждевременно, не понимаю. Их о том и просили, их для того и расставили, чтобы наличие яда, злой умысел, словом, само деяние было установлено с очевидностью. (65) Какое же время, чтобы наброситься на Лициния, могло быть для них более удобным, чем то, когда он пришел, держа в руке баночку с ядом? Если бы приятели этой женщины внезапно выскочили из бань и схватили Лициния, когда баночка уже была передана рабам, Лициний стал бы умолять их поверить ему, стал бы упорно отрицать факт передачи им яда. Как опровергли бы они его слова? Сказали бы, что они все видели? Во-первых, они навлекли бы на себя обвинение в величайшем преступлении[1874]; во-вторых, они сказали бы, что видели то, чего не могли видеть оттуда, где были поставлены. Следовательно, они появились как раз вовремя — когда Лициний пришел, когда он достал баночку, протянул руку, передавал яд. Но конец такой годен для мима, а не для басни; ведь это в миме, когда не могут придумать развязки, кто-то ускользает из рук; затем стук скабилл и занавес[1875]. (XXVIII, 66) Я спрашиваю, почему Лициния, колебавшегося, медлившего, отступавшего, пытавшегося бежать, выпустили из рук эти бабьи наймиты[1876]; почему они не схватили его, почему не обосновали своего обвинения в столь тяжком преступлении его собственным признанием, наличием многих очевидцев, наконец, уликами, которые сами говорили бы за себя? Или они боялись, что не смогут одолеть его? Но их было много, он — один; они сильны, он слаб; они проворны, он перепуган.
Но в этом деле нельзя найти ни фактических доказательств, ни обоснованных подозрений, ни выводов в самом обвинении. Таким образом, это судебное дело лишено доказательств, сопоставлений, всех тех данных, при помощи которых обычно выясняется истина; оно полностью поставлено в зависимость от показаний свидетелей; как раз их, судьи, я и жду, не говорю уже — без всякого страха, но даже с некоторой надеждой на развлечение. (67) Я с радостью увижу, во-первых, изящных молодых людей, близких друзей богатой и знатной женщины, во-вторых, храбрых мужей, расставленных «императоршей»[1877] в засаде и в качестве заслона для охраны бань; я их спрошу, каким именно образом они спрятались и где; был ли это бассейн[1878] или же Троянский конь, который нес в себе и укрыл стольких непобедимых мужей, воевавших ради женщины. Но на один вопрос я уж заставлю их ответить: почему столь многочисленные и такие сильные мужи не схватили Лициния, когда он стоял на месте, и не преследовали его, когда он побежал, хотя он был один и, как видите, он вовсе не силен? Они, конечно, никогда не вывернутся, если выступят здесь. На пирах они могут быть остроумны, насмешливы, как им угодно, за вином иногда даже красноречивы, но одно дело быть сильным на форуме, другое — в триклинии; одни доводы — на скамьях, другие — на ложах[1879]; да и облик судей и облик участников пирушки — вещи разные; наконец, свет солнца и светильников далеко не одно и то же. Поэтому, если они выступят, я вытряхну из них все их забавы, все их нелепости. Но лучше пусть они меня послушаются, пусть обнаруживают свое рвение на ином поприще, пусть заслуживают милости иным способом, проявляют себя в других делах; пусть процветают в доме этой женщины, блистают изяществом, властвуют, бросая деньги на ветер, не отстают от нее, лежат у ее ног, раболепствуют; но пусть не поднимают руки на гражданские права и достояние невиновного.
(XXIX, 68) Но ведь те рабы, о которых шла речь, скажут мне, отпущены с согласия ее родственников, знатнейших и прославленных мужей[1880]. Наконец-то мы нашли кое-что такое, что эта женщина, как говорят, совершила с согласия и с одобрения своих родичей, храбрейших мужей. Но я желаю знать, что́ доказывает этот отпуск на волю, при котором либо искали способ обвинить Целия, либо предотвращали допрос[1881], либо награждали рабов, соучастников во многих делах. «Но родичи, — говорит обвинитель, — это одобрили». Почему бы им этого не одобрить, когда ты говорила, что сообщаешь им об обстоятельствах дела, о которых будто бы не люди тебе донесли, а ты сама дозналась? (69) И разве нас может удивить то, что с этой существовавшей только в воображении баночкой была связана непристойнейшая сплетня? Ведь когда дело касается этой женщины, можно поверить всему. Об этом происшествии прослышали и толковали повсюду. Ведь вы, судьи, уже давно понимаете, что́ я хочу сказать или, вернее, чего не хочу говорить. Если это и было сделано, то, конечно, не Целием (ведь какое отношение имело все это к нему?), а каким-нибудь юношей, не столько неостроумным, сколько нескромным[1882]. Если же это выдумка, то ложь хотя и не скромна, но все же довольно остроумна; конечно, она никогда не была бы подхвачена в людской молве и толках, если бы любые позорные сплетни не были подстать поведению Клодии.
(70) По делу, судьи, я высказался и заканчиваю свою речь. Вы понимаете теперь, как важен приговор, вынесение которого возложено на вас, какой важный вопрос вам доверен. О насильственных действиях творите вы суд. На основании того закона, от которого зависит империй[1883], величие, целостность отечества, всеобщее благополучие, того закона, который был проведен Квинтом Катулом во время вооруженного столкновения между гражданами при наличии, можно сказать, крайней опасности для существования государства, закона, который, прибив к земле пламя, вспыхнувшее в мое консульство, потушил дымившиеся остатки заговора, — на основании этого самого закона наши противники требуют выдачи Целия, молодого человека, не государству для наказания, а распутной женщине на потеху. (XXX, 71) В связи с этим упоминают также и об осуждении Марка Камурция и Гая Цесерния. О, глупость! Впрочем, глупостью ли назвать мне это или же исключительным бесстыдством? Как вы смеете, приходя от этой женщины, даже упоминать об этих людях? Как вы смеете вызывать воспоминания о таком гнусном поступке, правда, не совсем изгладившиеся, но ослабевшие за давностью времени? И в самом деле, какое преступление и какой поступок погубили их? Конечно, то, что они за неприятность, испытанную этой самой женщиной, и за нанесенную ей обиду наказали Веттия, подвергнув его неслыханному надругательству. Так это для того, чтобы назвать в суде имя Веттия, чтобы повторить старую сплетню о медных деньгах, снова упомянули о деле Марка Камурция и Гая Цесерния? Хотя закон о насильственных действиях на них, конечно, не распространялся, они все же запятнали себя таким злодеянием, что выпустить их из пут закона, по-видимому, было невозможно[1884]. (72) Но почему Марка Целия привлекают к этому суду? Ведь ему не предъявляют ни обвинения, подлежащего ведению суда[1885], ни какого-либо иного обвинения, правда, не предусмотренного законом, но требующего вашей строгости; ведь ранняя молодость Марка Целия была посвящена учению и тем наукам, которые нас подготовляют к выступлениям на форуме, к государственной деятельности, к почету, к славе, к достоинству. Она была посвящена дружеским отношениям с теми людьми, старше его по возрасту[1886], чьему рвению и воздержности он особенно желает подражать, и с такими же прилежными сверстниками, так что он, очевидно, стремится идти по тому же пути славы, какой избрали честнейшие и знатнейшие люди. (73) Когда Марк Целий немного возмужал, он отправился в Африку в качестве соратника проконсула Квинта Помпея[1887], мужа честнейшего и усерднейшего в выполнении своего долга. В этой провинции находились имущество и владения отца Марка Целия, а также можно было заняться кое-какими делами в провинции, которые предки наши не без оснований предназначили для молодых людей. Целий покинул провинцию с наилучшим отзывом Помпея, о чем вы узнаете из свидетельских показаний самого Помпея. По старинному обычаю и по примеру тех молодых людей, которые впоследствии стали в нашем государстве выдающимися мужами и прославленными гражданами, он захотел, чтобы римский народ оценил его рвение на основании какого-нибудь обвинения, которое получит известность. (XXXI, 74) Мне жаль, что жажда славы увлекла его именно на этот путь, но время для таких сетований прошло. Он обвинил моего коллегу Гая Антония, которому, на его беду, память о славном благодеянии, оказанном им государству[1888], нисколько не помогла, а слухи, что он будто бы замышлял злодеяние[1889], повредили. Впоследствии Марк Целий никогда ни в чем не уступал ни одному из своих сверстников; ибо он больше, чем они, бывал на форуме, больше занимался поручениями и судебными делами друзей и был более влиятелен среди своих. Всего того, чего никто, кроме людей бдительных, здравомыслящих, настойчивых, достигнуть не может, он достиг своим трудом и усердием. (75) Но вот на каком-то повороте его жизненного пути (ибо я ничего не стану скрывать, полагаясь на вашу доброту и мудрость) добрая слава юноши слегка зацепилась за мету[1890] из-за знакомства с этой женщиной, злосчастного соседства с нею и непривычных для него наслаждений. А жажда наслаждений, когда ее долго сдерживали, подавляли и обуздывали в ранней молодости, иногда внезапно с силой вырывается наружу. От этого образа жизни или, вернее, от этой дурной молвы — ведь все это было далеко не так ужасно, как об этом говорили, — словом, от всего этого, каково бы оно ни было, он очистился, освободился и поднялся и теперь настолько далек от позорной близости с Клодией, что не хочет ничего знать о ее вражде и ненависти к нему. (76) А для того, чтобы прекратились ходячие толки об удовольствиях и праздности (он, клянусь Геркулесом, сделал это наперекор мне и несмотря на мое сильное противодействие, но все же сделал), он привлек к суду моего друга, обвинив его в незаконном домогательстве; после оправдания он преследует его, снова требует в суд, не слушается никого из нас; он более крут, чем следует. Но я не говорю о здравом смысле, которого этому возрасту не дано; о его стремительности говорю я, о страстном желании победить, о пылкости его ума, добивающегося славы. Эти склонности, которые в нашем возрасте должны быть уже более слабыми, в молодости — подобно тому, как это бывает у растений, — позволяют судить, какова будет доблесть в зрелом возрасте, как значительны будут приносимые усердием плоды. И в самом деле, юноши большого дарования всегда нуждались скорее в том, чтобы их стремление к славе обуздывали, а не в том, чтобы их побуждали добиваться ее. У этого возраста следует больше отсекать лишнее, чем ему что-нибудь прививать, особенно если его самомнение расцветает от похвал. (77) Поэтому если кому-нибудь кажется, что Целий с излишним пылом затевает ссоры и преследует врагов слишком сильно, жестоко и упорно, если кого-нибудь раздражают даже некоторые его повадки, если кому-нибудь неприятен вид пурпура[1891], толпы друзей, весь этот блеск и шум, то все это вскоре перебродит, а возраст, привычка и время вскоре угомонят его.
(XXXII) Итак, судьи, сохраните для государства гражданина, преданного высоким наукам, честному образу мыслей, честным мужам. Обещаю вам, а государству ручаюсь (если только сам я выполнил свой долг перед государством), что Марк Целий никогда не изменит моим убеждениям. Обещаю вам это и потому, что я уверен в наших с ним дружеских отношениях, и потому, что сам он уже связал себя суровейшими законами. (78) Ведь не может человек, который привлек консуляра к суду, так как тот, по его словам, нанес государству вред, сам быть гражданином, сеющим в государстве смуту; не может человек, не мирящийся с оправданием гражданина, уже оправданного по обвинению в незаконном домогательстве, сам когда-либо безнаказанно стать раздатчиком денег для подкупа избирателей. То, судьи, что сам Марк Целий уже дважды выступал как обвинитель, — порука в том, что он не подвергнет государство опасности, и залог его добрых намерений. Поэтому умоляю и заклинаю вас, судьи: в государстве, где несколько дней назад был оправдан Секст Клодий[1892], который в течение двух лет, как вы видели, был то пособником, то вожаком мятежей, человек неимущий, ненадежный, отчаявшийся во всем, бездомный, нищий, с опоганенным ртом, языком, руками, всей жизнью, человек, который своей рукой поджег священные храмы, цензорские списки римского народа, государственный архив[1893], который сломал памятник Катула[1894], срыл мой дом, поджег дом моего брата[1895], человек, который на Палатине, на глазах у всего Рима, поднял рабов на резню и на поджоги всего Рима, — не допускайте, чтобы в этом государстве Секст Клодий был оправдан благодаря влиянию женщины, а Марк Целий женской похоти был выдан головой, — дабы не оказалось, что эта самая женщина, вместе со своим супругом-братом, спасла гнуснейшего разбойника и погубила достойнейшего юношу.
(79) Итак, представив себе воочию молодость Марка Целия, вообразите себе, какова будет старость этого вот несчастного человека[1896], чьей опорой является его единственный сын; на него одного он надеется, за него одного страшится. Он молит вас о сострадании, он — раб, находящийся в вашей власти, он лежит у ваших ног, но больше надеется на ваши добрые чувства и нравы, а вы, памятуя и о своих родителях и о своих милых детях, окажите ему помощь, дабы, сочувствуя чужому горю, проявить уважение к старшим и снисходительность к младшим. Вы не допустите, чтобы этот вот человек, по закону природы уже клонящийся к закату, угас от нанесенной ему вами раны до срока, назначенного ему судьбой, а этот вот[1897], расцветающий только теперь, когда ствол его доблести уже окреп, был повергнут ниц как бы вихрем или внезапной бурей. (80) Сохраните отцу сына и отца сыну, чтобы не казалось, что вы презрели уже почти утратившую надежды старость и не только не ободрили юности, полной величайших надежд, но даже нанесли ей сокрушительный удар. Если вы сохраните его для нас, для его родных, для государства, он будет навсегда благодарен, предан, обязан вам и вашим детям, а от всех его неустанных трудов именно вы, судьи, будете получать в течение многих лет обильные плоды.
20. Речь об ответах гаруспиков [В сенате, май (?) 56 г. до н. э.]
Гаруспициной называлось сложившееся в Этрурии учение об истолковании знамений и предсказании судьбы. Гаруспики объясняли значение удара молнии, гадали по внутренностям жертвенного животного (необычное расположение или необычный внешний вид внутренностей считались дурным признаком) и истолковывали знамения. Они указывали, какое божество посылает знамение, за что оно в гневе и как его умилостивить. Гаруспики входили и в состав когорты полководца или наместника. В городе Риме были странствующие гаруспики, к которым частные лица могли обращаться. Ср. Цицерон, письмо Fam., VI, 6, 3, 9 (CCCCXC).
В начале 56 г. в сенате было получено известие о странном шуме, который будто бы слышали в некоторых частях Лация. Гаруспики объяснили это явление гневом богов на небрежность при общественных играх, на осквернение священных мест, убийство послов, кощунство при жертвоприношении. После того, как сенат признал недействительной консекрацию дома Цицерона (речь 17), Публий Клодий, в 56 г. курульный эдил, заявил, что гаруспики, говоря об осквернении священных мест, имеют в виду снятие религиозного запрета с бывшего владения Цицерона. Цицерон в своей речи дает иное толкование ответов гаруспиков и утверждает, что гнев богов вызван деятельностью Клодия.
(I, 1) Вчера, сильно взволнованный как вашим, отцы-сенаторы, поведением, преисполненным достоинства, так и присутствием многих римских всадников, допущенных в сенат[1898], я счел необходимым пресечь бессовестное бесстыдство Публия Клодия, который нелепейшими вопросами препятствовал разрешению дела откупщиков, оказывал всяческое содействие сирийцу Публию Туллиону[1899] и прямо на ваших глазах продавался тому, кому он уже целиком продался[1900]. Поэтому я обуздал бесившегося и выходившего из себя человека и в то же время пригрозил ему судом; едва произнеся лишь два-три слова, я отразил все свирепое нападение этого гладиатора. (2) А он, не знавший, что́ за люди нынешние консулы[1901], смертельно бледный и потрясенный, неожиданно бросился вон из Курии, изрыгая бессильные и пустые угрозы и стращая ужасами памятного нам времени Писона и Габиния. Когда я последовал было за ним, я был полностью вознагражден тем, что вы все встали со своих мест, а откупщики столпились вокруг меня. Но он, обезумев и изменившись в лице, побледнев и лишившись голоса, неожиданно остановился, затем оглянулся назад и, взглянув на консула Гнея Лентула, упал чуть ли не на пороге Курии, быть может, при воспоминании о друге своем Габинии и в тоске по Писону. Что сказать мне о его необузданном и безудержном бешенстве? Могу ли я нанести ему рану более суровыми словами, чем те, какими его здесь же на месте сразил достойнейший муж Публий Сервилий? Даже если бы я мог сравняться с Публием Сервилием в силе, в исключительном и, можно сказать, дарованном богами достоинстве, то я все-таки не сомневаюсь, что стрелы, направленные в Клодия его недругом[1902], оказались и легче, и не острее тех, которые в него послал коллега его отца[1903].
(II, 3) Но я все-таки хочу объяснить, чем я руководился в своем поведении, тем людям, которым вчера показалось, что я вне себя от боли и гнева зашел, пожалуй, дальше, чем этого требовал продуманный образ действий мудрого человека. Но я ничего не совершил в гневе, ничего — не владея собой, не совершил ничего такого, что не было бы в течение долгого времени взвешено и заранее тщательно обдумано; ибо я, отцы-сенаторы, всегда заявлял себя недругом двоим людям[1904], которые (хотя должны были защищать и могли спасти меня и государство и к исполнению долга консулов их призывали даже знаки этой власти, а к защите моих гражданских прав — не только ваш авторитет, но и ваши просьбы) сначала меня покинули, затем предали, наконец, на меня напали и, вступив — за посулы и награды — в преступный сговор[1905], захотели меня, вместе с государством, уничтожить; они, кто своим водительством, своим кровавым и губительным империем[1906] не сумели ни отвратить гибели от стен наших союзников, ни обрушить ее на вражеские города[1907], они, которые предали — и с выгодой для себя — все мои дома и земли разрушению, поджогам, уничтожению, разорению, опустошению и даже разграблению[1908]. (4) Против этих фурий и факелов, против этих, говорю я, губительных чудовищ и, можно сказать, моровой язвы, поразившей нашу державу, начата мной, как я утверждаю, непримиримая война, не столь, правда, жестокая, какой требовало бы горе, испытанное мной и моими близкими, но такая, какой потребовало горе ваше и всех честных людей. (III) А ненависть моя к Клодию ныне не больше, чем была в тот день, когда я узнал, что его, обожженного священнейшими огнями, в женском наряде вывели из дома верховного понтифика после совершенного им гнусного кощунства[1909]. Тогда, повторяю, тогда я понял и задолго до наступления ее предвидел, какая сильная поднималась гроза, какая буря угрожала государству. Я понимал, что преступности столь наглой, столь чудовищной дерзости знатного юноши, обезумевшего и оскорбленного, не отразить, не нарушая спокойствия; что зло, если останется безнаказанным, рано или поздно вырвется на погибель гражданам. (5) И нужно сказать, что впоследствии моя ненависть к нему возросла не намного. Ибо все то, что он совершил во вред мне, он совершил не из ненависти ко мне лично, а из ненависти к строгим нравам, к достоинству, к государству. Он оскорбил меня не больше, чем сенат, чем римских всадников, чем всех честных людей, чем всю Италию. Наконец, по отношению ко мне он оказался не бо́льшим преступником, чем по отношению к бессмертным богам; ведь это их он оскорбил таким преступлением, каким их до того не оскорблял никто; но ко мне он отнесся так же, как отнесся бы и его близкий приятель Катилина, если бы победил. Поэтому я всегда думал, что он заслуживает моего обвинения не больше, чем чурбан, о котором мы не знали бы, кто он, если бы он сам не назвал себя лигурийцем[1910]. И в самом деле, к чему мне преследовать Публия Клодия, эту скотину, это животное, польстившееся на сытный корм и желуди моих недругов? Если он понял, каким преступлением он связал себя по рукам и по ногам, то он, несомненно, очень жалок; если же он этого не видит, то как бы он, пожалуй, не вздумал оправдываться, ссылаясь на свою несообразительность. (6) К тому же эта жертва, как все ожидают, по-видимому, обречена и предназначена храбрейшему и прославленному мужу Титу Аннию[1911]; было бы очень несправедливо лишить уже обещанной ему и надежной славы того, чьими стараниями я вернул себе и достоинство и гражданские права.
(IV) Действительно, подобно тому, как знаменитый Публий Сципион, видимо, был рожден для уничтожения и разрушения Карфагена (ведь город этот осаждали, подвергали нападениям, крушили и почти что взяли многие императоры[1912], но он один, наконец, разрушил его до основания по своем прибытии, как бы судьбой назначенном), так Тит Анний, видимо, рожден для подавления, истребления, полного уничтожения этой губительной язвы и дарован государству как бы милостью богов. Только он один и понял, каким образом надо было, не говорю уже — победить, нет, сковать гражданина, взявшегося за оружие, который одних изгонял камнями и мечом, других не выпускал из дому[1913], который резней и поджогами держал в страхе весь Рим, Курию, форум, все храмы. (7) У Тита Анния, мужа, столь выдающегося и с такими заслугами передо мной и отечеством, я по своей воле никогда не стану отнимать этого обвиняемого, особенно после того, как он ради моего восстановления в правах не только испытал на себе вражду Публия Клодия, но даже сознательно ее на себя навлек. Но если Публий Клодий, уже попавший в опасные петли законов, опутанный сетями ненависти всех честных людей, предчувствуя уже близкую казнь, все-таки, хотя и немного поколебавшись, рванется вперед и попытается, несмотря на препятствия, напасть на меня, то я буду сопротивляться и либо с согласия Милона, либо даже с его помощью дам ему отпор — подобно тому, как вчера, когда Публий Клодий молча угрожал мне, стоявшему, мне было достаточно только упомянуть о законах и о суде; он тотчас же сел; я замолчал. Но если бы он вызвал меня в суд на определенный день, как угрожал, то претор тут же назначил бы ему явку в суд через три дня. И пусть он ведет себя смирно и примет в соображение вот что: если он ограничится преступлениями, уже совершенными им, то он обречен в жертву Милону; если же он направит стрелу в меня, то и я тотчас же прибегну к оружию в виде правосудия и законов.
(8) А недавно, отцы-сенаторы, он на народной сходке произнес речь, содержание которой мне сообщили полностью. Послушайте сначала, каков был общий смысл этой речи и каково было его предложение. Когда вы уже посмеетесь над его наглостью, я расскажу вам обо всей этой народной сходке. (V) О священнодействиях и обрядах, отцы-сенаторы, держал речь Клодий; Публий Клодий, повторяю я, жаловался на то, что священнодействия и обряды в пренебрежении, что их оскорбляют и оскверняют. Неудивительно, что вам это кажется смешным. Даже созванная им самим народная сходка посмеялась над тем, что человек, заклейменный — как он сам склонен хвалиться — сотнями постановлений сената, которые все приняты против него в защиту религиозных обрядов, мужчина, осквернивший ложа[1914] Доброй богини и оскорбивший не только самим своим присутствием, но и гнусностью и блудом те священнодействия, на которые мужчина не имеет права бросить взгляд даже неумышленно, сетует на народной сходке на пренебрежение к религиозным запретам. (9) Поэтому теперь ждут, что его ближайшая речь на народной сходке будет о целомудрии. И в самом деле, какая разница, будет ли человек, прогнанный от священнейших алтарей, сокрушаться по поводу обрядов и религиозных запретов или же человек, вышедший из спальни своих сестер[1915], — защищать целомудрие и стыдливость. Он прочитал на народной сходке ответ, недавно данный гаруспиками насчет гула; в нем, наряду с многим другим, написано также и то, что вы слышали, — священные и находящиеся под религиозным запретом места используются, как несвященные. Обсуждая этот вопрос, он сказал, что консекрация моего дома была совершена благочестивейшим жрецом, Публием Клодием. (10) Я рад, что у меня появилось не только справедливое основание, но и необходимость поговорить обо всем этом чуде, пожалуй, самом важном из всех тех, о которых на протяжении многих лет сообщалось нашему сословию. Ведь вы усмотрите из всего этого знамения и ответа, что от преступного бешенства Публия Клодия и грозящих нам величайших опасностей уже предостерегает нас, можно сказать, глас самого Юпитера Всеблагого Величайшего. (11) Но сначала я освобожу от религиозного запрета свой дом, если смогу сделать это настолько убедительно, что ни у кого не останется никакого сомнения на этот счет. Если же у кого-нибудь возникнет хотя бы малейшее недоумение, то я не только смиренно, но даже охотно покорюсь знамениям бессмертных богов и религиозному запрету.
(VI) Итак, какой, скажите, дом в этом огромном городе в такой степени свободен и чист[1916] от подозрения насчет религиозного запрета? Хотя ваши дома, отцы-сенаторы, и дома других граждан в подавляющем большинстве случаев и свободны от религиозного запрета, все же один только мой дом в нашем городе был от него всеми судебными решениями освобожден. Призываю тебя, Лентул, и тебя, Филипп: на основании упомянутого ответа гаруспиков сенат постановил, чтобы вы доложили нашему сословию о священных и находящихся под религиозным запретом местах. Можете ли вы доложить это о моем доме? Как я сказал, с него одного в нашем городе всеми судебными решениями был снят какой бы то ни было религиозный запрет. Во-первых, сам недруг мой, начертав в те бурные и мрачные для государства времена своим нечистым стилем, смоченным во рту Секста Клодия, список всех своих прочих злодеяний[1917], не написал о моем доме ни единой буквы религиозного запрета. Во-вторых, римский народ, владеющий всей полнотой власти, во время центуриатских комиций постановил голосами людей разных возрастов и сословий, чтобы этот дом остался в том же правовом положении, в каком он находился и ранее. (12) Впоследствии вы, отцы-сенаторы, — не потому, что дело это казалось сомнительным, но чтобы заставить замолчать эту фурию (если она еще останется в этом городе, который жаждет разрушить), — постановили, чтобы о религиозном запрете, касавшемся моего дома, было доложено коллегии понтификов. От какого религиозного запрета, как бы строг он ни был, нас — при всей нашей нерешительности и щепетильности в вопросах религии — не мог бы освободить один ответ и одно слово Публия Сервилия или Марка Лукулла? Что бы ни решили трое понтификов насчет общественных священнодействий, важнейших игр, обрядов в честь богов-пенатов[1918] и матери Весты, насчет того самого жертвоприношения, которое совершается во имя благоденствия римского народа и впервые со времени основания Рима было оскорблено преступлением одного этого непорочного защитника религиозных запретов, это всегда казалось римскому народу, сенату, самим бессмертным богам достаточно священным, достаточно почитаемым, достаточно неприкосновенным. Но все же консул и понтифик Публий Лентул, Публий Сервилий, Марк Лукулл, Квинт Метелл, Маний Глабрион, Марк Мессалла, фламин Марса Луций Лентул, Публий Гальба, Квинт Метелл Сципион, Гай Фанний, Марк Лепид, царь священнодействий[1919] Луций Клавдий, Марк Скавр, Марк Красс, Гай Курион, фламин Квирина[1920] Секст Цезарь, младшие понтифики Квинт Корнелий, Публий Альбинован, Квинт Теренций, расследовав дело, заслушанное дважды, в присутствии и при величайшем стечении виднейших и мудрейших граждан, все единогласно освободили мой дом от какого бы то ни было религиозного запрета.
(VII, 13) Я утверждаю, что с тех пор, как установлены священнодействия, древность которых равна древности самого Рима, коллегия никогда не выносила решения ни по одному делу в таком полном составе, даже — о смертной казни для дев-весталок. Впрочем, присутствие возможно большего числа людей важно при расследовании преступления; ведь суждение понтификов равносильно судебному приговору; что касается религиозного запрета, то разъяснение может быть по правилам дано даже одним опытным понтификом, между тем такой же порядок решения при суде по делу о гражданских правах был бы жесток и несправедлив. Но вы все же видите, что понтифики для решения насчет моего дома собрались в более полном составе, чем это бывало когда-либо при разборе дел о священнодействиях дев-весталок. На следующий день, когда ты, Лентул[1921], избранный консул, внес предложение, а консулы Публий Лентул и Квинт Метелл[1922] его доложили, когда были налицо все понтифики, принадлежащие к сословию сенаторов, и когда разные другие лица, которых римский народ удостоил высших почетных должностей, подробно обсудив решение коллегии, все приняли участие в записи постановления[1923], тогда сенат, собравшийся в полном составе, постановил признать мой дом, согласно решению понтификов, освобожденным от религиозного запрета. (14) Так неужели же об этом «священном участке» и говорят гаруспики, хотя он, единственный из всех участков частных лиц, находится в особом правовом положении, так что те самые лица, которые ведают священнодействиями, священным его не признали? Доложите же все по правде; ведь на основании постановления сената вы должны это сделать. Либо расследование будет поручено вам, которые первыми высказали свое мнение о моем доме и сняли с него какой бы то ни было религиозный запрет; либо решение примет сам сенат, который уже ранее, в самом полном составе, принял это решение, с которым не согласился только один этот пресловутый жрец по части священнодействий; либо (это, несомненно, и произойдет) дело будет передано понтификам, чьему авторитету, добросовестности и мудрости предки наши поручили ведать священнодействиями и религиозными запретами, как касающимися частных лиц, так и государственными. Итак, что другое могут они решить, как не то, что они уже решили? В городе нашем много домов, отцы-сенаторы, и, пожалуй, почти все они находятся в наиболее благоприятном правовом положении, но все же на основании права частного, права наследственного, права поручительства, права собственности, права долгового обязательства[1924]. Но я утверждаю, что нет ни одного другого дома, который был бы так же, как и мой дом, огражден частным правом и наиболее благоприятным законом; что же касается публичного права[1925], то он тоже огражден всеми особыми правами — и теми, которые установлены людьми, и теми, которые ниспосланы богами. (15) Во-первых, он строится, по решению сената, на государственный счет; во-вторых, он многими постановлениями сената укреплен и огражден от преступного насилия этого гладиатора. (VIII) Первое поручение — обеспечить мне возможность строить, не страдая от насилия, — в прошлом году было возложено на тех же должностных лиц, которым обычно поручается забота обо всем государстве во время величайших испытаний; затем, после того как Публий Клодий камнями, огнем и мечом разорил мое владение, сенат постановил, что на людей, совершивших это, распространяется закон о насильственных действиях, который направлен против тех, кто нападает на все государственные установления. И по вашему докладу, храбрейшие и наилучшие консулы, каких только помнят люди, этот же сенат, собравшись в самом полном составе, постановил, что тот, кто посягнет на мой дом, совершит противогосударственное деяние.
(16) Я утверждаю, что ни об одном государственном сооружении, ни об одном памятнике, ни об одном храме не было принято столько постановлений, сколько их было принято о моем доме, со времени основания этого города единственном, который сенат признал нужным выстроить на средства эрария[1926], при участии понтификов освободить от запрета, поручить охране должностных лиц, отдать под защиту судьям. Публию Валерию за величайшие благодеяния, оказанные им государству, официально был предоставлен дом на Велии[1927], а для меня на Палатине дом был восстановлен; ему было дано место, а мне — стены с кровлей; ему — дом, который он сам должен был оберегать на основании частного права, мне — дом, порученный официальной защите всех должностных лиц. Если бы я был обязан этим себе самому или другим, то я не заявлял бы об этом перед вами, дабы не казалось, что я слишком хвалюсь. Но все это дали мне вы, а на это посягает теперь язык того человека, чья рука ранее разрушила то, что вы своими руками вернули мне и моим детям; поэтому не о моих, а о ваших деяниях говорю я и не боюсь, что прославление ваших милостей покажется проявлением не столько благодарности, сколько самодовольства. (17) Впрочем, если бы меня, выполнившего столь великие труды ради общего блага, чувство негодования когда-либо побудило предаться самовосхвалению в ответ на злоречие бесчестных людей, то кто не простил бы мне этого? Ведь я вчера заметил, что кое-кто ворчал и, как мне говорили, утверждал, что я невыносим, потому что на поставленный тем же омерзительнейшим братоубийцей вопрос, к какому государству я принадлежу, я, при одобрении вашем и римских всадников, ответил: к тому, которое без меня обойтись не могло. Тут-то, как я полагаю, тот человек и вздохнул. Что же мне надо было отвечать? Спрашиваю того, кому кажусь невыносимым. Что я — римский гражданин? Это был бы слишком простой ответ. Или мне надо было промолчать? Но это значило бы отступиться от своего дела. Может ли какой-нибудь муж, своей деятельностью вызвавший к себе ненависть, ответить достаточно внушительно на нападки недруга, не высказав похвалы самому себе? Ведь сам Публий Клодий, чуть его затронут, не только отвечает, как придется, но даже рад-радехонек, если его друзья подскажут ему ответ.
(IX, 18) Но так как все, что касается меня лично, уже разъяснено, посмотрим теперь, что́ говорят гаруспики. Ибо я, признаюсь, сильно взволнован и значительностью знамения, и важностью ответа, и непоколебимым единогласием гаруспиков. Быть может, кое-кому кажется, что я предаюсь ученым занятиям больше, чем другие люди, которые делают то же; но я все же не из тех, кто наслаждается или вообще пользуется такими сочинениями, которые нас отвращают и отвлекают от религии. Прежде всего, для меня подлинными советчиками и наставниками в почитании священнодействий являются наши предки, чья мудрость, мне кажется, была так велика, что те люди, которые могут, не скажу — сравняться с ними умом, но хотя бы понять, сколь велик был их ум, уже кажутся нам достаточно умными. Даже более того, наши предки признали, что установленными и торжественными священнодействиями ведает понтификат, предписаниями относительно ведения государственных дел — коллегия авгуров, что древние предсказания судеб записаны в книгах жрецов Аполлона, а истолкование знамений основано на учении этрусков: на нашей памяти они наперед ясно предсказали нам сперва роковое начало Италийской войны, затем крайнюю опасность времен Суллы и Цинны и этот недавний заговор[1928], когда Риму грозил пожар, а нашей державе — гибель. (19) Затем, как ни мал был мой досуг, я все же узнал, что ученые и мудрые люди многое говорили и писали о воле бессмертных богов; хотя сочинения эти написаны, как я вижу, по внушению богов, однако они таковы, что предки наши кажутся учителями, а не учениками этих писателей[1929]. И в самом деле, кто столь безумен, чтобы, бросая взгляд на небо, не чувствовать, что боги существуют, приписывать случайности тот порядок и закономерность всего существующего, которых даже при помощи какой-либо науки человек постигнуть не может, или чтобы, поняв, что боги существуют, не понимать, что наша столь обширная держава возникла, была возвеличена и сохранена по их воле? Каким бы высоким ни было наше мнение о себе, отцы-сенаторы, мы не превзошли ни испанцев своей численностью, ни галлов силой, ни пунийцев хитростью[1930], ни греков искусствами, ни, наконец, даже италийцев и латинян внутренним и врожденным чувством любви к родине, свойственным нашему племени и стране; но благочестием, почитанием богов и мудрой уверенностью в том, что всем руководит и управляет воля богов, мы превзошли все племена и народы.
(X, 20) Поэтому — чтобы не говорить подробно о деле, менее всего вызывающем сомнения, — напрягите внимание и ум (не один только слух), внемлите голосу гаруспиков: «Так как в Латинской области был слышен гул с шумом,…» Не стану говорить о гаруспиках, о том древнем учении, которое, как гласит людская молва, передано Этрурии самими бессмертными богами. Разве мы сами не можем быть гаруспиками? «Вблизи, невдалеке от Рима, был слышен отдаленный гул и ужасный лязг оружия». Кто из тех гигантов, которые, по словам поэтов, пошли войной на бессмертных богов[1931], как бы нечестив он ни был, не понял бы, что этим столь необычным и столь сильным сотрясением боги предсказывают и предвещают римскому народу нечто важное? Об этом написано: «Это — требование жертв Юпитеру, Сатурну, Нептуну, Земле, богам-небожителям». (21) Я знаю, каким оскорбленным богам нужна умилостивительная жертва, но спрашиваю — за какие именно преступления людей. «Игры были устроены недостаточно тщательно и осквернены». Какие игры? Призываю тебя, Лентул, — ведь ты как жрец ведаешь тенсами, колесницами, вступительными песнопениями[1932], играми, жертвенными возлияниями, пиршеством по случаю игр — и вас, понтифики, которым в случае, если что-нибудь пропущено или упущено, докладывают эпулоны[1933] Юпитера Всеблагого Величайшего, на основании мнения которых эти самые торжества ныне устраиваются и справляются. Какие же игры были устроены недостаточно тщательно? Когда и каким злодеянием осквернены они? Ты ответишь от имени своего и своих коллег, а также и от имени коллегии понтификов, что при этих играх ничем не пренебрегли вследствие чьего-либо невнимания; что ничьим злодеянием ничего не осквернили; что все установленное и положенное при играх было соблюдено с полным благоговением и уважением ко всем предписаниям.
(XI, 22) Итак, какие же игры, по словам гаруспиков, были устроены недостаточно тщательно и осквернены? Те игры, зрителем которых хотели видеть тебя — тебя, Гней Лентул, — сами бессмертные боги и Идейская Матерь[1934], которую твой прапрадед принял своими руками. Если бы ты в тот день не захотел присутствовать при Мегалесиях, то нас, пожалуй, уже не было бы в живых и мы теперь уже не могли бы сетовать на то, что произошло. Ведь бесчисленные толпы разъяренных рабов, созванные со всех концов города этим благочестивым эдилом[1935], внезапно ринулись из-под всех арок и из всех выходов на сцену, впущенные по данному им знаку. Твоя это была тогда, твоя доблесть, Гней Лентул, — та же, какой некогда обладал твой прадед, бывший частным лицом. Тебя, имя твое, твою власть, голос, достоинство, твою решимость, встав со своих мест, поддержали и сенат, и римские всадники, и все честные люди, когда Клодий толпе издевающихся рабов выдал сенат и римский народ как бы скованными своим присутствием на играх, привязанными к своим местам и зажатыми в давке и тесноте. (23) Ведь если плясун остановится, или флейтист неожиданно умолкнет, или если мальчик, у которого живы и отец, и мать[1936], не удержит тенсы и выпустит повод из рук, или если эдил ошибется в одном слове или в подаче жертвенной чаши, то игры считаются совершенными не по правилам, эти погрешности должны быть искуплены, а бессмертных богов умилостивляют повторением тех же игр. Но если игры с самого начала превратились из источника радости в источник страха, если они не просто прерваны, а нарушены и прекращены, если из-за злодеяния одного человека, захотевшего превратить игры в скорбные рыдания, дни эти оказались не праздничными, а чуть ли не роковыми для всех граждан, то можно ли сомневаться, об осквернении каких именно игр возвещает этот шум? (24) А если вспомнить, чему нас учат предания о каждом из богов, то мы уже понимаем, что это Великая Матерь, чьи игры были оскорблены, осквернены, можно сказать, превращены в резню и похороны государства, что это она, повторяю, с гулом и шумом шествует по полям и рощам. (XII) Итак, это она воочию показала вам, показала римскому народу все улики злодеяний и раскрыла предвестие опасностей.
Ибо к чему мне говорить о тех играх, которые предки наши повелели устраивать в дни Мегалесий на Палатине, перед храмом, прямо перед лицом Великой Матери? Об играх, которые, согласно обычаю и правилам, наиболее чисты, торжественны, неприкосновенны; об играх, во время которых Публий Африканский Старший, в бытность свою консулом во второй раз, предоставил сенату первое место перед местами, предназначенными для народа?[1937] И такие игры осквернил этот мерзкий губитель! А теперь, если кто-нибудь из свободных граждан хотел войти туда или как зритель или даже с благоговением, его выталкивали; туда не явилась ни одна матрона, боясь насилия от собравшихся рабов. Таким образом, те игры, священное значение которых так велико, что они, будучи заимствованы нами из отдаленнейших стран, утвердились в нашем городе, единственные игры, имеющие даже нелатинское название, которое свидетельствует о том, что они заимствованы из иноземных религиозных обрядов и восприняты во имя Великой Матери, игры эти устроили рабы, их зрителями были рабы; словом, при этом эдиле они стали Мегалесиями рабов. (25) О, бессмертные боги! Как могли бы вы более ясно выразить нам вашу волю, даже если бы вы сами находились среди нас? Что игры осквернены, на это вы своими знамениями указали, об этом вы ясно говорите. Какой можно привести более разительный пример осквернения, искажения, извращения и нарушения обычаев, чем этот случай, когда все рабы, спущенные с цепи с позволения должностного лица, заняли одну часть сцены и могли угрожать другой, так что одна часть зрителей была отдана во власть рабам, а другая состояла из одних только рабов? Если бы во время игр на сцену или на места для зрителей прилетел рой пчел, мы сочли бы нужным призвать гаруспиков из Этрурии; а теперь все мы видим, что неожиданно такие большие рои рабов все были выпущены на римский народ, окруженный и запертый, и не должны волноваться? Между тем, если бы прилетел рой пчел, то гаруспики, на основании учения этрусков, пожалуй, посоветовали бы нам остерегаться рабов. (26) Значит, если бы нам было дано указание в виде какого-нибудь весьма далекого по смыслу зловещего знамения, мы приняли бы меры предосторожности, а когда то, что само по себе является зловещим знамением, уже налицо и когда опасность таится в том самом, что и предвещает опасность, нам бояться нечего? Такие ли Мегалесии устраивал твой отец, такие ли — твой дядя?[1938] И Клодий еще напоминает мне о своем происхождении, он, который предпочел устроить игры по примеру Афиниона и Спартака[1939], а не по примеру Гая или Аппия Клавдиев? Они, устраивая игры, приказывали рабам уходить с мест для зрителей, а ты на одни места пустил рабов, с других согнал свободных, и те, кого ранее голос глашатая отделял от свободных людей, во время твоих игр удаляли от себя людей свободных, но не голосом, а силой.
(XIII) Задумывался ли ты, жрец Сивиллы[1940], хотя бы о том, что предки наши заимствовали эти священнодействия из ваших книг, если только те книги, которые ты разыскиваешь с нечестивыми намерениями, читаешь оскверненными глазами, хватаешь опоганенными руками, действительно принадлежат вам? (27) Именно по совету этой прорицательницы, когда вся Италия была изнурена пунийской войной, Ганнибалом истерзана, наши предки привезли эти священнодействия из Фригии и ввели их в Рим. Их принял муж, признанный в ту пору наилучшим во всем римском народе, — Публий Сципион, и женщина, считавшаяся самой непорочной из матрон, — Квинта Клавдия; ее прославленной древней строгости нравов твоя сестра[1941], по всеобщему мнению, и подражала всем на удивление. Итак, ни твои предки, имя которых связано с этими религиозными обрядами, ни принадлежность к той жреческой коллегии, которая все эти обряды учредила, ни должность курульного эдила, которому следует особо тщательно блюсти порядок этих священнодействий, — ничто не помешало тебе осквернить священнейшие игры всяческими гнусностями, запятнать позором, отметить злодеяниями? (28) Но стоит ли мне удивляться всему этому, когда ты, получив деньги, опустошил даже самый Пессинунт, место пребывания и обитель Матери богов, продал все это место и святилище галлогреку Брогитару[1942], человеку мерзкому и нечестивому, посланцы которого, в бытность твою трибуном, обычно раздавали в храме Кастора деньги твоим шайкам; когда ты оттащил жреца даже от алтарей и лож богов; когда ты ниспроверг все то, что всегда с величайшим благоговением почитала древность, почитали персы, сирийцы, все цари, правившие Европой и Азией? Ведь предки наши признавали все это столь священным, что наши императоры, хотя и в Риме и в Италии есть множество святилищ, все же во время величайших и опаснейших войн давали обеты именно этой богине и исполняли их в само́м Пессинунте, перед самым прославленным главным алтарем, там на месте и в само́м святилище. (29) И святилище это, которое Дейотар, вернейший во всем мире друг нашей державы, всецело нам преданный, с величайшим благоговением хранил в чистоте, ты, как я уже говорил, за деньги присудил и отдал Брогитару. А самому Дейотару, которого сенат не раз признавал достойным царского титула и отличали своими похвальными отзывами прославленные императоры, ты даже имя царя велишь делить с Брогитаром. Но первый из них был объявлен царем на основании решения сената, при нашем посредстве, Брогитар — за деньги, при твоем посредстве; […] я буду его считать царем, если у него будет чем уплатить тебе то, что ты доверил ему по письменному обязательству. Ведь в Дейотаре много царственного, но лучше всего это видно из того, что он не дал тебе ни гроша; из того, что он не отверг той части предложенного тобой закона, которая совпадала с решением сената о предоставлении ему титула царя; из того, что он вернул в свое владение преступно тобой оскверненный, лишенный жреца и священнодействий Пессинунт, дабы сохранять его в полной неприкосновенности; из того, что он не позволяет Брогитару осквернять священнодействия, завещанные нам всей стариной, и предпочитает, чтобы зять его лишился твоего подарка, но чтобы это святилище не лишилось своих древних обычаев. Но я возвращусь к ответам гаруспиков, первый из которых касается игр. Кто не согласится, что именно такой ответ предвещали игры, устроенные Клодием?
(XIV, 30) Следующий вопрос — о священных, запретных местах. Что за невероятное бесстыдство! О доме моем смеешь ты говорить? Лучше предоставь консулам, или сенату, или коллегии понтификов свой дом. Мой, во всяком случае, решениями этих трех коллегий, как я уже сказал, освобожден от религиозного запрета. Но в том доме, который занимаешь ты, после того как честнейший муж, римский всадник Квинт Сей был умерщвлен при твоем совершенно открытом посредстве, были, утверждаю я, святилище и алтари. Я неопровержимо докажу это на основании цензорских записей и воспоминаний многих лиц. (31) Только бы обсуждалось это дело, а у меня есть что сказать о запретных местах, так как на основании недавно принятого постановления сената вопрос этот должен быть вам доложен. Вот когда я выскажусь о твоем доме (в нем святилище, правда, есть, но устроенное другим человеком, так что тот его основал, а тебе остается разве только разрушить его), тогда я и увижу, непременно ли мне надо говорить и о других домах. Ведь кое-кто думает, что я отвечаю за открытие святилища в храме Земли; оно, говорят (да и я припоминаю), раскрыло свои двери недавно; теперь же самая неприкосновенная, самая священная часть его, говорят, находится в вестибуле[1943] дома частного лица. Многое меня тревожит: и то, что храм Земли находится в моем ведении, и то, что человек, уничтоживший это святилище[1944], говорил, что мой дом, освобожденный от запрета решением понтификов, был присужден его брату; тревожит меня — при нынешней дороговизне хлеба, бесплодии полей, скудости урожая — священный долг наш к Земле, тем более что знамение, о котором идет речь, требует от нас, говорят, умилостивительной жертвы Земле.
(32) Я, быть может, говорю о старине; однако, если и не записано в гражданском праве, то все же естественным правом и обычным правом народов свято установлено, что смертные ничего не могут получать в собственность от бессмертных богов на основании давности[1945]. (XV) Так вот, древностью мы пренебрегаем. Неужели же мы станем пренебрегать и тем, что происходит повсюду, тем, что мы видим? Кто не знает, что в это самое время Луций Писон упразднил имеющий величайшее значение и священнейший храмик Дианы на Целикуле?[1946] Здесь присутствуют люди, живущие близ того места; более того, в наше сословие входят многие, кто совершал ежегодные жертвоприношения от имени рода в этом самом святилище, предназначенном для этой цели. И мы еще спрашиваем, какие места отняты у бессмертных богов, на что́ боги указывают, о чем они говорят! А разве мы не знаем, что Секст Серран[1947] подрыл священнейшие храмы, окружил их строениями, разрушил, наконец, осквернил их величайшей гнусностью? (33) И это ты смог наложить на мой дом религиозный запрет? Своим умом? Каким? Тем, который ты потерял. Своей рукой? Какой? Той, которой ты этот дом разрушил. Своим голосом? Каким? Тем, который ты велел его поджечь. Своим законом? Каким? Тем, которого ты даже во времена своей памятной нам безнаказанности не составлял. Перед каким ложем? Перед тем, которое ты осквернил. Перед каким изваянием? Перед изваянием, похищенным с могилы распутницы и помещенным тобой на памятнике, сооруженном императором[1948]. Что же есть в моем доме запретного, кроме того, что он соприкасается со стеной дома грязного святотатца? Так вот, чтобы никто из моих родных не мог по неосторожности заглянуть внутрь твоего дома и увидеть, как ты совершаешь там свои пресловутые священнодействия, я подниму кровлю выше — не для того, чтобы смотреть на тебя с вышины, но чтобы закрыть тебе вид на тот город, который ты хотел разрушить.
(XVI, 34) А теперь рассмотрим остальные ответы гаруспиков. «В нарушение закона писаного и неписаного были убиты послы». Что это значит? Речь идет, как я понимаю, об александрийцах[1949]; согласен. Мое мнение следующее: права послов, находясь под защитой людей, ограждены также и законом, установленным богами. А вот того человека, который, в бытность свою народным трибуном, наводнил форум всеми доносчиками, выпущенными им из тюрьмы, человека, по указанию которого теперь пущены в ход кинжалы и яды, который заключал письменные соглашения с хиосцем Гермархом, я хочу спросить, неужели он не знает, что Феодосий, самый ярый противник Гермарха, отправленный независимой городской общиной к сенату в качестве посла, был поражен кинжалом[1950]. В том, что бессмертные боги признали это не менее преступным, чем случай с александрийцами, я совершенно уверен. (35) Но я теперь вовсе не приписываю всего этого тебе одному. Надежда на спасение была бы большей, если бы ты один был бесчестен, но таких много; потому-то ты и вполне самонадеян, а мы, пожалуй, не без причины менее самонадеянны. Кто не знает, что Платор, человек, известный у себя на родине и знатный, прибыл из Орестиды, независимой части Македонии, в качестве посла в Фессалонику, к нашему «императору», как он себя называл?[1951] А этот, не сумев из него выжать денег, наложил на него оковы и подослал своего врача, чтобы тот послу, союзнику, другу, свободному человеку подлейшим и жесточайшим образом вскрыл вены. Секиры свои[1952] обагрить злодейски пролитой кровью он не захотел, но имя римского народа запятнал таким страшным злодеянием, какое может быть искуплено только казнью. Каковы же у него, надо думать, палачи, когда он даже своих врачей использует не для спасения людей, а для убийства?
(XVII, 36) Но прочитаем дальше: «Клятвой в верности пренебрегли». Что́ это значит само по себе, затрудняюсь объяснить, но, на основании того, что говорится дальше, подозреваю, что речь идет о явном клятвопреступлении тех судей, которые судили тебя и у которых в ту пору были бы отняты полученные ими деньги, если бы они не потребовали от сената охраны[1953]. И вот почему я подозреваю, что говорится именно о них: как раз это клятвопреступление (я в этом уверен) самое выдающееся, самое необычайное в нашем государстве, между тем как те, с которыми ты вступил в сговор, дав им клятву, тебя к суду за клятвопреступление не привлекают[1954].
(37) Далее, к ответу гаруспиков, как вижу, добавлено следующее: «Древние и тайные жертвоприношения совершены недостаточно тщательно и осквернены». Гаруспики ли говорят это или же боги отцов и боги-пенаты? Конечно, много есть таких, на кого может пасть подозрение в этом проступке. На кого же, как не на одного Публия Клодия? Разве не ясно сказано, какие именно священнодействия осквернены? Что может быть сказано более понятно, более благоговейно, более внушительно? «Древние и тайные». Я утверждаю, что Лентул, оратор строгий и красноречивый, выступая обвинителем против тебя, чаще всего пользовался именно этими словами, которые, как говорят, взяты из этрусских книг и теперь обращены и истолкованы против тебя. И в самом деле, какое жертвоприношение является столь же древним, как это, полученное нами от царей, и столь же старинным, как наш город? А какое жертвоприношение хранится в такой глубокой тайне, как это? Ведь оно ограждено не только от любопытных, но и от нечаянно брошенных взглядов; уже не говорю — злонамеренный, но даже неосторожный не смеет приблизиться к нему. Никто не припомнит случая, чтобы до Публия Клодия кто-нибудь оскорбил это священнодействие, чтобы кто-нибудь попытался войти, чтобы кто-нибудь к нему отнесся с пренебрежением; не было мужчины, которого бы не охватывал ужас при мысли о нем. Жертвоприношение это совершают девы-весталки за римский народ в доме лица, облеченного империем, совершают с необычайно строгими обрядами, посвященными той богине, чье имя мужчинам даже нельзя знать, которую Клодий потому и называет Доброй, что она простила ему столь тяжкое злодеяние.
(XVIII) Нет, она не простила, поверь мне. Или ты, быть может, думаешь, что ты прощен, так как судьи отпустили тебя обобранным, оправданным по их приговору и осужденным по всеобщему приговору, или так как ты не лишился зрения, чем, как принято думать, карается нарушение этого запрета? (38) Но какой мужчина до тебя преднамеренно присутствовал при совершении этих священнодействий? Поэтому разве кто-нибудь может знать о наказании, какое последует за этим преступлением? Или слепота глаз повредила бы тебе больше, чем слепота разврата? Ты не понимаешь даже того, что ты должен скорее желать незрячих глаз своего прапрадеда[1955], чем горящих глаз своей сестры? Вдумайся в это и ты, право, поймешь, что тебя до сего времени минует кара со стороны людей, а не богов. Ведь это люди защитили тебя, совершившего гнуснейшее дело; это люди тебя, подлейшего и зловреднейшего человека, восхвалили; это люди оправдали тебя, уже почти сознавшегося в своем преступлении; это у людей не вызвала скорби беззаконность твоего блудодеяния, которым ты их оскорбил[1956]; это люди дали тебе оружие, одни — против меня, другие впоследствии — против знаменитого непобедимого гражданина[1957]; от людей тебе уже нечего добиваться бо́льших милостей — это я признаю. (39) Что касается бессмертных богов, то какое более тяжкое наказание, чем бешенство или безумие, могут они послать человеку? Неужели ты думаешь, что те, которых ты видишь в трагедиях и которые мучаются и погибают от раны и от боли в теле, больше прогневили бессмертных богов, чем те, кого изображают в состоянии безумия? Хорошо известные нам вопли и стоны Филоктета[1958], как они ни страшны, все же не столь жалки, как сумасшествие Афаманта[1959] и муки матереубийц, доживших до старости[1960]. Когда ты на народных сходках испускаешь крики, подобные крикам фурий, когда ты сносишь дома граждан, когда ты камнями прогоняешь с форума честнейших мужей, когда ты швыряешь пылающие факелы в дома соседей, когда ты предаешь пламени священные здания[1961], когда ты подстрекаешь рабов, когда ты прерываешь священнодействия и игры, когда ты не отличаешь жены от сестры, когда ты не понимаешь, в чью спальню ты входишь, — вот тогда ты впадаешь в исступление, тогда ты беснуешься, тогда ты и несешь кару, которая только одна бессмертными богами и назначена людям за преступление. Ведь тело наше, по слабости своей, само по себе подвержено многим случайностям; да и само оно часто от малейшей причины разрушается; но стрелы богов вонзаются в умы нечестивых. Поэтому, когда глаза твои тебя увлекают на путь всяческого преступления, ты более жалок, чем был бы, будь ты вовсе лишен глаз.
(XIX, 40) Но так как обо всем том, в чем, по словам гаруспиков, были допущены погрешности, сказано достаточно, посмотрим, от чего, по словам тех же гаруспиков, бессмертные боги уже предостерегают: «Из-за раздоров и разногласий среди оптиматов не должно возникать резни и опасностей для отцов-сенаторов и первоприсутствующих, и они, по решению богов, не должны лишаться помощи; поэтому провинции и войско не должны быть отданы во власть одному, и да не будет ограничения…»[1962]. Все это — слова гаруспиков; от себя я не добавляю ничего. Итак, кто же раздувает раздоры среди оптиматов? Все тот же один человек и притом вовсе не по какой-то особой своей одаренности или глубине ума, но вследствие, так сказать, наших промахов, которые ему было легко заметить, так как они вполне ясно видны. Ведь ущерб, который терпит государство, еще более позорен оттого, что потрясения в государстве вызываются человеком незначительным; иначе оно, подобно храброму мужу, раненному в бою в грудь храбрым противником, пало бы с честью. (41) Тиберий Гракх потряс государственный строй. Но каких строгих правил, какого красноречия, какого достоинства был этот муж! Он ни в чем не изменил выдающейся и замечательной доблести своего отца и своего деда, Публия Африканского[1963], если не говорить о том, что он отпал от сената. За ним последовал Гай Гракх; каким умом, каким красноречием, какой силой, какой убедительностью слов отличался он! Правда, честные люди огорчались тем, что эти столь великие достоинства не были направлены на осуществление лучших намерений и стремлений. Сам Луций Сатурнин[1964] был таким необузданным и едва ли не одержимым человеком, что стал выдающимся деятелем, умевшим взволновать и воспламенить людей неопытных. Стоит ли мне говорить о Сульпиции?[1965] Он выступал так убедительно, так приятно, так кратко, что мог достигать своей речью и того, что благоразумные люди впадали в заблуждение, и того, что у честных людей появлялись менее честные взгляды. Спорить и изо дня в день сражаться с этими людьми за благо отечества было, правда, трудно для тех, кто тогда управлял государством, но трудности эти все же были в какой-то мере достойными.
(XX, 42) Бессмертные боги! А этот человек, о котором я и сам теперь говорю так много? Что он такое? Чего он сто́ит? Есть ли в нем хоть что-нибудь такое, чтобы наше огромное государство, если бы оно пало (да сохранят нас боги от этого!), могло чувствовать, что оно сражено рукой мужа? После смерти отца он предоставил свою раннюю юность похоти богатых фигляров; удовлетворив их распущенность, он дома погряз в блуде и кровосмешении; затем, уже возмужав, он отправился в провинцию и поступил на военную службу, а там, претерпев надругательства от пиратов, удовлетворил похоть даже киликийцев и варваров; потом, гнусным преступлением вызвав беспорядки в войске Луция Лукулла, бежал оттуда[1966] и в Риме, вскоре после своего приезда вступил в сговор со своими родичами о том, что не станет привлекать их к суду, а у Катилины взял деньги за позорнейшую преварикацию[1967]. Затем он отправился с Муреной в провинцию Галлию, где составлял завещания от имени умерших, убивал малолетних, вступал в многочисленные противозаконные соглашения и преступные сообщества. Как только он возвратился оттуда, он собрал в свою пользу все необычайно богатые и обильные доходы с поля[1968], причем он — сторонник народа! — бесчестнейшим образом обманул народ, и он же — милосердный человек! — в своем доме сам предал мучительнейшей смерти раздатчиков из всех триб. (43) Началась памятная нам квестура[1969], роковая для государства, для священнодействий, для религиозных запретов, для вашего авторитета, для уголовного суда; за время ее он оскорбил богов и людей, совесть, стыдливость, авторитет сената, право писаное и неписаное, законы, правосудие. И все это было для него ступенью, — о, злосчастные времена и наши нелепые раздоры! — именно это было для Публия Клодия первой ступенью к государственной деятельности; это позволило ему кичиться благоволением народа и открыло путь к возвышению.
Ведь у Тиберия Гракха всеобщее недовольство Нумантинским договором[1970], в заключении которого он участвовал как квестор консула Гая Манцина, и суровость, проявленная сенатом при расторжении этого договора, вызвали раздражение и страх, что и заставило этого храброго и славного мужа изменить строгим воззрениям своих отцов. А Гай Гракх? Смерть брата, чувство долга, скорбь и великодушие подвигли его на мщение за родную кровь. Сатурнин, как мы знаем, сделался сторонником народа, оскорбленный тем, что во время дороговизны хлеба сенат отстранил его, квестора, от дела снабжения зерном[1971], которым он тогда ведал, и поручил это дело Марку Скавру. Сульпиция, из наилучших побуждений противодействовавшего Гаю Юлию, который незаконно домогался консульства[1972], веяние благосклонности народа увлекло дальше, чем сам Сульпиций хотел. (XXI, 44) У всех этих людей было основание, почему они так поступали, несправедливое (ибо ни у кого не может быть справедливого основания вредить государству), но все же важное и связанное с некоторым чувством обиды, приличествующим мужу. Что же касается Публия Клодия, то он, носивший раньше платья шафранного цвета, митру, женские сандалии, пурпурные повязочки и нагрудник, от псалтерия[1973], от гнусности, от разврата неожиданно сделался сторонником народа. Если бы женщины не застали его в таком наряде, если бы рабыни из милости не выпустили его оттуда, куда ему нельзя было входить, то сторонника народа был бы лишен римский народ, государство было бы лишено такого гражданина. Из-за наших бессмысленных раздоров, от которых бессмертные боги и предостерегают нас недавними знамениями, из числа патрициев был выхвачен один человек, которому нельзя было стать народным трибуном[1974]. (45) Годом ранее этому весьма резко и единодушно воспротивились и брат этого человека, Метелл[1975], и весь сенат, в котором даже в ту пору (при первоприсутствующем Гнее Помпее, также высказавшем свое мнение) еще господствовало согласие. Но когда в среде оптиматов начались раздоры, от которых нас теперь предостерегают, все изменилось и пришло в смятение; тогда и произошло то, чего, будучи консулом, не допустил брат Клодия, чему воспрепятствовал его свояк и сотоварищ[1976], знаменитейший муж, в свое время оградивший его от судебного преследования. Во время распри между первыми людьми государства это сделал тот консул[1977], которому следовало быть злейшим недругом Клодия, но который оправдывал свой поступок желанием того человека, чье влияние ни у кого не могло вызывать недовольства[1978]. В государство был брошен факел, мерзкий и несущий несчастье; метили в ваш авторитет, в достоинство важнейших сословий, в согласие между всеми честными людьми, словом, в весь государственный строй; несомненно, метили именно в это, когда страшный пожар этих памятных нам времен направляли против меня, раскрывшего все эти дела. Я принял огонь на себя, один я вспыхнул, защищая отечество, но так, что вы, тоже окруженные пламенем, видели, что я, ради вашего спасения, первый пострадал и был окутан дымом.
(XXII, 46) Все еще не успокаивались раздоры, а ненависть к тем, кто, по общему мнению, меня защищал, даже возрастала. Тогда по предложению этих людей, по почину Помпея, который не только своим влиянием, но и просьбами побудил Италию, жаждавшую видеть меня, побудил вас, требовавших меня, и римский народ, тосковавший по мне, добиваться моего восстановления в правах, и вот я возвращен из изгнания. Пусть, наконец, прекратятся раздоры! Успокоимся после продолжительных разногласий! Но нет — этого нам не позволяет все тот же губитель: он сзывает народные сходки, мутит и волнует, продается то той, то этой стороне; однако люди, если Клодий их похвалит, не слишком ценят эти похвалы; они радуются, скорее, тому, что Клодий порицает тех, кого они не любят. Впрочем, Клодий меня ничуть не удивляет (на что другое он способен?); я удивляюсь поведению мудрейших и достойнейших людей[1979]: во-первых, тому, что они терпят, чтобы каждого прославленного человека с многочисленными величайшими заслугами перед государством своими выкриками оскорблял гнуснейший человек; во-вторых, их мнению, будто чья-либо слава и достоинство могут быть унижены злоречием со стороны отъявленного негодяя (именно это менее всего служит им к чести); наконец, тому, что они не чувствуют (правда, они это, как все-таки кажется, уже подозревают), что бешеные и бурные нападки Публия Клодия могут обратиться против них самих. (47) А из-за этого уж очень сильного разлада между теми и другими в тело государства вонзились копья, которые я, пока они вонзались только в мое тело, еще мог терпеть, хотя и с трудом. Если бы Клодий не предоставил себя сначала в распоряжение тех людей, которых считал порвавшими с вами[1980], если бы он — прекрасный советчик! — не превозносил их до небес своими похвалами, если бы он не угрожал ввести войско Гая Цезаря (насчет него он пытался нас обмануть[1981], но его никто не опровергал), если бы он, повторяю, не угрожал ввести в Курию это войско с враждебными целями, если бы он не вопил, что действует с помощью Гнея Помпея, по совету Марка Красса, если бы он не утверждал, что консулы с ним объединились (в одном этом он не лгал), то разве он мог бы столь жестоко мучить меня, столь преступно терзать государство?
(XXIII, 48) Увидев, что вы снова вздохнули свободно, избавившись от страха резни, что ваш авторитет снова всплывает из пучины рабства, что оживают память и тоска по мне, он вдруг начал лживейшим образом продаваться вам; тогда он стал утверждать — и здесь, и на народных сходках, — что Юлиевы законы[1982] изданы вопреки авспициям. В числе этих законов был и тот куриатский закон, который послужил основанием для всего его трибуната[1983]; этого он не видел, ослепленный своим безумием; на сходках он предоставлял слово храбрейшему мужу Марку Бибулу; он спрашивал его, всегда ли наблюдал тот за небесными знамениями в то время, когда Гай Цезарь предлагал законы. Бибул отвечал, что он за небесными знамениями наблюдал[1984]. Он спрашивал авгуров, правильно ли было проведено то, что было проведено таким образом. Они отвечали, что неправильно. К нему необычайно благоволили некоторые честные мужи, оказавшие мне величайшие услуги, но, полагаю, не знавшие о его бешенстве. Он пошел дальше: начал нападать даже на Гнея Помпея, вдохновителя его замыслов, как он обычно заявлял; кое с кем он пытался завязать хорошие отношения. (49) Этот человек был тогда, очевидно, увлечен надеждой на то, что он, путем неслыханного преступления опорочивший усмирителя междоусобной войны, носившего тогу[1985], сможет нанести удар даже знаменитейшему мужу, победителю в войнах с внешними врагами; тогда-то в храме Кастора и был захвачен тот преступный кинжал, едва не погубивший нашей державы[1986]. Тогда тот человек, для которого ни один вражеский город не оставался запертым в течение продолжительного времени, который силой и доблестью всегда преодолевал все теснины, встречавшиеся на его пути, все городские стены, как бы высоки они ни были, сам оказался осажденным в своем доме, и решением и поведением своим избавив меня от обвинений в трусости, которой попрекают меня некоторые неискушенные люди[1987]. Ибо если для Гнея Помпея, мужа храбрейшего из всех, когда-либо существовавших, было скорее несчастьем, чем позором, не видеть света, пока Публий Клодий был народным трибуном, не появляться на людях, терпеть его угрозы, когда Клодий говорил на сходках о своем намерении построить в Каринах другой портик, который соответствовал бы портику на Палатине[1988], то для меня покинуть свой дом, чтобы предаваться скорби на положении частного лица, несомненно, было тяжко, но покинуть его ради блага государства было поступком славным.
(XXIV, 50) Итак, вы видите, что губительные раздоры среди оптиматов возвращают силы человеку, давно уже (и по его собственной вине) поверженному и распростертому на земле, человеку, чье бешенство в его начале было поддержано несогласиями тех, которые, как тогда казалось, отвернулись от вас[1989]. А дальнейшие действия Клодия — уже к концу его трибуната и даже после него — нашли себе защитников в лице хулителей и противников[1990] тех людей; они воспротивились тому, чтобы губитель государства был из него удален, даже тому, чтобы он был привлечен к суду, и даже тому, чтобы он оказался частным лицом[1991]. Неужели кто-нибудь из честнейших мужей мог согревать на своей груди и лелеять эту ядовитую и зловредную змею? Каким его одолжением были они обмануты? «Мы хотим, — говорят они, — чтобы был человек, который мог бы на народной сходке уменьшить влияние Помпея». Чтобы его влияние умалил своим порицанием Клодий? Я хотел бы, чтобы тот выдающийся человек, который оказал мне величайшую услугу при моем восстановлении в правах, правильно понял то, что я скажу, а скажу я, во всяком случае, то, что чувствую. Мне казалось, клянусь богом верности, что Публий Клодий умалял величайшее достоинство Гнея Помпея именно тогда, когда безмерными похвалами его превозносил. (51) Когда, скажите, была более громкой слава Гая Мария: тогда ли, когда Гай Главция[1992] его прославлял, или тогда, когда он впоследствии, раздраженный против него, его порицал? А Публий Клодий? Был ли он, обезумевший и уже давно влекомый навстречу каре и гибели, более отвратителен или более запятнан тогда, когда обвинял Гнея Помпея, или тогда, когда он поносил весь сенат? Я удивляюсь одному: между тем как первое по сердцу людям разгневанным, второе так мало огорчает столь честных граждан. Но дабы это впредь не доставляло удовольствия честнейшим мужам, пусть они прочитают ту речь Публия Клодия на народной сходке, о которой я говорю: возвеличивает ли он в ней Помпея или же, скорее, порочит? Бесспорно, он его восхваляет, говорит, что среди наших граждан — это единственный человек, достойный нашей прославленной державы, и заявляет, что сам он Помпею лучший друг и что они помирились. (52) Хотя я и не знаю, что это означает, все же, по моему мнению, у Клодия, будь он другом Помпею, не появилось бы намерения восхвалять его. В самом деле, мог ли он больше умалить заслуги Помпея, будь он ему даже злейшим недругом? Пусть те, которые радовались его неприязни к Помпею и по этой причине смотрели сквозь пальцы на его столь многочисленные и столь тяжкие злодеяния, а иногда даже рукоплескали его неудержимому и разнузданному бешенству, обратят внимание на то, как быстро он переменился. Ведь теперь он уже восхваляет Помпея, нападает на тех, кому ранее продавался. Что, по вашему мнению, сделает он, если для него откроется путь к подлинному примирению, когда он так хочет создать видимость примирения?[1993]
(XXV, 53) На какие же другие раздоры между оптиматами могут указывать бессмертные боги? Ведь под этим выражением нельзя подразумевать ни Публия Клодия, ни кого-либо из его сторонников или советчиков. Этрусские книги содержат определенные названия, которые могут относиться к таким гражданам, как они. Как вы сейчас узнаете, тех людей, чьи намерения и поступки беззаконны и совершенно несовместимы с общим благом, они называют дурными, отвергнутыми. Поэтому, когда бессмертные боги предостерегают от раздоров среди оптиматов, то говорят они о разногласии среди прославленных и высоко заслуженных граждан. Когда они предвещают опасность и резню людям, главенствующим в государстве, они исключают Клодия, который так же далек от главенствующих, как от чистых, как от благочестивых. (54) Это вам, о горячо любимые и честнейшие граждане, боги велят заботиться о вашем благополучии и быть предусмотрительными; они предвещают вам резню среди первых людей государства, а затем — то, что неминуемо следует за гибелью оптиматов; нам советуют принять меры, чтобы государство не оказалось во власти одного человека. Но даже если бы боги не внушили нам этого страха своими предостережениями, мы все же действовали бы по своему собственному разумению и на основании догадок. Ведь раздоры между славными и могущественными мужами обычно кончаются не чем иным, как всеобщей гибелью, или господством победителя, или установлением царской власти. Начались раздоры между Луцием Суллой, знатнейшим и храбрейшим консулом, и прославленным гражданином Марием; и тому и другому пришлось понести поражение, принесшее победителю царскую власть. С Октавием стал враждовать его коллега Цинна; каждому из них удача принесла царскую власть, неудача — смерть[1994]. Тот же Сулла одержал верх вторично; на этот раз он, без сомнения, обладал царской властью, хотя и восстановил прежний государственный строй. (55) И ныне явная ненависть глубоко запала в сердца виднейших людей и укоренилась в них; первые люди государства враждуют между собой, а кое-кто пользуется этим. Кто не особенно силен сам, тот все же рассчитывает на какую-то удачу и благоприятные обстоятельства, а кто, бесспорно, более могуществен, тот иногда, пожалуй, побаивается замыслов и решений своих недругов. Покончим же с этими раздорами в государстве! Все те опасения, какие предсказаны нам, будут вскоре устранены; та подлая змея, которая то скроется в одном месте, то выползет и прокрадется в другое, вскоре издохнет, уничтоженная и раздавленная.
(XXVI) Ведь те же книги предостерегают нас: «Тайные замыслы не должны наносить государству ущерба». Какие же замыслы могут быть более тайными, нежели замыслы того человека, который осмелился сказать на народной сходке, что надо издать эдикт о приостановке судопроизводства, прервать слушание дел в суде, запереть эрарий, упразднить суды? Или вы, быть может, полагаете, что мысль об этом огромном потопе, об этом крушении государства могла прийти Публию Клодию на ум внезапно, когда он стоял на рострах[1995], без того, чтобы он заранее это обдумал? Ведь его жизнь — в пьянстве, в разврате, в сне, в безрассуднейшей и безумнейшей наглости. Так вот именно в эти бессонные ночи — и притом в сообществе с другими людьми — и был состряпан и обдуман этот замысел прекратить судопроизводство. Запомните, отцы-сенаторы: эти преступные речи уже не раз касались нашего слуха, а путь к погибели вымощен привычкой слышать одно и то же.
(56) Дальше следует совет: «Не оказывать слишком большого почета низким и отвергнутым людям». Рассмотрим слово «отвергнутые»; кто такие «низкие», я выясню потом. Но все-таки надо признать, что это слово больше всего подходит к тому человеку, который, без всякого сомнения, является самым низким из всех людей. Кто же такие «отвергнутые»? Я полагаю, что это не те, которым когда-то было отказано в почетной должности из-за ошибки сограждан, а не ввиду каких-либо их собственных недостатков; ибо это, действительно, не раз случалось с многими честнейшими гражданами и весьма уважаемыми мужами. «Отвергнутые» — это те, которых, несмотря на то, что они во всем преуспевали, вопреки законам устраивали бои гладиаторов[1996], совершенно открыто занимались подкупом, отвергли не только посторонние люди, но даже их собственные соседи, члены триб городских и сельских. Нам советуют не оказывать этим людям «слишком большого почета». Это указание должно быть нам по сердцу; однако римский народ сам, без всякого предостережения гаруспиков, по собственному почину принял меры против этого зла. (57) Остерегайтесь «низких»; людей этого рода очень много, но вот их предводитель и главарь. И в самом деле, если бы какой-нибудь выдающийся поэт захотел изобразить самого низкого человека, какой только может быть, преисполненного любых пороков, какие только можно вообразить и собрать, наблюдая разных людей, то он, конечно, не смог бы найти ни одного позорного качества, которого был бы лишен Публий Клодий, и даже не заметил бы многих, глубоко укоренившихся в нем и от него неотделимых.
(XXVII) С родителями, с бессмертными богами и с отчизной нас прежде всего связывает природа: в одно и то же время нас берут на руки[1997], на дневной свет, наделяют нас дыханием, ниспосланным с неба, и предоставляют нам определенные права свободного гражданства. Клодий, приняв родовое имя «Фонтей», презрел имя родителей, их священные обряды, воспоминания о них, а огни богов, престолы, столы[1998], заветные и находящиеся внутри дома очаги, сокровенные священнодействия, недоступные, уже не говорю — взору, даже слуху мужчины, он уничтожил преступлением, не поддающимся искуплению, и сам предал пламени храм тех богинь, к чьей помощи обращаются при других пожарах. (58) К чему говорить мне об отечестве? Публий Клодий насилием, мечом, угрозами изгнал из Рима того гражданина, которого вы так много раз признавали спасителем отчизны, лишив его сначала всех видов защиты со стороны отечества. Затем, добившись падения «спутника» сената — как я всегда его называл, — его вождя, как он говорил сам, этот человек посредством насилия, резни и поджогов низложил самый сенат, основу общественного благоденствия и мнения; он отменил два закона — Элиев и Фуфиев, — чрезвычайно полезные для государства, упразднил цензуру, исключил возможность интерцессии, уничтожил авспиции; консулам, своим соучастникам в преступлении, он предоставил эрарий, наместничества, войско; тех, кто был царями, он продал; тех, кто царями не был, признал; Гнея Помпея мечом загнал в его собственный дом; памятники, сооруженные императорами, ниспроверг; дома своих недругов разрушил; на ваших памятниках написал свое имя[1999]. Нет конца его злодеяниям против отечества. А сколько он совершил их против отдельных граждан, которых он умертвил? Против союзников, которых он ограбил, против императоров, которых он предал, против войск, которые он подстрекал к мятежу? (59) И далее, как велики его преступления против себя самого, против родных! Найдется ли человек, который бы когда-либо меньше щадил вражеский лагерь, чем он все части своего тела? Какой корабль на реке, принадлежащий всем людям, был когда-либо так доступен всем, как его юность? Какой кутила когда-либо так развратничал с распутницами, как он с сестрами? Наконец, могло ли воображение поэтов изобразить столь ужасную Харибду[2000], которая бы поглощала огромные потоки воды, равные проглоченной им добыче у византийцев и Брогитаров? Или Сциллу с жадными и столь прожорливыми псами, как те Геллии, Клодии, Тиции, с чьей помощью он, как видите, гложет даже ростры?[2001]
(60) Итак, — и это последнее в ответах гаруспиков — примите меры, «чтобы не произошло изменения государственного строя». И в самом деле, государственный строй, когда он уже потрясен, едва ли может быть прочен, даже если мы станем его подпирать со всех сторон; он, повторяю, едва ли будет прочен, даже если мы все будем поддерживать его своими плечами. (XXVIII) Государство наше некогда было таким крепким и сильным, что могло выдерживать нерадивость сената и даже незаконные поступки граждан; теперь это невозможно. Эрарий пуст; те, кто взял на откуп налоги и подати[2002], ничего не получают; влияние главенствующих людей пало; согласие между сословиями нарушено; правосудие уничтожено; голоса распределены и их крепко держит в руках кучка людей; честные люди уже не будут послушны воле нашего сословия; гражданина, который ради блага отечества согласится подвергнуться злобным нападкам, вы будете искать тщетно.
(61) Следовательно, этот государственный строй, который теперь существует, каков бы он ни был, мы можем сохранить только при условии согласия между нами; ведь улучшить наше положение, пока Клодий остается безнаказанным, нам и думать нечего; но для того, чтобы попасть в еще худшее положение, нам остается опуститься только на одну ступень, ведущую к гибели или к рабству. И дабы нас туда не столкнули, бессмертные боги и посылают нам предупреждение, так как человеческие увещания давно уже утратили силу. Что касается меня, отцы-сенаторы, то я никогда не решился бы произнести эту речь, такую печальную, такую суровую (не потому, чтобы эта роль и участие в этом вопросе не были моим долгом и не соответствовали моим силам — ведь римский народ предоставил мне почетные должности, а вы много раз отличали меня знаками достоинства, — однако я, пожалуй, все же промолчал бы, раз молчат все), но во всей этой речи я выступал не от своего имени, а от имени государственной религии. Моими были слова — пожалуй, их было слишком много, — мнения же все принадлежали гаруспикам; либо им о возвещенных нам знамениях не следовало сообщать, либо их ответами нам необходимо руководствоваться.
(62) Но если на нас часто производили впечатление более обычные и менее важные знамения, то неужели голос самих бессмертных богов не подействует на умы всех людей? Не думайте, что может случиться то, что вы часто видите в трагедиях: как какой-нибудь бог, спустившись с неба, вступает в общение с людьми, находится на земле, с людьми беседует. Подумайте об особенностях тех звуков, о которых сообщили латиняне. Вспомните и о том, о чем еще не было доложено: почти в то же время в Пиценской области, в Потенции, как сообщают, произошло ужасное землетрясение, сопровождавшееся некими знамениями и страшными явлениями. Вы, конечно, испугаетесь всего того, что, как мы можем предвидеть, нам предстоит. (63) И в самом деле, когда даже весь мир, моря и земли содрогаются, приходят в какое-то необычное движение и что-то предсказывают странными и непривычными для нас звуками, то это надо признать голосом бессмертных богов, надо признать почти ясной речью. При этих обстоятельствах мы должны совершить искупительные обряды и умилостивить богов в соответствии с предостережениями, какие мы получили. Те, которые и сами показывают нам путь к спасению, мольбам доступны; мы же должны отказаться от злобы и раздоров.
21. Речь о консульских провинциях [В сенате, вторая половина мая 56 г. до н. э.]
В мае 56 г., после совещания триумвиров в Луке, в сенате обсуждался вопрос о назначении провинций для консулов 55 г., чтобы последние вступили в управление ими по окончании консульства (в соответствии с Семпрониевым законом). В 56 г. проконсулом Трансальпийской Галлии и Цисальпийской Галлии с Иллириком был Цезарь; срок его полномочий истекал в конце февраля (или дополнительного месяца) 54 г. Проконсулом Сирии в 56 г. был Авл Габиний, проконсулом Македонии — Луций Кальпурний Писон. Выполняя свои обязательства перед триумвирами, взятые им на себя перед своим возвращением из изгнания, Цицерон высказался за продление срока наместничества Цезаря. Одновременно он выступил против своих врагов, консулов 58 г. Габиния и Писона, и предложил отозвать их из провинций. Цезарю сенат продлил полномочия. На смену Писону был назначен претор Квинт Анхарий, тем самым Македония была сделана преторской провинцией. Габиний был оставлен в качестве проконсула Сирии. На 54 г. проконсульство в Сирии была назначено Марку Лицинию Крассу. Какая провинция была сделана консульской вместо Македонии — неизвестно.
Речь о консульских провинциях была впоследствии выпущена Цицероном в виде памфлета. См. письма Att., IV, 5, 1 (CX); Fam., I, 9, 9 (CLIX).
(I, 1) Если кто-нибудь из вас, отцы-сенаторы, желает знать, за назначение каких провинций подам я голос[2003], то пусть он сам, поразмыслив, решит, каких людей, по моему мнению, надо отозвать из провинций; и если он представит себе, что я должен чувствовать, он, без сомнения, поймет, как я стану голосовать. Если бы я высказал свое мнение первым, вы, конечно, похвалили бы меня; если бы его высказал только я один, вы, наверное, простили бы мне это; и даже если бы мое предложение показалось вам не особенно полезным, вы все же, вероятно, отнеслись бы к нему снисходительно, памятуя о том, как больно я был обижен[2004]. Но теперь, отцы-сенаторы, я испытываю немалое удовольствие — оттого ли, что назначение Сирии и Македонии[2005] чрезвычайно выгодно для государства, так что мое чувство обиды отнюдь не идет вразрез с соображениями общей пользы, или оттого, что это предложение еще до меня внес Публий Сервилий, муж прославленный и в высшей степени преданный как государству в целом, так и делу моего восстановления в правах. (2) Ведь если Публий Сервилий еще недавно и всякий раз, как ему представлялся случай и возможность произнести речь, считал нужным заклеймить Габиния и Писона, этих двух извергов, можно сказать, могильщиков государства, — как за разные другие дела, так особенно за их неслыханное преступление и ненасытную жестокость ко мне — не только подачей своего голоса, но и словами сурового порицания, то как же должен отнестись к ним я, которого они ради удовлетворения своей алчности предали? Но я, внося свое предложение, не стану слушаться голоса обиды и гневу не поддамся. К Габинию и Писону я отнесусь так, как должен отнестись каждый из вас. То особое чувство горькой обиды, которое испытываю я один (хотя вы всегда разделяли его со мной), я оставлю при себе; сохраню его до времени возмездия.
(II, 3) Как я понимаю, отцы-сенаторы, провинций, о которых до сего времени внесены предложения, четыре: две Галлии, которые, как мы видим, в настоящее время находятся под единым империем[2006], и Сирия и Македония; их против вашей воли, подавив ваше сопротивление, захватили эти консулы-губители[2007] себе в награду за то, что уничтожили государство. На основании Семпрониева закона, мы должны назначить две провинции. Какие же у нас причины колебаться насчет Сирии и Македонии? Не говорю уже, что те, кто ими ведает ныне, получили их с условием, что вступят в управление ими только после того, как вынесут приговор нашему сословию, изгонят из государства ваш авторитет[2008], подлейшим и жесточайшим образом посягнут на неприкосновенность, гарантированную государством, на прочное благоденствие римского народа, истерзают меня и всех моих родных. (4) Умалчиваю обо всех внутренних бедствиях, постигших город Рим, которые столь тяжки, что сам Ганнибал не пожелал бы нашему городу столько зла[2009], сколько причинили они. Перехожу к вопросу о самих провинциях; Македонию, которая ранее была ограждена не башнями, а трофеями многих императоров[2010], где уже давно, после многочисленных побед и триумфов, был обеспечен мир, ныне варвары, мир с которыми был нарушен в угоду алчности, разоряют так, что жители Фессалоники, расположенной в сердце нашей державы, были вынуждены покинуть город и построить крепость; что наша дорога через Македонию, которая вплоть до самого Геллеспонта служит военным надобностям, не только опасна вследствие набегов варваров, но и усеяна и отмечена лагерями фракийцев. Таким образом, те народы, которые, чтобы пользоваться благами мира, дали нашему прославленному императору огромное количество серебра, теперь, чтобы получить возможность снова наполнить свои опустошенные дома, за купленный ими мир пошли на нас, можно сказать, справедливой войной.
(5) Далее, войско наше, собранное путем самого тщательного набора и самых суровых мер, погибло целиком[2011]. (III) Говорю это с глубокой болью. Самым недостойным образом солдаты римского народа были взяты в плен, истреблены, брошены на произвол судьбы, разбиты, рассеяны из-за нерадивости, голода, болезней, опустошения страны, так что — и это самое позорное — за преступление императора, как видно, кару понесло войско. А ведь Македонию эту, мирную и спокойную, мы, уже покорив граничащие с нами народы и завоевав варварские страны, охраняли при помощи слабого гарнизона и небольшого отряда, даже без империя, при посредстве легатов[2012], одним только именем римского народа. А теперь Македония до того разорена консульским империем и войском, что даже в условиях длительного мира едва ли сможет ожить. Между тем, кто из вас не слыхал, кто не знает, что ахеяне из года в год платят Луцию Писону огромные деньги, что дань и пошлины с Диррахия полностью обращены в его личный доход, что глубоко преданный вам и нашей державе город Византий разорен, как будто он — город вражеский? После того как ничего не удалось выжать из нищих и вырвать у несчастных, этот человек послал туда когорты на зимние квартиры; начальниками над ними он назначил таких людей, которые, по его мнению, могли сделаться самыми усердными его сообщниками в злодеяниях, слугами его жадности. (6) Умалчиваю о суде, который он вершил в независимом городе вопреки законам и постановлениям сената; убийства оставляю в стороне; опускаю и упоминание о его разврате; ведь страшным доказательством, увековечившим позор и вызвавшим, можно сказать, справедливую ненависть к нашей державе, является тот установленный факт, что знатнейшие девушки бросались в колодцы и, сами обрекая себя на смерть, спасались от неминуемого надругательства. Обо всем этом я умалчиваю не потому, что преступления эти недостаточно тяжки, а потому, что выступаю теперь, не располагая свидетелями.
(IV) Что касается самого города Византия, то кто не знает, что он был чрезвычайно богат и великолепно украшен статуями? Византийцы, разоренные величайшими военными расходами в те времена, когда они сдерживали все нападения Митридата и весь Понт, взявшийся за оружие, кипевший и рвавшийся в Азию, которому они преградили путь своими телами, повторяю, в те времена и впоследствии византийцы самым благоговейным образом сохраняли эти статуи и остальные украшения своего города (7) А вот когда ты, Цезонин Кальвенций[2013], был императором, — самым неудачливым и самым мерзким — город этот, независимый и, в воздаяние за его исключительные заслуги[2014], освобожденный сенатом и римским народом[2015], был так ограблен и обобран, что — не вмешайся легат Гай Вергилий, храбрый и неподкупный муж, — у византийцев из огромного числа статуй не осталось бы ни одной. Какое святилище в Ахайе, какая местность или священная роща во всей Греции были неприкосновенны настолько, чтобы в них уцелело какое-нибудь украшение? У подлейшего народного трибуна[2016] ты купил тогда — при памятном нам крушении государственного корабля, погубившем наш город, который ты же, призванный им управлять, разорил, — тогда, повторяю, ты купил за большие деньги позволение, вопреки постановлению сената и закону своего зятя[2017], производить суд по искам к независимым городам о данных им займах. Купив это право, ты его продал, так что тебе пришлось либо не производить суда, либо лишать римских граждан их имущества. (8) Все это, отцы-сенаторы, я теперь говорю, выступая не против самого Писона; речь идет о провинции. Поэтому я опускаю все то, что вы часто слышали и что храните в памяти, хотя и не слышите об этом. Не стану говорить и о проявленной им здесь, в Риме, наглости, которую, во время его присутствия здесь, вы все видели и запомнили. Не касаюсь вопроса о его надменности, упрямстве, жестокости. Пусть останутся неизвестными совершенные им под покровом тьмы развратные поступки, которые он пытался скрывать, хмуря лоб и брови, но чуждаясь стыдливости и воздержности. Дело идет о провинции; о ней я и говорю. И вы не смените его? Поте́рпите, чтобы он и впредь оставался в провинции? Ведь как только он туда прибыл, его злая судьба вступила в спор с его бесчестностью, так что никто не мог бы решить, был ли он более нагл или же более неудачлив.
(9) А в Сирии нам и впредь держать эту Семирамиду[2018], чей путь в провинцию был таким, что, казалось, царь Ариобарзан[2019] нанял вашего консула для убийств, словно какого-то фракийца?[2020] Затем, после его приезда в Сирию, сначала погибла конница, а потом были перебиты лучшие когорты. Итак, в бытность его императором, в Сирии не было совершено ничего, кроме денежных сделок с тираннами[2021], соглашений, грабежей, резни; на глазах у всех император римского народа, построив войско, простирая руку, не убеждал солдат добиваться славы, а восклицал, что он все купил и может все купить. (V, 10) Далее, несчастных откупщиков (я и сам несчастен, видя несчастья и скорбь этих людей, оказавших мне такие услуги!) он отдал в рабство иудеям и сирийцам — народам, рожденным для рабского состояния. С самого начала он принял за правило (и упорно придерживался его) не выносить судебного решения в пользу откупщика; соглашения, заключенные вполне законно, он расторг, право содержать под стражей[2022] отменил, многих данников и обложенных податями освободил от повинностей; в городе, где он находился сам или куда должен был приехать, запрещал пребывание откупщика или раба откупщика. К чему много слов? Его считали бы жестоким, если бы он к врагам относился так, как отнесся к римским гражданам, а тем более к лицам, принадлежавшим к сословию, которое, в соответствии со своим достоинством, всегда находило поддержку и благоволение должностных лиц[2023]. (11) Итак, вы видите, отцы-сенаторы, что откупщики угнетены и, можно сказать, уже окончательно разорены не из-за своей опрометчивости при получении откупов[2024] и не по неопытности в делах, а из-за алчности, надменности и жестокости Габиния. Несмотря на недостаток средств в эрарии, вы все же должны им помочь; впрочем, многим из них вы уже помочь не можете — тем, которые из-за этого врага сената, злейшего недруга всаднического сословия и всех честных людей, в своем несчастье потеряли не только имущество, но и достоинство; тем, которых ни бережливость, ни умеренность, ни доблесть, ни труд, ни почетное положение не смогли защитить от дерзости этого кутилы и разбойника. (12) Что же? Неужели мы потерпим, чтобы погибли эти люди, которые даже теперь стараются держаться либо на собственные средства, либо благодаря щедрости друзей? Или если тот, кому враги не дали получить доход от откупа, защищен цензорским постановлением[2025], то неужели тот, кому не позволяет получать доход человек, который на деле является врагом, хотя его врагом не называют, не требует помощи? Пожалуй, держи́те и впредь в провинции человека, который о союзниках заключает соглашения с врагами, о гражданах — с союзниками, который думает, что он лучше своего коллеги хотя бы тем, что Писон обманывал вас своим суровым выражением лица[2026], между тем сам он никогда не прикидывался меньшим негодяем, чем был. Впрочем, Писон хвалится другими успехами: он в течение короткого времени добился того, что Габиний уже не считается самым худшим из всех негодяев.
(VI, 13) Если бы их не пришлось рано или поздно отозвать из провинций, то неужели вы не признали бы нужным вырвать их оттуда и стали бы сохранять в неприкосновенности это двуликое зло для союзников, губителей наших солдат, разорителей откупщиков, опустошителей провинций, позорное пятно на нашем империи? Ведь вы сами в прошлом году пытались отозвать этих же самых людей, едва только они прибыли в провинции[2027]. Если бы вы в то время могли свободно выносить решения и если бы дело не откладывалось столько раз и под конец не было вырвано из ваших рук, то вы (как вы этого и желали) восстановили бы свой авторитет, отозвав тех людей, по чьей вине он был утрачен, и отняв у них те самые награды, которые они получили за свое злодеяние и разорение отечества. (14) Если они, несмотря на все ваши старания, ускользнули тогда от этой кары, — притом не своими заслугами, а при помощи других людей — то они все же понесли другую кару, гораздо более тяжкую. В самом деле, какая более тяжкая кара могла постигнуть человека, если не стыдившегося молвы, то все же боявшегося казни, чем недоверие к его письму об успешном ведении им военных действий? Сенат, собравшийся в полном составе, отказал Габинию в молебствиях[2028] по следующим соображениям: во-первых, человеку, запятнанному гнуснейшими преступлениями и злодеяниями, верить не следует ни в чем; во-вторых, человек, признанный предателем и врагом государства, не мог успешно выполнить государственное поручение; наконец, даже бессмертные боги не хотят, чтобы их храмы открыли и им возносили мольбы от имени грязнейшего и подлейшего человека. Как видно, тот другой[2029], либо сам поумнее, либо получил более тонкое образование у своих греков, с которыми он теперь кутит у всех на виду, а раньше обычно кутил тайно, либо у него друзья похитрее, чем у Габиния, так как от него мы никаких донесений не получаем.
(VII, 15) И что же, неужели эти вот люди будут у нас императорами? Один из них не осмеливается вам сообщить, почему его называют императором, другой — если только письмоносцы не замешкаются — через несколько дней неминуемо будет раскаиваться в том, что он на это осмелился. Друзья его (если только они вообще имеются или если у такого свирепого и отвратительного зверя могут быть какие-то друзья) утешают его тем, что наше сословие отказало в молебствиях даже Титу Альбуцию[2030]. Во-первых, это разные вещи — действия в Сардинии против жалких разбойников в овчинах, осуществленные пропретором при участии одной когорты вспомогательных войск, и война с крупнейшими народами Сирии и тираннами, завершенная войском и империем консула. Во-вторых, Альбуций сам назначил себе в Сардинии то, чего добивался от сената. Ведь было известно, что этот «грек» и человек легкомысленный как бы справил свой триумф в самой провинции; поэтому сенат и осудил это его безрассудство, отказав ему в молебствиях. (16) Но пусть Габиний наслаждается этим утешением и свой великий позор считает менее тяжким потому, что такое же клеймо было выжжено на лице еще у одного человека; однако пусть он дожидается и такого же конца, какой выпал на долю тому, чьим примером он утешается, тем более что Альбуций не отличался ни развращенностью Писона, ни дерзостью Габиния и все-таки пал от одного удара — от бесчестия, которому его подверг сенат.
(17) Но тот, кто подает голос за назначение двоим новым консулам двух Галлий[2031], оставляет Писона и Габиния на их местах; тот, кто подает свой голос за назначение консулам одной из Галлий и либо Сирии, либо Македонии, все-таки оставляет на месте одного из этих людей, совершивших одинаковые злодеяния, ставя их в неравные условия. «Я сделаю, — говорит такой человек, — Сирию и Македонию преторскими провинциями, чтобы Писону и Габинию назначили преемников немедленно». Да, если вот он позволит![2032] Ведь в таком случае народный трибун сможет совершить интерцессию; теперь он этого сделать не может. Поэтому я же, который теперь подаю голос за назначение Сирии и Македонии тем консулам, которые будут избраны, подам свой голос также и за то, чтобы эти же провинции были назначены как преторские — и для того, чтобы у преторов были провинции на годичный срок, и для того, чтобы мы возможно скорее увидали тех людей, которых мы не можем видеть равнодушно. (VIII) Но, поверьте мне, их никогда не сменят, разве только тогда, когда будет внесено предложение на основании закона, который воспретит интерцессию по вопросу о наместничестве вообще. Итак, если этот случай будет упущен, вам придется ждать целый год, в течение которого граждане будут бедствовать, союзники — мучиться, а преступники и негодяи останутся безнаказанными.
(18) Если бы они даже были честнейшими мужами, то я, подавая свой голос, все же еще не признал бы нужным дать преемника Гаю Цезарю. Я скажу об этом, отцы-сенаторы, то, что думаю, не побоюсь того замечания моего самого близкого друга, которым он только что прервал мою речь[2033]. Этот честнейший муж утверждает, что мне бы не следовало относиться к Габинию более враждебно, чем к Цезарю; по его словам, вся та буря, перед которой я отступил, была вызвана по наущению и при пособничестве Цезаря. Ну, а если бы я прежде всего ответил ему, что придаю общим интересам больше значения, чем своей личной обиде? Неужели мне не удастся убедить его в своей правоте, если я скажу, что делаю то, что могу делать, следуя примеру храбрейших и прославленных граждан? Разве не достиг Тиберий Гракх (говорю об отце[2034]; о, если бы его сыновья не изменили достоинству отца!) столь большой славы оттого, что он, в бытность свою народным трибуном, единственный из всей своей коллегии оказал помощь Луцию Сципиону, хотя и был злейшим недругом и его самого, и его брата, Публия Африканского[2035], разве он не поклялся на народной сходке, что он, правда, с ним не помирился, но все же считает недостойным нашей державы, чтобы туда же, куда отвели вражеских военачальников во время триумфа Сципиона, повели того, кто справил триумф?[2036] (19) У кого было больше недругов, чем у Гая Мария? Луций Красс и Марк Скавр[2037] его чуждались, его недругами были все Метеллы[2038]. И они, внося свое предложение, не только не пытались отозвать своего недруга из Галлии, но из-за войны с галлами[2039] подали голос за предоставление ему полномочий в чрезвычайном порядке. И теперь война в Галлии идет величайшая. Цезарем покорены народы огромной численности, но они еще не связаны ни законами, ни определенными правовыми обязательствами и у нас нет с ними достаточно прочного мира. Мы видим, что конец войны близок, — сказать правду, война почти закончена, — но если дело доведет до конца тот же человек, который начинал его, мы вскоре увидим, что все завершено, а если его сменят, то как бы не пришлось нам услышать, что эта великая война вспыхнула вновь. Поэтому-то я как сенатор — если вам так угодно — Гаю Цезарю недруг, но государству я должен быть другом, каким я всегда и был. (20) Ну, а если я во имя интересов государства даже совсем забуду свою неприязнь к нему, то кто, по справедливости, сможет меня упрекнуть — тем более что я всегда считал необходимым в своих решениях и поступках ставить себе в пример деяния людей выдающихся? (IX) Разве не был знаменитый Марк Лепид[2040], дважды бывший консулом и верховным понтификом, поистине прославлен не только преданиями, но летописями и голосом величайшего поэта[2041] за то, что в день своего избрания в цензоры он тотчас же, на поле, помирился со своим коллегой и заклятым врагом, Марком Фульвием[2042], так что они исполняли общие обязанности по цензуре в единодушии и согласии? (21) Да разве твой отец, Филипп[2043], — примеров из прошлого, которым нет числа, приводить не стану, — ни на миг не задумавшись, не восстановил добрых отношений со своими злейшими недругами, разве его с ними всеми не помирило вновь то же самое служение государству, которое ранее породило между ними рознь? (22) Обхожу молчанием многое другое, видя перед собой эти вот светила и украшения государства — Публия Сервилия и Марка Лукулла. О, если бы и Луций Лукулл присутствовал здесь![2044] Была ли неприязнь между какими-либо гражданами сильнее, чем между Лукуллами и Сервилием? Но государственная деятельность и собственное достоинство этих храбрейших мужей не только потушили ее в их сердцах, но даже превратили в близкую дружбу. А консул Квинт Метелл Непот? Разве он, уважая ваш авторитет и пораженный необычайно сильной речью Публия Сервилия, в храме Юпитера Всеблагого Величайшего не вернул мне, в мое отсутствие, своего расположения, что было величайшей заслугой с его стороны?[2045] Так неужели я могу быть недругом тому, чьи донесения, чья слава, чьи посланцы изо дня в день радуют мой слух новыми названиями племен, народов, местностей? (23) Поверьте мне, отцы-сенаторы, — ведь вы сами держитесь такого мнения обо мне, да и сами поступаете так же — я горю неимоверной любовью к отечеству; в ту пору, когда ему угрожали величайшие опасности, любовь эта побудила меня прийти ему на помощь и бороться не на жизнь, а на смерть и в другой раз, когда я видел, что на отечество со всех сторон направлены копья, одному за всех принять удар[2046]. Это мое исконное и неизменное отношение к государству мирит и снова соединяет меня с Гаем Цезарем и восстанавливает добрые отношения между нами.
(24) Словом, — пусть люди думают, что хотят, — не могу я не быть другом всякому человеку с заслугами перед государством. (X) В самом деле, если тем людям, которые захотели огнем и мечом уничтожить всю нашу державу, я не только оказался недругом, но и объявил войну и напал на них, хотя одни из них были мне близки, а другие даже благодаря моей защите были оправданы в суде, угрожавшем их гражданским правам, то почему интересы государства, которые смогли меня воспламенить против друзей, не могли бы заставить меня быть мягче к недругам? Что другое заставило меня возненавидеть Публия Клодия, как не то, что он, по моему мнению, должен был сделаться опасным для отечества гражданином, потому что он, загоревшись позорнейшей похотью, одним преступлением осквернил две священные вещи — религию и целомудрие?[2047] Разве после того, что он совершил и изо дня в день совершает, можно сомневаться в том, что я, нападая на него, заботился больше о государстве, чем о собственном благополучии, а некоторые люди, его же защищая, заботились больше о своем благополучии, нежели о всеобщем? (25) Признаю — я расходился с Гаем Цезарем в вопросах государственных и соглашался с вами; но и теперь я согласен опять-таки с вами, с которыми я соглашался и прежде. Ведь вы, которым Луций Писон не решается прислать донесение о своих действиях, вы, которые, выразив Габинию резкое порицание и подвергнув его необычному посрамлению, осудили его донесение[2048], вы от имени Гая Цезаря назначили продолжительные молебствия, каких не назначали ни от чьего имени по завершении одной только войны, и с таким почетом для него, с каким их вообще не назначали ни от чьего имени. Так зачем же мне ждать кого-то, кто бы помирил меня с ним? Нас помирило славнейшее сословие, то сословие, которое является вдохновителем и главным руководителем государственной мудрости и всех моих замыслов. За вами, отцы-сенаторы, следую я, вам повинуюсь, с вами соглашаюсь; ведь в течение всего того времени, когда вы сами не особенно одобряли замыслы Гая Цезаря, касавшиеся государственных дел, вы видели, что и я не так тесно был связан с ним; потом, после того как ваши взгляды и настроения, ввиду происшедших событий, изменились, вы увидели в моем лице не только своего единомышленника, но и человека, воздающего вам хвалу.
(XI, 26) Но почему же особенно удивляются моей точке зрения именно в этом вопросе и порицают ее? Ведь я уже и ранее подавал свой голос за многое, что имело значение скорее для высокого положения Цезаря, чем для нужд государства? В своем предложении я высказался за пятнадцатидневные молебствия; для государства было достаточно молебствий такой продолжительности, какие были назначены от имени Гая Мария[2049]; бессмертные боги удовлетворились бы такими благодарственными молебствиями, какие назначаются после величайших войн; следовательно, излишек дней сверх этого срока был данью достоинству Цезаря. (27) Тут я, по чьему докладу как консула впервые от имени Гнея Помпея были назначены десятидневные молебствия после гибели Митридата и завершения Митридатовой войны и по чьему предложению впервые была удвоена продолжительность молебствий от имени консула (ведь вы согласились со мной, когда, по прочтении донесения того же Помпея, по завершении всех войн на море и на суше, назначили десятидневные молебствия), был восхищен доблестью и величием духа Гнея Помпея — тем, что он, стяжавший больший почет, чем кто бы то ни было, ныне воздавал другому еще бо́льшие почести, чем те, каких достиг сам[2050]. Следовательно, те молебствия, за которые я подал голос, сами по себе были данью бессмертным богам и заветам предков и служили пользе государства, но торжественность выражений, необычная форма почета и продолжительность молебствий были данью заслугам и славе самого Цезаря. (28) Нам недавно докладывали о жаловании для его войска. Я не только подал голос за это предложение, но и постарался, чтобы подали свой голос и вы; я отвел много возражений, участвовал в составлении решения. Это было сделано мной скорее в угоду самому Цезарю, чем в силу необходимости, ибо я полагал, что он даже без этой денежной помощи может, используя ранее захваченную им добычу, сохранить свое войско и закончить войну; но я счел недопустимым нашей бережливостью наносить ущерб пышности и великолепию триумфа. Было принято решение насчет десяти легатов, причем одни вообще не давали на это своего согласия, другие спрашивали, были ли уже подобные примеры, третьи оттягивали время, четвертые соглашались, но не считали нужным добавлять особо лестные выражения; я же и по этому делу высказался так, что все поняли одно: в том предложении, которое я внес, заботясь о благе государства, я еще более щедр ввиду достоинства самого Цезаря.
(XII, 29) Однако во время моих выступлений по упомянутым вопросам господствовало общее молчание; теперь, когда речь идет о назначении провинций, меня прерывают, хотя ранее дело шло об оказании почета лично Цезарю, а в этом вопросе я руководствуюсь только соображениями насчет войны, только высшими интересами государства. Ибо для чего еще сам Цезарь может желать остаться в провинции, если не для того, чтобы завершить и передать государству начатое им дело? Уж не удерживают ли его там привлекательность этой местности, великолепие городов, образованность и изящество живущих там людей и племен, жажда победы, стремление расширить границы державы? Что может быть суровее тех стран, беднее тех городов, свирепее тех племен; но что может быть лучше стольких побед, длиннее, чем Океан?[2051] Или его возвращение в отечество может навлечь на него какую-либо неприятность? Но с какой стороны? Со стороны ли народа, которым он был послан, или сената, которым он был возвеличен? Разве отсрочка усиливает тоску по нему? Разве она не способствует скорее забвению, разве не теряют, за длинный промежуток времени, своей свежести лавры, приобретенные ценой великих опасностей? Поэтому, если кто-нибудь недолюбливает Цезаря, то у таких людей нет оснований отзывать его из провинции; они отзывают его для славы, триумфа, благодарственных молебствий, высших почестей от сената, благодарности всаднического сословия, восхищения народа. (30) Но если он, служа пользе государства, спешит насладиться этим столь исключительным счастьем, желая завершить все начатое им, то что должен я делать как сенатор, которому надо заботиться о благе государства, даже если бы Цезарь хотел иного?
Я лично, отцы-сенаторы, полагаю так: в настоящее время нам при назначении провинций надо принимать во внимание интересы длительного мира. Ибо кто не знает, что нам больше нигде не угрожает никакая война, что нельзя даже предположить это? (31) Мы видим, что необъятное море, которое своими бурями тревожило, не говорю уже — наши морские пути, но даже города и военные дороги[2052], благодаря доблести Гнея Помпея уже давно во власти римского народа и представляет собой, от Океана и до крайних пределов Понта[2053], как бы единую безопасную и закрытую гавань; мы видим, что те народы, которые ввиду своей огромной численности могли наводнить наши провинции, Помпей частью истребил, частью покорил, так что вокруг Азии, которая ранее составляла границу нашей державы, теперь расположены три новые провинции[2054]. То же самое могу сказать о любой стране, о любом враге. Нет племени, которое не было бы подавлено настолько, что едва дышит, или укрощено настолько, что ведет себя смирно, или же умиротворено настолько, что радуется нашей победе и владычеству.
(XIII, 32) С галлами же, отцы-сенаторы, настоящую войну мы начали вести только тогда, когда Гай Цезарь стал императором; до этого мы лишь оборонялись. Императоры наши всегда считали нужным военными действиями оттеснять эти народы, а не нападать на них. Даже знаменитый Гай Марий, чья ниспосланная богами исключительная доблесть пришла на помощь римскому народу в скорбное и погибельное для него время, уничтожил вторгшиеся в Италию полчища галлов, но сам не дошел до их городов и селений. Только человек, разделявший со мной труды, опасности и замыслы, Гай Помптин[2055], храбрейший муж, закончил в несколько сражений внезапно вспыхнувшую войну с аллоброгами, вызванную преступным заговором, покорил тех, кто ее начал, и, удовлетворенный этой победой, избавив государство от страха, ушел на отдых. Замысел Гая Цезаря, как я вижу, был совершенно иным: он признал нужным не только воевать с теми, кто, как он видел, уже взялся за оружие против римского народа, но и подчинить нашей власти всю Галлию. (33) Он добился полного успеха в решительных сражениях против сильнейших и многочисленных народов Германии и Гельвеции; на другие народы он навел страх, подавил их, покорил, приучил повиноваться державе римского народа; наш император, наше войско, оружие римского народа проникли в такие страны и к таким племенам, о которых мы дотоле не знали ничего — ни из писем, ни из устных рассказов, ни по слухам. Лишь узкую тропу в Галлии[2056] до сего времени удерживали мы, отцы-сенаторы! Прочими частями ее владели племена, либо враждебные нашей державе, либо ненадежные, либо неведомые нам, но, во всяком случае, дикие, варварские и воинственные; не было никого, кто бы не желал, чтобы народы эти были сломлены и покорены. Уже с начала существования нашей державы не было никого, кто бы, размышляя здраво об интересах нашего государства, не считал, что наша держава более всего должна бояться Галлии. Но ранее, ввиду силы и многочисленности этих племен, мы никогда не сражались с ними всеми сразу; мы всегда давали отпор, будучи вызваны на это. Только теперь достигнуто положение, когда крайние пределы нашей державы совпадают с пределами этих стран.
(XIV, 34) Не без промысла богов природа некогда оградила Италию Альпами; ибо если бы доступ в нее был открыт для полчищ диких галлов, наш город никогда не стал бы обиталищем и оплотом великой державы. А ныне Альпам можно опуститься: по ту сторону этих высоких гор, вплоть до Океана, уже не существует ничего такого, что могло бы грозить Италии. И все же связать узами всю Галлию навеки могут лишь один-два летних похода с тем, чтобы мы либо запугали ее, либо подали ей надежду, либо пригрозили ей карой, либо прельстили ее наградами, либо действовали оружием, либо ввели законы. Если же столь трудное дело будет оставлено незаконченным и незавершенным, то оно, хотя и подсеченное под корень, все же рано или поздно может набрать сил, разрастись и привести к новой войне. (35) Поэтому пусть Галлия пребывает на попечении того, чьей честности, доблести и удачливости она поручена. Даже если бы Гай Цезарь, украшенный величайшими дарами Фортуны, не хотел лишний раз искушать эту богиню, если бы он торопился с возвращением в отечество, к богам-пенатам[2057], к тому высокому положению, какое, как он видит, его ожидает в государстве, к дорогим его сердцу детям[2058], к прославленному зятю, если бы он жаждал въезда в Капитолий в качестве победителя, имеющего необычайные заслуги, если бы он, наконец, боялся какого-нибудь случая, который уже не может ему прибавить столько, сколько может у него отнять, то нам все же следовало бы хотеть, чтобы все начинания были завершены тем самым человеком, которым они почти доведены до конца. Но так как Гай Цезарь уже давно совершил достаточно подвигов, чтобы стяжать славу, но еще не все сделал для пользы государства и так как он все же предпочитает наслаждаться плодами своих трудов не ранее, чем выполнит свои обязательства перед государством, то мы не должны ни отзывать императора, горящего желанием отлично вести государственные дела, ни расстраивать весь почти уже осуществленный план ведения галльской войны и препятствовать его завершению.
(XV, 36) Менее всего следует одобрить мнение тех мужей, один из которых предлагает назначить будущим консулам дальнюю Галлию и Сирию, а другой — ближнюю Галлию и Сирию. Кто говорит о дальней Галлии, тот расстраивает все те начинания, какие я только что рассмотрел; в то же время он ясно показывает, что придерживается того закона, которого он сам законом не считает[2059], и что ту часть провинции, насчет которой интерцессия невозможна, он у Цезаря отнимает, а части ее, имеющей защитника[2060], не касается; в то же время он старается не посягать на то, что Цезарю дано народом, а то, что ему дал сенат, он сам, будучи сенатором, поспешно отнял. (37) Кто говорит о ближней Галлии, принимает во внимание состояние войны в Галлии, выполняет долг честного сенатора, но тот закон, которого он сам не считает законом, тоже соблюдает; ибо он заранее определяет срок для назначения преемника. Мне кажется, нет ничего более противного достоинству и наставлениям наших предков, чем положение, когда тому, кто должен получить провинцию в январские календы как консул, пришлось бы ведать ею на основании обещания, а не в силу постановления[2061]. Тот, кому провинция будет назначена до его избрания, в течение всего своего консульства будет без провинции. Будут бросать жребий или нет? Ведь и не бросать жребия и не иметь того, что ты по жребию получил, одинаково нелепо. Выедет ли он, надев походный плащ?[2062] Куда? Туда, куда ему нельзя будет прибыть до определенного срока. В течение января и февраля у него провинции не будет; наконец, в мартовские календы у него неожиданно появится провинция. (38) А Писон на основании этих предложений все-таки останется в провинции. Но если это само по себе неприятно, то еще неприятнее — наказать императора, уменьшив его провинцию; это для него оскорбительно и от этого следует избавить не только столь выдающегося мужа, но даже и человека рядового.
(XVI) Я хорошо понимаю, что вы, отцы-сенаторы, назначили Гаю Цезарю многочисленные исключительные и, можно сказать, единственные в своем роде почести. Если потому, что он их заслужил, то вы проявили благодарность; если для того, чтобы возможно теснее связать его с нашим сословием, то вы поступили мудро и по внушению богов. Наше сословие никогда не оказывало почестей и милостей ни одному человеку, который мог оценить любое иное положение выше, чем то, какого он мог бы достигнуть при вашем посредстве. Здесь никогда не мог стать первоприсутствующим ни один человек, который предпочел быть популяром[2063]; но часто люди, либо утратившие свое достоинство и изверившиеся в себе, либо потерявшие связь с нашим сословием вследствие чьей-либо недоброжелательности, можно сказать, гонимые необходимостью, покидали эту гавань и пускались в бурное море. Если кто-нибудь из них, долго носившийся по волнам народных бурь, снова обращает свой взор к Курии, блестяще совершив государственное дело, и хочет быть в чести у носителей этого наивысшего достоинства, то такого человека не только не следует отвергать, но надо даже привлечь к себе. (39) Но вот этот храбрейший муж и в памяти людей лучший из консулов советует нам заранее принять меры, чтобы ближняя Галлия не была наперекор нам отдана кому-нибудь после консульства тех, кто теперь будет избран, чтобы над нею в дальнейшем, действуя по способу популяров и мятежно, не властвовали постоянно те, кто идет войной на наше сословие. Хотя я и не отношусь с пренебрежением к угрозе такой беды, отцы-сенаторы (тем более, что меня предостерег мудрейший консул и заботливейший хранитель мира и спокойствия), все же мне, полагаю я, гораздо больше следует опасаться, что я могу умалить почести людям славнейшим и могущественнейшим или же оттолкнуть их от нашего сословия; ибо я никак не могу представить себе, чтобы Гай Юлий, которого сенат облек всеми исключительными и чрезвычайными полномочиями, мог своими руками передать провинцию тому, кто для вас в высшей степени нежелателен, и не предоставить даже свободу действий тому сословию, благодаря которому сам он достиг величайшей славы. Наконец, как будет настроен каждый из вас, я не знаю; на что можно надеяться мне, я вижу; как сенатор я насколько могу должен стараться, чтобы ни один из славных или могущественных мужей не имел основания негодовать на наше сословие. (40) И даже в случае, если бы я был злейшим недругом Гаю Цезарю, я все же голосовал бы за это предложение ради блага государства.
(XVII) А дабы меня реже прерывали или менее сурово осуждали молча, я нахожу нелишним вкратце объяснить, каковы у меня отношения с Цезарем. Не стану говорить о первой поре нашего дружеского общения, начавшегося еще со времен нашей общей с ним юности у меня, моего брата и у нашего родственника Гая Варрона[2064]. После того как я полностью посвятил себя государственной деятельности, я разошелся с Цезарем в убеждениях, но при отсутствии единства взглядов мы все же оставались связанными дружбой. (41) Как консул он совершил действия, к участию в которых захотел привлечь меня; хотя я и не сочувствовал им, но его отношение ко мне все-таки должно было быть мне приятно. Мне предложил он участвовать в квинквевирате[2065]; меня захотел он видеть одним из троих наиболее тесно связанных с ним консуляров[2066], мне хотел он предоставить легатство по моему выбору и с почетом, какого я пожелал бы[2067]. Все это я отверг не по неблагодарности, но, так сказать, упорствуя в своем мнении; насколько умно я поступил, обсуждать не стану; ибо у многих я одобрения не встречу; но держал я себя, во всяком случае, стойко и храбро, так как, будучи в состоянии оградить себя от злодеяния недругов надежнейшими средствами и отразить натиск популяров, прибегнув к защите народа[2068], предпочел принять любой удар судьбы, подвергнуться насилию и несправедливости, лишь бы не отступить от ваших священных для меня взглядов и не отклониться от своего пути. Но благодарным должен быть не только тот, кто принял предложенную ему милость, но также и тот, у кого была возможность ее принять. Что та честь, какую Цезарь мне оказывал, приличествовала мне и соответствовала тем деяниям, которые я совершил, я лично не думал; что сам он питает ко мне такие же дружеские чувства, как и к первому человеку среди граждан — к своему зятю, это я чувствовал. (42) Он перевел в плебеи моего недруга[2069] либо в гневе на меня, так как видел, что не может привлечь меня на свою сторону, даже осыпая меня милостями, либо уступив чьим-то просьбам. Однако даже это не имело целью оскорбить меня. Ибо впоследствии он меня не только убеждал, но даже просил быть его легатом. Даже этого не принял я — не потому, что находил это не соответствующим своему достоинству, но так как не подозревал, что новые консулы совершат против государства столько злодеяний. (XVIII) Следовательно, до сего времени я должен опасаться, что станут порицать скорее то высокомерие, каким я отвечал на его щедрые милости, чем его несправедливое отношение к нашей дружбе. (43) Но вот разразилась памятная нам буря, настал мрак для честных людей, ужасы внезапные и непредвиденные, тьма над государством, уничтожение и сожжение всех гражданских прав, внушенные Цезарю опасения насчет его собственной судьбы, боязнь резни у всех честных людей, преступление консулов, алчность, нищета, дерзость![2070] Если я не получил от него помощи, значит, и не должен был получить; если я был им покинут, то, очевидно, потому, что он заботился о себе; если он даже напал на меня, как некоторые думают или утверждают, то, конечно, дружба была нарушена и я потерпел несправедливость; мне следовало стать его недругом — не отрицаю; но если он же захотел охранить меня тогда, когда вы по мне тосковали, как по любимейшему сыну, и если вы сами считали важным, чтобы Цезарь не был противником моего восстановления в правах[2071], если для меня свидетелем его доброй воли в этом деле является его зять, который добился моего восстановления в правах, обращаясь к Италии в муниципиях, к римскому народу на сходке, к вам, всегда мне глубоко преданным, в Капитолии, если, наконец, тот же Гней Помпей является для меня свидетелем благожелательности Цезаря ко мне и поручителем перед ним за мое доброе отношение к нему[2072], то не кажется ли вам, что я, памятуя о давних временах и вспоминая о недавних, должен тот вызывающий глубокую скорбь средний промежуток времени, если не могу вырвать его из действительности, во всяком случае, предать полному забвению?
(44) Да, если кое-кто не позволяет мне поставить себе в заслугу, что я, ради блага государства, поступился своей обидой и враждой, если это таким людям кажется, так сказать, свойством великого и премудрого человека, то я прибегну к следующему объяснению, имеющему значение не столько для снискания похвалы, сколько во избежание осуждения: я — человек благодарный, на меня действуют не только большие милости, но даже и обычное доброе отношение ко мне. (XIX) Если я не требовал, чтобы кое-кто из храбрейших и оказавших мне величайшие услуги мужей[2073] разделил со мной мои труды и бедствия, то пусть и они не требуют от меня, чтобы я был их союзником в их вражде, тем более, что они сами позволили мне защищать с полным правом даже те действия Цезаря, на которые я ранее и не нападал, но которых и не защищал. (45) Ведь первые среди граждан мужи, по чьему решению я спас государство и по чьему совету уклонился в ту пору от союза с Цезарем, утверждают, что Юлиевы законы, как и другие законы, предложенные в его консульство, проведены не в установленном порядке[2074]; между тем они же говорили, что проскрипция моих гражданских прав[2075] была предложена, правда, во вред государству, но не вопреки авспициям. Поэтому один муж, необычайно влиятельный и чрезвычайно красноречивый, с уверенностью сказал, что мое несчастье — это похороны государства, но похороны, назначенные согласно законам[2076]. Для меня самого, вообще говоря, весьма почетно, что мой отъезд называют похоронами государства. Остального оспаривать не стану, но использую это как доказательство правильности своего мнения. Ибо если они решились назвать предложенным в законном порядке то, что было беспримерным, что никаким законом дозволено не было, так как никто наблюдений за небесными знамениями тогда не произвел, то неужели они забыли, что тогда, когда тот, кто это совершил, был на основании куриатского закона сделан плебеем, за небесными знамениями, как говорят, наблюдали? Но если он вообще не мог стать плебеем, то как мог он быть народным трибуном?[2077] И будут ли казаться (даже при условии, что правила авспиций были соблюдены) проведенными законным путем не только трибунат Клодия, но и его губительнейшие меры только потому, что при признании правомерности его трибуната ни одна мера Цезаря не может быть признана неправомерной? (46) Поэтому либо вы должны постановить, что остается в силе Элиев закон, что не отменен Фуфиев закон[2078], что закон дозволяется предлагать не во все присутственные дни, что, когда вносят закон, наблюдение за небесными знамениями, обнунциация и интерцессия разрешаются, что суждение и замечание цензора и строжайшее попечение о нравах, несмотря на издание преступных законов[2079], не отменены в государстве, что если народным трибуном был патриций, то это было нарушением священных законов[2080], а если им был плебей, то — нарушением авспиций; либо мне должно быть позволено не требовать в честных делах соблюдения тех правил, соблюдения которых они сами не требуют в пагубных, тем более, что они уже не раз давали Гаю Цезарю возможность проводить такие же меры иным путем, при каковых условиях они требовали авспиций, а законы его одобряли[2081], в случае же с Клодием положение насчет авспиций такое же, но его законы все клонятся к разорению и уничтожению государства.
(XX, 47) И вот, наконец, последний довод: если бы между мной и Гаем Цезарем была вражда, то ныне я все же должен был бы заботиться о благе государства, а вражду отложить на другое время; я мог бы даже, по примеру выдающихся мужей, ради блага государства отказаться от вражды. Но так как вражды между нами не было никогда, а распространенное мнение о якобы нанесенной мне обиде опровергнуто оказанной мне милостью, то я, отцы-сенаторы, своим голосованием, если речь идет о достоинстве Цезаря, воздам ему должное как человеку; если речь идет об оказании ему особого почета, то я буду сообразовываться с общим мнением сенаторов; если — об авторитете ваших решений, то я буду оберегать незыблемость решений сословия, облекшего полномочиями этого императора; если — о неуклонном ведении галльской войны, то я буду заботиться о благе государства; если — о какой-нибудь моей личной обязанности как частного лица, то докажу, что я не лишен чувства благодарности. Этому вот я и хотел бы получить всеобщее одобрение, отцы-сенаторы; но отнюдь не буду огорчен, если встречу, быть может, меньшее одобрение у тех ли, которые, наперекор вашему авторитету, взяли под свое покровительство моего недруга, или у тех, которые осудят мое примирение с их недругом[2082], хотя сами они и с моим и со своим собственным недругом помирились без всяких колебаний.
22. Речь в защиту Тита Анния Милона [Апрель 52 г. до н. э.]
Предисловие Квинта Аскония Педиана
История дела Тита Анния Милона подробно изложена в предисловии к речи, составленном античным комментатором, грамматиком Квинтом Асконием Педианом (I в. н. э.). Обычно издатели речи в защиту Милона приводят этот памятник полностью.
(1) Цицерон произнес эту речь в третье консульство Гнея Помпея, за пять дней до апрельских ид. Во время этого суда Гней Помпей расположил войско на форуме и перед всеми храмами, как явствует не только из речи и из летописей, но также и из книги, написанной Цицероном и озаглавленной им О наилучших ораторах. Содержание речи следующее.
(2) Тит Анний Милон, Публий Плавций Гипсей и Квинт Метелл Сципион добивались консульства не только открытым и неограниченным подкупом, но и используя отряды вооруженных людей. Между Милоном и Клодием была сильная вражда, так как Милон был лучшим другом Цицерона и в бытность свою народным трибуном потрудился ради его возвращения из изгнания, а Публий Клодий относился к Цицерону крайне враждебно даже после его восстановления в правах и поэтому всячески поддерживал Гипсея и Сципиона против Милона. К тому же Милон и Клодий вместе со своими сторонниками не раз ожесточенно сражались друг против друга в Риме; отвагой они были равны, но Милон был на стороне лучших людей. Кроме того, Милон добивался консульства на тот же год, на какой Клодий добивался претуры, а она, как Клодий понимал, была бы бессильна при консуле в лице Милона. (3) Затем, так как комиции по выбору консулов откладывались в течение долгого времени и не могли состояться вследствие именно этого злосчастного соперничества между кандидатами, а из-за этого в январе месяце еще не было ни консулов, ни преторов, и день комиций откладывался так же, как и ранее, так как Милон хотел, чтобы выборы состоялись возможно скорее, и полагался как на преданность честных людей, потому что боролся с Клодием, так и на народ ввиду своих щедрых раздач и огромных расходов на театральные представления и на бои гладиаторов, на которые он, по сообщению Цицерона, истратил три состояния, и так как его соперники хотели затянуть выборы и поэтому Помпей, зять Сципиона, и народный трибун Тит Мунаций не позволили доложить сенату о созыве патрициев для избрания интеррекса, — хотя обычай требовал этого, — то за двенадцать дней до февральских календ (я нахожу нужным руководствоваться актами и самой речью, указания которой совпадают со сведениями из актов, а не указаниями Фенестеллы, который говорит о дне за тринадцать дней до февральских календ) Милон выехал в муниципий Ланувий, откуда был родом и где тогда был диктатором, для избрания фламина, которое было назначено на следующий день.
(4) Приблизительно в девятом часу несколько дальше Бовилл, вблизи того места, где находится святилище Доброй Богини, с ним встретился Публий Клодий, возвращавшийся из Ариции. Дело в том, что он держал речь перед декурионами Ариции. Клодий ехал верхом; за ним, по тогдашнему обычаю путешествовавших, следовало около тридцати рабов налегке, вооруженных мечами. Кроме того, вместе с Клодием было трое спутников, один из которых, Гай Кавсиний Схола, был римским всадником, а двое других, Публий Помпоний и Гай Клодий, — известными людьми из плебса. Милон ехал на повозке с женой Фавстой, дочерью диктатора Луция Суллы, и со своим близким другом, Марком Фуфием. (5) За ним следовала большая толпа рабов, среди которых были также и гладиаторы, а в их числе двое известных, Евдам и Биррия. Именно они, идя медленно в последнем ряду, и затеяли ссору с рабами Публия Клодия. Когда Клодий с угрозами обернулся на этот шум, Биррия пронзил ему плечо копьем. Когда из-за этого возникла стычка, сбежалось много людей Милона. Раненного Клодия отнесли в ближайшую харчевню в бовилльской округе. (6) Узнав, что Клодий ранен, Милон, понимая, что он будет в еще более опасном положении, если Клодий останется жив, и рассчитывая получить удовлетворение от его убийства, даже если ему самому придется подвергнуться наказанию, велел вытащить Клодия из харчевни. Предводителем его рабов был Марк Савфей. Скрывавшегося Клодия выволокли и добили, нанеся ему множество ран. Тело его оставили на дороге, так как его рабы либо были убиты раньше, либо прятались, тяжело раненные. Сенатор Секст Тедий, который возвращался из деревни в Рим, приказал поднять его и отнести в Рим на своих носилках; сам он снова вернулся туда же, откуда выехал. (7) Тело Клодия было доставлено в Рим до наступления первого часа ночи; подонки плебса и рабы огромной толпой обступили с громким плачем тело, выставленное в атрии дома. Возмущение всем случившимся усиливала Фульвия, жена Клодия, которая, с нескончаемыми воплями, указывала на его раны. На следующий день, с рассветом, собралась еще более многочисленная толпа, причем очень многие известные люди были задавлены, среди них — сенатор Гай Вибиен. За несколько месяцев до того дом Клодия на Палации был куплен у Марка Скавра. Туда же прибежали народные трибуны Тит Мунаций Планк, брат оратора Луция Планка, и Квинт Помпей Руф, внук диктатора Суллы по дочери. По их наущению неискушенная чернь отнесла на форум и положила на ростры обнаженное и испачканное грязью тело — в таком виде, в каком оно лежало на ложе, — чтобы можно было видеть раны. (8) Там, на народной сходке, Планк и Помпей, поддерживавшие соперников Милона, разожгли ненависть к нему. Под предводительством писца Секста Клодия народ внес тело Публия Клодия в Курию и сжег его, использовав для этого скамьи, подмостки для суда, столы и книги письмоводителей; от этого огня сгорела Курия и пострадала примыкающая к ней Порциева басилика. Толпа сторонников Клодия осадила также и дом интеррекса Марка Лепида (ибо он был избран в курульные должностные лица) и дом отсутствовавшего Милона, но была отогнана от дома Милона стрелами. Тогда они принесли к дому Сципиона и к дому Гипсея, а также и к загородному имению Помпея ликторские связки, похищенные ими из рощи Либитины, причем одни из них провозглашали Помпея консулом, другие — диктатором.
(9) Поджог Курии вызвал среди граждан гораздо большее негодование, нежели то, какое было вызвано убийством Клодия. Поэтому Милон, который, как думали, добровольно отправился в изгнание, в ту ночь, когда Курия была подожжена, возвратился в Рим, ободренный тем, что его противники навлекли на себя ненависть, и с такой же настойчивостью стал добиваться консульства. Он открыто роздал по трибам по тысяче ассов на каждого гражданина. Через несколько дней народный трибун Марк Целий созвал для него сходку и даже сам выступил перед народом в его пользу. Оба они говорили, что Клодий устроил Милону засаду.
(10) Между тем избирали одного интеррекса за другим, так как комиции по выбору консулов не могли состояться из-за тех же столкновений между кандидатами и присутствия тех же шаек вооруженных людей. Поэтому сенат сначала принял постановление о том, чтобы интеррекс, народные трибуны и Гней Помпей, который как проконсул находился в окрестностях Рима, приняли меры, дабы государство не понесло ущерба; что касается набора, то — чтобы Помпей производил его во всей Италии. После того как Помпей с необычайной быстротой обеспечил защиту, двое юношей, которых обоих звали Аппиями Клавдиями и которые были сыновьями Гая Клавдия, брата Клодия, и поэтому начали судебное преследование за смерть своего дяди, как бы по побуждению со стороны его брата потребовали от Помпея выдачи им для допроса рабов Милона, а также и рабов его жены Фавсты. Выдачи этих же рабов Фавсты и Милона потребовали двое Валериев, Непот и Лев, и Луций Геренний Бальб. В то же самое время Целий потребовал выдачи также и рабов Публия Клодия и его спутников. Выдачи рабов Гипсея и Квинта Помпея потребовал …
(11) …Милона защищали Квинт Гортенсий, Марк Цицерон, Марк Марцелл, Марк Калидий, Марк Катон, Фавст Сулла. Квинт Гортенсий произнес короткую речь и сказал, что те, выдачи которых как рабов требуют, — люди свободные, так как Милон тотчас же после резни отпустил их на том основании, что они спасли ему жизнь. Это обсуждалось в дополнительном месяце. (12) Приблизительно через тридцать дней после убийства Клодия Квинт Метелл Сципион заявил в сенате жалобу на Марка Катона в связи с этим убийством Публия Клодия и назвал ложными утверждения, какие Милон приводил в свою защиту… Он сказал, что Клодий выезжал для того, чтобы выступить с речью перед декурионами Ариции, что он отправился с двадцатью шестью рабами; что Милон внезапно, в пятом часу, по окончании заседания сената, поспешил навстречу ему в сопровождении более чем трехсот вооруженных рабов и напал на него врасплох в пути выше Бовилл; что Публий Клодий, получив там три раны, был доставлен в Бовиллы, а харчевню, где он укрылся, Милон взял приступом; что Клодия выволокли чуть живого, … убили на Аппиевой дороге и сняли с умиравшего перстень; что Милон, зная, что в усадьбе в Альбе находится маленький сын Клодия, явился в усадьбу, а так как мальчика заблаговременно спрятали, то Милон стал допрашивать раба Галикора, у которого отрубали один член за другим; что он, кроме того, приказал зарезать управителя и двоих рабов; что из рабов Клодия, которые защищали своего господина, было убито одиннадцать, а из рабов Милона ранено только двое; что Милон за это на другой день отпустил двенадцать рабов, которые особенно постарались, и по трибам дал народу по тысяче ассов на каждого гражданина для того, чтобы они подтверждали слухи в его пользу. (13) Говорили, что Милон послал сказать Гнею Помпею, усиленно поддерживавшему Гипсея, который раньше был его квестором, что он откажется от соискания консульства, если Помпей находит это нужным; но Помпей ответил, что он никому не советует ни добиваться, ни отказываться, что он ни советом, ни предложением своим не станет предвосхищать волю римского народа в осуществлении им своей власти. Говорили также, что Помпей, дабы не навлечь на себя ненависти, запрашивая об этом деле, вел переговоры через Гая Луцилия, который был другом Милона ввиду своей дружбы с Марком Цицероном.
(14) Между тем, так как усиливались толки о том, что Гнея Помпея надо избрать диктатором, что иначе нет возможности искоренить зло в государстве, оптиматы сочли более безопасным избрать его консулом без коллеги, а так как в сенате решение этого вопроса затянулось, то на основании постановления сената, принятого по предложению Марка Бибула, в дополнительном месяце за четыре дня до мартовских календ Помпей был избран в консулы при посредстве интеррекса Сервия Сульпиция и тотчас же приступил к исполнению обязанностей консула. (15) Затем, через два дня, он внес предложение об издании новых законов. В силу постановления сената он объявил два закона: один — о насильственных действиях, который имел в виду именно резню на Аппиевой дороге, поджог Курии и осаду дома интеррекса Марка Лепида, другой — о домогательстве; они предусматривали более тяжкое наказание и сокращенный порядок судопроизводства; ибо оба закона требовали, чтобы сначала выслушивали свидетелей, а затем в один и тот же день обвинитель и обвиняемый произносили речи, причем обвинителю следовало предоставить два часа, а обвиняемому — три. (16) Изданию этих законов попытался воспротивиться народный трибун Марк Целий, ярый сторонник Милона, говоря, что предлагается привилегия, направленная против Милона, и что правосудие уничтожается. А когда Целий стал порицать закон более резко, Помпей дошел в своем гневе до угрозы, что он будет защищать государство оружием, если его к этому принудят. Но Помпей боялся Милона, а, может быть, притворялся, что боится его. Он ночевал чаще всего не в своем доме, а в загородном именье, в верхних садах, вокруг которых к тому же стоял в карауле большой отряд солдат. (17) Однажды Помпей неожиданно даже распустил сенат, как он сказал, из боязни прихода Милона. Во время следующего собрания сената Публий Корнифиций сказал, что Милон носит под туникой меч, привязанный к бедру. Он потребовал, чтобы Милон обнажил бедро; тот немедленно поднял тунику. Тогда Марк Цицерон воскликнул, что также и другие обвинения, которые возводятся на Милона, все подобны этому.
(18) Народный трибун Тит Мунаций Планк представил народу, собравшемуся на сходку, Марка Эмилия Филемона, известного человека, вольноотпущенника Марка Лепида. По его словам, он и четверо свободных людей, находясь в пути, неожиданно подоспели во время убийства Клодия, а когда они в связи с этим закричали, их схватили и продержали целых два месяца под стражей в усадьбе Милона; это заявление — независимо от того, была ли это правда или же ложь, — вызвало сильное возбуждение против Милона. (19) Народные трибуны Мунаций и Помпей вызвали на ростры также и триумвира по уголовным делам и спросили его, не задержал ли он Галаты, раба Милона, при совершении им убийства. Он ответил, что Галата был схвачен как беглый, когда спал в харчевне, и приведен к нему: при этом триумвиру предписали не отпускать этого раба. Но на следующий день народный трибун Целий и его коллега Квинт Манилий Куман возвратили Милону раба, забрав его из дома триумвира. Хотя Цицерон совсем не упоминал об этих обвинениях, я все же счел нужным сообщить о них, так как я собрал такие сведения.
(20) Более, чем кто-либо другой, народные трибуны Квинт Помпей, Гай Саллюстий и Тит Мунаций Планк произносили на сходках речи, крайне враждебные Милону, стремясь вызвать ненависть и к Цицерону — за то, что он так преданно защищал Милона; при этом подавляющее большинство людей было раздражено не только против Милона, но и против Цицерона вследствие его ненавистной им защиты. (21) Впоследствии Квинт Помпей и Саллюстий навлекли на себя подозрение в том, что помирились с Милоном и Цицероном; Планк же, оставшись непоколебим в своей сильнейшей вражде, возбудил толпу и против Цицерона, а Гнею Помпею пытался внушить подозрения насчет Милона, воскликнув, что на его жизнь готовится покушение; поэтому Помпей, не раз да еще открыто жаловавшийся, что злоумышляют и против него, усиливал свою охрану. (22) Планк заявил о своем намерении привлечь к суду также и Цицерона, а впоследствии Квинт Помпей пригрозил тем же. Но непоколебимость и верность Цицерона были так велики, что ни враждебность народа, ни подозрения Гнея Помпея, ни опасность суда народа, ни оружие, за которое открыто взялись против Милона, не могли отпугнуть его от защиты Милона, хотя он и мог отвести от себя угрожавшую ему опасность и недовольство враждебной ему толпы и в то же время вернуть себе расположение Гнея Помпея, если бы хоть немного умерил свое усердие в деле защиты Милона.
(23) По издании Помпеева закона, который также гласил, что председатель суда должен быть избран голосованием народа из числа тех, кто ранее был консулами, тотчас же состоялись комиции; председателем суда был избран Луций Домиций Агенобарб. Помпей также выставил для ознакомления список судей, которые должны были вынести приговор по этому делу, причем, как было ясно для всех, это были самые знаменитые и самые добросовестные мужи, какие только когда-либо были предложены. (24) После этого, на основании чрезвычайного закона, Милон тотчас же был привлечен к суду двумя юношами Аппиями Клавдиями — теми же, которые до того потребовали выдачи его рабов, а также и по обвинению в незаконном домогательстве — теми же Аппиями. Кроме того, Гай Цетег и Луций Корнифиций привлекли его к суду [за насильственные действия], а Публий Фульвий Нерат — за устройство сообществ. Но к суду за устройство сообществ и незаконное домогательство его привлекли в расчете на то, что первым, по-видимому, должен был быть суд за насильственные действия, которым он, как они были уверены, должен был быть осужден, после чего он не мог бы явиться в суд.
(25) Дивинация обвинителей по делу о домогательстве была произведена в присутствии председателя суда Авла Торквата; при этом оба председателя суда, Торкват и Домиций, велели обвиняемому явиться в канун апрельских нон. В этот день Милон предстал перед трибуналом Домиция; к трибуналу Торквата он прислал своих друзей; там Милон, благодаря требованию поддерживавшего его Марка Марцелла, добился того, что суд по обвинению в домогательстве должен был состояться лишь после суда за насильственные действия. Но перед лицом Домиция, председателя суда, Аппий старший потребовал, чтобы Милон выдал пятьдесят четыре раба, а когда Милон стал утверждать, что те рабы, которых Аппий называет, не находятся в его власти, Домиций, на основании определения суда, вынес решение, чтобы обвинитель выставил из числа своих собственных рабов, скольких он хочет. (26) Затем свидетели были вызваны в соответствии с законом, который, как мы сказали выше, требовал, чтобы свидетелей слушали в течение трех дней, прежде чем начнутся прения, дабы судьи могли утвердить их показания; чтобы на четвертый [следующий] день все были вызваны и в присутствии обвинителя и обвиняемого был придан одинаковый внешний вид табличкам с именами судей; далее, чтобы на следующий день восемьдесят один судья был назначен по жребию; когда на основании жеребьевки это число будет достигнуто, чтобы они сразу же пошли на заседание; чтобы обвинитель тогда располагал для произнесения речи двумя часами, а обвиняемые — тремя, и дело было решено в тот же день; но чтобы до голосования обвинитель отвел по пяти человек из каждого сословия и обвиняемый — столько же, дабы число оставшихся судей, которые подадут голоса, равнялось пятидесяти одному.
(27) В первый день против Милона был выставлен как свидетель Кавсиний Схола, который сказал, что он был вместе с Публием Клодием, когда тот был убит, и пытался усилить, как только мог, ужас совершенного. Марк Марцелл, когда начал… допрашивать его, был настолько испуган волнением сторонников Клодия, столпившихся вокруг, что Домиций взял его на свой трибунал, так как Марцелл опасался за свою жизнь. Поэтому Марцелл и сам Милон попросили Домиция дать им охрану. Гней Помпей сидел в то время перед эрарием; этот крик встревожил его. Поэтому он обещал Домицию явиться на следующий день с охраной и сделал это. (28) Устрашенные этим сторонники Клодия дали возможность в молчании выслушать показания свидетелей в течение двух дней. Их допрашивали Марк Цицерон, Марк Марцелл и сам Милон. Многие жители Бовилл дали свидетельские показания о том, что там произошло: кабатчик был убит, харчевня была взята приступом, тело Клодия выволокли наружу. Да и весталки из Альбы сказали, что к ним пришла неизвестная женщина, чтобы исполнить обет по поручению Милона, так как Клодий убит. В последнюю очередь дали свидетельские показания Семпрония, дочь Тудитана, теща Публия Клодия, и его жена Фульвия и плачем своим потрясли людей, стоявших вокруг. После того как суд был распущен приблизительно в десятом часу, Тит Мунаций на сходке предложил народу явиться на другой день всем поголовно, чтобы Милон не ускользнул, а также сообщить свое мнение и выразить свое огорчение тем людям, которые пойдут голосовать (29) На другой день, который был решающим днем суда, — за пять дней до апрельских ид — во всем Риме лавки были закрыты; Помпей расположил охрану на форуме и у всех подходов к форуму; сам он занял место перед эрарием, как и накануне, окружив себя отборным отрядом солдат. Затем, с рассветом, была произведена жеребьевка между судьями; после этого на форуме воцарилась такая тишина, какая только возможна на форуме. Во втором часу начали говорить обвинители — Аппий старший, Марк Антоний и Публий Валерий Непот; в соответствии с законом они говорили два часа. (30) Им ответил один Марк Цицерон. Хотя многие находили уместным защищать Милона от предъявленного ему обвинения, утверждая, что убить Клодия было заслугой перед государством (по этому пути пошел Марк Брут в той своей речи, которую он сочинил в защиту Милона и издал, словно он ее произнес), Цицерон не признал это уместным — будто тот, кто может быть осужден ради общего блага, может также и быть убит, не будучи осужден. Поэтому, хотя обвинители и заявили, что Милон устроил Клодию засаду, Цицерон, так как это было ложью, потому что эта драка завязалась случайно, упомянул об этом и, наоборот, стал говорить, что Клодий устроил засаду Милону; к этому и клонилась вся его речь. Но было известно, что, как я говорил, в этот день стычка произошла без умысла с чьей-либо стороны, что они случайно встретились друг с другом, что из-за драки между рабами дело под конец дошло до убийства. Однако все знали, что они оба часто угрожали друг другу смертью, если же на Милона бросало подозрение присутствие большего числа рабов, чем у Клодия, то рабы Клодия были менее нагружены и более готовы к бою, чем рабы Милона. (31) Когда Цицерон начал говорить, сторонники Клодия, которых не мог удержать даже страх перед солдатами, стоявшими вокруг, встретили его криками. Поэтому он говорил без обычного спокойствия; сохранилась также и та речь его, которую записали. Но речь, которую мы читаем, написана им с таким совершенством, что по праву может считаться первой.
* * *
(32) После обсуждения дела обеими сторонами, обвинитель и обвиняемый отвели каждый по пять сенаторов, по такому же числу всадников и эрарных трибунов, так что приговор был вынесен пятьюдесятью одним судьей. Из числа сенаторов обвинительный приговор вынесло двенадцать, оправдательный — шестеро; из числа всадников обвинительный приговор вынесло тринадцать, оправдательный — четверо; из числа эрарных трибунов обвинительный приговор вынесло тринадцать, оправдательный — трое. По-видимому, судьи хорошо знали, что Клодий был ранен без ведома Милона, но дознались, что после ранения убит он был по приказанию Милона. Некоторые думали, что Милон получил оправдательные голоса благодаря голосованию Марка Катона; ибо Катон не скрывал, что считает смерть Публия Клодия благом для государства, и поддерживал Милона при соискании консульства и находился при обвиняемом. Цицерон также назвал Катона в его присутствии и засвидетельствовал, что Катон за два дня до убийства слыхал от Марка Фавония, что Клодий заявил, что Милон погибнет в эти три дня. Но было признано полезным избавить государство и от всем известной дерзости Милона; однако никто никогда не мог узнать, в каком смысле Катон голосовал. Все же было объявлено, что Милон был осужден, главным образом, вследствие старания Аппия Клавдия.
Будучи на другой день на основании чрезвычайного закона обвинен перед Манлием Торкватом в домогательстве, Милон был осужден заочно. (33) При суде на основании этого закона обвинителем его был также Аппий Клавдий, которому по закону полагалась награда, но он от нее отказался. При суде за домогательство его субскрипторами были Публий Валерий Лев и Гней Домиций, сын Гнея. Через несколько дней Милон был осужден также и за сообщества перед председателем суда Фавонием; обвинителем был Публий Фульвий Нерат, которому в соответствии с законом была дана награда. Потом Милон перед председателем суда Луцием Фабием был еще раз заочно осужден за насильственные действия. Его обвиняли Луций Корнифиций и Квинт Патульций. Милон немедленно удалился в изгнание в Массилию. Вследствие огромных долгов его имущество поступило в продажу за одну двадцать четвертую часть своей стоимости.
(34) Вслед за Милоном на основании того же Помпеева закона первым был обвинен Марк Савфей, сын Марка, который был предводителем при штурме харчевни в Бовиллах и при убийстве Клодия. Обвиняли его Луций Кассий, Луций Фульциний, сын Гая, и Гай Валерий. Защищали его Марк Цицерон и Марк Целий, которые добились оправдания большинством одного голоса. Из числа сенаторов обвинительный приговор вынесло десять, оправдательный — восемь; из числа римских всадников обвинительный приговор вынесло девять, оправдательный — восемь; но из числа эрарных трибунов оправдательный приговор вынесло десять, обвинительный — шестеро, причем Савфея, спасла ненависть к Клодию, которой никто не скрывал, хотя положение Савфея было даже худшим, чем положение Милона, так как он явно был предводителем при захвате харчевни. Через несколько дней Савфей предстал перед председателем суда Гаем Консидием, будучи снова привлечен к суду на основании Плавциева закона о насильственных действиях, так как он будто бы захватил общественные места и носил при себе оружие; ибо он был предводителем шаек Милона. Его обвиняли Гай Фидий, Гней Аппоний, сын Гнея, и Марк Сей… сын Секста; защищали Марк Цицерон и Марк Теренций Варрон Гибба. Он был оправдан бо́льшим числом голосов, чем раньше: обвинительных он получил девятнадцать, оправдательных тридцать два, но это произошло не так, как при первом суде — всадники и сенаторы его оправдали, а эрарные трибуны осудили.
(35) Что касается Секста Клодия, по наущению которого тело Клодия было внесено в Курию, то при обвинителях Гае Цесеннии Филоне и Марке Альфидии и защитнике Тите Флакконии он был осужден подавляющим большинством голосов — сорока шестью голосами; оправдательных голосов он получил всего пять: два голоса сенаторов, три голоса всадников. Кроме того, были осуждены и те, кто явился, и те, кто не явился, будучи вызван в суд. Подавляющее большинство из них были сторонниками Клодия.
Речь в защиту Тита Анния Милона
(I, 1) Начиная речь в защиту храбрейшего мужа, бояться, конечно, позорно и — в то время, как сам Тит Анний тревожится о благополучии государства больше, чем о своем собственном[2083], — мне тоже будет не к лицу, если я при разборе его дела не смогу проявить такой же твердости духа, какую проявляет он; но эта новая для нас обстановка чрезвычайного суда[2084] меня устрашает: куда ни брошу взгляд, я ищу и не нахожу ни обычаев, принятых на форуме, ни облика прежнего суда. Ведь и место, где вы заседаете, не окружено толпой, как это бывало прежде, вокруг нас не теснится, как обычно, множество народа, а те отряды, (2) которые вы видите у входов во все храмы[2085], даже если они и расставлены для отражения насильственных действий, все же наводят на оратора какой-то ужас, так что — хотя мы на форуме и в суде находимся под спасительной и необходимой охраной стражи — все же мы, даже избавленные от страха, не можем не страшиться. Если бы я думал, судьи, что все эти меры направлены против Милона, я бы уступил обстоятельствам и решил, что перед лицом столь значительной вооруженной силы произносить речь неуместно; но меня ободряет и успокаивает разумное решение Гнея Помпея, мужа мудрейшего и справедливейшего; эта справедливость, конечно, и не позволила ему допустить, чтобы вооруженные солдаты расправились с тем человеком, которого он как обвиняемого передал в руки суда; по свойственной ему мудрости, он не стал бы прикрывать авторитетом государства бесчинство возбужденной толпы. (3) Поэтому и это оружие, и эти центурионы, и эти когорты возвещают нам не об опасности, а о защите и побуждают нас не только сохранять спокойствие, но также и быть мужественными, а мне обеспечивают не только поддержку во время моей защитительной речи, но и соблюдение тишины. Остальная же толпа — та, что состоит из подлинных граждан, — всецело на нашей стороне; среди всех тех, которые примостились повсюду, откуда только можно видеть какую-либо часть форума, и кто ожидает исхода этого суда, нет никого, кто бы не сочувствовал доблести Милона и не думал, что сегодня происходит решительная битва за них самих, за их детей, за их отечество, за их достояние. (II) Наши противники и враги — только те люди, которых бешенство Публия Клодия вскормило грабежами, поджогами и всем, что пагубно для государства, те, в ком еще на вчерашней народной сходке возбуждали стремление навязать вам приговор, согласный с их желаниями; если здесь, чего доброго, раздадутся их выкрики, то пусть именно это и побудит вас сохранить в своей среде того гражданина, который всегда презирал этих людей и их оглушительный крик, если дело шло о вашем благополучии. (4) Поэтому будьте тверды, судьи, и страх — если вы еще чего-то опасаетесь — оставьте. Если вы когда-нибудь имели возможность выносить приговор о честных и храбрых мужах, о достойных гражданах, если, наконец, избранным мужам из виднейших сословий[2086] вообще когда-либо представлялся случай проявить на деле, при голосовании свою преданность храбрым и честным гражданам, о которой они часто говорили и давали понять выражением своих лиц, то именно сейчас вы обладаете всей полнотой власти и можете решить, будем ли мы, всегда уважавшие ваш авторитет, всегда терпеть несчастья и находиться в плачевном положении, так долго преследуемые пропащими гражданами, или, наконец, благодаря вам и вашей добросовестности, доблести и мудрости, сможем вздохнуть свободно. (5) Действительно, можно ли назвать или представить себе кого-нибудь, кто был бы более взволнован, более встревожен, более измучен, чем мы двое?[2087] Ведь мы, будучи привлечены к государственной деятельности надеждой на величайшие награды, не можем не опасаться, что нам грозят жесточайшие муки. Я, правда, всегда думал, что Милону, во всяком случае, на бурных народных сходках еще предстоит испытать немало гроз и ураганов, так как он всегда выступал в защиту честных людей и против бесчестных, но я никогда не ожидал, что даже в суде — и при настоящем его составе, когда приговор будут выносить наиболее выдающиеся мужи из всех сословий, — недруги Милона смогут питать надежду на то, что им удастся при содействии таких мужей, как вы, не говорю уже — погубить его, но хотя бы нанести ущерб его славе. (6) Впрочем, в этом деле, судьи, я не стану для защиты Тита Анния от этого обвинения слишком часто ссылаться на его трибунат и на все, что им совершено во имя спасения государства. Если вы не увидите воочию, что засаду Милону устроил Клодий, то я не стану упрашивать вас простить нам, ввиду наших многочисленных величайших заслуг перед государством, это поставленное нам в вину деяние; не стану и требовать, чтобы вы — коль скоро смерть Клодия для вас оказалась спасением — приписали ее скорее доблести Милона, чем счастливой судьбе римского народа[2088]. Но если козни Клодия станут яснее этого вот солнечного света, вот тогда только я буду заклинать и умолять вас, судьи: если мы уже утратили все остальное, то пусть нам будет разрешено хотя бы защищать свою жизнь от дерзости и оружия недругов, не боясь кары.
(III, 7) Но прежде чем перейти к тому, что прямо относится к предмету вашего рассмотрения, я нахожу нужным опровергнуть то, о чем недруги часто кричали в сенате, бесчестные люди — на народной сходке, а несколько ранее — обвинители, дабы вы, избавившись от любых заблуждений, могли разобраться, в чем суть этого дела. Тот, кто признает себя виновным в убийстве человека, как говорят, не вправе смотреть на дневной свет. Но в каком городе рассуждают так эти глупцы? Не правда ли, в том самом городе, где первым судом, угрожавшим потерей гражданских прав, был суд над Марком Горацием, храбрейшим мужем, который, несмотря на то что граждане еще не были свободны, все-таки комициями римского народа был освобожден от ответственности, хотя и признался, что своей рукой убил сестру[2089]. (8) Кто же не знает, что в суде по делу об убийстве обычно либо вообще отрицают, что оно было совершено, либо доказывают, что оно было совершено по справедливости и по праву? Или вы, быть может, думаете, что Публий Африканский был лишен разума? Ведь он, когда народный трибун Гай Карбон, желая возбудить мятеж, спросил его на народной сходке, каково его мнение о смерти Тиберия Гракха, ответил, что это убийство он считает законным[2090]. Если бы убийство преступных граждан считалось беззаконием, то следовало бы признать совершившими беззаконие и знаменитого Агалу Сервилия[2091], и Публия Насику[2092], и Луция Опимия[2093], и Гая Мария[2094], и сенат в мое консульство[2095]. Поэтому-то, судьи, ученейшие люди не без основания передали нам в своих сочинениях рассказы о том, как тот, кто, мстя за отца, убил свою мать, был, когда голоса людей разделились, оправдан голосом божества и притом именно голосом самой мудрой из богинь[2096]. (9) Итак, если Двенадцать таблиц[2097] разрешили безнаказанно убивать вора ночью при всяких обстоятельствах, а днем — в случае, если он станет защищаться оружием, то кто станет утверждать, что наказанию подлежит всякое убийство, при каких бы обстоятельствах оно ни произошло, когда мы видим, что сами законы иногда как бы вручают нам меч для убийства? (IV) Но если в известных случаях имеется законное основание для убийства (а таких случаев много), то в одном из них убийство не только законно, но даже необходимо, а именно, в случае, когда силой оказывают сопротивление насилию. Однажды в войске Мария один военный трибун, родственник этого полководца, пытался лишить солдата целомудрия и был убит тем, к кому он хотел применить насилие; ибо честный юноша предпочел совершить опасный поступок, лишь бы не претерпеть позора. И выдающийся муж не признал его виновным в преступлении и не наказал. (10) Но как может быть противозаконно убит человек, подстерегающий в засаде, и разбойник? Зачем же нам свита, зачем мечи? Их, несомненно, не дозволялось бы иметь, если бы ими не дозволялось пользоваться ни при каких обстоятельствах. Итак, судьи, существует вот какой не писаный, но естественный закон, который мы не заучили, не получили по наследству, не вычитали, но взяли у самой природы, из нее почерпнули, из нее извлекли; он не приобретен, а прирожден; мы не обучены ему, а им проникнуты: если нашей жизни угрожают какие-либо козни, насилие, оружие разбойников или недругов, то всякий способ самозащиты оправдан. (11) Ибо молчат законы среди лязга оружия и не велят себя ждать, если тому, кто захочет ожидать их помощи, придется пострадать от беззакония раньше, чем покарать по закону. Впрочем, возможность защиты весьма мудро и как бы молчаливо нам предоставляет сам закон[2098], запрещающий не убийство, а ношение оружия с целью убийства. Поэтому, судьи, пусть это положение и станет основой этого судебного разбирательства; ведь я не сомневаюсь, что смогу убедить вас в справедливости своей защиты, если вы будете твердо помнить то, чего вам не следует забывать: тот, кто устроил засаду, может быть убит на законном основании.
(V, 12) Перехожу к тому, о чем так часто говорят недруги Милона: будто сенат признал, что резня, при которой Публий Клодий был убит, есть деяние, направленное против государства. Но в действительности сенат одобрил ее не только своим голосованием, но и знаками сочувствия. Сколько раз говорил я в сенате по этому делу! При каком одобрении со стороны всего сословия сенаторов, одобрении отнюдь не молчаливом и не тайном! И действительно, разве в сенате, собиравшемся в полном составе, нашлось когда-либо четверо или, самое большее, пятеро сенаторов, которые бы не одобрили дела Милона? Это показывают и те сходки едва уцелевших людей, которые созывал этот вот опаленный огнем народный трибун[2099], где он изо дня в день с ненавистью кричал о моем «владычестве», говоря, что сенат постановляет не то, что находит нужным, а то, чего хочу я. Если это следует называть владычеством, а не скромным влиянием, основанным на больших заслугах перед государством и служащим всякому честному делу, или же известным расположением честных людей ко мне, основанным на моих услугах и трудах, то я согласен — пусть это так и называется, лишь бы я мог использовать его на благо честных людей и против безумия негодяев. (13) Что касается этого суда, то, хотя он и вполне справедлив, все же сенат никогда не признавал нужным учреждать его; ведь существовали законы, существовали постоянные суды и по делам об убийстве и по делам о насильственных действиях, а смерть Публия Клодия не причинила сенату столь великого горя и скорби, чтобы следовало назначать чрезвычайный суд. И право, если некогда у сената была вырвана из рук власть назначать суд о кощунственном блудодеянии этого человека[2100], то кто может поверить, чтобы сейчас тот же сенат признал нужным учредить постоянный суд по поводу его гибели. Итак, почему сенат признал поджог Курии, осаду дома Марка Лепида[2101] и резню деяниями, направленными против государства? Потому, что в свободном государстве, в среде граждан всякое насилие всегда было деянием противогосударственным. (14) Правда, и упомянутая мной защита против насильственных действий не всегда желательна, но иногда необходима. Или вы, быть может, думаете, что в тот день, когда был убит Тиберий Гракх, или в тот день, когда был убит Гай, или в тот день, когда, хотя и ради блага государства, было подавлено вооруженное выступление Сатурнина, государству все же не было нанесено раны. (VI) Поэтому, так как стало известно, что на Аппиевой дороге произошла резня, я сам определил, что противогосударственное деяние совершил не тот, кто защищался, но так как здесь были и насильственные действия и засада, то решение вопроса о виновности я отложил до суда, а деяние заклеймил. И если бы тот самый бешеный народный трибун позволил сенату осуществить, что сенат признавал нужным, то этого чрезвычайного суда у нас бы не было. Ведь сенат пытался вынести постановление, чтобы суд происходил на основании старых законов, но только вне очереди; однако голосование было произведено раздельно[2102], по чьему-то требованию[2103], впрочем, нет никакой необходимости разглашать позорные поступки каждого сенатора. И вот остальная часть решения сената была уничтожена купленной интерцессией.
(15) «Но ведь Гней Помпей, внеся свое предложение, тем самым высказался также и о самом событии и о судебном деле; ведь он внес предложение по поводу резни, которая будто бы произошла на Аппиевой дороге и при которой был убит Публий Клодий». Какое же предложение он внес? Разумеется, чтобы было произведено следствие. Что же надо расследовать? Совершено ли убийство? Но это установлено. Кем? Но это известно. Следовательно, Помпей видел, что, даже если факт признан, все же есть возможность, согласно праву, взять на себя защиту; ибо, если бы Гней Помпей не думал, что и тот, кто признается в своем преступлении, может быть оправдан, — ведь он видел, что и мы ничего не отрицаем, — то он никогда не приказал бы расследовать дело, а при вынесении приговора не дал бы вам в руки и ту, и другую букву — и спасительную и гибельную[2104]. Мне, право, кажется, что Гней Помпей не только не вынес сколько-нибудь строгого суждения о Милоне, но, по-видимому, даже указал, что́ именно вам надо иметь в виду при вынесении приговора; ведь тот, кто не просто назначил кару человеку, который сознается в своем преступлении, но предоставил возможность защиты, нашел нужным расследовать причину гибели, а не самый факт. (16) Потом Помпей, конечно, сам скажет, почему он счел нужным по собственному почину сделать эту уступку — во имя ли Публия Клодия или же ввиду нынешнего положения вещей.
(VII) В своем собственном доме был убит народный трибун Марк Друс[2105], знатнейший муж, защитник сената, а при тех обстоятельствах, можно сказать, его опора, дядя этого вот нашего судьи, храбрейшего мужа Марка Катона; перед народом вопрос о его смерти поставлен не был; сенат суда не назначал. От своих отцов мы слыхали, сколь великой скорбью был охвачен этот город, когда Публий Африканский[2106], почивавший у себя дома, был ночью злодейски убит. Кто тогда тяжко не вздохнул? Кто не предавался печали из-за того, что человеку, которого — если бы это только было возможно — все желали бы видеть бессмертным, не дали умереть естественной смертью? Но разве было предложено назначить по делу о смерти Публия Африканского какой бы то ни было суд? Как известно, нет. (17) Почему же? Потому, что убийство прославившегося человека — такое же злодеяние, как и убийство человека неизвестного. Пусть при жизни выдающиеся люди отличаются своим достоинством от людей незначительных; но смерть и тех, и других, если ее причиной было преступление, должна подлежать одной и той же каре и действию одних и тех же законов. Или, быть может, человек, убивший своего отца-консуляра, будет более отцеубийцей, чем тот, кто убьет своего отца, человека незначительного? Или гибель Публия Клодия была ужаснее оттого, что он был убит среди памятников своих предков? Ведь обвинители часто говорят это; можно подумать, что знаменитый Аппий Слепой[2107] проложил дорогу для того, чтобы там безнаказанно разбойничали его потомки, а не для того, чтобы ею пользовался народ. (18) Когда же на этой вашей Аппиевой дороге Публий Клодий убил виднейшего римского всадника Марка Папирия[2108], то его злодеяние осталось безнаказанным: ведь тогда знатный человек убил римского всадника среди памятников своих предков; а теперь какие трагические речи вызывает это же название — «Аппиева»! Когда на ней пролилась кровь честного и ни в чем неповинного мужа, то о ней молчали, а теперь только и речи, что о ней, теперь, когда она напоена кровью разбойника и братоубийцы!
Но стоит ли упоминать об этих недавних событиях? Ведь в храме Кастора был задержан раб Публия Клодия, которому тот велел подстеречь и убить Гнея Помпея. У раба из рук был вырван кинжал, и он во всем сознался. После этого Помпей перестал бывать на форуме, бывать в сенате, бывать на народе; он счел дверь и стены дома более надежной защитой, чем законы и правосудие[2109]. (19) И что же, разве была тогда совершена какая-нибудь рогация, разве был назначен какой-то чрезвычайный суд? А между тем если уж когда-либо следовало это сделать, то, конечно, именно в этом случае: и самый факт, и лицо, о котором шла речь, и все обстоятельства дела заслуживали этого. Злоумышленник был поставлен на форуме и в самом вестибуле сената[2110], а смерть ждала того мужа, от чьей жизни зависело благополучие всех граждан; это произошло при таких обстоятельствах в государстве, когда гибель его одного повлекла бы за собой погибель не только наших граждан, но и всех народов. Или, быть может, этот поступок не подлежал наказанию, так как он не достиг своей цели? Как будто бы законы карают людей только за их поступки, а не за намерения! Меньше можно было сетовать, так как дело не было доведено до конца, но наказать тем не менее следовало. (20) Сколько раз, судьи, сам я ускользал от оружия Публия Клодия и от его окровавленных рук![2111] Если бы меня не спасла от них счастливая судьба, — моя ли или же государства — то разве кто-нибудь предложил бы назначить суд по делу о моей гибели?
(VIII) Но как глупо с моей стороны осмелиться сравнивать Друса, Публия Африканского, Помпея, себя самого с Публием Клодием! Все то можно было стерпеть, а вот смерти Публия Клодия никто не может перенести спокойно. Рыдает сенат, скорбит сословие всадников, все граждане удручены. В трауре муниципии, убиваются колонии; сами поля, наконец, тоскуют по такому благодетелю, по такому полезному, по такому мягкосердечному гражданину. (21) Нет, не это было причиной, судьи, конечно, не это было причиной, почему Помпей признал нужным внести предложение о назначении суда; но он как человек разумный, более того — обладающий некоторой божественной мудростью, понял многое: что Клодий был ему недругом, а другом был Милон; но если бы среди всеобщего ликования и сам он стал радоваться, то могло бы показаться, что примирение между ним и Клодием было мнимым[2112]; и многое другое понял он, но всего важнее было для него то, что вы — как бы сурово ни было внесенное им предложение — свой приговор все же вынесете смело. Потому-то Помпей и выбрал в наиболее прославленных сословиях самые яркие светила, причем он вовсе не устранял моих друзей из состава суда, как некоторые утверждают; ему, человеку справедливому, это даже и в голову не приходило; да если бы он и хотел поступить так, ему бы это не удалось, коль скоро он старался назначить судьями людей честных; ведь то уважение, каким я пользуюсь, не ограничено кругом моих ближайших друзей; этот круг не может быть очень широким, так как невозможно находиться в тесном общении с большим числом людей; но если я и обладаю известным влиянием, то оно основано на том, что забота о благе государства связала меня с честными людьми вообще; и когда Помпей выбирал из них самых лучших, полагая, что поступать так он обязан как человек добросовестный, он не мог не выбрать моих благожелателей. (22) А настаивая на том, чтобы в этом суде председательствовал ты, Луций Домиций[2113], он стремился только к одному: к справедливости, строгости, человеколюбию, добросовестности[2114]. Помпей предложил, чтобы председателем непременно был консуляр, так как он, я думаю, полагал, что долг первенствующих — противодействовать легковерию толпы и безрассудству негодяев. Из числа консуляров он избрал именно тебя; ведь ты уже в молодости представил ясные доказательства того, насколько ты презираешь безумные стремления вожаков народа.
(IX, 23) Итак, судьи, перехожу, наконец, к разбираемому судебному делу: если, с одной стороны, признание в совершенном деянии не является чем-то необычным, а сенат вынес решение о нашем деле в полном соответствии с нашим желанием, если человек, предложивший закон[2115], — хотя сам факт бесспорен — все же захотел рассмотреть его с точки зрения права, если в качестве судей избраны такие люди, а во главе суда поставлен такой человек, что они рассмотрят это дело справедливо и мудро, то на вас, судьи, теперь возлагается обязанность расследовать только одно: кто кому устроил засаду? Для того, чтобы вам было легче понять это на основании доказательств, прошу вас быть особенно внимательными, пока я буду кратко излагать вам, что именно произошло.
(24) Намереваясь во время своей претуры поколебать государство всяческими злодеяниями и видя, что в прошлом году выборы так запоздали, что он мог бы исполнять обязанности претора только в течение нескольких месяцев[2116], Публий Клодий (ведь он не стремился, как другие, к почетной должности; нет, он, во-первых, хотел избавиться от коллеги в лице Луция Павла[2117], гражданина исключительной доблести; во-вторых, добивался полного годичного срока для того, чтобы растерзать государство) неожиданно отказался от избрания в свой год[2118] и перенес свое соискание на следующий год не по каким-либо соображениям, касавшимся религии, как это бывает, но чтобы располагать, как он сам говорил, для исполнения обязанностей претора, то есть для ниспровержения государственного строя, полным и несокращенным годичным сроком. (25) Он понимал, что при консуле в лице Милона его претура будет бессильной и слабой; а что Милон по единодушному желанию римского народа будет избран в консулы, он видел ясно. Тогда он переметнулся на сторону его соперников[2119], но при этом он один даже наперекор им руководил всеми их действиями при соискании и, по его собственным словам, вынес все выборы на своих плечах: он созывал трибы, был посредником[2120], пытался образовать новую Коллинскую трибу[2121], набирая подлейших граждан. Чем больше мутил Клодий, тем сильнее изо дня в день становился Милон. Как только этот человек, готовый на любое злодеяние, увидел, что храбрейший муж, его злейший недруг, без всякого сомнения, станет консулом, и как только он понял, что это было не раз засвидетельствовано не только молвой, но также и голосованием римского народа[2122], он начал действовать напрямик и стал открыто говорить, что Милона надо убить[2123]. (26) Он привел с Апеннина грубых и диких рабов, при посредстве которых он ранее уже опустошил казенные леса и разорил Этрурию[2124]; вы не раз видели их. Положение было вполне ясным. И в самом деле, он заявлял во всеуслышание, что у Милона нельзя отнять консульство, но можно отнять жизнь. Мало того, на вопрос Марка Фавония[2125], храбрейшего мужа, на что, собственно говоря, надеется он, неистовствуя, коль скоро Милон жив, Клодий ответил, что Милон погибнет через три или, самое большее, через четыре дня. Эти его слова Фавоний тотчас же сообщил присутствующему здесь Марку Катону.
(X, 27) Тем временем Клодий, зная (ведь узнать это было нетрудно), что за двенадцать дней до февральских календ Милону предстоит торжественная, официальная, необходимая поездка в Ланувий для избрания фламина (Милон был диктатором Ланувия), все же накануне сам внезапно выехал из Рима, чтобы, как выяснилось из обстоятельств дела, устроить Милону засаду перед своим имением; притом он выехал, даже отказавшись от присутствия на бурной сходке, назначенной на этот день, где ожидалось его безрассудное выступление; он никогда бы не отказался от него, если бы не захотел выбрать место и время для своего злодеяния. (28) Милон же, пробыв этот день в сенате, пока заседание не закончилось, пришел домой, сменил обувь и одежду[2126], немного задержался, пока, как водится, собиралась его жена, затем выехал в то время, когда Клодий, если он действительно думал приехать в этот день в Рим, уже мог бы возвратиться. Его встретил Клодий, ехавший налегке, верхом, а не в повозке, без поклажи, без своих обычных спутников-греков, без жены, чего не бывало почти никогда; а между тем этот вот «коварный злоумышленник», который будто бы отправился в путь с целью убийства, ехал с женой, в повозке, одетый в дорожный плащ, с большой, обременительной и избалованной свитой из рабынь и молодых рабов. (29) Он попадается навстречу Клодию перед его имением приблизительно в одиннадцатом часу или около этого. Тотчас же множество вооруженных людей, спустившись с холма, бросается прямо на Милона; они убивают его возницу. Но когда Милон, сбросив плащ, спрыгнул с повозки и стал ожесточенно защищаться, то одни из приспешников Клодия, выхватив мечи, обежали вокруг повозки, чтобы напасть на Милона сзади, другие же, считая его уже убитым, набросились на его рабов, находившихся в конце поезда; одни рабы, верные своему господину и мужественные, были убиты; другие, видя, что около повозки происходит схватка, не имея возможности помочь своему господину и услыхав от самого Клодия, что Милон уже убит, поверили этому; и тогда (говорю напрямик и не с целью отвести обвинение, а чтобы сказать, как все в действительности произошло) рабы Милона — не по приказанию своего господина, не с его ведома и не в его присутствии — поступили так, как следовало бы поступать при таких же обстоятельствах рабам любого из нас.
(XI, 30) Как я изложил вам, судьи, так это и произошло: злоумышленника одолели, силой была побеждена сила или, вернее, доблестью была раздавлена дерзость. Не стану говорить о том, что́ выиграло государство, что́ выиграли вы, что́ — все честные люди; все это, конечно, нисколько не может помочь Милону; ведь его судьба такова, что он не мог бы спастись сам, не принеся в то же время спасения вам и государству. Если совершенное противозаконно, то я ничего не могу сказать в его защиту; но если защищать свое тело, свою голову, свою жизнь любыми средствами от всяческого насилия людям образованным повелевает рассудок, если к этому же варваров побуждает необходимость, иноземные племена — обычай, а диких зверей — сама природа, то вы не можете признать это деяние бесчестным, не признав одновременно, что всякий, на кого нападут разбойники, должен погибнуть либо от их оружия, либо от вашего приговора. (31) Если бы Милон думал так, то он, несомненно, предпочел бы подставить Публию Клодию свое горло, в которое тот не раз и не впервые метил, а не выслушать ваш приговор, который убьет его за то, что он не позволил себя убить Клодию. Но если никто из вас не думает так, то решению суда теперь подлежит уже не вопрос о том, был ли Клодий убит (это мы признаем), но — законно ли был он убит или же противозаконно, о чем часто ставился вопрос при разборе многих судебных дел. Что была устроена засада, установлено; именно это сенат и признал противогосударственным деянием; но который из них двоих устроил засаду, еще не выяснено; именно это и предложено расследовать. Таким образом, сенат заклеймил деяние, а не человека, и Помпей предложил назначить суд по вопросу о праве, а не по вопросу о факте. (XII) Итак, должен ли суд рассматривать какой-либо иной вопрос, кроме одного: кто кому устроил засаду? Очевидно, нет. Если засаду Клодию устроил Милон, то пусть он и понесет наказание; если же Клодий — Милону, то мы должны быть оправданы.
(32) Как же можно установить, что засаду Милону устроил Клодий? Имея дело со столь дерзким, со столь нечестивым извергом, достаточно доказать, что у него к этому были важные основания, что смерть Милона сулила ему осуществление больших надежд, большие выгоды. Поэтому известное Кассиево выражение: «Кому это выгодно?»[2127] — должно иметь силу по отношению к этим двоим, хотя человека честного никакая выгода не толкнет на преступление, между тем как людей нечестных нередко на него толкает и малая. Клодию же убийство Милона обеспечивало не только претуру; оно избавляло его от такого консула, при котором ему бы не удалось совершить ни одного преступления, и сулило ему претуру при таких консулах, при чьем если не пособничестве, то, во всяком случае, попустительстве он надеялся преуспеть в задуманных им безумных насильственных действиях. Эти консулы — вот как он рассуждал — не пожелали бы пресекать его попытки, если бы и могли, так как считали бы себя обязанными ему такой важной государственной должностью, а если бы они даже и захотели сделать это, то, пожалуй, едва ли смогли бы сломить дерзость этого закоренелого преступника. (33) Или вы, судьи, только одни, действительно, ничего не знаете? Или вы — чужеземцы в этом городе? Или уши ваши бродят где-то далеко, и до них не дошла столь распространившаяся среди граждан молва о том, какие законы — если только их можно называть законами, а не факелами для поджога Рима, не язвой государства — собирался он навязать всем нам и выжечь на нашем теле?[2128] Покажи, пожалуйста, Секст Клодий[2129], покажи тот ларец, где хранились ваши законы, который ты, говорят, подхватил в его доме и вынес, словно палладий[2130], из гущи схватки в ночной темноте, разумеется, для того, чтобы этот великолепный дар, это орудие для исполнения обязанностей трибуна передать кому-нибудь из тех, кто стал бы исполнять эти обязанности трибуна под твоим руководством, если такой человек найдется. Вот сейчас он бросил на меня такой взгляд, какой обычно бросал, осыпая всех всевозможными угрозами. Светило Курии[2131] меня, конечно, пугает. (XIII) Как? Неужели ты думаешь, что я сержусь на тебя, Секст, за то, что ты наказал моего величайшего недруга даже гораздо более жестоко, чем я при своем человеколюбии мог бы потребовать? Окровавленное тело Публия Клодия ты выбросил из дому; ты притащил его в общественное место; лишив его изображений предков, торжественного похоронного шествия и хвалебной речи, ты оставил его полуобгоревшим на кусках зловещего дерева[2132], чтобы бродячие псы ночью растерзали его. Поэтому, хотя ты и поступил нечестиво, все же за то, что свою жестокость ты проявил по отношению к моему недругу, похвалить тебя не могу, но быть в гневе на тебя я, во всяком случае, не должен.
(34) [Вы слышали, судьи, как важно было для Клодия[2133],] чтобы был убит Милон. Теперь обратитесь к Милону. Было ли важно для Милона, чтобы был уничтожен Клодий? На каком основании Милон мог, не скажу — это допустить, но этого желать? «Милону, рассчитывавшему на консульство, Клодий стоял поперек дороги». Но, несмотря на противодействие Клодия, Милона вот-вот должны были избрать; мало того, именно ввиду этого противодействия его избрали бы еще охотнее, и даже я не был за него лучшим ходатаем, чем сам Клодий. Правда, на вас, судьи, сильно действовали воспоминания о заслугах Милона передо мной и перед государством, действовали мои мольбы и слезы, которые, как я чувствовал, тогда вас глубоко трогали, но гораздо сильнее действовал страх перед грозившими вам опасностями. В самом деле, кто из граждан представлял себе ничем не ограниченную претуру Публия Клодия, не испытывая сильнейшего страха перед государственным переворотом? А что его претура стала бы неограниченной, если бы консулом не стал тот, кто сумел бы ее обуздать, это все ясно видели. Так как весь римский народ чувствовал, что таков один только Милон, то неужели кто-нибудь не решился бы, подав свой голос, избавить себя от страха, а все государство — от опасности? Теперь же, с устранением Клодия, Милону, чтобы сохранить свое почетное положение, придется прибегнуть уже к обычным средствам[2134]. Та исключительная и на долю его одного выпавшая слава, которая росла изо дня на день благодаря тому, что он противостоял бешенству Клодия, ныне, со смертью Клодия, уже угасла. Вы в выигрыше — вам уже нечего бояться кого бы то ни было из граждан; Милон же многое утратил: возможность проявлять доблесть, рассчитывать на избрание в консулы; он утратил неиссякающий источник славы. Поэтому уверенность в избрании Милона в консулы, которую не удалось поколебать при жизни Клодия, после его смерти пошатнулась. Следовательно, смерть Клодия не только не пошла Милону на пользу, но даже повредила ему. (35) «Но он поддался чувству ненависти, совершил это в гневе, совершил как недруг; он мстил за несправедливость, карал за испытанную им обиду»[2135]. А если я скажу, что все эти чувства были присущи Клодию в гораздо большей степени, чем Милону, вернее, что у первого они были чрезвычайно сильны, а у второго отсутствовали, то чего вам еще? В самом деле, какие были у Милона основания ненавидеть Клодия? Ведь источником, породившим и питавшим его славу, были именно его отношения с Клодием, разве только он ненавидел его той гражданской ненавистью, какой мы ненавидим всех бесчестных людей. Клодий, напротив, ненавидел Милона, во-первых, как бойца за мое восстановление в правах; во-вторых, как человека, преследовавшего его за проявления бешенства и подавлявшего его вооруженные выступления; в-третьих, также и как своего обвинителя; ведь Клодий до самой смерти своей находился под судом, обвиненный Милоном на основании Плоциева закона. С каким чувством, по вашему мнению, переносил этот тиранн все эти нападки? Как велика была его ненависть и даже сколь законна она была в этом беззаконнике?
(XIV, 36) Не хватает только того, чтобы для Клодия теперь послужили оправданием его характер и образ жизни, а Милону это самое было вменено в вину. «Клодий никогда не прибегал к насилию, Милон — всегда». Как? Когда я, к прискорбию вашему, судьи, покидал Рим[2136], разве я боялся суда, а не рабов, не оружия, не насилия? Разве могло быть законным мое восстановление в правах, если бы мое удаление не было незаконным? Клодий, правда, привлек меня к суду[2137], предложил наложить на меня пеню, предъявил мне обвинение в государственном преступлении, и, конечно, мне следовало бояться суда, словно речь шла о каком-то грязном деле, притом касавшемся меня одного, а не о славном деянии, касавшемся вас всех. Но ради собственного благополучия подставлять своих сограждан, которых я спас своей мудростью и ценой опасностей, под удары оружия рабов, нищих граждан и злоумышленников я не захотел. (37) Ведь я видел, видел, что еще немного — и самого́ присутствующего здесь Квинта Гортенсия[2138], светило и украшение государства, умертвили бы собравшиеся рабы, когда он поддерживал меня. В этой свалке так избили сопровождавшего его сенатора Гая Вибиена, честнейшего мужа, что он скончался. А впоследствии когда бездействовал кинжал Клодия, некогда полученный им от Катилины? Это он был занесен над нами; это ему не позволил я поразить вас из-за меня; это он подстерегал Помпея; это он убийством Папирия запятнал нашу Аппиеву дорогу, памятник, носящий имя Аппия; это он же после долгого промежутка времени снова был направлен против меня; как раз недавно он, как вы знаете, чуть было не убил меня около Регии[2139]. (38) Что похожего сделал Милон? Ведь он прибегал к силе только для того, чтобы Публий Клодий — коль скоро не было возможности привлечь его к суду — не захватил насильственно власти в государстве. Если бы Милон хотел убить Клодия, то сколько раз ему представлялся для этого удобный случай и какой прекрасный! Разве он не мог с полным правом отомстить ему за себя, защищая свой дом и богов-пенатов, когда Клодий его осаждал?[2140] Разве он не мог убить Клодия, когда был ранен выдающийся гражданин и храбрейший муж, его коллега Публий Сестий?[2141] Разве он не мог убить его, когда был прогнан честнейший муж Квинт Фабриций[2142], вносивший закон о моем возвращении, после жесточайшей резни на форуме? Разве он не мог это сделать, когда был осажден дом справедливейшего и храбрейшего претора Луция Цецилия?[2143] Или в тот день, когда обо мне был внесен закон[2144] и когда сбежалась вся Италия, взволнованная моим восстановлением в правах? В ту пору все охотно признали бы это славным деянием, так что, даже если бы это совершил Милон, все граждане приписали бы эту заслугу себе. (XV, 39) А какое это было время! Прославленный и храбрейший консул, недруг Клодию, [Публий Лентул,] хотел покарать Клодия за его злодеяния, бороться за сенат, защищать ваши решения, оберегать всеобщее согласие, восстановить меня в гражданских правах; семеро преторов[2145], восемь народных трибунов[2146] были противниками Клодия, а моими защитниками; Гней Помпей, зачинатель и руководитель дела моего возвращения, был врагом Клодию; ведь это его убедительнейшему и почетнейшему предложению о моем избавлении последовал весь сенат; ведь это он убедил римский народ; ведь это он, издавая в Капуе[2147] постановление насчет меня, сам подал всей Италии, жаждавшей его заступничества за меня и умолявшей его о нем, знак поспешить в Рим для моего восстановления в правах; наконец, ненависть всех граждан к Клодию разгоралась от тоски по мне, так что если бы кто-нибудь убил его тогда, то все дело шло бы не о безнаказанности для убийцы, а о его награждении. (40) Несмотря на это, Милон сдержался и вызывал Публия Клодия в суд дважды[2148], к насилию же не призывал никогда. Далее, когда Милон стал частным лицом[2149] и Публий Клодий его обвинял в суде перед народом, причем было произведено нападение на Гнея Помпея[2150], произносившего речь в защиту Милона, какой тогда был, уже не говорю — удобный случай, нет, даже достаточный повод уничтожить Публия Клодия! А недавно, когда Марк Антоний[2151] подал всем честным людям великую надежду на избавление и этот знатный юноша смело взял на себя важное государственное дело и уже держал этого дикого зверя, уклонявшегося от петель суда, запутавшимся в тенетах, — бессмертные боги! — какой это был повод, какой подходящий случай! Когда Публий Клодий, убегая, укрылся в потемках на лестнице[2152], разве трудно было Милону уничтожить эту пагубу, не возбудив к себе ненависти, а Марку Антонию доставив величайшую славу? (41) Сколько раз представлялась такая возможность на поле во время выборов, например, когда Клодий вломился в ограду[2153], велел обнажить мечи и бросать камни, а затем, устрашенный выражением лица Милона, внезапно бежал к Тибру, а вы и все честные люди возносили мольбы о том, чтобы Милон, наконец, решился проявить свою доблесть!
(XVI) Итак, того, кого Милон не захотел убить в ту пору, когда он снискал бы за это всеобщее одобрение, он захотел убить теперь, когда кое-кто этим недоволен; того, кого он не решился убить по праву, в подходящем месте, вовремя, безнаказанно, он, не колеблясь, убил в нарушение права, в неподходящем месте, не вовремя, с опасностью утратить гражданские права? (42) Это тем более невозможно, что борьба за наивысшую почетную должность, судьи, и день комиций были близки; а в это время (ведь я знаю, какую робость испытывают честолюбцы и как безмерно волнуется тот, кто жаждет консульства) мы боимся всего — не только открытого порицания, но даже тайных мыслей; мы страшимся слухов, пустых россказней, выдумок, следим за выражением лица и глаз у всех граждан. Ведь нет ничего столь непрочного, столь нежного, столь хрупкого и шаткого, как расположение к нам и настроение граждан, которых раздражает не только бесчестность кандидатов. Более того, граждане досадуют даже на их достойные поступки. (43) И что же, неужели Милон, уже видя перед собой этот вожделенный и желанный день выборов, был готов прийти на священные авспиции центурий[2154] с окровавленными руками, выставляя напоказ свое преступное деяние и признаваясь в нем? Сколь невероятно такое подозрение, когда оно касается Милона, и сколько правдоподобно, когда касается Клодия, который думал, что он, убив Милона, будет царствовать! Далее, кто же не знает, судьи, что при совершении всякого дерзостного поступка величайшим соблазном является надежда на безнаказанность? Кто же из них питал такую надежду: Милон ли, которого даже теперь обвиняют в этом деянии, славном или во всяком случае необходимом для него, или же Клодий, который уже давно усвоил себе такое презрение к суду и к каре, что ему не доставляло никакого удовольствия все то, что соответствует природе или разрешается законами?
(44) Но зачем я привожу доказательства? К чему мои дальнейшие рассуждения? Призываю тебя, Квинт Петилий, честнейшего и храбрейшего гражданина; беру в свидетели тебя, Марк Катон; ведь сам божественный промысел дал мне вас в качестве судей. Вы сами слыхали от Марка Фавония (и притом еще при жизни Клодия), что Клодий предсказывал ему гибель Милона в течение ближайших трех дней. Через день после того, как Клодий сказал это, и произошло событие, о котором мы говорим. Если он, не колеблясь, открыл, что́ он думал, то можете ли вы сомневаться насчет того, что́ он сделал? (XVII, 45) Как же Клодий не ошибся в дне? Ведь я сейчас сказал, что узнать о жертвоприношениях, установленных от имени ланувийского диктатора, не составляло труда. Он понял, что Милону было необходимо выехать в Ланувий именно в тот день, когда он и выехал. Поэтому он его опередил. «Но в какой день?» В тот, когда, как я уже сказал, состоялась сходка обезумевших людей, возбужденных народным трибуном, его собственным наймитом[2155]. Этого дня, этой народной сходки, этих выкриков он, если бы не спешил осуществить задуманное им злодеяние, никогда бы не пропустил. Итак, у Публия Клодия не было никаких оснований для поездки, было даже основание остаться в Риме; у Милона, напротив, остаться не было никакой возможности, для отъезда же было не только основание, но даже необходимость. А что, если — в то время как Клодий знал, что в этот день Милон будет в дороге, — Милон не мог даже предположить это насчет Клодия? (46) Прежде всего я спрашиваю, каким образом Милон мог это знать. Относительно Клодия об этом и спрашивать не стоит. Даже если Клодий спросил одного только Тита Патину, самого близкого ему человека, то он мог узнать, что в этот самый день[2156] в Ланувии диктатором Милоном непременно должны были быть устроены выборы фламина; но и от многих других людей [хотя бы от любого из жителей Ланувия] он очень легко мог это узнать. А от кого Милон мог узнать о возвращении Клодия? Но допустим, что он даже узнал об этом, — смотрите, какую большую уступку я вам делаю, — допустим, что он даже подкупил раба, как сказал мой приятель Квинт Аррий. Прочтите показания своих свидетелей. Житель Интерамны, Гай Кавсиний Схола, человек, очень близкий Клодию и притом сопровождавший его в этот день, — по его прежнему свидетельству, Клодий был в один и тот же час и в Интерамне и в Риме[2157] — показал, что Клодий в этот день намеревался переночевать в своей альбанской усадьбе, но что его неожиданно известили о смерти архитектора Кира[2158]; поэтому он вдруг решил выехать в Рим; то же самое сказал опять-таки спутник Публия Клодия — Гай Клодий.
(XVIII, 47) Смотрите, судьи, какие важные факты доказаны этими свидетельскими показаниями. Во-первых, во всяком случае, с Милона снимается подозрение в том, что он выехал из Рима с намерением устроить Клодию на дороге засаду, разумеется, если тот вообще не собирался выходить ему навстречу. Во-вторых, — ведь я не вижу, почему бы мне не коснуться также и своего дела, — вы знаете, судьи, что были люди[2159], которые, убеждая принять эту рогацию[2160], говорили, что резня была устроена, правда, отрядом Милона, но по умыслу некоего более значительного лица; видимо, на меня, как на разбойника и наемного убийцу, намекали эти отверженные и пропащие люди; но против них обратились показания их собственных свидетелей, утверждающих, что Клодий, если бы не узнал о смерти Кира, не решил бы в этот день возвратиться в Рим. Я вздохнул свободно, я оправдан; едва ли может показаться, будто я задумал то, чего я и подозревать не мог. (48) Теперь рассмотрю дальнейшее, так как приводится возражение: «Следовательно, даже и Клодий не замышлял засады, раз он намеревался переночевать в альбанской усадьбе». Конечно, если бы он не решил выехать из усадьбы в целях убийства. Ведь я вижу, что тот человек, который будто бы его известил о смерти Кира, известил его вовсе не об этом, а о приближении Милона. Ибо к чему ему было извещать Клодия о Кире, которого тот, выезжая из Рима, оставил при смерти? Я был при Кире, я запечатал его завещание [вместе с Клодием]; но завещание он составлял при свидетелях и сделал своими наследниками нас обоих[2161]. Почему же Клодия известили на другой день и только в десятом часу о смерти человека, которого он накануне, в третьем часу, оставил при смерти? (XIX, 49) Но допустим, что это так. Какое же у него было основание торопиться в Рим, отважиться на поездку ночью? Какая нужда была так спешить? Из-за того, что он был наследником? Во-первых, у него не было никакой надобности торопиться; во-вторых, если бы даже она и была, то что же, в конце концов, мог бы он успеть сделать в эту ночь и что потерял бы он, приехав в Рим на другой день утром? При этом насколько Клодию следовало скорее избегать ночного приезда в Рим, нежели к нему стремиться, настолько же Милону — если у него, действительно, был злой умысел — следовало сидеть в засаде и поджидать Клодия, раз он знал, что тот должен будет проехать в Рим ночью. Он убил бы его глубокой ночью. Если бы он стал запираться, ему всякий поверил бы, так как он убил бы его в месте, удобном для засады и кишащем разбойниками. (50) Милону в случае запирательства поверил бы всякий; ведь все хотят его оправдания, даже если он признается в преступлении. Во-первых, это преступление связали бы с тем местом, где оно произошло, — убежищем и притоном для разбойников[2162]. Ведь ни немая пустыня не донесла бы на Милона, ни глухая ночь не выдала бы его. Затем, подозрение пало бы на многих людей, попавших в руки Клодия, ограбленных им, изгнанных им из их имений, а также на многих, боявшихся этого. Словом, в суд в качестве обвиняемой была бы вызвана вся Этрурия. (51) Впрочем, не подлежит сомнению, что Клодий в тот день, возвращаясь из Ариции, свернул в свою альбанскую усадьбу. Допустим, Милон знал, что Клодий был в Ариции; он все же должен был предположить, что Клодий, даже если захочет возвратиться в этот день в Рим, свернет в свою усадьбу[2163], выходящую на дорогу. Почему же он не встретил Клодия раньше, чтобы тот не мог отсидеться в усадьбе? Почему он не устроил засады в том месте, куда Клодий должен был приехать ночью?
(52) Я вижу, судьи, что пока все ясно: для Милона было даже полезно, чтобы Клодий был жив, а Клодий, чтобы добиться того, чего он так жаждал, должен был желать прежде всего гибели Милона; ненависть Клодия к Милону была безмерной, у Милона же никакой ненависти к Клодию не было; Клодий имел обыкновение прибегать к насильственным действиям, Милон — только отражать их; Клодий угрожал Милону смертью и открыто ее предсказывал; ничего подобного от Милона никогда не слыхали; день отъезда Милона был Клодию известен; день возвращения Клодия Милону известен не был. Для Милона поездка была необходима; для Клодия — скорее даже несвоевременна. Милон всем объявил, что он в этот день выедет из Рима; Клодий скрыл, что он в этот день возвратится. Милон ни в чем не изменил своего решения; Клодий для изменения своего решения придумал предлог. Милону, если бы он устроил засаду, пришлось бы дожидаться ночи вблизи Рима; Клодию, если он и не боялся Милона, приближение к Риму ночью все же должно было казаться опасным.
(XX, 53) Рассмотрим теперь главное: для кого же из них было более удобным место, выбранное для засады, — место, где они встретились? Но нужно ли еще сомневаться в этом, судьи, и слишком долго раздумывать? Неужели, находясь перед имением Клодия, — а в этом имении с его несоразмерно огромными подвалами легко могла находиться тысяча сильных людей, — когда место, занятое противником, сильно возвышалось над дорогой, Милон мог подумать, что он одержит верх; поэтому он и выбрал для сражения именно это место? Или, может быть, — и это более вероятно — в этом месте его поджидал тот, кто задумал напасть, надеясь на условия местности? Сами обстоятельства, судьи, говорят за себя, а они всегда имеют наибольшее значение. (54) Даже если бы вы не слышали, как это произошло, но видели это изображенным на картине, то все же было бы ясно, кто из них подстерегал другого в засаде и кто из них не думал ни о чем дурном, так как один из них ехал в повозке, одетый в плащ, а рядом с ним сидела его жена. Разве каждое из этих обстоятельств — и платье, и езда в повозке, в присутствие спутницы — не является сильнейшей помехой? Какие условия могут быть более неудобны для сражения? Ведь Милон был закутан в плащ, сидел в повозке и, можно сказать, был связан присутствием жены. Теперь обратите внимание на Клодия, во-первых, выходящего из своей усадьбы внезапно (почему?), вечером (какая в этом была необходимость?), поздно (подобало ли это ему, тем более в такую пору?). «Он свернул в усадьбу Помпея». — Чтобы повидаться с Помпеем? Но он знал, что Помпей находится в альсийской усадьбе[2164]. Чтобы осмотреть усадьбу? Он уже бывал в ней тысячу раз. Что же это значило? Все это — проволочки и увертки. Он просто не хотел покидать это место, пока не приедет Милон.
(XXI, 55) А теперь сравните с тяжелым обозом Милона поезд этого разбойника, ехавшего налегке. Раньше Клодий всегда ездил с женой, на этот раз — без нее; всегда — только в повозке, на этот раз — верхом; спутниками его, куда бы он ни направлялся, было несколько жалких греков, даже когда он спешил в лагерь в Этрурии[2165]; на этот раз в его свите ни одного бездельника. Милон, который этого никогда не делал, именно тогда вез с собой рабов-музыкантов своей жены и множество прислужниц. Клодий, хотя он всегда возил с собой распутниц, развратников и продажных женщин, на этот раз вез с собой только таких людей, что можно было сказать: боец к бойцу как на подбор. Почему же он был побежден? Потому, что не всегда разбойник убивает путника, но иногда и путник — разбойника; потому, что — хотя приготовившийся и наткнулся на неподготовленных — все же баба[2166] наткнулась на мужчин. (56) Да и Милон не был так уж неподготовлен[2167] к столкновению с Клодием; он был, можно сказать, подготовлен вполне достаточно. Он всегда думал над тем, насколько его гибель важна для Публия Клодия, насколько он ненавистен Клодию и насколько Клодий дерзок. Поэтому он никогда не подвергался опасности, не обеспечив себя защитой, зная, что за его голову назначена крупная награда и что она, можно сказать, высоко оценена. Вспомните и о случайных обстоятельствах, вспомните о ненадежности исхода сражений, о бесстрастии Марса[2168], который часто повергает ниц того, кто ликуя уже совлекает доспехи с противника[2169], и поражает его рукой побежденного; вспомните об опрометчивости объевшегося, опившегося, сонного вожака, который, отрезав врага от его свиты, оставил его у себя в тылу и совсем не подумал о его спутниках, следовавших в конце поезда; он натолкнулся на них, горящих гневом и потерявших надежду на то, что их господин жив, его постигло от их руки возмездие, месть преданных рабов за покушение на жизнь их господина. (57) Почему же Милон отпустил их на волю? Ну, разумеется, боялся, что они покажут против него, не смогут вынести боль, что пытка заставит их сознаться в том, что Публий Клодий был убит на Аппиевой дороге рабами Милона. Но какая надобность обращаться к палачу? Что ты расследуешь? Убил ли? Убил. По праву ли или же противозаконно? Но ведь палача этот вопрос не касается; ибо на дыбе происходит следствие о совершившемся, следствие о его правомерности — в суде. (XXII) Итак, что надо расследовать при слушании этого дела, то мы здесь и обсудим; что ты хочешь установить посредством пытки, это я и без того признаю. Если же ты спрашиваешь только о том, почему Милон отпустил рабов на волю, но не спрашиваешь, почему он не наградил их более щедро, то ты не знаешь, в какой форме надо высказывать порицание поведению недруга. (58) Сказал ведь присутствующий здесь человек, который всегда говорит непоколебимо и храбро, — Марк Катон и притом сказал это на бурной народной сходке, которую он все же усмирил своим авторитетом, — что те, которые защитили и спасли своего господина, достойны не только свободы, но и всяческих наград. В самом деле, какой награды достойны такие преданные, такие честные, такие верные рабы, которым Милон обязан жизнью? Впрочем, даже это не столь важно, как то, что благодаря тем же рабам его жесточайший недруг не усладил своих взоров и своего сердца видом его кровавых ран. Если бы он не отпустил их на волю, то даже этих спасителей своего господина, мстителей за злодеяние, защитников, предотвративших убийство, пришлось бы подвергнуть пытке. И среди этих постигших его несчастий его больше всего радует, что даже в случае, если с ним самим что-нибудь произойдет, его рабы все же получили заслуженную ими награду.
(59) Но, скажут нам, против Милона обращаются данные допросов, недавно полученные в атрии Свободы[2170]. Допроса каких именно рабов? — Ты еще спрашиваешь? Рабов Публия Клодия. — Кто потребовал их допроса? — Аппий[2171]. — Кто их представил? — Аппий. — Откуда они? — От Аппия. Всеблагие боги! Возможно ли вести дело более сурово? [Допрос рабов для получения показаний против их господина не допускается, за исключением случаев кощунства, как было в свое время совершено по отношению к Клодию.] Почти что равным богам стал Клодий; он теперь ближе им, чем был тогда, когда проник к ним самим, коль скоро следствие о его смерти ведется так же, как следствие об оскорблении священнодействий[2172]. Однако ведь предки наши запретили допрашивать раба с целью получения показаний против его господина, но не потому, что не было возможности таким образом добиться истины, а так как это казалось им недостойным и более печальным, чем сама смерть господина. Но когда, для получения показаний против обвиняемого, допрашивают раба, принадлежащего обвинителю, то можно ли узнать истину? (60) Посмотрим, впрочем, что это был за допрос и как он происходил. «Ну, — скажем, — ты, Руфион! Не вздумай лгать. Устроил Клодий засаду Милону?» — «Устроил». — Конечно, на крест[2173]. «Не устраивал». — Вожделенная свобода. Какой допрос может привести к более надежным показаниям? Рабов, внезапно схваченных для допроса, все же отделяют от других и бросают в клетки, чтобы никто не мог говорить с ними; этих же, после того как они в течение ста дней находились в руках у обвинителя, он же и представил. Можно ли вообразить себе более беспристрастный, более добросовестный допрос?
(XXIII, 61) Но если вам — хотя дело уже совершенно ясно само по себе, будучи освещено столькими и столь явными доказательствами и фактами, — все еще недостаточно ясно, что Милон возвратился в Рим с честными и безупречными намерениями, не запятнанный никаким преступлением, не питая никаких опасений, не убитый угрызениями совести, то — во имя бессмертных богов! — вспомните, как быстро он возвратился, с каким видом ступил на форум, когда Курия пылала, каково было величие его духа, каково было выражение его лица, какую он произнес речь[2174]. И ведь он предстал не только перед народом, но и перед сенатом и не только перед сенатом, но и перед вооруженной охраной, выставленной государством, и доверился не только ей, но также и власти того человека, которому сенат давно доверил все государство, всю молодежь Италии, все вооруженные силы римского народа. Милон, конечно, никогда не отдался бы в его власть, не будучи уверен в правоте своего дела, тем более что этот человек слышал все, питал большие опасения, многое подозревал, кое-чему верил. Велика сила совести, судьи, и велика она в двояком смысле: ничего не боятся те, которые ничего преступного не совершили; те же, которые погрешили, всегда думают, что наказание вот-вот постигнет их. (62) И поистине не без определенных оснований дело Милона всегда находило одобрение сената[2175]; ведь эти в высшей степени разумные люди видели причины его поступка, проявленное им присутствие духа, его стойкость при защите. Или вы, судьи, действительно не помните, каковы были высказывания и мнения не только недругов Милона, но даже и некоторых неосведомленных людей, когда пришла весть об убийстве Клодия? Они утверждали, что он не возвратится в Рим. (63) В самом деле, если Милон, в пылу гнева и раздражения, горя ненавистью, убил своего недруга, то он — так думали они — считал смерть Публия Клодия настолько желанной для себя, что был готов спокойно расстаться с отечеством, удовлетворив свою ненависть кровью недруга. И даже если он хотел, лишив Клодия жизни, освободить и отечество, то он как храбрый муж с опасностью для себя принеся спасение римскому народу, без всяких колебаний покорно склонился бы перед законами и стяжал бы себе вечную славу, а вам дал возможность наслаждаться всем тем, что он спас. Многие вспоминали о Катилине и о его чудовищах: «Он вырвется из Рима, захватит какую-нибудь местность, пойдет войной на отечество». О, сколь несчастны иногда граждане, обладающие величайшими заслугами перед государством! Люди не только забывают их самые славные поступки, но даже подозревают их в преступлениях! (64) И все эти предположения были ложны; между тем они, наверное, оказались бы справедливыми, если бы Милон совершил что-нибудь такое, в чем он не смог бы с честью и по справедливости оправдаться.
(XXIV) А те обвинения, которые на него взвели впоследствии и которые могли бы сразить всякого, кто знал бы за собой даже не особенно тяжкие проступки! Как он их перенес! Бессмертные боги! Перенес? Нет, как он их презрел, как он не придал никакого значения тому, чем не мог бы пренебречь никто: ни виновный, как бы он ни владел собой, ни невиновный, как бы храбр он ни был. Говорили, что даже была возможность захватить множество щитов, мечей, копий и конской сбруи; уверяли, что в Риме не было улицы, не было переулка, где для Милона не наняли бы дома; что оружие свезено по Тибру в окрикульскую усадьбу[2176]; что его дом на капитолийском склоне забит щитами; что всюду огромные запасы зажигательных стрел, изготовленных для поджогов Рима. Слухи эти не только распространились, но им поверили, можно сказать, и они были отвергнуты только после расследования. (65) Я, конечно, восхвалял Гнея Помпея за его чрезвычайную бдительность, но скажу то, что думаю, судьи! Слишком много доносов принуждены выслушивать те, кому поручено государство в целом, да они и не могут поступать иначе. Так, Помпею пришлось выслушать какого-то Лициния, прислужника при жертвоприношениях[2177], из округи Большого Цирка[2178], сообщившего, что рабы Милона, напившись у него допьяна, признались ему в том, что поклялись убить Помпея. А потом один из них ударил Лициния мечом, чтобы он на них не донес. Помпею было послано известие об этом в его загородную усадьбу; я был вызван к нему одним из первых; по совету друзей, Помпей переносит дело в сенат. При столь важном подозрении, касавшемся того, кто охранял и меня и отечество, я не мог не онеметь от страха, но все же удивлялся, что верят прислужнику, что признания рабов выслушивают, и рану на боку, которая казалась уколом иглы, принимают за удар гладиатора. (66) Однако, как я понимаю, Помпей не столько боялся, сколько остерегался, — и не только того, чего бояться следовало, но и всего — дабы вам нечего было бояться. Сообщали, что ночью, в течение многих часов, был осажден дом Гая Цезаря, прославленного и храбрейшего мужа[2179]. Никто этого не слыхал, при всей многолюдности этого места, никто не заметил; однако и это сообщение выслушивали. Я не мог заподозрить, что Гней Помпей, муж самой выдающейся доблести, боязлив, а после того как он взял на себя все дела государства, я не мог думать, что его бдительность чрезмерна, как бы велика она ни была. В сенате, собравшемся на днях в самом полном составе в Капитолии, нашелся сенатор, который сказал, что Милон носит при себе оружие. Тогда Милон обнажил свое тело в священнейшем храме[2180]; ведь если вся жизнь такого гражданина и мужа, как он, не заслужила доверия, то надо было, чтобы он молчал, а за него говорили сами факты.
(XXV, 67) Все слухи оказались ложными и злонамеренными вымыслами. И если Милон все же внушает опасения даже теперь, то мы уже не боимся этого обвинения по делу об убийстве Клодия, но трепещем перед твоими, Гней Помпей (ведь я теперь обращаюсь к тебе во всеуслышание), перед твоими, повторяю, подозрениями[2181]. Если ты боишься Милона, если ты подозреваешь, что он теперь думает о преступном покушении на твою жизнь или когда-либо о нем помышлял, если этот набор в Италии, как заявляет кое-кто из твоих вербовщиков, если это оружие, когорты в Капитолии, стража, ночные караулы, отборная молодежь, охраняющая тебя и твой дом, вооружены, чтобы отразить нападение Милона, и если все это устроено, подготовлено, направлено против него одного, то ему, несомненно, приписывают великую мощь, необычайное мужество и недюжинные силы и возможности, коль скоро против него одного избран самый выдающийся военачальник и вооружено все государство. (68) Но кто не понимает, что все государственные дела были доверены тебе в расстроенном и расшатанном состоянии, дабы ты их оздоровил и укрепил этим оружием? Поэтому если бы Милону была дана возможность, то он, конечно, доказал бы тебе самому, что никто никогда не был столь дорог другому человеку, сколь ты дорог ему; что он ради твоего достоинства ни разу не уклонился ни от одной опасности; что он во имя твоей славы не раз вступал в борьбу с той омерзительнейшей пагубой[2182]; что ты, имея в виду мое восстановление в правах, которое тебе было столь желательно, направлял своими советами его трибунат; что впоследствии ты его защитил, когда его гражданские права были в опасности; что ты помог ему при соискании претуры; что он всегда полагался на теснейшую дружбу с двумя людьми: с тобой ввиду благодеяний, оказанных тобой, и со мной ввиду благодеяний, оказанных им самим мне[2183]. Если бы он не мог доказать тебе этого, если бы подозрение засело у тебя так глубоко, что вырвать его не было бы никакой возможности, наконец, если бы Италия продолжала страдать от наборов, а Рим — от военных схваток, пока Милон не будет повергнут ниц, то он, право, не колеблясь покинул бы отечество, он, которому такой образ мыслей свойствен от рождения и который привык так поступать всегда; но тебя, Великий[2184], он все же попросил бы свидетельствовать в его пользу, о чем он просит тебя и теперь. (XXVI, 69) Ты видишь, сколь непостоянны и переменчивы житейские отношения, сколь ненадежен и непрочен успех, сколь велика неверность друзей, сколь искусно лицемерие приспособляется к обстоятельствам, как склонны избегать опасностей и сколь трусливы даже близкие люди. Будет, будет, конечно, то время и рано или поздно настанет рассвет того дня, когда ты, как я надеюсь, при обстоятельствах, благополучных для тебя лично, но, быть может, при какой-либо общественной смуте (а как часто это случается, мы по опыту должны знать) будешь нуждаться в преданности лучшего друга, в верности непоколебимейшего человека и в величии духа храбрейшего мужа, каких не бывало с незапамятных времен. (70) Но кто может поверить, что Гней Помпей, искушеннейший в публичном праве, в заветах предков, наконец, в государственных делах человек, которому сенат поручил принять меры, дабы государство не понесло ущерба[2185] (каковой единой строчкой консулы всегда были достаточно вооружены даже без предоставления им оружия), что он, когда ему дано войско, дано право производить набор, стал бы ждать приговора суда, чтобы покарать того человека, который якобы замышлял уничтожить насильственным путем даже самые суды? Достаточно ясно признал Помпей, достаточно ясно признал, что обвинения, которые возводятся на Милона, ложны; ведь именно он провел закон[2186], на основании которого, как я думаю, Милон должен быть вами оправдан и, как все признают, вы это сделать можете. (71) А то обстоятельство, что сам Помпей находится вон там[2187], окруженный отрядами по охране государства, показывает достаточно ясно, что он вовсе не хочет вас запугать. В самом деле, что может быть менее достойно его, нежели желание принудить вас осудить того человека, которого он мог бы покарать сам и по обычаю предков и в силу своих полномочий? Но он защищает вас, дабы вы, наперекор вчерашней народной сходке[2188], поняли, что вам разрешается свободно вынести такой приговор, какой найдете нужным.
(XXVII, 72) Меня, судьи, право, нисколько не волнует обвинение в убийстве Клодия, да я и не столь неразумен и не настолько незнаком с вашим образом мыслей, чтобы не знать, что́ вы чувствуете в связи с его смертью. Даже если бы я и не хотел это обвинение опровергать так, как я опроверг его, Милону все же можно было бы безнаказанно во всеуслышание кричать и хвастливо лгать: «Да, я убил, убил — не Спурия Мелия, который, понижая цены на хлеб и тратя свое достояние, навлек на себя подозрение в стремлении к царской власти, так как он, казалось, излишне потворствовал плебсу; не Тиберия Гракха, который, вызвав смуту, лишил своего коллегу[2189] должностных полномочий, причем убийцы их обоих прославились на весь мир; но того, — конечно, он осмелился бы это сказать, освободив отечество с опасностью для себя, — кого знатнейшие женщины застали совершавшим нечестивое блудодеяние на священнейших ложах; (73) кого сенат не раз признавал нужным покарать, чтобы искупить осквернение священнодействий; насчет кого Луций Лукулл, произведя допросы, клятвенно заявил, что, как он дознался, Клодий совершил нечестивое блудодеяние с родной сестрой[2190]; того, кто при помощи вооруженных рабов изгнал за пределы страны гражданина, которого сенат, римский народ и все племена признали спасителем Рима и граждан[2191]; того, кто раздавал царства[2192], кто их отнимал[2193], кто дробил вселенную и раздавал ее части, кому хотел[2194]; того, кто, не раз устраивая резню на форуме, вооруженной силой принуждал гражданина исключительной доблести и славы запираться в своем доме; того, кто никогда не признавал никаких запретов, нарушая их преступлениями и развратом; того, кто поджег храм Нимф[2195], чтобы уничтожить официальные записи о цензе, внесенные в официальные книги; (74) словом, того, для кого уже не существовало ни закона, ни гражданского права, ни границ владений, кто домогался чужих имений не клеветническими обвинениями, не противозаконными тяжбами, а осадой, военной силой и военными действиями; того, кто оружием и нападениями пытался изгнать из владений не только этрусков (ведь к ним он искони проявлял глубокое презрение), нет, этого вот Публия Вария, храбрейшего и честнейшего гражданина, нашего судью; кто объезжал усадьбы и загородные имения многих людей в сопровождении архитекторов и с измерительными шестами; кто возымел надежду, что границами его владений будут Яникул и Альпы[2196]; кто, не добившись от блистательного и храброго римского всадника Марка Пакония продажи ему острова на Прилийском озере[2197], неожиданно привез на лодках на этот остров строевой лес, известку, щебень и песок и не поколебался на глазах у хозяина, смотревшего с берега, выстроить здание на чужой земле; (75) того, кто этому вот Титу Фурфанию[2198] — какому мужу, бессмертные боги! (уж не говорю о некоей Скантии, о юном Публии Апинии; им обоим он пригрозил смертью, если они не уступят ему во владение свои загородные усадьбы) — он осмелился сказать этому самому Титу Фурфанию, что он, если Фурфаний не даст ему столько денег, сколько он потребовал, притащит к нему в дом мертвеца, чтобы возбудить ненависть против такого достойного мужа; тот, кто отнял имение у своего брата Аппия, находившегося в отсутствии, человека, связанного со мной узами самой глубокой приязни[2199]; кто решил так построить стену поперек вестибула своей сестры[2200] и так заложить фундамент, что лишил сестру не только вестибула, но и всякого доступа в дом».
(XXVIII, 76) Впрочем, все это даже казалось терпимым, хотя этот человек в равной степени набрасывался и на государство, и на частных лиц, и на находившихся в отъезде, и на живших близко, и на посторонних, и на родичей; но граждане, как бы в силу привычки, проявляя необычайное долготерпение, уже как-то отупели и огрубели. А все те беды, которые уже были налицо, те, что нависали над нами? Каким же образом могли бы вы их либо отвратить, либо перенести? Если бы Публий Клодий достиг империя, — я уж не говорю о союзниках, о чужеземных народах, о царях и тетрархах[2201]; ведь вы стали бы молить богов о том, чтобы он набросился на этих людей, а не на ваши владения, на ваши очаги, на ваше имущество; но сто́ит ли говорить об имуществе? — детей ваших, клянусь богом верности, и жен никогда не пощадил бы он в своем необузданном разврате. Считаете ли вы вымыслом то, что явно, всем известно и доказано, — что он намеревался набрать в Риме войска из рабов, чтобы при их посредстве овладеть всем государством и имуществом всех частных лиц?
(77) Поэтому если бы Тит Анний с окровавленным мечом в руке[2202] воскликнул: «Сюда, граждане, слушайте, прошу вас: Публия Клодия убил я; от его бешенства, которого мы уже не могли пресечь ни законами, ни судебными приговорами, избавил вас я этим вот мечом и этой вот рукой, так что благодаря мне одному в государстве сохранены право и справедливость, законы и свобода, добросовестность и стыдливость», — то действительно пришлось бы бояться, перенесут ли граждане такое событие! И право, кто теперь не одобряет, кто не прославляет его, кто не говорит и не чувствует, что с незапамятных времен никто не принес государству большей пользы, не обрадовал так римского народа, всей Италии, всех стран, как Тит Анний? Не могу судить, как велико бывало в древности ликование римского народа; но наше поколение уже видало славнейшие победы выдающихся императоров, причем ни одна из них не доставила ни столь продолжительной, ни столь великой радости. Запомните это, судьи! (78) Надеюсь, что вы и дети ваши увидите много счастливых событий в нашем государстве; при каждом из них вы всегда будете думать: если бы Публий Клодий был жив, мы никогда бы не увидели ничего такого. Мы питаем теперь великую и, как я уверен, твердую надежду, что именно этот самый год, когда консулом является этот вот выдающийся муж, когда обуздана распущенность людей, страсти подавлены, а законы и правосудие восстановлены, станет для граждан спасительным. Так найдется ли столь безумный человек, чтобы предположить, будто это могло осуществиться при жизни Публия Клодия? Далее, а та частная собственность, что находится в ваших руках? Разве могли бы вы пользоваться правом постоянного владения, если бы этот бешеный человек добился господства?
(XXIX) Я не боюсь произвести впечатление, судьи, будто я, побуждаемый ненавистью и личной враждой, извергаю все это против Публия Клодия, руководствуясь скорее своим личным желанием, чем истиной. Хотя это и должно было быть моим преимущественным правом, однако он в такой степени был общим врагом всем людям, что моя личная ненависть к нему была почти равна всеобщей. Невозможно достаточно ясно описать и даже себе представить, как много было в нем преступности, как много было злодейства. (79) Отнеситесь к этому с особым вниманием, судьи! [Ведь это суд о гибели Публия Клодия.] Представьте себе — ведь мы вольны в своих мыслях и видим то, что нам угодно, так же ясно, как и то, на что мы глядим, — итак, вообразите себе следующую картину: положим, я смогу добиться от вас оправдательного приговора Милону, но только на том условии, что Публий Клодий оживет… Почему же в ваших глазах появилось выражение страха? Какое же впечатление произвел бы он на вас живой, когда он, мертвый, так поразил ваше воображение? А как вы думаете, если бы сам Гней Помпей, который столь доблестен и удачлив, что мог всегда делать то, чего никто иной не мог, если бы он, повторяю, имел возможность либо внести предложение о назначении суда по поводу смерти Публия Клодия, либо его самого вызвать из подземного царства, то что́, по вашему мнению, решил бы он сделать? Даже если бы он захотел по дружбе вернуть его из подземного царства, он не сделал бы этого в интересах государства. Значит, вы заседаете здесь, чтобы отомстить за смерть того, кого — будь это в вашей власти — вы отказались бы вернуть к жизни; и о суде по поводу его убийства внесен закон, который — имей он силу возвратить его к жизни — никогда не был бы внесен. Итак, если бы Милон был действительно его убийцей, то неужели он, признавшись в своем поступке, опасался бы кары от руки тех, кого он освободил?
(80) Греки воздают убийцам тираннов божеские почести. Чему только не был я свидетелем в Афинах и в других городах Греции! Какие религиозные обряды установлены в честь таких мужей, какие песнопения, какие хвалебные песни! Память мужей этих, можно сказать, объявляется священной на вечные времена; им поклоняются как бессмертным. А вы не только не воздадите почестей спасителю такого великого народа, мстителю за столь тяжкое злодеяние, но даже допустите, чтобы его повлекли на казнь? Он сознался бы в своем деянии, если бы он его совершил, повторяю, он сознался бы в том, что он, не колеблясь духом, охотно совершил ради всеобщей свободы то, в чем ему следовало не только сознаться, но о чем надо было даже объявить во всеуслышание. (XXX, 81) В самом деле, если он не отрицает того, на основании чего он добивается одного только прощения[2203], неужели он поколебался бы сознаться в том, за что ему следовало бы добиваться хвалы и наград?[2204] Разве только он, может быть, полагает, что вы предпочитаете думать, будто он защищал свою собственную жизнь, а не вашу, тем более что при этом признании он, если бы вы хотели быть благодарны, достиг бы величайших почестей. Напротив, если бы он не нашел у вас одобрения своему поступку (впрочем, кто может не высказать одобрения, когда ему спасут жизнь?), так вот, если бы доблесть храбрейшего мужа оказалась неугодна гражданам, то он, великий духом и непоколебимый, покинул бы неблагодарных граждан; ибо что было бы бо́льшим проявлением неблагодарности, чем положение, когда ликуют все, а скорбит лишь тот, благодаря кому они ликуют? (82) Впрочем, все мы, уничтожая предателей отечества, — коль скоро нашим уделом в будущем должна быть слава — своим уделом всегда считали и опасность, и ненависть. Как бы мог я сам рассчитывать на хвалу, решаясь в свое консульство на столь смелые действия ради вас и ваших детей, если бы думал, что мои труды и моя решимость не повлекут за собой сильнейшей борьбы? Разве даже любая женщина не решилась бы убить преступного гражданина, несущего погибель, если бы не боялась опасности? Того, кто, предвидя ненависть, смерть и кару, все же защищает государство с неослабной твердостью, следует поистине признать настоящим мужем. Долг народа благодарного — награждать граждан, имеющих большие заслуги перед государством, долг храброго мужа — даже под пыткой не раскаиваться в своей храбрости. (83) Поэтому Тит Анний должен был бы сделать такое же признание, какое сделали Агала, Насика, Опимий, Марий, я сам, и он — если бы государство было благодарно ему — был бы обрадован, а если бы оно было неблагодарно, он даже в своей тяжкой доле все же утешался бы тем, что его совесть чиста.
Но, право, благодарность за это благодеяние, судьи, следует воздать Фортуне римского народа, вашей счастливой судьбе и бессмертным богам; поистине никто не может думать иначе, кроме того, кто не признает могущества и воли богов, кого не волнуют ни величие нашей державы, ни солнце и движение неба и созвездий, ни смена явлений и порядок в природе, ни — и это наиболее важно — мудрость наших предков, которые и сами с величайшим благоговением чтили священнодействия, обряды и авспиции и завещали их нам, своим потомкам. (XXXI, 84) Существует, воистину существует некая сила, и если этим нашим бренным телам присуще нечто живое и чувствующее, то оно, конечно, присуще и этому столь великому и столь славному круговороту природы. Впрочем, может быть, люди не признаю́т его потому, что начало это не ощутимо и не видимо; как будто мы можем видеть сам наш разум, благодаря которому мы познаем, предвидим, действуем и обсуждаем эти самые события, как будто мы можем ясно ощущать, каков он и где находится. Итак, сама эта сила, часто дарившая нашему городу безмерные успехи и богатства, уничтожила и устранила этого губителя, которому она сначала внушила дерзкое намерение вызвать насильственными действиями гнев храбрейшего мужа и с мечом в руках напасть на него, чтобы быть побежденным тем самым человеком, победа над которым должна была бы дать ему возможность безнаказанно в любое время своевольничать. (85) Не человеческим разумом, судьи, даже не обычным попечением бессмертных богов было это совершено; сами святыни, клянусь Геркулесом, увидевшие падение этого зверя, казалось, пришли в волнение и осуществили над ним свое право; ведь это к вам, холмы и священные рощи Альбы, повторяю, к вам обращаюсь я теперь с мольбой, вас призываю в свидетели, низвергнутые алтари Альбы, места общих с римским народом древних священнодействий[2205], которые этот безумец задавил нелепыми громадами своих построек, вырубив и повалив священнейшие рощи; это ваш гнев, это ваши священные заветы одержали победу; это проявилось ваше могущество, которое Публий Клодий осквернил всяческими преступлениями, а ты, глубоко почитаемый Юпитер, Покровитель Лация[2206], чьи озера, рощи и пределы он не раз марал всяческим нечестивым блудом и преступлениями, ты, наконец, взглянул со своей высокой горы, чтобы покарать его; перед вами, у вас на глазах он и понес запоздалое, но все же справедливое и должное наказание. (86) Уж не скажем ли мы, что он совершенно случайно именно перед святилищем Доброй Богини, которое находится в имении Тита Сергия Галла, весьма уважаемого и достойного юноши, перед само́й, повторяю, Доброй Богиней, вступив в сражение, получил ту первую рану, от которой претерпел позорнейшую смерть? Как видно, в свое время преступный суд не оправдал его, но сохранил для этого, более тяжкого наказания. (XXXII) И поистине тот же гнев богов поразил безумием его приспешников[2207], так что они бросили его полусожженным, в крови и в грязи, без изображений предков, без пения и игр, без похоронного шествия, без оплакивания, без хвалебных речей, без погребения, лишив его того последнего торжественного дня, который обычно уважают даже недруги. Я уверен, сам божественный закон не допустил, чтобы изображения прославленных мужей в какой-то мере служили украшением для этого омерзительнейшего братоубийцы и чтобы его мертвое тело рвали на части в каком-либо ином месте, а не там, где он был осужден при жизни.
(87) Суровой и жестокой, клянусь богом верности, уже казалась мне Фортуна римского народа, коль скоро она в течение стольких лет терпела нападения Клодия на наше государство. Он осквернил блудом неприкосновеннейшие святыни; важнейшие постановления сената нарушил; у всех на глазах деньгами откупился от судей; во время своего трибуната терзал сенат; то, что было достигнуто согласием всех сословий во имя блага государства, он уничтожил; меня изгнал из отечества, имущество мое разграбил, мой дом поджег; моих детей и жену истерзал[2208]; Гнею Помпею объявил преступную войну; среди должностных и частных лиц учинил резню[2209], дом моего брата поджег; опустошил Этрурию, многих людей выгнал из их домов и лишил их имущества, притеснял и мучил их; городская община, Италия, провинции, царства не могли вместить его безумств. В его доме уже вырезывались на меди законы, которые отдавали нас во власть нашим рабам[2210]; что бы ему ни понравилось, все это, считал он, достанется ему в том же году[2211]. (88) Осуществлению его замыслов никто не мог препятствовать, кроме одного только Милона. Ибо даже того человека, который мог бы ему противиться, Клодий считал как бы связанным по рукам и по ногам их недавним примирением; могущество Цезаря он называл своим собственным; к людям честным после того, что случилось со мной, он относился с презрением; Милон один не давал ему покоя.
(XXXIII) Вот тогда бессмертные боги, как я уже говорил, и внушили этому пропащему и бешеному человеку намерение устроить Милону засаду. Погибнуть иначе этот губитель не мог. Государство никогда не смогло бы покарать его, опираясь только на свое собственное право. Сенат, пожалуй, попытался бы обуздать его как претора. Но даже когда сенат старался так поступать по отношению к Публию Клодию, бывшему частным лицом[2212], это ему не удавалось. (89) Разве у консулов хватило бы храбрости выступить против претора? Во-первых, после убийства Милона Публий Клодий поставил бы своих консулов. Затем, какой консул решился бы проявить мужество по отношению к тому претору, при котором, в его бытность трибуном, доблестный консул был подвергнут жесточайшему преследованию[2213], что было еще свежо в памяти? Он уничтожил бы, захватил бы, держал бы в своих руках все; по новому закону, который у него был найден вместе с остальными Клодиевыми законами, он сделал бы наших рабов своими вольноотпущенниками; наконец, если бы бессмертные боги не натолкнули его, человека изнеженного, на мысль попытаться убить храбрейшего мужа, то у вас ныне не было бы государства. (90) Неужели же он, будучи претором, а тем более консулом (если только эти храмы и даже наши городские стены могли бы так долго стоять — будь он жив — и дожидаться его консульства), словом, неужели он, живой, не совершил бы никаких злодеяний, когда он, мертвый, имея вожаком одного из своих приспешников, поджег Курию? Можно ли видеть более жалкое, более страшное, более горестное зрелище? Священнейший храм[2214], хранилище высшего величия, мудрости, место собраний государственного совета, глава нашего города, алтарь для союзников, прибежище для всех племен, место, которое весь народ предоставил одному сословию, на наших глазах было предано пламени, разрушено, осквернено[2215], причем это совершила не безрассудная толпа, — хотя и это было бы ужасно, — но один человек. Если этот человек осмелился стать поджигателем ради мертвого, то на что не дерзнул бы он, будучи знаменосцем при живом? Именно в Курию он бросил его, чтобы Клодий, мертвый, поджег Курию, которую он, живой, уничтожил. (91) И еще находятся люди, сетующие по поводу Аппиевой дороги, а о Курии умалчивающие, люди, склонные думать, что при жизни Публия Клодия была возможность защитить форум от того, перед чьим трупом не устояла Курия! Пробудите, пробудите его от смерти, если можете. Сломите ли вы натиск живого, когда едва сдерживаете фурий непогребенного?[2216] Разве вы сумели сдержать тех людей, которые сбежались с факелами к Курии, с крючьями к храму Кастора[2217], с мечами в руках носились по всему форуму? Вы видели, как резали римский народ, как сходку разгоняли мечами, когда при всеобщем молчании произносил речь народный трибун Марк Целий, храбрейший государственный муж, чрезвычайно стойкий во взятом им на себя деле, преданный и честным людям и авторитету сената и проявляющий по отношению к Милону внушенную ему богами необычайную верность при любых обстоятельствах — преследует ли Милона ненависть или же возносит судьба.
(XXXIV, 92) Но о деле уже сказано вполне достаточно, а отступлений, пожалуй, даже слишком много; мне остается только умолять и заклинать вас, судьи, — отнеситесь к этому храбрейшему мужу с тем состраданием, о котором сам он вас не молит, а я, даже наперекор ему, и умоляю, и прошу. Если среди нашего всеобщего плача вы не заметили у Милона ни одной слезы, если вы видите, что выражение его лица никогда не изменяется, что его голос, его речь всегда тверды и уверенны, все же не отказывайте ему в пощаде: он, пожалуй, даже тем более нуждается в помощи. Если во время боев гладиаторов, когда речь идет о положении и судьбе людей самого низкого происхождения, мы даже склонны относиться с отвращением к боязливым и умоляющим и заклинающим нас о пощаде, а храбрым, обладающим присутствием духа и смело идущим на смерть, стремимся сохранить жизнь; если мы жалеем тех, которые не ищут у нас сострадания, больше, чем тех, которые о нем неотступно просят, то насколько больше наш долг поступать так по отношению к храбрейшим гражданам! (93) По крайней мере, из меня, судьи, исторгают душу и меня убивают вот какие слова Милона, которые я слышу постоянно при наших ежедневных беседах: «Прощайте, — говорит он, — мои сограждане, прощайте! Будьте невредимы, процветайте, будьте счастливы! Да стоит этот прекрасный город, моя любимая родина, как бы он ни поступил со мной; так как мне нельзя наслаждаться спокойствием в государстве вместе со своими согражданами, то пусть они наслаждаются им одни, без меня, но все же благодаря мне; я удалюсь, я уеду; если мне не будет дозволено наслаждаться пребыванием в благоустроенном государстве, то я, по крайней мере, не буду находиться в дурном и, как только найду гражданскую общину, упорядоченную и свободную, обрету в ней покой. (94) О, безуспешно предпринятые мной труды! — говорит он, — о, мои обманчивые надежды и пустые помышления! В ту пору, когда государство было угнетено, я, сделавшись народным трибуном, стал преданным сторонником сената, который я застал униженным, сторонником римских всадников, силы которых были ничтожны, сторонником честных мужей, утративших всякое влияние из-за вооруженных выступлений Клодия; мог ли я тогда думать, что честные люди когда-либо откажут мне в защите? Когда я возвратил отчизне тебя, — ведь со мной он говорит очень часто, — мог ли я думать, что для меня места в отчизне не окажется? Где теперь сенат, за которым мы следовали? Где твои хваленые римские всадники? — говорит он. — Где преданность муниципиев? Где голоса всей Италии? Где, наконец, твой, Марк Туллий, твой голос защитника, столь многим оказавший помощь? Неужели только мне одному, мне, который ради тебя столько раз подвергался смертельной опасности, он помочь не может?»
(XXXV, 95) И Милон, судьи, говорит это не так, как я теперь — со слезами, но с тем же выражением лица, какое вы видите сейчас. Не хочет, не хочет он признать, что действия свои он совершил ради неблагодарных граждан; но что — ради боязливых и остерегающихся всякой опасности, этого он не отрицает. Что же касается плебса и низших слоев населения, которые, имея вожаком своим Публия Клодия, угрожали вашему достоянию, то их — напоминает вам Милон — он, во имя вашей безопасности, постарался не только привлечь к себе своей доблестью, но и задобрить, истратив три своих наследственных состояния[2218]; он не боится, что, щедростью своей ублажив плебс, не сможет расположить к себе вас своими исключительными заслугами перед государством. Благоволение сената он, по его словам, чувствовал не раз именно в последнее время, а воспоминания о дружелюбии, с которым вы и ваши сословия встречали его, о ваших усердных стараниях и добрых словах он унесет с собой, какой бы путь судьба ему ни назначила. (96) Он помнит также, что ему не хватило только одного голоса — голоса глашатая, в котором он менее всего нуждался[2219], но что всеми голосами, поданными народом, — а только этого он и желал — он уже был объявлен консулом; что даже теперь, если все это оружие[2220] направлено против него, его, очевидно, подозревают в преступном замысле, а не обвиняют в совершенном им преступлении. Он добавляет следующие, несомненно, справедливые слова: храбрые и мудрые мужи обычно стремятся не столько к наградам за свои честные деяния, сколько к самим честным деяниям; на протяжении всей своей жизни он не совершил ничего другого, кроме славных подвигов, коль скоро для мужа нет более достойного поступка, чем избавить отечество от опасностей; (97) счастливы те, кому это принесло почет у их сограждан; но нельзя считать несчастными и тех, кто победил своих сограждан великодушием; все же из всех наград за доблесть — если награды можно оценивать — наивысшей является слава; она — единственное, что может служить нам утешением, вознаграждая за краткость нашей жизни памятью потомков; это она приводит к тому, что мы, отсутствуя, присутствуем; будучи мертвы, живем[2221]; словом, по ее ступеням люди даже как бы поднимаются на небо. (98) «Обо мне, — говорит Милон, — всегда будет говорить римский народ, всегда будут говорить все племена, и моя слава никогда не умолкнет и не прейдет. Более того, хотя мои недруги своими факелами всячески разжигают ненависть ко мне, все же в любом собрании и в любой беседе даже и ныне люди меня единодушно прославляют и благодарят. Обхожу молчанием празднества, установленные в Этрурии[2222]: сегодня, если не ошибаюсь, сто второй день после гибели Публия Клодия[2223]; где только ни проходят границы державы римского народа, там уже распространилась не только молва о ней, но и ликование. Поэтому я, — говорит Милон, — и не беспокоюсь о том, где будет находиться мое тело, так как уже пребывает во всех странах и всегда будет в них обитать слава моего имени».
(XXXVI, 99) Ты часто говорил это мне в отсутствие этих вот людей, но я теперь, когда они слушают нас, говорю тебе, Милон, вот что: именно тебе за твое мужество я не в силах воздать достойную хвалу, но чем ближе к богам твоя доблесть, тем с большей скорбью я от тебя отрываюсь. Если тебя у меня отнимут, я даже не смогу утешаться, жалуясь и негодуя на тех, от кого получу такую тяжкую рану; ведь не мои недруги отнимут тебя у меня, а мои лучшие друзья; не те, кто когда-либо дурно поступал со мной, а люди, всегда относившиеся ко мне прекрасно. Даже если вы причините мне очень сильную боль, судьи, — а какая боль может быть сильнее, чем эта? — вы никогда не сможете причинить мне такой жгучей, чтобы я мог забыть, как высоко вы всегда меня ценили. Если вы забыли это или если вы на меня за что-либо в обиде, то почему не я, а Милон платится за это своими гражданскими правами? Я буду считать свою жизнь вполне счастливой, если она окончится раньше, чем я увижу своими глазами такую страшную беду. (100) Теперь меня поддерживает одна утешительная мысль, что я выполнил относительно тебя, Тит Анний, и долг дружбы, и долг преданности, и долг благодарности[2224]. Я навлек на себя вражду могущественнейших людей[2225] ради тебя; я часто заслонял тебя своим телом и моей жизни угрожало оружие твоих недругов; перед многими я бросался ниц, моля их за тебя; имущество, достояние свое и своих детей я, видя твои бедствия, предоставил тебе; наконец, именно сегодня, если готовятся какие-то насильственные действия, если будет какая-то схватка не на жизнь, а на смерть, то я бросаю вызов. Что могу я сделать еще? Как могу я отплатить тебе за твои услуги, как разделить твою участь, какова бы она ни была? Не отказываюсь, не отрекаюсь от этого и заклинаю вас, судьи, дополнить ваши оказанные мне благодеяния спасением Милона, если не хотите увидеть, как его гибель уничтожит их.
(XXXVII, 101) На Милона мои слезы не действуют. Он обладает необычайной силой духа; по его мнению, изгнание там, где нет места для доблести; смерть — естественный конец бытия, а не кара. Пусть он остается верен тем убеждениям, с какими родился. А вы, судьи? Каковы же ваши намерения? Память о Милоне вы сохраните, а его самого изгоните? И найдется ли какое-либо иное место на земле, которое будет более достойно принять эту доблесть, чем то, которое его породило?[2226] Вас призываю я, вас, храбрейшие мужи, пролившие много своей крови в защиту государства! Вас, центурионы, призываю я в минуту опасности, угрожающей непобедимому мужу и гражданину, и вас, солдаты! Неужели в то время, когда вы являетесь не только зрителями, но и вооруженными защитниками этого суда, эта столь великая доблесть будет изгнана из этого города, удалена за его пределы, выброшена? (102) О, как я жалок! О, как я несчастен! Возвратить меня в отечество, Милон, ты смог при посредстве этих вот людей, а я сохранить тебя в отечестве при их посредстве не могу? Что отвечу я своим детям, которые считают тебя вторым отцом? Что отвечу тебе, брат Квинт, которого теперь здесь нет[2227], тебе, разделявшему мою печальную участь? Что я не смог спасти Милона при посредстве тех же людей, при чьем посредстве он спас нас? И в каком деле я не сумел этого добиться? В том, которое по сердцу всем народам. И от кого я не сумел этого добиться? От тех, кому смерть Публия Клодия доставила успокоение. При чьем предстательстве? При моем. (103) Какое же тяжкое преступление совершил я, судьи, или какой тяжкий проступок допустил, когда я выследил и раскрыл, воочию показал и уничтожил угрозу всеобщей гибели? И на меня и на моих родных все страдания изливаются из этого источника. Зачем вы захотели, чтобы я был возвращен из изгнания? Для того ли, чтобы у меня на глазах изгоняли тех людей, при чьем посредстве я был восстановлен в правах? Заклинаю вас, не допускайте, чтобы возвращение было для меня горше, чем был самый отъезд; ибо как я могу считать себя восстановленным в правах, если меня разлучают с теми, при чьей помощи я был восстановлен?
(XXXVIII) О, пусть бы по воле бессмертных богов — прости мне, отчизна, что я говорю это; боюсь, что совершаю преступление против тебя, говоря в ущерб тебе то, что я говорю в защиту Милона, исполняя свой долг, — пусть бы Публий Клодий, не говорю уже — был жив, но даже был претором, консулом, диктатором, но только бы мне не видеть этого зрелища! (104) О, бессмертные боги! О, храбрый муж, которого вы, судьи, должны спасти! «Вовсе нет, вовсе нет, — говорит Милон, — наоборот, пусть Клодий несет заслуженную им кару; а я, если это необходимо, готов подвергнуться незаслуженной». И этот вот муж, родившийся для отечества, умрет где-то в другом месте, а не в отечестве или, по крайней мере, не за отечество? Памятники его мужества вы сохраните, но потерпите ли вы, чтобы в Италии не нашлось места для его могилы? Неужели кто-нибудь решится изгнать из этого города своим приговором Милона, которого, если он будет изгнан вами, все города призовут к себе? (105) О, как счастлива будет та страна, которая примет этого мужа! О, как неблагодарна будет наша страна, если она его изгонит, как несчастна, если она его потеряет! Но закончу: от слез я уже не в силах говорить, а Милон не велит, защищая его, прибегать к слезам. Умоляю и заклинаю вас, судьи, при голосовании смело следуйте своему мнению. Доблесть, справедливость, добросовестность вашу, поверьте мне, всецело одобрит тот человек, который, выбирая судей, избрал всех самых честных, самых мудрых и самых смелых.
23. Речь по поводу возвращения Mарка Клавдия Марцелла [В сенате, начало сентября 46 г. до н. э.]
Марк Марцелл (из плебейской ветви рода Клавдиев) во время гражданской войны был противником Цезаря. Как консул 51 г. он предложил в сенате, чтобы Цезарь был отозван из Галлии к 1 марта 49 г, что лишило бы его возможности заочно добиваться избрания в консулы на 48 г. и подвергло бы его опасности судебного преследования. Когда предложение Марцелла не было принято, то он предложил предоставить солдатам Цезаря, уже отслужившим свой срок, право оставить военную службу; наконец, консул резко выступил против Цезаря в вопросе о предоставлении прав римского гражданства жителям римских колоний, основанных Цезарем в Цисальпийской Галлии. Во время гражданской войны Метелл[2228] покинул Италию вместе с помпеянцами; после победы Цезаря он удалился в изгнание и жил в Митиленах, занимаясь философией. Сам Марцелл не обращался к Цезарю с просьбой о прощении, но его родные, находившиеся в Италии, и Цицерон, прощенный Цезарем, ходатайствовали перед ним за Марцелла.
В сентябре 46 г. тесть Цезаря Луций Писон намекнул в сенате на тяжелое положение изгнанника; Гай Марцелл, консул 50 г., двоюродный брат Марка, бросился Цезарю в ноги с мольбой о прощении, к которой присоединились сенаторы. Цицерон произнес дошедшую до нас речь, в которой он заранее благодарил Цезаря за возвращение Марцелла из изгнания. Диктатор удовлетворил просьбу сената. Марцелл выехал на родину лишь через 8 месяцев после упомянутого собрания сената и 23 мая 45 г. остановился в Пирее, где был принят своим бывшим коллегой по консульству Сервием Сульпицием Руфом. Вечером 26 мая он был убит в окрестностях Пирея при обстоятельствах, оставшихся неясными.
См. письма Fam., IV, 4 (CCCCXCII); 7 (CCCCCLXXXVII); 8 (CCCCLXXXVI); 9 (CCCCLXXXVIII); 10 (DXL); 11 (CCCCXCIII); 12 (DCXVIII); Att, XIII, 10, 3 (DCXXIX); XV, 9 (CCXV).
(I, 1) Долгому молчанию, которое я хранил в последнее время[2229], отцы-сенаторы, — а причиной его был не страх, а отчасти скорбь, отчасти скромность — нынешний день положил конец; он же является началом того, что я отныне могу, как прежде, говорить о том, чего хочу и что чувствую. Ибо столь большой душевной мягкости, столь необычного и неслыханного милосердия, столь великой умеренности, несмотря на высшую власть[2230], которой подчинено все, наконец, такой небывалой мудрости, можно сказать, внушенной богами, обойти молчанием я никак не могу. (2) Ведь коль скоро Марк Марцелл возвращен вам, отцы-сенаторы, и государству, то не только его, но также и мой голос и авторитет, по моему мнению, сохранены и восстановлены для вас и для государства. Ибо я скорбел, отцы-сенаторы, и сильно сокрушался из-за того, что такому мужу, стоявшему на той же стороне, что и я, выпала иная судьба, чем мне; и я не мог себя заставить и не находил для себя дозволенным идти нашим прежним жизненным путем после того, как моего соратника и подражателя в стремлениях и трудах, моего, так сказать, союзника и спутника у меня отняли. Поэтому и привычный для меня жизненный путь, до сего времени прегражденный, ты, Гай Цезарь, вновь открыл передо мной и для всех здесь присутствующих как бы поднял знамя надежды на благополучие всего государства.
(3) То, что я на примере многих людей, а особенно на своем собственном, понял уже раньше, теперь поняли все, когда ты, уступая просьбам сената и государства, возвратил им Марка Марцелла, особенно после того, как упомянул об обидах[2231]; все поняли, что авторитет нашего сословия и достоинство государства ты ставишь выше своих личных огорчений или подозрений. А Марк Марцелл сегодня получил за всю свою прошлую жизнь величайшую награду — полное единодушие сената и твое важнейшее и величайшее решение. Из всего этого ты, конечно, поймешь, сколь большой хвалы заслуживает оказание милости, раз принятие ее приносит славу. (4) Но поистине счастлив тот, чье восстановление в правах доставит, пожалуй, всем не меньшую радость, чем ему самому; именно это выпало на долю Марка Марцелла справедливо и вполне по праву. В самом деле, кто превосходит его знатностью, или честностью, или рвением к самым высоким наукам, или неподкупностью, или какими-нибудь другими качествами, заслуживающими хвалы?
(II) Ни у кого нет такого выдающегося дарования, никто не обладает такой силой и таким богатством речи, чтобы, уже не говорю — достойно возвеличить твои деяния, Гай Цезарь, но о них рассказать. Но я утверждаю и — с твоего позволения — буду повторять всегда: ни одним из них ты не заслужил хвалы, превосходящей ту, какую ты стяжал сегодня. (5) Я мысленно нередко обозреваю все подвиги наших императоров, все деяния чужеземных племен и могущественнейших народов, все деяния знаменитейших царей и часто охотно повторяю, что все они — ни по величию стремлений, ни по числу данных ими сражений, ни по разнообразию стран, ни по быстроте завершения, ни по различию условий ведения войны — не могут сравняться с тобой и что поистине никто не смог бы пройти путь между удаленными друг от друга странами скорее, чем он был пройден, не скажу — твоими быстрыми переходами, но твоими победами[2232]. (6) Если бы я стал отрицать величие всех этих деяний, охватить которое нет возможности ни умом, ни воображением, то я был бы безумцем; но все же есть нечто другое, более великое. Ведь некоторые люди, говоря о воинских заслугах, склонны их преуменьшать, отказывая в них военачальникам и приписывая их множеству людей, с тем, чтобы заслуги эти не принадлежали одним только императорам. И действительно, успеху военных действий сильно способствуют доблесть солдат, удобная местность, вспомогательные войска союзников, флоты, подвоз продовольствия, но наиболее важную долю в успехе, словно имея право на это, требует себе Судьба и чуть ли не всякую удачу приписывает себе[2233]. (7) Но славы, недавно достигнутой тобой, ты, Гай Цезарь, поистине не делишь ни с кем. Слава эта, как бы велика она ни была, — а она, несомненно, неизмерима, — вся, говорю я, принадлежит тебе. Ни одной из этих заслуг не отнимут у тебя ни центурион, ни префект, ни когорта[2234], ни отряд конницы; более того, сама владычица дел человеческих — Судьба — разделить с тобой славу не стремится; тебе уступает ее она, всю ее признает твоей и тебе одному принадлежащей; ибо неосмотрительность никогда не сочетается с мудростью, случай не советчик тому, кому решать.
(III, 8) Ты покорил племена свирепых варваров неисчислимые, населяющие беспредельные пространства, обладающие неисчерпаемыми богатствами всякого рода, и все же ты одержал победу над тем, что, в силу своей природы и обстоятельств, могло быть побеждено; нет ведь такой силы, которую, как бы велика она ни была, было бы невозможно одолеть и сломить силой оружия. Но свое враждебное чувство победить, гнев сдержать, побежденного пощадить, поверженного противника, отличающегося знатностью, умом и доблестью, не только поднять с земли, но и возвеличить в его былом высоком положении[2235], — того, кто сделает это, я не стану сравнивать даже с самыми великими мужами, но признаю богоравным. (9) Твои всем известные воинские подвиги, Гай Цезарь, будут прославлять в сочинениях и сказаниях не только наших, но, можно сказать, и всех народов, молва о твоих заслугах не смолкнет никогда. Однако мне кажется, что, даже когда о них читаешь, они почему-то заглушаются криками солдат и звуками труб. Но когда мы слышим или читаем о каком-либо поступке милосердном, хорошем, справедливом, добропорядочном, мудром, особенно о таком поступке человека разгневанного (а гнев — враг разума) и победителя (а победа по своей сущности надменна и горда), то как пламенно восторгаемся мы не только действительно совершенными, но и вымышленными деяниями и часто начинаем относиться с любовью к людям, которых мы не видели никогда!
(10) Ну, а тебя, которого мы зрим перед собой, тебя, чьи помыслы и намерения, как мы видим, направлены на сохранение всего того, что война оставила государству, какими похвалами превозносить нам тебя, с каким восторгом за тобой следовать, какой преданностью тебя окружить? Стены этой курии, клянусь богом верности, сотрясаются от стремления выразить тебе благодарность за то, что этот достойнейший муж вскоре займет в ней место, принадлежащее его предкам и ему самому. (IV) А когда я вместе с вами только что видел слезы Гая Марцелла, честнейшего мужа, наделенного безмерной преданностью, мое сердце наполнили воспоминания обо всех Марцеллах, которым ты, сохранив жизнь Марку Марцеллу, даже после их смерти возвратил их высокое положение и, можно сказать, спас от гибели знатнейшую ветвь рода, от которой уже остались немногие.
(11) Итак, ты, по справедливости, можешь оценить этот день выше величайших и бесчисленных благодарственных молебствий от твоего имени[2236], так как это деяние совершено одним только Гаем Цезарем; прочие деяния, совершенные под твоим водительством, правда, тоже великие, но все же совершены при участии твоих многочисленных и великих соратников. В этом деле ты одновременно и военачальник, и соратник; именно оно столь величественно, что, хотя время и уничтожает твои трофеи[2237] и памятники (ведь нет ничего, сделанного руками человека, чего бы не уничтожило и не поглотило время), (12) молва об этой твоей справедливости и душевной мягкости будет с каждым днем расцветать все более и более, а все то, что годы отнимут от твоих деяний, они прибавят к твоей славе. Ты, несомненно, уже давно своей справедливостью и мягкосердечием одержал победу над другими победителями в гражданских войнах[2238]; но сегодня ты одержал победу над самим собой. Боюсь, что слушатели мои не поймут из моих слов всего, что я думаю и чувствую; самое победу ты, мне кажется, победил, возвратив ее плоды побежденным. Ибо, когда по закону самой победы все мы должны были пасть побежденные, мы были спасены твоим милосердным решением. Итак, по всей справедливости непобедим ты один, ты, кем полностью побеждены и закон, и сила самой победы.
Гай Юлий Цезарь. Денарий 44 г. (увеличено)
(V, 13) Теперь, отцы-сенаторы, посмотрите, как далеко Гай Цезарь идет в своем решении. Ведь все мы, которых некая злосчастная и гибельная для государства судьба толкнула на памятную нам войну, во всяком случае, — хотя мы и повинны в заблуждении, свойственном человеку, — все же от обвинения в преступлении освобождены. Когда Гай Цезарь, по вашему ходатайству, ради государства сохранил жизнь Марку Марцеллу; когда он возвратил меня и мне самому, и государству без чьего бы то ни было ходатайства[2239]; когда он возвратил и им самим, и отчизне остальных виднейших мужей, о многочисленности и высоком положении которых вы можете судить даже по нынешнему собранию, то он не врагов ввел в Курию, но признал, что большинство из нас вступило в войну скорее по своему неразумию и ввиду ложного и пустого страха, чем из честолюбия и жестокости.
(14) Даже во время этой войны я всегда полагал, что нужно выслушивать мирные предложения, и всегда скорбел из-за того, что не только мир, но даже и речи граждан, требовавших мира, отвергались. Ведь сам я в гражданской войне никогда не принимал участия — ни на той, ни вообще на какой бы то ни было стороне, и мои советы всегда были союзниками мира и тоги, а не войны и оружия[2240]. Я последовал за тем человеком из чувства долга как частное лицо, а не как государственный деятель, моим благодарным сердцем настолько владела верность воспоминаниям[2241], что я, не только не движимый честолюбием, но даже не питая надежды, вполне обдуманно и сознательно шел как бы на добровольную гибель. (15) Этого своего образа мыслей я ничуть не скрывал: ведь я и среди представителей нашего сословия, еще до начала событий, высказал многое в защиту мира, да и во время самой войны подал за это же свой голос даже с опасностью для жизни. Ввиду этого никто не будет столь несправедлив в оценке событий, чтобы усомниться в тех побуждениях, которыми Цезарь руководился в этой войне, раз он тотчас же признал нужным сохранить жизнь тем, кто хотел мира, в то время как его гнев против других был сильнее. И это, пожалуй, было ничуть не удивительно, пока еще не был ясен исход войны и было переменчиво военное счастье; но тот, кто, достигнув победы, благосклонен к тем, кто хотел мира, тем самым открыто заявляет, что он предпочел бы вообще не сражаться, чем оказаться победителем[2242].
(VI, 16) Именно в этом я и ручаюсь за Марка Марцелла; ибо наши взгляды совпадали всегда — во времена мира и во время войны. Сколько раз и с какой глубокой скорбью смотрел я, как он страшился и высокомерия определенных людей, и жестокости самой победы! Тем более по сердцу должно быть твое великодушие, Гай Цезарь, нам, видевшим все это; ведь ныне надо сравнивать не цели одной воюющей стороны с целями другой, а победу одной стороны с победой другой! (17) Мы видели, что по окончании сражений твоей победе был положен предел; меча, выхваченного из ножен, в Риме мы не видели. Граждан, которых мы потеряли, поразила сила Марса, а не ярость победы, так что никто не станет сомневаться в том, что Гай Цезарь, если бы мог, многих вызвал бы из подземного царства, так как из числа своих противников он сохраняет жизнь всем, кому только может. Что касается другой стороны, то я скажу только то, чего все мы опасались: их победа могла бы оказаться безудержной в своей ярости[2243]. (18) Ведь некоторые из них угрожали не только людям, взявшимся за оружие, но иногда даже и тем, кто стоял в стороне; они говорили, что надо думать не о наших воззрениях, а о том, где кто был, так что мне, по крайней мере, кажется, что, даже если бессмертные боги и покарали римский народ за какое-то преступление, побудив его к такой большой и столь плачевной гражданской войне, то они, либо уже умилостивленные, либо, наконец, удовлетворенные, всю надежду на спасение связали с милосердием победителя и с его мудростью.
Гней Помпей. Денарий 38—36 гг. (увеличено)
(19) Радуйся поэтому своему столь исключительному благополучию и наслаждайся как своей счастливой судьбой и славой, так и своими природными дарованиями и своим образом жизни; именно в этом величайшая награда и удовольствие для мудрого человека. Когда ты станешь припоминать другие свои деяния, ты, правда, очень часто будешь радоваться своей доблести, но все же, главным образом, своей удачливости[2244]; однако сколько бы раз ты ни подумал о нас, которых ты захотел видеть в государстве рядом с собой, столько же раз ты подумаешь и о своих величайших милостях, о своем необычайном великодушии, о своей исключительной мудрости. Я осмеливаюсь назвать все это не только высшими благами, но даже, бесспорно, единственными, имеющими ценность. Ибо так велика блистательность истинных заслуг, а величие духа и помыслов обладает столь великим достоинством, что именно это кажется дарованным Доблестью, а все прочее — предоставленным Судьбой. (20) Поэтому неустанно сохраняй жизнь честным мужам, а особенно тем из них, которые совершили проступок не по честолюбию или по злонамеренности, а повинуясь чувству долга, быть может, глупому, но во всяком случае не бесчестному, так сказать, воображая, что приносят пользу государству. Ведь не твоя вина, если кое-кто тебя боялся; наоборот, твоя величайшая заслуга в том, что тебя — и они это почувствовали — бояться было нечего.
(VII, 21) Перехожу теперь к твоей важнейшей жалобе и к твоему тягчайшему подозрению, которое следует принять во внимание и тебе самому, и всем гражданам, особенно нам, которым ты сохранил жизнь. Хотя подозрение это, надеюсь, ложно, все же я ни в коем случае не стану умалять его важности. Ибо твоя безопасность — наша безопасность, так что — если уж надо выбирать одно из двух — я бы скорее хотел показаться чересчур боязливым, чем недостаточно предусмотрительным. Но разве найдется такой безумец? Не из числа ли твоих близких? Впрочем, кто принадлежит тебе в большей мере, чем те, кому ты, нежданно-негаданно, возвратил гражданские права? Или из числа тех, кто был вместе с тобой? Едва ли кто-нибудь обезумеет настолько, чтобы для него жизнь его вождя, следуя за которым, он достиг всего, чего желал, не была дороже его собственной. Или же, если твои сторонники ни о каком злодеянии не помышляют, надо принимать меры, чтобы его не задумали недруги? Но кто они? Ведь все те, которые были, либо потеряли жизнь из-за своего упорства[2245], либо сохранили ее благодаря твоему милосердию, так что ни один из недругов не уцелел, а те, которые были, — твои лучшие друзья. (22) Но все же, так как в душе человека есть очень глубокие тайники и очень далекие закоулки, то мы все же готовы усилить твое подозрение; ведь мы одновременно усилим твою бдительность. Ибо кто столь не осведомлен в положении вещей, столь неопытен в делах государства, кто всегда столь беспечно относится и к своему и к общему благополучию, чтобы не понимать, что его собственное благополучие основано на твоем и что от твоей жизни зависит жизнь всех людей? Со своей стороны, дни и ночи думая о тебе, — а это мой долг — я, во всяком случае, страшусь случайностей в жизни человека, сомнительного исхода болезней и хрупкости нашей природы и скорблю из-за того, что в то время как государство должно быть бессмертно, оно держится на дыхании одного смертного[2246]. (23) Но если к случайностям, которым подвержен человек, и к непрочности его здоровья прибавятся преступные сговоры, то можем ли мы поверить, чтобы кто-либо из богов, даже если бы пожелал, смог помочь государству.
(VIII) Тебе одному, Гай Цезарь, приходится восстанавливать все то, что, как ты видишь, пострадало от самой войны и, как это было неизбежно, поражено и повержено: учреждать суд, восстанавливать кредит, обуздывать страсти[2247], заботиться о грядущих поколениях[2248], а все то, что распалось и развалилось, связывать суровыми законами. (24) Во время такой тяжелой гражданской войны, когда так пылали сердца и пылали битвы, не было возможности оградить потрясенное государство от потери многих знаков своего величия и устоев своего строя, каков бы ни был исход войны; и оба военачальника, взявшиеся за оружие, совершили многое такое, чему они, нося тоги[2249], воспрепятствовали бы сами. Теперь тебе приходится залечивать все эти раны войны, врачевать которые, кроме тебя, не может никто.
Марк Юний Брут. Золотой денарий 43 г. (увеличено)
(25) И вот я, хоть и не хотелось мне этого, услыхал знакомые нам твои прекраснейшие и мудрейшие слова: «Я достаточно долго прожил как для законов природы, так и для славы». Достаточно, быть может, для законов природы, если ты так хочешь; добавлю также, если тебе угодно, и для славы, но — и это самое важное — для отчизны, несомненно, мало. Поэтому оставь, прошу тебя, эти мудрые изречения ученых людей о презрении к смерти; не будь мудрецом, так как нам это грозит опасностью. Ибо я не раз слыхал, что ты слишком часто говоришь одно и то же, что ты прожил достаточно [для себя]. Верю тебе, но я был бы готов это слушать, если бы ты жил для себя одного, вернее, только для себя одного родился. Благополучие всех граждан и все государство зависят от твоих деяний; ты настолько далек от завершения своих величайших дел, что еще не заложил и основ того, что задумал[2250]. Неужели ты установишь предел для своей жизни, руководствуясь не благом государства, а скромностью своей души? Что если этого недостаточно даже для славы? А ведь того, что ты жаждешь ее, ты, сколь ты ни мудр, отрицать не станешь. (26) «Разве то, что я оставлю, — спросишь ты, — будет недостаточно великим?» Да нет же, этого хватило бы для многих других, но этого мало для одного тебя. Каковы бы ни были твои деяния, их мало, когда есть что-либо более важное. Но если твои бессмертные деяния, Гай Цезарь, должны были привести к тому, чтобы ты, одержав над противниками полную победу, оставил государство в таком состоянии, в каком оно находится ныне, то, прошу тебя, берегись, как бы внушенная тебе богами доблесть не вызвала только восхищение тобой лично, а подлинной славы тебе не принесла; ведь слава — это блистательная и повсюду распространившаяся молва о великих заслугах перед согражданами, или перед отечеством, или перед всеми людьми.
(IX, 27) Итак, вот что выпало тебе на долю, вот какое деяние тебе остается совершить, вот над чем тебе надо потрудиться: установить государственный строй и самому наслаждаться им в условиях величайшей тишины и мира. Вот когда ты выплатишь отчизне то, что ты ей должен, и удовлетворишь законам самой природы, пресытившись жизнью, тогда и говори, что ты прожил достаточно долго. Что вообще означает это «долго», заключающее в себе представление о каком-то конце? Когда он наступает, то всякое испытанное наслаждение уже лишено ценности, так как впоследствии уже не будет никакого[2251]. Впрочем, твоя душа никогда не удовлетворялась теми тесными пределами, которыми природа ограничила нашу жизнь; душа твоя всегда горела любовью к бессмертию. (28) И твоей жизнью поистине надо считать не эту вот, связанную с телом и дыханием; твоя жизнь — эта та, повторяю, та, которая останется свежей в памяти всех грядущих поколений, которую будут хранить потомки и сама вечность всегда будет оберегать. Той жизни ты и должен служить, перед ней ты и должен себя проявить; она видит уже давно много изумительного; теперь она ожидает и того, что достойно славы.
Потомки наши, несомненно, будут поражены, слыша и читая о тебе как о полководце и наместнике, о Рейне, об Океане, о Ниле, о сражениях бесчисленных, о невероятных победах, о памятниках, об играх для народа, о твоих триумфах. (29) Но если этот город не будет укреплен твоими решениями и установлениями, то твое имя будет только блуждать по всему миру, но постоянного обиталища и определенного жилища у него не будет. Также и среди будущих поколений возникнут большие разногласия (как это было и среди нас): одни будут превозносить твои деяния до небес, другие, пожалуй, найдут в них что-либо достойное порицания и особенно в том случае, если ты на благо отчизне не потушишь пожара гражданской войны; если же ты сделаешь это, то первое будут объяснять велением рока, а второе — приписывать твоей мудрости. Поэтому трудись для тех судей, которые будут судить о тебе через много веков и, пожалуй, менее лицеприятно, чем мы; ибо они будут судить и без любви, и без пристрастия, и без ненависти и зависти. (30) Но даже если это для тебя тогда уже не будет иметь значения, как некоторые [ложно] думают, то ныне для тебя, несомненно, важно быть таким, чтобы твою славу никогда не могло омрачить забвение.
(X) Различны были желания граждан, расходились их взгляды; наши разногласия выражались не только в образе мыслей и в стремлениях, но и в вооруженных столкновениях и походах; царил какой-то мрак, происходила борьба между прославленными полководцами. Многие не знали, чье дело правое; многие не знали, что́ им полезно, многие — что́ им подобало; некоторые — даже что́ было дозволено. (31) Государство пережило эту злосчастную и роковую войну; победил тот, кто был склонен не разжигать свою ненависть своей удачей, а смягчать ее своим милосердием, тот, кто не был склонен признать достойными изгнания или смерти всех тех, на кого был разгневан. Одни свое оружие сложили[2252], у других его вырвали из рук. Неблагодарен и несправедлив гражданин, который, избавившись от угрозы оружия, сам остается в душе вооруженным, так что даже более честен тот, кто пал в бою, кто отдал жизнь за свое дело. Ибо то, что кое-кому может показаться упорством, другим может показаться непоколебимостью. (32) Но ныне все раздоры сломлены оружием и устранены справедливостью победителя; остается, чтобы все те, кто обладает какой-то долей, не говорю уже — мудрости, но даже здравого смысла, были единодушны в своих желаниях. Мы можем быть невредимы только в том случае, если ты, Гай Цезарь, будешь невредим и верен тем взглядам, которых ты держался ранее и — что особенно важно — держишься ныне. Поэтому все мы, желающие безопасности нашей державы, убеждаем и заклинаем тебя заботиться о своей жизни и благополучии, все мы (скажу также и за других то, что чувствую сам) обещаем тебе — коль скоро ты думаешь, что следует чего-то опасаться, — не только быть твоей стражей и охраной, но также и заслонить тебя своей грудью и своим телом.
Марк Антоний. Золотой денарий 36—32 гг. (увеличено)
(XI, 33) Но — дабы моя речь закончилась тем же, с чего она началась, — все мы выражаем тебе, Гай Цезарь, величайшую благодарность и храним в своих сердцах еще бо́льшую. Ведь все чувствуют то же, что мог почувствовать и ты, слыша мольбы и видя слезы всех присутствующих. Но так как нет необходимости, чтобы каждый встал и высказался, то все они, несомненно, хотят, чтобы это сказал я; для меня же это в некоторой степени необходимо; ибо то, что мы должны чувствовать после того, как Марк Марцелл тобой возвращен нашему сословию, римскому народу и государству, то, как я понимаю, мы и чувствуем. Ибо я чувствую, что все радуются не спасению одного человека, а нашему общему спасению.
(34) Мое расположение к Марку Марцеллу всегда было известно всем людям, я уступал в нем разве только Гаю Марцеллу, его лучшему и преданнейшему брату, а кроме него, конечно, никому; оно проявлялось в моем беспокойстве, заботе, тревоге в течение всего того времени, пока мы не знали, будет ли Марк Марцелл восстановлен в правах. В настоящее время я, избавленный от великих забот, тягот и огорчений, несомненно, должен заявить о нем. Поэтому я, воздавая тебе благодарность, Гай Цезарь, говорю: после того, как ты не только сохранил мне жизнь, но и возвеличил меня, ты — я считал это уже невозможным — неисчислимые милости, оказанные мне тобой, своим последним поступком великолепно увенчал.
24. Речь в защиту Квинта Лигария [На форуме, начало сентября 46 г. до н. э.]
Римский всадник Квинт Лигарий в 50 г. выехал в провинцию Африку как легат пропретора Гая Консидия Лонга, а после отъезда пропретора управлял провинцией, где его и застала гражданская война. Когда помпеянец Публий Аттий Вар, покинув Италию, захватил власть в Африке, Лигарий объединился с ним в борьбе против Цезаря. Когда Луций Элий Туберон, посланный в Африку сенатом как наместник, прибыл туда, то Лигарий не позволил сойти с корабля ни ему, ни его больному сыну, после чего Тубероны направились в Грецию, в лагерь Помпея, где оставались до битвы под Фарсалом. После победы Цезаря они покорились ему, были прощены и возвратились в Рим.
После разгрома помпеянцев в Африке Цезарь пощадил Квинта Лигария, но не позволил ему возвратиться в Рим. Лигарий остался в Африке на положении изгнанника. По возвращении Цезаря в Рим братья и друзья Лигария стали ходатайствовать за него перед диктатором, вначале безуспешно, но впоследствии Цезарь подал им некоторую надежду на прощение изгнанника. В это время Туберон-сын возбудил против Лигария обвинение в государственной измене. Так как Лигарий был в изгнании, то его едва ли можно было подвергнуть каре, предусмотренной за это преступление, т. е. смертной казни. Повод для обвинения был выбран неудачно, так как сам обвинитель, как и его отец, также был на стороне Помпея. Туберон мог обвинить Лигария лишь в сотрудничестве с царем Юбой, который вел себя в Африке не как союзник, а как повелитель: казнил римских пленников, чеканил от своего имени римскую монету и претендовал на передачу ему провинции Африки.
Дело о государственной измене должны были рассматривать центуриатские комиции или же quaestio perpetua de maiestate, но Цезарь как диктатор принял жалобу, хотя по римским законам заочный суд не допускался. В этом процессе Цезарь был и судьей, и стороной.
Цицерон был единственным защитником Лигария. Его речь, произнесенная им в начале сентября 46 г. перед Цезарем на форуме, является так называемой deprecatio: защитник, не имея возможности говорить о невиновности подсудимого, приводит смягчающие обстоятельства и просит о прощении. Лигарий был прощен Цезарем и возвратился в Рим. 15 марта 44 г. он оказался в числе убийц Цезаря. Погиб он в 43 г. во время проскрипций. Литературный успех речи в защиту Лигария был весьма значительным.
См письма Fam., VI, 13 (CCCCLXXIX); 14 (CCCCXC); Att, XIII, 12, 2 (DCXXXI); 19, 2 (DCXXXVI); 20, 2 (DCXXXIX); Q. fr., I, 1, 10 (XXX).
(I, 1) Необычное обвинение, неслыханное доныне, возбудил перед тобой, Гай Цезарь, мой родственник Квинт Туберон[2253]; Квинт Лигарий обвинен в том, что был в Африке, а Гай Панса[2254], муж выдающегося ума, полагаясь, быть может, на тесную дружбу с тобой, отважился это признать. И что мне теперь делать, не знаю. Ведь я пришел сюда подготовленным, чтобы, пользуясь тем, что ты и сам о деле этом не знаешь и от других услыхать о нем не мог, злоупотребить твоей неосведомленностью и спасти этого несчастного. Но раз усердием недруга расследовано то, что было тайной, то надо, мне думается, признаться (тем более, что Панса, близкий мне человек, заговорил об этом) и, отказавшись от спора, во всей своей речи взывать к твоему состраданию, которое уже сохранило жизнь многим, добившимся от тебя, не скажу — прощения их вины, но снисхождения к их заблуждению. (2) Итак, Туберон, перед тобой подсудимый, который сознается, — а это самое желательное для обвинителя — но сознается в одном: он был на той стороне, на которой был и ты, на которой был и муж, достойный всяческих похвал, — твой отец. Поэтому придется и вам самим сознаться в своем преступлении, прежде чем ставить что-либо в вину Лигарию.
Ведь Квинт Лигарий, когда еще никто и не помышлял о войне[2255], выехал в Африку как легат Гая Консидия; во время этого легатства он снискал такое расположение и граждан, и союзников, что Консидий, покидая провинцию, не мог бы, не вызвав недовольства среди ее населения, поручить провинцию кому-либо другому. Поэтому Лигарий, после того как долго, но тщетно отказывался, принял провинцию против своего желания. Он ведал ею в мирное время, причем и граждане и союзники высоко оценили его неподкупность и честность.
(3) Война вспыхнула внезапно, так что те, кто находился в Африке, раньше узнали, что она идет, чем услыхали, что она готовится. Услыхав о ней, одни, охваченные необдуманной страстью, другие, так сказать, ослепленные страхом, стали искать вождя, который взялся бы сначала охранить их, а впоследствии направлять их рвение. Но Лигарий, стремясь на родину, желая возвратиться к своим близким, отказался взять на себя какие бы то ни было обязанности. Тем временем Публий Аттий Вар[2256], который ранее был претором в Африке, прибыл в Утику. Люди тотчас же стали стекаться к нему, а он, движимый немалым честолюбием, присвоил себе империй[2257], если империем могло быть то, что предоставил частному лицу крик толпы невежественных людей без какого-либо официального постановления. Поэтому Лигарий, избегавший каких бы то ни было обязанностей такого рода, с приездом Вара несколько успокоился.
(II, 4) Пока еще, Гай Цезарь, Квинт Лигарий не виноват ни в чем. Из Рима он выехал, не говорю уже — не на войну, но даже тогда, когда ни малейшей угрозы войны не было; отправившись в качестве легата в Африку в мирное время, он держал себя в миролюбивейшей провинции так, что для нее было выгодно сохранять мир. Его отъезд из Рима, несомненно, не может вызывать у тебя недовольства. Неужели, в таком случае, его пребывание в провинции? Тем менее; ибо его отъезд не был следствием этого умысла; его пребывание там было вызвано необходимостью, даже достойной уважения[2258]. Итак, эти два обстоятельства не дают повода для обвинения: ни то, что он выехал в качестве легата, ни то, что он по требованию провинции был поставлен во главе Африки. (5) Третье обстоятельство — что он остался в Африке после приезда Вара — если и является преступлением, то преступлением в силу необходимости, а не преднамеренным. Да разве он, если бы только мог каким-либо образом оттуда вырваться, предпочел бы находиться в Утике, а не в Риме, быть вместе с Публием Аттием, а не с любимыми братьями, среди чужих людей, а не среди родных? После того как само легатство принесло ему одну лишь тоску и тревогу вследствие его чрезвычайной привязанности к братьям, мог ли он при этих обстоятельствах быть спокоен, разлученный с ними гражданской войной?
(6) Итак, во враждебном отношении к тебе, Цезарь, ты Квинта Лигария пока еще уличить не можешь. Прошу тебя обратить внимание на честность, с какой я его защищаю; я предаю себя самого. О, необычайное милосердие, достойное прославления всеобщей хвалой, высказываниями, сочинениями и памятниками! Марк Цицерон перед твоим лицом защищает другого человека, говоря, что у этого человека не было тех намерений, какие, по признанию Цицерона, были у него самого. Твоих сокровенных мыслей он не боится; того, что может прийти тебе на ум насчет него самого, когда ты слушаешь его речь о другом человеке, не страшится. (III) Суди сам, сколь мало я страшусь; суди сам, сколь яркий свет твоего великодушия и мудрости озаряет меня, когда я выступаю перед тобой; я возвышу свой голос, насколько смогу, дабы это услыхал римский народ. (7) Когда война вспыхнула, Цезарь, и когда она уже некоторое время велась[2259], я без какого-либо принуждения, сознательно и добровольно выехал к вооруженным силам, двинутым против тебя. И перед чьим лицом я это говорю? Да перед тем, кто, зная это, все же еще до того, как увиделся со мной, возвратил меня государству; кто написал мне из Египта[2260], чтобы я оставался тем же, кем был ранее; кто, сам будучи единственным императором во всей державе римского народа, согласился на то, чтобы я был вторым[2261]; благодаря кому я, получив от присутствующего здесь самого Гая Пансы это распоряжение, сохранял предоставленные мне увитые лавром ликторские связки, доколе считал нужным их сохранять; кто решил даровать мне спасение не иначе, как сохранив за мной знаки моего достоинства. (8) Прошу тебя, Туберон, обрати внимание на то, как смело я, без колебаний говоря о своем собственном поведении, буду говорить о поведении Лигария. Впрочем, я сказал это о себе для того, чтобы Туберон простил мне, когда я скажу то же самое о нем; ведь я ценю его прославленное рвение как ввиду нашего близкого родства, так и оттого, что я в восторге от его природных дарований и усердных занятий, пожалуй, и оттого, что успех моего молодого родственника, по моему мнению, пойдет в какой-то мере на пользу и мне. (9) Но я хочу знать одно: кто считает пребывание Лигария в Африке преступлением? Да тот, кто и сам хотел быть в той же провинции и кто жалуется на то, что Лигарий его туда не допустил; во всяком случае, тот, кто против самого Цезаря пошел с оружием в руках. Скажи, что делал твой обнаженный меч, Туберон, в сражении под Фарсалом? Чью грудь стремилось пронзить его острие? С какими намерениями брался ты за оружие? На что были направлены твой ум, глаза, руки, твое рвение? Чего ты жаждал, чего желал? Впрочем, мой натиск слишком силен; юноша, кажется, в смятении. Возвращусь к вопросу о себе: я был на той же стороне.
(IV, 10) Скажи, к чему другому стремились мы, Туберон, как не к тому, чтобы самим обладать властью, какой ныне обладает Цезарь. Так неужели же те самые люди, чья безнаказанность служит лучшим доказательством твоего милосердия, Цезарь, смогут речами своими пробудить в тебе жестокость? К тому же я вижу, Туберон, что ни ты, ни тем более твой отец, при его выдающемся уме и образовании[2262], в этом деле предусмотрительности не проявили, ибо в противном случае он, конечно, предпочел бы, чтобы ты вел это дело любым способом, но только не этим[2263].
Ты изобличаешь человека, признающего свою вину; мало того, ты обвиняешь человека либо, как заявляю я, менее виновного, чем ты сам, либо, как утверждаешь ты, виновного в такой же мере, как и ты. (11) Уже это достаточно странно, но то, что я скажу далее, чудовищно. Твое обвинение может повлечь за собой не осуждение Квинта Лигария, а его казнь. До тебя ни один римский гражданин не поступал так; это чуждые нам нравы вероломных греков или жестоких варваров, которых ненависть обычно побуждает проливать кровь. Ибо какую иную цель ты ставишь себе? Чтобы Лигарий не находился в Риме? Чтобы он был лишен родины? Чтобы он жил вдали от любящих братьев, вдали от присутствующего здесь Тита Брокха, своего дяди, вдали от его сына, своего двоюродного брата, вдали от нас, вдали от отечества? А разве он теперь в своем отечестве, разве он может быть лишен всего этого в большей степени, чем ныне? В Италию его не пускают; он в изгнании. Значит, не отечества, которого он и без того лишен, хочешь ты его лишить, а жизни. (12) Но добиться подобной кары и таким способом не удалось никому даже от того диктатора, который карал смертью всех, кого ненавидел[2264]. Распоряжения о казнях он давал сам, без чьего бы то ни было требования сулил награды за это; но прошло несколько лет — и за эту жестокость покарал тот самый человек, которого ты теперь хочешь побудить быть жестоким[2265].
(V) «Нет, я вовсе не требую этого», — скажешь ты. Именно так, клянусь Геркулесом, я и думаю, Туберон! Ведь я знаю тебя, знаю твоего отца, знаю вашу семью и род[2266]; стремления вашего рода и вашей семьи к доблести, к просвещению, к знаниям, ко многим и притом самым высоким наукам мне известны. (13) Поэтому я и уверен, что вы не жаждете крови. Но вы поступаете необдуманно: вы затеяли это дело потому, что вы, как видно, недовольны тем наказанием, какое Квинт Лигарий несет и поныне. Существует ли какое-нибудь другое, более сильное наказание, кроме смерти? Ведь если он уже в изгнании, — а это действительно так — то чего вам еще? Чтобы он не был прощен? Но это поистине слишком уже бессердечно. Неужели ты будешь сражаться за то, чтобы мы, распростертые у ног Цезаря и уверенные не столько в своей правоте, сколько в его человечности, не добились от него того, о чем мы его молим в слезах? Неужели ты нападешь на нас, плачущих, и запретишь нам, лежащим у ног Цезаря, его умолять? (14) Если бы в то время, когда мы в доме у Цезаря[2267] обратились к нему с просьбой (что мы действительно сделали и, надеюсь, сделали не напрасно), ты неожиданно ворвался и стал кричать: «Гай Цезарь! Остерегись прощать, остерегись жалеть братьев, заклинающих тебя о помиловании их брата!» — разве это не было бы бесчеловечным поступком? Насколько же более жестоко то, что ты делаешь сейчас: то, о чем мы просили Цезаря у него в доме, ты подвергаешь нападкам на форуме и стольким несчастным людям запрещаешь прибегать к его состраданию. (15) Скажу напрямик, что́ думаю: если бы ты, Цезарь, при своей столь счастливой судьбе, не отличался такой великой душевной мягкостью, какую проявляешь ты один, повторяю, ты один, — я знаю, что́ говорю[2268], — тяжелейшее горе принесла бы нам твоя победа. В самом деле, как многочисленны были бы среди победителей люди, которые хотели бы, чтобы ты был жесток, когда такие люди находятся даже среди побежденных! Как много было бы людей, желающих, чтобы ты не прощал никого, и готовых не давать тебе быть милосердным, если даже эти вот, которых ты простил, не хотят, чтобы ты был сострадателен к другим!
(16) Если бы мы могли доказать Цезарю, что Лигария в Африке вообще не было, если бы мы хотели посредством заслуживающей уважения и сострадательной лжи спасти несчастного гражданина, все же человеку не подобало бы, при столь угрожаемом и опасном положении гражданина, опровергать и разоблачать нашу ложь, а если бы это кому-нибудь и подобало, то, во всяком случае, не тому, кто находился на той же стороне и испытал ту же участь. Но все-таки одно дело — не желать, чтобы Цезарь заблуждался, другое — не желать, чтобы он проявлял сострадание. Тогда ты сказал бы: «Цезарь! Не вздумай ему верить: он был в Африке, взялся за оружие против тебя». А теперь что ты говоришь? «Не вздумай его прощать!» Так человек с человеком не говорит. Тот, кто станет говорить с тобой так, Гай Цезарь, сам откажется от человеческих чувств скорее, чем вырвет их из твоего сердца.
(VI, 17) Первым шагом Туберона в начатом им судебном преследовании[2269] было, если не ошибаюсь, его заявление, что он хочет говорить о «преступлении» Квинта Лигария. Ты, не сомневаюсь, был удивлен тем, что он хочет говорить именно о нем, а не о ком-либо другом, и тем, что хочет говорить человек, бывший на той же стороне, что и Лигарий; наконец, ты, без сомнения, не мог понять, о каком же новом преступлении он хочет сообщить. Ты говоришь о преступлении, Туберон? Почему? Ведь доныне это название не применялось к делу той стороны. Одни называют это заблуждением[2270], другие — последствием страха; те, кто выражается более резко, — расчетом, жадностью, ненавистью, упорством; те, кто выражается наиболее строго, — безрассудством; но преступлением никто, кроме тебя, доныне этого не называл. А мне лично, — если меня спросят о подходящем и истинном названии нашего несчастья, — кажется, что разразилось какое-то ниспосланное роком бедствие, овладевшее недальновидными умами, так что никто не должен удивляться тому, что человеческие помыслы были побеждены неизбежностью, ниспосланной богами. (18) Да будет нам позволено быть несчастными. Впрочем, при таком победителе, как Цезарь, быть несчастными мы не можем; но я говорю не о нас; о павших я говорю; допустим, они были честолюбивы, озлоблены, упорны; но обвинение в преступлении, в безумии, в братоубийстве[2271] да минует Гнея Помпея после его смерти, как и многих других. Когда и кто слыхал это от тебя, Цезарь? Было ли у тебя, когда ты вел войну, какое-нибудь иное стремление, кроме стремления отразить бесчестие? Чего добивалось твое непобедимое войско, как не защиты своего права и твоего достоинства? А когда ты жаждал заключить мир[2272], то для чего ты это делал: чтобы прийти к соглашению с преступниками или же с честными гражданами?
(19) А мне лично, Гай Цезарь, величайшие милости, которые ты оказал мне, конечно, не представлялись бы столь значительными, если бы я думал, что ты сохранил мне жизнь, считая меня преступником. И разве можно было бы признать твоей заслугой перед государством, если бы по твоей воле столько преступников сохранило свое высокое положение неприкосновенным? Вначале, Цезарь, ты признал это расколом[2273], а не войной, не взаимной ненавистью между врагами, а распрей между гражданами, причем обе стороны желали благополучия государства, но — в своих намерениях и стремлениях — упускали из виду общее благо. Высокое положение руководителей было почти одинаковым; неодинаковым, пожалуй, было высокое положение тех, кто за ними следовал[2274]. Само дело тогда было неясным, так как и у той, и у другой стороны было нечто, заслуживавшее одобрения; теперь же лучшей следует признать ту сторону, которой даже сами боги оказали помощь. Но кто, уже оценив твое милосердие, не одобрит той победы, при которой пали только те, кто взялся за оружие?[2275]
(VII, 20) Но оставим эти общие рассуждения и перейдем к нашему делу. Что же, наконец, по твоему мнению, было более легкой задачей, Туберон: Лигарию ли Африку покинуть или же вам в Африку не приезжать? «Могли ли мы поступить иначе, — скажешь ты, — когда сенат так постановил?» Если ты спрашиваешь меня, то никак не могли. Но ведь Лигария тот же сенат назначил легатом. При этом Лигарий повиновался сенату в то время, когда повиноваться ему было обязательно, а вы повиновались ему тогда, когда ему не повиновался никто, если не хотел этого сам. Значит, я порицаю вас? Отнюдь нет; ведь поступить иначе вам и нельзя было, так как к этому вас обязывали происхождение, имя, род, воспитание. Но я не могу позволить вам одного: за то самое, что вы себе ставите в заслугу, порицать других.
(21) Назначение Туберона было определено по жребию на основании постановления сената, когда сам Туберон не присутствовал, более того, когда болезнь приковала его к постели; он решил сослаться на болезнь. Я знаю это благодаря многочисленным дружеским связям, существующим между мной и Луцием Тубероном: в Риме мы вместе получали образование; на военной службе были товарищами[2276]; впоследствии были в свойстве; в течение всей жизни были близкими друзьями; нас сильно связывали и общие интересы. Я знаю, что Туберон хотел остаться в Риме, но был человек[2277], который так настаивал, так заклинал его священнейшим именем государства, что Туберон, придерживаясь даже иного мнения, все же не мог не уступить столь веским доводам. Он склонился перед авторитетом знаменитого мужа, вернее, подчинился ему. (22) Он отправился вместе с людьми, оказавшимися в таком же положении. Ехал он довольно медленно, поэтому прибыл в Африку уже после того, как она была захвачена. Вот откуда возникает обвинение, вернее, враждебность, против Лигария. Ибо если намерение может считаться преступлением, то, коль скоро вы намеревались занять Африку — оплот всех провинций, созданный для ведения войны против нашего города, — вы повинны в преступлении не менее тяжком, чем преступление того, кто предпочел сам ее занять. Однако и этим человеком был не Лигарий; ведь Вар утверждал, что империем облечен именно он; ликторскими связками во всяком случае располагал он. (23) Но как бы там ни было, что означает ваша жалоба, Туберон: «Нас не впустили в провинцию»? А если бы вас впустили? Каковы были ваши намерения: Цезарю ее передать или же против Цезаря ее оборонять?
(VIII) Вот сколько смелости, даже дерзости придает мне твое великодушие, Цезарь. Если Туберон ответит, что его отец был готов передать тебе Африку, куда сенат послал его на основании жеребьевки, то я в твоем присутствии — хотя для тебя и было важно, чтобы он так поступил, — в самых суровых выражениях выражу ему порицание за его решение; ибо, даже если бы этот поступок был тебе полезен, он все же не заслужил бы твоего одобрения. (24) Но теперь все это я опускаю; не стану утруждать твой долготерпеливый слух дольше, чем потребуется, чтобы не казалось, что Туберон действительно намеревался сделать то, о чем он никогда и не помышлял.
Но вот вы прибыли в Африку, из всех провинций самую враждебную победе Цезаря, где был могущественнейший царь[2278], недруг этой воевавшей стороне, где был враждебно настроенный, сплоченный и многочисленный конвент[2279]. Я спрашиваю: как вы намеревались поступить? Впрочем, стоит ли мне сомневаться в том, как вы намеревались поступить, когда я вижу, как вы поступили? В вашей провинции вас даже на порог не пустили и притом самым оскорбительным для вас образом. (25) Как вы перенесли это? Кому пожаловались на нанесенное вам оскорбление? Разумеется, тому человеку, чьей воле повинуясь, вы и приняли участие в войне. И если вы действительно прибыли в провинцию ради Цезаря, то вы, не будучи допущены в нее, конечно, явились бы именно к нему. Однако явились вы к Помпею. Чего же сто́ит жалоба, заявленная вами Цезарю, когда вы обвиняете того человека, который, как вы жалуетесь, не дал вам вести войну против Цезаря? Именно ввиду этого, если хотите, пожалуй, похваляйтесь, хотя бы и в ущерб правде, своим намерением передать провинцию Цезарю. Даже если вас в нее не пустил Вар и другие, я все же призна́ю, что в этом виноват Лигарий, не давший вам стяжать такую большую славу.
(IX, 26) Но обрати внимание, прошу тебя, Цезарь, на настойчивость виднейшего мужа, Луция Туберона. Я сам, полностью ее не одобряя, все же не стал бы о ней упоминать, если бы не понял, что эту доблесть ты склонен особенно хвалить. Итак, обладал ли кто-нибудь когда бы то ни было такой большой настойчивостью? Настойчивостью, говорю я? Пожалуй, я мог бы сказать — долготерпением. В самом деле, сколько нашлось бы людей, способных вернуться на ту самую сторону, которая не приняла их во время гражданской распри, более того — с жестокостью отвергла? Это свойственно, так сказать, величию духа и притом величию духа такого мужа, которого не могут оттолкнуть от взятого им на себя дела и от принятого им решения ни оскорбление, ни насилие, ни опасность. (27) Допустим, что другие качества — почет, знатность, блистательность, ум — были у Туберона и у Вара одинаковыми (это было далеко не так); несомненным преимуществом Туберона было то, что он, облеченный законным империем в силу постановления сената[2280], прибыл в провинцию, назначенную ему. Не будучи в нее допущен, он явился не к Цезарю, чтобы не показаться обиженным, не в Рим, чтобы не показаться безучастным, не в какую-либо другую страну, чтобы не показалось, что он осуждает дело тех, за кем последовал; в Македонию прибыл он, в лагерь Помпея, к той самой воюющей стороне, которая его отвергла самым оскорбительным образом.
(28) И что же потом? После того, как все это ничуть не тронуло того, к кому вы прибыли, ваше рвение к его делу, пожалуй, несколько ослабело; вы только находились в рядах его войск, но в душе отвернулись от его дела. Или, как бывает во время гражданских войн, [стремление к миру] было у вас не бо́льшим, чем у остальных? Ведь все мы были охвачены стремлением победить. Я, действительно, всегда желал мира, но было уже поздно: было бы безумием перед лицом выстроенных войск помышлять о мире. Все мы, повторяю, хотели победить; ты, несомненно, особенно желал этого, так как оказался в таком положении, что должен был бы погибнуть, если бы не победил. Впрочем, при нынешнем положении вещей ты, не сомневаюсь, предпочитаешь быть спасенным на этой стороне, а не победителем на той.
(X, 29) Я не стал бы говорить это, Туберон, если бы вы раскаивались в своем упорстве или же Цезарь — в милости, которую он вам оказал. Теперь же я спрашиваю, за что вы преследуете Лигария: за обиды, нанесенные вам лично, или за его преступление перед государством? Если за преступление перед государством, то как вы оправдаете свое собственное упорство в верности той стороне? Если же за обиды, нанесенные вам, то как бы вам не ошибиться, думая, что Цезарь будет разгневан на ваших недругов, когда он простил своих собственных.
Как ты думаешь, Цезарь, разве дело Лигария я веду? Разве о его поступке я говорю? Мое желание, чтобы все то, что я сказал, было обращено к одному: к твоей человечности, к твоему милосердию, к твоему мягкосердечию.
(30) Немало дел вел я, Цезарь, бывало, и вместе с тобой, пока тебя удерживало на форуме стремление к почетным должностям, но я, во всяком случае, не говорил: «Простите его, судьи, он сделал ошибку, он оступился, он не думал…; если он когда-либо впредь…» К отцу обычно так обращаются; судьям же говорят: «Он этого не совершал, он этого не замышлял; свидетели лгут, обвинение выдумано». Скажи, что ты, Цезарь, являешься судьей поведению Лигария; к какому войску он принадлежал, спроси его. Я молчу; не привожу и тех доказательств, какие, пожалуй, подействовали бы даже на судью: «Как легат он выехал в Африку еще до начала войны; был задержан в ней еще во времена мира; там был застигнут войной; во время войны он не был жесток; помыслами и стремлениями он всецело твой». С судьей говорят так, но я обращаюсь к отцу: «Я ошибся, я поступил опрометчиво, я в этом раскаиваюсь, прибегаю к твоему милосердию, прошу о снисхождении к моему проступку, молю о прощении». Если никто этого не добился, то я поступаю дерзко; если же — многие, то помоги ты, надежду подавший! (31) Неужели нет надежд на прощение Лигария, если возможность ходатайствовать перед тобой даже за другого дана мне? Впрочем, надежда на решение этого дела не связана ни с моей речью, ни со стараниями тех, которые просят тебя за Лигария, будучи твоими друзьями[2281].
(XI) Ибо я видел и хорошо понял, на что именно ты больше всего обращаешь внимание, когда перед тобой о чьем-либо восстановлении в правах хлопочут многие: доводы просителей имеют в твоих глазах больше значения, чем они сами, ты принимаешь во внимание не столько близость просителя с тобой, сколько его близость с тем, за кого он хлопочет. И вот ты сам делаешь своим друзьям такие большие уступки, что люди, пользующиеся твоим великодушием, иногда кажутся мне более счастливыми, чем ты сам, дарующий им столь многое. Но я все же вижу, что в твоих глазах, как я уже говорил, доводы имеют большее значение, чем мольбы, и что тебя трогают сильнее всего просьбы тех, чья скорбь кажется тебе наиболее оправданной.
(32) Спасением Квинта Лигария ты поистине обрадуешь многих своих близких, но — как ты обычно и поступаешь — прими во внимание, прошу тебя, и следующее: я могу привести к тебе сабинян, храбрейших мужей, пользующихся твоим особенным уважением, и сослаться на всю Сабинскую область[2282], цвет Италии и опору государства; этих честнейших людей ты знаешь; обрати внимание на их печаль и скорбь; здесь присутствует Тит Брокх; твое суждение о нем сомнений у меня не вызывает; слезы и траур[2283] его и его сына ты видишь. (33) Что сказать мне о братьях Квинта Лигария? Не думай, Цезарь, что я говорю о гражданских правах одного человека; ты должен либо троих Лигариев сохранить в государстве, либо всех троих из пределов государства удалить. Если Квинт Лигарий находится в изгнании, то и для остальных любое место изгнания более желанно, чем отечество, чем дом, чем боги-пенаты[2284]. Если они поступают по-братски, если они проявляют преданность, испытывают скорбь, то пусть тебя тронут их слезы, их преданность, их братская любовь. Пусть возымеют силу твои памятные нам слова, которые одержали победу. Ведь ты, как нам сообщали, говорил, что мы считаем своими противниками всех тех, кто не с нами, а ты всех тех, кто не против тебя, считаешь своими сторонниками[2285]. Разве ты не видишь этих вот блистательных людей, эту вот семью Брокхов, этого вот Луция Марция, Гая Цесеция, Луция Корфидия[2286], всех этих вот римских всадников, присутствующих здесь в траурных одеждах, мужей, тебе не только известных, но и уважаемых тобой? А ведь мы на них негодовали, мы ставили им в вину их отсутствие, некоторые им даже угрожали. Так спаси же ради своих друзей их друзей, дабы эти твои слова, как и другие, сказанные тобой, оказались правдивейшими.
(XII, 34) Но если бы ты мог вполне оценить согласие, существующее между Лигариями, то ты признал бы, что все три брата были на твоей стороне. Может ли кто-нибудь сомневаться в том, что Квинт Лигарий, если бы он мог быть в Италии, разделил бы взгляды своих братьев? Кто не знает их полного согласия, их, можно сказать, тесной спаянности в этом, я сказал бы, братском единении, кто не чувствует, что эти братья ни при каких обстоятельствах не способны следовать разным взглядам и избирать для себя разную судьбу? Итак, помыслами своими они всегда были вместе с тобой; буря унесла одного из них. Даже если бы он сделал это преднамеренно, то и тогда он уподобился бы тем, которых ты все же пожелал видеть невредимыми.
(35) Но допустим, что он отправился на войну, разошелся во взглядах не только с тобой, но и со своими братьями; однако тебя именно они, твои сторонники, умоляют. Я же, принимавший участие во всей твоей деятельности, не забыл, как Тит Лигарий, будучи городским квестором, держал себя по отношению к тебе и твоему высокому положению[2287]. Но того, что об этом помню я, недостаточно: надеюсь, что и ты, склонный забывать одни только обиды, — как это свойственно твоему духу, твоему уму! — что ты, вспоминая о некоторых других квесторах, мысленно возвращаешься к квестуре Тита Лигария. (36) Присутствующий здесь Тит Лигарий, который в ту пору не стремился ни к чему иному, кроме того, чтобы ты признал его преданным тебе человеком и честным мужем, — ведь нынешнего положения вещей он не предвидел — теперь умоляет тебя о спасении его брата. Если, памятуя о его преданности, ты снизойдешь к просьбе двоих Лигариев, присутствующих здесь, то ты возвратишь всех троих честнейших и неподкупнейших братьев не только им самим и не только этим вот столь многочисленным и столь достойным мужам и не только нам, твоим близким, но также и государству.
(37) Итак, решение, которое ты недавно вынес в Курии о знатнейшем и прославленном человеке[2288], теперь вынеси на форуме об этих честнейших братьях, весьма уважаемых всеми этими столь многочисленными людьми. Как ты насчет того человека сделал уступку сенату, так даруй этого человека народу, чью волю ты всегда ставил превыше всего, и если тот день принес тебе величайшую славу, а римскому народу — величайшую радость, то — заклинаю тебя, Гай Цезарь! — без всяких колебаний возможно чаще старайся снискать хвалу, равную той славе. Нет ничего более угодного народу, чем доброта, а из множества твоих доблестей наибольшее восхищение и наибольшую признательность вызывает твое мягкосердечие. (38) Ведь люди более всего приближаются к богам именно тогда, когда даруют людям спасение. Самое великое в твоей судьбе то, что ты можешь спасти возможно большее число людей, а самое лучшее в твоем характере то, что ты этого хочешь.
Более длинной речи, быть может, требовало бы само дело; но для тебя, при твоих душевных качествах, несомненно, достаточно и более краткой. Поэтому, считая более полезным, чтобы ты побеседовал с самим собой, чем чтобы я или кто-нибудь другой с тобой говорил, я теперь и закончу свою речь. Напомню тебе об одном: если ты даруешь спасение отсутствующему Квинту Лигарию, то ты тем самым даруешь его этим людям, здесь присутствующим.
25. Первая филиппика против Марка Антония [В сенате, 2 сентября 44 г. до н. э.]
Филиппиками называли в древности речи, произнесенные в IV в. Демосфеном против македонского царя Филиппа II. Филиппиками, по-видимому, сам Цицерон назвал свои речи против Марка Антония. До нас дошло 14 филиппик и фрагменты еще двух таких речей. В нашем издании помещены филиппики I, II и XIV (последняя из дошедших до нас речей Цицерона).
После убийства Цезаря (15 марта 44 г.) сенаторы в ужасе разбежались; убийство не нашло одобрения у народа, на которое заговорщики рассчитывали. Консул Марк Антоний заперся у себя дома; заговорщики собрались в Капитолии. 16 марта они вступили в переговоры с Антонием, а на 17 марта было назначено собрание сената в храме Земли. В ночь на 17 марта Антоний захватил и перенес к себе в дом личные денежные средства и архив Цезаря. 17 марта в храме Земли, окруженном ветеранами Цезаря, собрался сенат под председательством Антония. Было решено оставить в силе все распоряжения Цезаря, но убийц его не преследовать. Следуя примерам из истории Греции, Цицерон предложил объявить амнистию. Ветеранам Цезаря посулили выполнить все обещания, данные им диктатором. Было решено огласить завещание Цезаря и устроить ему государственные похороны. 18 марта было оглашено завещание, в котором Цезарь объявлял своим наследником Гая Октавия, своего внучатного племянника, завещал народу свои сады за Тибром, а каждому римскому гражданину — по 300 сестерциев. Между 18 и 24 марта были устроены похороны; толпа, возбужденная речью Марка Антония, завладела телом Цезаря и, хотя сожжение должно было быть совершено на Марсовом поле, сожгла его на форуме, на наспех устроенном костре. Затем толпа осадила дома заговорщиков; поджоги были с трудом предотвращены.
Была назначена особая комиссия, чтобы установить подлинность документов Цезаря, оказавшихся в руках у Антония; несмотря на это, он использовал их с корыстной целью; он также черпал денежные средства в казначействе при храме Опс и изъял из него около 700 миллионов сестерциев. Чтобы привлечь ветеранов на свою сторону, он предложил 24 апреля земельный закон и назначил комиссию из семи человек (септемвиры) для проведения его в жизнь.
18 апреля в Италию прибыл из Аполлонии 19-летний Гай Октавий, наследник и приемный сын Цезаря, а в мае приехал в Рим, чтобы вступить в права наследства. К этому времени Антоний уже располагал шестью тысячами ветеранов. Желая упрочить свою власть в Риме, Антоний добился постановления народа об обмене провинциями: Македония, назначенная ему Цезарем на 43 г., должна была перейти к одному из заговорщиков, Дециму Бруту, который должен был уступить Антонию Цисальпийскую Галлию; пребывание в ней позволило бы Антонию держать Рим в своей власти. Желая удалить из Рима преторов Марка Брута и Гая Кассия, Антоний добился, чтобы сенат поручил им закупку хлеба в Сицилии и Африке.
17 августа Цицерон выехал в Грецию, но вскоре повернул обратно и 31 августа возвратился в Рим. 1 сентября в сенате должно было обсуждаться предложение Антония о том, чтобы ко всем дням молебствий был прибавлен день в честь Цезаря; это завершило бы обожествление Цезаря. Цицерон не пришел в сенат, что вызвало нападки Антония. Предложение Антония было принято.
Цицерон явился в сенат 2 сентября и в отсутствие Антония произнес речь (I филиппика), в которой ответил на его нападки и указал причины, заставившие его самого как выехать в Грецию, так и возвратиться в Рим. После собрания сената Цицерон удалился в свою усадьбу в Путеолах. 19 сентября Антоний выступил в сенате с речью против Цицерона. В этот день Цицерон не явился в сенат, опасаясь за свою жизнь; он ответил Антонию памфлетом, написанным в виде речи в сенате и опубликованным в конце ноября (II филиппика).
* * *
В конце декабря 44 г. Антоний выступил с войсками в Цисальпийскую Галлию и осадил Децима Брута, укрепившегося в Мутине. Это было начало так называемой мутинской войны, во время которой Цицерон произнес остальные филиппики, XIV филиппика была произнесена в сенате после получения донесения о битве под Галльским форумом между войсками Антония и войсками консула Гая Вибия Пансы, который был смертельно ранен. Борьба между сенатом и Антонием привела к образованию триумвирата Марка Антония, Октавиана и Марка Эмилия Лепида и к проскрипциям, жертвой которых 7 декабря 43 г. пал Цицерон.
(I, 1) Прежде чем говорить перед вами, отцы-сенаторы, о положении государства так, как, по моему мнению, требуют нынешние обстоятельства, я вкратце изложу вам причины, побудившие меня сначала уехать, а потом возвратиться обратно. Да, пока я надеялся, что государство, наконец, снова поручено вашей мудрости и авторитету[2289], я как консуляр и сенатор считал нужным оставаться как бы стражем его. И я действительно не отходил от государства, не спускал с него глаз, начиная с того дня, когда нас созвали в храм Земли[2290]. В этом храме я, насколько это было в моих силах, заложил основы мира и обновил древний пример афинян; я даже воспользовался греческим словом, каким некогда при прекращении раздоров воспользовалось их государство[2291], и предложил уничтожить всякое воспоминание о раздорах, навеки предав их забвению. (2) Прекрасной была тогда речь Марка Антония, превосходны были и его намерения; словом, благодаря ему и его детям заключение мира с виднейшими гражданами было подтверждено[2292].
Этому началу соответствовало и все дальнейшее. К происходившему у него в доме обсуждению вопроса о положении государства он привлекал наших первых граждан; этим людям он поручал наилучшие начинания; в то время в записях Цезаря находили только то, что было известно всем; на все вопросы Марк Антоний отвечал вполне твердо[2293]. (3) Был ли возвращен кто-либо из изгнанников? «Только один[2294], — сказал он, — а кроме него, никто». Были ли кому-либо предоставлены какие-нибудь льготы? «Никаких», — отвечал он. Он даже хотел, чтобы мы одобрили предложение Сервия Сульпиция, прославленного мужа, о полном запрещении после мартовских ид водружать доски с каким бы то ни было указом Цезаря или с сообщением о какой-либо его милости. Обхожу молчанием многие достойные поступки Марка Антония; ибо речь моя спешит к его исключительному деянию: диктатуру, уже превратившуюся в царскую власть, он с корнем вырвал из государства. Этого вопроса мы даже не обсуждали. Он принес с собой уже написанное постановление сената, какого он хотел; после прочтения его мы в едином порыве приняли его предложение и в самых лестных выражениях в постановлении сената выразили ему благодарность.
(II, 4) Казалось, какой-то луч света засиял перед нами после уничтожения, уже не говорю — царской власти, которую мы претерпели, нет, даже страха перед царской властью; казалось, Марк Антоний дал государству великий залог того, что он хочет свободы для граждан, коль скоро само звание диктатора, не раз в прежние времена бывавшее законным, он, ввиду свежих воспоминаний о диктатуре постоянной, полностью упразднил в государстве[2295]. (5) Через несколько дней сенат был избавлен от угрозы резни; крюк[2296] вонзился в тело беглого раба, присвоившего себе имя Мария[2297]. И все это Антоний совершил сообща со своим коллегой; другие действия Долабелла совершил уже один; но если бы его коллега находился в Риме, то действия эти они, наверное, предприняли бы вместе. Когда же по Риму стало расползаться зло, не знавшее границ, и изо дня в день распространяться все шире и шире, а памятник на форуме[2298] воздвигли те же люди, которые некогда совершили то пресловутое погребение без погребения[2299], и когда пропащие люди вместе с такими же рабами с каждым днем все сильнее и сильнее стали угрожать домам и храмам Рима, Долабелла покарал дерзких и преступных рабов, а также негодяев и нечестивцев из числа свободных людей так строго, а ту проклятую колонну разрушил так быстро, что мне непонятно, почему же его дальнейшие действия так сильно отличались от его поведения в тот единственный день.
(6) Но вот в июньские календы, когда нам велели присутствовать в сенате, все изменилось; ни одной меры, принятой при посредстве сената; многие и притом важные — при посредстве народа, а порой даже в отсутствие народа или вопреки его воле. Избранные консулы[2300] утверждали, что не решаются явиться в сенат; освободители отечества[2301] не могли находиться в том городе, с чьей выи они сбросили ярмо рабства; однако сами консулы в своих речах на народных сходках и во всех своих высказываниях их прославляли. Ветеранов — тех, которых так называли и которым наше сословие торжественно дало заверения, — подстрекали не беречь то, чем они уже владели, а рассчитывать на новую военную добычу. Предпочитая слышать об этом, а не видеть это и как легат[2302] будучи свободен в своих поступках, я и уехал с тем, чтобы вернуться к январским календам, когда, как мне казалось, должны были начаться собрания сената.
(III, 7) Я изложил вам, отцы-сенаторы, причины, побудившие меня уехать; теперь причины своего возвращения, которому так удивляются, я вкратце вам изложу.
Отказавшись — и не без оснований[2303] — от поездки через Брундисий, по обычному пути в Грецию, в секстильские календы приехал я в Сиракузы, так как путь в Грецию через этот город мне хвалили; но город этот, связанный со мной теснейшим образом, несмотря на все желание его жителей, не смог задержать меня у себя больше, чем на одну ночь. Я боялся, что мой неожиданный приезд к друзьям вызовет некоторое подозрение, если я промедлю. Но после того как ветры отнесли меня от Сицилии к Левкопетре, мысу в Регийской области, я сел там на корабль, чтобы пересечь море, но, отплыв недалеко, был отброшен австром[2304] назад к тому месту, где я сел на корабль. (8) Когда я, ввиду позднего времени, остановился в усадьбе Публия Валерия, своего спутника и друга, и находился там и на другой день в ожидании попутного ветра, ко мне явилось множество жителей муниципия Регия; кое-кто из них недавно побывал в Риме. От них я прежде всего узнал о речи, произнесенной Марком Антонием на народной сходке; она так понравилась мне, что я, прочитав ее, впервые стал подумывать о возвращении. А немного спустя мне принесли эдикт Брута и Кассия[2305]; вот он и показался, по крайней мере, мне — пожалуй, оттого, что моя приязнь к ним вызвана скорее заботами о благе государства, чем личной дружбой, — преисполненным справедливости. Кроме того, приходившие ко мне говорили, — а ведь те, кто желает принести добрую весть, в большинстве случаев прибавляют какую-нибудь выдумку, чтобы сделать принесенные ими вести более радостными, — что будет достигнуто соглашение, что в календы сенат соберется в полном составе, что Антоний, отвергнув дурных советчиков, отказавшись от провинций Галлий[2306], снова признает над собой авторитет сената.
(IV, 9) Тогда я поистине загорелся таким сильным стремлением возвратиться, что мне было мало всех весел и всех ветров — не потому, что я думал, что не примчусь вовремя, но потому, что я боялся выразить государству свою радость позже, чем желал это сделать. И вот я, быстро доехав до Велии, увиделся с Брутом; сколь печально было это свидание для меня, говорить не стану[2307]. Мне самому казалось позорным, что я решаюсь возвратиться в тот город, из которого Брут уезжал, и хочу в безопасности находиться там, где он оставаться не может. Однако я вовсе не видел, чтобы он был взволнован так же сильно, как я; ибо он, гордый в сознании своего величайшего и прекраснейшего поступка[2308], ничуть не сетовал на свою судьбу, но сокрушался о вашей. (10) От него я впервые узнал, какую речь в секстильские календы произнес в сенате Луций Писон[2309]. Хотя те, кто должен был его поддержать, его поддержали слабо (именно это я узнал от Брута), все же — и по свидетельству Брута (а что может быть более важным, чем его слова?) и по утверждению всех тех, с кем я встретился впоследствии, — Писон, как мне показалось, снискал большую славу. И вот, желая оказать ему содействие, — ведь присутствовавшие ему содействия не оказали — я и поспешил сюда не с тем, чтобы принести пользу (на это я не надеялся и поручиться за это не мог), но дабы я, если со мной как с человеком что-нибудь случится (ведь мне, по-видимому, грозит многое, помимо естественного хода вещей и даже помимо ниспосылаемого роком), выступив ныне с этой речью, все же оставил государству доказательство своей неизменной преданности ему[2310].
(11) Так как вы, отцы-сенаторы, несомненно, признали справедливыми основания для обоих моих решений, то я, прежде чем говорить о положении государства, в немногих словах посетую на вчерашний несправедливый поступок Марка Антония; ведь я ему друг и всегда открыто заявлял, что я ввиду известной услуги, оказанной им мне, таковым и должен быть[2311].
(V) По какой же причине вчера в таких грубых выражениях требовали моего прихода в сенат? Разве я один отсутствовал? Или вы не бывали часто в неполном сборе? Или обсуждалось такое важное дело, что даже заболевших надо было нести в сенат? Ганнибал, видимо, стоял у ворот[2312] или же о мире с Пирром[2313] шло дело? Для решения этого вопроса, по преданию, принесли в сенат даже знаменитого Аппия, слепого старца. (12) Докладывали о молебствиях[2314]; в этих случаях сенаторы, правда, обычно присутствуют; ибо их к этому принуждает не данный ими залог[2315], а благодарность тем, о чьих почестях идет речь; то же самое бывает, когда докладывают о триумфе. Поэтому консулов это не слишком беспокоит, так что сенатор, можно сказать, волен не являться. Так как этот обычай был мне известен и так как я был утомлен после поездки и мне нездоровилось, то я, ввиду дружеских отношений с Антонием, известил его об этом. А он заявил в вашем присутствии, что он сам явится ко мне в дом с рабочими[2316]. Это было сказано поистине чересчур гневно и весьма несдержанно. Действительно, за какое преступление положено такое большое наказание, чтобы он осмелился сказать в присутствии представителей нашего сословия, что он велит государственным рабочим разрушить дом, построенный по решению сената на государственный счет? И кто когда-либо принуждал сенатора к явке, угрожая ему таким разорением; другими словами, разве есть какие-нибудь меры воздействия, кроме залога или пени? Но если бы Антоний знал, какое предложение я собирался внести, он, уж наверное, несколько смягчил бы суровость своих принудительных мер.
(VI, 13) Или вы, отцы-сенаторы, думаете, что я стал бы голосовать за то, с чем нехотя согласились вы, — чтобы паренталии[2317] превратились в молебствия, чтобы в государстве были введены не поддающиеся искуплению кощунственные обряды — молебствия умершему? Кому именно, не говорю. Допустим, дело шло бы о Бруте[2318], который и сам избавил государство от царской власти и свой род продолжил чуть ли не на пятьсот лет, чтобы в нем было проявлено такое же мужество и было совершено подобное же деяние; даже и тогда меня не могли бы заставить причислить какого бы то ни было человека, после его смерти, к бессмертным богам — с тем, чтобы тому, кто где-то похоронен и на чьей могиле справляются паренталии, совершались молебствия от имени государства. Я, безусловно, высказал бы такое мнение, чтобы в случае, если бы в государстве произошло какое-нибудь тяжкое событие — война, мор, голод (а это отчасти уже налицо, отчасти, боюсь я, нам угрожает), я мог с легкостью оправдаться перед римским народом. Но да простят это бессмертные боги и римскому народу, который этого не одобряет, и нашему сословию, которое постановило это нехотя.
(14) Далее, дозволено ли мне говорить об остальных бедствиях государства? Мне поистине дозволено и всегда будет дозволено хранить достоинство и презирать смерть. Только бы у меня была возможность приходить сюда, а от опасности, связанной с произнесением речи, я не уклоняюсь. О, если бы я, отцы-сенаторы, мог присутствовать здесь в секстильские календы — не потому, что это могло принести хотя бы какую-нибудь пользу, но для того, чтобы нашелся не один-единственный консуляр, — как тогда произошло, — достойный этого почетного звания, достойный государства! Именно это обстоятельство причиняет мне сильнейшую скорбь: люди, которые от римского народа стяжали величайшие милости, не поддержали Луция Писона, внесшего наилучшее предложение. Для того ли римский народ избирал нас в консулы, чтобы мы, достигнув наивысшей степени достоинства, благо государства не ставили ни во что? Не говорю уже — своей речью, даже выражением лица ни один консуляр не поддержал Луция Писона (15) О, горе! Что означает это добровольное рабство? Допустим, что в некоторой степени оно было неизбежным; лично я не требую, чтобы поддержку Писону оказали все те, кто имеет право голосовать как консуляр. В одном положении находятся те, кому я их молчание прощаю, в другом — те, чей голос я хочу слышать. Меня огорчает, что именно они и вызывают у римского народа подозрение не только в трусости, которая позорна сама по себе, но также и в том, что один по одной, другой по иной причине изменяют своему достоинству[2319].
(VII) И прежде всего я выражаю Писону благодарность и глубоко чувствую ее: он подумал не о том, что́ его выступление принесет государству, а о том, как сам он должен поступить. Затем я прошу вас, отцы-сенаторы, даже если вы не решитесь принять мое предложение и совет, все же, подобно тому как вы поступали доныне, благосклонно меня выслушать.
(16) Итак, я предлагаю сохранить в силе распоряжения Цезаря не потому, чтобы я одобрял их (в самом деле, кто может их одобрить?), но так как выше всего ставлю мир и спокойствие. Я хотел бы, чтобы Марк Антоний присутствовал здесь, но только без своих заступников[2320]. Впрочем, ему, конечно, разрешается и заболеть, чего он вчера не позволил мне. Он объяснил бы мне или, лучше, вам, отцы-сенаторы, каким способом сам он отстаивает распоряжения Цезаря[2321]. Или распоряжения Цезаря, содержащиеся в заметочках, в собственноручных письмах и в личных записях, предъявленных при одном поручителе в лице Марка Антония и даже не предъявленных, а только упомянутых, будут незыблемы? А то, что Цезарь вырезал на меди, на которой он хотел закрепить постановления народа и постоянно действующие законы, никакого значения иметь не будет?[2322] (17) Я полагаю, что распоряжения Цезаря — это не что иное, как законы Цезаря. А если он что-нибудь кому-либо и обещал, то неужели будет незыблемо то, чего он сам выполнить не мог? Правда, Цезарь многим многое обещал и многих своих обещаний не выполнил, а после его смерти этих обещаний оказалось даже гораздо больше, чем тех милостей, которые он предоставил и даровал за всю свою жизнь.
Но даже этого я не изменяю, не оспариваю. С величайшей настойчивостью защищаю я его великолепные распоряжения. Только бы уцелели в храме Опс[2323] деньги, правда, обагренные кровью, но при нынешних обстоятельствах — коль скоро их не возвращают тем, кому они принадлежат, — необходимые. Впрочем, пусть будут растрачены и они, если так гласили распоряжения. (18) Однако, в прямом смысле слова, что́, кроме закона, можно назвать распоряжением человека, облеченного в тогу и обладавшего в государстве властью и империем?[2324] Осведомись о распоряжениях Гракха — тебе представят Семпрониевы законы, о распоряжениях Суллы — Корнелиевы. А в чем выразились распоряжения Помпея во время его третьего консульства?[2325] Разумеется, в его законах. И если бы ты спросил самого Цезаря, что именно совершил он в Риме, нося тогу, он ответил бы, что законов он провел много и притом прекрасных; что же до его собственноручных писем, то он либо изменил бы их содержание, либо не стал бы их выпускать, либо, даже если бы и выпустил, не отнес бы их к числу своих распоряжений. Но и в этом вопросе я готов уступить; кое на что я даже закрываю глаза; что же касается важнейших вопросов, то есть законов, то отмену этих распоряжений Цезаря я считаю недопустимой.
(VIII, 19) Есть ли лучший и более полезный закон, чем тот, который ограничивает управление преторскими провинциями годичным сроком, а управление консульскими — двухгодичным?[2326] Ведь его издания — даже при самом благополучном положении государства — требовали чаще, чем любого другого. Неужели после отмены этого закона распоряжения Цезаря, по вашему мнению, могут быть сохранены в силе? Далее, разве законом, который объявлен насчет третьей декурии, не отменяются все законы Цезаря о судоустройстве?[2327] И вы[2328] распоряжения Цезаря отстаиваете, а законы его уничтожаете? Это возможно разве только в том случае, если все то, что он для памяти внес в свои личные записи, будет отнесено к его распоряжениям и — хотя бы это и было несправедливо, и бесполезно — найдет защиту, а то, что он внес на рассмотрение народа во время центуриатских комиций, к распоряжениям Цезаря отнесено не будет. (20) Но какую это третью декурию имеют в виду? «Декурию центурионов», — говорят нам. Как? Разве участие в суде не было доступно этому сословию в силу Юлиева, а ранее также и в силу Помпеева и Аврелиева законов?[2329] «Устанавливался ценз», — говорят нам. Да, устанавливался и притом не только для центуриона, но и для римского всадника. Именно поэтому судом и ведают и ведали наиболее храбрые и наиболее уважаемые мужи из тех, кто начальствовал в войсках. «Я не стану разыскивать, — говорит Антоний, — тех, кого подразумеваешь ты; всякий, кто начальствовал в войсках, пусть и будет судьей». Но если бы вы предложили, чтобы судьей был всякий, кто служил в коннице, — а это более почетно, — то вы не встретили бы одобрения ни у кого; ибо при выборе судьи надо принимать во внимание и его достаток, и его почетное положение. «Ничего этого мне не нужно, — говорит он, — я включу в число судей также и рядовых солдат из легиона “жаворонков”[2330], ведь наши сторонники утверждают, что иначе им не уцелеть». Какой оскорбительный почет для тех, кого вы неожиданно для них самих привлекаете к участию в суде! Ведь смысл закона именно в том, чтобы в третьей декурии судьями были люди, которые бы не осмеливались выносить приговор независимо. Бессмертные боги! Как велико заблуждение тех, кто придумал этот закон! Ибо, чем более приниженным будет казаться человек, тем охотнее будет он смывать свое унижение суровостью своих приговоров и он будет напрягать все силы, чтобы показаться достойным декурий, пользующихся почетом, а не быть по справедливости зачисленным в презираемую.
(IX, 21) Второй из объявленных законов предоставляет людям, осужденным за насильственные действия и за оскорбление величества, право провокации к народу, если они этого захотят[2331]. Что же это, наконец: закон или отмена всех законов? И право, для кого ныне важно, чтобы этот твой закон был в силе? Нет человека, который бы обвинялся на основании этих законов; нет человека, который, по нашему мнению, будет обвинен. Ведь за вооруженные выступления, конечно, никогда не станут привлекать к суду. «Но предложение угодно народу». О, если бы вы действительно хотели чего-либо, поистине угодного народу! Ибо все граждане, и в своих мыслях и в своих высказываниях о благе государства, теперь согласны между собой. Так что же это за стремление провести закон, чрезвычайно позорный и ни для кого не желанный? В самом деле, что более позорно, чем положение, когда человек, своими насильственными действиями оскорбивший величество римского народа, снова, будучи осужден по суду, обращается к таким же насильственным действиям, за какие он по закону был осужден? (22) Но зачем я все еще обсуждаю этот закон? Как будто действительно имеется в виду, что кто-нибудь совершит провокацию к народу! Нет, все это задумано и предложено для того, чтобы вообще никого никогда на основании этих законов нельзя было привлечь к суду. Найдется ли столь безумный обвинитель, чтобы согласиться уже после осуждения обвиняемого предстать перед подкупленной толпой? Какой судья осмелится осудить обвиняемого, зная, что его самого сейчас же поволокут на суд шайки наймитов?
Итак, права провокации этот закон не дает, но два необычайно полезных закона и два вида постоянного суда уничтожает. Разве он не призывает молодежь в ряды мятежных граждан, губителей государства? До каких только разрушительных действий не дойдет бешенство трибунов после упразднения этих двух видов постоянного суда — за насильственные действия и за оскорбление величества? (23) А разве тем самым не отменяются частично законы Цезаря, которые велят отказывать в воде и огне[2332] людям, осужденным как за насильственные действия, так и за оскорбление величества? Если им предоставляют право провокации, то разве не уничтожаются этим распоряжения Цезаря? Именно эти законы лично я, хотя никогда их не одобрял, отцы-сенаторы, все же признал нужным ради всеобщего согласия сохранить в силе, не находя в те времена возможным отменять не только законы, проведенные Цезарем при его жизни, но даже те, которые, как видите, предъявлены нам после смерти Цезаря и выставлены для ознакомления.
(X, 24) Изгнанников возвратил умерший[2333]; не только отдельным лицам, но и народам и целым провинциям гражданские права даровал умерший; предоставлением неограниченных льгот нанес ущерб государственным доходам умерший. И все это, исходящее из его дома, при единственном — ну, конечно, честнейшем — поручителе мы отстаиваем, а те законы, что сам Цезарь в нашем присутствии прочитал, огласил, провел, законы, изданием которых он гордился, которыми он, по его мнению, укреплял наш государственный строй, — о провинциях, о судоустройстве — повторяю, эти Цезаревы законы мы, отстаивающие распоряжения Цезаря, считаем нужным уничтожить? (25) Но все же этими законами, что были объявлены, мы можем, по крайней мере, быть недовольны; а по отношению к законам, как нам говорят, уже изданным, мы лишены даже этой возможности; ибо они без какой бы то ни было промульгации были изданы еще до того, как были составлены.
А впрочем, я все же спрашиваю, почему и я сам, и любой из вас, отцы-сенаторы, при честных народных трибунах боится внесения дурных законов. У нас есть люди, готовые совершить интерцессию, готовые защитить государство указаниями на религиозные запреты; страшиться мы как будто не должны. «О каких толкуешь ты мне интерцессиях, — спрашивает Антоний, — о каких запретах?» Разумеется, о тех, на которых зиждется благополучие государства. — «Мы презираем их и считаем устаревшими и нелепыми. Форум будет перегорожен; заперты будут все входы; повсюду будет расставлена вооруженная стража». — (26) А дальше? То, что будет принято таким образом, будет считаться законом? И вы, пожалуй, прикажете вырезать на меди те установленные законом слова: «Консулы в законном порядке предложили народу (такое ли право рогации[2334] мы получили от предков?), и народ законным порядком постановил». Какой народ? Не тот ли, который не был допущен на форум? Каким законным порядком? Не тем ли, который полностью уничтожен вооруженной силой? Я теперь говорю о будущем, так как долг друзей — заблаговременно говорить о том, чего возможно избежать; если же ничего этого не случится, то мои возражения отпадут сами собой. Я говорю о законах объявленных, по отношению к которым вы еще свободны в своих решениях; я указываю вам на их недостатки — исправьте их; я сообщаю вам о насильственных действиях, о применении оружия — устраните все это.
(XI, 27) Во всяком случае, Долабелла, негодовать на меня, когда я говорю в защиту государства, вы не должны. Впрочем, о тебе я этого не думаю, твою обходительность я знаю; но твой коллега, говорят, при своей нынешней судьбе, которая кажется ему очень удачной (мне лично он казался бы более удачливым, — не стану выражаться более резко — если бы взял себе за образец своих дедов и своего дядю, бывших консулами[2335]), итак, он, слыхал я, стал очень уж гневлив. Я хорошо вижу, насколько опасно иметь против себя человека раздраженного и вооруженного, особенно при полной безнаказанности для тех, кто берется за меч; но я предложу справедливые условия, которых Марк Антоний, мне думается, не отвергнет: если я скажу что-либо оскорбительное о его образе жизни или о его нравах, то пусть он станет моим жесточайшим недругом; но если я останусь верен своей привычке, [какая у меня всегда была в моей государственной деятельности,] то есть если я буду свободно высказывать все, что думаю о положении государства, то я, во-первых, прошу его не раздражаться против меня; во-вторых, если моя просьба будет безуспешной, то прошу его выражать свое недовольство мной как гражданином; пусть он прибегает к вооруженной охране, если это, по его мнению, необходимо для самозащиты; но если кто-нибудь выскажет в защиту государства то, что найдет нужным, пусть эти вооруженные люди не причиняют ему вреда. Может ли быть более справедливое требование? (28) Но если, как мне сказал кое-кто из приятелей Марка Антония, все сказанное наперекор ему глубоко оскорбляет его, даже когда ничего обидного о нем не говорилось, то мне придется примириться и с таким характером своего приятеля. Но те же люди говорят мне еще вот что: «Тебе, противнику Цезаря, не будет разрешено то же, что Писону, его тестю». В то же время они меня предостерегают, я приму это во внимание: «Отныне болезнь не будут признавать более законной причиной неявки в сенат, чем смерть».
(XII, 29) Но — во имя бессмертных богов! — я, глядя на тебя, Долабелла (а ведь ты мне очень дорог), не могу умолчать о том заблуждении, в какое впали мы оба: я уверен, что вы, знатные мужи, стремясь к великим деяниям, жаждали не денег, как это подозревают некоторые чересчур легковерные люди, не денег, к которым виднейшие и славнейшие мужи всегда относились с презрением, не богатств, достающихся путем насилия, и не владычества, нестерпимого для римского народа, а любви сограждан и славы. Но слава — это хвала за справедливые деяния и великие заслуги перед государством; она утверждается свидетельством как любого честного человека, так и большинства. (30) Я сказал бы тебе, Долабелла, каковы бывают плоды справедливых деяний, если бы не видел, что ты недавно постиг это на своем опыте лучше, чем кто бы то ни было другой.
Можешь ли ты вспомнить какой-нибудь день в твоей жизни, озаренный более светлой радостью, чем тот, когда ты, очистив форум от кощунства, рассеяв сборище нечестивцев, покарав зачинщиков преступления, [избавив Рим от поджога и от страха перед резней,] вернулся в свой дом? Разве тогда представители разных сословий, люди разного происхождения, словом, разного положения не высказывали тебе похвал и благодарности? Более того, даже меня, чьими советами ты, как говорили, руководствуешься, честные мужи благодарили за тебя и поздравляли. Вспомни, прошу тебя, Долабелла, о тех единодушных возгласах в театре[2336], когда все присутствующие, забыв о причинах своего прежнего недовольства тобой, дали понять, что они после твоего неожиданного благодеяния забыли свою былую обиду[2337]. (31) И от этой ты, Публий Долабелла, — говорю это с большим огорчением — от этой, повторяю, огромной чести ты смог равнодушно отказаться?
(XIII) А ты, Марк Антоний, — обращаюсь к тебе, хотя тебя здесь и нет, — не ценишь ли ты один тот день, когда сенат собрался в храме Земли, больше, чем все последние месяцы, на протяжении которых некоторые люди, во многом расходящиеся со мной во взглядах, именно тебя считали счастливым? Какую речь произнес ты о согласии! От каких больших опасений избавил ты тогда сенат, от какой сильной тревоги — граждан, когда ты, отбросив вражду, забыв об авспициях, о которых ты, как авгур римского народа, сам возвестил, коллегу своего в тот день впервые признал коллегой[2338], а своего маленького сына прислал в Капитолий как заложника мира! (32) В какой день сенат, в какой день римский народ ликовали больше? Ведь более многолюдной сходки не бывало никогда[2339]. Только тогда казались мы подлинно освобожденными благодаря храбрейшим мужам, так как, в соответствии с их волей, за освобождением последовал мир. На ближайший, на следующий, на третий день, наконец, на протяжении нескольких последующих дней ты не переставал каждый день приносить государству какой-нибудь, я сказал бы, дар; но величайшим твоим даром было то, что ты уничтожил самое имя диктатуры. Это было клеймо, которое ты, повторяю, ты выжег на теле Цезаря, после его смерти, на вечный позор ему. Подобно тому как из-за преступления одного-единственного Марка Манлия ни одному из патрициев Манлиев, в силу решения Манлиева рода, нельзя носить имя «Марк»[2340], так и ты из-за ненависти к одному диктатору совершенно уничтожил звание диктатора. (33) Неужели ты, совершив во имя блага государства такие великие деяния, был недоволен своей счастливой судьбой, высоким положением, известностью, славой? Так откуда вдруг такая перемена? Не могу подумать, что тебя соблазнили деньгами. Пусть говорят, что угодно; верить этому необходимости нет; ибо я никогда не видел в тебе никакой подлости, никакой низости. Впрочем, порой домочадцы оказывают дурное влияние[2341], но твою стойкость я знаю. О, если бы ты, избегнув вины, смог избегнуть даже и подозрения в виновности!
(XIV) Но вот чего я опасаюсь сильнее: как бы ты не ошибся в выборе истинного пути к славе, не счел, что быть могущественнее всех, внушать согражданам страх, а не любовь, — это слава. Если ты так думаешь, путь славы тебе совершенно неведом. Пользоваться любовью у граждан, иметь заслуги перед государством, быть восхваляемым, уважаемым, почитаемым — все это и есть слава; но внушать к себе страх и ненависть тяжко, отвратительно; это признак слабости и неуверенности в себе. (34) Как мы видим также и в трагедии, это принесло гибель тому, кто сказал: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись!»[2342].
О, если бы ты, Марк Антоний, помнил о своем деде! О нем ты слыхал от меня многое и притом не раз. Уж не думаешь ли ты, что он хотел заслужить бессмертную славу, внушая страх своим правом на вооруженную охрану? У него была настоящая жизнь, у него была счастливая судьба: он был свободен, как все, но был первым по достоинству. Итак, — уж не буду говорить о счастливых временах в жизни твоего деда — даже самый тяжкий для него последний день я предпочел бы владычеству Луция Цинны, от чьей жестокости он погиб.
(35) Но стоит ли мне пытаться воздействовать на тебя своей речью? Ведь если конец Гая Цезаря не может заставить тебя предпочесть внушать людям любовь, а не страх, то ничья речь не принесет тебе пользы и не произведет на тебя впечатления. Ведь те, которые думают, что он был счастлив, сами несчастны. Не может быть счастлив человек, который находится в таком положении, что его могут убить, уже не говорю — безнаказанно, нет, даже с величайшей славой для убийцы[2343]. Итак, сверни с этого пути, прошу тебя, взгляни на своих предков и правь государственным кораблем так, чтобы сограждане радовались тому, что ты рожден на свет, без чего вообще никто не может быть ни счастлив, ни славен, ни невредим.
(XV, 36) А римский народ? Я приведу вам обоим многие суждения его; они, правда, вас мало трогают, что меня очень огорчает. В самом деле, о чем свидетельствуют возгласы бесчисленного множества граждан, раздававшиеся во время боев гладиаторов? А стишки, которые распевал народ? А нескончаемые рукоплескания статуе Помпея[2344] и двоим народным трибунам, вашим противникам? Разве все это не достаточно ясно свидетельствует о необычайно единодушной воле всего римского народа? И неужели вам показались малозначительными рукоплескания во время игр в честь Аполлона, вернее, суждения и приговор римского народа? О, сколь счастливы те, которые, не имея возможности присутствовать из-за применения вооруженной силы, все же присутствовали, так как память о них вошла в плоть и в кровь римского народа! Или, может быть, вы полагали тогда, что рукоплещут Акцию и по прошествии шестидесяти лет венчают пальмовой ветвью его, а не Брута, которому, хотя он и был лишен возможности присутствовать на им же устроенных играх, все же во время этого великолепного зрелища римский народ воздавал должное в его отсутствие и тоску по своему освободителю смягчал непрекращавшимися рукоплесканиями и возгласами?[2345]
(37) Я всегда относился к таким рукоплесканиям с презрением, когда ими встречали граждан, заискивающих перед народом, и в то же время, если они исходят от людей, занимающих и наивысшее, и среднее, и низшее положение, словом, от всех граждан, и если те, кто ранее обычно пользовался успехом у народа, от него бегут, я считаю эти рукоплескания приговором. Но если вы не придаете этому большого значения (хотя все это очень важно), то неужели вы относитесь с пренебрежением также и к тому, что вы почувствовали, а именно — что жизнь Авла Гирция была так дорога римскому народу? Ведь было достаточно и того, что он пользуется расположением римского народа, — а это действительно так — приязнью друзей, которая совершенно исключительна, любовью родных, глубоко любящих его. Но за кого, на памяти нашей, все честные люди так сильно тревожились, так сильно боялись?[2346] Конечно, ни за кого другого. (38) И что же? И вы — во имя бессмертных богов! — не понимаете, что́ это значит? Как? Неужели, по вашему мнению, о вашей жизни не думают те, кому жизнь людей, от которых они ожидают забот о благе государства, так дорога?
(39) Я не напрасно возвратился сюда, отцы-сенаторы, ибо и я высказался так, что — будь, что будет! — свидетельство моей непоколебимости останется навсегда, вы выслушали меня благосклонно и внимательно. Если подобная возможность представится мне и впредь и не будет грозить опасностью ни мне[2347], ни вам, то я воспользуюсь ею. Не то — буду оберегать свою жизнь, как смогу, не столько ради себя, сколько ради государства. Для меня вполне достаточно того, что я дожил и до преклонного возраста, и до славы. Если к тому и другому что-либо прибавится, то это пойдет на пользу уже не столько мне, сколько вам и государству.
26. Вторая филиппика против Марка Антония [Опубликована 28 ноября 44 г. до н. э.]
(I, 1) Каким велением моей судьбы, отцы-сенаторы, объяснить мне то, что на протяжении последних двадцати лет[2348] не было ни одного врага государства, который бы в то же время не объявил войны и мне? Нет необходимости называть кого-либо по имени: вы сами помните, о ком идет речь. Эти люди[2349] понесли от меня более тяжкую кару, чем я желал. Тебе удивляюсь я, Антоний, — тому, что конец тех, чьим поступкам ты подражаешь, тебя не страшит. И я меньше удивлялся этому, когда дело касалось их; ведь ни один из них не стал моим недругом по своей воле; на них всех я, радея о благе государства, напал первый. Ты же, не оскорбленный мной ни единым словом, желая показаться более дерзким, чем Катилина, более бешеным, чем Клодий, сам напал на меня с бранью и счел, что разрыв со мной принесет тебе уважение нечестивых граждан. (2) Что подумать мне? Что я заслуживаю презрения? Но я не вижу ни в своей частной жизни, ни в своем общественном положении, ни в своей деятельности, ни в своих дарованиях — даже если они и посредственны — ничего такого, на что Антоний мог бы взглянуть свысока. Или он подумал, что именно в сенате мое значение легче всего умалить? Однако наше сословие засвидетельствовало, что многие прославленные граждане честно вели дела государства, но что спас его я один[2350]. Или он захотел вступить в состязание со мной на поприще ораторского искусства? Да, поистине это немалая услуга мне. В самом деле, какой возможен для меня более обширный, более благодарный предмет для речи, чем защитить себя и выступить против Антония? Несомненно, вот в чем дело: он подумал, что свою вражду к отечеству он не сможет доказать подобным ему людям никаким иным способом, если только не станет недругом мне. (3) Прежде чем отвечать ему о других обстоятельствах дела, я скажу несколько слов о дружбе, в нарушении которой он меня обвинил, это я считаю самым тяжким обвинением.
(II) Антоний пожаловался на то, что я — уже не помню, когда, — выступил в суде во вред ему. Неужели мне не следовало выступать против чужого мне человека в защиту близкого и родственника, выступать против влияния, которого Антоний достиг не подаваемыми им надеждами на доблестные деяния, а цветущей юностью? Не следовало выступать против беззакония, которого он добился благодаря несправедливейшей интерцессии, а не на основании разбора дела у претора? Но ты упомянул об этом, мне думается, для того, чтобы снискать расположение низшего сословия, так как все вольноотпущенники вспоминали, что ты был зятем, а твои дети — внуками вольноотпущенника Квинта Фадия[2351]. Но ведь ты, как ты утверждаешь, поступил ко мне для обучения, ты посещал мой дом[2352]. Право, если бы ты делал это, ты лучше позаботился бы о своем добром имени, о своем целомудрии. Но ты не сделал этого, а если бы ты и желал, то Гай Курион[2353] этого тебе бы не позволил.
(4) От соискания авгурата ты, по твоим словам, отказался в мою пользу[2354]. О, невероятная дерзость! О, вопиющее бесстыдство! Ведь в то время как вся коллегия желала видеть меня авгуром, а Гней Помпей и Квинт Гортенсий[2355] назвали мое имя (предложение от лица многих не допускалось), ты был несостоятельным должником и полагал, что сможешь уцелеть только в том случае, если произойдет государственный переворот. Но мог ли ты добиваться авгурата в то время, когда Гая Куриона в Италии не было? А тогда, когда тебя избрали, смог ли бы ты без Куриона получить голоса хотя бы одной трибы? Ведь даже его близкие друзья были осуждены за насильственные действия[2356], так как были чересчур преданы тебе.
(III, 5) Но ты, по твоим словам, оказал мне благодеяние. Какое? Впрочем, именно то, о чем ты упоминаешь, я всегда открыто признавал: я предпочел признать, что я перед тобой в долгу, лишь бы мне не показаться кому-нибудь из людей менее осведомленных недостаточно благодарным человеком. Но какое же благодеяние? То, что ты не убил меня в Брундисии? Меня, которого даже победитель[2357], пожаловавший тебе, как ты сам был склонен хвалиться, главенство среди своих разбойников, хотел видеть невредимым, меня, которому он велел выехать в Италию, ты убил бы? Допустим, что ты мог это сделать. Какого другого благодеяния можно ожидать от разбойников, отцы-сенаторы, кроме того, что они могут говорить, будто даровали жизнь тем людям, которых они ее не лишили? Если бы это было благодеянием, то те люди, которые убили человека, сохранившего им жизнь, те, кого ты сам привык называть прославленными мужами[2358], никогда не удостоились бы столь высокой хвалы. Но что это за благодеяние — воздержаться от нечестивого злодейства? В этом деле мне следовало не столько радоваться тому, что ты меня не убил, сколько скорбеть о том, что ты мог убить меня безнаказанно. (6) Но пусть это было благодеянием, коль скоро от разбойника не получишь большего. За что ты можешь называть меня неблагодарным? Неужели я не должен был сетовать на гибель государства, чтобы не показаться неблагодарным по отношению к тебе? И при этих моих сетованиях[2359], правда, печальных и горестных, но ввиду высокого положения, которого меня удостоили сенат и римский народ, для меня неизбежных, разве я сказал что-либо оскорбительное или выразился несдержанно и не по-дружески? Насколько надо было владеть собой, чтобы, сетуя на действия Марка Антония, удержаться от резких слов! Особенно после того, как ты развеял по ветру остатки государства[2360], когда у тебя в доме все стало продажным, стало предметом позорнейшей торговли, когда ты признавал, что законы — те, которые и объявлены никогда не были, — проведены относительно тебя и самим тобой; когда ты, авгур, упразднил авспиции и ты, консул, — интерцессию[2361]; когда ты, к своему величайшему позору, окружил себя вооруженными людьми; когда ты в своем непотребном доме изо дня в день предавался всевозможным гнусностям, изнуренный пьянством и развратом. (7) Но, горько сетуя на положение государства, я ничего не сказал об Антонии как человеке, словно я имел дело с Марком Крассом (ведь с ним у меня было много споров и притом сильных), а не с подлейшим гладиатором. Поэтому сегодня я постараюсь, чтобы Антоний понял, какое большое благодеяние оказал я ему в тот раз.
(IV) Но он, этот человек, совершенно невоспитанный и не имеющий понятия о взаимоотношениях между людьми, даже огласил письмо, которое я, по его словам, прислал ему[2362]. В самом деле, какой человек, которому хотя бы в малой степени известны правила общения между порядочными людьми, под влиянием какой бы то ни было обиды когда-либо предал гласности и во всеуслышание прочитал письмо, присланное ему его другом? Не означает ли это устранять из жизни правила общежития, устранять возможность беседовать с друзьями, находящимися в отсутствии? Как много бывает в письмах шуток, которые, если сделать их общим достоянием, должны показаться неуместными, как много серьезных мыслей, которые, однако, отнюдь не следует распространять! (8) Припишем это его невоспитанности; но вот на глупость его невероятную обратите внимание. Что сможешь ответить мне ты, красноречивый человек, как думают Мустела и Тирон?[2363] Так как они в настоящее время стоят с мечами в руках перед лицом сената, то я, пожалуй, признаю тебя красноречивым, если ты сумеешь показать, как ты будешь защищать их в суде по делам об убийстве. И, наконец, что ты мне возразишь, если я заявлю, что я вообще никогда не посылал тебе этого письма? При посредстве какого свидетеля мог бы ты изобличить меня? Или ты исследовал бы почерк? Ведь тебе хорошо знакома эта прибыльная наука[2364]. Но как смог бы ты это сделать? Ведь письмо написано рукой писца. Я уже завидую твоему наставнику — тому, кто за такую большую плату, о которой я сейчас всем расскажу, учит тебя ничего не смыслить. (9) Действительно, что менее подобает, не скажу — оратору, но вообще любому человеку, чем возражать противнику таким образом, что тому достаточно будет простого отрицания на словах, чтобы дальше возражать было уже нечего? Но я ничего не отрицаю и тем самым могу изобличить тебя не только в невоспитанности, но и в неразумии. В самом деле, какое слово найдется в этом письме, которое бы не было преисполнено доброты, услужливости, благожелательности? Твое же все обвинение сводится к тому, что я в этом письме хорошо отзываюсь о тебе, что пишу тебе как гражданину, как честному мужу, а не как преступнику и разбойнику. Но я все-таки не стану оглашать твоего письма, хотя и мог это сделать с полным правом в ответ на твои нападки. В нем ты просишь разрешить тебе возвратить одного человека из изгнания и клянешься, что наперекор мне ты этого не сделаешь. И ты получил мое согласие. Право, к чему мне мешать тебе в твоей дерзости, которую ни авторитет нашего сословия, ни мнение римского народа, ни какие бы то ни было законы обуздать не могут? (10) Какое же, в самом деле, было у тебя основание просить меня, если тот, за кого ты просил, на основании закона Цезаря[2365] уже возвращен? Но Антоний, очевидно, захотел моего согласия в том деле, в котором не было никакой нужды даже в его собственном согласии, раз закон уже был проведен.
(V) Но так как мне, отцы-сенаторы, предстоит сказать кое-что в свою собственную защиту и многое против Марка Антония, то я, с одной стороны, прошу вас выслушать благосклонно мою речь в мою защиту; с другой стороны, я сам постараюсь о том, чтобы вы слушали внимательно, когда я буду выступать против него. Заодно молю вас вот о чем: если вам известны моя сдержанность и скромность как во всей моей жизни, так и в речах, то не думайте, что сегодня я, отвечая тому, кто меня на это вызвал, изменил своему обыкновению. Я не стану обращаться с ним, как с консулом; да и он не держал себя со мной, как с консуляром. А впрочем, признать его консулом никак нельзя — ни по его образу жизни, ни по его способу управлять государством, ни по тому, как он был избран, а вот я, без всякого сомнения, консуляр. (11) Итак, дабы вы поняли, что́ он за консул, он поставил мне в вину мое консульство. Это консульство было на словах моим, отцы-сенаторы, но на деле — вашим. Ибо какое решение принял я, что совершил я, что предложил я не по совету, не с согласия, не по решению этого сословия?[2366] И ты, человек, столь же разумный, сколь и красноречивый, в присутствии тех, по чьему совету и разумению это было совершено, осмелился это порицать? Но нашелся ли кто-нибудь, кроме тебя и Публия Клодия, кто стал бы порицать мое консульство? И как раз тебя и ожидает участь Клодия, как была она уготована Гаю Куриону[2367], так как у тебя в доме находится та, которая для них обоих была злым роком[2368].
(12) Не одобряет моего консульства Марк Антоний; но его одобрил Публий Сервилий, — назову первым из консуляров тех времен имя того, кто умер недавно, — его одобрил Квинт Катул, чей авторитет всегда будет жить в нашем государстве; его одобрили оба Лукулла, Марк Красс, Квинт Гортенсий, Гай Курион, Гай Писон, Маний Глабрион, Маний Лепид, Луций Волькаций, Гай Фигул, Децим Силан и Луций Мурена, бывшие тогда избранными консулами[2369]. То, что одобрили консуляры, одобрил и Марк Катон который, уходя из жизни, предвидел многое — ведь он не увидел тебя консулом[2370]. Но, поистине, более всего одобрил мое консульство Гней Помпей, который, как только увидел меня после своего возвращения из Сирии, обнял меня и с благодарностью сказал, что мои заслуги позволили ему видеть отечество[2371]. Но зачем я упоминаю об отдельных лицах? Его одобрил сенат, собравшийся в полном составе, и не было сенатора, который бы не благодарил меня, как отца, не заявлял, что обязан мне жизнью, достоянием своим, жизнью детей, целостью государства[2372].
Гай Юлий Цезарь Октавиан. Мрамор. Ленинград, Государственный Эрмитаж
(VI, 13) Но так как тех, кого я назвал, столь многочисленных и столь выдающихся мужей, государство уже лишилось, то перейдем к живым, а их из числа консуляров осталось двое. Луций Котта[2373], муж выдающихся дарований и величайшего ума, после тех событий, которые ты осуждаешь, в весьма лестных для меня выражениях подал голос за назначение молебствия, а те самые консуляры, которых я только что назвал, и весь сенат согласились с ним, а со времени основания нашего города этот почет до меня ни одному человеку, носящему тогу, оказан не был[2374]. (14) А Луций Цезарь[2375], твой дядя по матери? Какую речь, с какой непоколебимостью, с какой убедительностью произнес он, подавая голос против мужа своей сестры, твоего отчима![2376] Хотя ты во всех своих замыслах и во всей своей жизни должен был бы смотреть на Луция Цезаря как на руководителя и наставника, ты предпочел быть похожим на отчима, а не на дядю. Его советами, в бытность свою консулом, пользовался я, чужой ему человек. А ты, сын его сестры? Обратился ли ты когда-либо к нему за советом насчет положения государства? Но к кому же обращается он? Бессмертные боги! Как видно, к тем, о чьих даже днях рожденья мы вынуждены узнавать! (15) Сегодня Антоний на форум не спускался. Почему? Он устраивает в своем загородном имении празднество по случаю дня рождения. Для кого? Имен называть не стану. Положим — или для какого-то Формиона, или для Гнафона, а там даже и для Баллиона[2377]. О, гнусная мерзость! О, нестерпимое бесстыдство, ничтожность, разврат этого человека! Хотя первоприсутствующий в сенате, гражданин исключительного достоинства — твой близкий родственник, но ты к нему по поводу положения государства не обращаешься; ты обращаешься к тем, которые своего достояния не имеют, а твое проматывают!
(VII) Твое консульство, видимо, было спасительным; губительным было мое. Неужели ты до такой степени вместе со стыдливостью утратил и всякий стыд, что осмелился сказать это в том самом храме, где я совещался с сенатом, стоявшим некогда, в расцвете своей славы, во главе всего мира, и где ты собрал отъявленных негодяев с мечами в руках? (16) Но ты даже осмелился — на что только не осмелишься ты? — сказать, что в мое консульство капитолийский склон заполнили вооруженные рабы[2378]. Пожалуй, именно для того, чтобы сенат вынес в ту пору свои преступные постановления, и я пытался применить насилие к сенату! О, жалкий человек! Тебе либо ничего об этом не известно (ведь о честных поступках ты не знаешь ничего), либо, если известно, то как ты смеешь столь бесстыдно говорить в присутствии таких мужей! В самом деле, какой римский всадник, какой, кроме тебя, знатный юноша, какой человек из любого сословия, помнивший о том, что он — гражданин, не находился на капитолийском склоне, когда сенат собрался в этом храме? Кто только не внес своего имени в списки? Впрочем, писцы даже не могли справиться с работой, а списки не могли вместить имен всех явившихся. (17) И право, когда нечестивцы сознались в покушении на отцеубийство отчизны и, изобличенные показаниями своих соучастников, своим почерком, чуть ли не голосом своих писем, признали, что сговорились город Рим предать пламени, граждан истребить, разорить Италию, уничтожить государство, то мог ли найтись человек, который бы не поднялся на защиту всеобщей неприкосновенности, тем более, что у сената и римского народа тогда был такой руководитель[2379], при котором, будь ныне кто-нибудь, подобный ему, тебя постигла бы та же участь, какую испытали те люди?
Антоний утверждает, что я не выдал ему тела его отчима для погребения. Даже Публию Клодию никогда не приходило в голову говорить это; да, я с полным основанием был недругом твоего отчима, но меня огорчает, что ты уже превзошел его во всех пороках. (18) Но как тебе пришло на ум напомнить нам, что ты воспитан в доме Публия Лентула? Или мы, по-твоему, пожалуй, могли подумать, что ты от природы не смог бы оказаться таким негодяем, не присоединись еще обучение?
(VIII) Но ты был столь безрассуден, что во всей своей речи как будто боролся сам с собой и высказывал мысли, не только не связанные одна с другой, но чрезвычайно далекие одна от другой и противоречивые, так что ты спорил не столько со мной, сколько с самим собой. Участие своего отчима в столь тяжком преступлении ты признавал, а на то, что его постигла кара, сетовал. Таким образом, то, что сделано непосредственно мной, ты похвалил, а то, что всецело принадлежит сенату, ты осудил. Ибо взятие виновных под стражу было моим делом, наказание — делом сената. Красноречивый человек, он не понимает, что того, против кого он говорит, он хвалит, а тех, перед чьим лицом говорит, порицает. (19) А это? Какой, не скажу — наглости (ведь он желает быть наглым), но глупости, которой он превосходит всех (правда, этого он вовсе не хочет), приписать то обстоятельство, что он упоминает о капитолийском склоне, когда вооруженные люди снуют между нашими скамьями, когда — бессмертные боги! — в этом вот храме Согласия, где в мое консульство были внесены спасительные предложения, благодаря которым мы прожили до нынешнего дня, стоят люди с мечами в руках? Обвиняй сенат, обвиняй всадническое сословие, которое тогда объединилось с сенатом, обвиняй все сословия, всех граждан, лишь бы ты признал, что именно теперь итирийцы[2380] держат наше сословие в осаде. Не по наглости своей говоришь ты все это так беззастенчиво, но потому, что ты, не замечая всей противоречивости своих слов, вообще ничего не смыслишь. В самом деле, возможно ли что-либо более бессмысленное, чем, взявшись самому за оружие на погибель государству, упрекать другого в том, что он взялся за оружие во имя его спасения?
(20) Но ты по какому-то поводу захотел показать свое остроумие. Всеблагие боги! Как это тебе не пристало! В этом ты немного виноват; ибо ты мог перенять хотя бы немного остроумия у своей жены-актрисы[2381]. «Меч, перед тогой склонись!»[2382] Что же? Разве меч тогда не склонился перед тогой? Но, правда, впоследствии перед твоим мечом склонилась тога. Итак, спросим, что было лучше: чтобы перед свободой римского народа склонились мечи злодеев или чтобы наша свобода склонилась перед твоим мечом? Но насчет стихов я не стану отвечать тебе более подробно. Скажу тебе коротко одно: ни в стихах, ни вообще в литературе ты ничего не смыслишь; я же никогда не оставлял без своей поддержки ни государства, ни друзей и все-таки всеми своими разнообразными сочинениями достиг того, что мои ночные труды и мои писания в какой-то мере служат и юношеству на пользу, и имени римлян во славу. Но говорить об этом не время; рассмотрим вопросы более важные.
(IX, 21) Публий Клодий был, как ты сказал, убит по моему наущению. А что подумали бы люди, если бы он был убит тогда, когда ты с мечом в руках преследовал его на форуме, на глазах у римского народа, и если бы ты довел дело до конца, не устремись он по ступеням книжной лавки и не останови он твоего нападения, загородив проход?[2383] Что я это одобрил, признаю́сь тебе; что я это посоветовал, даже ты не говоришь. Но Милону я не успел даже выразить свое одобрение, так как он довел дело до конца, прежде чем кто-либо мог предположить, что он это сделает. Но я, по твоим словам, дал ему этот совет. Ну, разумеется, Милон был таким человеком, что сам не сумел бы принести пользу государству без чужих советов! Но я, по твоим словам, обрадовался. Как же иначе? При такой большой радости, охватившей всех граждан, мне одному надо было быть печальным? (22) Впрочем, по делу о смерти Клодия было назначено следствие, правда, не вполне разумно. В самом деле, зачем понадобилось на основании чрезвычайного закона[2384] вести следствие о том, кто убил человека, когда уже существовал постоянный суд, учрежденный на основании законов? Но все же следствие было проведено. И вот, то, чего никто не высказал против меня, когда дело слушалось, через столько лет говоришь ты один.
(23) Кроме того, ты осмелился сказать, — и затратил на это немало слов — что вследствие моих происков Помпей порвал дружеские отношения с Цезарем и что по этой причине, по моей вине, и возникла гражданская война; насчет этого ты ошибся, правда, не во всем, но — и это самое важное — в определении времени этих событий.
(X) Да, в консульство Марка Бибула, выдающегося гражданина, я, насколько мог, не преминул приложить все усилия, чтобы отговорить Помпея от союза с Цезарем. Цезарь в этом отношении был более удачлив; ибо он сам отвлек Помпея от дружбы со мной. Но к чему было мне, после того как Помпей предоставил себя в полное распоряжение Цезаря, пытаться отвлечь Помпея от близости с ним? Глупый мог на это надеяться, а давать ему советы было бы наглостью. (24) И все же, действительно, было два случая, когда я дал Помпею совет во вред Цезарю. Пожалуй, осуди меня за это, если можешь. Один — когда я ему посоветовал воздержаться от продления империя Цезаря еще на пять лет[2385]; другой — когда я посоветовал ему не допускать внесения закона о заочных выборах Цезаря[2386]. Если бы я убедил его в любом из этих случаев, то нынешние несчастья никогда не постигли бы нас. А когда Помпей уже передал в руки Цезаря все средства — и свои, и римского народа — и поздно начал понимать то, что я предвидел уже давно, когда я видел, что на отечество наше надвигается преступная война, я все-таки не перестал стремиться к миру, согласию, мирному разрешению спора; многим известны мои слова: «О, если бы ты, Помпей, либо никогда не вступал в союз с Цезарем, либо никогда не расторгал его! В первом случае ты проявил бы свою стойкость, во втором — свою предусмотрительность». Вот каковы были, Марк Антоний, мои советы, касавшиеся и Помпея, и положения государства. Если бы они возымели силу, государство осталось бы невредимым, а ты пал бы под бременем своих собственных гнусных поступков, нищеты и позора.
(XI, 25) Но это относится к прошлому, а вот недавнее обвинение: Цезарь будто бы был убит по моему наущению[2387]. Боюсь, как бы не показалось, отцы-сенаторы, будто я — а это величайший позор — воспользовался услугами человека, который под видом обвинения превозносит меня не только за мои, но и за чужие заслуги. В самом деле, кто слыхал мое имя в числе имен участников этого славнейшего деяния? И, напротив, чье имя — если только этот человек был среди них — осталось неизвестным? «Неизвестным», говорю я? Вернее, чье имя не было тогда у всех на устах? Я скорее сказал бы, что некоторые люди, ничего и не подозревавшие, впоследствии хвалились своим мнимым участием в этом деле[2388], но действительные участники его нисколько не хотели этого скрывать. (26) Далее, разве правдоподобно, чтобы среди стольких людей, частью незнатного происхождения, частью юношей, не считавших нужным скрывать чьи-либо имена, мое имя могло оставаться в тайне? В самом деле, если для освобождения отчизны были нужны вдохновители, когда исполнители были налицо, то неужели побуждать Брутов[2389] к действию пришлось бы мне, когда они оба могли изо дня в день видеть перед собой изображение Луция Брута, а один из них — еще и изображение Агалы? И они, имея таких предков, стали бы искать совета у чужих, а не у своих родных и притом на стороне, а не в своем доме? А Гай Кассий? Он происходит из той ветви рода, которая не смогла стерпеть, уже не говорю — господства, но даже чьей бы то ни было власти[2390]. Конечно, он нуждался во мне как в советчике! Ведь он даже без этих прославленных мужей завершил бы дело в Киликии, у устья Кидна, если бы корабли Цезаря причалили к тому берегу, к какому Цезарь намеревался причалить, а не к противоположному[2391]. (27) Неужели Гнея Домиция побудила выступить за восстановление свободы не гибель его отца, прославленного мужа, не смерть дяди, не утрата высокого положения[2392], а мой авторитет? Или это я воздействовал на Гая Требония?[2393] Ведь я не осмелился бы даже давать ему советы. Тем бо́льшую благодарность должно испытывать государство по отношению к тому, кто поставил свободу римского народа выше, чем дружбу одного человека, и предпочел свергнуть власть, а не разделять ее с Цезарем. Разве моим советам последовал Луций Тиллий Кимвр?[2394] Ведь я был особенно восхищен тем, что именно он совершил это деяние, так как я не предполагал, что он его совершит, а восхищен я был по той причине, что он, не помня об оказанных ему милостях, помнил об отчизне. А двое Сервилиев — назвать ли мне их Касками или же Агалами?[2395] И они, по твоему мнению, подчинились моему авторитету, а не руководились любовью к государству? Слишком долго перечислять прочих; в том, что они были столь многочисленны, для государства великая честь, для них самих слава.
(XII, 28) Но вспомните, какими словами этот умник обвинил меня. «После убийства Цезаря, — говорит он, — Брут, высоко подняв окровавленный кинжал, тотчас же воскликнул: “Цицерон!” — и поздравил его с восстановлением свободы». Почему именно меня? Не потому ли, что я знал о заговоре? Подумай, не было ли причиной его обращения ко мне то, что он, совершив деяние, подобное деяниям, совершенным мной, хотел видеть меня свидетелем своей славы, в которой он стал моим соперником. (29) И ты, величайший глупец, не понимаешь, что если желать смерти Цезаря (а именно в этом ты меня и обвиняешь) есть преступление, то радоваться его смерти также преступление? В самом деле, какое различие между тем, кто подстрекает к деянию, и тем, кто его одобряет? Вернее, какое имеет значение, хотел ли я, чтобы оно было совершено, или радуюсь тому, что оно уже совершено? Разве есть хотя бы один человек, — кроме тех, кто радовался его господству, — который бы либо не желал этого деяния, либо не радовался, когда оно совершилось? Итак, виноваты все; ведь все честные люди, насколько это зависело от них, убили Цезаря. Одним не хватило сообразительности, другим — мужества; у третьих не было случая; но желание было у всех. (30) Однако обратите внимание на тупость этого человека или, лучше сказать, животного; ибо он сказал так: «Брут, имя которого я называю здесь в знак моего уважения к нему, держа в руке окровавленный кинжал, воскликнул: “Цицерон!” — из чего следует заключить, что Цицерон был соучастником». Итак, меня, который, как ты подозреваешь, кое-что заподозрил, ты зовешь преступником, а имя того, кто размахивал кинжалом, с которого капала кровь, ты называешь, желая выразить ему уважение. Пусть будет так, пусть эта тупость проявляется в твоих словах. Насколько она больше в твоих поступках и предложениях! Определи, наконец, консул, чем тебе представляется дело Брутов, Гая Кассия, Гнея Домиция, Гая Требония и остальных. Повторяю, проспись и выдохни винные пары. Или, чтобы тебя разбудить, надо приставить к твоему телу факелы, если ты засыпаешь при разборе столь важного дела? Неужели ты никогда не поймешь, что тебе надо раз навсегда решить, кем были люди, совершившие это деяние: убийцами или же борцами за свободу?
(XIII, 31) Удели мне немного внимания и в течение хотя бы одного мгновения подумай об этом, как человек трезвый. Я, который, по своему собственному признанию, являюсь близким другом этих людей, а по твоему утверждению — союзником, заявляю, что середины здесь нет: я признаю, что они, если не являются освободителями римского народа и спасителями государства, хуже разбойников, хуже человекоубийц, даже хуже отцеубийц, если только убить отца отчизны — бо́льшая жестокость, чем убить родного отца. А ты, разумный и вдумчивый человек? Как называешь их ты? Если — отцеубийцами, то почему ты всегда упоминал о них с уважением и в сенате, и перед лицом римского народа; почему, на основании твоего доклада сенату, Марк Брут был освобожден от запретов, установленных законами, хотя его не было в Риме больше десяти дней[2396]; почему игры в честь Аполлона были отпразднованы с необычайным почетом для Марка Брута[2397]; почему Бруту и Кассию были предоставлены провинции[2398]; почему им приданы квесторы; почему увеличено число их легатов? Ведь все это было решено при твоем посредстве. Следовательно, ты их не называешь убийцами. Из этого вытекает, что ты признаешь их освободителями, коль скоро третье совершенно невозможно. (32) Что с тобой? Неужели я привожу тебя в смущение? Ты, наверное, не понимаешь достаточно ясно, в чем сила этого противопоставления, а между тем мой окончательный вывод вот каков: оправдав их от обвинения в злодеянии, ты тем самым признал их вполне достойными величайших наград. Поэтому я теперь переделаю свою речь. Я напишу им, чтобы они, если кто-нибудь, быть может, спросит, справедливо ли обвинение, брошенное тобой мне, ни в каком случае его не отвергали. Ибо то, что они оставили меня в неведении, пожалуй, может быть нелестным для них самих, а если бы я, приглашенный ими, от участия уклонился, это было бы чрезвычайно позорным для меня. Ибо какое деяние, — о почитаемый нами Юпитер! — совершенное когда-либо, не говорю уже — в этом городе, но и во всех странах, было более важным, более славным, более достойным вечно жить в сердцах людей? И в число людей, участвовавших в принятии этого решения, ты и меня вводишь, как бы во чрево Троянского коня, вместе с руководителями всего дела? Отказываться не стану; даже благодарю тебя, с какой бы целью ты это ни делал. (33) Ибо это настолько важно, что та ненависть, какую ты хочешь против меня вызвать, ничто по сравнению со славой. И право, кто может быть счастливее тех, кто, как ты заявляешь, тобою изгнан и выслан? Какая местность настолько пустынна или настолько дика, что не встретит их приветливо и гостеприимно, когда они к ней приблизятся? Какие люди настолько невежественны, чтобы, взглянув на них, не счесть этого величайшей в жизни наградой? Какие потомки окажутся столь забывчивыми, какие писатели — столь неблагодарными, что не сделают их славы бессмертной? Смело относи меня к числу этих людей.
(XIV, 34) Но одного ты, боюсь я, пожалуй, не одобришь. Ведь я, будь я в их числе, уничтожил бы в государстве не одного только царя, но и царскую власть вообще; если бы тот стиль[2399] был в моих руках, как говорят, то я, поверь мне, довел бы до конца не один только акт, но и всю трагедию. Впрочем, если желать, чтобы Цезаря убили, — преступление, то подумай, пожалуйста, Антоний, в каком положении будешь ты, который, как очень хорошо известно, в Нарбоне принял это самое решение вместе с Гаем Требонием[2400]. Ввиду твоей осведомленности, Требоний, как мы видели, и задержал тебя, когда убивали Цезаря. Но я — смотри, как я далек от недружелюбия, говоря с тобой, — за эти честные помыслы тебя хвалю; за то, что ты об этом не донес, благодарю; за то, что ты не совершил самого дела, тебя прощаю: для этого был нужен мужчина. (35) Но если бы кто-нибудь привел тебя в суд и повторил известные слова Кассия: «Кому выгодно?»[2401] — смотри, как бы тебе не попасть в затруднительное положение. Впрочем, событие это, как ты говорил, пошло на пользу всем тем, кто не хотел быть в рабстве, а особенно тебе; ведь ты не только не в рабстве, но даже царствуешь; ведь ты в храме Опс[2402] освободился от огромных долгов; ведь ты на основании одних и тех же записей растратил огромные деньги; ведь к тебе из дома Цезаря были перенесены такие огромные средства; ведь у тебя в доме есть доходнейшая мастерская для изготовления подложных записей и собственноручных заметок и ведется гнуснейший рыночный торг землями, городами, льготами, податями. (36) И в самом деле, что, кроме смерти Цезаря, могло бы тебе помочь при твоей нищете и при твоих долгах? Ты, кажется, несколько смущен. Неужели ты в душе побаиваешься, что тебя могут обвинить в соучастии? Могу тебя успокоить: никто никогда этому не поверит; не в твоем это духе — оказывать услугу государству; у него есть прославленные мужи, зачинатели этого прекрасного деяния. Я говорю только, что ты рад ему; в том, что ты его совершил, я тебя не обвиняю. Я ответил на важнейшие обвинения; теперь и на остальные надо ответить.
(XV, 37) Ты поставил мне в вину мое пребывание в лагере Помпея[2403] и мое поведение в течение всего того времени. Если бы именно тогда, как я сказал, возымели силу мой совет и авторитет, ты был бы теперь нищим, мы были бы свободны, государство не лишилось бы стольких военачальников и войск. Ведь я, предвидя события, которые и произошли в действительности, испытывал, признаюсь, такую глубокую печаль, какую испытывали бы и другие честнейшие граждане, если бы предвидели то же самое, что я. Я скорбел, отцы-сенаторы, скорбел из-за того, что государство, когда-то спасенное вашими и моими решениями, вскоре должно было погибнуть. Но я не был столь неопытен и несведущ, чтобы потерять мужество из-за любви к жизни, когда жизнь, продолжаясь, грозила бы мне всяческими тревогами, между тем как ее утрата избавила бы меня от всех тягот. Но я хотел, чтобы остались в живых выдающиеся мужи, светила государства — столь многочисленные консуляры, претории, высокочтимые сенаторы, кроме того, весь цвет знати и юношества, а также полки честнейших граждан: если бы они остались в живых, мы даже при несправедливых условиях мира (ибо любой мир с гражданами казался мне более полезным, чем гражданская война) ныне сохранили бы свой государственный строй. (38) Если бы это мнение возобладало и если бы те люди, о чьей жизни я заботился, увлеченные надеждой на победу, не воспротивились более всего именно мне, то ты, — опускаю прочее — несомненно, никогда не остался бы в этом сословии, вернее, даже в этом городе. Но, скажешь ты, мои высказывания, несомненно, отталкивали от меня Гнея Помпея. Однако кого любил он больше, чем меня? С кем он беседовал и обменивался мнениями чаще, чем со мной? В этом, действительно, было что-то великое — люди, несогласные насчет важнейших государственных дел, неизменно поддерживали дружеское общение. Я понимал его чувства и намерения, он — мои. Я прежде всего заботился о благополучии граждан, дабы мы могли впоследствии позаботиться об их достоинстве; он же заботился, главным образом, об их достоинстве в то время. Но так как у каждого из нас была определенная цель, то именно потому наши разногласия и можно было терпеть. (39) Но что́ этот выдающийся и, можно сказать, богами вдохновленный муж думал обо мне, знают те, кто после его бегства из-под Фарсала сопровождал его до Пафа. Он всегда упоминал обо мне только с уважением, упоминал, как друг, испытывая глубокую тоску и признавая, что я был более предусмотрителен, а он больше надеялся на лучший исход. И ты смеешь нападать на меня от имени этого мужа, причем меня ты признаешь его другом, а себя покупщиком его конфискованного имущества!
(XVI) Но оставим в стороне ту войну, в которой ты был чересчур счастлив. Не стану отвечать тебе даже по поводу острот, которые я, как ты сказал, позволил себе в лагере[2404]. Пребывание в этом лагере было преисполнено тревог; однако люди даже и в трудные времена все же, оставаясь людьми, порой хотят развлечься. (40) Но то, что один человек ставит мне в вину и мою печаль, и мои остроты, с убедительностью доказывает, что я проявил умеренность и в том, и в другом.
Ты заявил, что я не получал никаких наследств[2405]. О, если бы твое обвинение было справедливым! У меня осталось бы в живых больше друзей и близких. Но как это пришло тебе в голову? Ведь я, благодаря наследствам, полученным мной, зачел себе в приход больше 20 миллионов сестерциев. Впрочем, признаю, что в этом ты счастливее меня. Меня не сделал своим наследником ни один из тех, кто в то же время не был бы моим другом, так что с этой выгодой (если только таковая была) было связано чувство скорби; тебя же сделал своим наследником человек, которого ты никогда не видел, — Луций Рубрий из Касина. (41) И в самом деле, смотри, как тебя любил тот, о ком ты даже не знаешь, белолицым ли он был или смуглым. Он обошел сына своего брата Квинта Фуфия, весьма уважаемого римского всадника и своего лучшего друга; имени того, кого он всегда объявлял во всеуслышание своим наследником, он в завещании даже не назвал; тебя, которого он никогда не видел или, во всяком случае, никогда не посещал для утреннего приветствия, он сделал своим наследником. Скажи мне, пожалуйста, если это тебя не затруднит, каков собой был Луций Турселий, какого был он роста, из какого муниципия, из какой трибы. «Я знаю о нем, — скажешь ты, — одно: какие имения у него были». Итак, он сделал тебя своим наследником, а своего брата лишил наследства? Кроме того, Антоний, насильственным путем вышвырнув настоящих наследников, захватил много имущества совершенно чужих ему людей, словно наследником их был он. (42) Впрочем, больше всего был я изумлен вот чем: ты осмелился упомянуть о наследствах, когда ты сам не мог вступить в права наследства после отца.
(XVII) И для того, чтобы собрать эти обвинения, ты, безрассуднейший человек, в течение стольких дней[2406] упражнялся в декламации, находясь в чужой усадьбе? Впрочем, как раз ты, как нередко поговаривают самые близкие твои приятели, декламируешь ради того, чтобы выдохнуть винные пары, а не для того, чтобы придать остроту своему уму. Но при этом ты, ради шутки, прибегаешь к помощи учителя, которого ты и твои друзья-пьянчужки голосованием своим признали ритором, которому ты позволил высказывать даже против тебя все, что захочет. Он, конечно, человек остроумный, но ведь и невелик труд отпускать шутки на твой счет и на счет твоего окружения. Взгляни, однако, каково различие между тобой и твоим дедом[2407]: он обдуманно высказывал то, что могло бы принести пользу делу; ты, не подумав, болтаешь о том, что никакого отношения к делу не имеет. (43) А сколько заплачено ритору! Слушайте, слушайте, отцы-сенаторы, и узнайте о ранах, нанесенных государству. Две тысячи югеров в Леонтинской области, притом свободные от обложения, предоставил ты ритору Сексту Клодию, чтобы за такую дорогую цену, за счет римского народа, научиться ничего не смыслить. Неужели, величайший наглец, также и это совершено на основании записей Цезаря? Но я буду в другом месте говорить о леонтинских и кампанских землях, которые Марк Антоний, изъяв их у государства, осквернил, разместив на них тяжко опозорившихся владельцев. Ибо теперь я, так как в ответ на его обвинения сказано уже достаточно, должен сказать несколько слов о нем самом; ведь он берется нас переделывать и исправлять. Всего я вам выкладывать не стану, дабы я, если мне еще не раз придется вступать в решительную борьбу, — как это и будет — всегда мог рассказать вам что-нибудь новенькое, а множество его пороков и проступков предоставляет мне эту возможность весьма щедро.
(XVIII, 44) Так не хочешь ли ты, чтобы мы рассмотрели твою жизнь с детских лет? Мне думается, будет лучше всего, если мы взглянем на нее с самого начала. Не помнишь ли ты, как, нося претексту[2408], ты промотал все, что у тебя было? Ты скажешь: это была вина отца. Согласен; ведь твое оправдание преисполнено сыновнего чувства. Но вот в чем твоя дерзость: ты уселся в одном из четырнадцати рядов, хотя, в силу Росциева закона[2409] для мотов назначено определенное место, даже если человек утратил свое имущество из-за превратности судьбы, а не из-за своей порочности. Потом ты надел мужскую тогу, которую ты тотчас же сменил на женскую. Сначала ты был шлюхой, доступной всем; плата за позор была определенной и не малой, но вскоре вмешался Курион, который отвлек тебя от ремесла шлюхи и — словно надел на тебя столу[2410] — вступил с тобой в постоянный и прочный брак. (45) Ни один мальчик, когда бы то ни было купленный для удовлетворения похоти, в такой степени не был во власти своего господина, в какой ты был во власти Куриона. Сколько раз его отец выталкивал тебя из своего дома! Сколько раз ставил он сторожей, чтобы ты не мог переступить его порога, когда ты все же, под покровом ночи, повинуясь голосу похоти, привлеченный платой, спускался через крышу![2411] Дольше терпеть такие гнусности дом этот не мог. Не правда ли, я говорю о вещах, мне прекрасно известных? Вспомни то время, когда Курион-отец лежал скорбя на своем ложе, а его сын, обливаясь слезами, бросившись мне в ноги, поручал тебя мне, просил меня замолвить за него слово отцу, если он попросит у отца 6 миллионов сестерциев; ибо сын, как он говорил, обязался заплатить за тебя эту сумму; сам он, горя любовью, утверждал, что он, не будучи в силах перенести тоску из-за разлуки с тобой, удалится в изгнание. (46) Какие большие несчастья этого блистательного семейства я в это время облегчил, вернее, отвратил! Отца я убедил долги сына заплатить, выкупить на средства семьи этого юношу, подающего надежды[2412], и, пользуясь правом и властью отца, запретить ему, не говорю уже — быть твоим приятелем, но с тобой даже видеться. Памятуя, что все это произошло благодаря мне, неужели ты, если бы не полагался на мечи тех, кого мы здесь видим, осмелился бы нападать на меня?
(XIX, 47) Но оставим в стороне блуд и гнусности; есть вещи, о которых я, соблюдая приличия, говорить не могу, а ты, конечно, можешь и тем свободнее, что ты позволял делать с тобой такое, что даже твой недруг, сохраняя чувство стыда, упоминать об этом не станет. Но теперь взгляните, как протекала его дальнейшая жизнь, которую я бегло опишу. Ибо я спешу обратиться к тому, что́ он совершил во время гражданской войны, в пору величайших несчастий для государства, и к тому, что́ он совершает изо дня в день. Хотя многое известно вам гораздо лучше, чем мне, я все же прошу вас выслушать меня внимательно, что вы и делаете. Ибо в таких случаях не только сами события, но даже воспоминание о них должно возмущать нашу душу; однако не будем долго задерживаться на том, что произошло в этот промежуток времени, чтобы не прийти слишком поздно к рассказу о том, что произошло за последнее время.
(48) Во время своего трибуната Антоний, который твердит о благодеяниях, оказанных им мне, был близким другом Клодия. Он был его факелом при всех поджогах, а в доме самого Клодия он уже тогда кое-что затеял. О чем я говорю, он сам прекрасно понимает. Затем он, наперекор суждению сената, вопреки интересам государства и религиозным запретам, отправился в Александрию[2413]; но его начальником был Габиний, все, что бы он ни совершил вместе с ним, считалось вполне законным. Каково же было тогда его возвращение оттуда и как он вернулся? Из Египта он отправился в Дальнюю Галлию раньше, чем возвратиться в свой дом. Но в какой дом? В ту пору, правда, каждый занимал свой собственный дом, но твоего не было нигде. «Дом?» — говорю я? Да было ли на земле место, где ты мог бы ступить ногой на свою землю, кроме одного только Мисена, которым ты владел вместе со своими товарищами по предприятию, словно это был Сисапон?[2414]
(XX, 49) Ты приехал из Галлии добиваться квестуры. Посмей только сказать, что ты приехал к своей матери[2415] раньше, чем ко мне. Я уже до этого получил от Цезаря письмо с просьбой принять твои извинения; поэтому я тебе не дал даже заговорить о примирении. Впоследствии ты относился ко мне с уважением и получил от меня помощь при соискании квестуры. Как раз в это время ты, при одобрении со стороны римского народа, и попытался убить Публия Клодия на форуме; хотя ты и пытался сделать это по своему собственному почину, а не по моему наущению, все же ты открыто заявлял, что ты — если не убьешь его — никогда не загладишь обид, которые ты нанес мне. Поэтому меня изумляет, как же ты утверждаешь, что Милон совершил свой известный поступок по моему наущению; между тем, когда ты сам предлагал оказать мне такую же услугу, я никогда тебя к этому не побуждал; впрочем, если бы ты упорствовал в своем намерении, я предпочел бы, чтобы это деяние принесло славу тебе, а не было совершено в угоду мне. (50) Ты был избран в квесторы. Затем немедленно, без постановления сената, без метания жребия[2416], без издания закона, ты помчался к Цезарю; ведь ты, находясь в безвыходном положении, считал это единственным на земле прибежищем от нищеты, долгов и беспутства. Насытившись подачками Цезаря и своими грабежами, — если только можно насытиться тем, что тотчас же извергаешь, — ты, будучи в нищете, прилетел, чтобы быть трибуном, дабы, если сможешь, уподобиться в этой должности своему «супругу»[2417].
(XXI) Послушайте, пожалуйста, теперь не о тех грязных и необузданных поступках, которыми он опозорил себя и свой дом, но о том, что́ он нечестиво и преступно совершил в ущерб нам и нашему достоянию, то есть в ущерб государству в целом; вы поймете, что его злодеяние и было началом всех зол.
(51) Когда вы, в консульство Луция Лентула и Гая Марцелла[2418], в январские календы хотели поддержать пошатнувшееся и, можно сказать, близкое к падению государство и позаботиться о самом Гае Цезаре, если он одумается, тогда Антоний противопоставил вашим планам свой проданный и переданный им в чужое распоряжение трибунат и подставил свою шею под ту секиру, под которой многие, совершившие меньшие преступления, пали. Это о тебе, Марк Антоний, невредимый сенат, когда столько светил еще не было погашено, принял постановление, какое по обычаю предков принимали о враге, облаченном в тогу[2419]. И ты осмелился перед лицом отцов-сенаторов выступить против меня с речью, после того как это сословие меня признало спасителем государства, а тебя — его врагом? Упоминать о твоем злодеянии перестали, но память о нем не изгладилась. Пока будет существовать человеческий род и имя римского народа, — а это, с твоего позволения, будет всегда — губительной будут называть твою памятную нам интерцессию[2420]. (52) Разве то решение, которое сенат пытался провести, было пристрастным или необдуманным? А между тем ты один, еще совсем молодой человек, помешал всему нашему сословию принять постановление, касавшееся благополучия государства, причем ты сделал это не один раз, а делал часто и не согласился идти ни на какие переговоры относительно суждения сената[2421]. А о чем другом шла речь, как не о том, чтобы ты не стремился к полному уничтожению и ниспровержению государственного строя? После того, как на тебя не смогли повлиять ни первые среди граждан люди, обращавшиеся к тебе с просьбами, ни люди, старшие тебя годами, тебя предостерегавшие, ни собравшийся в полном составе сенат, который вел с тобой переговоры относительно твоего голоса, уже запроданного и отданного тобой, только тогда тебе после многих сделанных ранее попыток к примирению и была, по необходимости, нанесена такая рана, какая до тебя была нанесена лишь немногим, из которых не уцелел ни один. (53) Тогда-то наше сословие и вручило консулам и другим лицам, облеченным империем и властью, для действий против тебя оружие, от которого ты не спасся бы, если бы не присоединился к вооруженным силам Цезаря.
(XXII) Это ты, Марк Антоний, ты, повторяю, был тем, кто первый подал Гаю Цезарю, стремившемуся ниспровергнуть весь порядок, повод для объявления войны отчизне. И правда, на что иное ссылался Цезарь? Какую другую причину приводил он для своего безумнейшего решения и поступка[2422], как не ту, что интерцессией пренебрегли, что право трибунов попрано, что сенатом ограничен в своих полномочиях Антоний? Я уже не говорю о том, как это ложно, как это неубедительно, тем более что вообще ни у кого не может быть законного основания браться за оружие против отечества. Но о Цезаре — ни слова; а вот ты, во всяком случае, должен признать, что предлогом для самой губительной войны оказался ты сам. (54) О, сколь ты жалок, если понимаешь, еще более жалок, если не понимаешь, что одно только будет внесено в летописи, одно будет сохранено в памяти, одного только даже потомки наши во все века никогда не забудут: того, что консулы были из Италии изгнаны и вместе с ними Гней Помпей, украшение и светило державы римского народа. Все консуляры, у которых сохранилось еще достаточно сил, чтобы перенести это потрясение и это бегство, все преторы, претории, народные трибуны, значительная часть сената, вся молодежь, словом, все государство было выброшено и изгнано из места, где оно пребывало. (55) Подобно тому как в семенах заложена основа возникновения деревьев и растений, так семенем этой горестной войны был ты. Вы скорбите о том, что три войска римского народа истреблены — истребил их Антоний. Вы не досчитываетесь прославленных граждан — и их отнял у нас Антоний. Авторитет нашего сословия ниспровергнут — ниспроверг его Антоний. Словом, если рассуждать строго, все то, что мы впоследствии увидели (а каких только бедствий не видели мы?), мы отнесем на счет одного только Антония. Как Елена для троянцев, так Марк Антоний для нашего государства стал причиной войны, мора и гибели. Остальное время его трибуната было подобным его началу. Он совершил все то, что сенат старался предотвратить, пока государство было невредимо.
(XXIII, 56) Но я все же сообщу вам еще об одном его преступлении в ряду прочих: он восстановил в гражданских правах многих людей, утративших их; о своем дяде[2423] он при этом даже не упомянул. Если он строг, то почему не ко всем? Если сострадателен, то почему не к своим родным? Но о других я не говорю. А вот Лициния Дентикула, осужденного за игру в кости[2424], своего товарища по игре, он восстановил в правах, словно с осужденным играть нельзя; но он сделал это, чтобы свой проигрыш в игре покрыть милостью в виде издания закона. Какой довод в пользу его восстановления в правах ты привел римскому народу? Видимо, Лициний был привлечен к суду заочно, а приговор был вынесен без слушания дела? Может быть, суда на основании закона об игре не было; может быть, к подсудимому была применена вооруженная сила? Наконец, может быть, как говорили при суде над твоим дядей, приговор был куплен за деньги? Ничего подобного. Но мне, пожалуй, скажут: он был честным мужем и достойным гражданином. Правда, это совершенно не относится к делу, но я, коль скоро быть осужденным — теперь не порок, наверное простил бы его. Но неужели не признается вполне открыто в своем пристрастии тот, кто восстановил в правах величайшего негодяя, который без всякого стеснения играл в кости даже на форуме и был осужден на основании закона, запрещавшего игру?
(57) А во время того же самого трибуната, когда Цезарь, отправляясь в Испанию[2425], отдал Марку Антонию Италию, чтобы тот топтал ее ногами, в каком виде он разъезжал по стране, как посещал муниципии! Знаю, что касаюсь событий, молва о которых у всех на устах, и что все, о чем я говорю и буду говорить, те, кто тогда был в Италии, знают лучше, чем я; ведь меня в Италии не было[2426]. Но я все же отмечу отдельные события, хотя речь моя никак не сможет охватить все то, что знаете вы. И в самом деле, слыхано ли, чтобы на земле когда-либо были возможны такие гнусности, такая подлость, такой позор? (XXIV, 58) Разъезжал на двуколке народный трибун; ликторы, украшенные лаврами, шли впереди[2427]; между ними в открытых носилках несли актрису, которую почтенные жители муниципиев, вынужденные выходить из городов навстречу ей, приветствовали, называя ее не ее известным сценическим именем, а Волумнией[2428]. За ликторами следовала повозка со сводниками — негоднейшие спутники! Подвергшаяся такому унижению мать Антония сопровождала подругу своего порочного сына, словно свою невестку. О, несчастная женщина, чье чрево породило эту пагубу! Следы этих гнусностей он оставил во всех муниципиях, префектурах, колониях, словом, во всей Италии.
(59) Что касается его остальных поступков, отцы-сенаторы, то порицать их — дело, несомненно, трудное и щекотливое. Он был на войне, упился кровью граждан, совершенно непохожих на него, был счастлив, если на пути преступления вообще возможно счастье. Но так как мы хотим, чтобы интересы ветеранов были обеспечены, хотя положение солдат отличается от твоего (они за своим военачальником последовали, а ты добровольно к нему примкнул), все же я, дабы ты не мог вызвать в них чувства ненависти ко мне, о характере войны говорить не стану. Победителем возвратился ты из Фессалии в Брундисий с легионами. Там ты не убил меня. Сколь великое благодеяние! Согласен: это было в твоей власти. Впрочем, среди тех, кто был вместе с тобой, не было человека, который бы не считал нужным меня пощадить; (60) ибо любовь отечества ко мне так велика, что я был неприкосновенным даже и для ваших легионов, так как они помнили, что мной оно было спасено. Но допустим, что ты дал мне то, чего ты у меня не отнял, что я обязан тебе жизнью, так как ты меня ее не лишил. Но неужели я, выслушивая все твои оскорбления, мог хранить в памяти это твое благодеяние так, как я пытался хранить его ранее, тем более, что тебе, видимо, придется услышать нижеследующее?
(XXV, 61) Ты приехал в Брундисий, вернее, попал на грудь и в объятия своей милой актрисы. Что же? Разве я лгу? Как жалок человек, когда не может отрицать того, в чем сознаться — величайший позор! Если тебе не было стыдно перед муниципиями, то неужели тебе не было стыдно хотя бы перед войском ветеранов? В самом деле, какой солдат не видел ее в Брундисии? Кто из них не знал, что она ехала тебе навстречу много дней, чтобы поздравить тебя? Кто из них не почувствовал с прискорбием, что слишком поздно понял, за каким негодяем последовал? (62) И снова поездка по Италии с той же спутницей; в городах жестокое и безжалостное размещение солдат на постой, в Риме омерзительное расхищение золота и серебра, особенно запасов вина. В довершение всего Антоний, без ведома Цезаря, находившегося тогда в Александрии, но благодаря его приятелям, был назначен начальником конницы[2429]. Тогда Антоний и решил, что для него вполне пристойно вступить в близкие отношения с Гиппием и передать мимическому актеру Сергию лошадей, приносящих доход[2430]; тогда он и выбрал себе для жилья не этот вот дом, который он теперь с трудом удерживает за собой, а дом Марка Писона[2431]. К чему мне сообщать вам о его распоряжениях, о грабежах, о раздачах наследственных имуществ, о захвате их? Антония к этому побуждала его нищета, обратиться ему было некуда; ведь ему тогда еще не достались такие большие наследства от Луция Рубрия и Луция Турселия. Он еще не оказался неожиданным наследником Гнея Помпея и многих других людей, находившихся в отсутствии[2432]. Ему приходилось жить по обычаю разбойников и иметь столько, сколько он мог награбить.
(63) Но эти его поступки, которые, как они ни бесчестны, все же свидетельствуют о некотором мужестве, мы опустим; поговорим лучше о его безобразнейшей распущенности. На свадьбе у Гиппия ты, обладающий такой широкой глоткой, таким крепким сложением, таким мощным телом, достойным гладиатора, влил в себя столько вина, что тебе на другой день пришлось извергнуть его на глазах у римского народа. Как противно не только видеть это, но и об этом слышать! Если бы это случилось с тобой во время пира, — ведь огромный размер твоих кубков нам хорошо известен — кто не признал бы этого срамом? Но нет, в собрании римского народа, исполняя свои должностные обязанности, начальник конницы, для которого даже рыгнуть было бы позором, извергая куски пищи, распространявшие запах вина, замарал переднюю часть своей тоги и весь трибунал! Но он сам признает, что это относится к его грязным поступкам. Перейдем к более блистательным.
(XXVI, 64) Цезарь возвратился из Александрии счастливый, как казалось, по крайней мере, ему; хотя, по моему разумению, никто, будучи врагом государства, не может быть счастлив. Когда перед храмом Юпитера Статора было водружено копье[2433], о продаже имущества Гнея Помпея, — горе мне! ибо, хотя и иссякли слезы, но сердце мое по-прежнему терзается скорбью, — да, о продаже имущества Гнея Помпея Великого беспощаднейшим голосом объявил глашатай! И только в этом одном случае граждане, забыв о своем рабстве, тяжко вздохнули и, хотя их сердца и были порабощены, так как в то время все было охвачено страхом, вздохи римского народа все же оставались свободными. Когда все напряженно ожидали, кто же будет столь нечестив, столь безумен, столь враждебен богам и людям, что дерзнет приступить к этой злодейской покупке на торгах, то не нашлось никого, кроме Антония, хотя около этого копья стояло так много людей, посягавших на что угодно. Нашелся один только человек, дерзнувший на то, от чего, несмотря на свою дерзкую отвагу, бежали и отшатнулись все прочие. (65) Значит, тебя охватило такое отупение, вернее, такое бешенство, что ты при своем знатном происхождении, выступая покупателем на торгах и притом покупателем именно имущества Помпея, не знал, что ты проклят римским народом, что ты ненавистен ему, что все боги и все люди тебе недруги и будут ими всегда? А как нагло этот кутила тотчас же захватил себе имущество того мужа, благодаря чьей доблести римский народ стал для народов чужеземных более грозным, а благодаря справедливости — более любимым!
(XXVII) Итак, когда он вдруг набросился на имущество этого мужа, он был вне себя от радости, как действующее лицо из мима[2434], вчерашний нищий, который неожиданно стал богачом. Но, как говорится, не помню, у какого поэта, —
«Что добыто было дурно, дурно то истратится»[2435].(66) Совершенно невероятно и чудовищно то, как он в течение немногих, не скажу — месяцев, а дней пустил на ветер такое большое имущество. Были огромные запасы вина, очень много прекрасного чеканного серебра, ценные ткани, повсюду много превосходной и великолепной утвари, принадлежавшей человеку, жившему если и не в роскоши, то все же в полном достатке. В течение немногих дней от всего этого ничего не осталось. (67) Какая Харибда[2436] так прожорлива? Что я говорю — Харибда? Если она и существовала, то ведь это было только животное и притом одно. Даже Океан[2437], клянусь богом верности, едва ли мог бы так быстро поглотить так много имущества, столь разбросанного, расположенного в местах, столь удаленных друг от друга. Для Антония не существовало ни запоров, ни печатей, ни записей. Целые склады вина приносились в дар величайшим негодяям. Одно расхищали актеры, другое — актрисы. Дом был набит игроками, переполнен пьяными. Пили дни напролет и во многих местах. При игре в кости часто бывали и проигрыши; ведь он не всегда удачлив. В каморках рабов можно было видеть ложа, застланные пурпурными покрывалами Гнея Помпея. Поэтому не удивляйтесь, что это имущество было растрачено так быстро. Такая испорченность смогла бы быстро сожрать не только имущество одного человека, даже такое большое, как это, но и города и царства. (68) Но ведь он, скажут нам, захватил также и дом и загородное имение. О, неслыханная дерзость! И ты даже осмелился войти в этот дом, переступить этот священный порог, показать свое лицо величайшего подлеца богам-пенатам этого дома? В доме, на который долго никто не смел и взглянуть, мимо которого никто не мог пройти без слез, в этом доме тебе не стыдно так долго жить? Ведь в нем, хотя ты ничего не понимаешь, ничто не может быть тебе приятно.
(XXVIII) Или ты всякий раз, как в вестибуле глядишь на ростры[2438], думаешь, что входишь в свой собственный дом? Быть не может! Будь ты даже совсем лишен разума, лишен чувства (а ты именно таков), ты и себя, и свои качества, и своих сторонников все же знаешь. И я, право, не верю, чтобы ты — наяву ли или во сне — когда-либо мог быть спокоен в душе. Как бы ты ни упился вином, как бы безрассуден ты ни был (а ты именно таков), ты, всякий раз как перед тобой явится образ этого выдающегося мужа, неминуемо должен в ужасе пробуждаться от сна и впадать в бешенство, часто даже наяву. (69) Мне жаль самих стен и кровли этого дома. В самом деле, что когда-либо видел этот дом, кроме целомудренных поступков, проистекавших из самых строгих нравов и самого честного образа мыслей? Ведь муж этот, отцы-сенаторы, как вы знаете, стяжал столь же великую славу за рубежом, сколь искреннее восхищение на родине, его действия в чужих странах принесли ему не бо́льшую хвалу, чем его домашний быт. И в его доме в спальнях — непотребство, в столовых — харчевня! Впрочем, Антоний это отрицает. Не спрашивайте его, он стал порядочным человеком. Своей знаменитой актрисе он велел забрать ее вещи, на основании законов Двенадцати таблиц отобрал у нее ключи, выпроводил ее[2439]. Какой он выдающийся гражданин отныне, сколь уважаемый! Ведь за всю его жизнь из всех его поступков наибольшего уважения заслуживает его «развод» с актрисой. (70) А как часто употребляет он выражение: «И консул и Антоний»! Это означает: «Консул и бесстыднейший человек, консул и величайший негодяй». И право, чем другим является Антоний? Если бы это имя само по себе было связано с достоинством, то твой дед, не сомневаюсь, в свое время называл бы себя консулом и Антонием. Но он ни разу так себя не назвал. Так мог бы называть себя также и мой коллега, твой дядя, если только не предположить, что лишь ты один — Антоний.
Но я не стану говорить о твоих проступках, не относящихся к той твоей деятельности, которой ты истерзал государство; возвращаюсь к твоей непосредственной роли, то есть к гражданской войне, возникшей, вызванной, начатой твоими стараниями.
(XXIX, 71) В этой войне ты — по трусости и из-за своих любовных дел — не участвовал. Ты отведал крови граждан, вернее, упился ею. В Фарсальском сражении ты был в первых рядах[2440]. Луция Домиция, прославленного и знатнейшего мужа, ты убил, а многих бежавших с поля битвы, которым Цезарь, быть может, сохранил бы жизнь, — подобно тому как он сохранил ее некоторым другим, — ты безжалостно преследовал и изрубил. По какой же причине ты, совершив так много столь великих деяний, не последовал за Цезарем в Африку — тем более что война еще далеко не была закончена? Какое же место занял ты при самом Цезаре по его возвращении из Африки? Кем ты был? Тот, у кого ты, в бытность его императором, был квестором, а когда он стал диктатором, — начальником конницы, зачинщиком войны, подстрекателем к жестокости, участником в дележе военной добычи, а в силу завещания, как ты сам говорил, был сыном, именно он потребовал от тебя уплаты денег, которые ты был должен за дом, за загородное имение, за все, что купил на торгах[2441]. (72) Сначала ты ответил прямо-таки свирепо и — пусть тебе не кажется, что я во всем против тебя, — говорил, можно сказать, разумно и справедливо: «Это от меня Гай Цезарь требует денег? Почему именно он от меня, когда потребовать их от него мог бы я? Разве он без моего участия победил? Да он этого даже и не мог сделать. Это я дал ему предлог для гражданской войны; это я внес пагубные законы[2442], это я пошел войной на консулов и императоров римского народа, на сенат и римский народ, на богов наших отцов, на алтари и очаги, на отечество. Неужели Цезарь одержал победу только для себя одного? Если преступления совершены сообща, то почему же военной добыче не быть общей?» Ты имел право требовать, но что из этого? Цезарь был сильнее тебя. (73) Решительно отвергнув твои жалобы, он прислал солдат к тебе и к твоим поручителям, как вдруг ты представил тот знаменитый список[2443]. Как смеялись люди над тем, что список был таким длинным, имущество таким большим и разнообразным, а между тем в составе его, кроме участка земли на Мисене, не было ничего такого, что распродающий все это с торгов мог бы назвать своей собственностью. Что касается самих торгов, то зрелище было поистине жалким: ковры Помпея в небольшом количестве и то в пятнах, несколько измятых серебряных сосудов, принадлежавших ему же, оборванные рабы, так что нам было больно видеть эти жалкие остатки его имущества. (74) Все же наследники Луция Рубрия[2444] запретили, в силу распоряжения Цезаря, эти торги. Негодяй был в затруднительном положении, не знал, куда ему обратиться. Более того, именно в это время в доме Цезаря, как говорят, был схвачен человек с кинжалом, подосланный Антонием, на что Цезарь заявил жалобу в сенате, открыто и резко выступив против тебя. Потом Цезарь выехал в Испанию, на несколько дней продлив тебе, ввиду твоей бедности, срок уплаты. Даже тогда ты за ним не последовал. Такой хороший гладиатор и так скоро получил деревянный меч?[2445] Итак, если Антоний, защищая свои интересы, то есть свое благополучие, был столь труслив, то стоит ли его бояться?
(XXX, 75) Все же он, наконец, выехал в Испанию, но, по его словам, не смог туда безопасно добраться. Как же, в таком случае, туда добрался Долабелла? Ты не должен был становиться на ту сторону или же, став, должен был биться до конца. Цезарь трижды не на жизнь, а на смерть сразился с гражданами: в Фессалии, в Африке, в Испании. Во всех этих битвах Долабелла участвовал[2446]; в сражении в Испании он даже был ранен. Если хочешь знать мое мнение, то я бы предпочел, чтобы этого не было; но все же, хотя решение его с самого начала заслуживает порицания, похвальна его непоколебимость. А ты каков? Сыновья Гнея Помпея тогда старались прежде всего вернуться на родину. Оставим это; это касалось обеих сторон; но, кроме того, они старались вернуть себе богов своих отцов, алтари, очаги, домашнего лара — все то, что захватил ты. В то время как этого добивались с оружием в руках те, кому оно принадлежало на законном основании, кому (хотя можно ли говорить о справедливости среди величайших несправедливостей?) по справедливости следовало сражаться против сыновей Гнея Помпея? Кому? Тебе, скупщику их имущества! (76) Или может быть, пока ты в Нарбоне блевал на столы своих гостеприимцев, Долабелла должен был сражаться за тебя в Испании?
А каково было возвращение Антония из Нарбона! И он еще спрашивал меня, почему я так неожиданно повернул назад, прервав свою поездку! Недавно я объяснил вам, отцы-сенаторы, причину своего возвращения[2447]. Я хотел, если бы только смог, еще до январских календ принести пользу государству. Но ты спрашивал, каким образом я возвратился. Во-первых, при свете дня, а не потемках; во-вторых, в башмаках и тоге, а не в галльской обуви и дорожном плаще[2448]. Но ты все-таки на меня смотришь и, видимо, с раздражением. Право, ты теперь помирился бы со мной, если бы знал, как мне стыдно за твою подлость, которой сам ты не стыдишься. Из всех гнусностей, совершенных всеми людьми, я не видел ни одной, не слыхал ни об одной, более позорной. Ты, вообразивший себя начальником конницы, ты, добивавшийся на ближайший год, вернее, выпрашивавший для себя консульство, бежал в галльской обуви и в дорожном плаще через муниципии и колонии Галлии, после пребывания в которой мы обычно добивались консульства; да, тогда консульства добивались, а не выпрашивали.
(XXXI, 77) Но обратите внимание на его низость. Приехав приблизительно в десятом часу в Красные Скалы[2449], он укрылся в какой-то корчме и, прячась там, пропьянствовал до вечера. Быстро подъехав к Риму на тележке, он явился к себе домой, закутав себе голову. Привратник ему: «Ты кто?» — «Письмоносец от Марка». Его тут же привели к той, ради кого он приехал, и он передал ей письмо. Когда она, плача, читала письмо (ибо содержание этого любовного послания было таково: у него-де впредь ничего не будет с актрисой, он-де отказался от любви к той и перенес всю свою любовь на эту женщину), когда она разрыдалась, этот сострадательный человек не выдержал, открыл лицо и бросился ей на шею. О, ничтожный человек! Ибо что еще можно сказать? Ничего более подходящего сказать не могу. Итак, именно для того, чтобы она неожиданно увидела тебя, Катамита[2450], когда ты вдруг откроешь себе лицо, ты и перепугал ночью Рим и на много дней навел страх на Италию?[2451] (78) Но дома у тебя было, по крайней мере, оправдание — любовь; вне дома — нечто более позорное: опасение, что Луций Планк продаст имения твоих поручителей[2452]. Но когда народный трибун предоставил тебе слово на сходке, ты, ответив, что приехал по своим личным делам, дал народу повод изощряться на твой счет в остроумии. Но я говорю чересчур много о пустяках; перейдем к более важному.
(XXXII) Когда Гай Цезарь возвращался из Испании[2453], ты очень далеко выехал навстречу ему. Ты быстро съездил в обе стороны, дабы он признал тебя если и не особенно храбрым, то все же очень рьяным. Ты — уж не знаю как — вновь сделался близким ему человеком. Вообще у Цезаря была такая черта: если он знал, что кто-нибудь совсем запутался в долгах и нуждается, то он (если только знал этого человека как негодяя и наглеца) очень охотно принимал его в число своих близких. (79) И вот, когда ты этими качествами приобрел большое расположение Цезаря, было приказано объявить о твоем избрании в консулы и притом вместе с ним самим. Я ничуть не сокрушаюсь о Долабелле, которого тогда побудили добиваться консульства, подбили на это — и насмеялись над ним. Кто же не знает, как велико было при этом вероломство по отношению к Долабелле, проявленное вами обоими? Цезарь побудил его к соисканию консульства, нарушил данные ему обещания и обязательства и позаботился о себе; ты же подчинил свою волю вероломству Цезаря. Наступают январские календы; нас собирают в сенате. Долабелла напал на Антония и говорил гораздо более обстоятельно и с гораздо большей подготовкой, чем это теперь делаю я. (80) Всеблагие боги! Но что, в своем гневе, сказал Антоний! Прежде всего, когда Цезарь обещал, что он до своего отъезда повелит, чтобы Долабелла стал консулом (и еще отрицают, что он был царем, он, который всегда и поступал, и говорил подобным образом![2454]), и вот, когда Цезарь так сказал, этот честный авгур заявил, что облечен правами жреца, так что на основании авспиций он может либо не допустить созыва комиций, либо объявить выборы недействительными, и он заверил, что он так и поступит. (81) Прежде всего обратите внимание на его необычайную глупость. Как же так? Даже не будучи авгуром, но будучи консулом, разве не смог бы ты сделать то, что ты, по твоим словам, имел возможность сделать по праву жречества? Пожалуй, еще легче. Ведь мы обладаем только правом сообщать, что мы наблюдаем за небесными знамениями, а консулы и остальные должностные лица — и правом их наблюдать[2455]. Пусть будет так! Он сказал это по недостатку опыта; ведь от человека, никогда не бывающего трезвым, требовать разумного рассуждения нельзя; но обратите внимание на его бесстыдство. За много месяцев до того он сказал в сенате, что он либо посредством авспиций не допустит комиций по избранию Долабеллы, либо сделает то самое, что он и сделал. Мог ли кто-нибудь — кроме тех, кто решил наблюдать за небом, — предугадать, какая неправильность будет допущена при авспициях? Во время комиций этого не позволяют законы, а если кто-либо и производил наблюдения за небом, то он должен заявить об этом не после комиций, а до них. Но невежество Антония сочетается с бесстыдством: он и не знает того, что́ авгуру подобает знать, и не делает того, что приличествует добросовестному человеку. (82) Итак, вспомните его консульство, начиная с того дня и вплоть до мартовских ид[2456]. Какой прислужник был когда-либо так угодлив, так принижен? Сам он не мог сделать ничего; обо всем он просил Цезаря; припадая головой к спинке носилок, он выпрашивал у своего коллеги милости, чтобы их продавать.
(XXXIII) И вот наступает день комиций по избранию Долабеллы; жеребьевка для назначения центурии, голосующей первой[2457]; Антоний бездействует; объявляют о поданных голосах — молчит; приглашают первый разряд[2458]; объявляют о поданных голосах; затем, как это принято, голосуют всадники; затем приглашают второй разряд; все это происходит быстрее, чем я описал. (83) Когда все закончено, честный авгур — можно подумать, Гай Лелий! — говорит: «В другой день!»[2459] О, неслыханное бесстыдство! Что ты увидел, что понял, что услышал? Ведь ты не говорил, что наблюдал за небом, да и сегодня этого не говоришь. Следовательно, препятствием является та неправильность, которую ты предвидел так давно и заранее предсказал. И вот ты, клянусь Геркулесом, лживо измыслил важные авспиции, которые должны навлечь несчастье, надеюсь, на тебя самого, а не на государство; ты опутал римский народ религиозным запретом; ты как авгур по отношению к авгуру, как консул по отношению к консулу совершил обнунциацию. Не хочу распространяться об этом, дабы не показалось, что я не признаю законными действий Долабеллы, тем более что обо всем этом рано или поздно неминуемо придется докладывать нашей коллегии. (84) Но обратите внимание на надменность и наглость Антония. Значит, доколе тебе будет угодно, Долабелла избран в консулы неправильно; но когда ты захочешь, он окажется избранным в соответствии с авспициями. Если то, что авгур делает заявление в тех выражениях, в каких ее совершил ты, не значит ничего, сознайся, что ты, произнося слова «В другой день!», не был трезв. Если же в твоих словах есть какой-либо смысл, то я как авгур спрашиваю своего коллегу, в чем этот смысл заключается.
Но, дабы мне не пропустить в своей речи самого прекрасного из поступков Марка Антония, перейдем к Луперкалиям. (XXXIV) Он ничего не скрывает, отцы-сенаторы! Он обнаруживает свое волнение, покрывается потом, бледнеет. Пусть делает все, что угодно, только бы не стал блевать, как в Минуциевом портике! Как оправдать такой тяжкий позор? Хочу слышать, что ты скажешь, чтобы видеть, что такая огромная плата ритору — земли в Леонтинской области — была дана не напрасно.
(85) Твой коллега сидел на рострах, облеченный в пурпурную тогу, в золотом кресле, с венком на голове. Ты поднимаешься на ростры, подходишь к креслу (хотя ты и был луперком, ты все же должен был бы помнить, что ты — консул), показываешь диадему[2460]. По всему форуму пронесся стон. Откуда у тебя диадема? Ведь ты не подобрал ее на земле, а принес из дому — преступление с заранее обдуманным намерением. Ты пытался возложить на голову Цезаря диадему среди плача народа, а Цезарь, среди его рукоплесканий, ее отвергал. Итак, это ты, преступник, оказался единственным, кто способствовал утверждению царской власти, кто захотел своего коллегу сделать своим господином, кто в то же время решил испытать долготерпение римского народа. (86) Но ты даже пытался возбудить сострадание к себе, ты с мольбой бросался Цезарю в ноги. О чем ты просил его? О том, чтобы стать рабом? Для себя одного ты мог просить об этом; ведь ты с детства жил, вынося все что угодно и с легкостью раболепствуя. Ни от нас, ни от римского народа ты таких полномочий, конечно, не получал. О, прославленное твое красноречие, когда ты нагой выступал перед народом! Есть ли что-либо более позорное, более омерзительное, более достойное любой казни? Ты, может быть, ждешь, что мы станем колоть тебя стрекалами? Так моя речь, если только в тебе осталась хотя бы капля чувства, тебя мучит и терзает до крови. Боюсь, как бы мне не пришлось умалить славу наших великих мужей[2461], но я все же скажу, движимый чувством скорби. Какой позор! Тот, кто возлагал диадему, жив, а убит — и, как все признают, по справедливости — тот, кто ее отверг. (87) Но Антоний даже приказал дополнить запись о Луперкалиях, имеющуюся в фастах: «По велению народа, консул Марк Антоний предложил постоянному диктатору Гаю Цезарю царскую власть. Цезарь ее отверг». Вот теперь меня совсем не удивляет, что ты вызываешь смуту, ненавидишь, уже не говорю — Рим, нет, даже солнечный свет, что ты, вместе с отъявленными разбойниками, живешь тем, что вам перепадет в данный день, и только на нынешний день и рассчитываешь. В самом деле, где мог бы ты в мирных условиях найти себе пристанище? Разве для тебя найдется место при наличии законности и правосудия, которые ты, насколько это было в твоих силах, уничтожил, установив царскую власть? Для того ли был изгнан Луций Тарквиний, казнены Спурий Кассий, Спурий Мелий, Марк Манлий[2462], чтобы через много веков Марк Антоний, нарушая божественный закон, установил в Риме царскую власть?
(XXXV, 88) Но вернемся к вопросу об авспициях, о которых Цезарь собирался говорить в сенате в мартовские иды. Я спрашиваю: как поступил бы ты тогда? Я, действительно, слыхал, что ты пришел, подготовившись к ответу, так как ты будто бы думал, что я буду говорить о тех вымышленных авспициях, с которыми тем не менее было необходимо считаться. Не допустила этого в тот день счастливая судьба государства. Но разве гибель Цезаря лишила силы также и твое суждение об авспициях? Впрочем, я дошел в своей речи до времени, которому надо уделить больше внимания, чем событиям, о которых я начал говорить. Как ты бежал, как перепугался в тот славный день! Как ты, сознавая свои злодеяния, дрожал за свою жизнь, когда после бегства ты — по милости людей, согласившихся сохранить тебя невредимым, если одумаешься, — тайком возвратился домой! (89) О, сколь напрасны были мои предсказания, всегда оправдывавшиеся! Я говорил в Капитолии нашим избавителям, когда они хотели, чтобы я пошел к тебе и уговорил тебя встать на защиту государственного строя: пока ты будешь в страхе, ты будешь обещать все что угодно; как только ты перестанешь бояться, ты снова станешь самим собой. Поэтому, когда другие консуляры несколько раз ходили к тебе, я остался тверд в своем решении, не виделся с тобой ни в тот, ни на другой день и не поверил, что союз честнейших граждан с заклятым врагом можно было скрепить каким бы то ни было договором. На третий день я пришел в храм Земли, правда, неохотно, так как все пути к храму были заняты вооруженными людьми. (90) Какой это был для тебя день, Антоний! Хотя ты впоследствии неожиданно оказался моим недругом[2463], мне все-таки тебя жаль, так как ты с такой ненавистью отнесся к собственной славе[2464].
(XXXVI) Бессмертные боги! Каким и сколь великим мужем был бы ты, если бы смог тогда быть верен решениям, принятым тобой в тот день! Между нами был бы мир, скрепленный предоставлением заложника, мальчика знатного происхождения, внука Марка Бамбалиона[2465]. Но честным тебя делал страх, недолговечный наставник в соблюдении долга, негодяем тебя сделала никогда тебя не покидающая — когда ты страха не испытываешь — наглость. Впрочем, и тогда, когда тебя считали честнейшим человеком (правда, я с этим не соглашался), ты преступнейшим образом руководил похоронами тиранна, если только это можно было считать похоронами. (91) Твоей была та прекрасная хвалебная речь, твоим было соболезнование, твоими были увещания; ты, повторяю, зажег факелы — и те, которыми был наполовину сожжен Цезарь, и те, от которых сгорел дом Луция Беллиена. Это ты побудил пропащих людей и, главным образом, рабов напасть на наши дома, которые мы отстояли вооруженной силой. Однако ты же, как бы стерев с себя сажу, в течение остальных дней провел в Капитолии замечательные постановления сената, запрещавшие водружать после мартовских ид доски с извещением о каких бы то ни было льготах или милостях. Ты сам помнишь, что́ ты сказал об изгнанниках, знаешь, что́ ты сказал о льготах. Но действительно наилучшее — это то, что ты навсегда уничтожил в государстве имя диктатуры; это твое деяние как будто показывало, что ты почувствовал такую сильную ненависть к царской власти, что, ввиду недавнего нашего страха перед диктатором, был готов уничтожить самое имя диктатуры. (92) Некоторым другим людям казалось, что в государстве установился порядок, но отнюдь не мне, так как я при таком кормчем, как ты, опасался крушения государственного корабля. И разве я в этом ошибся? Другими словами — разве Антоний мог и долее быть непохож на самого себя? У вас на глазах по всему Капитолию водружались доски с записями, причем льготы продавались уже не отдельным лицам, но даже целым народам; гражданские права предоставлялись уже не отдельным лицам, а целым провинциям. Итак, если останется в силе то, что не может остаться в силе, если государство еще существует, то вы, отцы-сенаторы, утратили все провинции, рыночный торг в доме Марка Антония уменьшил уже не только подати и налоги, но и державу римского народа.
(XXXVII, 93) Где 700 миллионов сестерциев, числящиеся в книгах, хранящихся в храме Опс? Правда, это — злосчастные деньги Цезаря[2466], но все же они, если их не возвращать тем, кому они принадлежали, могли бы избавить нас от налога на недвижимость[2467]. Но каким же образом вышло, что те 40 миллионов сестерциев, которые ты был должен в мартовские иды, ты перед апрельскими календами уже не был должен? Правда, невозможно перечислить все те распоряжения, которые покупались у твоих близких не без твоего ведома, но особенно бросается в глаза одно — решение насчет царя Дейотара[2468], лучшего друга римского народа; доска с записью была водружена в Капитолии; когда она была выставлена, не было человека, который бы при всей своей скорби мог удержаться от смеха. (94) В самом деле, был ли кто-нибудь кому-либо бо́льшим недругом, чем Дейотару Цезарь, недругом в такой же мере, как нашему сословию, как всадническому, как массилийцам, как всем тем, кому, как он понимал, дорого государство римского народа? Так вот, царь Дейотар, который — ни лично, ни заочно — не добился от Цезаря при его жизни ни справедливого, ни доброго отношения к себе, теперь вдруг, после его смерти, осыпан его милостями. Цезарь, находясь на месте, привлек своего гостеприимца к ответу, установил размер пени, потребовал уплаты денег, назначил в его тетрархию одного из своих спутников-греков[2469], отнял у него Армению, предоставленную ему сенатом. Все то, что он при своей жизни отобрал, он возвращает посмертно. (95) И в каких выражениях! Он то признает это справедливым, то не признает справедливым[2470]. Удивительное хитросплетение слов! Но Цезарь — ведь я всегда заступался перед ним за Дейотара в его отсутствие — не признавал справедливой ни одной моей просьбы в пользу царя. Письменное обязательство на 10 миллионов сестерциев составили при участии послов, людей честных, но боязливых и неискушенных, составили, не узнав ни моего мнения, ни мнения других гостеприимцев царя, на женской половине дома[2471], в месте, где очень многое поступало и поступает в продажу. Советую тебе подумать, что тебе делать на основании этого письменного обязательства; ибо сам царь, по собственному почину, без всяких записей Цезаря, как только узнал о его гибели, с помощью Марса, благосклонного к нему, вернул себе свое. (96) Умудренный человек, он знал, что если у кого-либо его имущество было отнято тиранном, то после убийства тиранна оно возвращалось тому, у кого было отнято, и что это всегда считалось законным. Поэтому ни один законовед, — даже тот, который является законоведом для тебя одного[2472], тот, при чьей помощи ты и ведешь это дело, — на основании этого письменного обязательства не скажет, что за имущество, возвращенное до заключения обязательства, причитаются деньги. Ибо Дейотар у тебя его не покупал, но раньше, чем ты смог бы продать ему его собственность, он сам завладел ею. Он был настоящим мужем, а мы достойны презрения, так как вершителя мы ненавидим, а дела его защищаем.
(XXXVIII, 97) К чему мне говорить о записях, которым нет конца, о бесчисленных собственноручных заметках? Существуют даже продавцы, открыто торгующие ими, словно это объявления о боях гладиаторов. Так у него вырастают такие горы монет, что деньги уже взвешиваются, а не подсчитываются. Но сколь слепа алчность! Недавно была водружена доска с записью, на основании которой богатейшие городские общины Крита освобождались от податей и налогов и устанавливалось, что после проконсульства Марка Брута Крит уже не будет провинцией[2473]. И ты в своем уме? И тебя не следует связать? Мог ли Крит, на основании указа Цезаря, быть освобожден от повинностей после отъезда оттуда Марка Брута, когда Брут при жизни Цезаря к Криту никакого отношения не имел? Но — не думайте, что ничего не случилось, — после продажи этого указа вы Крит как провинцию утратили. Вообще еще не было покупателя, которому Антоний отказался бы что-нибудь продать. (98) А закон об изгнанниках, записанный на водруженной тобой доске, — разве Цезарь его провел? Я никого не преследую в его несчастье. Я только, во-первых, сетую на то, что при своем возвращении оказались опозоренными те люди, чьи дела сам Цезарь расценивал как особые[2474]; во-вторых, я не знаю, почему ты не предоставляешь этой же милости и остальным; ведь их осталось не больше трех-четырех человек. Почему люди, которых постигло одинаковое несчастье, не находят у тебя одинакового сострадания? Почему ты обращаешься с ними так же, как со своим дядей, о котором ты отказался провести закон, когда проводил его насчет остальных? Ведь ты даже побудил его добиваться цензуры, причем ты так подготовил его соискание, что оно вызывало и смех, и сетования. (99) Но почему ты не созвал этих комиций? Не потому ли, что народный трибун намеревался возвестить о том, что молния упала с левой стороны?[2475] Когда что-нибудь важно для тебя, авспиции ничего не значат; когда это важно для твоих родных, ты становишься благочестивым. Далее, разве при назначении септемвиров[2476] ты не обошел его, когда он был в затруднительном положении? Правда, в это дело вмешался человек, отказать которому ты, видимо, не решился, страшась за свою жизнь. Ты всячески оскорблял того, кого ты, будь в тебе хоть капля совести, должен был бы почитать, как отца. Его дочь, свою двоюродную сестру[2477], ты выгнал, подыскав и заранее найдя для себя другую женщину. Мало того, самую нравственную женщину ты ложно обвинил в бесчестном поступке. Что можно добавить к этому? Ты и этим не удовольствовался. В январские календы, когда сенат собрался в полном составе, ты в присутствии своего дяди осмелился сказать, что причина твоей ненависти к Долабелле в том, что он, как ты дознался, пытался вступить в связь с твоей двоюродной сестрой и женой. Кто возьмется установить, более ли бесстыдным ты был, говоря об этом в сенате, или же более бесчестным, нападая на Долабеллу, более ли нечестивым, говоря в присутствии своего дяди, или же более жестоким, так грязно, так безбожно напав на эту несчастную женщину?
(XXXIX, 100) Но вернемся к собственноручным записям. В чем заключалось твое расследование? Ведь сенат для сохранения мира утвердил распоряжения Цезаря, но те, которые Цезарь издал в действительности, а не те, которые, по словам Антония, издал Цезарь. Откуда все они внезапно возникают, кто за них отвечает? Если они подложны, то почему находят одобрение? Если они подлинны, то почему поступают в продажу? Но ведь было решено, чтобы вы[2478] совместно с советом в июньские календы произвели расследование о распоряжениях Цезаря. Разве был такой совет? Кого ты когда бы то ни было созывал? Каких июньских календ ты ждал? Не тех ли, к которым ты, посетив колонии ветеранов, возвратился в сопровождении вооруженных людей?
О, славная твоя поездка в апреле и мае месяцах, когда ты пытался вывести колонию даже в Капую! Мы знаем, каким образом ты оттуда унес ноги; лучше было сказать — немногого недоставало, чтобы ты оттуда не унес ног[2479]. (101) Этому городу ты угрожаешь. О, если бы ты попытался действовать так, чтобы уже не приходилось жалеть об этом «немногом»! Но какую широкую известность приобрела твоя поездка! К чему упоминать мне о великолепии твоего стола, о твоем беспробудном пьянстве? Впрочем, это было накладно для тебя, но вот что накладно для нас: когда земли в Кампании изымали из числа земель, облагаемых налогом, с тем, чтобы предоставить их солдатам, то и тогда мы все считали, что государству наносится тяжелая рана[2480]. А ты эти земли раздавал участникам своих пирушек и любовных игр. Об актерах и актрисах, расселенных в Кампанской области, говорю я, отцы-сенаторы. Стоит ли мне теперь сетовать на судьбу леонтинских земель?[2481] Ведь именно эти угодья, кампанские и леонтинские, считались плодороднейшими и доходнейшими из всего достояния римского народа. Врачу — три тысячи югеров. А сколько бы он получил, если бы тогда вылечил тебя? Ритору[2482] — две тысячи. А что, если бы ему удалось сделать тебя красноречивым? Но поговорим еще о твоей поездке и Италии.
(XL, 102) Ты вывел колонию в Касилин, куда Цезарь ранее уже вывел колонию. Ты в письме спросил моего совета (это, правда, касалось Капуи, но я дал бы такой же совет насчет Касилина[2483]): позволяет ли тебе закон вывести новую колонию туда, где колония уже существует? Я указал, что вывод новой колонии в ту колонию, которая была выведена с совершением авспиций, противозаконен, пока эта последняя существует. В своем письме я ответил, что новые колоны могут приписаться. Но ты, безмерно зазнавшись и нарушив все права авспиций, вывел колонию в Касилин, куда несколькими годами ранее уже была выведена колония, причем ты поднял знамя и провел границы плугом[2484], лемехом которого ты, можно сказать, чуть не задел ворот Капуи, так что земли процветавшей колонии уменьшились. (103) После этого нарушения религиозных запретов ты набросился на касинское поместье Марка Варрона[2485], честнейшего и неподкупнейшего мужа. По какому праву? Какими глазами мог ты на него смотреть? «Такими же, — скажешь ты, — какими я смотрел на имения наследников Луция Рубрия, на имения наследников Луция Турселия и на бесчисленные остальные владения». А если ты сделал это, купив их на торгах, то пусть остаются в силе торги, пусть остаются в силе записи, лишь бы это были записи Цезаря, а не твои, иными словами, те, в которых были записаны твои долги, а не те, на основании которых ты от долгов избавился. Что же касается поместья Варрона в Касине, то кто мог бы утверждать, что оно поступило в продажу? Кто видел копье, водруженное при этой продаже? Кто слышал голос глашатая? Ты, по твоим словам, посылал в Александрию человека, чтобы он купил поместье у Цезаря; ибо дождаться его самого тебе было трудно. (104) Но кто и когда слыхал, что какая-то часть имущества Варрона была утрачена, между тем его благополучием было озабочено множество людей? Далее, а что, если Цезарь в своем письме даже велел тебе возвратить это имущество? Что еще можно сказать о таком бесстыдстве? Убери хотя бы на короткое время те мечи, которые мы видим: ты сразу поймешь, что одно дело — торги, устроенные Цезарем, другое — твоя самоуверенность и наглость. Ведь тебя на этот участок не допустит, уже не говорю — сам собственник, но даже любой его друг, сосед, гость, управитель.
(XLI) А сколько дней подряд ты предавался в этой усадьбе позорнейшим вакханалиям! Начиная с третьего часа пили, играли, извергали из себя[2486]. О, несчастный кров «при столь неподходящем хозяине»![2487] А впрочем, разве он стал там хозяином? Ну, скажем, «при неподходящем постояльце»! Ведь Марк Варрон хотел, чтобы у него было убежище для занятий, а не для разврата. (105) О чем ранее в усадьбе этой говорили, что обдумывали, что записывали! Законы римского народа, летописи старины, все положения философии и науки. Но когда постояльцем в нем был ты (ибо хозяином ты не был), все оглашалось криками пьяных, полы были залиты вином, стены забрызганы; свободнорожденные мальчики толклись среди продажных, распутницы — среди матерей семейств. Приезжали люди из Касина, из Аквина, из Интерамны; к тебе не допускали никого. Впрочем, это как раз было правильно; ведь у столь тяжко опозорившегося человека и знаки его достоинства были осквернены.
(106) Когда он, отправившись оттуда в Рим, подъезжал к Аквину, навстречу ему вышла довольно большая толпа людей, так как этот муниципий густо населен. Но его пронесли через город в закрытых носилках, словно мертвеца. Аквинаты, конечно, поступили глупо, но ведь они жили у дороги. А анагнийцы? Они, так как их город находится в стороне от дороги, спустились на дорогу, чтобы приветствовать его как консула, как будто он действительно был им. Трудно поверить, если скажут […], но тогда всем слишком хорошо было известно, что он никого не принял, тем более, что при нем было двое анагнийцев, Мустела и Лакон, один из которых — первый по части меча, другой — по части кубков[2488]. (107) Стоит ли мне упоминать об угрозах и оскорблениях, с какими он налетел на сидицинцев[2489], о том, как он мучил путеоланцев за то, что они избрали своими патронами[2490] Гая Кассия и Брутов? Жители этих городов сделали это из великой преданности, рассудительности, благожелательности, приязни, а не под давлением вооруженной силы, как избирали в патроны тебя, Басила[2491] и других, подобных вам людей; ведь никто не хотел бы даже иметь вас клиентами; не говорю уже — быть вашим клиентом.
(XLII) Между тем в твое отсутствие, какой торжественный день наступил для твоего коллеги, когда он разрушил на форуме тот надгробный памятник, который ты привык почитать![2492] Когда тебе сообщили об этом, ты, как видели все, кто был вместе с тобой, рухнул наземь. Что произошло впоследствии, не знаю. Думаю, что страх перед вооруженной силой одержал верх; ты сбросил своего коллегу с небес и добился того, что он стал если даже и теперь непохожим на тебя, то, во всяком случае, непохожим на самого себя.
(108) А каково было потом возвращение Антония в Рим! Какая тревога во всем городе! Мы вспоминали непомерную власть Цинны, затем — господство Суллы; недавно мы видели, как царствовал Цезарь. Были, быть может, и тогда мечи, но припрятанные и не особенно многочисленные. Но каковы и сколь сильны твои злодеи-спутники! Они следуют за тобой в боевом порядке, с мечами в руках. Мы видим, как несут парадные носилки, полные щитов. Но мы, отцы-сенаторы, уже притерпевшись к этому, благодаря привычке закалились. В июньские календы мы, как было решено, хотели явиться в сенат, но, охваченные страхом, тотчас же разбежались. (109) А Марк Антоний, ничуть не нуждавшийся в сенате, не почувствовал тоски ни по одному из нас, нет, он даже обрадовался нашему отъезду и тотчас же совершил свои изумительные деяния. Подлинность собственноручных записей Цезаря он отстоял из своекорыстных побуждений, но законы Цезаря и притом наилучшие[2493] он уничтожил, дабы иметь возможность поколебать государственный строй. Наместничества он продлил на ряд лет и, хотя именно ему следовало быть защитником распоряжений Цезаря, отменил его распоряжения, касающиеся и государственных, и частных дел. В государственных делах нет ничего более важного, чем закон; в частных делах самое прочное — завещание. Одни законы он отменил без промульгации[2494], о других промульгацию совершил, чтобы их упразднить. Завещание же он свел на нет, а оно даже для самых незначительных граждан всегда сохранялось в силе. Статуи и картины, которые Цезарь завещал народу вместе со своими садами, он перевез отчасти в сады Помпея, отчасти в усадьбу Сципиона.
(XLIII, 110) И это ты хранишь память о Цезаре? Ты чтишь его после его смерти? Можно ли было оказать ему больший почет, чем предоставление ему ложа, изображения, двускатной кровли и назначение фламина?[2495] И вот теперь, подобно тому как фламин есть у Юпитера, у Марса, у Квирина, у божественного Юлия им является Марк Антоний. Почему же ты медлишь? Где же твоя инавгурация?[2496] Назначь для этого день; подумай, кто мог бы совершить твою инавгурацию; ведь мы — коллеги, и никто не откажется сделать это. О, гнусный человек! — безразлично, являешься ли ты жрецом Цезаря или жрецом мертвеца. Далее, я спрашиваю: разве тебе неизвестно, какой сегодня день? Разве ты не знаешь, что вчера был четвертый день Римских игр в Цирке[2497] и что ты сам внес на рассмотрение народа предложение, чтобы пятый день этих игр дополнительно был посвящен Цезарю? Почему же мы сегодня не облечены в претексты, почему мы терпим, что Цезарю, в силу твоего же закона, не оказывают почета, положенного ему? Или осквернение молебствия прибавлением одного дня ты допустил, а осквернения лож не захотел? Либо изгоняй благочестие отовсюду, либо повсюду его сохраняй. (111) Ты спросишь, одобряю ли я, что у Цезаря были ложе, двускатная кровля, фламин. Нет, я ничего этого не одобряю. Но ты, который защищаешь распоряжения Цезаря, как объяснишь ты, почему ты одно защищаешь, а о другом не заботишься? Уж не хочешь ли ты сознаться в том, что имеешь в виду только свою выгоду, а вовсе не почести, оказываемые Цезарю? Что ты на это, наконец, ответишь? Ведь я жду потока твоего красноречия. Твоего деда я знал как красноречивейшего человека, тебя — даже как чересчур откровенного в речах. Он никогда не выступал на народной сходке обнаженный; твою же голую грудь — простодушный человек! — мы увидели. Ответишь ли ты на это и вообще осмелишься ли ты открыть рот? Найдешь ли ты в моей столь длинной речи что-нибудь такое, на что ты решился бы дать ответ?
(XLIV, 112) Но не будем говорить о прошлом. Один только этот день, повторяю, один нынешний день, одно то мгновение, когда я говорю, оправдай, если можешь. Почему сенат находится в кольце из вооруженных людей? Почему твои приспешники слушают меня, держа мечи в руках? Почему двери храма Согласия не открыты настежь? Почему ты приводишь на форум людей из самого дикого племени — итирийцев, вооруженных луками и стрелами? Антоний, послушать его, делает это для собственной защиты. Так не лучше ли тысячу раз погибнуть, чем не иметь возможности жить среди своих сограждан без вооруженной охраны? Но это, поверь мне, вовсе не защита: любовью и расположением граждан должен ты быть огражден, а не оружием. (113) Вырвет и выбьет его у тебя из рук римский народ! О, если бы это произошло без опасности для нас! Но как бы ты ни обошелся с нами, ты, — пока ты ведешь себя так, как теперь, — поверь мне, не можешь продержаться долго. И в самом деле, твоя ничуть не жадная супруга — о которой я говорю без всякого желания оскорбить ее — слишком медлит с уплатой своего третьего взноса римскому народу[2498]. Есть у римского народа люди, которым можно доверить кормило государства: в каком бы краю света люди эти ни находились, там находится весь оплот государства, вернее, само государство, которое доселе за себя только покарало[2499], но еще не возродилось[2500]. Есть в государстве, несомненно, и молодые знатнейшие люди, готовые выступить в его защиту. Пусть они, заботясь о сохранении спокойствия в государстве, и отступят, насколько захотят, государство все же призовет их. И слово «мир» приятно, и самый мир спасителен; различие между миром и рабством огромно. Мир — это спокойная свобода, рабство же — это худшее из всех зол, от которого мы должны отбиваться не только войной, но и ценой жизни. (114) Но если наши освободители сами скрылись с наших глаз, они все же оставили нам пример в виде своего поступка. То, чего не сделал никто, сделали они. Брут пошел войной на Тарквиния, бывшего царем тогда, когда в Риме это было дозволено. Спурий Кассий, Спурий Мелий, Марк Манлий, заподозренные в стремлении к царской власти, были казнены. А эти люди впервые с мечами в руках напали не на человека, притязавшего на царскую власть, а на того, кто уже царствовал. Это поступок, славный сам по себе и божественный; он совершен у нас на глазах как пример для подражания — тем более, что они стяжали такую славу, какую небо едва ли может вместить. Хотя уже само сознание прекрасного поступка и было для них достаточной наградой, я все же думаю, что смертному не следует презирать бессмертия.
(XLV, 115) Вспомни же, Марк Антоний, тот день, когда ты уничтожил диктатуру. Представь себе воочию ликование римского народа и сената, сравни это с чудовищным торгом, который ведешь ты и твои приспешники. Ты поймешь тогда, как велико различие между барышом и заслугами. Но подобно тому как люди, во время какой-нибудь болезни страдая притуплением чувств, не ощущают приятного вкуса пищи, так развратники, алчные и преступные люди, несомненно, лишены вкуса к истинной славе. Но если слава не может побудить тебя к действиям справедливым, то неужели даже страх не может отвлечь тебя от гнуснейших поступков? Правосудия ты не боишься. Если — полагаясь на свою невиновность, хвалю; если — полагаясь на свою силу, то неужели ты не понимаешь, чего следует страшиться человеку, который дошел до того, что и правосудие ему не страшно? (116) Но если храбрых мужей и выдающихся граждан ты не боишься, так как твою жизнь защищают от них оружием, то и сторонники твои, поверь мне, недолго будут тебя терпеть. Но что это за жизнь — днем и ночью бояться своих? Уж не думаешь ли ты, что ты привязал их к себе бо́льшими благодеяниями, чем те, какие Цезарь оказал кое-кому из тех людей, которые его убили, или что тебя в каком бы то ни было отношении можно с ним сравнить? Он отличался одаренностью, умом, памятью, образованием, настойчивостью, умением обдумывать свои планы, упорством. Вступив на путь войны, он совершил деяния, хотя и бедственные для государства, но все же великие; замыслив царствовать долгие годы, он с великим трудом, ценой многочисленных опасностей осуществил то, что задумал. Гладиаторскими играми, постройками, щедрыми раздачами, играми, он привлек на свою сторону неискушенную толпу; своих сторонников он привязал к себе наградами, противников — видимостью милосердия. К чему много слов? Коротко говоря, он, то внушая страх, то проявляя терпение, приучил свободных граждан к рабству.
(XLVI, 117) Я могу сравнить тебя с ним разве только во властолюбии; во всем другом ты никак не можешь выдержать сравнения. Но несмотря на множество ран, которые он нанес государству, все же осталось кое-что хорошее: римский народ уже понял, насколько можно верить тому или иному человеку, на кого можно положиться, кого надо остерегаться. Но ведь об этом ты не думаешь и не понимаешь, что для храбрых мужей достаточно понять, насколько прекрасным поступком является убийство тиранна, насколько приятно оказать людям это благодеяние, сколь великую славу оно приносит. (118) Неужели люди, не стерпевшие власти Цезаря, стерпят твою? Поверь мне, вскоре они, друг с другом состязаясь, ринутся на этот подвиг и не станут долго ждать удобного случая.
Образумься наконец, прошу тебя; подумай о том, кем ты порожден, а не о том, среди каких людей ты живешь. Ко мне относись, как хочешь; помирись с государством. Но о себе думай сам; я же о себе скажу вот что: я защитил государство, будучи молод; я не покину его стариком. С презрением отнесся я к мечам Катилины, не испугаюсь и твоих. Более того, я охотно встретил бы своей грудью удар, если бы мог своей смертью приблизить освобождение сограждан, дабы скорбь римского народа, наконец, породила то, что она уже давно рождает в муках. (119) И в самом деле, если около двадцати лет назад я заявил в этом же самом храме, что для консуляра не может быть безвременной смерти[2501], то насколько с бо́льшим правом я скажу теперь, что ее не может быть для старика! Для меня, отцы-сенаторы, смерть поистине желанна, когда все то, чего я добивался, и все то, что я совершал, выполнено. Только двух вещей я желаю: во-первых, чтобы я, умирая, оставил римский народ свободным (ничего большего бессмертные боги не могут мне даровать); во-вторых, чтобы каждому из нас выпала та участь, какой он своими поступками по отношению к государству заслуживает.
27. Четырнадцатая филиппика против Марка Антония [В сенате, 21 апреля 43 г. до н. э.]
(I, 1) Если бы, отцы-сенаторы, с такой же достоверностью, с какой я из прочитанного донесения узнал, что войско преступнейших врагов истреблено и рассеяно, я узнал и о том, чего все мы особенно сильно желаем и что, по нашему мнению, является следствием одержанной ныне победы, — а именно, что Децим Брут уже вышел из Мутины, — если бы я об этом узнал, то я, не колеблясь, предложил бы снова вернуться к нашей обычной одежде, ибо спасен тот человек, ради которого мы надели военные плащи, когда ему угрожала опасность. Однако, пока нам не сообщено о событии, которого граждане ждут с величайшим нетерпением, достаточно, если мы будем радоваться исходу величайшей и достославной битвы. Возвращение же к нашей обычной одежде отложите до полной победы. А завершение этой войны — в спасении Децима Брута.
(2) Но что означает такое предложение — сегодня сменить одежду, а затем, завтра, явиться опять в военных плащах? Нет, как только мы снова наденем ту одежду, которую мы стремимся носить, по которой мы тоскуем, мы должны постараться сохранить ее навсегда. Ибо это был бы поступок позорный и даже неугодный бессмертным богам: покинуть их алтари, к которым мы подойдем, одетые в тоги, чтобы надеть военные плащи. (3) Однако я замечаю, отцы-сенаторы, что кое-кто стоит за это предложение[2502]. И вот каковы замыслы и цели этих людей: понимая, что тот день, когда мы в честь спасения Децима Брута снова наденем свою обычную одежду, будет для него днем величайшей славы, они хотят вырвать у него из рук этот заслуженный им почет, дабы потомки наши не могли вспоминать о том, что ввиду опасности, угрожавшей одному-единственному гражданину, римский народ надевал военные плащи, а в честь его спасения снова надел тоги. Кроме этого соображения, вы не найдете никаких оснований для внесения столь несправедливого предложения. Но вы, отцы-сенаторы, сохраните свой авторитет, настаивайте на своем мнении, твердо помните то, что вы утверждали не раз: с жизнью этого одного храбрейшего и величайшего мужа связан исход всей этой войны[2503].
(II, 4) Для освобождения Децима Брута были в качестве послов отправлены наши первые граждане, дабы официально потребовать от врага и братоубийцы[2504], чтобы он отступил от Мутины. Во имя спасения все того же Децима Брута, для ведения войны выехал, после метания жребия, консул Авл Гирций, над чьим слабым здоровьем одержали верх доблесть его духа и надежда на победу. Цезарь[2505], самостоятельно набрав войско и избавив государство от бедствий, в ту пору грозивших ему, выступил — чтобы на будущее время предотвратить подобные злодеяния — для освобождения все того же Брута и свою скорбь по поводу собственного несчастья[2506] преодолел во имя любви к отчизне. (5) А к чему другому, как не к освобождению Децима Брута, стремился Гай Панса, производя военный набор, собирая деньги, добиваясь строжайших постановлений сената, направленных против Антония, ободряя нас, призывая римский народ к защите дела свободы? Римский народ, присутствуя в полном составе на сходках, единогласно потребовал от него спасения Децима Брута, ставя это спасение выше, чем, не говорю уже — свои собственные выгоды, но даже свою потребность в насущном хлебе. Это дело, как мы, отцы-сенаторы, должны надеяться, теперь либо совершается, либо уже завершено; но радость по поводу осуществления наших надежд следует все же отложить до исхода событий, дабы не показалось, что мы своей поспешностью предвосхитили милость бессмертных богов или же по своему неразумию презрели силу Судьбы.
(6) Однако, коль скоро ваше поведение показывает достаточно ясно, что́ вы об этом думаете, я перейду к донесениям, присланным консулами и пропретором; но сначала скажу несколько слов о том, что имеет отношение к самим донесениям.
(III) Обагрены, вернее, напоены кровью мечи наших легионов и войск, отцы-сенаторы, в двух сражениях, данных консулами[2507], и в третьем, данном Цезарем[2508]. Если вражеской была эта кровь, то велика была верность солдат их долгу; чудовищно их злодеяние, если это была кровь граждан[2509]. Доколе же человек, всех врагов превзошедший своими злодеяниями, не будет носить имени врага? Или вы, быть может, хотите, чтобы дрожало острие мечей в руках наших солдат, не знающих, кого они пронзают: гражданина или врага? (7) Молебствия[2510] вы назначаете, Антония врагом не называете. Подлинно угодными бессмертным богам будут наши благодарственные молебствия, угодными будут жертвы, когда истреблено такое множество граждан! «По случаю победы, — нам говорят, — над подлыми и наглыми людьми». Ведь так их называет прославленный муж[2511]. Но ведь это просто бранные слова, которые в ходу у тех, кто судится в Риме, а не клеймо, выжженное за участие в междоусобной войне не на жизнь, а на смерть. Можно подумать, они завещания подделывают, или выбрасывают своих соседей из их домов, или обирают юнцов. Ведь именно этими и подобными им делами и занимаются те, кого принято называть дурными и наглыми. (8) Непримиримой войной пошел на четырех консулов[2512] омерзительнейший из всех разбойников; такую же войну он ведет против сената и римского народа; всем (хотя и сам он падает под тяжестью собственных несчастий) он угрожает уничтожением, разорением, казнью, пытками; дикое и зверское преступление Долабеллы[2513], которого не мог бы оправдать ни один варварский народ, Антоний объявляет совершенным по его собственному совету, а то, что он совершил бы в нашем городе, если бы этот вот Юпитер[2514] сам не отбросил его от этого храма и от этих стен, он показал на примере несчастья, постигшего жителей Пармы[2515]. Этих честнейших мужей и весьма уважаемых людей, глубоко почитающих авторитет нашего сословия и достоинство римского народа, истребил, показав пример величайшей жестокости, Луций Антоний, бесстыдное чудовище, навлекшее на себя сильнейшую ненависть всех людей, а если и боги ненавидят тех, кто этого заслуживает, то и ненависть богов. (9) Духа у меня не хватает, отцы-сенаторы, и мне страшно сказать, что сделал Луций Антоний с детьми и женами жителей Пармы. Ибо те гнусности, какие Антонии, покрывая себя позором, сами позволяли проделывать над собой, они рады были насильно проделывать над другими. Но насилие, какому подверглись те люди, — их несчастье, а разврат, которым запятнана жизнь Антониев, — их позор. Поэтому неужели найдется человек, который не осмелится назвать врагами тех, кто, как он сам должен признать, злодеянием своим превзошел даже карфагенян при всей их жестокости.
(IV) И правда, в каком взятом городе Ганнибал проявил такую бесчеловечность, какую в захваченной хитростью Парме проявил Антоний? И разве его возможно не считать врагом и этой, и других колоний, к которым он относится так же? (10) Но если он, вне всякого сомнения, враг колониям и муниципиям, то какого ждете вы от него отношения к нашему городу, который он страстно желал захватить, чтобы насытить своих нищих разбойников, к нашему городу, который его опытный и искусный землемер Сакса[2516] уже разделил своим шнуром? Вспомните, отцы-сенаторы, — во имя бессмертных богов! — в каком страхе были мы в течение двух последних дней, после того как внутренние враги распространили гнуснейшие слухи[2517]. Кто мог взглянуть без слез на своих детей и жену? А на свой дом, на кров, на домашнего лара?[2518] Каждый думал либо о позорнейшей смерти, либо о жалком бегстве. И мы поколеблемся назвать врагами тех, кто внушал нам этот страх? Если кто-нибудь предложит более суровое название, я охотно соглашусь с ним; этим обычным названием я едва-едва могу удовлетвориться; более мягким пользоваться не стану.
(11) И так как мы, на основании прочитанных донесений, по всей справедливости должны назначить молебствия и так как Сервилий предложил назначить их, то я лишь увеличу их продолжительность — тем более, что их следует назначить от имени не одного, а троих военачальников. И прежде всего я сделаю следующее: провозглашу императорами[2519] тех, кто своей доблестью, продуманным планом действия и удачливостью избавил нас от величайших опасностей — от порабощения и гибели. И в самом деле, от чьего имени за последние двадцать лет было назначено молебствие без того, чтобы этого военачальника не провозгласили императором, хотя бы он совершил совсем незначительные деяния, а в большинстве случаев не совершил никаких? Почему либо тот, кто говорил до меня, не должен был вообще подавать голос за назначение молебствий, либо обычные и общепринятые почести следует оказать тем людям, которые имеют право даже на особые и исключительные.
(V, 12) Если бы кто-нибудь перебил тысячу или две тысячи[2520] испанцев, или галлов, или фракийцев, то сенат, по установившемуся обычаю, провозгласил бы его императором. А мы после уничтожения стольких легионов, после истребления такого великого множества врагов (я говорю — врагов? Да, повторяю, врагов, хотя наши внутренние враги и не хотят этого признать) прославленных военачальников назначением молебствий почтим, а в звании императоров им откажем? И право, какой великий почет, какое ликование встретит их, среди каких проявлений благодарности должны войти в этот вот храм сами освободители нашего города, когда вчера меня, в честь их подвигов справлявшего овацию и чуть ли не триумф[2521], римский народ проводил от моего дома в Капитолий и затем сопровождал до дому? (13) Да, заслуженный и притом настоящий триумф, — по крайней мере, по моему мнению, — бывает только тогда, когда граждане единодушно свидетельствуют о честных заслугах своих сограждан перед государством. Если, среди всеобщей радости, разделяемой римским народом, поздравляли одного человека, то это веское одобрение его заслуг; если одного человека благодарили, то это еще более важно; если же было сделано и то, и другое, то это самое великолепное, что только возможно себе представить.
«Так ты говоришь о себе самом?» — скажет кто-нибудь. Да, неохотно, но горечь обиды делает меня, против моего обыкновения, славолюбивым. Не достаточно ли того, что люди, которым доблесть не знакома, отказывают в благодарности заслуженным гражданам, а тех, кто всецело посвящает себя заботам о благе государства, они, завидуя им, стараются обвинить в мятежных действиях? (14) Ведь вы знаете, что за последние дни широко распространились толки, будто я в день Палилий[2522], то есть сегодня, спущусь на форум в сопровождении ликторов[2523]. Мне думается, такое обвинение могло быть состряпано против какого-нибудь гладиатора, или разбойника, или Катилины, а не против человека, который добился того, что именно такое событие в нашем государстве невозможно. Неужели же я, который удалил, низверг, уничтожил Катилину, замышлявшего такие действия, сам неожиданно оказался Катилиной? При каких авспициях я как авгур мог бы принять эти ликторские связки? Доколе мог бы я их при себе иметь? Кому мог бы я передать их?[2524] Кто был столь преступен, чтобы это придумать, столь безрассуден, чтобы этому поверить? Откуда же это подозрение, вернее, эти толки?
(VI, 15) Когда, как вы знаете, в течение последних трех, вернее, четырех дней из Мутины стали доходить печальные слухи[2525], то бесчестные граждане, будучи вне себя от дерзкой радости, начали собираться вместе возле той курии, которая принесла больше несчастья самим этим бешеным людям, чем государству[2526]. Когда они там составляли план нашего истребления и распределяли между собой, кто захватит Капитолий, кто — ростры, кто — городские ворота, они думали, что граждане объединятся вокруг меня. Чтобы возбудить ненависть ко мне и даже создать угрозу для моей жизни, они и распространили эти слухи насчет ликторов и сами намеревались предоставить мне ликторов. После того как это было бы сделано якобы с моего согласия, вот тогда-то наймиты и должны были напасть на меня как на тиранна, вслед за чем вы все должны были быть истреблены. Дальнейшие события сделали это явным, отцы-сенаторы, но в свое время будут раскрыты и корни всего этого преступления. (16) Поэтому народный трибун Публий Апулей, который уже со времени моего консульства знал обо всех моих намерениях и об угрожавших мне опасностях, разделял их со мной и помогал мне, не мог перенести своей обиды, вызванной моей обидой. Он созвал многолюдную сходку, во время которой римский народ проявил полное единодушие. Когда Публий Апулей, связанный со мной теснейшим союзом и дружескими отношениями, в своей речи на этой народной сходке хотел оправдать меня от подозрения насчет ликторов, все участники сходки в один голос заявили, что я никогда не питал ни единого помысла, который бы не служил благу государства. Через два-три часа после этой сходки прибыли долгожданные вестники с донесениями, так что в один и тот же день я был не только избавлен от совершенно незаслуженной вражды, но и возвеличен многократными поздравлениями римского народа.
(17) Я вставил эти замечания, отцы-сенаторы, не столько ради оправдания (ибо плохи были бы мои дела, если бы я и без этой защиты казался вам недостаточно чистым), сколько для того, чтобы напомнить кое-кому из людей, лишенных сердца и неумных, что они должны считать — как считал всегда и я сам — доблесть выдающихся граждан заслуживающей подражания, а не ненависти. Обширно поле государственной деятельности, как мудро говаривал Красс[2527], и многим людям открыт путь к славе.
(VII) О, если бы были живы те первые в государстве люди, которые после моего консульства, хотя я и сам уступал им дорогу[2528], очень охотно видели меня в числе первых! Но какую скорбь, как вы можете предполагать, должен я испытывать в настоящее время при таком малом числе стойких и храбрых консуляров, когда одни, как я вижу, питают дурные замыслы, другие вообще не заботятся ни о чем[2529], третьи недостаточно стойки в выполнении задач, взятых ими на себя, а в своих предложениях не всегда руководствуются пользой государства, а расчетами или страхом! (18) Но если кто-нибудь напрягает свои силы в борьбе из-за первенства, которой вообще быть не должно, то он очень глуп, если думает пороком пересилить доблесть: как в беге побеждают бе́гом, так среди храбрых мужей доблесть побеждают доблестью. А если я стану направлять все свои помыслы на благо государства, то неужели ты[2530] ради победы надо мной будешь строить против него козни или же, увидев, что вокруг меня собираются честные люди, станешь к себе привлекать бесчестных? Я бы не хотел этого, во-первых, ради блага государства, во-вторых, из уважения к твоей почетной должности. Но если бы дело шло о первенстве, которого я никогда не добивался, то что же, скажи на милость, было бы для меня более желанным? Ведь уступить победу дурным людям я не могу; честным, пожалуй, мог бы и притом охотно.
(19) Кое-кто недоволен тем, что римский народ это видит, замечает и об этом судит. Да разве могло случиться, чтобы люди не судили о каждом человеке в меру его заслуг? Ведь подобно тому, как обо всем сенате римский народ судит справедливейшим образом, полагая, что не было в государстве положения, когда бы это сословие было более стойким или храбрым, так все расспрашивают и о каждом из нас, а особенно о тех, кто подает голос с этого места, и желают знать, что именно каждый из нас предложил. Таким образом, люди судят о каждом в соответствии с теми заслугами, какие они признают за ним. Они помнят, что за двенадцать дней до январских календ[2531] я был первым в деле восстановления свободы; что с январских календ[2532] и по сей день я бодрствовал, защищая государство; (20) что мой дом и мои уши были днем и ночью открыты, чтобы я мог выслушивать советы и увещания любого человека; что мои письма[2533], мои послания, мои наставления призывали всех людей, где бы они ни находились, к защите отечества; что я, начиная с самых январских календ, ни разу не предложил направить послов к Антонию, всегда называл его врагом, а нынешнее положение — войной, так что я, который при всех обстоятельствах был сторонником истинного мира, теперь, когда мир губителен, самому слову «мир» стал ярым недругом. (21) Разве я не смотрел на Публия Вентидия всегда как на врага, хотя другие считали его народным трибуном?[2534] Если бы консулы захотели произвести дисцессию[2535] по этим моим предложениям, то ввиду уже одного только авторитета сената у всех этих разбойников оружие давно выпало бы из рук.
(VIII) Но то, чего тогда не удалось сделать, отцы-сенаторы, в настоящее время не только возможно, но и необходимо: тех, которые действительно являются врагами, мы должны заклеймить именно этим названием, а голосованием своим признать их врагами. (22) Ранее, когда я произносил слова «враг» и «война», не раз находились люди, которые исключали мое предложение из числа внесенных; но в данном вопросе это уже невозможно; ибо, на основании донесений консулов Гая Пансы и Авла Гирция и пропретора Гая Цезаря, мы подаем голоса за оказание почестей бессмертным богам. Кто только что голосовал за назначение молебствия, тот, не отдавая себе отчета, тем самым признал наших противников врагами; ибо во время гражданской войны никогда не назначали молебствия. Я говорю — «не назначали»? Даже победитель в своих донесениях его не требовал.
(23) Гражданскую войну вел, в бытность свою консулом, Сулла; вступив с легионами в Рим, он, кого хотел, изгнал; кого мог, казнил; о молебствии не было даже упоминания. Грозная война с Октавием возникла впоследствии; молебствия от имени Цинны устроено не было, хотя он и был победителем. За победу Цинны отомстил Сулла как император; сенат молебствия не назначил. А тебе самому, Публий Сервилий, разве прислал твой коллега[2536] донесение о Фарсальской битве, принесшей столь великие бедствия? Разве он хотел, чтобы ты доложил сенату о назначении молебствия? Конечно, нет. Но, скажут мне, он впоследствии прислал донесение о событиях в Александрии, о Фарнаке; однако по поводу Фарсальской битвы он даже не справил триумфа; ибо таких граждан отняла у нас эта битва, при которых, если бы они, уже не говорю — были живы, но даже оказались победителями, государство могло бы быть невредимо и процветать[2537]. (24) То же самое случалось и во время прежних гражданских войн. Ведь от моего имени как консула, хотя я за оружие и не брался, молебствие было назначено не ввиду истребления врагов, а за спасение граждан; это было дотоле необычным и неслыханным[2538]. Поэтому либо надо нашим императорам, — хотя они прекрасно исполнили свой долг перед государством, — несмотря на их просьбу, отказать в молебствии (а это случилось с одним только Габинием[2539]), либо тех, победа над которыми дала вам повод принять постановление о назначении молебствия, неминуемо признать врагами.
(IX) Итак, то, что Публий Сервилий совершает на деле, я выражаю и словом, провозглашая их императорами. Давая им это имя, я и тех, кто уже разбит наголову, и тех, кто остался в живых, признаю врагами, называя их победителей императорами. (25) В самом деле, как мне лучше назвать Пансу, хотя он и носит наиболее почетное звание? А Гирция? Он, правда, консул, но одно дело — звание, связанное с милостью римского народа, другое дело — звание, связанное с доблестью, то есть с победой. А Цезарь? Неужели я стану колебаться, провозгласить ли мне его, по милости богов рожденного для государства, императором? Ведь он первый отвел страшную и отвратительную жестокость Антония не только от нашего горла, но и от членов нашего тела и наших сердец. Сколь многочисленные и сколь великие доблести — бессмертные боги! — проявились в один день! (26) Ибо Панса первым выступил за то, чтобы дать битву и сразиться с Антонием, он, император, достойный Марсова легиона, подобно тому как легион достоин своего императора[2540]. Если бы Пансе удалось сдержать сильнейший пыл этого легиона, дело было бы закончено одним сражением[2541]. Но когда легион, жаждавший свободы, стремительно бросился вперед и прорвал вражеский строй, причем сам Панса сражался в первых рядах, Панса, получив две опасные раны, был вынесен с поля битвы, и его жизнь сохранена государству. Я считаю его поистине не только императором, но даже прославленным императором; ведь он, поклявшись исполнить свой долг перед государством и либо умереть, либо одержать победу, совершил второе. Да предотвратят боги первое!
(X, 27) Что сказать о Гирции? Узнав об этом, он вывел из лагеря два необычайно преданных и доблестных легиона: четвертый, который ранее, покинув Антония, присоединился к Марсову, и седьмой, состоявший из ветеранов, который доказал в этом сражении, что этим солдатам, сохранившим пожалования Цезаря[2542], имя сената и римского народа дорого. С этими двадцатью когортами без конницы Гирций, сам неся орла четвертого легиона[2543], — более прекрасного образа императора мы никогда не знали — вступил в бой с тремя легионами Антония и конницей и опрокинул, рассеял и истребил преступных врагов, угрожавших этому вот храму Юпитера Всеблагого Величайшего и храмам других бессмертных богов, домам Рима, свободе римского народа, нашей жизни и крови, так что главарь и вожак разбойников, охваченный страхом, под покровом ночи бежал с кучкой сторонников. О, счастливейшее солнце, которое, прежде чем закатиться, увидело распростертые на земле трупы братоубийц и Антония, обратившегося в бегство вместе с немногими своими приверженцами!
(28) Да неужели же кто-нибудь станет сомневаться в том, что следует провозгласить Цезаря императором? Возраст его, конечно, никому не помешает голосовать за это, коль скоро он своей доблестью победил свой возраст. А мне лично заслуги Гая Цезаря всегда казались тем более значительными, чем менее их можно было требовать от его возраста; когда мы предоставляли ему империй[2544], мы в то же время возлагали на него надежды, связанные с этим званием. Получив империй, он своими подвигами доказал справедливость нашего постановления. И вот этот юноша необычайного мужества, как вполне верно пишет Гирций, с несколькими когортами отстоял лагерь многих легионов и удачно дал сражение. Таким образом, благодаря доблести, разумным решениям и боевому счастью троих императоров, государство в один день было спасено в нескольких местах.
(XI, 29) Итак, предлагаю назначить от имени этих троих императоров пятидесятидневные молебствия[2545]. Все основания для этого я, в возможно более лестных выражениях, изложу в само́м своем предложении.
Однако, кроме того, верность нашему слову и долгу велит нам доказать храбрейшим солдатам, какие мы памятливые и благодарные люди. Поэтому предлагаю подтвердить нынешним постановлением сената наши обещания, то есть те льготы, которые мы обязались предоставить легионам по окончании войны; ибо по справедливости следует оказать почести и солдатам, тем более таким солдатам. (30) О, если бы нам, отцы-сенаторы, можно было вознаградить всех! Впрочем, мы усердно и с лихвой воздадим им то, что обещали. Но это, надеюсь, получат уже победители, в чем сенат ручается своим честным словом, и им, коль скоро они в тяжелейшее для государства время встали на его сторону, никогда не придется раскаиваться в своем решении. Но легко вознаградить тех, которые даже своим молчанием, по-видимому, предъявляют нам требования. Более важно, более ценно и наиболее достойно мудрости сената — хранить в благодарной памяти доблесть тех, кто отдал жизнь за отечество. (31) О, если бы мне пришло на ум, как лучше почтить их память! Во всяком случае я не пройду мимо следующих двух решений, которые кажутся мне наиболее неотложными: одно — увековечить славу храбрейших мужей, другое — облегчить печаль и горе их близких.
(XII) Итак, отцы-сенаторы, я нахожу нужным воздвигнуть солдатам Марсова легиона и тем, кто пал вместе с ними[2546], возможно более величественный памятник. Необычайно велики заслуги этого легиона перед государством. Это он первый порвал с разбойниками Антония; это он занял Альбу; это он перешел на сторону Цезаря; ему подражая, четвертый легион достиг благодаря своей доблести такой же славы. В четвертом легионе, победоносном, потерь нет; из Марсова легиона некоторые пали в самый миг победы. О, счастливая смерть, когда дань, положенную природе, мы отдаем за отчизну! (32) Вас же я считаю поистине рожденными для отчизны, потому что даже имя ваше происходит от Марса, так что один и тот же бог, видимо, создал этот город для народов, а вас — для этого города. Во время бегства смерть позорна, в час победы славна; ибо сам Марс обычно берет себе в заложники всех храбрейших бойцов из рядов войска[2547]. А вот те нечестивцы, которых вы истребили, даже в подземном царстве будут нести кару за братоубийство, а вы, испустившие дух в час победы, достойны жилищ и пределов, где пребывают благочестивые. Коротка жизнь, данная нам природой, но память о благородно отданной жизни вечна[2548]. Не будь эта память более долгой, чем эта жизнь, кто был бы столь безумен, чтобы ценой величайших трудов и опасностей добиваться высшей хвалы и славы? (33) Итак, прекрасна была ваша участь, солдаты, при жизни вы были храбрейшими, а теперь память о вас священна, так как ваша доблесть не может быть погребена; ни те, кто живет ныне, не предадут ее забвению, ни потомки о ней не умолчат, коль скоро сенат и римский народ, можно сказать, своими руками воздвигнут вам бессмертный памятник. Не раз во время пунийских, галльских, италийских войн у нас были многочисленные, славные и великие войска, но ни одному из них не было оказано такого почета. О, если бы мы могли больше сделать для вас! Ведь ваши заслуги перед нами еще во много раз больше. Это вы не допустили к Риму бешеного Антония; это вы отбросили его, когда он задумал возвратиться. Поэтому вам будет воздвигнут великолепный памятник и вырезана надпись, вечная свидетельница вашей доблести, внушенной вам богами, и тот, кто увидит поставленный вам памятник или услышит о нем, никогда не перестанет говорить о вас с чувством глубокой благодарности. Так вы, взамен смертной жизни, стяжали бессмертие.
(XIII, 34) Но так как честнейшим и храбрейшим гражданам, отцы-сенаторы, мы воздаем славу, сооружая почетный памятник, то утешим их близких! А для них вот что будет наилучшим утешением: для родителей, что они произвели на свет таких стойких защитников государства; для детей, что у них будут близкие им примеры доблести; для жен, что они лишились таких мужей, которых подобает скорее прославлять, чем оплакивать; для братьев, что они будут уверены в своем сходстве с ними как по внешности, так и в доблести. О, если бы наши решения и постановления помогли им всем осушить свои слезы! Вернее, если бы мы могли во всеуслышание обратиться к ним с речью, после которой они перестали бы горевать и плакать и даже обрадовались бы тому, что, хотя человеку грозят многочисленные и различные виды смерти, на долю их близких выпала смерть самая прекрасная: они не лежат непогребенные и брошенные[2549] (впрочем, даже такая смерть за отечество не должна считаться жалким уделом) и не сожжены порознь на кострах с совершением убогого обряда, но покоятся под надгробием, созданным на средства государства как почетный дар, и над ними воздвигнут памятник, который должен стать на вечные времена алтарем Доблести. (35) По этой причине величайшим утешением для их родных будет то, что один и тот же памятник свидетельствует о доблести их близких, о благодарности римского народа, о верности сената своим обещаниям и хранит воспоминания о жесточайшей войне. Ведь если бы в этой войне солдаты не проявили такой большой доблести, то от братоубийства, учиненного Марком Антонием, погибло бы имя римского народа.
Я также полагаю, отцы-сенаторы, что те награды, какие мы обещали солдатам по восстановлении государственного строя, следует своевременно и щедро выплатить оставшимся в живых и одержавшим победу; если же некоторые из тех, кому награды обещаны, пали за отечество, то я предлагаю вручить их родителям, детям, женам и братьям те же самые награды.
(XIV, 36) Итак, чтобы наконец объединить все сказанное мной, вношу следующее предложение:
«Так как Гай Панса, консул, император, начал военные действия против врагов, в каковом сражении Марсов легион с удивительной, необычайной доблестью защитил свободу римского народа, что совершили также и легионы новобранцев[2550], а сам Гай Панса, консул, император, сражаясь в гуще врагов, получил ранения; и так как Авл Гирций, консул, император, узнав о происшедшем сражении и выяснив обстоятельства дела, с выдающейся, величайшей храбростью вывел войска из лагеря и, напав на Марка Антония и на вражеское войско, полностью уничтожил его, а войско Гирция осталось невредимым и не потеряло ни одного человека; (37) и так как Гай Цезарь, пропретор, император, действуя обдуманно и осмотрительно, успешно защитил свой лагерь, разбил и истребил вражеские силы, подступившие к его лагерю, — ввиду всего этого сенат полагает и признает, что, благодаря доблести этих троих императоров, их империю, их благоразумным решениям, стойкости, непоколебимости, величию духа и военному счастью, римский народ избавлен от позорнейшего и жесточайшего рабства. И так как они, сражаясь с опасностью для жизни, спасли государство, город Рим, храмы бессмертных богов, недвижимое и движимое имущество всех граждан, а также и их детей, то в награду за эти деяния, честно, храбро и удачно совершенные, Гай Панса и Авл Гирций, консулы, императоры, один из них или оба вместе, или же, в случае их отсутствия, Марк Корнут, городской претор, должны устроить пятидесятидневные молебствия перед всеми ложами богов.
(38) И так как доблесть легионов оказалась достойной их прославленных императоров, то сенат, по восстановлении государственного строя, с величайшим усердием полностью выполнит те обещания, какие он ранее дал нашим легионам и войскам; и так как Марсов легион первый сразился с врагами и бился с их превосходящими силами, причинив им значительный урон и понеся некоторые потери; и так как солдаты Марсова легиона без всяких колебаний отдали жизнь за отечество; и так как солдаты других легионов столь же доблестно пошли на смерть за благополучие и свободу римского народа, то сенату угодно постановить, чтобы Гай Панса и Авл Гирций, консулы, императоры, — один из них или оба вместе, если признают нужным, — распорядились о сдаче подряда на сооружение величественного памятника тем, кто пролил свою кровь, защищая жизнь, свободу, достояние римского народа, город Рим и храмы бессмертных богов; и чтобы они приказали городским квесторам дать, назначить и выплатить необходимые для этого деньги, дабы в памяти потомков было увековечено жесточайшее злодеяние врагов и внушенная богами доблесть солдат; чтобы те награды, которые сенат ранее установил для солдат, были выданы родителям, детям, женам и братьям тех, кто в этой войне пал за отечество; чтобы им было отдано то, что следовало бы выдать самим солдатам, если бы, одержав победу, остались в живых те, кто, приняв смерть, одержал победу».
Римский форум (реконструкция, план)
Дополнения
Речь в защиту Луция Валерия Флакка [В суде, 59 г. до н. э.]
«Вестник древней истории», 1986, № 4. С. 188—215.
В 59 г., в первый консулат Г. Юлия Цезаря, у власти стояли объединившиеся в политический союз Цезарь, Помпей и Красс (так называемый первый триумвират). Цицерон, уклонившийся от этого союза, отошел от государственной деятельности и ограничился выступлениями в суде, носившими и политический характер. Так, он дважды защищал А. Минуция Ферма, сторонника оптиматов, и добился его оправдания, Он защищал своего коллегу по консулату Г. Антония Гибриду, который в 63—62 гг. руководил военными действиями против Катилины и по окончании проконсулата в Македонии был привлечен к суду.
Л. Валерий Флакк принадлежал к патрицианскому роду Валериев, из которого, по преданию, вышел П. Валерий Попликола (согласно традиции — первый консул Рима после изгнания царей). Его отец, Л. Флакк, был консулом в 86 г. и отправился на Восток, на войну против Митридата VI Евпатора и для борьбы с Суллой; в начале 85 г. он после неудачной попытки возмутить войска Суллы был убит своими солдатами.
Обвиняемый в деле 59 г. Л. Валерий Флакк в 86 г. участвовал в походе в Азию под началом отца, в 83 г. — в походе в Галлию под началом дяди, Г. Валерия Флакка; в 78 г. был военным трибуном у проконсула П. Сервилия Ватии, успешно действовавшего против пиратов в Киликии; затем в Испании он был квестором пропретора М. Пупия Писона Кальпурниана, а в 68—67 гг. — легатом Кв. Цецилия Метелла во время войны на Крите, после которой Крит стал римской провинцией. В 63 г. претор Л. Флакк участвовал в раскрытии заговора Катилины, арестовав на Мульвиевом мосту послов аллоброгов и захватив имевшиеся у них письма, содержавшие улики против заговорщиков.
В 62 г. Л. Флакк был пропретором провинции Азии; в 61 г. его сменил Кв. Цицерон. В начале 59 г. Флакк был обвинен в разграблении провинции и привлечен к суду, скорее всего на основании Сервилиева закона о вымогательстве, проведенного в 104 г. плебейским трибуном Г. Сервилием Главцией. Обвинителем Л. Флакка был Д. Лелий, субскрипторами (вторыми обвинителями) — Г. Апулей Дециан и некий Цетра (имя искажено). Лелий расследовал обстоятельства дела на месте, для чего выезжал в Азию; он привез оттуда свидетелей против Флакка. Председателем суда был Т. Веттий (Вектий). Начатый по обвинению в вымогательстве процесс против Л. Флакка, участника подавления движения Катилины, при цезарианцах в качестве обвинителей превращался в политический процесс, направленный против Цицерона, консула 63 г., и против оптиматов.
Цицерон защищал Флакка вместе с выдающимся оратором Кв. Гортенсием Горталом, который говорил первым. Речь Цицерона дошла до нас не полностью; возможно, что она была им сокращена впоследствии и составлена из отдельных выступлений оратора при втором слушании дела: 1) из речи, произнесенной перед вторым допросом свидетелей (§ 1—27); 2) из ряда кратких выступлений, прений с обвинителем (альтеркация) при допросе каждой группы свидетелей (§ 28—69); 3) из ответа Цицерона Дециану (§ 70 сл.). Возможно также, что опубликованная Цицероном речь представляет собой действительно произнесенную речь, прерывающуюся допросом свидетелей и чтением документов. Суд оправдал Л. Флакка.
I. (1) Когда я, среди величайших испытаний для нашего Города и державы, при необычайно тяжелом положении государства[2551], имея в лице Луция Флакка союзника и помощника, разделявшего со мною решения и опасности, спасал от резни вас и ваших жен и детей, спасал от разорения храмы, святилища, Город, Италию, то я надеялся, судьи, способствовать возвеличению Луция Флакка, а не ходатайствовать о его избавлении от несчастий. И право, в какой из почетных наград римский народ, всегда предоставлявший их предкам Луция Флакка, отказал бы ему самому, после того как он заслугами своими перед государством почти через пять столетий обновил древнюю славу Валериева рода, некогда заслуженную им при освобождении отечества[2552]. (2) И если бы вдруг нашелся человек, который стал бы либо умалять его заслуги, либо враждебно относиться к его доблести, либо завидовать его славе, то для Луция Флакка, по моему мнению, было бы лучше подвергнуться суду несведущей толпы, — впрочем, без всякой опасности для себя, — чем суду мудрейших и избранных мужей[2553]. И право, я никогда не думал, что кто-нибудь станет создавать опасности и злоумышлять против высокого положения Луция Флакка при посредстве тех самых людей, которые тогда положили основания и защитили благополучие не одних только своих сограждан, но и других народов[2554]. И даже если бы кто-нибудь замыслил когда-либо погубить Луция Флакка, я все же никогда не подумал бы, судьи, что Децим Лелий, сын честнейшего мужа, сам надеющийся достигнуть высшего почета, возьмет на себя подобное обвинение, какого скорее можно было бы ожидать от ненависти и бешенства преступных граждан, а не от его доблести и образования, полученного им в юности. И право, часто видя, что прославленные мужи отказывались от вполне оправданной вражды к гражданам с заслугами, я никогда не думал, что какой-либо друг нашего государства, после того как преданность Луция Флакка отечеству стала очевидной, неожиданно проявит к нему вражду, отнюдь не будучи им оскорблен. (3) Но так как мы во многом ошиблись, судьи, — в своих личных делах, и в государственных, — то мы и терпим то, что должны терпеть. Я прошу вас об одном: помнить, что все устои государства, весь государственный строй, вся память о прошлом, наше благополучие в настоящем, надежды на будущее — все это в вашей власти и всецело зависит от вашего голосования, от одного этого приговора. Если государство когда-либо умоляло судей проявить проницательность, строгость, мудрость и осмотрительность, то оно особенно горячо умоляет вас об этом в настоящее, да, в настоящее время.
II. Вам предстоит вынести приговор не о государстве лидийцев или мисийцев, или фригийцев, которые пришли сюда по наущению или по принуждению, но о своем собственном государстве, о положении граждан, о всеобщем благополучии, о надеждах всех честных людей, — если только осталась какая-то надежда, которая даже теперь смогла бы укрепить в стойких гражданах их образ мыслей и их убеждения; все другие прибежища для честных людей, оплот для невиновных, устои государства, мудрые решения, средства помощи, права — все это уничтожено. (4) Кого же призывать мне, кого заклинать, кого умолять? Сенат ли? Но он сам просит вас о помощи и понимает, что укрепление его авторитета поручено вашей власти. Или римских всадников? Но ведь вы, пятьдесят человек, первые в этом сословии, вынесете такой приговор, который выразит мнение всех остальных. Или римский народ? Но именно он передал в ваши руки власть над честными людьми. Поэтому, если мы на этом месте, если мы перед вашим лицом, если мы при вашем посредстве, судьи, не сохраним не авторитета своего, уже утраченного нами, но самого́ своего существования, висящего на волоске, то у нас уже не останется прибежища. Или вы, судьи, быть может, не видите, к чему клонится этот суд, о чем идет дело, для какого обвинения закладываются основания? (5) Осужден тот, кто уничтожил Катилину, пошедшего войной на отечество[2555]. Как же не бояться тому, кто изгнал Катилину из Города?[2556] Влекут, чтобы покарать того, кто добыл улики посягательства на ваше существование. Как же быть спокойным за себя тому, кто постарался их найти и раскрыть? Преследованию подвергаются участники принятых решений, их помощники и спутники. Чего не ожидать для себя зачинателям, начальникам, руководителям? О, если бы недруги мои и всех честных людей вместе со мною… (лакуна), то неизвестно, кем были бы тогда все честные люди: предводителями ли или же соратниками моими в деле сохранения всеобщего благополучия…
(Фрагменты, сохраненные схолиастом из Боббио)
(1) Он предпочел сказать: удалены.
(2) Чего пожелал для себя мой близкий друг Цетра?
(3) Что же Дециан?
(4) О, если бы слава принадлежала мне! Итак, сенат большинством…
(5) Бессмертные боги! Повторяю, Лентула…
(Миланский фрагмент)
(6) …посторонним, когда его частная жизнь и его характер известны. Поэтому я не допущу, чтобы ты, Децим Лелий, присваивал себе это право и навязывал этот закон и положение другим людям на будущее, а нам на настоящее время… (лакуна). Когда ты заклеймишь юность Луция Флакка, когда ты представишь в позорном виде последующие годы его жизни, когда ты докажешь растрату им своего состояния, его постыдные личные дела, его дурную славу в Городе, его пороки и гнусные поступки, как нам говорят, совершенные им в Испании, Галлии, Киликии, на Крите — в провинциях, где он был у всех на виду, — только тогда станем мы слушать, что думают о нем жители Тмола и Лоримы[2557]. Но Луция Флакка, которому желают оправдания столь многочисленные и столь важные провинции, которого очень многие граждане из разных областей Италии, связанные с ним давней дружбой, защищают, которого наше общее отечество держит в объятиях, памятуя о его недавней великой услуге, я (даже если вся Азия потребует его выдачи для казни) буду защищать и дам отпор. Что же? Если Азия — не вся, не наилучшая, не безупречная ее часть и притом не добровольно, не по праву, не по обычаю, не искренно, а под давлением, по наущению, по внушению, по принуждению, бессовестно, опрометчиво, из алчности, по нестойкости — обратилась в этот суд при посредстве жалких свидетелей, причем сама она никакой справедливой жалобы на беззакония заявить не может, — то все же, судьи, уничтожат ли эти свидетельские показания, относящиеся к короткому времени, доверие к обстоятельствам, признанным всеми и относящимся к продолжительному времени? Итак, я как защитник буду держаться следующего порядка боевых действий, обращающих врага в бегство: я буду теснить и преследовать обвинителя и, кроме того, потребую, чтобы противник обвинял открыто. Ну, что, Лелий? Разве что-нибудь… (лакуна). Проводил ли он время в тени дерев и в занятиях науками и искусствами, свойственными этому возрасту? Ведь он еще мальчиком отправился на войну вместе с отцом-консулом. Без сомнения, даже ввиду этого кое-что… так как подозрение…
(Фрагменты, сохраненные схолиастом из Боббио)
(1) Но если ни распущенность Азии… на самый нестойкий возраст…
(2) С этих лет он присоединился к войску своего дяди Гая Флакка.
(3) Выехав как военный трибун с Публием Сервилием, достойнейшим и неподкупнейшим гражданином…
(4) Удостоенный самых лестных отзывов с их стороны, он был избран в квесторы.
(5) При Марке Писоне, который сам заслужил бы прозвище «Фруги», если бы не получил его от предков[2558].
(6) Он же начал новую войну и завершил ее.
(7) Выданный не свидетелям из Азии, а лагерным товарищам обвинителя.
(Фрагменты, сохраненные писателями)
(8) Какова должна быть, по вашему мнению, его преданность римскому народу, какова должна быть его верность?
(9) …прирожденная ничтожность и приобретенное чванство.
(Фрагменты, сохраненные Николаем Кузанским)
(10) Человека храбрейшего и многоопытного обманщика…
(11) Что, кроме произвола, кроме наглости, кроме бессмыслицы, содержат ваши свидетельские показания, когда свидетельницей в пользу храбрейшего и виднейшего мужа является сама победа?
(12) …и немалую доблесть в военном деле, судьи!
(13) Я защищаю храброго и выдающегося человека, сильного духом, необычайного усердия и величайшего благоразумия.
(14) …смолоду участвовавшего во многих различных войнах, прежде всего отличного начальника и человека — если говорить правду — телом и душой, стремлениями и привычками рожденного и призванного к военным делам и к военному искусству.
(15) Предки наши, судьи, были так убеждены в необходимости оберегать таких людей, что защищали их не только тогда, когда они почему-либо навлекли на себя ненависть, но и тогда, когда они действительно были виноваты. Поэтому они обыкновенно не только награждали таких людей за их успешные действия, но и оказывали им снисхождение после их проступков.
(16) Встаньте, прошу вас, честнейшие люди и храбрейшие посланцы весьма уважаемой и прославленной гражданской общины, отразите — во имя бессмертных богов! — клятвопреступления и оскорбления со стороны тех, чьи копья вы так часто отражали.
(17) Человек, отмеченный всеми украшениями доблести и славы, который, мне кажется, как образец древней строгости нравов и как напоминание о старине сохраняется в нашем государстве по воле богов.
* * *
III. (6) Итак, с какими же доводами ты, Лелий, нападаешь на этого мужа? Он был под началом императора Публия Сервилия[2559] в Киликии военным трибуном; об этом умалчивают. Он был у Марка Писона квестором в Испании; о его квестуре не сказано ни слова. В войне на Крите он принимал деятельное участие и вынес на своих плечах ее бремя вместе с выдающимся императором[2560]; но и насчет этого обвинение немо. Его судебной деятельности как претора, разнообразной по содержанию и дающей много поводов для подозрений и неприязни, не касаются, а ведь его претуру, совпавшую с опаснейшими для государства событиями[2561], восхваляют даже его недруги. «А вот свидетели, — говорите вы, — ее порицают». Прежде чем говорить о том, какие это свидетели, какие надежды, чье влияние, какие побуждения привели их сюда, сколь они ничтожны, сколь они бедны, сколь они вероломны, сколь они наглы, я выскажусь о них вообще и о положении, в каком все мы находимся. Во имя бессмертных богов! И вы, судьи, о том, как человек, год назад творивший суд в Риме, годом позднее творил его в Азии, станете расспрашивать неизвестных вам свидетелей, а сами путем сопоставлений ничего не будете решать? При таком разнообразии судебных дел выносится так много решений, бывает так много обиженных влиятельных людей. Было ли когда-нибудь высказано против Флакка, уже не говорю — подозрение (оно обыкновенно все же бывает ложным), нет, хотя бы единое слово гнева или боли? (7) И в алчности обвиняется тот, кто, занимая доходнейшую должность, отказался от позорного стяжания, а в злоречивейшей гражданской общине, при занятии, очень легко навлекающем подозрения, избежал всякого злоречия, уже не говорю — обвинений? Обхожу молчанием то, чего не следует обходить: невозможно указать хотя бы одно проявление алчности в частной жизни Луция Флакка, хотя бы один спор из-за денег, хотя бы один низкий поступок в делах имущественных. На основании чьих же свидетельских показаний, если не на основании ваших, смогу я опровергнуть заявления этих людей? (8) И этот деревенский житель из Тмола, человек, неизвестный, уже не говорю, — у нас, но даже и у своих земляков, станет вам указывать, каков Луций Флакк, в котором вы оценили скромнейшего юношу, важнейшие провинции — неподкупного мужа, ваши войска — храбрейшего солдата, заботливейшего начальника, бескорыстнейшего легата и квестора, каков Луций Флакк, которого вы, здесь присутствующие, признали непоколебимейшим сенатором, справедливейшим претором и преданнейшим государству гражданином?
IV. (9) Неужели насчет того, о чем вы сами должны быть свидетелями перед другими людьми, вы станете слушать других свидетелей? И каких! Прежде всего я скажу (и это относится к ним всем), что это — греки; говорю это не потому, чтобы я более чем кто-либо другой отказывал этому народу в доверии; ведь если кто-нибудь из ваших соотечественников, по своим стремлениям и склонностям, не чуждался этих людей, то это, полагаю, был именно я. И я был таким именно тогда, когда у меня было больше досуга. Итак, среди греков есть много честных, ученых, добросовестных людей, которых на этот суд не вызывали, но есть и много бессовестных, необразованных, ничтожных, которые привлечены сюда, как я вижу, из разных соображений. Так вот, о греках вообще я скажу следующее: я отдаю им должное в области литературы, признаю их познания во многих науках, не отказываю им в приятности речи, в остроте ума, в цветистости языка; наконец, если они приписывают себе что-нибудь еще, не возражаю и против этого; но добросовестностью и честностью в свидетельских показаниях народ этот не отличался никогда, и они не знают, какова сила, каково влияние, каково значение всех этих качеств. (10) Откуда известное выражение: «Обменяемся свидетельскими показаниями»? Разве его приписывают галлам или испанцам? Оно всецело относится к грекам, так что даже люди, не знающие греческого языка, знают, как это говорится по-гречески. Так взгляните же, с каким выражением лица, с какой самоуверенностью они говорят; вы тогда поймете, насколько добросовестны они как свидетели. Нам они никогда не отвечают на вопрос, обвинителю же — всегда больше, чем он спросил; они никогда не беспокоятся о том, как им доказать то, что они говорят, но всегда — о том, что́ им говорить, чтобы вывернуться из затруднительного положения. Марк Луркон[2562] давал показания, будучи сердит на Флакка, так как, по его собственному признанию, его вольноотпущенник был осужден порочащим его приговором. Но Луркон не сказал ничего такого, что могло бы повредить Флакку, хотя и желал этого; ему помешала его совесть. С каким смущением, однако, давал он показания, как он дрожал, как бледнел! (11) Какой вспыльчивый человек Публий Септимий, как сердит был он на приговор своему управителю! И он все же колебался, и сознание долга все-таки порою боролось с его гневом. Марк Целий, бывший недругом Флакка за то, что он признал недопустимым для себя как откупщика выносить приговор откупщику во вполне ясном деле, был исключен Флакком из числа рекуператоров[2563]; он все же сдержался и — если не говорить о его желании — не представил суду ничего такого, что могло бы повредить Флакку.
V. Если бы это были греки и если бы наши правила и воспитание не были сильнее, чем чувство досады и неприязни, то все они сказали бы, что были ограблены, истерзаны, лишены своего имущества. Свидетель-грек выходит вперед с желанием повредить и обдумывает не слова клятвы, а слова, какими он может повредить: по его мнению, самое позорное — проигрывать дело, когда тебя опровергают и изобличают; против этого он и готовится, ничто другое его не заботит. Поэтому свидетелями выбирают не честнейших и вполне достойных доверия, а самых бессовестных и самых речистых. (12) Вы же в суде по самому незначительному делу оцениваете свидетеля внимательно. Даже зная человека в лицо, его род, его трибу, вы все-таки находите нужным выяснить, каковы его нравственные правила. А когда наш гражданин дает свидетельские показания, то как сдержан он, как взвешивает все выражения, как боится сказать что-нибудь с пристрастием или гневом, сказать о чем-либо больше или меньше, чем необходимо! Неужели вы думаете, таковы же люди, в чьих глазах клятва — шутка, свидетельские показания — игра, всеобщее уважение — пустые слова, а заслуги, награда, милость, благодарность всецело зависят от бессовестной лжи? Но не стану затягивать свою речь; ведь она может быть бесконечной, если я захочу рассказать о легкости, с какой весь этот народ дает свидетельские показания. Итак, ближе к делу; я буду говорить об этих вот ваших свидетелях.
(13) Мы столкнулись с упорным обвинителем, судьи, с недругом, во всем вызывающим ненависть к себе и неприятным; этим своим рвением он, надеюсь, принесет большую пользу и своим друзьям, и государству; но это дело и обвинение он, несомненно, на себя взял, движимый необычным пристрастием. Какая свита сопровождала его при расследовании! Я говорю «свита»; вернее, какое огромное войско! Какие расходы, какие затраты, какая расточительность! Хотя это и полезно для нашего дела, я все же говорю об этом робко, опасаясь, как бы Лелий не решил, что в том, что он взял на себя ради славы, я в своей речи искал основания для недоброжелательства к нему. VI. Поэтому оставляю все это в стороне; я только попрошу вас, судьи, — если до вас дошли молва и толки о насильственных, самочинных действиях, о применении оружия, о войсках, то вспомните это; ввиду негодования, вызванного всем тем, что я перечислил, этот недавно принятый закон установил определенное число спутников при расследовании. (14) Но — не буду касаться этих насильственных действий — как много совершено поступков, порицать которые мы не можем, так как они совершены по праву обвинителя и в соответствии с обычаем, но сетовать на них мы все-таки вынуждены! Во-первых, во всей Азии распространились толки о том, что Гней Помпей, злейший недруг Луция Флакка, потребовал, чтобы Лелий, друг его отца и очень близкий ему человек, привлек Луция Флакка к этому суду, и обещал помочь Лелию для выполнения этой задачи всем своим авторитетом, влиянием, богатствами и средствами. Грекам это казалось тем более правдоподобным, что они недавно видели в этой же провинции, что Лелий был в дружеских отношениях с Флакком. Авторитет же Помпея, среди всех столь великий, сколь велик он и должен быть, исключителен в этой провинции, которую он недавно избавил от морских разбойников и от войны с царями[2564]. К тому же тех, кто не хотел выезжать из дома, Лелий запугивал вызовом в качестве свидетелей; тех, кто не мог оставаться дома, он склонял к поездке большими и щедро предоставляемыми деньгами на дорогу. (15) Так этот сообразительный юноша воздействовал на богатых страхом, на неимущих — платой, на глупых — обманом; так были добыты эти великолепные решения, которые здесь читаются, объявленные не после обмена мнениями и не на основании подлинных данных, не скрепленные клятвой, а принятые поднятием рук, при криках возбужденной толпы.
VII. О, сколь прекрасны обычай и порядок, унаследованные нами от предков! Конечно, если бы их придерживались! Но они каким-то образом уже ускользают у нас из рук. Ведь наши предки, мудрейшие и неподкупнейшие мужи, повелели, чтобы народная сходка была лишена власти. Они повелели, чтобы те постановления, которые плебс должен был вынести или народ — принять, выносились или отвергались после роспуска сходки, после определения участков для голосования, после распределения сословий: разрядов и возрастов, по трибам и центуриям, после выступлений авторов закона, после промульгации[2565] в течение многих дней ознакомления с вопросом. (16) Но в Греции гражданские общины управляются безрассудной толпой, сидящей на сходках. Итак, — не говорю о нынешней Греции, которая уже давно сражена и разорена своими же решениями, — даже древняя Греция, некогда процветавшая благодаря своим богатствам, владычеству и славе, пала из-за одного вот какого зла: неумеренной свободы и своеволия народных сходок. Всякий раз, когда в театре рассаживались неискушенные люди, необразованные и невежественные, они начинали бесполезные войны, ставили во главе государства мятежных людей, изгоняли из него граждан с величайшими заслугами. (17) И если это не раз случалось в Афинах тогда, когда они славились не только в Греции, но и чуть ли не среди всех народов, то какой сдержанности, по вашему мнению, можно ожидать от народных сходок во Фригии или в Мисии? Люди, принадлежащие к другим народностям, часто вносят беспорядок даже в наши сходки. Что же, по-вашему, бывает, когда они остаются одни? Некий Афинагор из Ким был высечен розгами за то, что осмелился вывезти зерно во времена голода; по требованию Лелия была созвана народная сходка; Афинагор выступил и — грек перед лицом греков — не говорил о своей вине, а пожаловался на наказание. Они подняли руки — вот вам и решение. И это — свидетельские показания? Только что пообедав, незадолго до того насытившись всяческими подачками, пергамские сапожники и мастера по изготовлению поясов одобрили своим криком все, что было угодно Митридату[2566], державшему в своих руках эту толпу не своим авторитетом, а щедрой кормежкой. И это свидетельские показания гражданской общины? Я сам официально привозил свидетелей из Сицилии, но это были свидетельские показания не возбужденной толпы, а сената[2567], давшего клятву. (18) Поэтому я не стану спорить с отдельными свидетелями; вам самим следует решить, возможно ли признать их слова свидетельскими показаниями.
VIII. Блестящий молодой человек знатного происхождения, речистый, приезжает с многочисленной и весьма нарядной свитой в греческий город и требует созыва народной сходки; людей богатых и влиятельных, дабы они против него не выступали, он запугивает вызовом в Рим для свидетельских показаний; неимущих и незначительных прельщает видами на поездку и денежным пособием на дорогу, а также своей личной щедростью. Что касается ремесленников и лавочников и всех этих подонков гражданских общин, то трудно ли натравить их, а особенно на того человека, который еще недавно был облечен высшим империем[2568], но не смог снискать высшего расположения именно из-за своего звания магистрата с империем. (19) Конечно, заслуживает удивления то, что те люди, которым ненавистны наши секиры[2569], люди, у которых наше имя вызывает ожесточение, для которых пастбищный сбор, десятина, пошлины равносильны смерти, охотно хватаются за любую возможность нам повредить, какая им только представится. Итак, когда вы будете слушать предлагаемые решения, вспомните, что вы слышите не свидетельские показания, а голос безрассудства черни, что вы слышите голос ничтожнейших людей, слышите возбужденные выкрики, доносящиеся со сходки ничтожного народа. Поэтому тщательно изучите сущность и смысл обвинений; вы не найдете ничего, кроме одной только видимости, ничего, кроме запугивания и угроз.
IX. (20) Казна гражданских общин пуста, поступлений от сборов — никаких. Есть два способа добыть деньги: либо заем, либо подати. Книг заимодавца не предъявлено, о введении каких-либо податей не сообщают. Но с какой легкостью греки склонны составлять подложные отчеты и вносить в свои книги все, что им выгодно, ознакомьтесь, прошу вас, из письма Гнея Помпея к Гипсею[2570] и из письма Гипсея к Помпею. (Письма Помпея и Гипсея.) Не находите ли вы, что я на основании этих писем достаточно ясно доказал вам привычную разнузданность и бесстыдное своеволие греков? Или мы, быть может, поверим, что те, кто обманывал Гнея Помпея, и притом в его присутствии, обманывал его без внушения с чьей-либо стороны, оказались, по настояниям Лелия, боязливыми и добросовестными по отношению к Луцию Флакку в его отсутствие? (21) Но допустим даже, что на местах записи не были подделаны; могут ли они теперь внушать к себе уважение и доверие? Ведь закон требует, чтобы их передавали претору в трехдневный срок и чтобы судьи опечатывали их; их передают чуть ли не на тридцатый день. Ведь именно для того, чтобы было трудно подделать записи, закон и повелел передавать их опечатанными в общественное место; но их опечатывают уже подделанными. Какая же разница, будут ли записи переданы судьям с таким опозданием или совсем не будут переданы?
X. Далее, если пристрастные свидетели действуют заодно с обвинителем, то будут ли они все-таки считаться свидетелями? Где в таком случае чувство ожидания, обычное в суде? Ведь ранее, после того как обвинитель высказывался резко и непримиримо, а защитник отвечал ему просительно и униженно, в третью очередь ожидалось выступление свидетелей, которые говорили либо без всякого пристрастия, либо скрывали свое пристрастие. (22) Но что происходит здесь? Сидят они все вместе, поднимаются со скамей обвинителей, ничего не скрывают, ничего не опасаются. Но разве мне не нравится только то, что они сидят бок о бок? Из одного и того же дома выходят они; если они запнутся хотя бы на слове, у них уже не окажется пристанища. Может ли быть свидетелем человек, если обвинитель допрашивает его, не испытывая при этом ни малейшего беспокойства и не боясь, что он ответит что-нибудь нежелательное? Где в таком случае та заслуга оратора, за какую когда-то хвалили как обвинителя, так и защитника: «Он хорошо допросил свидетеля, хитро подошел к нему, поймал на слове, добился, что хотел, опроверг и заставил замолчать»? (23) Зачем тебе, Лелий, спрашивать свидетеля, который, прежде чем ты ему скажешь: «Спрашиваю тебя…», выложит даже больше, чем ты велел ему ранее у себя дома? Зачем допрашивать его мне, защитнику? Ведь обыкновенно либо опровергают утверждение свидетелей, либо порицают их за их образ жизни. Каким рассуждением опровергну я слова человека, который говорит: «Мы дали…» — и ничего более? Итак, надо выступить против него самого, раз в его речи доказательства отсутствуют. Что же выскажу я против неизвестного мне человека? Поэтому мне приходится сетовать и горько жаловаться — что я делаю уже давно — на всю несправедливость обвинения и прежде всего вообще на этих свидетелей. Ведь выступает народ, самый недобросовестный в своих свидетельских показаниях. Ближе к делу: то, что ты называешь решениями, это, утверждаю я, не свидетельские показания, а крики неимущих людей и какой-то бессмысленный бунт жалких греков, собравшихся на сходку. Пойду еще дальше. Того, кто совершил деяние, здесь нет; того, кто, как нам говорят, уплатил наличными, сюда не вызвали; записей частных лиц нам не предъявляют, официальные записи остались у обвинителя; все зависит от свидетелей, а они живут вместе с нашими недругами, проводят время вместе с нашими противниками, поселились вместе с обвинителями. (24) Словом, что здесь, по вашему, происходит: расследование и установление истины или же невиновности поражение и гибель? Ведь в этом деле много таких обстоятельств, судьи, что, если ими даже возможно пренебречь, когда это касается данного обвиняемого, все же при существующем положении и как пример на будущее это внушает страх.
XI. Если бы я защищал человека низкого происхождения, отнюдь не блистательного в жизни, которого молва не препоручила бы нам, то я все же стал бы просить граждан за этого гражданина во имя свойственной всем людям человечности и милосердия о том, чтобы вы неизвестным, натравленным на него свидетелям, соседям обвинителя по скамьям, его сотрапезникам, его лагерным товарищам, грекам по их легкомыслию, варварам по их жестокости, не выдавали своего гражданина, молящего вас, и не показывали остальным людям опасного примера для подражания в будущем. (25) Но так как слушается дело Луция Флакка, из чьей ветви рода был тот, кто первым был избран в консулы, кто был первым консулом в нашей гражданской общине[2571], Флакка, чьей доблестью, после изгнания царей, в государстве была утверждена свобода, Флакка, чья ветвь рода сохранилась вплоть до нашего времени при неизменном предоставлении ей почетных должностей и империя и при немеркнущей славе их деяний, и так как Луций Флакк не только не изменял этой исконной и признанной доблести предков, но как претор проникся стремлением защищать свободу отечества, видя, что именно это возвеличивает славу его рода, то могу ли я страшиться того, что дело этого обвиняемого в дальнейшем послужит пагубным примером, раз в этом случае, даже если бы Флакк в чем-либо погрешил, все честные люди сочли бы должным закрыть на это глаза? (26) Впрочем, я не только не требую этого, судьи, но, наоборот, прошу и заклинаю вас рассмотреть все это дело самым тщательным образом, устремив на него глаза, как говорится. В обвинении не будет обнаружено ничего, засвидетельствованного по совести, ничего, основанного на истине, ничего, вызванного скорбью; наоборот, все окажется извращенным по произволу, из чувства раздражения, из пристрастия, связанным с подкупом и клятвопреступлением.
XII. (27) Итак, рассмотрев в целом пристрастия этих свидетелей, я обращусь к отдельным жалобам и обвинениям со стороны греков. Они жалуются на то, что у гражданских общин были истребованы деньги будто бы на постройку флота. Мы это признаем, судьи! Но если это — преступление, то оно либо в том, что требовать этого не было дозволено, либо в том, что в кораблях не было надобности, либо в том, что за все время претуры Луция Флакка флот не выходил в море. Дабы ты понял, что это было дозволено, ознакомься с постановлением сената, принятым в год моего консулата, — тем более что оно нисколько не расходилось с постановлениями всех предшествующих лет. (Постановление сената.) Итак, наша ближайшая задача — выяснить, был ли нужен флот. Кто же будет решать этот вопрос: греки или какие-нибудь чужеземные народы, или же наши преторы, наши военачальники, наши императоры? Со своей стороны, я полагаю, что, находясь в такой стране и провинции, окруженной морем, изобилующей гаванями, опоясанной островами, следовало выходить в море не только с целью защиты, но и для прославления нашей державы. (28) Ведь правила поведения и величие духа наших предков выражались именно в том, что они, в частном быту и в личных расходах довольствуясь самым малым, вели самую скромную жизнь, но в делах, имевших отношение к империю и достоинству государства, всячески стремились к славе и блеску. Ведь в домашнем быту ищут хвалы за воздержность, а при управлении государством — за достоинство. И если у Луция Флакка был флот даже только для обороны, то кто будет так несправедлив и станет порицать его за это? — «Морских разбойников не было». — А кто может поручиться, что их не будет? — «Ты, — говорит обвинитель, — умаляешь славу Помпея». — Наоборот, это ты создаешь ему новые затруднения. (29) Ведь Помпей уничтожил флоты морских разбойников, их города, порты, пристанища; проявив высшую доблесть и необычайную быстроту, он достиг мира на море. Но он отнюдь не соглашался, да и не мог согласиться на то, что, если где-нибудь покажется какое-либо суденышко морских разбойников, это будет поставлено ему в вину. Поэтому он, находясь в Азии и уже завершив все войны на суше и на море, все же повелел этим же гражданским общинам поставить ему флот. Но если Помпей признал это нужным тогда, когда все могло быть безопасным и умиротворенным благодаря его имени в его присутствии, то какое, по вашему мнению, решение следовало принять и что следовало сделать Флакку после отъезда Помпея? XIII. (30) А разве мы здесь по предложению самого Помпея не постановили в год консулата Силана и Мурены[2572], чтобы флот выходил в море у берегов Италии? Разве в то время, когда Луций Флакк требовал гребцов в Азии, мы здесь не израсходовали 4.300.000 сестерциев на плавание по Верхнему и Нижнему морям?[2573] А разве годом позже, при квесторах Марке Курции и Публии Секстилии не были израсходованы деньги на флот? А разве в течение всего этого времени не было конницы на побережье? Ведь ниспосланная богами слава Помпея в том и состоит, что, во-первых, те разбойники, которые тогда, когда ему было поручено вести войну на море, бродили и распространились по всему морю, нами все покорены; затем — в том, что Сирия — наша, что Киликию мы удерживаем под своей властью, что Кипр со своим царем Птолемеем не осмеливается ничего предпринять; кроме того, что благодаря доблести Метелла Крит принадлежит нам; что разбойникам неоткуда отплыть, некуда возвратиться; что все заливы, мысы, берега, острова, приморские города замкнуты на крепкие запоры нашей державы. (31) Даже если бы за все время претуры Флакка в море не появилось ни одного морского разбойника, его бдительность все-таки не заслуживала бы порицания; ведь именно потому, что у него был флот, их и не было, как я склонен думать. И если я на основании свидетельских показании римских всадников Луция Эппия, Луция Агрия, Гая Цестия и присутствующего здесь прославленного мужа Гнея Домиция[2574], бывшего тогда легатом в Азии, утверждаю, что в то самое время, когда, по твоим словам, во флоте не было надобности, очень многие люди были захвачены морскими разбойниками, то и тогда решение Флакка потребовать для себя гребцов все же будут осуждать? А если пиратами даже был убит знатный человек из Адрамиттия, чье имя известно почти всем нам, — кулачный боец Атианакт, победитель в Олимпии? А ведь для греков — если уж говорить о том, чему они придают значение, — это обстоятельство, можно сказать, более важно, чем справить триумф[2575] в Риме. «Но ты никого не взял в плен». Как много было людей, начальствовавших на побережье, которые, не взяв в плен ни одного морского разбойника, все же обеспечили безопасность на море! Ведь пленение — дело случая; это зависит от места, от стечения обстоятельств, от удачи. Принять меры предосторожности в целях защиты нетрудно; надо разумно использовать не только укрытые места для пристанища, но и благоприятную погоду и ее перемены.
XIV. (32) Остается выяснить, своим ли ходом флот этот выходил в море и на веслах ли плавал он или же только в записях о расходах и в отчетах. Возможно ли при таких обстоятельствах отрицать то, чему свидетельницей вся Азия, — что флот был разделен на две части, причем одна из них плавала выше Эфеса, другая — ниже Эфеса? С этим флотом Марк Красс, знаменитейший муж, совершил плавание из Эноса в Азию; на этих кораблях Флакк отправился из Азии в Македонию[2576]. В чем же можно усмотреть недобросовестность претора: в численности ли кораблей или же в неравномерном распределении расходов? Он потребовал половину той суммы, какую назначил Помпей; мог ли он действовать мягче? Но он распределил денежные взносы в соответствии с расчетами Помпея, который, в свою очередь, сообразовался с распределением, произведенным Луцием Суллой[2577]. После того как последний распределил взносы между всеми гражданскими общинами провинции в известном соотношении, Помпей и Флакк, требуя денег на расходы, следовали его расчетам. Но эта сумма не внесена полностью и поныне. (33) «Он этого не показывает в своем отчете». — Верно, но какая прибыль ему от этого? Ведь он, беря на себя ответственность за истребование денег, сам признает то, в чем ты хочешь усмотреть преступление. Как же возможно доказать, что он, не показывая этих денег в своем отчете, сам создает для себя повод для обвинения, для чего не было бы повода, если бы он показал их в своем отчете? Но ведь ты утверждаешь, что мой брат, сменивший Луция Флакка, не требовал денег на набор гребцов. Со своей стороны, я радуюсь, когда хвалят брата моего, Квинта, но радуюсь больше, если эти похвалы относятся к более важным и более значительным делам. Он принял иное решение, взглянул на положение по-иному: он полагал, что в какое бы время ни распространился слух о появлении морских разбойников, он тотчас же снарядит флот, какой только захочет. Словом, мой брат первым в Азии постарался освободить гражданские общины от этого расхода на гребцов. Но преступление обыкновенно усматривают тогда, когда кто-либо требует затрат, каких ранее не было, а не тогда, когда преемник изменяет что-нибудь из того, что ранее установили его предшественники. Что́ другие совершат впоследствии, Флакк не мог знать; что было совершено до него, он видел.
XV. (34) Но так как об обвинении, предъявленном всей Азией, уже сказано, перейду теперь к обвинению со стороны отдельных гражданских общин; из них на первом месте у нас, конечно, должна быть гражданская община Акмония. Глашатай громогласно вызывает посланцев из Акмонии. Выходит один только Асклепиад. Пусть они выйдут вперед! Даже глашатая ты заставил солгать. Ведь этот муж, конечно, обладает достаточным авторитетом, чтобы быть представителем своей гражданской общины, осужденный у себя на родине позорнейшими для него приговорами[2578] и заклейменный официальной записью; о его низких поступках, прелюбодеяниях и разврате говорят письма жителей Акмонии, которые я нахожу нужным обойти молчанием не только ввиду их многочисленности, но и ввиду позорнейшей непристойности выражений. Он сказал, что община дала Флакку 206.000 драхм. Он только сказал это, ничего не предъявил, но добавил (во всяком случае, он должен был это доказать, так как это касалось его лично), что дал 206.000 драхм как частное лицо. Но ведь этот бессовестнейший человек и мечтать никогда не смел о таких деньгах, какие, по его словам, от него получили. (35) Он говорит, что дал эти деньги при посредстве Авла Секстилия и своих братьев; Секстилий мог их дать; братья же Асклепиада такие же нищие, как и он сам. Итак, выслушаем Секстилия; пусть, наконец, выступят сами братья, пусть они солгут так бессовестно, как им будет угодно, и скажут, что дали то, чего у них никогда не было. Впрочем, когда их поставят лицом к лицу с нами, они, быть может, скажут что-нибудь такое, в чем не будет возможности их уличить. «Я не привозил Секстилия», — говорит Асклепиад. Подай записи. — «Я не захватил их». — Представь, по крайней мере, своих братьев. — «Я не вызывал их как свидетелей». Итак, неужели того, что здесь заявил один только Асклепиад, человек нищий, позорный образ жизни ведущий, всеобщим мнением осужденный, на свою бессовестность и наглость положившийся, не представив записей, не представив поручителя, мы испугаемся как обвинения и свидетельских показаний? (36) Он же говорил, что данный Флакку жителями Акмонии письменный хвалебный отзыв, который мы предъявили, — подложный. Правда, опорочить этот хвалебный отзыв было весьма желательно для нас; ведь как только этот великолепный представитель своей гражданской общины взглянул на официальную печать общины, он сказал, что его сограждане и другие греки обыкновенно то, что следует, запечатывают, сообразуясь с обстоятельствами. Оставь же себе этот хвалебный отзыв; ведь доброе имя и достоинство Флакка зависят не от свидетельских показаний жителей Акмонии. Ведь ты сам даешь мне в руки то доказательство, какого это дело требует более всего, — что греки не отличаются ни строгостью правил, ни стойкостью, ни твердостью в решениях, наконец, даже честностью в свидетельских показаниях. Разве только построение твоих показаний и твоей речи позволяет установить следующее различие: в пользу Флакка в его отсутствие гражданские общины, как говорят, кое-что сделали, а Лелию в его присутствии, хотя он и действовал лично, именем закона, по праву обвинителя, а кроме того, устрашал их и угрожал им своим влиянием, они по этому поводу ничего не написали и ничего не запечатали. XVI. (37) Я, со своей стороны, часто видел, судьи, что в мелочах обнаруживаются и заключаются важные вещи, например в случае с этим вот Асклепиадом. Хвалебный отзыв, предъявленный мною, был запечатан азиатской глиной, почти всем нам знакомой; ею пользуются все — не только для официальных, но и для частных писем, какие, как мы видели, изо дня в день присылаются откупщиками, нередко каждому из нас. Да ведь и свидетель, взглянув на печать, не сказал, что мы предъявляем подложный отзыв, но проявил свойственное всей Азии легкомыслие, которое мы, конечно, полностью признаем. Итак, наш хвалебный отзыв, который, по его словам, нам дали, сообразуясь с обстоятельствами, который, как он сам признает, во всяком случае, нам дали, запечатан глиной, между тем как на тех записях свидетельских показаний, которые, как говорят, были даны обвинителю, мы увидели восковую печать. (38) В связи с этим, судьи, если бы я думал, что постановления жителей Акмонии и письма прочих фригийцев для вас убедительны, то я стал бы изо всей мочи кричать и спорить, призвал бы в свидетели откупщиков, поднял бы на ноги дельцов, сослался бы на вашу осведомленность; обнаружив восковую печать, я убедился бы в том, что свидетели пойманы с поличным и что наглая ложь всех их показаний доказана. Но теперь я не стану ни слишком яростно напирать на это, ни чересчур хвалиться, ни наседать на этого бездельника, словно он действительно свидетель, ни задерживаться на всей совокупности свидетельских показаний жителей Акмонии, независимо от того, вымышлены ли они здесь на месте, что очевидно, или же, как говорят, присланы с родины. Свидетельских показаний этих людей, которым я готов уступить этот хвалебный отзыв, я вовсе не испугаюсь, так как они, по словам Асклепиада, люди ненадежные.
XVII. (39) Перехожу теперь к свидетельским показаниям жителей Дорилея: когда им предоставили слово, они сказали, что потеряли официальные письма вблизи Спелунк[2579]. О, неизвестные пастухи, склонные к литературе, раз они стащили у свидетелей одни только письма! Но я подозреваю другую причину; иначе эти свидетели, пожалуй, покажутся вам мало изворотливыми: в Дорилее, как я предполагаю, кара за подделку и подлог писем строже, чем в других местах; если бы они представили подлинные письма, то они не смогли бы предъявить обвинение; если бы они представили подложные, то они подлежали бы каре; они и признали превосходнейшим выходом сказать, что потеряли письма. (40) Итак, пусть они успокоятся и примирятся с тем, что я зачту это себе в приход и займусь другим. Они не позволяют мне этого. Какой-то никому не известный человек дополняет их показания и говорит, что дал деньги частным путем. Это уже совершенно нетерпимо. Ведь даже тот, кто читает официальные записи, — те, что находились в распоряжении обвинителя, не должен заслуживать доверия; но правила судопроизводства все же оказываются соблюденными, когда сами записи, каковы бы они ни были, предъявляются. Но когда человек, которого никогда не видел ни один из вас, о ком никто не слышал, заявляет только одно: «Я дал…», — то станете ли вы, судьи, сомневаться, защищать ли вам знатнейшего гражданина от этого никому не известного фригийца? Ведь недавно трое почтенных и достойных римских всадников[2580] не поверили этому же человеку, когда он в деле, касавшемся спора о статусе, говорил, что человек, которого объявляли свободным, его родственник. Как же тот, кто не внушил доверия к себе как свидетель, когда дело касалось его личного оскорбления и родственных уз[2581], в то же время может обладать большим авторитетом в деле об уголовном преступлении? (41) К тому же, когда тело этого жителя Дорилея при большом стечении народа, во время вашего заседания несли для погребения[2582], то ответственность за его смерть Лелий пытался возложить на Луция Флакка. Ты, Лелий, ошибаешься, думая, что если твои приспешники живы, то это для нас опасно, — тем более что смерть эта произошла, мне кажется, из-за твоей собственной небрежности: фригийцу, никогда не видевшему смоковницы, ты подставил корзину фиг. Его смерть тебе принесла некоторое облегчение: ты избавился от постояльца-обжоры. Но какую пользу она принесла Флакку, раз этот человек был здоров, пока выступал здесь, и умер, уже выпустив свое жало и дав показания? Что же касается Митридата[2583], главной опоры твоего обвинения, то после того как он, допрашивавшийся нами в течение двух дней, выложил все, что хотел, он удалился опровергнутый, изобличенный, сломленный. Он ходит, надев панцирь; человек искушенный и опытный, он боится, что Луций Флакк теперь, когда он уже не может уйти от его свидетельских показаний, может запятнать себя преступлением; человек, который до своего выступления как свидетель, когда он все-таки мог чего-то достигнуть, собой владел, теперь старается присоединить к своим лживым свидетельским показаниям насчет Луция Флакка обоснованное обвинение в злодеянии. Но так как вопрос об этом свидетеле и обо всем этом «митридатовом» обвинении тонко и красноречиво разобрал Квинт Гортенсий, то я, как я себе и наметил, перейду к дальнейшему.
XVIII. (42) Главный сеятель смуты среди всех греков — это сидящий вместе с обвинителями пресловутый Гераклид из Темна, человек глупый и болтливый, но, как ему кажется, настолько ученый, что он даже называет себя их наставником. Но тот, кто столь искателен, что изо дня в день приветствует всех вас и нас, в Темне, несмотря на свои почтенные годы, не смог пройти в сенат и, хотя заверяет, что он может даже других обучать ораторскому искусству, сам проиграл все позорнейшие судебные дела. (43) Вместе с ним как посланец приехал Никомед, человек такой же удачливый, который не смог пройти в сенат ни при каких обстоятельствах и был осужден и за кражу, и как член товарищества[2584]. Глава посольства Лисаний, правда, вошел в сословие сенаторов, но, так как чересчур глубоко вникал в государственные дела, был осужден за казнокрадство и утратил как свою собственность, так и звание сенатора. Эти три человека утверждали, что подложны даже записи нашего эрария; ведь они заявили, что при них находятся девять рабов, хотя прибыли без единого спутника. В записи постановления, как я вижу, главное участие принимал Лисаний; имущество его брата, так как он не платил общине, в претуру Флакка было продано в пользу казны. Существуют еще некий Филипп, зять Лисания, и Гермобий, чей брат Полид был осужден за хищение государственных средств. XIX. Они заявляют, что дали Флакку и людям, бывшим вместе с ним, 15.000 драхм. (44) Но ведь я имею дело с гражданской общиной, весьма строгой и точной в ведении записей, в которой не взять себе и сестерция без участия пятерых преторов, троих квесторов и четверых казначеев[2585], избираемых народом. Из такого большого числа людей не вызван ни один, а эти вот люди, составив запись о том, что эти деньги были даны именно Флакку, говорят, что они, давая их ему, записали другую, бо́льшую сумму, якобы израсходованную на восстановление храма; все это совсем не согласуется одно с другим; ведь либо все следовало внести в отчеты тайно, либо все внести открыто. Когда они записывают выдачу денег на имя Флакка, они ничего не боятся, ничего не опасаются; когда эти же люди относят ее к расходам на общественные работы, они страшатся того самого человека, которого они ранее презирали. Если деньги дал претор, как об этом записано, то он уплатил наличными через квестора, квестор — через казначейство, казначейство — либо за счет сборов, либо за счет податей. Это никогда не будет походить на обвинение, если ты не разъяснишь мне всех сведений — и насчет людей, и насчет записей.
(45) Что касается записи, имеющейся в этом же постановлении, — что виднейшие люди в гражданской общине, занимавшие высшие должности, в год претуры Флакка стали жертвами обмана, то почему их нет на суде и почему они не названы в постановлении? Ибо я не верю, чтобы в этой части постановления имелся в виду человек, который теперь встает, — Гераклид. Относится ли к числу виднейших граждан тот, кого присутствующий Гермипп передал для суда над ним, тот, кто даже полномочия посланца, какие он осуществляет, от своих сограждан не получил, а выпросил, приехав из Тмола, тот, кто в своей гражданской общине не был удостоен ни одной почетной должности и кому за всю жизнь было поручено лишь одно дело и притом такое, какое поручалось только самым незначительным людям? В год претуры Тита Авфидия[2586] он был назначен хранителем казенных запасов зерна; получив за зерно деньги от претора Публия Вариния[2587], он скрыл это от сограждан и, более того, поставил это зерно им в счет. После того как в Темне это узнали и раскрыли на основании письма, полученного от Вариния, и когда Гней Лентул[2588], бывший цензор, патрон Темна, прислал письмо о том же, этого Гераклида впоследствии никто не видел в Темне. (46) А дабы вы могли понять всю его бессовестность, прошу вас ознакомиться с самим делом, вызвавшим у этого ничтожнейшего человека озлобление против Флакка. XX. Гераклид, будучи в Риме, купил у малолетнего Мекулония угодье в Кимах. Так как на словах он себя выдавал за богача, но не обладал ничем, кроме бессовестности, которую вы видите, то он взял деньги взаймы у Секста Стлоги, присутствующего здесь нашего судьи, влиятельного человека, который это подтверждает; он хорошо знает Гераклида. Стлога все же одолжил ему деньги при поручительстве Публия Фульвия Нератия, виднейшего человека. Чтобы расплатиться с ним, Гераклид занял деньги у римских всадников Гая и Марка Фуфиев, людей влиятельных. Здесь он, клянусь Геркулесом, «выклевал вороне глаз»[2589], как говорится. Ведь он подвел присутствующего здесь Гермиппа, образованного человека, своего согражданина, который должен был бы хорошо знать его. Ибо именно по его поручительству он занял деньги у Фуфиев. Гермипп спокойно уезжает в Темн, так как Гераклид говорит, что он уплатит Фуфиям деньги, занятые у них при его поручительстве, как только получит плату от своих учеников. (47) Ведь у него как у ритора обучалось несколько богатых юношей, причем они уходили от него бо́льшими невеждами, чем были, поступая к нему; но ему никого не удалось одурачить настолько, чтобы ему доверили хотя бы один сестерций. И вот, после того как он тайно уехал из Рима, не уплатив многим людям мелких долгов, он прибыл в Азию и на вопрос Гермиппа насчет долга Фуфиям ответил, что уплатил им все деньги. Между тем вскоре после этого к Гермиппу приехал от Фуфиев вольноотпущенник с письмом; деньги требуют от Гермиппа; Гермипп требует их от Гераклида; притязания Фуфиев он все же удовлетворяет сам, не сносясь с ними лично, и оправдывает свое поручительство; Гераклида же, мечущегося и увиливающего, он преследует в суде. Дело рассматривается рекуператорами. (48) Не думайте, судьи, что люди, склонные обманывать и отрицать свои долги, не оказываются одинаково бессовестными, где бы они ни находились. Он поступил точно так же, как обыкновенно поступают наши должники, — заявил, что он вообще не делал займа в Риме; имени Фуфиев он, по его утверждению, вообще никогда не слыхал, а Гермиппа, добросовестнейшего и честнейшего человека, моего старого друга, моего гостеприимца, блистательнейшего и виднейшего гражданина в своей общине, он оскорбил всяческой бранью и хулой. В то время этот ловкач еще кичился своей невероятной быстротой в произнесении речи, но после того как были оглашены свидетельские показания Фуфиев и его заемные письма на их имя, этот наглец вдруг струсил, говорун онемел. Поэтому рекуператоры при первом же слушании решили дело как вполне ясное, не в его пользу. Так как он не выполнил их решения, он был присужден Гермиппу и уведен им[2590]. XXI. (49) Вот вам честность Гераклида, достоверность его свидетельских показаний и вся причина его озлобления против Флакка. Отпущенный впоследствии Гермиппом, которому он продал нескольких рабов, Гераклид ездил в Рим, затем возвратился в Азию, после того как мой брат уже сменил Флакка. Он обратился к моему брату и представил дело так, будто рекуператоры вопреки своей воле, вследствие принуждения и запугивания со стороны Флакка вынесли неправильное решение. Как человек справедливый и проницательный, мой брат постановил: если Гераклид отвергает судебное решение, то он должен заплатить вдвойне; если он говорит, что рекуператоры были в то время запуганы, то теперь его будут судить те же рекуператоры. Гераклид отказался и, словно не было вынесено никакого решения, никакого судебного приговора, тут же начал требовать от Гермиппа рабов, которых он сам ему продал. Легат Марк Гратидий, к которому обратились, отказал ему в слушании дела и объявил, что решение по делу должно оставаться в силе. (50) Так как Гераклиду деваться было некуда, он возвратился в Рим; за ним по пятам следует Гермипп, ни разу не отступивший перед его бессовестностью, Гераклид требует от сенатора Гая Плоция, влиятельного мужа, бывшего в Азии легатом, нескольких рабов, которых он, по его словам, после того как он был осужден, был вынужден ему продать. Квинт Насон, достойнейший муж, который когда-то был претором, избирается как судья. Так как он дал понять, что выскажется в пользу Плоция, то Гераклид отказался от него как от судьи, и так как суд был не по закону, то он отказался от всего дела. Не кажется ли вам, судьи, что я уделил достаточно внимания каждому свидетелю в отдельности, а не выступаю, как я решил вначале, против всех свидетелей сообща?
(51) Перехожу к Лисанию, принадлежащему к той же гражданской общине, твоему особому свидетелю, Дециан! Познакомившись с ним в Темне, когда он был еще юношей, ты, так как он тогда радовал тебя, нагой, пожелал, чтобы он всегда был наг; ты увез его из Темна в Аполлониду, ты ссудил юнца деньгами под большие проценты, все же взяв залог[2591]. По твоим словам, этот залог перешел к тебе; ты его сохраняешь и поныне и владеешь им. Этого свидетеля ты, подав ему надежду на обратное получение угодия его отца, принудил приехать для дачи показаний; так как он еще не давал показаний, то я и жду, что́ именно он скажет. Знаю я этих людей, знаю их привычки, знаю их прихоти. Итак, хотя и предвижу, что́ он готов сказать, я все-таки не стану приводить возражений, пока он не выскажется. Ибо он все извратит и придумает что-нибудь другое. Поэтому пусть он хранит то, что подготовил, а я сохраню все свои силы для ответа на то, что он преподнесет.
XXII. (52) Перехожу теперь к той гражданской общине, которой я не раз выражал большое расположение и оказал много важных услуг и к которой мой брат относится с особенным уважением и приязнью. Если бы эта гражданская община обратилась к вам с жалобами при посредстве честных и достойных людей, то я волновался бы больше. Но что подумать мне теперь? Что жители Тралл поручили дело своей гражданской общины Меандрию, неимущему, ничтожному человеку, без должностного положения, не пользующемуся уважением, без ценза? Где же были Пифодоры, Архидемы, Эпигоны и другие люди, и у нас известные, и знаменитые среди своих соотечественников, где был весь этот великолепный и славный цвет вашей общины? Не правда ли, если бы жители Тралл вели дела добросовестно, им было бы стыдно, что Меандрия называют, уже не говорю — посланцем, но вообще жителем Тралл? И этому вот посланцу, этому вот официальному свидетелю отдали бы они своего патрона (после того как их патронами были его отец и предки) на заклание свидетельскими показаниями гражданской общины? (53) Это не так, судьи, конечно, не так. Я сам при судебном разбирательстве одного дела недавно видел Филодора свидетелем от имени Тралл, видел Паррасия, видел Архидема, причем этот же Меандрий вертелся подле меня как бы в качестве прислужника, подсказывая мне, что́ я мог бы сказать во вред его согражданам и гражданской общине, если бы я захотел. Ведь не найти человека более ничтожного, более нищего, более порочного, чем он. И если именно ему жители Тралл поручили выразить их огорчение, хранить их грамоты, свидетельствовать о несправедливости, совершенной по отношению к ним, и передать их жалобы, то пусть они оставят свою гордыню, откажутся от своего самомнения, будут менее заносчивы и призна́ют, что в лице Меандрия выражен облик гражданской общины. Но если они сами всегда считали, что его следует раздавить и растоптать уже на родине, то пусть они перестанут придавать значение тем свидетельским показаниям, передать которые от своего имени не согласился никто.
XXIII. Но я изложу обстоятельства дела, дабы вы могли понять, почему эта гражданская община и не подвергла Флакка суровым нападкам, и но защитила его с благожелательностью. (54) Они были раздражены против него из-за своего долга Кастрицию[2592]; насчет всего этого уже ответил Гортенсий; они неохотно выплатили Кастрицию деньги, которые они уже давно ему были должны. Отсюда и вся ненависть, отсюда и все недовольство. Когда Лелий приехал в Траллы к раздраженным людям и речами своими разбередил рану, связанную с долгом Кастрицию, то видные люди промолчали; они не пришли на созванную тогда народную сходку и отказались нести ответственность за это постановление и свидетельские показания. На этой народной сходке было так мало оптиматов[2593], что первым из первых оказался Меандрий, который языком своим, словно опахалом мятежа, возбудил неимущих людей, собравшихся на сходку. (55) Итак, узнайте, каковы справедливое огорчение и жалобы этой общины, добросовестной, какой я всегда ее считал, и достойной уважения, какой ее жители хотят считать. Они жалуются на то, что деньги, которые им были переданы гражданскими общинами на имя Флакка-отца, у них отняли. Я рассмотрю в другом месте, что́ было дозволено Флакку; теперь я только спрашиваю представителей Тралл, считают ли они те деньги, которые, согласно их жалобе, у них были отняты, своими, переданными им гражданскими общинами в их полное распоряжение. Я очень хочу услышать ответ. «Мы, — говорит Меандрий, — не говорим этого». А что в таком случае? — «Что эти деньги нам доставили и доверили на имя Флакка-отца для устройства игр в его честь». — Что же дальше? «Этих денег, — говорят они, — тебе не было дозволено брать». (56) Я сейчас рассмотрю этот вопрос, но сначала остановлюсь на одном обстоятельстве: значительная, богатая, влиятельная гражданская община жалуется на то, что ей не удалось сохранить за собой чужую собственность; она говорит, что она ограблена, так как у нее нет того, что ей не принадлежало. Возможно ли сказать или вообразить себе что-нибудь более бессовестное? Был выбран один город для того, чтобы в нем хранились деньги, собранные во всей Азии и предназначенные для оказания почестей Луцию Флакку. Все эти деньги, вместо оказания почестей, были использованы для стяжания и ростовщичества; они были возвращены только через много лет. XXIV. (57) Какое же беззаконие было совершено по отношению к гражданской общине? «Но гражданская община весьма недовольна этим». — Верю; ведь вопреки ее чаяниям утрачен доход, который она, в чаяниях своих, уже сожрала. — «Но она жалуется». — Она поступает бессовестно; не на все то, что нам неприятно, мы можем справедливо жаловаться. — «Но она обвиняет Флакка очень настойчиво». — Не гражданская община, а неискушенные люди, натравленные Меандрием. В связи с этим хорошенько постарайтесь припомнить, сколь безрассудна бывает толпа, какова свойственная грекам ничтожность, сколь сильно воздействует на народную сходку речь, призывающая к мятежу. Даже здесь, в нашей преисполненной достоинства и самообладания гражданской общине, когда на форуме постоянно происходит суд, постоянно присутствуют магистраты, постоянно бывают честнейшие мужи и граждане, когда на ростры[2594] взирает и держит их в своей власти курия[2595], карающая за безрассудство и руководящая исполнением долга, то сколь сильные волнения на сходках вам все же приходится видеть! Что же, по-вашему, происходит в Траллах? Не то же самое ли, что и в Пергаме? Или, быть может, эти гражданские общины хотят, чтобы думали, что одному письму Митридата[2596] было легче подвигнуть и толкнуть их на нарушение дружбы с римским народом, своих клятв в верности, всех требований долга и человечности, чем на то, чтобы они своими свидетельскими показаниями нанесли вред сыну того, кого они некогда признали нужным прогнать от своих стен оружием? (58) Поэтому не называйте мне, с целью возражения, знаменитых гражданских общин; ведь эта ветвь рода никогда не испугается тех свидетелей, которых она презирала как врагов. Но вы должны признать что-нибудь одно: если вашими гражданскими общинами правят советы первых граждан, то эти гражданские общины начали войну с римским народом не из-за безрассудства толпы, а по решению своих оптиматов; если же эта смута тогда была вызвана безрассудством неискушенных людей, то позвольте мне отличать заблуждения черни от государственного дела.
XXV. (59) «Но ведь Луцию Флакку брать себе эти деньги не было дозволено». — Признаете ли вы, что это было дозволено Флакку-отцу, или не признаете? Если это было дозволено, — а ему, несомненно, было дозволено взять себе деньги, собранные для оказания ему почестей, из которых он ни одной не был удостоен, — то сын взял себе деньги отца по праву; если же этого не было дозволено, то все-таки после его смерти не только сын, но и любой наследник мог взять их себе с полным правом. Но именно тогда жители Тралл — после того как сами они в течение ряда лет давали эти деньги в большой рост — все же добились от Флакка всего, чего хотели добиться, и не были столь бессовестны, чтобы осмелиться сказать то, что сказал Лелий, — что эти деньги у них отнял Митридат. Ведь кто не знал, что Митридат больше старался возвеличивать жителей Тралл, чем их грабить? (60) Если бы я говорил об этом так, как мне следует говорить, то вопрос о том, насколько мы должны доверять свидетелям из Азии, я, судьи, рассмотрел бы строже, чем рассматривал до настоящего времени. Я предложил бы вам вспомнить войну с Митридатом, вызвавшее чувство жалости жестокое истребление всех римских граждан, происшедшее в одно и то же мгновение в стольких городах, выдачу наших преторов, наложение оков на легатов, чуть ли не уничтожение самой памяти об имени Рима и всяких следов нашей державы не только в тех местностях, где жили греки, но даже в их записях. Митридата же они называли богом, отцом, спасителем Азии, Евгием, Нисием, Вакхом, Либером. (61) В одно и то же время вся Азия заперла ворота перед консулом Луцием Флакком, а этого каппадокийца не только принимала в своих городах, но даже сама призывала. Да будет нам дозволено, если забыть это мы не можем, хотя бы молчать; да будет мне дозволено сетовать на ничтожность греков, а не на их жестокость. Могут ли доверять им те, чьего существования они вообще не хотели допустить? Ведь одетых в тоги они истребили — кого только смогли; самое название «римские граждане» они, насколько это зависело от них, уничтожили.
XXVI. Далее, разве они не заносчиво ведут себя в нашем Городе, который они ненавидят, среди нас, на которых они и смотреть не хотят, в том государстве, для уничтожения которого у них не хватило не присутствия духа, а сил? Пусть взглянут они на этот вот цвет посланцев и представителей за Флакка, приехавших из подлинной и нетронутой Греции; затем пусть они сами себя оценят; затем пусть они сравнят себя с этими вот людьми; затем, если осмелятся, пусть поставят себя по достоинству выше них. (62) Здесь находятся представители Афин, города, где, как считают, зародились науки, просвещение, религия, земледелие, права, законы и откуда они распространились по всей земле; по преданию, из-за владения этим городом, ввиду его красоты, возник спор даже между богами. Город этот столь древен, что сам, как говорят, породил своих граждан, и одну и ту же землю называют их родительницей, кормилицей и отечеством; значение его столь велико, что уже почти исчезнувшее и угасшее имя Греции все еще живет благодаря славе этого города. (63) Здесь находятся и лакедемоняне; общеизвестная и прославленная доблесть их гражданской общины, как считают, была укреплена не только природой, но и их установлениями; во всем мире одни они вот уже более семисот лет живут по одним и тем же обычаям и законам, не изменявшимся ни разу. Здесь находятся многочисленные посланцы из всей Ахайи, Беотии, Фессалии — местностей, которыми Луций Флакк недавно управлял как легат при императоре Метелле. Не обойду молчанием и тебя, Массилия, знавшая Луция Флакка как военного трибуна и квестора; установления и значение этой гражданской общины, скажу я, по всей справедливости следует поставить выше установлений и значения не только Греции, но, пожалуй, и всех народов; столь удаленная от областей, установлений и языка всех греков Массилия, окруженная на краю света галльскими племенами и омываемая волнами варварства, так управляется мудростью своих оптиматов, что прославлять ее устройство всем людям легче, чем с ним соперничать. (64) Вот каковы представители за Флакка, вот каковы свидетели его невиновности! Итак, мы можем отразить натиск греков при посредстве самих греков.
XXVII. Впрочем, кто не знает, — конечно, если этот человек когда-либо старался хоть сколько-нибудь ознакомиться с положением этих дел, — что в действительности существуют три греческие народности? Одни из них — афиняне, считавшиеся ионийским племенем, другие назывались эолянами, третьи — дорянами. И вот вся эта Греция, процветавшая благодаря молве, благодаря славе, благодаря философии, благодаря многим наукам, а также своему владычеству и воинским подвигам, занимает и всегда занимала, как вы знаете, так сказать, небольшое место в Европе. Завоеванное ею морское побережье Азии она окружила рядом городов, дабы держать народы этой страны в своей власти не под защитой колоний, а как бы в осаде. (65) Поэтому прошу вас, свидетели из Азии, — когда вы действительно захотите составить себе мнение о доверии, какого заслуживают ваши показания в суде, представьте себе Азию и вспомните не то, что чужеземцы о вас обыкновенно говорят, а то, что вы сами о себе думаете. Ведь Азия ваша, если не ошибаюсь, состоит из Фригии, Мисии, Карии и Лидии. Так вот, это ваша или наша поговорка, что «фригиец битый становится лучше»? Что касается Карии, то не с ваших ли слов стало ходячим: «Если хочешь рискнуть, свяжись с карийцем»? Далее, какая греческая поговорка более избита и распространена, когда к кому-нибудь выражают презрение, чем «последний из мисийцев»? А что сказать о Лидии? Кто из греков когда-нибудь написал комедию, в которой раб, главное действующее лицо, не был бы лидийцем? Итак, оскорбляем ли мы вас тем, что решили опираться на ваше собственное суждение о себе? (66) Мне лично кажется, что о качествах свидетелей из Азии я сказал уже достаточно и даже слишком много; но все-таки, судьи, ваше дело — все то, что можно сказать об их ненадежности, непостоянстве и пристрастии, даже в том случае, если я говорю об этом недостаточно, принять во внимание и обдумать.
XXVIII. Следующий вопрос — о недовольстве из-за золота иудеев[2597]. Вот, несомненно, причина, почему дело это слушается невдалеке от Аврелиевых ступеней[2598]. Именно из-за этого обвинения ты, Лелий, и выбрал это место и собрал эту толпу. Ты знаешь, как велика эта шайка, как велико в ней единение, как велико ее значение на народных сходках. Поэтому я буду говорить, понизив голос, чтобы меня слышали одни только судьи; ведь в людях, готовых натравить иудеев на меня и на любого честнейшего человека, недостатка нет; не стану им это облегчать. (67) Хотя золото обычно из года в год от имени иудеев вывозилось в Иерусалим из Италии и из всех наших провинций, Флакк эдиктом своим запретил вывозить его из Азии. Кто искренно не похвалил бы его за это, судьи? О запрете вывоза золота сенат принимал строжайшие постановления и неоднократно в прошлом, и в год моего консулата. Бороться с этим варварским суеверием было долгом строгости, презирать, ради блага государства, толпу иудеев, нередко приходившую в ярость на народных сходках, — долгом высшего достоинства. «Но ведь Гней Помпей, — скажут мне, — взяв Иерусалим, ни к чему не прикоснулся в святилище, хотя и был победителем»[2599]. — (68) В этом случае, как и во многих других, он поступил особенно мудро; в городе, столь склонном к подозрениям и к злоречию, он не подал ни малейшего повода к пересудам хулителей; ибо не религия иудеев и притом наших врагов, не сомневаюсь, помешала нашему выдающемуся императору сделать это, а его личная порядочность. В чем же преступление Флакка, если ты нигде не обнаруживаешь хищений, одобряешь эдикт, признаешь дело решенным, не отрицаешь того, что золото было найдено и предъявлено в присутствии всех; о том, что все было совершено достойнейшими мужами, свидетельствуют обстоятельства дела. В Апамее при посредстве римского всадника Квинта Цесия, честнейшего и бескорыстнейшего человека, у всех на глазах на форуме у ног претора[2600] было взвешено около 100 фунтов задержанного золота; в Лаодикее при посредстве присутствующего здесь Луция Педуцея, нашего судьи, — немногим более 20 фунтов; в Адрамиттии при посредстве легата Гнея Домиция… (лакуна); в Пергаме — немного. (69) Отчет, касающийся золота, верен; золото — в эрарии; хищений не раскрыто; все дело — в стремлении вызвать ненависть к нам. Произнося речь, от судей отворачиваются и обращаются к слушателям, толпящимся вокруг. В каждом государстве своя религия, Лелий, у нас своя. Когда Иерусалим был независим, а иудеи — мирными, то совершение ими своих религиозных обрядов все же было несовместимо с блистательностью нашей державы, с достоинством нашего имени, с заветами наших предков; теперь — тем более, так как этот народ, взявшись за оружие, показал, каковы его чувства к нашей державе; насколько он дорог бессмертным богам, мы поняли, так как он побежден, так как сбор дани с него сдан на откуп, так как он порабощен.
XXIX. (70) И вот, так как все то, что ты хотел представить как основания для обвинения, как видишь, превратилось в повод к восхвалению, то перейдем теперь к жалобам римских граждан. Первой из них, конечно, пусть будет жалоба Дециана. Какая же несправедливость была совершена по отношению к тебе, Дециан? Ты ведешь дела в независимом городе[2601]. Прежде всего позволь мне проявить любопытство: доколе будешь ты вести дела, тем более при твоем происхождении?[2602] Вот уже в течение тридцати лет ты постоянно бываешь на форуме, но на пергамском. Через большие промежутки времени, если твои дела заставляют тебя выехать на чужбину, ты приезжаешь в Рим с новым обликом, но с древним родовым именем, в одежде из тирского пурпура[2603], из-за которой я только могу позавидовать тебе, так как это твой единственный наряд, в котором ты так долго щеголяешь. (71) Но пусть будет по-твоему; тебе хочется вести дела. Почему не в Пергаме, не в Смирне, не в Траллах, где римских граждан много и где суд творит наш магистрат? Ты наслаждаешься покоем; тяжбы, толпа, претор тебе ненавистны; ты радуешься тому, что греки свободны. Почему же тогда с жителями Аполлониды, глубоко преданными римскому народу, с нашими вернейшими союзниками, один ты обращаешься более жестоко, чем с ними когда-либо поступал Митридат или даже твой отец? Почему из-за тебя им нельзя наслаждаться свободой, почему им вообще нельзя быть свободными? Ведь они — самые рачительные, самые неподкупные люди во всей Азии, очень далекие от развращенности и ничтожности греков, довольные своим положением отцы семейств, землепашцы, сельские жители; их поля плодородны и стали еще лучше после заботливой обработки. Вот в этом краю ты и пожелал владеть поместьем. Правда, я бы предпочел — и это подобало бы тебе больше, — чтобы ты, если тебя так радовали тучные поля, приобретал их где-нибудь здесь: в Крустуминской области или в Капенской. (72) Но пусть будет по-твоему! Есть поговорка Катона: «Главное не деньги, а ноги»[2604]. Да, далеко от Тибра до Каика[2605], где, пожалуй, сам Агамемнон заблудился бы со своими войсками, не найди он проводника в лице Телефа[2606]. Но я делаю тебе и эту уступку: тебе понравился город, местность пришлась по сердцу. Почему бы не купить?
XXX. По своему происхождению, положению, доброму имени, богатству первый человек в этой гражданской общине — Аминт. Его тещу, недалекую, но довольно богатую женщину, Дециан завлек и, так как она не понимала, что именно происходит, завладел ее поместьями и расселил в них своих рабов. Он отнял у Аминта беременную жену, которая родила дочь в доме у Дециана; в настоящее время у него находятся жена Аминта и его дочь. (73) Придумал ли я хоть что-нибудь из того, что говорю, Дециан? Это известно всем знатным людям, известно честным мужам, наконец, известно нашим соотечественникам, известно рядовым дельцам. Встань, Аминт, потребуй, чтобы Дециан возвратил тебе не деньги, не поместья; пусть он, наконец, оставит у себя твою тещу; пусть он вернет тебе жену, пусть отдаст несчастному отцу его дочь. Тело твое, которое он изувечил ударами камней, палок и меча, руки твои, которые он размозжил, пальцы твои, которые он переломал, жилы, которые он рассек, вернуть тебе он не может. Дочь, повторяю, дочь возврати несчастному отцу, Дециан! (74) И ты удивляешься тому, что Флакк не одобрил этого? А кто, скажи на милость, это одобрит? Ты совершил мнимые покупки, ты совершил проскрипции поместий путем открытого обмана жалких женщин; по греческим законам в записи надо было назвать опекуна; вот ты и вписал имя Полемократа, своего наймита и пособника в осуществлении твоих замыслов. Дион привлек Полемократа к суду, обвинив его в злом умысле и в обмане в связи с этой опекой. Каково было стечение людей из всех окрестных городов, каково было негодование, каковы были жалобы! Полемократ был осужден единогласно; продажа была признана недействительной, проскрипции — недействительными. Разве ты возвратил поместья? Ты предложил жителям Пергама внести твои пресловутые проскрипции и покупки в их официальные книги. Они отказались наотрез. А кто эти люди? Жители Пергама, предстатели за тебя. Ведь ты, как мне показалось, до такой степени возгордился, получив хвалебный отзыв жителей Пергама, словно удостоился почета, достигнутого твоими предками, и потому считал себя выше Лелия, что тебя прославляла пергамская гражданская община. Разве пергамская община пользуется бо́льшим уважением, чем смирнская? Даже сами они этого не говорят.
XXXI. (75) Хотел бы я иметь достаточно свободного времени, чтобы прочитать вслух решение жителей Смирны, принятое ими о Кастриции после его смерти: во-первых, внести его тело в город, что́ не разрешается для других; затем, чтобы его несли юноши; наконец, чтобы на умершего надели золотой венок. Для Публия Сципиона[2607], прославленного мужа, этого не сделали, когда он умер в Пергаме. Что касается Кастриция, — бессмертные боги! — с какими словами обращаются они к нему! «Гордость отечества, украшение римского народа, цвет юношества». Вот почему, если ты, Дециан, жаждешь славы, то я тебе советую добиваться иных похвал. Жители Пергама посмеялись над тобою. (76) Как? Ты не понимал, что над тобой издеваются, когда они читали тебе: «Прославленного мужа выдающейся мудрости, редкостного ума…»? Поверь мне, они издевались над тобой. Когда они, в записях своих, надевали на тебя золотой венок, а на деле доверяли тебе не больше золота, чем галке[2608], то ты даже тогда не сумел оценить всей их тонкости и остроумия? Ведь именно эти жители Пергама отвергли проскрипции, которые ты пытался им подсунуть. Публий Орбий[2609], проницательный и неподкупный человек, выступил против тебя по всем вопросам.
XXXII. У Публия Глобула, моего близкого друга, ты нашел бо́льшую поддержку. О, если бы ни ему, ни мне не пришлось в этом раскаиваться! (77) Ты говоришь, что Флакк вынес по твоему делу несправедливое решение. Ты указываешь также, как на причину враждебных отношений, на то, что твой отец, будучи плебейским трибуном, привлек отца Луция Флакка, тогда курульского эдила, к суду[2610]. Но это, по-видимому, не должно было доставить особых неприятностей даже отцу Флакка — тем более что он, который был привлечен к суду, впоследствии был избран в преторы и консулы, а тот, кто его привлек к суду, не смог оставаться в гражданской общине даже как частное лицо. Но если ты думал, что ваша неприязнь оправдана, то почему ты во время военного трибуната Флакка служил как солдат у него в легионе, когда по правилам военной службы ты мог избегнуть возможной несправедливости трибуна? И почему он как претор привлек для участия в своем совете тебя, сына недруга его отца? Как строго соблюдаются подобные правила, все вы знаете. (78) Нас[2611] теперь обвиняют те самые люди, которые участвовали в нашем совете. «Это постановил Флакк». — Разве он постановил не то, что надлежало? — «Но это было во вред гражданам независимой общины». — Разве их сенат решил иначе? — «Во вред отсутствовавшему». — Флакк постановил это, когда ты был на месте и отказывался явиться; это было постановлением не «во вред отсутствующему обвиняемому», а «во вред скрывающемуся». (Постановление сената и указ Флакка.) А если бы Флакк издал не указ, а эдикт, то кто мог бы по справедливости порицать его за это? Не намерен ли ты порицать и моего брата за его письмо, полное доброты и справедливости? Ведь оно касается той женщины; оно послано мне из… (лакуна) [Лелий] потребовал. Читай. (Письмо Квинта Цицерона.) (79) Что же? Не передали ли жители Аполлониды этого дела Флакку, когда им представился удобный случай? Не обсуждалось ли оно в присутствии Орбия? Не было ли оно передано на рассмотрение Глобулу? Не обратились ли во время моего консулата посланцы из Аполлониды к нашему сенату с многочисленными жалобами на беззакония одного только Дециана? Но об этих поместьях ты, по твоим словам, заявил для ценза. Не стану говорить, что это было чужое имущество, что ты завладел им насильственно, что жители Аполлониды тебя в этом изобличили, что жители Пергама отказались это записать, что наши магистраты[2612] возвратили поместья их прежним собственникам, что они не твои ни по какому праву: ни по праву собственности, ни по праву владения[2613]. (80) Я спрашиваю вот о чем: подлежат ли эти поместья цензу, распространяется на них гражданское право, подложат ли они манципации[2614]; можно ли вносить их в списки в эрарии или у цензора?[2615] В какой, наконец, трибе ты внёс их для ценза? Ты допустил, чтобы в случае, если настанут тяжелые времена, с одних и тех же поместий потребовали подать[2616] и в Аполлониде, и в Риме. Но пусть будет по-твоему: ты был тщеславен, ты хотел подвергнуться цензу как собственник большого участка земли и притом такой земли, какую нельзя разделить между римским плебсом[2617]. Кроме того, ты был подвергнут цензу как обладатель 130.000 сестерциев наличными деньгами. Наличность эта, мне думается, была исчислена не на основании твоего собственного имущества. Но это я опускаю. Ты для ценза дал сведения о рабах Аминта, но этим не нанес ему ущерба; ведь Аминт действительно владеет этими рабами. Но вначале он перепугался, узнав, что ты дал для ценза сведения о его рабах; он обратился к правоведам. Все полагали, что если Дециан, внося в ценз чужое имущество, его сумеет присвоить, то он составит себе огромное состояние… (лакуна).
XXXIII. (81) Вот вам причина враждебного отношения к Флакку. Загоревшись этим желанием, Дециан и передал Лелию это обвинение, сулившее доход. Ведь Лелий, говоря о вероломстве Дециана, жаловался так: «Кто подбил меня на это, кто мне передал ведение дела в суде, за кем я последовал, тот был подкуплен Флакком, тот меня покинул и предал». Так это ты, Дециан, человека, у которого ты участвовал в совете, при котором ты сохранил все степени своего достоинства, человека самого добросовестного, происходящего из знатнейшего рода, оказавшего государству величайшие услуги, подверг опасности потерять все свое имущество? Я, разумеется, буду защищать Дециана, которого ты, Лелий, заподозрил в том, чего он не совершал. Поверь мне, он не был подкуплен. (82) И право, что можно было бы выиграть, подкупив его? Чтобы он затягивал суд? Раз ему по закону было предоставлено всего шесть часов, то на сколько же часов смог бы он сократить свое выступление, если бы захотел тебе угодить? Дело, бесспорно, обстоит так, как подозревает сам Лелий. Ты позавидовал дарованию своего субскриптора; ведь он с легкостью приукрашивал общее положение, какое он выбрал, и тонко допрашивал свидетелей; он, быть может, достиг бы того, что в народе перестали бы говорить о тебе; поэтому ты и отправил Дециана в толпу слушателей. Но насколько правдоподобно это положение, настолько же неправдоподобно, что Дециан был подкуплен Флакком. (83) Знайте: все прочее столь же достоверно; например, то, что говорит Лукцей[2618], — будто Луций Флакк был готов дать ему 2.000.000 сестерциев за то, чтобы он поступил бесчестно. И ты обвиняешь в алчности человека, который, по твоим же словам, хотел выбросить 2.000.000 сестерциев? Ибо что покупал он, покупая тебя? Твой переход на его сторону? А какую роль могли бы дать тебе в этом деле? Чтобы ты нам сообщал о замыслах Лелия? О том, какие свидетели выступят с его стороны? Разве мы сами не видели этого? Чтобы ты сообщил, что они живут вместе? Кто этого не знает? Что записи были в распоряжении Лелия? Кто в этом сомневается? Или же это было сделано для того, чтобы ты не обвинял настойчиво, не обвинял красноречиво? Вот теперь ты действительно внушаешь подозрения; ведь ты говорил так, что, пожалуй, могло показаться, будто от тебя кое-чего и добились.
XXXIV. (84) «А что, — скажешь ты, — по отношению к Андрону Секстилию[2619] совершенно тяжкое, вопиющее беззаконие: когда умерла его жена[2620] Валерия, не оставив завещания[2621], Флакк повел дело так, словно наследство должно было достаться ему самому». Что же ставишь ты ему в вину в этом деле, хотел бы я знать. Что его притязания не были обоснованы? Как докажешь ты это? — «Она была, — говорит обвинитель, — свободнорожденной». О, искушенный в праве человек! Что же? От свободнорожденной женщины наследства не достаются по закону? — «Она поступила под власть мужа». — Теперь я понимаю, но спрашиваю: путем сожительства или путем коемпции? Путем сожительства это не могло произойти; ведь имущество, находящееся под законной опекой, может быть уменьшено только с согласия всех опекунов. Путем коемпции? И это — только с согласия всех опекунов, а ты, конечно, не скажешь, что Флакк был одним из них. (85) Остается то, о чем ее муж не переставал кричать, — что Флакк, будучи претором, не должен был вести дело, касавшееся его самого, и вообще упоминать о наследстве. Я знаю, что тебе, Луций Лукулл[2622] (ведь ты должен будешь подать свой голос по делу Луция Флакка), за твою исключительную щедрость и величайшие милости, оказанные тобою близким, достались огромные наследства, когда ты управлял провинцией Азией, облеченный консульским империем. Если бы кто-нибудь сказал, что они принадлежат ему, уступил ли бы ты их? А ты, Тит Веттий? Если тебе достанется какое-нибудь наследство в Африке, упустишь ли ты его в силу давности или оставишь за собой, не заслужив упрека в алчности, без ущерба для своего достоинства? Но ведь требование о вводе во владение этим наследством было заявлено от имени Флакка еще в год квестуры Глобула. Следовательно, он не прибегал ни к принуждению, ни к самоуправству; и ни случай, ни обстоятельства, ни империй, ни секиры ликторов не натолкнули Флакка на мысль совершить беззаконие. (86) Сюда же направил жало своих свидетельских показаний также и Марк Луркон, честнейший муж, мой близкий друг; он заявил, что в провинции претору не следует притязать на деньги частного лица. Почему не следует, Марк Луркон? Вымогать их, брать их противозаконно нельзя; но в том, что на них не следует притязать, ты никогда меня не убедишь, если не докажешь мне, что это не дозволено. А брать на себя, с целью взыскания денег, свободные легации[2623], как ты сам поступил недавно и как многие честные мужи делали не раз, законно? Я лично этого не порицаю, но наши союзники, как я вижу, на это жалуются. А претор? Если он не отказался от наследства в провинции, то он, по-твоему, заслуживает не только порицания, но даже осуждения по суду? XXXV. «Валерия, — говорит Луркон, — объявила все свое имущество своим приданым»[2624]. Ни одного из этих доводов нельзя принять как объяснение, если ты не докажешь, что она не состояла под опекой Флакка. Если она была под его опекой, то никакое определение размеров приданого, произведенное без согласия Флакка, недействительно. (87) Но вы все-таки видели, что Луркон, хотя он, в соответствии со своим высоким положением, давая свидетельские показания, сдерживался в выражениях, все же раздражен против Флакка. Он не скрыл причины своего раздражения и не счел нужным умолчать о ней. Луркон заявил жалобу, что во время претуры Флакка был осужден его вольноотпущенник. О, печальное положение правителей провинции, когда их добросовестность навлекает на них вражду, небрежность — порицание, когда строгость чревата опасностями, когда за щедрость платят неблагодарностью, речи коварны, снисходительность пагубна, когда у всех на лицах дружба, а у многих в сердце гнев, когда раздражение затаено, а лесть открыта! Преторов, когда они должны приехать, ждут; в их присутствии перед ними раболепствуют; от уезжающих отшатываются. Но оставим сетования, дабы не показалось, что я превозношу свое решение пренебрегать наместничеством[2625]. (88) Флакк послал письменный приказ об управителе усадьбой Публия Септимия, значительного человека; управитель этот совершил убийство. Септимий, как вы могли видеть, был вне себя от гнева. По делу вольноотпущенника Луркона Флакк своим эдиктом назначил суд; Луркон — враг ему. Итак, что же? Азию надо отдать во власть вольноотпущенникам влиятельных и блистательных людей? Или Флакк питает какую-то вражду к вашим вольноотпущенникам? Или суровость вам ненавистна, когда решаются дела ваши и ваших близких, и вы за нее же хвалите, вынося приговор, касающийся нас? XXXVI. Но этот Андрон, по вашим словам ограбленный, не приехал для дачи свидетельских показаний. (89) А если бы он приехал? Третейским судьей был Гай Цецилий, какой блистательный, какой честный, какой добросовестный человек! Дело скрепил своей печатью Гай Секстилий, сын сестры Луркона, человек добросовестный, твердых и строгих правил. Если было допущено самоуправство, если налицо был обман, если произошло запугивание, если налицо было мошенничество, то кто заставлял их заключать соглашение, кто заставлял их присутствовать? Что же? Если же эти деньги были вручены присутствующему здесь молодому Луцию Флакку[2626], если они были истребованы, если они были собраны при посредстве присутствующего здесь вольноотпущенника, отца этого юноши, Антиоха, пользовавшегося особым доверием у старика Флакка, то не кажется ли вам, что мы не только не заслуживаем упреков в алчности, но даже достойны особенной похвалы за свое великодушие? Ведь обвиняемый уступил своему молодому родственнику их общее наследство, которое, по закону, причиталось им поровну; сам он ни к чему из имущества Валерии не прикоснулся; то, что он решил сделать из уважения к добросовестности этого юноши и ввиду его весьма ограниченного достатка, он не просто сделал, а сделал охотно и щедро. Из этого следует заключить, что человек, который был столь великодушен в своем отказе от наследства, в нарушение законов не присваивал себе чужого имущества.
(90) А вот обвинение со стороны Фальцидия тяжкое: он говорит, что дал Флакку 50 талантов. Выслушаем его. Его здесь нет. Как же в таком случае он говорит? Одно его письмо предъявляет его мать, другое — его сестра. По их словам, Фальцидий написал им, что дал Флакку такие большие деньги. Итак, тот, кому никто не поверил бы, если бы он стал клясться, касаясь рукой алтаря, убедит нас во всем, в чем захочет, при помощи письма, не дав клятвы? И какой человек! Как мало в нем дружбы к согражданам! Завидное отцовское состояние, которое он смог бы растратить здесь вместе с нами, он предпочел промотать на пирах у греков. (91) Зачем ему понадобилось оставлять наш Город, отказываться от такой прекрасной свободы, пускаться в опасное морское плавание? Словно нельзя было проесть свое имущество в Риме? Только теперь красавчик-сын оправдывается перед своей матушкой, старушкой, далекой от всяческого подозрения, дабы казалось, что деньги, с которыми он пересек море, он не растратил, а дал Флакку. XXXVII. «Но ведь сбор податей с жителей Тралл был сдан на откуп в претуру Глобула; Фальцидий откупил его за 900.000 сестерциев». Если он дает Флакку такие большие деньги, то он, очевидно, их для того и дает, чтобы покупка была утверждена. Следовательно, он купил нечто, несомненно, гораздо более ценное; он дает из дохода и ничего не берет из основного капитала; следовательно только его доход уменьшается. (92) Но тогда почему он велит продать альбанскую усадьбу, почему, кроме того, льстит матери, почему он в своих письмах старается подловить сестру и мать на их простоте; наконец, почему мы не слышим его самого? Не сомневаюсь, он задержался в провинции. Его мать отрицает это. «Он приехал бы, — говорит она, — если бы его вызвали». Ты, Лелий, конечно, заставил бы его явиться, если бы ожидал какой-либо поддержки от этого свидетеля. Но ты не хотел отвлекать его от его занятия. Ему предстояла большая борьба, большое состязание с греками; но они, если не ошибаюсь, лежат побежденные; ведь он один превзошел всю Грецию размерами своих кубков и умением пить. Но кто же все-таки сообщил тебе, Лелий, об этих письмах? Эти женщины говорят, что они о них ничего не знают. Кто же в таком случае? Не сам ли он тебе рассказал, что писал матери и сестре? Или он даже написал по твоей просьбе? (93) Но почему же ты ни о чем не спрашиваешь, ни Марка Эбуция, весьма стойкого и весьма добросовестного человека, родственника Фальцидия, ни зятя его Гая Манилия, не менее честного человека? Они, конечно, не могли бы не слышать о таких больших деньгах, будь они даны. Итак, ты, Дециан, подумал, что ты, огласив эти письма, предоставив слово этим бабенкам, похвалив отсутствующего автора писем, докажешь такое тяжкое обвинение, особенно когда ты сам, не вызывая Фальцидия в суд, решил, что подложное письмо будет иметь больший вес, чем неискренность Фальцидия и его притворное негодование в случае его присутствия.
(94) Но почему о письмах Фальцидия, об Андроне Секстилии и о цензе Дециана я рассуждаю так долго и обвиняю их, а о нашем всеобщем благополучии, о достоянии граждан, о высших интересах государства молчу? Ведь их при этом суде вы полностью поддерживаете своими, повторяю, своими плечами, судьи! Вы видите, в какое тревожное время мы живем, при каких глубоких переменах и потрясениях. XXXVIII. Некоторые люди стараются добиться, наряду со многим, также и того, чтобы ваши мысли, ваши приговоры, ваше голосование были роковыми для всех честнейших людей и весьма враждебными им. Заботясь о достоинстве государства, вы вынесли много суровых приговоров по делам о преступлении заговорщиков[2627]. Но они думают, что государство еще недостаточно потрясено, раз им не удалось такой же каре, какую понесли нечестивцы, подвергнуть граждан с величайшими заслугами. (95) Гай Антоний был осужден[2628]. Пусть будет так! Он в какой-то мере заслужил свое бесчестие. И все же (говорю это с полной ответственностью), будь вы судьями, не был бы осужден даже он, после осуждения которого на могиле Катилины, украсив ее цветами, в большом числе собрались для пиршества величайшие преступники и внутренние враги. Катилине воздали должные почести[2629]. Теперь Флакка при вашем посредстве стараются покарать за смерть Лентула[2630]. Какую более угодную жертву можете вы заклать Публию Лентулу, пытавшемуся при пожаре отечества похоронить вас, убитых в объятиях жен и детей, чем жертва, которой вы кровью Луция Флакка насытите его нечестивую ненависть ко всем нам.
(96) Итак, принесем искупительную жертву Лентулу, почтим манов Цетега, возвратим изгнанных, а за безграничную преданность и великую любовь к отечеству мы, со своей стороны, если это находят нужным, понесем кару. Нас уже называют доносчики, на нас возводят обвинения, против нас подготавливают судебное преследование. Если бы они действовали при посредстве других людей, наконец, если бы они именем народа подстрекали против нас толпы неискушенных граждан, то мы смогли бы терпеть это более спокойно. Но совершенно нестерпимо, что они находят возможным при посредство сенаторов и римских всадников, которые во имя всеобщего спасения, единые в своих взглядах и доблести, по общему решению, совершили все эти действия, вождей и зачинателей их, лишить всего их достояния и изгнать из государства. И действительно, они хорошо понимают, что ни мысли, ни воля римского народа не изменились; римский народ всем, чем только может, дает понять, что́ он чувствует; люди едины в своем мнении, своих стремлениях, своих речах. (97) Итак, если кто-нибудь сюда меня призывает, я прихожу; участия римского народа как судьи в споре не только не отвергаю, но даже требую. Долой насилие, да будут отброшены мечи и камни, да сгинут шайки, да замолчат рабы! Никто, если это свободный человек и гражданин, не будет так несправедлив, чтобы, выслушав меня, не подумать скорее о моем награждении, чем о моем наказании. XXXIX. О, бессмертные боги! Возможно ли что-нибудь более печальное? Мы, выбившие меч и пламя из рук Публия Лентула, доверяемся суждению неискушенной толпы и страшимся приговора наиболее видных и наиболее именитых граждан!
(98) Мания Аквилия[2631], изобличенного в корыстолюбии на основании многочисленных обвинений и свидетельских показаний, наши отцы за то, что он храбро воевал с беглыми рабами, по суду оправдали. В бытность свою консулом я недавно защищал Гая Писона[2632], и он, в свое время стойкий и храбрый консул, был сохранен для государства невредимым. Кроме того, будучи консулом, я защищал избранного консула Луция Мурену[2633]; несмотря на то, что его обвиняли прославленные мужи, ни один из тех судей не счел нужным слушать его дело о домогательстве, так как все по моему предложению — когда Катилина уже вел войну — признали нужным, чтобы в январские календы налицо было двое консулов. Неподкупный и честный муж, украшенный многими доблестями, Авл Ферм был дважды оправдан в этом году, причем защищал его я[2634]. Какое ликование римского народа, какое изъявление благодарности за благополучие государства последовало за этим! Достойные и мудрые судьи, вынося приговор, всегда думали о том, чего требует польза граждан, чего требует всеобщее благополучие, чего требует положение государства. (99) Когда вам дадут табличку[2635], судьи, ее вам дадут не только для решения о руководителях и вдохновителях дела спасения государства, для решения обо всех честных гражданах, для решения о вас самих, для решения о ваших детях, о жизни, отечестве, всеобщем благе. Вы в этом деле выносите приговор не о чужеземных народах, не о союзниках, о самих себе, о своем государстве выносите вы приговор.
XL. (100) Но если благополучие провинций волнует вас больше, чем ваше собственное, то я со своей стороны не только не противлюсь этому, но даже требую от вас руководствоваться волей провинций. И в самом деле, противопоставим провинции Азии прежде всего бо́льшую часть этой же провинции, которая ввиду опасностей, грозящих Флакку, прислала сюда своих посланцев и предстателей за него, затем провинцию Галлию, провинцию Киликию, провинцию Испанию, провинцию Крит; грекам из Лидии, Фригии и Мисии будут возражать массилийцы, родосцы, лакедемоняне, афиняне, вся Ахайя, Фессалия, Беотия. Свидетелям Септимию и Целию дадут отпор Публий Сервилий и Квинт Метелл[2636] как свидетели добросовестности и бескорыстия Луция Флакка. Правосудию в Азии ответит правосудие в Риме. Обвинения, касающиеся одного года, будут опровергаться всей жизнью Луция Флакка и его деятельностью изо дня в день. (101) И если Луцию Флакку, судьи, должно помочь то, что он как военный трибун, как квестор, как легат проявил себя перед прославленными императорами, перед доблестнейшими войсками, перед важнейшими провинциями достойным своих предков, то да поможет ему также и то, что при всеобщих опасностях, угрожавших всем нам[2637], он у вас на глазах шел на опасность рука об руку со мною; да помогут ему хвалебные отзывы муниципиев и колоний; да поможет ему прекрасная и искренняя хвала сената и римского народа! (102) О, ночь[2638], едва не погрузившая этот Город в вечный мрак, когда галлов призывали к войне, Катилину — к походу на Город, заговорщиков — к оружию и поджогам, когда я, приводя в свидетели ночное небо, плача, заклинал тебя, Флакк, тоже лившего слезы, когда я препоручил твоей величайшей и глубоко испытанной верности благополучие Города граждан! Это ты, Флакк, как претор тогда схватил вестников всеобщей гибели; это ты обнаружил таившуюся в письмах гибель государства; это ты доставил мне и сенату улики об угрожавших нам опасностях, как и средства для спасения. Какую благодарность выразил тебе тогда я, какую тебе выразил сенат, какую тебе выразили все честные люди! Кто мог подумать, что кто-либо из честных людей когда-нибудь откажет тебе, откажет Гаю Помптину, храбрейшему мужу, уже не говорю — в спасении, но и в любой почетной должности? О, декабрьские ноны, что были в год моего консулата! День этот я справедливо могу назвать днем рождения нашего Города или, во всяком случае, спасительным днем. XLI. (103) О, ночь, после которой наступил этот день, ночь, счастливая для нашего Города, но — горе мне, — быть может, зловещая для нас! Какое присутствие духа проявил тогда Луций Флакк (о себе я не говорю), какую любовь к отечеству, какую доблесть, какое достоинство! Но зачем упоминать мне о тех событиях, которые тогда, когда они происходили, до небес превозносились в похвалах единодушным согласием всех людей, единым голосом римского народа, единым свидетельством всего мира? Теперь они, пожалуй, не только не принесут нам пользы, но даже повредят. Ведь у бесчестных людей память, чувствую я, иногда гораздо прочнее, чем у честных. Именно я, если с тобою случится какое-нибудь несчастье, именно я, повторяю, окажусь по отношению к тебе предателем, Флакк! Это была моя рука, мои заверения, мои обещания, когда я сулил тебе, что ты, если мы спасем государство, будешь в течение всей своей жизни не только огражден заслоном всех честных людей, но и возвеличен ими. Я думал, я надеялся, что даже в случае, если почести, оказанные нам, не будут иметь большого значения в ваших глазах, то благополучие наше, во всяком случае, будет вам дорого. (104) Но даже если Луция Флакка, судьи, — да предотвратят бессмертные боги исполнение такого предсказания! — постигнет тяжкая несправедливость, то он все же никогда не станет раскаиваться в том что стоял на страже вашего благополучия, заботился о вас, о ваших детях, женах, о вашем достоянии. Он всегда будет полагать, что такое отношение было его долгом перед своим высоким происхождением, и перед своим благочестием, и перед отечеством. Во имя бессмертных богов, судьи! — смотрите, как бы вам не пришлось раскаиваться в том, что вы не пощадили такого гражданина! Много ли найдется людей, в своей государственной деятельности готовых идти по этому пути, людей, которые желают быть угодными вам, быть угодными людям, подобным вам, людей, которые высоко ставят авторитет всех честнейших и именитейших граждан и сословий, хотя и видят, что на том, другом пути достигнуть почетных должностей и всего того, чем они так сильно пожелали, легче. XLII. Но пусть все остальное принадлежит им! Пусть в их руках будет могущество, в их руках — магистратуры, в их руках — наибольшие возможности получать другие преимущества. Да будет дозволено тем, кто хотел все это вот[2639] сохранить неприкосновенным, самим оставаться неприкосновенными! (105) Не думайте, судьи, что те, которые еще не сделали выбора и еще не вступили на путь почестей, не ждут исхода этого суда. Если столь великая любовь ко всем честным людям, столь великая преданность государству принесут Луцию Флакку несчастье, то кто, по вашему мнению, будет впредь так безумен, что предпочтет тот жизненный путь, который он ранее считал опасным и скользким, этому гладкому и надежному? И если вы, судьи, чувствуете отвращение к таким гражданам, то покажите это. Кто сможет, мнение свое переменит; свободные в своем выборе решат, что́ им делать. Мы, которые зашли уже далеко, будем переносить все последствия своего безрассудства. Но если вы хотите, чтобы так думало большинство людей, то покажите своим приговором, каково ваше мнение.
(106) Этому вот несчастному мальчику[2640], умоляющему вас и ваших детей, судьи, вы укажете правила жизни своим приговором. Если вы ему сохраните отца, то вы предпишете ему, каким гражданином должен быть он сам. Но если вы отнимете отца у сына, то вы покажете, что за честный, стойкий и строгий образ действий вы не предвидите никаких наград. Так как он еще в таком возрасте, что почувствовать горе отца он может, но помочь отцу еще не может, то он молит вас не усугублять его страданий слезами отца, не усугублять горя отца его плачем. Он смотрит и на меня, призывает меня своим взглядом; плача, он как бы умоляет меня о покровительстве и притязает на высокое положение, которое я когда-то обещал отцу в награду за спасение отечества. Сжальтесь над семьей, судьи, сжальтесь над храбрейшим отцом, сжальтесь над несчастнейшим сыном. Сохраните для нашего государства его прославленное и храброе имя и ради его рода, и ради его носителя.
Речь к народу по возвращении из изгнания [На форуме, 7 сентября 57 г. до н. э.]
«Вестник древней истории», 1987, № 1. С. 260—268.
С политической борьбой на рубеже 50—60-х годов до н. э. связано изгнание Цицерона, которому вменялась в вину казнь пятерых сообщников Катилины, совершенная 5 декабря 63 г. без формального суда, на основании чрезвычайного постановления сената (senatus consultum ultimum).
В феврале 58 г. плебейский трибун П. Клодий, сторонник Цезаря и личный враг Цицерона, предложил закон «О правах римского гражданина» (lex de capite civis romani), подтверждавший положения прежних законов и предусматривавший «запрещение предоставлять огонь и воду» (ignis et aquae interdictio), т. е. лишение гражданских прав для всякого, кто без суда казнит римского гражданина. Хотя Цицерон и не был назван в этом законопроекте, но усмотрел в нем угрозу против себя лично и после безуспешной попытки добиться заступничества Помпея и консулов покинул Рим в марте 58 г. Клодий после этого провел второй закон — «Об изгнании Марка Цицерона» — с запрещением оказывать ему гостеприимство; этот закон предусматривал конфискацию имущества Цицерона; в дальнейшем ему было запрещено находиться в пределах 500 римских миль от Италии, причем он и его гостеприимцы подлежали смертной казни в случае ослушания. Усадьбы Цицерона и его дом в Риме были разрушены. Присоединив к его земельному участку в Риме, на Палатинском холме, часть соседнего владения и сломав стоявший на нем портик, построенный победителем кимвров консулом 102 г. Кв. Лутацием Катулом, Клодий построил там портик и посвятил богам весь участок, установив на нем статую Свободы.
Выехав из Рима, Цицерон вначале намеревался отправиться в Эпир и воспользоваться гостеприимством своего друга Т. Помпония Аттика; затем он изменил свое решение и направился в Вибон, чтобы переехать в Сицилию, но пропретор последней Г. Вергилий запретил ему пребывание в Сицилии и на о-ве Мелите (Мальта). Цицерон направился в Брундисий, откуда он после остановки в доме М. Ления Флакка переправился в Диррахий. Не решившись поехать в Афины, он направился в Кизик, но квестор Македонии Гн. Планций принял его у себя и окружил заботой.
Движение за возвращение Цицерона из изгнания началось еще в 58 г., вскоре после его отъезда из Италии. 1 июня 58 г. плебейский трибун Л. Нинний Квадрат предложил в сенате возвратить Цицерона из изгнания, но с интерцессией выступил плебейский трибун П. Элий Лигур. Хотя большинство избранных на 57 г. магистратов было сторонниками возвращения Цицерона, этому препятствовал Клодий, при посредстве вооруженных отрядов державший Рим в своей власти.
29 октября 58 г. восемь плебейских трибунов (из десяти) внесло в сенат предложение о возвращении Цицерона из изгнания, и П. Корнелий Лентул Спинтер, избранный в консулы на 57 г., выступил в его защиту, но консулы Л. Кальпурний Писон и Авл Габиний и плебейский трибун Лигур снова воспротивились принятию решения сенатом. Совершив интерцессию, Клодий выступил против Помпея, угрожая сжечь его дом, и даже против Цезаря, заявив, что законы, проведенные Цезарем в в 59 г., недействительны, так как были приняты несмотря на обнунциацию со стороны его коллеги М. Кальпурния Бибула.
В ноябре 58 г. Цицерон в надежде на то, что общее положение изменилось в его пользу, избегая встречи с проконсулом Македонии Л. Писоном и его войсками, переехал из Фессалоники в Диррахий. Через своего брата Кв. Цицерона он дал Цезарю и Помпею заверение насчет своего поведения в будущем и признания им мероприятий и законов Цезаря; после этого Цезарь и Помпей согласились на его возвращение из изгнания.
1 января 57 г. во время торжественного заседания сената консул П. Корнелий Лентул Спинтер предложил возвратить Цицерона из изгнания; его поддержал его коллега Кв. Цецилий Метелл Непот; плебейский трибун С. Атилий Серран, не совершая интерцессии, потребовал ночь на размышление, и решение не было принято. 28 января плебейский трибун Кв. Фабриций внес в комиции предложение возвратить Цицерона из изгнания, но собрание было разогнано гладиаторами Клодия, причем произошло кровопролитие. Стычки на улицах и форуме продолжались на протяжении следующих месяцев; в это время плебейские трибуны П. Сестий и Т. Анний Милон, сторонники Цицерона, тоже составили для себя вооруженные отряды. В январе 57 г. в уличной стычке были тяжело ранены Сестий и противник Цицерона плебейский трибун Кв. Нумерий Руф. В 57 г. Милон дважды пытался привлечь Клодия к суду за насильственные действия, но суд не состоялся. Политическая жизнь в Риме замерла, уголовные суды перестали действовать.
В течение первой половины 57 г. Помпей объехал ряд муниципиев и колоний Италии и добился принятия ими постановлений в пользу возвращения Цицерона. Сенат препоручил Цицерона магистратам и подвластным Риму народам и предложил гражданам прибыть в Рим для голосования. В июле консул П. Корнелий Спинтер предложил в сенате возвратить Цицерона из изгнания; за его предложение проголосовало 416 сенаторов против одного голоса П. Клодия; кроме того, была выражена благодарность гражданам, съехавшимся в Рим, чтобы поддержать закон о возвращении Цицерона. 4 секстилия (августа) центуриатскими комициями был принят Корнелиев — Цецилиев закон о возвращении Цицерона из изгнания. 5 секстилия Цицерон прибыл в Брундисий, а 4 сентября приехал в Рим, где ему устроили торжественную встречу. 5 сентября он произнес в сенате благодарственную речь; 7 сентября он на форуме произнес такую же речь, обращенную к народу.
(I, 1). Обратившись к Юпитеру Всеблагому Величайшему и к другим бессмертным богам с молитвой[2641] в то время, квириты[2642], когда я обрек себя и свое достояние в жертву ради вашей неприкосновенности, ради мира и согласия между вами — с тем, чтобы меня, если я когда-либо предпочел свою выгоду вашему благополучию, постигла вечная кара, добровольно мною на себя навлеченная; если же и то, что я совершил ранее, я совершил ради спасения государства[2643] и отправился в свой скорбный путь ради вашего блага, дабы ненависть, которую преступные и наглые люди, испытывая ее к государству и ко всем честнейшим людям, уже давно сдерживали, они обратили против меня одного, а не против всех лучших людей и не против всей гражданской общины; итак, если у меня были такие намерения по отношению к вам и вашим детям, то, чтобы когда-нибудь вы, отцы-сенаторы, и вся Италия обо мне вспомнили и почувствовали сожаление и тоску по мне; то, что мое самообречение подтверждено суждением бессмертных богов, свидетельством сената, согласием Италии, признанием моих недругов, вашими богами вам внушенным бессмертным благодеянием, доставляет мне величайшую радость. (2) Поэтому, хотя самое желанное для человека — счастливая, благополучная и неизменная судьба и безмятежное течение жизни без каких-либо неудач, все же, если бы на мою долю выпали только спокойствие и умиротворение, я был бы лишен необычайных и, пожалуй, богами ниспосланных радостей и наслаждений, какие я теперь испытываю от вашего благодеяния. Какой из даров природы человеку милее, чем его дети? Мне мои дети и ввиду моей любви к ним, и ввиду их редкостных качеств дороже жизни. И все же я взял их на руки[2644] не с такой радостью, какую испытываю от того, что они мне возвращены. (3) Между двумя людьми не бывало такой приязни, какова приязнь между мною и братом; я чувствовал ее не столько тогда, когда с ним общался, сколько будучи с ним в разлуке; чувствую ее и после того, как вы возвратили меня ему, а мне его. Каждого радует его имущество; остатки моего возвращенного мне достояния приносят мне большее удовлетворение, чем приносили мне в ту пору, когда все оно было невредимо. Какое удовольствие приносят нам дружеские связи, общение, соседство, клиентелы, наконец, игры и праздничные дни, лишенный этого, я понял лучше, чем всем этим пользуясь. (4) Далее, хотя почет, достоинство, положение, сословная принадлежность и ваши милости всегда казались мне самыми прекрасными, все же теперь, когда они мне возвращены, они кажутся мне более блистательными, чем были бы в случае, если бы они некоторое время не были скрыты во мраке. А само отечество, бессмертные боги! Трудно выразить, как оно дорого и какое наслаждение доставляет оно, как красива Италия, как оживленны ее города, как прекрасны ее части, какие поля, какой урожай, как великолепен Город, как образованны его граждане, как велико достоинство государства и ваше величие! Всем этим я и ранее наслаждался более, чем всякий другой; но подобно тому как доброе здоровье людям, поправившимся после тяжелой болезни, приятнее, чем никогда не болевшим, так и все это, после того как человек был этого лишен, привлекательнее, чем в случае, если бы оно воспринималось постоянно.
(II, 5). Зачем я об этом рассуждаю? Зачем? Дабы вы смогли понять, что никто никогда не обладал ни таким красноречием, ни столь божественным и столь необычайным даром слова, чтобы быть в состоянии, уже не говорю — восхвалить и превознести в своей речи величие и множество благодеяний, оказанных вами мне, моему брату и нашим детям, но хотя бы перечислить и описать их. Родители в согласии с законом природы произвели меня на свет малюткой; вами я был рожден консуляром. Они дали мне брата, но не было известно, каков он будет; вы возвратили мне его испытанным и доказавшим мне свою необычайную преданность. Государство я принял в свои руки в те времена, когда оно, можно сказать, было утрачено; от вас я получил его обратно таким, какое признали сохраненным усилиями одного человека[2645]. Бессмертные боги детей мне дали, вы мне их возвратили. Многого другого, чего я просил у бессмертных богов, я тоже достиг; но если бы не ваша добрая воля, то я был бы лишен всех даров бессмертных богов. Наконец, почести, которых я достигал по одной постепенно, я теперь получил от вас в совокупности, — так что, насколько я ранее был в долгу перед родителями, перед бессмертными богами, перед вами самими, настолько я теперь всецело в долгу перед всем римским народом.
(6) Ведь если само благодеяние ваше столь велико, что я не могу охватить его в своей речи, то в вашем рвении проявилась такая доброжелательность, что вы, мне кажется, не только избавили меня от несчастья, но даже возвеличили в моем высоком положении. (III) Ведь о моем возвращении не умоляли юные сыновья, как о возвращении Публия Попилия[2646], знатнейшего человека, а также многочисленные родные и близкие, не умоляли, как о прославленном муже Квинте Метелле[2647], ни сын его, чей возраст уже требовал уважения, ни консуляр Луций Диадемат, весьма влиятельный муж, ни цензорий Гай Метелл, ни их дети, ни Квинт Метелл Непот, в ту пору искавший консулата, ни сыновья его сестер — Лукуллы, Сервилии, Сципионы; о возвращении Квинта Метелла тогда вас и ваших отцов умоляли очень многие Метеллы и сыновья женщин из рода Метеллов; даже если бы его собственное высшее положение и величайшие деяния не были достаточны, то преданность его сына, мольбы его близких, траур юношей, слезы старших все же смогли бы тронуть римский народ. (7) Что касается Гая Мария, который после знаменитых консуляров минувшего времени был на памяти вашей и ваших отцов третьим до меня консуляром, несмотря на свою исключительную славу, испытавшим такую же унизительную участь, то его положение не походило на мое; ведь он возвратился без чьих-либо молений, он вернулся самовольно, во время раздоров между гражданами, прибегнув к помощи войска и к оружию[2648]. Меня же, лишенного близких, не огражденного родовыми связями, не угрожавшего оружием и волнениями, вымолили у вас зять мой Гай Писон своей как бы внушенной ему богами беспримерной настойчивостью и доблестью и преданнейший брат своими каждодневными слезными просьбами и горестным трауром.
(8) Брат мой был единственным человеком, который смог привлечь к себе ваши взоры своим трауром и вновь пробудить своим плачем тоску и воспоминания обо мне; он решил, квириты, подвергнуться такой же участи, какую испытал я, если вы не возвратите ему меня; он проявил столь необычайную любовь ко мне, что счел бы нарушением божеского закона быть разлученным со мною не только в жилище, но даже в могиле. В мою защиту в моем присутствии сенат надел траур и помимо сената двадцать тысяч человек; в мою защиту в мое отсутствие вы видели жалкие лохмотья и траур одного человека. Он один, который мог бывать на форуме, по своей преданности стал для меня сыном, по оказанному им мне благодеянию — отцом, по своей любви ко мне — тем же, кем всегда был, — братом. Ведь траур и рыдания моей несчастной жены, и безысходное горе преданнейшей дочери, и тоска моего малолетнего сына и его детские слезы либо были скрыты от вас из-за неизбежных переездов, либо большей частью таились во мраке их жилища. (IV) Поэтому ваша заслуга перед нами тем больше, что вы возвратили нас не многочисленным близким, а нам самим.
(9) Но если я не смог найти родных, способных своими мольбами отвратить от меня несчастье, то моя доблесть должна была дать мне помощников, предстателей и советчиков, чтобы я был возвращен и они были столь многочисленны, занимали столь высокое положение и обладали такой силой, что в этом отношении я превзошел всех людей, ранее упомянутых мною. Ни о Публии Попилии, прославленном и храбрейшем муже, ни о Квинте Метелле, знатнейшем и весьма стойком гражданине, ни о Гае Марии, охранителе государства и нашей державы, в сенате не упоминали никогда; (10) первые двое были восстановлены в правах по предложению трибунов, не по решению сената; Марий же был восстановлен в правах, уже не говорю — не сенатом, но даже после подавления сената, и при возвращении Гая Мария возымела силу не память о деяниях, а войска и оружие. Чтобы для меня она возымела силу, сенат все время требовал; чтобы она мне наконец, принесла пользу, он, как только ему дозволили, многолюдностью своего собрания и своим авторитетом достиг. При возвращении названных мною людей движения в муниципиях и колониях не было; меня же вся Италия постановлениями своими трижды призывала вернуться в отечество. Они были возвращены после истребления их недругов, после жестокой резни среди граждан; я же был возвращен в то время, когда изгнавшие меня управляли провинциями[2649], когда один из моих недругов, честнейший и добрейший муж, был консулом[2650], причем о моем возвращении докладывал другой консул[2651]; между тем мой недруг[2652], который, чтобы погубить меня, отдал свой голос общим врагам, хотя и был жив, то есть дышал, в действительности был низринут ниже, чем все умершие. (V, 11) Никогда ни в сенате, ни перед народом в защиту Публия Попилия не выступал храбрейший консул Луций Опимий[2653]; никогда в защиту Квинта Метелла не выступал, уже не говорю — Гай Марий, бывший ему недругом, но даже сменивший его красноречивейший Марк Антоний с коллегой Авлом Альбином[2654]. Что касается выступлений в мою пользу, то их от консулов прошлого года постоянно требовали, но все боялись впечатления, что делается так из личного расположения ко мне; ведь один из них был со мною в свойстве, а другого я однажды защищал по делу, угрожавшему его гражданским правам[2655]; связанные договором о провинциях, они в течение всего прошлого года должны были выслушивать сетования сената, плач честных людей, стоны Италии. Но в январские календы, после того как осиротевшее государство взмолилось о покровительстве к консулу, словно к законному опекуну, консул Публий Лентул, отец, бог, спаситель моей жизни, моего достояния, памяти обо мне, моего имени, тотчас же после доклада о торжественном обряде в честь богов счел своим долгом из всех людских дел прежде всего доложить о моем. (12) И оно было бы решено в этот же день, если бы тот плебейский трибун[2656], которого я как консул осыпал величайшими благодеяниями в бытность его квестором, не потребовал для себя ночи на размышление, хотя все сословие и многие выдающиеся мужи его умоляли, а тесть его, честнейший муж Гней Оппий, в слезах лежал у него в ногах. Размышление это было использовано не для возвращения платы, чего кое-кто ожидал, а, как выяснилось, для ее увеличения. После этого сенат не рассмотрел ни одного дела. Хотя решению моего дела препятствовали разными способами, все-таки, так как воля сената была выражена ясно, мое дело должно было быть доложено в январе месяце.
(13) Вот каково было различие между мною и моими недругами: так как я увидел, что подле Аврелиева трибунала людей открыто вербуют и распределяют на центурии; так как я понимал, что старым шайкам Катилины вновь подана надежда на резню; так как я видел, что люди из того лагеря, главой которого я даже считался, — одни из зависти, другие из боязни — меня либо предавали, либо покидали, когда оба консула, купленные соглашением о провинциях, предоставили себя в распоряжение недругов государства в качестве исполнителей, понимая, что смогут избавиться от бедности и удовлетворить свою алчность и развращенность только в том случае, если головою выдадут меня внутренним врагам; так как эдикты и указы запретили сенату и римским всадникам оплакивать и умолять вас, надев траур, так как соглашения во всех провинциях, все договоры и восстановление добрых отношений скреплялись моей кровью, — то я (хотя все честные люди не отказывались погибнуть либо за меня, либо вместе со мною) не захотел в защиту своего благополучия браться за оружие, полагая, что и моя победа, и мое поражение будут горестными для государства. (14) А недруги мои, когда мое дело обсуждалось в январе месяце, признали нужным преградить мне путь к возвращению телами убитых граждан, рекою крови. (VI) И вот в мое отсутствие общее положение было таково, что вы считали нужным в одинаковой мере восстановить в правах и меня, и государство; я же полагал, что государство, в котором сенат не имел никакой власти, где была возможна безнаказанность, где правосудие отсутствовало, где на форуме царили насилие и оружие, причем частные лица спасались за стенами своих домов, а не под защитой законов, где плебейским трибунам наносили раны у вас на глазах, к домам магистратов приходили с мечами и с факелами, фасцы консула ломали, храмы бессмертных богов поджигали, — что такое государство сведено на нет. Поэтому я и пришел к убеждению, что, пока государство в изгнании, для меня в этом Городе места нет; но я не сомневался в том, что оно, если будет восстановлено, само возвратит меня вместе с собой.
(15) Твердо зная, что в ближайший год консулом станет Публий Лентул, который как курульный эдил в опаснейшее для государства время, когда я был консулом, вместе со мною принимал все решения и разделял со мною опасности, мог ли я сомневаться в том, что мне, консулами раненному, лекарство консулов возвратит здоровье? Когда он стоял во главе, а его коллега, милосерднейший и честнейший муж, вначале не препятствовал, даже помогал ему, почти все остальные магистраты были поборниками моего восстановления в правах; из них особенное присутствие духа, доблесть, почин, готовность меня защищать проявил Тит Анний, а Публий Сестий — особенное расположение ко мне и внушенное ему богами рвение. По почину все того же Публия Лентула и по докладу его коллеги собравшийся в полном составе сенат при несогласии только одного человека[2657], без чьей-либо интерцессии возвеличил мои заслуги в самых лестных выражениях, в каких только мог, и поручил дело моего восстановления в правах всем вам, муниципиям и колониям. (16) Так за меня, не имевшего близких, лишенного поддержки родичей, все время вас умоляли консулы, преторы, плебейские трибуны, сенат и вся Италия; наконец, все те, кто был отмечен величайшими благодеяниями и почестями от вашего имени, не только побуждали вас спасти меня, когда этот же человек предоставил им слово, но даже заверяли вас в значении моих действий, свидетельствовали о них и их прославляли. (VII) Первым из них к вам обратился с уговорами и просьбами Гней Помпей, по своей доблести, мудрости и славе лучший из всех людей, которые существуют, существовали и будут существовать; он один дал мне одному, своему другу в частной жизни, все то, что он дал государству в целом: благополучие, покой, достоинство. Речь свою он, как я узнал, разделил на три части: сначала он доказал вам, что государство было спасено моими решениями, связал мое дело с делом всеобщего избавления и привлек вас к защите авторитета сената, государственного строя и достояния высокозаслуженного гражданина; затем он, заканчивая речь, сказал, что за меня вас просят сенат, римские всадники, вся Италия; затем, в конце он не только просил вас о моем восстановлении в правах, но даже заклинал. (17) Перед этим человеком, квириты, я в таком долгу, в каком божественный закон едва ли дозволяет человеку быть перед человеком. Последовав его советам, предложению Публия Лентула и авторитету сената, вы возвратили мне то же положение, какое я занимал ранее в силу ваших благодеяний, голосами тех же центурий, чьими вы мне его создали. В то же время вы слыхали, как выдающиеся мужи, виднейшие и известнейшие люди, первые среди граждан, все консуляры, все претории с этого места говорили одно и то же, так что ввиду всеобщего свидетельства становилось ясно, что государство было спасено мною одним. Поэтому, когда Публий Сервилий[2658], влиятельный муж и виднейший гражданин, сказал, что благодаря именно моим усилиям государство было передано магистратам следующего года неприкосновенным, то другие присоединились к его мнению. Кроме того, вы слышали не только заверение, но и свидетельские показания прославленного мужа Луция Геллия[2659]; когда он узнал, что во флоте, бывшем под его началом, пытались вызвать мятеж, причем ему самому грозила большая опасность, он сказал на вашем собрании, что, не будь я консулом тогда, когда я им был, государство бы погибло. (VIII, 18) И вот я, квириты, благодаря стольким свидетельствам, авторитету сената, столь полному согласию Италии, такому рвению всех честных людей, когда дело вел Публий Лентул при одобрении со стороны всех других магистратов, когда за меня просил Гней Помпей, когда все люди ко мне относились благожелательно, наконец, когда бессмертные боги одобрили мое возвращение, ниспослав богатый урожай, изобилие и дешевизну хлеба, возвращенный себе самому, своим родным и государству, обещаю вам, квириты, делать для вас все, что только будет в моих силах: во-первых, с тем же благоговением, с каким благочестивейшие люди склонны относиться к бессмертным богам, я всегда буду относиться к римскому народу, и изъявление вашей воли будет в течение всей моей жизни столь же важным и священным для меня, сколь и изъявление воли бессмертных богов; затем, так как само государство возвратило меня в число граждан, я ни в чем не уклонюсь от выполнения своего долга перед государством. (19) И если кто-нибудь думает, что у меня либо изменились намерения, либо ослабело мужество, либо дух сломлен, то он глубоко заблуждается. Все то, что у меня смогли отнять насилие, несправедливость и бешенство преступников, они вырвали, унесли, рассеяли; то, чего у храброго мужа не отнять, у меня существует, остается и останется навсегда. Видел я храбрейшего мужа, земляка своего Гая Мария, — ведь нам, словно в силу какой-то роковой неизбежности, пришлось вести войну не только с теми, кто захотел уничтожить все это вот[2660], но и с самой судьбой, — так вот, я видел его: несмотря на свою глубокую старость, он не только не был сломлен постигшим его величайшим несчастьем, но даже окреп и воспрял духом. (20) Я сам слышал, как он говорил, что был несчастен тогда, когда был лишен отечества, в прошлом избавленного им от вторжения врагов; когда слышал, что его имуществом владеют недруги и расхищают его; когда видел, что его юный сын разделяет с ним эти невзгоды; когда, укрываясь в болотах, благодаря помощи и состраданию жителей Минтурн[2661] спасался от гибели; когда, переправившись на утлом челне в Африку, нищий и умоляющий о помощи, явился к тем, кому сам роздал царства; и вот, восстановив свое высокое положение, он не допустит себя до того, чтобы ему — после восстановления утраченного — недостало бы мужества, которое всегда оставалось при нем. Между нами обоими различие в том, что он отомстил своим недругам именно тем, в чем была его наибольшая сила, — оружием; я же буду пользоваться тем, чем привык пользоваться, — красноречием, так как искусству Мария место во время войны и смуты, моему — во времена мира и спокойствия. (21) Впрочем, Гай Марий в своем гневе помышлял только о мщении недругам, а я даже о недругах своих буду думать лишь в той мере, в какой государство мне это дозволит.
(IX) Наконец, квириты, так как мне причинили зло четыре рода людей: одни ввиду своей ненависти к государству были моими злейшими недругами именно потому, что я его спас им наперекор; другие — те, кто, притворившись моими друзьями, меня преступно предал; третьи — те, кто, из-за своей бездеятельности не будучи в состоянии достичь того же, чего достиг я, завидовал моим заслугам и высокому положению; четвертые, хотя они должны были стоять на страже интересов государства, продали мое благополучие, дело государства и достоинство того империя, каким были облечены. Итак, я буду карать этих людей в соответствии с их действиями по отношению ко мне: дурных граждан — честным ведением государственных дел; вероломных друзей — не веря им ни в чем и всего остерегаясь; завистников — служением доблести и славе; приобретателей провинций — отзывая их в Рим и требуя от них отчетов по наместничеству[2662]. (22) Впрочем, для меня, квириты, отблагодарить вас, оказавших мне величайшие услуги, гораздо важнее, чем преследовать недругов за их несправедливости и жестокость. И право, способ отомстить за несправедливость найти легче, чем способ воздать за благодеяние, ибо одолеть бесчестных людей не так трудно, как сравняться с честными; кроме того, необходимо воздать должное не столько тем, кто причинил тебе зло, сколько тем, кто сделал тебе величайшее добро. (23) Ненависть возможно либо смягчить просьбами, либо забыть в связи с положением в государстве и ради общей пользы, либо сдержать ввиду трудности мщения, либо подавить в себе за давностью; но уступить просьбам и не чтить людей, оказавших нам большие услуги, — этого нам божеский закон не велит, и ни при каких обстоятельствах нельзя при этом ссылаться на пользу для государства; нельзя оправдываться и трудностью положения, и не подобает ограничивать память о благодеянии временем и сроком. Наконец, того, кто был мягок при мщении, открыто восхваляют, но очень резко порицают того, кто оказался медлителен в воздаянии за столь великие милости, какие вы оказали мне; его непременно назовут, уже не говорю — неблагодарным, что тяжко само по себе, но даже нечестивым. [Ведь положение при воздаянии за услугу не походит на положение при денежном долге, так как тот, кто удерживает деньги у себя, долга не платит, а у того, кто отдал долг, денег уже нет; благодарность же и тот, кто воздал ее, сохраняет, и тот, кто ее сохраняет, долг свой платит.]
(X, 24) Поэтому я буду хранить память о вашем благодеянии, вечно чувствуя расположение к вам, и не утрачу ее вместе со своим последним вздохом; нет, даже тогда, когда жизнь покинет меня, воспоминания о благодеянии, оказанном мне вами, сохранятся. Что касается моей ответной благодарности, то вот что обещаю я вам и буду всегда выполнять: с моей стороны не будет недостатка ни в рвении при принятии решений по делам государства, ни в мужестве при устранении угрожающих ему опасностей, ни в честности при обычной подаче голосов, ни — во имя защиты государства — в доброй воле при противодействии злым людским умыслам, ни в настойчивости в тяжелых трудах, ни в благожелательности искреннего сердца при служении вашим интересам. (25) И вот какая забота, квириты, будет всегда со мною: чтобы я и вам, в моих глазах обладающим силой и волей бессмертных богов, и потомкам вашим, и всем народам казался вполне достойным того государства, которое всеми поданными голосами признало, что оно не может сохранить своего достоинства, если себе не возвратит меня.
Речь в защиту Луция Корнелия Бальба [В суде, июль — август 56 г. до н. э.]
«Вестник древней истории», 1987, № 2. С. 235—252.
В 72 г. до н. э., в год консулата Л. Геллия Попликолы и Гн. Корнелия Лентула Клодиана, был издан закон (Геллиев — Корнелиев закон), разрешавший Гнею Помпею даровать права римского гражданства испанцам, оказавшим Римскому государству услуги во время происходивших в Испании военных действий против Кв. Сертория. Гн. Помпей предоставил права римского гражданства одному гадитанцу, который при этом получил имя Луция Корнелия Бальба. Впоследствии Л. Бальб стал доверенным лицом Цезаря и участвовал в его походе в Испанию в качестве начальника войсковых рабочих (praefectus fabrum).
На основании договора, заключенного между Гадесом и Римом в 212 г. до н. э. и подтвержденного в 78 г. в консулат М. Эмилия Лепида и Кв. Лутация Катула Капитолийского, Гадес стал civitas foederata; согласно Юлиеву закону 90 г., жители союзных с Римом гражданских общин могли получить права римского гражданства только с согласия своей общины; из-за несоблюдения этого условия Л. Бальб был привлечен к суду по обвинению в незаконном получении прав римского гражданства. Л. Бальба защищали Гн. Помпей, М. Лициний Красс и М. Цицерон, говоривший последним. Суд оправдал обвиняемого.
(I, 1) Если в суде оказывает действие авторитет защитника, то Луция Корнелия защищали известнейшие мужи; если оказывает действие опыт, то — весьма искушенные; если — дарование, то — весьма красноречивые; если преданность, то — лучшие друзья и люди, связанные с Луцием Корнелием и оказанными ему милостями, и теснейшей приязнью. Каково, в таком случае, может быть мое участие? Оно возможно в меру того авторитета, какой вы захотели за мною признать, моего скромного опыта и дарования, отнюдь не равного моей доброй воле. Ведь я вижу, что перед другими людьми, его защищавшими, Луций Корнелий в очень большом долгу; в каком долгу перед ним я, скажу в другом месте[2663]. В начале своей речи заявляю одно: если всем, кто способствовал моему восстановлению в правах и высоком положении, я не смог вполне отплатить равной услугой, то постараюсь воздать им должное моей благодарностью и хвалой. (2) О том, сколь убедительна, судьи, была вчерашняя речь Гнея Помпея, сколь сильна, сколь богата, свидетельствовало не молчаливое ваше согласие, но откровенное восхищение. Никогда, кажется, не слышал я ничего, что говорилось бы о праве с большей точностью, о примерах из прошлого с большей полнотой, о союзных договорах с бо́льшим знанием дела, о войнах с бо́льшим блеском и авторитетом, о государстве с большей убедительностью, (3) о самом себе с большей скромностью, о судебном деле и обвинении с бо́льшим красноречием. И вот мне уже кажется истинным изречение, которое в устах некоторых любителей словесности и философии выглядело неправдоподобным и которое гласит, что человеку, глубоко проникнувшемуся всеми доблестями, любое дело, за которое бы он ни взялся, удается. Могли ли даже у Луция Красса[2664] с его редкостным прирожденным даром красноречия, если б он вел это дело, найтись содержательность, разнообразие, изобилие, бо́льшие, чем оказались у человека, который смог уделить этому занятию лишь столько времени, сколько ему удалось отдыхать от непрерывных войн и побед[2665]. (4) Тем труднее мне говорить последним: и действительно, моя речь следует за такой, которая не прошла мимо ваших ушей, но глубоко запала всем в душу, так что вы, вспоминая ту речь, можете получить большее наслаждение, чем могли бы получить не только от моей, а вообще от речи любого человека. (II) Однако я должен повиноваться желанию не только Корнелия, отказать которому в опасное для него время я никак не могу, но и Гнея Помпея, захотевшего, чтобы я был прославителем и защитником его поступка, его решения, его благодеяния, подобно тому как я недавно был таковым перед вами, судьи, в другом судебном деле[2666].
(5) И вот что мне, по крайней мере, кажется достойным нашего государства, вот что — долгом исключительной славе этого выдающегося мужа, вот что — прямой вашей обязанностью, вот что достаточным для этого судебного дела: все должны согласиться с тем, что те действия, какие Гней Помпей, как известно, совершил, были ему дозволены. Ведь нет ничего более верного, чем сказанное вчера им самим: Луций Корнелий бьется, защищая все свое благополучие, а ни в каком преступлении не обвиняется. Ведь нет разговора ни о том, что он воровски присвоил гражданские права, ни о том, что он солгал о своем происхождении, ни о том, что он прикрылся каким-то бессовестным обманом, ни о том, что он прокрался в цензорский список. Одним его попрекают — тем, что он родился в Гадесе. Этого и не отрицает никто. Все остальное обвинитель признает: что во время труднейшей войны в Испании[2667] Луций Корнелий был под началом Квинта Метелла, под началом Гая Меммия — и во флоте, и в войсках; что с того времени, как Помпей прибыл в Испанию и назначил Гая Меммия своим квестором, Луций Корнелий никогда не покидал Гая Меммия; что он был осажден в Карфагене, участвовал в жесточайших и величайших сражениях — на Сукроне и на Турии[2668]; что он был под началом Помпея до самого конца войны. (6) Вот что относится собственно к Корнелию: преданность нашему государству, труды, постоянство, самоотверженность, доблесть, которою он оказался достоин великого полководца, надежда на награды за перенесенные опасности; само же награждение не принадлежит к поступкам того, кто удостоен награды, но — только того, кто ее даровал.
(III) Таковы основания, в силу которых Корнелий получил гражданские права от Гнея Помпея. Этого обвинитель не отрицает, но порицает. Притом, применительно к Корнелию он основания одобряет, но кары требует, применительно же к Помпею основания порочит, но ни о каком наказании, кроме худой славы, не говорит. Так хотят приговором погубить благополучие невиновнейшего человека, осудить деяние замечательнейшего полководца. И вот под судом права Корнелия и деяние Помпея. Ведь ты[2669] признаешь, что Корнелий в том городе, откуда он родом, родился в весьма почтенной семье и с ранней молодости, оставив все свои дела, участвовал в наших войнах под началом наших полководцев; не было военных трудов, не было осады, не было сражения, в каких он бы не принял участия. Все это весьма похвально, притом относится к самому Корнелию и никакого основания для обвинения здесь нет. (7) Где же оно? В том, что ему Помпей даровал права гражданства. Это обвинение против Корнелия? Ничуть, если только почет не считать позорным клеймом. Так против кого же? По правде — ни против кого; по смыслу речи обвинителя — только против того, кто даровал права гражданства. Если бы он, движимый чувством расположения, вознаградил менее подходящего человека; если бы даже он вознаградил мужа честного, но не столь заслуженного; если бы, наконец, речь шла о каком-нибудь поступке, противоречащем не дозволенному, а должному, то вам, судьи, все-таки следовало бы отвергнуть всякий такой упрек. (8) Но что говорится теперь? Что говорит обвинитель? Что Помпей совершил то, чего ему не было дозволено совершить, а это более серьезно, чем если бы он сказал, что Помпей сделал то, чего ему делать не следовало. Ведь есть что-то, чего делать не следует, даже если это дозволено. Ну а если что-нибудь не дозволено, то этого, уж конечно, делать не следует.
(IV) Колебаться ли мне теперь, [судьи, с утверждением, что высший закон не позволяет сомневаться в том, что всем известные действия Гнея Помпея ему не только были дозволены, но и подобали?] (9) И действительно, каких он лишен качеств, наличие которых заставило бы нас признать, что эти права предоставляются ему законно? Опыта ли? Но ведь окончание его отрочества стало для него началом величайших войн и чрезвычайных командований, и большинство его сверстников совершало походы реже, чем он справлял триумфы, а триумфов у него на счету столько, сколько существует краев и стран[2670], столько военных побед, сколько существует родов войн. Или дарования? Но ведь даже случай и исход событий были для него не вождями, но спутниками решений, и в нем одном высшая удачливость состязалась с высшей доблестью, так что общим суждением человеку воздавалось больше, чем богине[2671]. Или совестливости, неподкупности, благочестия, тщательности искали и не находили у человека, чище, умереннее, бескорыстнее которого никогда, не говорю уж — не видели, но даже в надеждах и чаяниях своих не представляли себе наши провинции, свободные народы, цари, самые далекие племена? (10) Что сказать мне о его авторитете? Который так велик, как должен быть велик при его столь больших доблестях и заслугах. О поступке человека, которому сенат и римский народ предоставили награды в виде высших почестей без его требования, а чрезвычайные полномочия — даже несмотря на его возражения[2672], вот о чьем поступке, судьи, ведется такое расследование, что доискиваются, было ли ему дозволено совершить то, что он совершил, или же, не скажу «не было дозволено», но — «не было ли это нарушением божеского закона?» (ведь они говорят, что Помпей своим поступком нарушил союзный договор, а значит священное обязательство и честное слово римского народа), — не позор ли это для римского народа, не позор ли это для вас?
(V, 11) Вот что мальчиком слышал я от отца: когда Квинт Метелл, сын Луция[2673], обвиненный в вымогательстве, отвечал перед судом, — знаменитый человек, для которого благо отечества было дороже возможности его видеть, который предпочел отказаться от пребывания в государстве, только бы не отказываться от своего мнения, — итак, когда он отвечал перед судом и присутствовавшим показывали его записи, предоставляя возможность проверки, то среди известных римских всадников, достойнейших мужей, не нашлось ни одного судьи, который не отвел бы глаз и не отвернулся бы, чтобы не показалось, будто он сомневается, правдиво ли или ложно внесенное Метеллом в официальные записи. А мы? Станем ли мы пересматривать указ Гнея Помпея, объявленный на основании решения его совета[2674], сопоставлять его с законами, с договорами, все взвешивать с суровейшей тщательностью? (12) По преданию, однажды в Афинах, когда некий гражданин безупречного и строгого образа жизни всенародно давал свидетельские показания и, по обычаю греков, направился к алтарям с намерением произнести клятву, то все судьи в один голос закричали ему, чтобы он не клялся[2675]. Греки не хотели, чтобы доверие ко всеми уважаемому человеку показалось основанным на религиозном обряде, а не на его правдивости, а мы усомнимся в правильности действий Гнея Помпея, когда ему надо было сохранить саму святость законов и договоров? (13) Сознательно ли или же по неведению, по вашему мнению, нарушил он союзные договоры? Если сознательно, — о имя вашей державы, о великое достоинство римского народа, о заслуги Гнея Помпея, получившие такую широкую и далекую известность, что границы областей, где он славен, совпадают с пределами всей нашей державы; о племена, города, народы, цари, тетрархи[2676], тираны, свидетели не только доблести Гнея Помпея во времена войны, но и его совестливости во времена мира, вас, наконец, умоляю я, безмолвные края и земли стран, лежащих на краю света, вас, моря, гавани, острова, побережья! В какой стране, в каком селении, в каком месте не осталось запечатленных следов его храбрости, а особенно его человечности, как его великодушия, так и мудрости? Осмелится ли кто-нибудь сказать, что Гней Помпей, наделенный необычайными и ранее невиданными строгостью взглядов, доблестью, стойкостью, сознательно презрел, нарушил, разорвал союзные договоры?
(VI, 14) Обвинитель движением своим выражает мне свое одобрение; по неведению-де сделал это Гней Помпей — дает он понять. Как будто действительно — для человека, занятого такими важными государственными делами и ответственного за важнейшие поручения, — менее недостойно сделать что-либо заведомо недозволенное, чем совсем не знать, что именно дозволено. И впрямь, мог ли знать тот, кто завершил в Испании жесточайшую и величайшую войну, каковы права гражданской общины гадитанцев, или же он, зная права гадесского народа, не руководствовался смыслом союзного договора? Так осмелится ли кто-нибудь сказать, что Гней Помпей не знал того, с чем готовы объявить себя знакомыми обыкновенные люди, не обладающие ни опытом, ни склонностью к военному делу, и даже жалкие письмоводители? (15) Я, со своей стороны, полагаю иначе, судьи! В то время, как Гней Помпей превосходит других людей во всяческих и притом разных науках и даже в таких, изучить которые нелегко, не располагая большим досугом, его особенной заслугой является редкостная осведомленность в союзных договорах, соглашениях, условиях соглашения для народов, для царей, для чужеземных племен, — словом, во всем праве войны и мира. Или, быть может, тому, чему нас в тени и на досуге учат книги, Гнея Помпея не смогли научить ни чтение, когда он отдыхал, ни сами страны, когда он действовал.
Итак, по моему мнению, судьи, дело рассмотрено. Теперь я буду говорить больше о пороках нашего времени, чем о существе судебного дела. Ведь это какое-то пятно и позор нашего времени — зависть к доблести, желание надломить самый цвет достоинства. (16) И впрямь, если бы пятьсот лет назад жил Помпей, муж, которого, когда он был еще совсем молодым человеком и только римским всадником, сенат не раз просил помочь делу всеобщего избавления, муж, чьи деяния, сопровождавшиеся блестящей победой на суше и на море, охватили все племена и чьи три триумфа свидетельствуют о том, что наша держава распространяется на весь мир, муж, которого римский народ облек невиданными и исключительными полномочиями, — то кто стал бы слушать, если бы теперь среди нас кто-нибудь сказал, что он действовал в нарушение союзного договора? Никто, конечно. Ведь после того как его смерть погасила бы ненависть, деяния его заблистали бы славой его бессмертного имени. Так что ж, его доблесть, знай мы о ней с чужих слов, не оставила бы места сомнению, а увиденная и изведанная, она будет оскорбляема голосами хулителей?
(VII, 17) Итак, я не буду уже говорить о Помпее в оставшейся части моей речи, но вы, судьи, держите все в своем сердце и памяти. Что касается закона, союзного договора, примеров из прошлого, неизменных обычаев нашего государства, то я повторю уже сказанное мною. Ведь ни Марк Красс[2677], тщательно разъяснивший вам все дело в соответствии со своими способностями и добросовестностью, ни Гней Помпей, чья речь изобиловала всяческими красотами, не оставили мне ничего такого, что я смог бы высказать как нечто новое и не затронутое ими. Но, так как им обоим, несмотря на мой отказ, было угодно, чтобы некий последний труд как бы по отделке произведения был приложен именно мною, то прошу вас считать, что я взялся за него и за выполнение этой обязанности скорее из чувства долга, чем из склонности к красноречию. (18) И прежде чем приступать к рассмотрению правовой стороны дела Корнелия, я нахожу нужным для предотвращения недоброжелательности коротко упомянуть об условиях, общих для всех нас. Если бы каждый из нас, судьи, должен был сохранить до самой старости то положение в жизни, в каком он родился, или ту участь, какая была ему суждена при его появлении на свет, и если бы все те, кого либо вознесла судьба, либо прославили их личный труд и настойчивость, должны были понести наказание, то для Луция Корнелия, по-видимому, не было бы ни более сурового закона, ни более тяжелого положения, чем для многих честных и храбрых людей. Но если доблесть, дарование и человеческие качества многих людей самого низкого происхождения и самого малого достояния принесли им не только дружеские связи и огромное богатство, но и необычайную хвалу, почести, славу, общественное положение, то я не понимаю, почему зависть должна посягать на доблесть Луция Корнелия, а не ваша, судьи, справедливость — прийти на помощь его честности. (19) Поэтому того, о чем следует просить больше всего, я от вас, судьи, не прошу затем, чтобы не показалось, будто я сомневаюсь в вашей мудрости и человечности. Но я должен просить вас не относиться с ненавистью к дарованию, не быть недругами настойчивости, не считать нужным нанести удар человечности и покарать за доблесть. Прошу об одном: если вы увидите, что дело Луция Корнелия само по себе обоснованно и верно, то предпочтите, чтобы его личные достоинства помогали ему, а не были помехой.
(VIII) Дело Корнелия, судьи, связано с законом, который на основании решения сената был проведен консулами Луцием Геллием и Гнеем Корнелием. Законом этим, как мы видим, установлено, что те, кому Помпей, на основании решения своего совета, каждому в отдельности даровал гражданские права, — римские граждане. Что права эти были дарованы Луцию Корнелию, говорит присутствующий здесь Помпей, показывают официальные записи, обвинитель признает, но утверждает, что никто из народа, связанного с нами союзным договором, не может сделаться римским гражданином, если этот народ не даст своего согласия[2678]. (20) О прекрасный истолкователь права, знаток древности, мастер исправлять и преобразовывать ваше государственное устройство! Ведь он дополняет союзные договоры статьей о каре, которая должна все наши награды и милости сделать недоступными для союзных народов! Да что же могло быть невежественнее утверждения, будто народы, связанные с нами союзным договором, должны [в таких случаях] «давать согласие»? Ведь это не в большей мере касается народов, связанных договором, чем всех свободных народов. А вообще то, о чем здесь идет речь, всегда полностью было основано на следующем правиле и замысле: после того как римский народ примет какое-либо постановление, если его одобрят союзные народы и латиняне, и если тот же самый закон, каким пользуемся мы, утвердится, как бы укоренившись, у какого-либо народа, то в таком случае этот народ должен подпадать под действие этого же закона — не с тем, чтобы сколько-нибудь ограничить наше право, но с тем, чтобы эти народы пользовались либо правом, установленным нами, либо какой-нибудь другой выгодой или милостью. (21) В старину Гай Фурий провел закон о завещаниях[2679], Квинт Воконий провел закон о наследствах, оставляемых женщинам[2680]; было издано множество других законов, относившихся к гражданскому праву. Латиняне заимствовали из них какие хотели. Наконец, согласно самому Юлиеву закону, даровавшему гражданские права союзникам и латинянам, народы, которые не стали «давшими согласие», не должны обладать гражданскими правами. При этом возник сильный спор среди жителей Гераклеи и Неаполя, поскольку в этих городах многие предпочитали римскому гражданству свободу, предоставленную им прежними договорами[2681]. Наконец, сила соответствующего права и соответствующего выражения — в том, что народы становятся «давшими согласие» в силу нашей милости, а не собственного их права. (22) Когда римский народ примет какое-нибудь постановление и оно будет таково, что покажется нужным позволить тем или иным народам, либо связанным с нами договорами, либо же свободным, чтобы они по поводу не наших, а их собственных дел решили, каким правом они хотят пользоваться, тогда-то, очевидно, и следует спрашивать, стали ли они «давшими согласие». Но чтобы народы становились «давшими согласие» по поводу наших государственных дел, нашей державы, наших войн, нашей победы, нашего благополучия, — этого предки наши отнюдь не хотели.
(IX) Конечно, если нашим полководцам, сенату и римскому народу не будет дозволено привлекать к себе храбрейших и честнейших людей из гражданских общин союзников и друзей, предлагая им награды, — с тем, чтобы они ради нашего благополучия соглашались подвергаться опасностям, то мы будем лишены величайших выгод, а часто и величайшей поддержки в опасные и трудные времена. (23) Но — во имя бессмертных богов! — что это за союзные отношения, что это за дружба, что это за союзный договор, при которых наше государство, находясь в опасном положении, лишается защитников в лице массилийцев, гадитанцев, сагунтинцев[2682], и ни один человек из этих народов, если он, с опасностью для себя, помог нашим полководцам своим трудом, снабжением, не раз сражался с нашими врагами в рукопашном бою, часто грудью встречал копья врагов, бился с ними не на жизнь, а на смерть, подвергался смертельной опасности, — ни при каких условиях не может быть награжден дарованием ему прав нашего гражданства? (24) Ведь действительно, римскому народу тяжело не иметь возможности располагать союзниками выдающейся доблести, которые согласились бы разделять с нами опасности, угрожающие нам и им самим; что же касается самих союзников и тех, о ком идет речь, — народов, связанных с нами договором, то несправедливо и оскорбительно, чтобы преданнейшие и теснейше связанные с нами союзники были лишены возможности получать награды и почести, доступные данникам, доступные врагам, доступные часто даже рабам. Ведь права гражданства, как мы видим, дарованы многим данникам из Африки, Сицилии, Сардинии, из других провинций; дарованы, как мы знаем, врагам, которые перебежали к нашим полководцам и принесли большую пользу нашему государству; наконец, мы видим, что рабам, чьи права, участь и положение самые низкие, если у них имеются существенные заслуги перед государством, очень часто даруют свободу, то есть гражданские права.
(X, 25) Итак, ты[2683], защитник союзных договоров и народов, которые связаны с нами договорами, устанавливаешь для своих сограждан гадитанцев такое положение, чтобы то, что возможно для тех, кого мы, получив большую помощь от твоих предков, покорили оружием и подчинили своему господству, — дарование им гражданских прав с дозволения римского народа сенатом при посредстве наших полководцев, — не было возможно для самих гадитанцев? Если бы они, постановлениями или законами своими, установили, чтобы ни один из их сограждан не входил в лагерь полководца римского народа, чтобы ни один не подвергался опасности и не рисковал жизнью ради нашей державы, если бы они установили, чтобы нам, когда мы этого захотим, не дозволялось пользоваться вспомогательными войсками гадитанцев и чтобы ни один честный человек, отличающийся особенным присутствием духа и доблестью, не сражался за нашу державу, — то мы по справедливости были бы удручены тем, что уменьшается численность вспомогательных войск римского народа, что слабеет дух храбрейших мужей и что мы лишаемся преданности иноплеменников и доблести чужеземцев. (26) И нету разницы, судьи, постановят ли народы, связанные с нами договором, чтобы никому из их городов не дозволялось разделять с нами опасности наших войн, или потеряют законную силу награды, какие мы жалуем их гражданам за доблесть. Ведь с отменой наград за доблесть мы сможем пользоваться их помощью ничуть не больше, чем если бы им вообще не дозволялось участвовать в наших войнах. И действительно, коль скоро с незапамятных времен находились лишь немногие, которые ради собственного отечества, не рассчитывая ни на какие награды, грудью встречали копья врагов, то кто, по вашему мнению, станет подвергаться опасности ради чужого государства, когда вознаграждение не только не обещано, но даже запрещено?
(XI, 27) Но крайне невежественно не только то, что сказано обвинителем о народах, «давших согласие», и что относится также к свободным народам, а не только к народам, связанным с нами союзным договором, откуда неминуемо следует, либо что из числа союзников никто не может сделаться римским гражданином, либо что им может сделаться даже человек из народа, связанного с нами договором; нет, этот наш наставник по части перемены гражданства поистине незнаком со всем нашим правом, основанным не только на законах государства, судьи, но также и на воле частных людей. Ведь по нашим законам никто не может переменить гражданство против своей воли, но, если захочет, может его переменить только, если он будет принят тем государством, гражданином которого хочет быть. Так, если гадитанцы постановят о каком-нибудь римском гражданине, назвав его по имени, чтобы он был гражданином Гадеса, то у нашего гражданина будет полная возможность переменить гражданство, а союзный договор не будет препятствовать римскому гражданину сделаться гадитанским. (28) Быть гражданином двух общин наш гражданин, по нашему гражданскому праву, не может. Не может быть нашим гражданином тот, кто сделается гражданином другого государства. Перемена гражданства возможна не только в результате просьбы о представлении права гражданства, — что, как мы видели, случилось с оказавшимися в бедственном положении прославленными мужами Квинтом Максимом, Гаем Ленатом, Квинтом Филиппом в Нуцерии[2684], Гаем Катоном в Тарраконе[2685], Квинтом Цепионом[2686], Публием Рутилием в Смирне[2687] (они стали гражданами этих общин, хотя не могли утратить права нашего гражданства, прежде чем ушли в изгнание), — но также и по праву возвращения на родину[2688]. Ведь не без причины о вольноотпущеннике Гнее Публиции Менандре, который некогда по желанию наших послов, отправившихся в Грецию, был при них переводчиком, народу было предложено принять постановление, гласившее, что этот Публиций не утратит своих гражданских прав, если возвратится на родину, а оттуда вернется в Рим. Также и в более отдаленные времена многие римские граждане добровольно, не будучи ни осуждены, ни ограничены в правах, отказавшись от нашего гражданства, переселялись в другие государства.
(XII, 29) Но если римскому гражданину дозволяется стать гадитанцем либо ввиду изгнания, либо по праву возвращения на родину, либо ввиду его отказа от нашего гражданства (обратимся к вопросу о союзном договоре, что не имеет отношения к рассматриваемому делу, ведь мы рассуждаем о праве гражданства, а не о союзных договорах), то почему гражданину Гадеса не дозволено получение прав нашего гражданства? Я-то, конечно, держусь совершенно противоположного мнения. Ведь коль скоро в наше государство путь ведет из всех гражданских общин, а нашим гражданам открыт путь в другие гражданские общины, то, разумеется, чем теснее каждая из них связана с нами союзом, дружбой, торжественным обязательством, соглашением, союзным договором, тем сильнее, мне кажется, она привязывается к нам общностью выгод, наград, гражданских прав. Другие гражданские общины, конечно, без колебаний предоставили бы гражданские права нашим соотечественникам, будь у нас те же законы, что и у других. Но мы не можем быть гражданами нашего государства и, сверх того, еще какого-нибудь; другим это не запрещено. (30) Поэтому в греческих городах, например в Афинах, как мы видим, к гражданским общинам приписываются родосцы, лакедемоняне и прочие, прибывшие отовсюду, и одни и те же люди принадлежат многим гражданским общинам. Я сам видел, как некоторые неискушенные люди, наши сограждане, пребывая из-за этого в заблуждении, исполняли в Афинах официальные должности судей и ареопагитов в определенной трибе и в определенном разряде, не зная, что они, получив права тамошнего гражданства, утратили права нашего, — если только не вернут себе их по праву возвращения на родину; но ни один человек, сведущий в наших обычаях и законах, который хотел сохранить за собой права нашего гражданства, никогда не объявлял себя гражданином другой общины.
(XIII) Вся эта часть моего рассуждения и моей речи, судьи, относится к всеобщему праву перемены гражданства; в ней нет ничего такого, что касалось бы именно святости союзных договоров. Ведь я отстаиваю общее положение: на всей земле нет ни одного племени, ни чуждого римскому народу из-за ненависти и раздоров, ни связанного с ним верностью и взаимным расположением, человека из которого нам было бы запрещено признать своим гражданином или даровать ему права гражданства. (31) О превосходные законы, по внушению богов установленные нашими предками уже при появлении имени римлян и гласящие, что ни один из нас не может принадлежать более чем к одной гражданской общине (ведь несходство между гражданскими общинами непременно должно сопровождаться различиями в праве), что никто не должен против своей воли менять гражданство и не должен оставаться гражданином против своей воли! Вот каковы прочнейшие основы нашей свободы: каждый волен и сохранять свое право, и отказаться от него. Уже одно, вне всяких сомнений, укрепило нашу державу и возвеличило имя римского народа: первый создатель этого города, Ромул, доказал своим договором с сабинянами[2689], что наше государство надо увеличивать, принимая в него даже врагов. На основании его убедительного примера предки наши никогда не упускали случая даровать и распространить права гражданства[2690]. Поэтому многие жители Лация, как тускуланцы, как ланувийцы, а также целые племена из других областей, как племена сабинян, вольсков, герников, были приняты в число наших граждан; никаких людей из этих гражданских общин не заставили бы переменить гражданство, если бы они того не желали, а если бы кто-нибудь и получил права нашего гражданства по милости нашего народа, то никакой союзный договор не казался бы нарушенным.
(XIV, 32) Но ведь существуют договоры, такие, как договор с ценоманами, с инсубрами, с гельветами, с япидами и с некоторыми варварами опять-таки из Галлии[2691]; в этих договорах прием лиц из этих народов в число наших граждан исключен. Но если оговорка это запрещает, то в случаях, когда оговорки нет, это безусловно дозволяется. Где же в союзном договоре с гадитанцами говорится, что римский народ не должен даровать права римского гражданства ни одному гадитанцу? Нигде. А если бы это где-нибудь и говорилось, то это было бы отменено Геллиевым и Корнелиевым законом, который с определенностью предоставил Помпею власть даровать права гражданства. «Это исключено, — утверждает обвинитель, — так как договор — нерушимый». Извиняю тебя, если ты не искушен в законах пунийцев[2692] (ведь ты покинул свою гражданскую общину) и не смог разобраться в наших законах, которые осуждением по уголовному делу[2693] сами отстранили тебя от дальнейшего знакомства с ними. (33) Какая оговорка, в которой можно было бы усмотреть исключение для чего-то нерушимого, содержится в запросе, поданном консулами Геллием и Корнелием насчет Помпея? Во-первых, нерушимым может быть только то, что римский народ или плебс[2694] объявит священным; во-вторых, постановления должны объявляться нерушимыми или в связи с самим родом закона или же путем призывания богов и консекрации закона, когда гражданские права нарушителя обрекаются богам. Итак, что сможешь ты, в связи с этим, сказать о договоре с гадитанцами? Консекрацией ли гражданских прав объявлено это нерушимым или же призыванием богов в тексте закона? Это ты утверждаешь? Я заявляю, что насчет этого договора вообще никогда не вносили предложения ни на рассмотрение народа, ни на рассмотрение плебса, и что ни закон, ни кара не были признаны священными. И вот, так как римский народ никогда и ничего не постановлял о гадитанцах, насчет которых (даже если бы был издан закон, запрещающий предоставлять права гражданства кому бы то ни было) все же оставалось бы в силе то, что постановил народ, и так как, по-видимому, не было сделано оговорки в известных выражениях: «Если что-нибудь признано нерушимым», — то осмелишься ли ты о чем-то утверждать, что это было признано нерушимым?
(XV, 34) Моя речь, уверяю вас, судьи, направлена не на то, чтобы объявить недействительным союзный договор с гадитанцами, да я и не хочу высказываться против прав столь заслуженной гражданской общины, против мнения, основанного на давности, против авторитета сената. Некогда, в тяжелые времена для нашего государства, когда господствовавший на суше и на море Карфаген, поддерживаемый обеими Испаниями, угрожал нашей державе, и когда Гней и Публий Сципионы, две молнии нашей державы, погаснув, вдруг пали в Испании[2695], центурион-примипил Луций Марций, как говорят, заключил договор с гадитанцами. Так как этот договор опирался на честность этого народа, на нашу верность слову, наконец, на давность в большей степени, чем на какое-то официальное обязательство, то гадитанцы, люди разумные и искушенные в государственном праве, в консулат Марка Лепида и Квинта Катула обратились к сенату с запросом о договоре. Вот тогда-то и был возобновлен или заключен договор с гадитанцами; насчет этого договора римский народ постановления не выносил, а без этого он никак не мог взять на себя священное обязательство.
(35) Таким образом гадитанская гражданская община достигла того, чего она могла достичь услугами, оказанными ею нашему государству, благодаря свидетельству военачальников, в силу давности, благодаря авторитету выдающегося мужа Квинта Катула, на основании решения сената, в силу договора; что могло быть публично скреплено священным обязательством, того нет; ведь народ не брал на себя никаких обязательств. И по этой причине положение гадитанцев не стало хуже: ведь их дело подкреплено важнейшими и очень многими обстоятельствами. Но здесь речь идет, конечно, о другом. А нерушимым может быть только то, что народ или плебс признали священным. (XVI) И если бы этот договор, который римский народ одобряет по предложению сената, на основании заветов и суждения древности, по своей воле и выражением своего мнения, он же одобрил своим голосованием, то почему, в силу самого договора, не было бы дозволено принять гадитанца в нашу гражданскую общину? Ведь в договоре речь идет лишь о том, чтобы был «справедливый и вечный мир». Какое отношение имеет это к гражданским правам? Прибавлено также и то, чего нет ни в одном договоре: «Пусть они благожелательно чтут величие римского народа». Это значит, что в договорных отношениях они в подчиненном положении. (36) Прежде всего, выражение «пусть чтут», которым мы обыкновенно пользуемся в законах чаще, чем в договорах, есть приказание, а не просьба. Затем, когда велят чтить величие одного народа, а о другом народе молчат, то в более высокое положение и условия, несомненно, ставят тот народ, чье величие защищается заключительной статьей договора. Толкование, данное обвинителем по этому поводу, не заслуживало ответа; он говорил, что «благожелательно» означает «сообща»[2696], как будто объяснялось значение какого-то древнего или необычного слова. Благожелательными называют добросердечных, доступных, приятных людей; «кто благожелательно показывает дорогу заблудившемуся»[2697] — с добросердечием, не тяготясь; слово «сообща», очевидно, здесь не подходит. (37) Вместе с тем не имеет смысла особо оговаривать, чтобы величие римского народа оберегалось «сообща», то есть чтобы римский народ хотел, чтобы его величие было невредимо. Но если бы положение и было таким, каким оно быть не может, то все же обеспечивалось бы наше, но не их величие. Итак, могут ли гадитанцы благожелательно чтить наше величие, если мы для сохранения его не может привлекать гадитанцев наградами? Наконец, может ли вообще существовать какое-либо величие, если нам препятствуют предоставлять при посредстве римского народа нашим полководцам право оказывать милости в награду за доблесть?
(XVII, 38) Но к чему обсуждаю я то, о чем, пожалуй, действительно стоило бы говорить, если бы гадитанцы выступали против меня? Ведь если бы они требовали назад Луция Корнелия, то я ответил бы, что римский народ издал закон о даровании прав гражданства; что на издание такого рода законов народы не «дают своего согласия»; что Гней Помпей на основании мнения своего совета даровал Луцию Корнелию права гражданства; что гадитанцы не располагают постановлением нашего народа и, таким образом, нет ничего нерушимого, что представлялось бы исключенным по закону, а если бы оно и было, то в договоре все же не предусмотрено ничего, кроме мира; что прибавлено и положение об их обязательстве чтить наше величие, а оно, несомненно, было бы умалено, если бы нам нельзя было пользоваться помощью их граждан во время войн или если бы мы не имели возможности их вознаграждать. (39) Но зачем мне именно теперь выступать против гадитанцев, когда то, что я защищаю, они одобрили добровольно, своим авторитетом и даже присылкой посольства?[2698] Ведь они с первых дней своего существования как государства, забыв всю свою преданность и сочувствие пунийцам, обратили свои помыслы к нашей державе и перешли на нашу сторону: когда карфагеняне объявляли нам величайшие войны, [лакуна] то гадитанцы не впускали их в свои города, преследовали их своими флотами, отбрасывали грудью, средствами, вооруженными силами; они всегда считали видимость старого Марциева договора более нерушимой, чем крепость, и решили, что договором, который заключил Катул, и поручительством сената они связаны с нами теснейшим образом. Как Геркулес пожелал, чтобы стены, храмы и поля гадитанцев были пределами для его странствий и трудов, так предки наши повелели, чтобы они были пределами нашей державы и власти римского народа. (40) Наших умерших полководцев, чья бессмертная память и слава жива, — Сципионов, Брутов, Горациев, Кассиев, Метеллов и присутствующего здесь Гнея Помпея, которому гадитанцы, когда он вел трудную и большую войну вдали от их стен, помогли снабжением и деньгами, а ныне и сам римский народ, чье положение при дороговизне хлеба они облегчили, доставив ему зерно, как они не раз поступали и ранее, — гадитанцы призывают в свидетели того, что они хотят следующих прав: пусть для них самих и для их детей, если кто-нибудь из них проявит исключительную доблесть, найдется место в наших военных лагерях, в ставках наших полководцев, наконец, место под нашими знаменами и в строю, и пусть они по этим ступеням поднимутся даже к правам гражданства.
(XVIII, 41) И если населению Африки, Сардинии, Испании, наказанному лишением земель и наложением дани, дозволено приобретать своей доблестью права гражданства, а гадитанцам, связанным с нами услугами, давностью отношений, верностью, опасностями, союзным договором, этого же не будет дозволено, то они сочтут, что у них с нами не договор, а навязанные им нами несправедливые законы. А что я не придумываю содержания своей речи, но выражаю мысли гадитанцев, показывает сама действительность. Я утверждаю, что много лет назад гадитанцы от имени общины установили с Луцием Корнелием отношения гостеприимства; предъявляю табличку[2699]; прошу посланцев встать; вы видите представителей — выдающихся и знатнейших людей, присланных на этот суд, чтобы отвратить опасность, грозящую Луцию Корнелию; наконец, давно, когда в Гадесе узнали о судебном деле, о том, что Луцию Корнелию угрожает опасность со стороны этого человека, — то гадитанцы постановлениями в своем сенате осудили своего согражданина, упомянутого мною. (42) Если народ становится «давшим согласие» тогда, когда он своим решением одобряет постановления нашего плебса и народа, то могли ли гадитанцы стать «давшими согласие» (ведь это слово доставляет тебе особенное удовольствие) в большей мере, чем тогда, когда они установили отношения гостеприимства, признав тем самым, что Луций Корнелий переменил гражданство, что он достоин чести быть нашим гражданином? Могли ли они вмешаться, выразив свой приговор и свою волю с большей определенностью, чем сделали это тогда, когда они даже наложили пеню на его обвинителя и наказали его? Могли ли они вынести по этому делу более ясное решение, чем решение прислать своих виднейших граждан для участия в вашем суде как свидетелей прав Луция Корнелия, с хвалебным отзывом о его жизни, предстателей для отвращения опасности? (43) И впрямь, кто столь безрассуден, чтобы не понимать, что гадитанцы должны сохранять за собой такое право, дабы путь к этой наивысшей награде — правам гражданства — не оказался для них навсегда прегражденным, и что они должны особенно радоваться тому, что расположение присутствующего здесь Луция Корнелия к своим согражданам остается в Гадесе, а его влияние и возможность защищать их интересы находят применение в нашем государстве? И действительно, кому из нас не стали дороже интересы этой гражданской общины благодаря его рвению, деятельности и заботам?
(XIX) Не говорю о том, сколь великими наградами Гай Цезарь, будучи в Испании претором[2700], отличил этот народ, как он успокоил раздоры, как он, с согласия гадитанцев, определил их права, устранил черты застарелого варварства в их нравах и установлениях, с каким необычайным вниманием он, по просьбе Луция Корнелия, отнесся к этой гражданской общине и какие милости он ей оказал. Прохожу мимо многого такого, что благодаря труду и усердию Луция Корнелия изо дня в день достигается либо полностью, либо, во всяком случае, более легко. Поэтому первые люди среди их граждан присутствуют здесь и защищают Луция Корнелия из чувства приязни как своего гражданина, свидетельскими показаниями — как нашего; из чувства долга — как неприкосновенного гостя, в прошлом своего знатнейшего гражданина; из чувства преданности — как заботливейшего защитника их благополучия. (44) А чтобы сами гадитанцы, хотя им и не наносят ущерба, если их согражданам, в уважение к их доблести, дозволено переходить в наше гражданство, все же не думали, что именно поэтому заключенный ими договор менее почетен, чем договоры с другими гражданскими общинами, я утешу и этих вот присутствующих здесь честнейших людей, и ту далекую верную и дружественную нам гражданскую общину, а заодно докажу вам, судьи, — хотя вы и сами хорошо осведомлены, — что в праве, по поводу которого назначен этот суд, вообще никогда не было сомнений.
(45) Итак, кого признаем мы мудрейшими истолкователями договоров, кого — опытнейшими людьми в праве войны, кого — внимательнейшими в изучении правового положения гражданских общин и их интересов? Конечно, тех, кто уже был облечен военной властью и вел войны. (XX) И действительно, если знаменитый авгур Квинт Сцевола[2701], когда с ним советовались о праве залога земель, иногда отсылал спрашивавших к скупщикам земель Фурию и Касцеллию, хотя и сам был весьма опытен в вопросах права; если я насчет своего водопровода в Тускуле советовался с Марком Тугионом, а не с Гаем Аквилием[2702], так как постоянная деятельность, направленная на один предмет, часто имеет большее значение, чем дарование и знания, — то кто, когда дело касается договоров и всего права мира и войны, поколеблется предпочесть наших военачальников всем опытнейшим правоведам? (46) Итак, не можем ли мы представить тебе как поручителя в закономерности этого примера и этого действия, которые ты осуждаешь, самого Гая Мария? Найдешь ты человека, который был бы более строг во взглядах, более стоек, отличался бы более выдающейся доблестью, проницательностью, добросовестностью? И вот, он даровал права гражданства игувийцу Марку Аннию Аппию, храбрейшему мужу, наделенному величайшей доблестью; он же даровал права гражданства поголовно двум когортам камеринцев, зная, что договор с Камерином[2703] — священнейший и справедливейший из всех договоров. Так возможно ли, судьи, осудить Луция Корнелия без того, чтобы не осудить поступка Гая Мария? (47) Да появится же на короткое время этот знаменитый муж в вашем воображении (так как появиться в действительности он не может), дабы вы взглянули на него мысленно (так как увидеть его воочию вы не можете); пусть он скажет, что он не был лишен опыта в вопросах союзного договора, что он был хорошо знаком с примерами из прошлого, искушен в военном деле, что он ученик и солдат Публия Сципиона; что он прошел обучение на военной службе и на военных должностях легата; что он — веди он столь большие войны, какие он завершил, и служи он под началом стольких консулов, сколько раз он сам был консулом, — смог бы тщательно изучить и узнать все права войны; что для него не было сомнения в том, что ни один договор не препятствует честному выполнению государственных дел; что он выбрал всех храбрейших людей из теснейше связанной с нами и весьма дружественной нам гражданской общины; что ни договором с Игувием, ни договором с Камерином не было исключено право римского народа награждать их граждан за доблесть.
(XXI, 48) Поэтому, когда на основании Лициниева и Муциева закона[2704], было — через несколько лет после этого дарования гражданских прав — назначено строжайшее следствие по делу о гражданстве, то разве кто-нибудь из тех, кто, происходя из союзных гражданских общин, получил права гражданства, был привлечен к суду? Правда, Тит Матриний из Сполетия, единственный из тех, кому Гай Марий даровал гражданские права, отвечал перед судом; он происходил из латинской колонии, весьма надежной и известной[2705]. Когда его обвинял красноречивейший Луций Антистий, он не говорил, что сполетинцы не сделались «давшими согласие» (он понимал, что народы обыкновенно становятся «давшими согласие», когда речь идет об их правах, но не о наших), но, так как колонии не были выведены на основании Апулеева закона, в силу которого Сатурнин предоставил Гаю Марию возможность делать римскими гражданами троих человек в каждой колонии[2706], он утверждал, что эта милость не должна иметь силы, раз упразднено основание для нее. Твое обвинение не содержит ничего сходного с тем, о чем я упомянул; (49) однако все же Гай Марий обладал таким авторитетом, что отстоял и получил одобрение своим действиям не при посредстве своего свойственника Луция Красса, необычайно красноречивого человека, но сам, без лишних слов, благодаря своему влиянию. И действительно, судьи, кто захочет, чтобы наших полководцев лишали возможности отличать доблесть, проявленную на войне, в сражении, в войске, чтобы у союзников, у союзных гражданских общин отнимали надежду на награды, заслуженные ими при защите нашего государства? Но если подействовало выражение лица Гая Мария, его голос, свойственный полководцу огонь в его глазах, его недавние триумфы, его присутствие, то пусть подействует его авторитет, пусть подействуют его подвиги, память о нем, пусть подействует вечное имя этого храбрейшего и прославленного мужа! Пусть между влиятельными и храбрыми гражданами будет следующее различие: да наслаждаются первые своим могуществом при жизни; что касается вторых, то пусть даже после их смерти — если защитник нашей державы вообще может умереть — живет их бессмертный авторитет!
(XXII, 50) Далее, не даровал ли Гней Помпей-отец[2707], совершив величайшие подвиги в Италийскую войну, права гражданства честному мужу, римскому всаднику Публию Цесию, здравствующему и ныне, выходцу из союзной гражданской общины Равенны? Далее, не даровал ли их Гай Марий поголовно двум когортам камеринцев? Далее, не даровал ли их Публий Красс, именитейший муж, Алексасу из Гераклеи, с которой во времена Пирра, в консулат Гая Фабриция[2708], как считают, был заключен, пожалуй, единственный в своем роде договор? Далее, не даровал ли их Луций Сулла Аристону из Массилии? Далее, — коль скоро говорим о гадитанцах, — то не пожаловал ли Луций Сулла…[2709] Далее, не даровал ли их безупречнейший в высшей степени совестливый и осторожный человек, Квинт Метелл Пий[2710], Квинту Фабию из Сагунта? Далее, этот вот присутствующий здесь Марк Красс, подробнейше рассмотревший все эти примеры из прошлого, которые я теперь перечисляю, не даровал ли права гражданства жителю союзной общины Авенниона? А ведь это — человек редкостной строгости взглядов и благоразумия и даже чересчур скупой на дарование прав гражданства. (51) Здесь ты пытаешься умалить милость или, скорее, решение и поступок Гнея Помпея, сделавшего то, что, как он слыхал, сделали Гай Марий, Публий Красс, Луций Сулла, Квинт Метелл, Марк Красс, что, наконец, как он видел, делал его прямой наставник — его отец. И он сделал это не по отношению к одному только Корнелию; ведь он даровал права гражданства и гадитанцу Гасдрубалу после памятной нам войны в Африке[2711], и мамертинцам Овиям, и некоторым жителям Утики, и сагунтинцам Фабиям. И действительно, если те, кто защищает наше государство ценой лишений и опасностей, достойны других наград, то они, несомненно, вполне достойны дарования им прав того гражданства, за которое они грудью встретили опасности и копья. О, если бы бойцы за нашу державу, где бы они ни были, могли получать права нашего гражданства и, наоборот, людей, на государство пошедших войной, было позволено изгонять из гражданской общины! Ведь наш величайший поэт вовсе не хотел, чтобы знаменитое обращение Ганнибала к солдатам характеризовало этого полководца больше, чем любого другого:
Тот, кто врага поразит, для меня карфагенянин будет, Кто б он ни был, откуда бы род свой ни вел[2712].Последнему обстоятельству полководцы не придают и никогда не придавали значения. Поэтому они и делали согражданами мужей, храбрых во всех отношениях, и очень часто доблесть незнатных предпочитали бездеятельности знати.
(XXIII, 52) Вот как великие полководцы и мудрейшие люди, прославленные мужи толковали право и договоры. Приведу и суждение судей, рассматривавших такого рода дела; приведу суждение всего римского народа; приведу и добросовестнейшее и мудрейшее суждение сената. Когда судьи не скрывали и открыто говорили, какой приговор они, на основании Папиева закона[2713], намеревались вынести Марку Кассию, чьего возвращения в их гражданство требовали мамертинцы, то мамертинцы отказались от дела, начатого ими официально. Многие лица из свободных и связанных с нами договором независимых и союзных народов были приняты в число наших граждан, но никто из них никогда не был обвинен по поводу прав гражданства — ни на основании того, что народ не «давал согласия», ни на основании того, что праву перемены гражданства препятствовал союзный договор. Осмелюсь также утверждать, что еще никогда не был осужден человек, о котором было известно, что он получил гражданство от нашего полководца.
(53) Ознакомьтесь теперь с суждением римского народа, вынесенным им во многих случаях и подтвержденным в важнейших судебных делах. Кто не знает, что в консулат Спурия Кассия и Постума Коминия был заключен союзный договор со всеми латинянами?[2714] И даже недавно надпись с его текстом, как мы помним, вырезана на бронзовой колонне позади ростр. Каким образом, в таком случае, после осуждения Тита Целия стал римским гражданином[2715] Луций Коссиний из Тибура[2716], отец этого вот римского всадника, честнейшего и виднейшего человека; каким образом, после осуждения Гая Масона, стал римским гражданином происходивший из той же общины Тит Копоний, опять-таки гражданин высшей доблести и достоинства? Его внуков — Тита и Гая Копониев — вы знаете. (54) Или язык и ум могли открыть доступ к правам гражданства, а твердость руки и доблесть этого не могли? Или союзным народам дозволялось совлекать с нас доспехи, а с врагов не дозволялось? Или того, что они могли добывать себе, произнося речи, им достигать, сражаясь, не дозволялось? Или предки наши повелели, чтобы награды обвинителю были больше наград воителю? (XXIV) Но если и при суровейшем Сервилиевом законе[2717] первенствовавшие мужи и строжайшие и мудрейшие граждане согласились на то, чтобы такой путь к римскому гражданству был, по повелению римского народа, открыт латинянам, то есть народам, связанным с нами договором, и если право это не было отменено законом Лициния и Муция, да еще и сам род обвинения, и название его, и награда, неразрывная с несчастьем [обвиняемого] сенатора, не могли доставать удовольствия никакому сенатору, никакому благомыслящему, — [если все это так], то следовало ли сомневаться, что там, где вопрос о наградах мог считаться решенным судьями, там и суждения полководцев [тем более] были действительными? Разве мы можем думать, что народы Лация «дали согласие» с Сервилиевым законом или с другими законами, в силу которых для отдельных латинян за то или другое была установлена награда в виде римского гражданства?
(55) Ознакомьтесь теперь с решением сената, которое всегда подтверждалось решением народа. Предки наши, судьи, повелели, чтобы священнодействия в честь Цереры совершались с величайшими благоговением и торжественностью. Так как они были заимствованы из Греции, то их всегда совершали жрицы-гречанки, и все называлось по-гречески. Но хотя ту, которая могла показать и совершить это греческое священнодействие, избирали в Греции, все-таки предки наши повелели, чтобы священнодействие о благополучии граждан совершала гражданка, чтобы она молила бессмертных богов, хотя и по иноземному и чужому обряду, но с образом мыслей римлянки и гражданки. Эти жрицы, как я знаю, были почти все из Неаполя или из Велии[2718], несомненно, союзных гражданских общин. О давних временах я умалчиваю; утверждаю, что недавно, до дарования прав гражданства жителям Велии, городской претор Гай Валерий Флакк, на основании решения сената предложил народу сделать римской гражданкой Каллифану. Так следует ли думать, либо что жители Велии стали «давшими согласие», либо что эта жрица не сделалась римской гражданкой, либо что сенат и римский народ нарушили союзный договор?
(XXV, 56) Я понимаю, судьи, что при слушании ясного и отнюдь не вызывающего сомнений дела сказано и больше, и большим числом опытнейших людей, чем требовала его суть. Но это было сделано не для того, чтобы речами доказывать вам столь очевидное, но чтобы сломить самоуверенность всех недоброжелателей, несправедливых людей, ненавистников. Обвинитель, чтобы распалить какие-нибудь толки людей, огорченных чужим благополучием, достигали и ваших ушей и распространялась даже среди судей, в каждую часть своей речи, как вы видели, с большим искусством вставлял что-нибудь такое — то об имуществе Луция Корнелия, которое и незавидное, и, каково бы оно ни было, кажется нам скорее сохраненным, чем награбленным; то о его роскошествах, которые он клеймил не каким-либо обвинением в разврате, а пошлым злословием; то о тускульской усадьбе, которая-де принадлежала ранее Квинту Метеллу и Луцию Крассу[2719], это обвинитель помнил; но в его памяти не удержалось, что Красс ее купил у вольноотпущенника Сотерика Марция, что к Метеллу она перешла из имущества Веннония Виндиция[2720]. Вместе с тем обвинитель не знал и того, что имения сами по себе родовитыми не бывают, что в силу покупки они обычно переходят к людям чужим и часто низкородным — в силу законов, как права опеки. (57) Не избежал Луций Корнелий и упрека в том, что он вступил в Клустуминскую трибу[2721]; он достиг этого как награды на основании закона о домогательстве; награда эта меньше возбуждает недоброжелательность, чем предоставляемая законами награда в виде права высказывать мнение вместе с преториями и надевать тогу-претексту[2722]. Нападкам подверглось и его усыновление Теофаном[2723]; благодаря этому усыновлению Корнелий не получил ничего, кроме права наследовать своим близким.
(XXVI) Впрочем, успокоить тех, кто озлоблен на самого Корнелия, — не самая трудная задача. Они злы на него, как это бывает с людьми: они терзают его на пирах, жалят в собраниях, кусают не столько зубом неприязни, сколько зубом злословия. (58) А вот тех, кто либо недруг его друзьям[2724], либо озлоблен на них, Луций Корнелий должен страшиться гораздо больше. И в самом деле, кто когда-либо оказался недругом самому Корнелию или кто, по справедливости, мог им быть? Какого честного человека он не уважал, чьей удаче и чьему высокому положению он не делал уступок? Находясь в тесных дружеских отношениях с могущественнейшим человеком[2725], он среди величайших несчастий и разногласий никогда — ни делом, ни словом, ни, наконец, взглядом — не оскорбил ни одного человека противоположного образа мыслей и находившегося на противной стороне. Таков был рок, — мой ли или государства, — чтобы вся та перемена общего положения отразилась на мне одном[2726]. (59) Корнелий не только не ликовал при моих несчастьях, но всяческими услугами, своим плачем, содействием, утешением поддерживал в мое отсутствие всех моих родных. Следуя их заверениям и просьбам, воздаю ему по заслугам и, как я сказал вначале, выражаю справедливую и должную благодарность, и надеюсь, судьи, что подобно тому, как вы почитаете и относитесь с приязнью к тем, кто был зачинателем в деле охраны моего благополучия и высокого положения, так вам по сердцу и угодно то, что было сделано Луцием Корнелием в меру его возможностей и положения. Итак, его не оставляют в покое не его личные недруги, которых у него нет, а недруги его друзей[2727], многочисленных и могущественных; именно им Гней Помпей вчера в своей богатой доводами и убедительной речи предложил, если они захотят, бороться с ним самим, а от нынешнего неравного состязания и неправого спора их отговаривал. (XXVII, 60) Это будет и справедливое, и чрезвычайно полезное правило — и для нас, судьи, и для тех, кто завязывает дружеские отношения с нами: враждовать только между собою, а друзей наших недругов щадить. И если бы мой авторитет в этом отношении был у них достаточно веским (тем более что я, как они понимают, очень хорошо научен переменчивостью обстоятельств и самим опытом), то я отвлек бы их от тех более серьезных распрей. И действительно, я всегда полагал, что бороться из-за государственных дел, защищая то, что признаешь лучшим, — дело храбрых мужей и великих людей, и я ни разу не уклонился от этого труда, долга, бремени. Но борьба разумна только до тех пор, пока она либо приносит какую-то пользу, либо, если и не полезна, то не приносит вреда государству. (61) Мы поставили себе некую цель, вступили в борьбу, померялись силами, успеха не достигли. Скорбь испытали другие, нашим уделом были стенания и горе. Почему то, что изменить мы не можем, мы предпочитаем разрушать, а не оберегать? Сенат почтил Гая Цезаря торжественными и необычно для нас продолжительными молебствиями[2728]. Несмотря на скудость денежных средств, сенат выдал жалованье победоносному войску, назначил полководцу десятерых легатов, постановил не назначать ему преемника в соответствии с Семпрониевым законом. Я внес эти предложения и отстаивал их, считая нужным руководствоваться не своими прежними расхождениями с ним во взглядах, а нынешним положением в государстве и наличием согласия. Другие думают по-иному. Они, пожалуй, более тверды в своем мнении. Никого не порицаю, но соглашаюсь не со всеми и не считаю проявлением нестойкости, если люди сообразуют свое мнение с обстоятельствами в государстве, как путь корабля — с погодой. (62) Но если существуют люди, чья ненависть к тем, к кому они ее однажды почувствовали, безгранична (а таких, вижу я, немало), то пусть они сражаются с самими полководцами, а не с их спутниками и сторонниками. Ведь некоторые, пожалуй, назовут такую ненависть упорством, другие — доблестью, а эту несправедливость все сочтут сопряженной с какой-то жестокостью. Но если мы не можем никакими доводами умиротворить определенных людей, то я уверен, что вы, судьи, во всяком случае, умиротворены не моей речью, а собственной человечностью.
(XXVIII, 63) И в самом деле, разве дружеские отношения с Цезарем не должны были бы служить Луцию Корнелию скорей к похвале, даже самой большой, чем ко вреду, хоть самому малому? Он встретился с Цезарем юношей, он понравился проницательнейшему человеку, хотя у Цезаря было очень много друзей, Луций Корнелий сравнялся с самыми близкими ему людьми. В свою претуру, в год своего консулата Цезарь сделал его начальником войсковых рабочих. Цезарю понравилась его сообразительность, его привлекла честность Луция Корнелия, он полюбил его за добросовестность и почтительность. Когда-то Луций Корнелий разделял многие труды Цезаря; теперь на его долю, быть может, выпали некоторые блага. Если все это повредило ему в ваших глазах, то что честное, скажите мне, принесет кому-нибудь пользу в мнении таких людей, как вы?
(64) Но так как Гай Цезарь очень далеко и ныне находится в местностях, которые, по местоположению своему, составляют границы мира, а благодаря его подвигам — границы державы римского народа, то — во имя бессмертных богов, судьи! — не допускайте, чтобы ему доставили это горькое известие и чтобы он узнал, что его начальник войсковых рабочих, столь дорогой и близкий ему человек, не за какой-то собственный его проступок, а за дружеские отношения с ним уничтожен поданными вами голосами. Пожалейте того, кто в суде спорит не о своей провинности, а о деянии присутствующего здесь великого и прославленного мужа; не о каком-то преступлении, а — с опасностью для себя — о публичном праве. Если права этого не знали ни Гней Помпей, ни Марк Красс, ни Квинт Метелл, ни Гней Помпей-отец, ни Луций Сулла, ни Публий Красс, ни Гай Марий, ни сенат, ни римский народ, ни те, кто выносил приговор о подобных делах, ни народы, связанные с нами договорами, ни союзники, ни древние латиняне, то подумайте, не полезнее ли и не больше ли будет для вас чести заблуждаться, следуя таким примерам, нежели просвещаться, обучаясь у такого наставника. Но если вы понимаете, что вам надо вынести соответствующее закону постановление об известном, очевидном, полезном, одобренном, решенном, то остерегайтесь непривычного в приговоре о том, что уже настолько укоренилось. (65) Вместе с тем, судьи, представьте себе и такое: прежде всего обвиняемыми, да еще и посмертно, окажутся все те прославленные мужи, которые даровали права гражданства лицам из народов, связанных с нами договором, затем — сенат, который постановил такое, народ, который это повелел, судьи, которые это одобрили. Подумайте о том, что Корнелий живет и жил так, что, хотя существуют суды для рассмотрения всех и всяких провинностей, его привлекают к суду не с тем, чтобы он понес кару за свои дурные деяния, а с тем, чтобы он оправдывался в получении награды за свою доблесть. Кроме того, приговором своим вы определите, что, по вашему мнению, впредь должна приносить людям дружба прославленных мужей: несчастье или славу? Наконец, судьи, вы должны твердо помнить, что в этом деле вам предстоит вынести приговор не о злодеянии Луция Корнелия а о благодеянии Гнея Помпея.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Марк Туллий Цицерон
Марк Туллий Цицерон. Мрамор. Рим, Капитолийский музей
I
Марк Туллий Цицерон принадлежит к тем знаменитым деятелям античного мира, чья жизнь и судьба в течение многих веков привлекала к себе интерес и внимание историков, юристов, писателей, ораторов и политиков. Интерес этот не угас и поныне. Не проходит года, который бы не внес своего вклада в необозримую литературу о Цицероне; число книг и статей о нем достигает нескольких сотен, и едва ли найдется исследователь, которому было бы известно все, что написано о Цицероне; но даже при беглом знакомстве с основными трудами о Цицероне и высказываниями наиболее известных исследователей римской истории и литературы нельзя не заметить расхождений в мнении о нем, доходящих иногда до полемики, ожесточенный тон которой может показаться странным, так как дело идет о характеристике и оценке человека, умершего 2000 лет назад. Несмотря на то, что данные, относящиеся к биографии Цицерона, имеются в изобилии, а его литературное наследие очень богато, может быть, именно поэтому ученые не пришли к единому мнению о Цицероне как политическом деятеле и человеке, но его славу как оратора не оспаривал почти никто, а само имя его стало как бы символом совершенного ораторского искусства[2729].
Однако резкие различия в оценке деятельности и характера Цицерона кажутся странными только на первый взгляд; время его жизни совпало с бурным и сложным переломным периодом в политическом и экономическом развитии римского государства; в зависимости от того, с какой точки зрения тот или иной исследователь склонен рассматривать и оценивать события этого периода, он так или иначе характеризует и оценивает деятельность Цицерона, принимавшего в этих событиях прямое или косвенное участие. Краткий обзор основных моментов его биографии на фоне той исторической обстановки, в которой он жил и действовал и с которой был вынужден считаться, может, до известной степени, раскрыть причины противоречий как в поведении самого Цицерона, так и в позднейших суждениях о нем.
К концу II в. до н. э. государственный строй Рима, казавшийся современникам чрезвычайно устойчивым и даже совершенным (это мнение высказал и пытался обосновать такой вдумчивый историк, как Полибий), стал расшатываться. Вся система управления римским государством с ежегодной сменой выборных магистратов была рассчитана на небольшую общину, члены которой, занятые в мирное время преимущественно сельским хозяйством, брались за оружие во время войны. Эта система оказалась непригодной для большой державы, которая вела мировую торговлю, имела флот и заморские провинции, населенные иноземными племенами. Ко II в. рухнули прежние сословные перегородки между «патрициями» и «плебеями»; произошла перегруппировка в различных слоях населения и возникли противоречия уже между нобилитетом, объединявшим древние патрицианские и наиболее знатные плебейские роды, и всадническим сословием; все большее значение имело теперь имущественное положение; однако представителям нобилитета все еще удавалось сохранить за собой если не юридическое, то фактическое право занимать высшие магистратуры; по традиции магистратуры эти переходили внутри нобилитета из рук в руки. Всадникам весьма редко удавалось достигнуть ведущего положения в государстве; зато они нашли для себя широкое и доходное поприще в откупах на сбор налогов в провинциях и в торговле с ними; их имущественное положение быстро улучшилось, и нобилитет, удерживая в своих руках магистратуры, требовавшие порой довольно больших расходов, разорялся; его отдельные представители спешили обогатиться путем нещадных поборов с населения провинций, власть над которыми давалась наместнику, как правило, лишь на годичный срок (правда, случаи продления этого срока до двух-трех лет были нередки), и магистрат, если он обладал достаточной беззастенчивостью, доводил свою провинцию до разорения и нищеты. К тому же сенаторы не имели права вести от своего имени торговлю и были вынуждены прибегать к посредничеству либо всадников, либо своих вольноотпущенников и даже рабов. На поприще ограбления провинций и сталкивались интересы откупщиков и сенаторов. Наряду с этим, шло обезземеление мелкого италийского крестьянства и образование безработного обнищавшего городского населения, но об этом ни нобилитет, ни всадники нимало не беспокоились, занятые своими взаимными столкновениями; хотя порой им приходилось искать поддержки у обезземеленного плебса, но всякое предложение более глубоких реформ с целью улучшить положение широких слоев населения отвергалось одинаково упорно и нобилитетом и всадниками; у нобилитета оказалось еще достаточно сил, чтобы воспротивиться реформам Гракхов и погубить обоих братьев; но всадникам, благодаря Гаю Гракху, который ввел откупную систему в провинции Азии, все же удалось добиться некоторого успеха: суды были переданы в их руки, всадники получили возможность привлекать нобилей к суду; число процессов «о вымогательстве» (de pecuniis repetundis) росло с каждым годом, тем самым претензии всадников до поры до времени были удовлетворены.
Авторитет сенаторов был уже к концу II в. сильно поколеблен, а затяжная Югуртинская война (111—105 гг.) нанесла ему еще один тяжелый удар: вследствие некоторой медлительности консула 109 г. Квинта Цецилия Метелла Нумидийского и подкупности первоприсутствующего в сенате Марка Эмилия Скавра на первый план выдвинулись новые полководцы, еще недавно никому не известные: «новый человек» Гай Марий и выходец из обедневшего патрицианского рода Луций Корнелий Сулла, два смелых и талантливых соперника, борьба между которыми не раз приводила к победе и единовластному правлению то одного, то другого, хотя и недолгому, но уже ясно показавшему, какой конец ожидает республику. Едва закончилась Югуртинская война, как Марий, одержав победу над полчищами германских племен, грозивших хлынуть в Италию, добился исключительного влияния в государстве и на некоторое время демократические тенденции победили: Марий, неродовитый и необразованный, семь раз избирался в консулы (107, 104—100, 86 гг.); но это не означало, что нобилитет согласен без боя отказаться от своей ведущей роли в государственных делах; этот антагонизм позднее привел к кровавым схваткам 80-х годов и диктатуре Суллы.
Такова была та сложная и напряженная обстановка, полная неразрешенных и, по существу, неразрешимых противоречий, в которой в 106 г. до н. э. родился Марк Туллий Цицерон. Однако его детство и ранняя юность прошли мирно, не затронутые бурями эпохи. Он принадлежал к всадническому роду, ничем себя в истории не прославившему; отец его владел небольшим поместьем возле Арпина (около 150 километров от Рима); Цицерон в течение всей своей жизни подчеркивал, что он «новый человек» (homo novus) и что его род не имеет ничего общего с патрицианским родом Туллиев. Марий был земляком Цицерона; Цицерон, несомненно, еще с детства знал и о военных подвигах Мария в Африке и Галлии, и о его почти бессменном консульстве; именно этот ореол славы, окружавший старого арпината, возможно, и был причиной того, что Цицерон всегда отзывался о Марии более благосклонно, чем можно было ожидать, имея в виду отношение Цицерона ко всем, кто пытался поколебать основы римского государственного строя. В ранней юности Цицерон даже написал поэму «Марий».
Арпинским родовым имением впоследствии совместно владели Марк Цицерон и его младший брат Квинт, но выросли они в Риме, куда их, еще мальчиками, перевез отец, чтобы дать им образование. В Риме Цицерон был введен в круг тех наук, изучение которых было необходимо для молодого человека, имевшего надежду преуспеть на поприще судебного оратора, а впоследствии вступить на путь магистратур; он изучал риторику у известного родосского ритора Молона, жившего в те время в Риме, и гражданское право у Квинта Муция Сцеволы Авгура и у его двоюродного брата законоведа. Он ознакомился с философскими учениями различных школ, слушая эпикурейца Федра, стоика Диодота и Филона, представителя Новой Академии; будучи подростком, он имел возможность присутствовать на выступлениях лучших ораторов того времени — Луция Красса (умер в 91 г.), к которому на всю жизнь сохранил глубокое уважение, и Марка Антония (убит марианцами в 87 г.); сам Цицерон готовился к публичным выступлениям, учась декламации у знаменитого актера Росция; он хорошо изучил греческий язык и перевел астрономическую поэму Арата, эллинистического ученого и поэта; юношеское сочинение Цицерона «De inventione» («О подборе материала для речей») свидетельствует о хорошем знании греческих риторических теорий. К военной службе Цицерон не чувствовал влечения; прослужив около года в войске Помпея Страбона (отца Гнея Помпея «Великого»), он вернулся к своим занятиям.
80-е годы являются тем периодом жизни Цицерона, о котором мы ничего, по существу, не знаем. В годы борьбы между сторонниками Мария и Суллы, когда погибли Муций Сцевола и Марк Антоний, убитые марианцами, Цицерон, по-видимому, не принимал активного участия в борьбе политических группировок и выжидал более подходящего момента, чтобы начать выступать в суде. Первые дошедшие до нас речи его датируются 81 и 80 гг., т. е. кратким, но тяжким периодом диктатуры Суллы (82—79 гг.): проскрипции уже закончились, но были свежи в памяти у всех; в силу Корнелиева закона о судоустройстве, судебная власть была отнята у римских всадников и передана нобилитету.
Первые выступления Цицерона принято считать доказательством его демократических взглядов в этот период его жизни, поскольку он решился в речи за Секста Росция задеть если не самого Суллу, то его временщика Хрисогона; но это доказательство недостаточно убедительно, так как оппозиционно настроены против Суллы были не только приверженцы Мария, в ту пору разбитые, но и представители старинных римских родов, утратившие при Сулле свое исконное влияние или вынужденные делиться им с низкородными людьми из окружения Суллы. По-видимому, как ставленник именно этих кругов — в первую очередь членов рода Метеллов — и выступил молодой Цицерон. Но даже его осторожные выступления против сулланского режима, по-видимому, вызвали недовольство власть имущих; Цицерон на два года покинул Рим и уехал в Грецию — как бы заканчивать свое образование; он побывал в Афинах, слушал лекции философа-эклектика Антиоха Аскалонского, посетил на Родосе своего учителя, ритора Молона и вернулся в Рим уже после смерти Суллы.
70-е годы в истории Рима были лишь немногим спокойнее, чем предшествовавшее десятилетие: гражданская война, правда, уже не бушевала в самих городских стенах, но с остатками марианцев велась упорная борьба в Испании, где во главе их стоял Квинт Серторий, сопротивлявшийся в течение восьми лет (80—72 гг.); с 74 по 71 г. в Италии продолжалось принявшее неслыханный размах восстание рабов и гладиаторов под руководством Спартака; оно угрожало самому Риму и было подавлено с крайней жестокостью. В том же 74 г. на Востоке началась третья война с Митридатом VI, затянувшаяся до 63 г. Во внутренней политике, напротив, борьба различных группировок в это десятилетие не была такой острой, как раньше: крайности сулланской конституции шаг за шагом смягчались; римские всадники, жестоко пострадавшие при проскрипциях, опять подняли голову, особенно после того, как Гней Помпей, римский всадник, справил два триумфа, проявив в войне с Митридатом свой выдающийся военный талант. Перед лицом грозного восстания рабов нобилитет и римские всадники на время забыли свои распри, и в 70 г., в консульство Помпея и Красса, был принят закон Луция Аврелия Котты о судоустройстве — об избрании судей не только из сенаторов, но и из всадников и эрарных трибунов[2730] (из всех трех сословий поровну); был полностью восстановлен в правах народный трибунат, при диктатуре Суллы если и не уничтоженный формально, то фактически лишенный своего значения.
В это десятилетие Цицерон, возвратившись из Греции, обзавелся семьей и начал свое восхождение по лестнице государственных должностей: в 76 г. он стал квестором и провел 75 год в Сицилии, где оставил по себе настолько добрую славу, что в начале 70 г. сицилийские городские общины обратились к нему с просьбой выступить обвинителем пропретора Сицилии Верреса, который после отъезда Цицерона в течение трех лет грабил имущество сицилийцев, а их самих подвергал издевательству, пыткам и казням. Цицерон согласился выступить обвинителем: процесс против Верреса мог принести ему известность, дискредитировать сенаторские суды и систему управления провинциями и способствовать принятию Аврелиева закона, а кроме того — что, быть может, было для него наиболее важным — расположить в его пользу избирателей при выборах эдилов на 69 г. Все эти расчеты оправдались: Веррес добровольно удалился в изгнание еще до окончания процесса; Цицерон помог своему сословию, сам был избран в эдилы и выдвинулся как оратор, издав и распространив не только две первые, действительно произнесенные им речи против Верреса, но и те, что ему не пришлось произнести. Все они свидетельствуют как об огромной трудоспособности Цицерона, так и о его художественном даровании.
60-е годы были еще более богаты внешними и внутренними событиями: в 67 г. сенат был вынужден принять крайние меры для борьбы с пиратами, которые парализовали плавание по Средиземному морю, подвоз хлеба в Италию и даже стали появляться в устье Тибра. Скрепя сердце, сенат поручил единоличное командование все тому же Помпею, который блестяще выполнил свою задачу, закончив войну с пиратами в несколько месяцев. Уже в следующем году война с Митридатом приняла угрожающий оборот, так что и на нее пришлось, несмотря на сопротивление многих сенаторов из старого нобилитета, отправить опять-таки Помпея, снабдив его неограниченными полномочиями. Наконец, в 63 г. республиканскому строю и в первую очередь сенату едва не был нанесен жестокий удар заговором Катилины.
Вопрос о руководителях, причинах и ходе развития этого заговора чрезвычайно сложен; по-видимому, начавшись в среде разорившихся нобилей, во главе которых встал Луций Сергий Катилина, принадлежавший и сам к этой группе, движение стало быстро разрастаться, захватывая все более широкие слои населения; к нему стали примыкать как крестьяне, утратившие свою землю, так и ветераны Суллы, получившие земельные наделы, но не сумевшие вести хозяйство; вопрос о привлечении беглых рабов в войско Катилины не вполне ясен; однако самый факт, что можно говорить о «войске» Катилины, что против него были посланы войска под началом консула Гая Антония и претора Квинта Метелла Целера и что битва под Писторией в январе 62 г., закончившаяся истреблением войска Катилины и гибелью его самого, была упорной и жестокой — все это свидетельствует о том, что движение вышло за пределы «заговора».
Для Цицерона 60-е годы были самым блестящим периодом его жизни: в 66 г. он был претором и произнес свою первую чисто политическую речь в пользу предоставления Помпею верховного командования в войне с Митридатом. В этой речи он восхваляет Помпея, его военный талант, его честность и скромность и подчеркивает, что Помпей — только римский всадник, а не нобиль; с большим искусством он указывает и на то, что неудача в войне с Митридатом грозит разорением не только откупщикам, вложившим в восточные провинции большие денежные средства, но и сенаторам. В 64 г. Цицерон был избран в консулы на 63 г. Получив эту высшую государственную магистратуру, он достиг предела своих желаний и показал себя ярым противником всяких попыток изменить, а тем более ниспровергнуть существующий государственный строй; едва вступив в должность, он резко воспротивился проекту земельной реформы, внесенному трибуном Публием Сервилием Руллом; вскоре он выступил в защиту некоего Гая Рабирия, обвиненного, правда, по прошествии долгого срока, в убийстве народного трибуна Сатурнина в 100 г.; наконец, в своей борьбе с Катилиной он совершил деяние, которое он в течение многих лет восхвалял как свой величайший подвиг, как «спасение государства»: казнил без формального суда пятерых римских граждан, главных участников заговора Катилины.
Вопрос о том, имел ли Цицерон право так поступить, не раз обсуждался и в римском сенате и в последующей литературе о Цицероне; сенат не имел судебной власти, и Цицерон, если бы положение не было угрожающим, был бы обязан предать заговорщиков суду; но сенат имел право выносить — и в данном случае вынес — senatus consultum ultimum, т. е. объявил чрезвычайное положение и предоставил консулам право жизни и смерти; вся ответственность в таких случаях падала на консула, против него впоследствии мог быть возбужден процесс, причем сенат не мог его защитить. Это и произошло с Цицероном, который в течение 60-х годов все более прочно связывал свою судьбу с сенатом. Ораторский талант Цицерона в эти годы был в полном расцвете; как его судебные речи (речь по уголовному делу Клуенция), так и политические выступления (речи об аграрном законе и против Катилины) являются образцами красноречия и в то же время изобилуют примерами ораторской находчивости; в речи в защиту Мурены, обвиненного в подкупе избирателей, талант Цицерона раскрывается еще и с другой стороны, которую он проявляет обычно в своих письмах; это шутливость и остроумие; дело в том, что Мурена был одним из помощников Цицерона при раскрытии и подавлении заговора Катилины; он был уже избран в консулы на 62 г., когда его соперник, потерпевший неудачу, обвинил его в подкупе избирателей (de ambitu); для Цицерона было очень важно закрепить на следующий год одно консульское место за своим сторонником, но дело Мурены было, по-видимому, настолько сомнительным, что Цицерону пришлось не столько доказывать слушателям невиновность Мурены, сколько ошеломлять их блеском своих аргументов; речь вызвала неодобрение строгого Катона, но Мурена был оправдан.
Нападки на Цицерона за его расправу с заговорщиками начались немедленно по окончании его консульства; теперь, когда опасность миновала, даже и сенат поддерживал его недостаточно энергично, а народный трибун Метелл Непот не дал ему произнести обычную «прощальную» речь. В дальнейшем положение Цицерона стало все более ухудшаться; начался ряд дел против его единомышленников; Цицерон по-прежнему выступал в их защиту и все чаще упоминал о собственных заслугах перед государством.
50-е годы не принесли успокоения, напротив, в течение всего этого десятилетия борьба между политическими группировками становилась все острее и постепенно принимала форму уличных боев. В 60 г. Цезарь, Помпей и Красс объединились для совместной борьбы против сената (так называемый Первый триумвират); назревала новая гражданская война — между Помпеем, ставшим теперь на сторону сената, и Цезарем, который в эти годы «жаждал великой власти, командования войском, новой войны, где могла бы заблистать его доблесть» (Саллюстий, «Катилина», 54, 4).
Хотя главные силы Катилины были разбиты и он сам погиб, в Риме — к несчастью для Цицерона — осталось немало его приверженцев; их возглавил Публий Клодий, ярый враг Цицерона.
Публий Клодий Пульхр происходил из патрицианского рода Клавдиев. Уже в молодости, служа в войске Лукулла, Клодий затеял мятеж; вернувшись в Рим, он не только стал поражать благонамеренных граждан шумными и скандальными любовными похождениями, но и пытался играть политическую роль своей резкой оппозицией сенату. В заговоре Катилины он, по-видимому, лично не участвовал, так как на это ни в письмах, ни в речах Цицерона намеков нет; но зато тем чаще и охотнее возвращается Цицерон к «нечестию» Клодия, который в 61 г. прокрался в дом Юлия Цезаря, одетый в женское платье, в день жертвоприношения Доброй богине, к которому допускались одни только женщины; против Клодия было возбуждено судебное преследование, но ему удалось путем подкупа судей добиться оправдательного приговора. С этого времени вражда между ним и Цицероном разгорелась с особенной силой. Однако Клодий как патриций был лишен возможности предпринимать решительные шаги против сената, не выходя за рамки законности, а неудача Катилины показала, что сенат еще достаточно силен. Поэтому Клодий постарался перейти путем усыновления в плебейский род Фонтеев, что ему удалось в 59 г.; в том же году он был избран в народные трибуны на 58 г. и повел открытую атаку против сената вообще и в особенности против Цицерона. В 58 г. Цицерон, опасаясь худшего исхода, добровольно удалился в изгнание, после чего, по предложению Клодия, был принят закон, осуждавший его на изгнание за казнь сторонников Катилины; его дом в Риме и усадьбы были разрушены, имущество взято в казну. Сенат, надевший траур в знак скорби о Цицероне, защитить его не сумел, а Помпей, запуганный Клодием и боявшийся резни в городе, то упорно скрывался от Цицерона, то ограничивался успокоительными отговорками.
Свое изгнание Цицерон провел в Греции и переносил чрезвычайно тяжело; оно продолжалось около полутора лет. Законом, предложенным консулом 57 г. Публием Корнелием Лентулом Спинтером, Цицерону было разрешено вернуться в Рим. Он был возвращен с почетом, но когда остыла первая радость по поводу возвращения на родину и свидания с семьей и друзьями, Цицерону пришлось перенести немало неприятностей в связи с хлопотами о возвращении ему его имущества. Клодий был еще достаточно силен и Цицерону лишь с большими трудностями удалось получить обратно дом и усадьбы и восстановить дом на государственный счет (см. речи «О своем доме» и «Об ответах гаруспиков»). Еще больше, чем эти затруднения материального характера, беспокоила Цицерона политическая обстановка; он увидел, насколько запутанной стала она за время его изгнания; последовательно придерживаться избранной им линии, направленной на сплочение нобилитета и всадников и оправдавшей себя в минуту острой опасности со стороны Катилины, теперь уже было невозможно; пришлось лавировать между двумя соперниками, Помпеем и Цезарем, отношения между которыми были еще не враждебными, но уже неустойчивыми. Цицерон склонялся более к Помпею, который в это время решил более крепко связать свою судьбу с сенатом; но после того как Цицерон выступил в сенате против проекта Цезаря о распределении кампанских земель, Помпей и Цезарь, встретившись в Луке в 56 г., согласовали спорные вопросы, и Цицерону пришлось произнести в сенате речь «О консульских провинциях», в которой он высказался за продление наместничества Цезаря в Галлии. Но с 54 г. отношения между Помпеем и Цезарем снова ухудшились, и Цицерону, только что завязавшему мнимую дружбу с Цезарем через своего брата Квинта, который был легатом Цезаря, опять пришлось решать, на чью сторону ему встать.
Положение Цицерона осложнялось еще тем, что он был обязан своим возвращением ряду лиц, из которых далеко не все были ему симпатичны, но которых он был вынужден защищать, если им грозила опасность; так, в 56 г. он защищал Публия Сестия, обвиненного в «насильственных действиях», в 54 г. — Гнея Планция, обвиненного в «домогательстве»; оба дела были, по-видимому, несколько сомнительны, и Цицерону пришлось больше говорить о той помощи, какую Сестий и Планций оказали лично ему во время его изгнания, чем оправдывать их поведение. Ораторский талант Цицерона в эти годы начинает сильно тускнеть; до нас, правда, дошла его блестящая речь «В защиту Целия», но речи за Сестия и за Планция уже растянуты, переполнены обвинениями и оскорблениями по адресу Клодия, патетическими возгласами и общими рассуждениями. В 52 г. Цицерон был вынужден выступить по еще более сомнительному делу: при довольно неясных обстоятельствах, в схватке на Аппиевой дороге, Публий Клодий был убит рабами Тита Анния Милона, народного трибуна 57 г., сторонника возвращения Цицерона из изгнания. Долг благодарности побуждал Цицерона защищать этого человека, о котором он сам был невысокого мнения (см. письмо к Аттику, IV, 2, 7); кроме того, сторонники убитого создали в городе такую напряженную обстановку, что во время суда форум был оцеплен войсками. Цицерон пытался доказать, что Милон был неповинен в убийстве Клодия, более того, что Клодий готовил Милону засаду; однако это был один из немногих случаев, когда речь Цицерона не привела к оправданию обвиняемого: Милон был осужден и удалился в изгнание.
В 51 г. Цицерон был назначен в качестве проконсула в Киликию, где он показал себя человеком честным и справедливым. Однако душой он жил в Риме, вел постоянную переписку с Марком Целием, сообщавшим ему все римские новости; едва дождавшись окончания проконсульства, он вернулся в Рим незадолго до начала гражданской войны. С января 49 г. события стали развиваться чрезвычайно быстро. Гражданская война, перенесенная из Италии в Эпир и Фессалию, не закончилась после победы Цезаря при Фарсале и гибели Помпея в Египте: помпеянцы еще долго оказывали сопротивление сперва на Востоке и в Африке, где после их поражения кончил самоубийством Катон, а потом в Испании. Цезарю, до его гибели в «мартовские иды» 44 г., удалось пробыть диктатором в Риме в сравнительно спокойной обстановке лишь один год.
Когда началась гражданская война, Цицерон находился в Риме; после долгих и мучительных колебаний он последовал за Помпеем и за теми сенаторами, которые вместе с Помпеем и сенатским войском покинули Рим; Цицерона возмущало поведение обоих соперников: Цезарь явно пошел против государства, отказавшись подчиниться решению сената о роспуске своего войска, и в глазах Цицерона тем самым превратился в «тиранна» (см. II и XIV «Филиппики»); Помпей же действовал слишком медленно и нерешительно, а его приверженцы-нобили умели только спорить о том, какие должности они займут в Риме после победы над Цезарем. При поражении Помпея Цицерон не присутствовал: он не поехал дальше города Диррахия в Иллирике и после известия о Фарсальской битве вернулся в Италию. Однако помпеянцам не было разрешено возвратиться в Рим немедленно, и Цицерону пришлось провести год в Брундисии; он переносил свое невольное изгнание еще хуже, чем добровольное, и чуть ли не ежедневно посылал своим друзьям в Рим умоляющие письма. Наконец, Цезарь, на обратном пути из Египта, где он вмешался в династические раздоры (Александрийская война 48—47 гг.), разрешил Цицерону, лично встретившись с ним в Таренте, вернуться в Рим. Но и в Риме Цицерон уже не чувствовал себя счастливым: невозможность принимать участие в государственных делах и даже открыто выступать на форуме, угнетала его; к этому присоединились и личные неприятности: в 46 г. он развелся с женой Теренцией, которая, по его утверждению, в его отсутствие небрежно вела его финансовые и хозяйственные дела, слишком доверяя вольноотпущенникам; новый брак Цицерона с богатой молодой Публилией окончился через год разводом. Самым тяжелым ударом для Цицерона была смерть любимой дочери Туллии (в 45 г.); однако Цицерон нашел в себе силы работать над сочинениями по философии и ораторскому искусству; в эти годы написан ряд его произведений, в том числе и «Брут», одна из его лучших книг, где он дал историю римского красноречия. Кроме того, от этого периода осталось много писем и только три речи, произнесенные перед Цезарем; в них Цицерон ходатайствовал за бывших помпеянцев Марка Марцелла и Квинта Лигария и за галатского царя Дейотара — изящно и красноречиво, но не очень убедительно.
Гибель Цезаря от руки заговорщиков, многие из которых — прежде всего Марк Брут — были личными друзьями Цицерона, вызвала в нем большую радость и надежду на восстановление прежнего республиканского строя. Наступил последний подъем политической деятельности и ораторского искусства Цицерона. Он принял живое участие в оппозиции, которую сенат оказал Марку Антонию, ярому цезарианцу.
Марк Антоний, внук известного оратора, был храбрым воином, но человеком распущенным и беспринципным; в первые дни после смерти Цезаря, боясь за себя и своих сторонников, он, упразднив само название «диктатура», выражал свое полное согласие с политикой сената; но вскоре, видя нерешительность убийц Цезаря, он стал забирать власть в свои руки, проводил различные антисенатские мероприятия, ссылаясь на якобы найденные им распоряжения Цезаря, и, наконец, перешел к открытым военным действиям, осадив в Мутине Децима Брута, одного из убийц Цезаря.
Цицерон, в первое время пытавшийся поддерживать с Антонием хорошие отношения, вскоре круто переменил свою позицию и обрушился на Антония в ряде гневных речей, которые он сам назвал «Филиппиками» (в подражание речам Демосфена против македонского царя Филиппа). Недостаток энергии Брута и Кассия, потери сенатского войска в сражении под Мутиной и двуличное поведение молодого Октавиана, внучатного племянника Цезаря, усыновленного им, — все это омрачило последние месяцы жизни Цицерона. Войско, посланное на подмогу Дециму Бруту под командой консулов Авла Гирция и Гая Пансы, разбило Антония, но оба консула пали, а Октавиан, который участвовал в войне на стороне сената, теперь, действуя в интересах своих цезариански настроенных солдат, вошел в соглашение с только что побежденным Антонием, который уже ранее привлек на свою сторону Марка Лепида, располагавшего значительными силами. Таким образом, был создан второй триумвират. Овладев положением, триумвиры прибыли в Рим. Одной из первых жертв проскрипций, объявленных триумвирами, был Цицерон; при попустительстве Октавиана, пытавшегося, по словам Плутарха («Цицерон», 46), в течение двух дней отстоять Цицерона, Антоний отомстил за оскорбления, которыми Цицерон осыпал его в «Филиппиках». Цицерон, может быть, и избежал бы смерти, если бы своевременно уехал в Грецию, но он не сумел — или не захотел — сделать это; убийцы, посланные Антонием, настигли его возле Кайеты, где у него было поместье. Ему отрубили голову и правую руку и, по распоряжению Антония, выставили их в Риме на форуме. Это жестокое издевательство над убитым «отцом отечества» (это почетное наименование было дано Цицерону сенатом после подавления заговора Катилины) вызвало негодующие отклики многих историков и поэтов последующих веков.
II
Даже из такого сжатого обзора жизни Цицерона, данного на фоне событий его времени, можно видеть, насколько тесно была связана его жизнь со всем, что совершалось в государстве, насколько живо он откликался на все происходившее. Ознакомимся теперь несколько ближе с тем, каковы были его отклики на современные ему события, и выясним, какого мнения он держался насчет общего положения вещей в государстве и как отвечал на те важнейшие вопросы внутренней и внешней политики, вокруг которых велась непрерывная борьба. Были ли его взгляды по этим вопросам постоянны или изменчивы (ведь именно в этом и расходятся мнения историков)?
Такими важными и острыми вопросами в I в. были следующие: 1) оценка существующего строя государства, системы управления и деятельности исконных органов государственной власти (сенат, магистраты, трибунат, комиции); 2) отношение к попыткам изменить этот строй, к диктатуре и к борющимся между собой сословиям и группировкам (нобилитет, римские всадники, городская и сельская беднота, рабы), к вождям различных групп (Марий, Сулла, Помпей, Цезарь, Клодий, Антоний); 3) вопрос о законодательстве и судопроизводстве; 4) отношение к собственности вообще и к проектам земельных реформ; 5) чрезвычайно острый вопрос об управлении провинциями и об отношении к союзникам. Из тех ответов, какие Цицерон дает на эти вопросы, и вытекает его характеристика как государственного деятеля, а отчасти и как человека.
Среди множества исследователей, уделявших Цицерону внимание длительно или мимоходом и нередко упрекавших его за тот или иной взгляд или поступок, едва ли найдется хоть один, который решился бы упрекнуть Цицерона в отсутствии любви к Риму, — как к самому городу, так и к римской державе. Вне Рима для Цицерона не было жизни; даже в своих усадьбах, из которых он больше всего любил тускульскую, он никогда не мог пробыть долго; не только в изгнании или в течение вынужденного пребывания в Брундисии после поражения Помпея, но во время проконсульства в Киликии он умолял своих друзей сообщать ему обо всех событиях в Риме; сам он постоянно пишет даже о мелких происшествиях в городе своему другу и свояку Титу Помпонию Аттику, который большей частью жил в своем поместье в Эпире (он вел финансовые дела Цицерона и многих видных людей и появлялся в Риме не особенно часто, но как раз во все важные моменты политической жизни).
Принимая горячее участие во всех современных событиях и происшествиях, Цицерон нередко критикует людей своего времени; с тем большим уважением говорит он о прошлом Рима; ссылки на предков и на их «заветы» — его излюбленное «общее место», без которого не обходится почти ни одна его речь. Цицерон охотно приводит из истории Рима примеры воинской доблести, верности долгу и слову, честности и неподкупности. Его любимый герой и образец — Марк Порций Катон Старший (234—149); возможно, что в его судьбе он видел общие черты со своей собственной карьерой: Катон происходил из плебейского рода Порциев, родился в Тускуле, но провел молодость в Самнии, в горной усадьбе; на политическом поприще он был «новым человеком», свои первые шаги сделал благодаря поддержке знатного соседа по имению, Валерия Флакка, и достиг не только консульства, но и цензуры; образ Катона Цицерон сильно идеализировал и, по-видимому, делал это вполне искренне. Восхваляя доблесть и мудрость предков, Цицерон, однако, обычно приводит примеры из времен первой и второй пунических войн; II в., кажется ему, уже содержал элементы порчи исконного государственного устройства. В этом его взгляды совпадают с взглядами его недруга Саллюстия, сформулировавшего более четко теорию «падения нравов», вызванного ростом богатства римлян.
К отдельным составным элементам римской конституции Цицерон относится не всегда одинаково: превознося сенат прежних времен, он порой довольно сурово относится к современному ему сенату; правда, нельзя забывать, что Сулла ввел в сенат множество своих приспешников; возможно, что сенаторами стали даже сулланские вольноотпущенники, которых у Суллы было множество и которые все получили родовое имя Суллы — Корнелиев. После смерти Суллы списки сенаторов были пересмотрены, многие новые члены сената были из него исключены. Однако в 60-е годы Цицерон, в своих выступлениях по делу Верреса не слишком почтительно отзывавшийся о сенате, в особенности об отдельных сенаторах и о сенатских судах, стал сближаться с сенаторами и как при подавлении заговора Катилины, так и после него обращался к сенату как к высшему государственному органу.
Значительно менее доброжелательно Цицерон относился к народным трибунам, всегда ожидая от них вмешательства в уже предрешенные дела и каких-либо «мятежных» замыслов; даже в 70 г., во время подготовки процесса Верреса, он довольно сдержанно говорит о предложении Помпея вернуть трибунам всю полноту их власти (Верр., первая сессия, 15, 45); еще более резко отзывается он в речи в защиту Клуенция о том вредном влиянии, какое трибун Луций Квинкций оказывал на народные массы, собирая их на сходки и возбуждая их против сенаторов (За Клуенция, 39, 108). При вступлении в должность консула Цицерон столкнулся с проектом земельной реформы, предложенной народным трибуном Публием Сервилием Руллом, которого он обвинил в стремлении захватить власть и ограбить Италию и провинции. В дальнейшем он столь же неблагосклонно вспоминает о выступлениях Ливия Друса, вызвавших Союзническую войну.
О третьем составном элементе государственного строя Рима — народном собрании или комициях — Цицерон отзывается всегда с уважением; он строго различает римский «народ» (populus Romanus) и «толпу» (vulgus), «комиции» и «сходки» (contiones); «толпу» он упрекает в непостоянстве и непродуманных решениях, ее вождей — в склонности к мятежу; напротив, голос комиций, избирающих магистратов в установленном порядке, является, по словам Цицерона, подлинным суждением римского народа, которому избранный должен быть благодарен за доверие (О Манилиевом законе, 24, 69). Было бы, конечно, странно думать, что Цицерон, много раз выступавший в процессах «о незаконном домогательстве», был твердо уверен в том, что избиратели всегда подают голоса, не получив предварительно наград или, во всяком случае, обещания наград; все сочинение его брата Квинта (Commentariolum petitionis), в котором он поучает своего старшего брата, «как добиваться консульства», посвящено именно этому вопросу; правда, о денежных вознаграждениях в нем речи нет, но оказание услуг и любезные беседы с избирателями считаются явлением желательным.
Вполне искренно идеализируя государственный строй древнейших времен, Цицерон видит недостатки современного ему строя, но, не умея раскрыть их причин, все же резко противится изменению его в каком-либо отношении, кроме возвращения к старине; иначе говоря, Цицерон в своих общих положениях, касающихся государственно-правовых норм, является несомненным консерватором.
Исходя из таких воззрений, Цицерон враждебно относится к единоличной диктатуре, приравнивая ее к греческой «тираннии»; он, конечно, хорошо знал, что в особо затруднительных положениях в Риме, начиная с древнейших времен, избирали диктатора; но диктатор в этих случаях облекался полнотой власти преимущественно для ведения войны, а по прошествии ее (большей частью по истечении шести месяцев) слагал с себя полномочия; полноту власти он получал от сената и народного собрания. Правомерность таких чрезвычайных полномочий военного характера Цицерон, несомненно, признавал, почему он и ходатайствовал в 66 г. о назначении Помпея главным военачальником в войне против Митридата, а через десять лет, правда, уже не слишком охотно — о продлении полномочий Цезаря, воевавшего в Галлии.
Но к тому, что он называл «царской властью», к единовластию и произволу правителя, не подчиняющегося постановлениям сената, Цицерон всегда относился с отвращением; он был настолько привязан к традиционным формам управления государством, что недостаточно ясно оценивал их непригодность к новым политическим и имущественным соотношениям, сложившимся в I в. до н. э.
Наиболее серьезным вопросом, который различные историки решают по-разному, является вопрос о том, был ли Цицерон в начале своей деятельности «популяром» и можно ли считать его ренегатом, перекинувшимся из честолюбия на сторону сената; такие нарекания обосновываются обычно тем, что он в молодости выступал против Суллы, т. е. якобы против нобилитета вообще, а также опираются на интересный памятник — так называемую «инвективу Саллюстия против Цицерона» и ответную «инвективу Цицерона против Саллюстия». Ныне признано, что эти инвективы являются риторическими упражнениями I—II вв. н. э., что, однако, не уменьшает их значения, поскольку они свидетельствуют о том, что уже тогда политическая позиция Цицерона была предметом споров.
Однако из того, что Цицерон не принадлежал к представителям демократического крыла, не следует делать вывода, что он был только случайным приверженцем знатных покровителей или ограничивался абстрактным восхвалением «доблести предков»; он хотел и умел защищать интересы той группы, к которой принадлежал по происхождению, т. е. римских всадников; своей принадлежностью к ней, а также и успехами ее представителей он гордился; обиды, наносимые ей, переживал, как обиду личную, и, исходя из этого, составил себе ту политическую программу, о которой неоднократно говорил в своих речах; программа эта — «consensus bonorum omnium», т. е. «согласие между всеми честными гражданами» (или, так сказать, «порядочными людьми») — соответствовала соотношению сил в те моменты, когда обеим привилегированным группам римских граждан — нобилитету и римским всадникам — грозила общая опасность.
О том, что эта программа «согласия между сословиями» (concordia ordinum) не могла быть долговечной, говорить нечего; судя по высказываниям Цицерона в письмах к Аттику, Цицерон сам понимал это и не раз отзывался то с резкой критикой, то с насмешкой как о «твердокаменных» защитниках сенатской знати, например, о Катоне, так и о разбогатевших откупщиках-всадниках; тем упорнее он настаивал в своих речах на необходимости оберегать это «согласие». Ходатаем за права римских всадников Цицерон был с самого начала своей деятельности; наиболее горячо он выступал в их пользу в своих речах против Верреса и в речи о Манилиевом законе.
Цицерон основой всякой законности полагал нерушимое право собственности; нарушение его он считал недопустимым беззаконием. Именно поэтому все проекты земельной реформы вызывают отчаянное сопротивление Цицерона; всякая земельная реформа была в его глазах связана с какими-то диктаторскими полномочиями — комиссии или единоличного властителя — и уже тем самым казалась ему неприемлемой.
Одной из привлекательных черт характера Цицерона, как мы видели, была его личная честность: именно поэтому он искренно возмущался ограблением провинций, которое позволяли себе наместники; те же громы и молнии, которые он метал в Верреса, он — в менее патетической форме, но не с меньшим негодованием — мечет в своего предшественника по управлению Киликией в конце 50-х годов (письма к Аттику, V, 16, 2—3; 17, 6; 21, 7—13; к близким, XV, 4, 2); в своих письмах к брату, управлявшему провинцией Азией (К брату Квинту, I, 1; 2), он дает точные указания и разумные советы о том, как надо относиться к населению провинций. Единственным суровым выступлением Цицерона по отношению к населению провинций является его речь в защиту Фонтея (69 г.), которого галлы обвинили в лихоимстве; но возможно, что к населению Галлии (в отличие от жителей восточных провинций), Цицерон относился враждебно, памятуя нашествие галлов на Рим, и презрительно, как к «дикарям». Напротив, о Египте, Малой Азии, островах Эгейского моря и особенно о Греции он говорит с уважением и дружелюбием, памятуя великую прежнюю славу этих стран и ценя их древнюю культуру; так же отзывается он и об италийских муниципалах и союзниках, в защиту которых он так часто выступал.
III
Литературное наследие Цицерона очень велико и разнообразно. Прежде всего его слава основывается, несомненно, на его речах. Хотя не все его речи дошли до нас, но число сохранившихся достаточно велико, а характер их достаточно ясно выражен, чтобы наше представление о его ораторском даровании было вполне законченным и исчерпывающим. В полное собрание его сочинений принято включать пятьдесят восемь речей, большинство которых сохранилось полностью; в нескольких недостает начала, в нескольких — конца, в иных имеются пропуски (лакуны); несколько речей, представляющих собой фрагменты, достаточно крупные и содержательные, также обычно включаются в собрание (речи по делу актера Росция, по делу Марка Туллия, в защиту Фонтея); помимо этого, имеются еще незначительные фрагменты, приведенные позднейшими авторами (Авл Геллий, Макробий и др.); известны также и названия многих утраченных речей (около тридцати), упоминаемых либо самим Цицероном, либо другими писателями.
При изучении речей Цицерона как произведений литературных нередко приходится обращаться к его сочинениям по теории ораторского искусства. Для выяснения взглядов Цицерона на искусство речи чрезвычайно важны три его крупных произведения, написанные им в уже позднем возрасте: «De oratore» (Об ораторе), «Brutus» (Брут, с позднейшим подзаголовком «De claris oratoribus» — О знаменитых ораторах), «Orator» (Оратор) и несколько небольших («О наилучшем роде ораторов» и др.). Рисуя в них образ идеального оратора, Цицерон в то же время дает много интересных практических указаний и советов, полезных для начинающего оратора, приводит примеры из своих речей, излагает теорию речевых стилей, характеризует своих предшественников и полемизирует с современниками. Поскольку Цицерон считал широкое философское образование непременным условием того, чтобы стать хорошим самостоятельным оратором, а не только имитатором чужих ухищрений, то он уделил немало внимания и философским проблемам, преимущественно этического и политического характера.
Наконец, к литературным произведениям Цицерона можно отнести и его письма; число его писем, дошедших до нас, превышает девятьсот. Письма от конца 60-х, от 50-х и 40-х годов дают полную картину жизни Рима в эту бурную эпоху и рисуют нам образ самого Цицерона гораздо ярче, чем его речи и философские трактаты.
Задачи, стоящие перед ораторским искусством вообще, Цицерон формулировал следующим образом: «Красноречивым можно считать того, кто, говоря и на форуме, и в суде, умеет доказывать, очаровывать и убеждать. Доказывать необходимо, очаровывать приятно, убеждать — верный путь к победе; именно это последнее свойство наиболее важно, если хочешь выиграть дело; сколько задач стоит перед оратором, столько же имеется видов красноречия: доказывать надо тонко, очаровывать — в меру, убеждать горячо; во всем этом и заключается сила оратора» («Оратор», 21, 69).
В течение своей долгой ораторской деятельности Цицерону приходилось выступать по самым разнообразным вопросам и перед разного рода слушателями: в суде по делам гражданским и уголовным, в сенате и комициях на темы политические. В судебных делах Цицерон в подавляющем большинстве случаев выступал как защитник; уже согласившись взять на себя дело по обвинению Верреса, он с самого начала счел нужным подчеркнуть, что такая роль ему не свойственна и не совсем приятна; правда, по существу Цицерон и здесь остался верен своему призванию защитника, ратуя за сицилийцев, ограбленных и оскорбленных Верресом. Однако в позднейшие периоды своей жизни Цицерону иногда приходилось закрывать глаза на факты, защищая своих единомышленников и благожелателей.
Уже задолго до времени Цицерона в риторике была выработана классическая схема защитительной речи, сохранявшая свою силу в течение многих веков; схему эту, в основном, сохраняет и Цицерон. Судебная речь должна, во-первых, ознакомить слушателей с фактическим составом дела; во-вторых, дать освещение и оценку изложенных фактов и сделать из этого выводы; обвинитель, выступающий первым, уже должен изложить сами факты; но он дает им оценку не в пользу обвиняемого и требует осуждения его; поэтому защитник имеет право еще раз повторить рассказ о происшедшем конфликте и осветить его со своей точки зрения, приведя доказательства в пользу своего истолкования; затем он должен систематически опровергнуть доказательства обвинителя. Таким образом, речь защитника естественно распадается на три основные части: 1. повествование (narratio); 2. истолкование фактов, подкрепленное доказательствами (probatio); 3. опровержение доводов обвинителя (refutatio). Дополнительными частями являются введение (exordium), обрисовка главной темы, которой будет посвящена речь (propositio), план речи по ее разделам (partitio) и заключение (peroratio). Хотя античная риторика вводит и более мелкие подразделения этой схемы, но каких-либо существенных изменений они в нее не вносят.
Оратор, конечно, может в разной степени обнаруживать свой талант в той или иной трактовке этой схемы: в умелой композиции, в соразмерности частей, в убедительных и точных доказательствах, в остроумном опровержении доводов противника, в живости рассказа, в горячности и пафосе, наконец, в словесном мастерстве — во владении синтаксическим строем речи, лексикой и синонимикой, риторическими приемами и даже чисто звуковой стороной: фонетикой и ритмикой. Цицерон, несомненно, владеет всеми сторонами этого сложного искусства, но, по его собственному признанию, не всеми в равной мере: в некоторых его дарование обнаруживается особенно ярко, в других выступают налицо и известные его недостатки.
Наиболее слабой стороной некоторых речей Цицерона можно считать их композицию; сам Цицерон (см. «Брут», 37, 95) с завистью противопоставляет себе своего старшего современника Гортенсия, который заранее намечал себе план речи и следовал ему неуклонно; Цицерон, более живой и эмоциональный, напротив, нередко отклоняется от того плана, который он сам излагает в разделе «partitio». Другим недостатком большинства его речей являются излишнее многословие и патетические повторения одних и тех же мыслей.
Исключительно интересной частью речей Цицерона является «повествование» (narratio); к нему Цицерон прилагал, по-видимому, особые старания; вероятно, немалого труда стоило ему создавать из фактов, уже известных судьям и слушателям (из речи обвинителя, а при громких делах и до слушания дела в суде), блестящие захватывающие рассказы и бытовые картины; особенно хороши повествовательные части в речах против Верреса, в защиту Клуенция и в защиту Целия. Повествовательную часть речи Цицерон нередко оживляет историческими анекдотами, вымышленными диалогами между действующими лицами, поговорками, литературными цитатами, философскими сентенциями, шутками и игрой слов.
Собственно юридическая часть речи разрабатывается Цицероном в разных речах по-разному: наиболее строго и логично он ведет свою аргументацию там, где он твердо уверен в правоте дела. Там, где дело не столь ясно (например, в речах в защиту Мурены и Сестия), Цицерон переносит тяжесть доказательств не на подбор фактов, а на их освещение и истолкование. В таких случаях ему нередко приходилось пускать в ход два средства: либо морализирующий пафос, либо остроумные шутки; и то и другое производило, очевидно, чарующее впечатление и на судей и на слушателей.
В вводных и особенно в заключительных частях судебных речей Цицерон нередко прибегает к одним и тем же приемам: в exordium взывает к справедливости судей и выражает свою уверенность в их честности, непоколебимости и неподкупности (особенно усердно он делает это в тех случаях, когда он сомневается в наличии этих качеств); в заключении защитительной речи (peroratio, epilogue) он взывает к милосердию судей, рисуя — часто гиперболически — печальную участь обвиняемого в случае его осуждения, горе его семьи и родичей.
Политические речи Цицерона построены в общем по схеме, сходной с судебными, и в них особенно сильна повествовательная часть. Аргументация же в пользу того политического мероприятия, о котором идет дело, и опровержение доводов лиц, несогласных с ним, проводится менее систематично, чем в речах судебных, но чрезвычайно искусно; например, в речах против земельных законов Рулла и в речи о законе Манилия Цицерон играет на стремлении сенаторов к наживе и на их нежелании поступиться своим имуществом и привилегиями.
Особенным украшением речей Цицерона являются художественные характеристики заинтересованных лиц; так в речи о Манилиевом законе он в панегирических тонах представляет слушателям Помпея, а в речи в защиту Мурены он, не давая ни одной характеристики в буквальном смысле слова, изображает как бы мимоходом, но совершенно ясно три различных образа: Мурены, храброго на войне, но веселого, легкомысленного и в то же время хитрого в мирное время; его соперника Сервия Сульпиция, упорного, прилежного, но неуживчивого и скупого законоведа; сурового, строго принципиального стоика Марка Катона.
Наряду с характеристиками лиц, так или иначе заинтересованных в судебных делах, Цицерон умеет дать и живые портреты политических деятелей своего времени; при этом ему удается обрисовать людей, которых он не любит, лучше, чем своих друзей; последние обычно переполнены хвалебными эпитетами в превосходной степени; наиболее интересны портреты Катилины и Гая Юлия Цезаря; и того и другого Цицерон считает врагами отечества, дорогого ему республиканского строя и в то же время не может устоять перед неотразимым обаянием этих высокоодаренных людей. Достаточно прочитать характеристику Катилины в речи за Целия (гл. 5—6, 12 сл.) и Цезаря во II Филиппике (55, 117), чтобы убедиться в этом.
В течение всего доконсульского периода жизни Цицерона, а также и года консульства, его ораторский талант все более развертывался и совершенствовался. Первые его речи, дошедшие до нас, свидетельствуют о некоторой неопытности их автора, который и сам охотно упоминает о своей молодости и неискушенности на судебном поприще; в них периоды построены несколько тяжеловесно, имеются места, почти буквально повторяющие одну и ту же мысль; антитезы и патетические тирады носят еще характер заранее подготовленного риторического упражнения. В своем последнем трактате об ораторском искусстве, написанном уже в 60-летнем возрасте, Цицерон сам подшучивает над надуманными возвышенными возгласами, какими изобилует речь в защиту Секста Росция («Оратор», 30, 107 сл.), но и здесь не забывает отметить, что в ту пору они вызвали восторг слушателей. Веррины как с чисто деловой, так и с литературной точек зрения являются лучшим памятником как добросовестности и усердия, так и художественного таланта Цицерона. Большой литературной славой пользуются речи против Катилины, в особенности первая; в ней действительно как бы сосредоточены все эффектнейшие приемы, какие были в распоряжении Цицерона, — образные выражения, олицетворения, метафоры, риторические вопросы и пр.; даже теперь при чтении ее можно себе представить то потрясающее впечатление, какое она должна была произвести на слушателей, даже если она была произнесена не в такой до совершенства отточенной форме, до какой довел ее Цицерон при последующей обработке. Три остальные речи против Катилины уже значительно слабее; в них Цицерон слишком много говорит о себе и своих заслугах. В речах, произнесенных по возвращении из изгнания, Цицерон все больше прибегает к многословным риторическим тирадам и к неумеренному самовосхвалению. Постоянные напоминания об «этом великом дне» (раскрытия заговора Катилины), о своем добровольном отъезде из Рима и о торжественном возвращении едва ли могли производить сильное впечатление на слушателей, для которых и гибель Катилины, и изгнание Цицерона уже отошли в прошлое. Подлинный пафос Цицерон вновь обрел только в некоторых Филиппиках.
В заключение следует сказать о тех чисто литературных приемах, умелое пользование которыми дает при чтении даже деловых его речей подлинное художественное наслаждение. К сожалению, перевод полного представления о красоте языка Цицерона и о его богатейшей лексике и синонимике дать не может.
Цицерон широко пользуется различными «фигурами речи»; располагаемые с большим искусством, они не затемняют смысла, не загромождают речи, а облегчают слушателю восприятие ее. Само расположение членов предложения позволяет Цицерону подчеркнуть именно то, к чему он хочет привлечь внимание слушателей; например, он выносит подлежащее на последнее место: Nunc vero quae tua est ista vita? (Cat., I, 7, 16). Itaque ad magistratum Mamertinum statim deducitur Gavius. (Verr., V, 62, 160). Или напротив, выносит сказуемое на первое место: Egreditur in Centuripina quadriremi Cleomenes e portu, sequitur Seqestana naves (Verr., V, 33, 86).
Тот же прием он усиливает повторением особо важного слова: Vivis et vivis non ad deponendam, sed ad confirmandam audaciam. (Cat., I, 2, 4). Crux, crux, inquam, infelici et aerumnoso… comparabatur (Verr., V, 62, 162).
Особую расстановку слов представляют собой и фигуры хиазма (перекрещивания) и климакса (нарастания).
Примеры хиазма: Intellego maluisse Domitium crudelem in animadvertendo, quam in praetermittendo dissolutum videri (Verr., V, 3, 7). Odit populus Romanus privatam luxuriam, publicam magnificentiam diligit. (pro Murena, 36, 76).
Примеры климакса: Non feram, non patiar, non sinam. (Cat., I, 5, 10). Postremo tenebrae, vincla, carcer, inclusum supplicium (Verr., V, 9, 23).
Риторический вопрос — один из излюбленных приемов Цицерона, которым он порой даже злоупотребляет: Ubinam gentium sumus? In qua urbe vivimus? Quem rem publicam habemus? (Cat., I, 4, 9).
Такие же вопросы встречаются и в Филиппиках.
Цицерон охотно пользуется и более сложными фигурами, охватывающими одно предложение или ряд предложений в целом, — антитезой и анафорой.
Примеры антитезы: …neque enim tibi haec res affert dolorem, sed quandam incredibilem voluptatem (Cat., I, 10, 25)… Nusquam tu non modo, otium, sed ne bellum quidem nisi nefarium concupisti (ibid.).
Примеры анафоры: Dico etiam in ipso supplicio mercedem lacrimarum, mercedem vulneris atque plagae, mercedem funeris ac sepulturae constitui nefas fuisse (Verr., V, 51, 134). Cupio, patres conscripti, me esse clementem, cupio in tantis rei publicae periculis me non dissolutum videri (Cat., I, 2, 4).
Так же искусно Цицерон пользуется и обратной фигурой — эпифорой: De exilio reducti a mortuo, civitas data non solum singulis, sed nationibus a mortuo, immunitatibus infinitis sublata vectigalia a mortuo (Phil., I, 10, 24).
Кое-где он прибегает и к созвучному окончанию предложений, почти рифме (так называемое homoioteleuton): Summi viri… sanguine non modo se contaminarunt, sed etiam honestarunt (Cat., I, 12, 29). Cum senibus graviter, cum iuventute comiter (Pro Caelio, 6, 13).
Сравнительно реже и осторожнее применяет Цицерон такую заостренную фигуру, как oxymoron, содержащую в себе противоположные понятия; в речи против Катилины он применяет ее дважды: кроме знаменитого «cum tacent, clamant» (Cat., I, 2, 21), еще раз он ее употребляет, вводя ею речь олицетворенной родины: «quodam modo tacita loquitur» (Cat., I, 7, 18).
Цицерон умел с достаточным остроумием пустить в ход против своего соперника беззлобную шутку и ядовитый сарказм: примерами первого изобилует речь в защиту Мурены; образцы второго можно найти в речах против Верреса. Он увеселяет слушателей грубоватой игрой слов на «ius Verrinum» (verres — боров; ius verrinum — «Верресово право, правосудие» и «свиная похлебка») и рифмованным фривольным намеком на образ жизни Верреса: ut eum non modo extra tectum, sed ne extra lectum quidem quisquam videret (Verr., V, 10, 26).
И, наконец, верхом издевательства над Верресом является § 28 той же речи, где Цицерон изображает пирушку Верреса в виде битвы, откуда одних выносят «замертво», а другие остаются лежать «на поле сражения».
Богатейшую синонимику речей Цицерона и в особенности их звуковую сторону, чередование долгих и кратких слогов, благозвучие окончаний периодов, мы, несмотря на труды многих исследователей (Ф. Ф. Зелинского, Л. Лорана, Э. Нордена и др.), полностью оценить не можем и нам приходится примириться с насмешками Цицерона над теми, кто этого не чувствует. «Не знаю, — говорит он, — что за уши у них и что в них человеческого» («Оратор», 50, 168).
Столь краткий обзор литературных приемов Цицерона не может, конечно, дать полного представления о художественном совершенстве его речей; мы можем только присоединиться к тому мнению, какое Цицерон с вполне оправданной гордостью высказал о себе: «Нет ни одной черты, достойной похвалы, в любом роде ораторского искусства, выявить которую если не в совершенстве, то хотя бы приблизительно мы не попытались бы в своих речах» («Оратор», 39, 103).
М. Грабарь-Пассек
От переводчика
Избранные речи Цицерона переведены с латинского по изданиям: Cicéron, Discours. Collection des Universités de France publiée sous le patronage de l’Association Guillaume Budé. Paris, 1921—1953 (речи 1—16, 22—24) Cicero, The Speeches. Loeb Classical Library. London — Cambridge Massachusetts (речи 18, 20, 21, 25—27); M. Tulli Ciceronis De domo sua ad pontifices oratio. Edited by R. G. Nisbet. Oxford, 1939 (речь 17); M. Tulli Ciceronis Pro M. Caelio oratio. Edited by R. G. Austin. Third edition. Oxford, 1960 (речь 19).
При работе над речами 1 и 2 переводчиком и редактором был принят во внимание перевод В. А. Алексеева и Ф. Ф. Зелинского (Марк Туллий Цицерон, Полное собрание речей в русском переводе. Т. I. СПб., 1901).
Стихи — в тех случаях, когда это не оговорено особо, — переведены В. О. Горенштейном.
Выдержки из законов, постановлений сената, преторских эдиктов, судебные формулы набраны курсивом. Хронологические даты — до нашей эры, если это не оговорено особо. При ссылках на античную литературу указываются параграфы.
При ссылках на письма Цицерона указывается сборник, книга и номер письма, а также номер письма по изданию: Марк Туллий Цицерон, Письма к Аттику, близким, брату Квинту, М. Бруту. Перевод и комментарии В. О. Горенштейна. Т. I—III. Изд-во АН СССР. М.—Л., 1949—1951.
* * *
В эпоху республики, по 46 г. включительно, римский календарь был лунным. Год состоял из 12 месяцев и имел 355, а с дополнительным месяцем — 377 или 378 дней, при четырехлетнем цикле. Месяцы март, май, квинтилий и октябрь имели по 31 дню, февраль — 28 дней, остальные месяцы по 29 дней. Введенный в эпоху децемвиров дополнительный месяц (mensis intercalaris), продолжительностью в 22 или 23 дня, вставлялся каждые два года с присоединением к нему последних пяти дней февраля. Первый день месяца назывался календами; в четырех месяцах, имевших по 31 дню, седьмой день назывался нонами, пятнадцатый — идами; в остальных месяцах эти названия относились соответственно к пятому и тринадцатому дням. В лунном месяце календы были днем новолуния, ноны — днем первой четверти, иды — днем полнолуния. Счет дней производился от календ, нон и ид в обратном порядке, причем считались также и указываемый день и день, от которого производился счет. Дополнительный месяц вводился с целью сохранить соответствие между календарем и временами года. Расхождение между официальным и истинным календарем иногда доходило до двух месяцев и более. Календарем ведали жрецы-понтифики.
В 46 г. по распоряжению диктатора Гая Юлия Цезаря, на основании вычислений александрийского астронома Сосигена, была произведена реформа календаря и введен солнечный год. В феврале было оставлено 28 дней. Месяцы январь, секстилий и декабрь были удлинены на два дня каждый, остальные 29-дневные месяцы — на один день каждый. Каждый четвертый год был сделан високосным, с 29 днями в феврале. Этот календарь впоследствии получил название Юлианского. Для упорядочения календаря 46 год довели до 445 дней, введя в него три дополнительных месяца продолжительностью в 28, 29, 28 дней и 10-дневный период.
В начале 44 г. месяц квинтилий был назван июлем в честь Цезаря, родившегося в этом месяце. В 8 г. н. э. секстилий был назван августом в честь принцепса Октавиана Августа.
В русском переводе сохранены обозначения римского календаря, но не считается день, от которого ведется счет дней.
День в Риме считался от восхода и до захода солнца, ночь — от захода солнца и до его восхода. День, как и ночь, делился на 12 часов; поэтому продолжительность каждого часа зависела от времени года: летом дневные часы были длиннее, чем ночные; зимой соотношения были обратными. Время обозначалось порядковым числительным, например, «в пятом часу» (от восхода солнца). В войсках ночь делилась на четыре «стражи» (vigiliae), по три часа в каждой.
В. Горенштейн
Примечания
1
Имеются в виду так называемые «заступники» (advocati) — уважаемые граждане, присутствовавшие на суде. Они, не выступая с речами, оказывали подсудимому (или одной из сторон) моральную поддержку. Заступники сидели на одних скамьях с лицом, которое они поддерживали.
(обратно)2
Речь произнесена во время диктатуры Суллы.
(обратно)3
Как люди, связанные узами гостеприимства. Отношения гостеприимства существовали как между отдельными лицами, так и между родами; в последнем случае они передавались от поколения к поколению.
(обратно)4
Первой магистратурой Цицерона была квестура в Лилибее (Сицилия) с 5 декабря 76 г. при преторе Сексте Педуцее.
(обратно)5
Намек на сулланские проскрипции. См. прим. 28.
(обратно)6
Конфискованное имущество было куплено у казны. Сулла здесь назван как представитель государства. Ср. речи 7, § 56; 15, § 25.
(обратно)7
Обычное выражение при упоминании имени уважаемого лица.
(обратно)8
Раб, отпускаемый на свободу, получал личное и родовое имя своего бывшего владельца, а прежнее имя его превращалось в прозвание. Чужестранцы и вольноотпущенники, получавшие права римского гражданства, благодаря покровительству римских граждан, также принимали их личное и родовое имя. Сулла предоставил права римского гражданства нескольким тысячам вольноотпущенников, которые все получили родовое имя Корнелиев.
(обратно)9
Оратор как бы объединяет себя со своим подзащитным; частый прием у Цицерона.
(обратно)10
Первым шагом лица, привлекавшего кого-либо к суду, было устное заявление претору с просьбой о принятии жалобы (postulatio); затем следовало вручение жалобы — nominis delatio; принятие жалобы претором называлось nominis receptio; претор вносил обвиняемого в списки подсудимых, и последний становился reus.
(обратно)11
Слово «гладиатор» было бранным: головорез, убийца.
(обратно)12
Совет судей. Сулла ввел в сенат, поредевший после гражданской войны, около 300 новых членов, руководствуясь политическими соображениями. Число сенаторов дошло до 600. Из их числа городской претор составлял список судей (album iudicum); на основании этого списка составлялся совет постоянного суда (quaestio perpetua); при Сулле судьями были только сенаторы.
(обратно)13
Spolia (spolia opima) — первоначально доспехи, снятые победителем с убитого врага после боя или поединка; Цицерон часто пользуется этим выражением метафорически.
(обратно)14
Цицерон часто упоминает о своей застенчивости. Ср. речь 6, § 51; «Об ораторе», I, § 121.
(обратно)15
В 80 г. Марк Фанний был претором. Помимо преторов, в постоянном суде могло председательствовать лицо, назначавшееся городским претором, обычно из числа бывших эдилов — quaesitor, iudex guaestionis. Это делалось в случае, когда для председательствования в суде преторов не хватало.
(обратно)16
Очевидно, во время гражданских войн суды не действовали. Суд над Росцием производился на основании закона об убийцах и отравителях, проведенного Суллой в 81 г. (lex Cornelia de sicariis et veneficis).
(обратно)17
Суд происходил на форуме под открытым небом. Претор сидел на возвышения (трибунал), вокруг которого были скамьи для судей, обвинителей, защитников, заступников и обвиняемого. Римский форум, главная площадь Рима, была политическим, судебным, религиозным и торговым центром. Форум существовал во всех значительных римских городах.
(обратно)18
См. ниже, § 84, 86.
(обратно)19
Америя — город в Умбрии, в 50 римских милях от Рима. Муниципием называлась городская община в Италии; ее население на основании особого положения пользовалось некоторыми правами и несло повинности, главным образом предоставляя Риму солдат. Права голосовать в комициях муниципалы вначале не имели (civitas sine suffragio). Полные права римского гражданства муниципии получили после Союзнической войны 91—81 гг. Во главе муниципия стоял сенат (курия) (100 человек); члены его назывались декурионами; сенат возглавляло 10 старейшин.
(обратно)20
Имеются в виду Гражданские войны 88—82 гг.
(обратно)21
Тит Росций Магн был свидетелем обвинения и мог выступить только после речей обвинителя и защитника. О Тите Росции Капитоне см. ниже, § 25.
(обратно)22
Пальмовой веткой награждали победителя-гладиатора. Гладиаторы — бойцы, сражавшиеся попарно друг с другом первоначально на похоронах знатных людей, а впоследствии во время общественных игр. Вначале игры происходили на форуме, а с I в. в амфитеатрах. Гладиаторами становились военнопленные, а также и осужденные на казнь. Владелец «школы» гладиаторов назывался ланистой. Гладиаторы различались по вооружению.
(обратно)23
Паллацинские бани находились вблизи Фламиниева цирка.
(обратно)24
В I в. письмоносцы (tabellarii), т. е. нарочные, развозившие письма и донесения магистратов, делали 40—50 миль в сутки. Римская миля — около 1,5 км.
(обратно)25
Город Волатерры в Этрурии, последний оплот марианцев, в то время был осажден Суллой. Ср. Цицерон, письма Att., I, 19, 4 (XXV); Fam., XIII. 4, 1 sq. (DCLXXIV).
(обратно)26
Splendidus — обычный эпитет римского всадника.
(обратно)27
Товарищества (societates) — компании, образованные чаще всего богатыми римскими всадниками и вольноотпущенниками, занимались торговлей и откупами налогов и податей в провинциях. Здесь ирония.
(обратно)28
Речь идет о проскрипционных списках. Термин «проскрипция» означает опись имущества, объявление о продаже. После диктатуры Суллы он получил значение расправы без суда. В 82 г., после своей победы над марианцами, Сулла выпустил эдикт с приказом убивать всякого, кто выступил против него после соглашения о мире, заключенного им с консулом 83 г. Луцием Корнелием Сципионом. В дальнейшем на основании закона, проведенного интеррексом Луцием Валерием Флакком, была установлена диктатура Суллы; после этого был издан закон о проскрипции, который предусматривал смертную казнь для врагов, внесенных в списки (убить такого человека мог первый встречный); конфискацию имущества как их, так и врагов, павших в бою против Суллы; смертную казнь для тех, кто помогал проскриптам; награду за убийство проскрипта; запрещение сыновьям и внукам проскриптов занимать магистратуры. Как последний срок для убийств и конфискации имущества было установлено 1 июня 81 г. Цицерон, очевидно, имеет в виду списки, составленные на основании закона о проскрипции. В 63 г. Цицерон произнес речь о сыновьях проскриптов (до нас не дошла). См. речь 7 § 10; письма Att., II, 1, 3 (XXVII); IX, 10, 6 (CCCLXIV); 11, 3 (CCCLXVI); Плутарх, Сулла 31, 1 сл.
(обратно)29
Имеется в виду эпитет «Счастливый» (Felix), который Сулла после своей окончательной победы присоединил к своему имени. Это было выражением эллинистического учения о харизме, т. е. благоволении богов. Сулла полагал, что ему покровительствует Венера (Venus Felix, Афродита); поэтому он именовал себя по-гречески Эпафродитом. Ср. речь 5, § 47; Плутарх, Сулла, § 34.
(обратно)30
Церемонии, связанные с похоронами, заканчивались жертвоприношением и поминками на девятый день после погребения (caena novemdialis, novemdialia).
(обратно)31
Пенаты — боги-покровители благосостояния дома (penus — кладовая для хранения припасов). В широком смысле — все божества, особенно почитаемые в данном доме.
(обратно)32
Римляне, которые иногда хоронили своих близких людей в усадьбах, при продаже владения выговаривали себе право доступа к могиле. Это было одним из видов сервитута (servitus itineris, iter ad sepulcrum). Сервитутом называлось право пользования чужой собственностью, создававшее выгоды для определенного лица и налагавшее обязательства на собственника. См. письма Att., XII, 9, 1 (DLVII); Q. fr., III, 1, 3 (CXLV); «Об ораторе», 1, § 173.
(обратно)33
Дочь Квинта Цецилия Метелла Балеарского, консула 123 г. Ее брат — Квинт Метелл Непот, консул 98 г. Ее родственница Метелла, дочь Метелла Далматинского, была женой Суллы с 88 г. Согласно традиции, она умилостивила богиню Юнону Соспиту после осквернения ее храма во время Союзнической войны.
(обратно)34
Под parricidium разумели убийство отца, кровного родственника, римского гражданина. Определения насчет parricidium составляли особый раздел изданного при Сулле закона об убийцах и отравителях. В древнейшую эпоху существовал особый суд (quaestores parricidii), ведавший делами об убийстве римского гражданина.
(обратно)35
Имеется в виду присутствующий в суде Тит Росций Магн.
(обратно)36
По старинному обычаю, после вынесения обвинительного приговора отцеубийце надевали на голову волчью шкуру, на ноги деревянные башмаки и отводили его в тюрьму, где он ждал, пока будет изготовлен кожаный мешок, в который его, после наказания розгами, зашивали вместе с петухом, собакой, обезьяной и змеей и топили в реке или в море. Это так называемая poena cullei. Насчет значения, какое придавалось присутствию этих животных в мешке, мнения расходятся.
(обратно)37
Гай Флавий Фимбрия, сторонник Мария, был в 86 г. легатом консула Луция Валерия Флакка, посланного марианцами для военных действий против Митридата VI. Фимбрия возмутил войско против Флакка, который был убит. В 84 г. войско Фимбрия перешло на сторону Суллы, Фимбрия бежал в Пергам, где покончил с собой.
(обратно)38
Квинт Муций Сцевола, известный юрист и оратор, один из учителей Цицерона, был наместником в провинции Азии в 99 г., верховным понтификом, консулом в 95 г. Это событие произошло в январе 86 г. В 82 г. Сцевола был убит марианцами.
(обратно)39
Речь идет о суде народа, т. е. центуриатских комиций, которые могли приговорить к смертной казни, или о суде трибутских комиций, налагавших денежный штраф. После учреждения постоянных судов (quaestiones perpetuae, в 149 г.) суд народа назначался только по поводу преступления, для которого не было соответствующего постоянного суда, особенно при обвинении в государственной измене (perduellio). См. речь 8. Обвинитель должен был, по предъявлении им обвинения (accusatio), к определенному сроку вызвать обвиненного им римского гражданина в комиций (diem dicere), затем дважды назначить ему срок явки на народную сходку и обвинять его перед ней и только в четвертый раз обвинять его перед комициями, которые и выносили приговор.
(обратно)40
В подлиннике «recipere telum». Поверженному гладиатору зрители иногда кричали: recipe ferrum (или telum) — прими последний удар. Ср. речь 18, § 80.
(обратно)41
Сын не мог без разрешения отца ни приобретать имущество, ни владеть им. Под «властью отца» (patria potestas) разумеют существовавшую в древнейшую эпоху, а в историческую эпоху сохранившуюся лишь формально власть главы рода и семьи над женой, детьми, женами сыновей, внуками, рабами и всем имуществом. Она выражалась также в праве жизни и смерти и в праве продажи в рабство («за Тибр»). После трехкратной продажи в рабство «власть отца» прекращалась, как и после утраты им гражданских прав.
(обратно)42
Намек на темное происхождение Эруция.
(обратно)43
Цецилий Стаций (умер в 166 г.) — римский поэт; переделывал греческие комедии для римской сцены. Цицерон называет имена действующих лиц из комедии Цецилия «Подкидыш» (от нее сохранились фрагменты). Римляне были знакомы с греческими комедиями и трагедиями в значительной степени по подражаниям и переделкам поэтов Энния, Пакувия, Акция и Стация.
(обратно)44
Цицерон делает вид, что поверхностно знаком с литературой. Интерес к греческой культуре не подобал римлянину старого закала. Ср. речь 3, § 4, письмо Fam., XV, 6, 1 (CCLXXVII).
(обратно)45
Вейи — город в Этрурии.
(обратно)46
Гай Атилий Регул, консул 257 и 250 гг. Его прозвание «Сарран» (от города Саррана), позднее было переосмыслено как Серран (сеятель). См. Плиний, «Естественная история», XVIII, 20.
(обратно)47
Ср. рассказы о Луции Квинкции Цинциннате. См. Марк Порций Катон, «Земледелие», предисловие, § 2.
(обратно)48
Реммиев закон имел в виду злостное, заведомо ложное обвинение с корыстной целью (calumnia). Осуждение влекло за собой утрату гражданской чести, в частности, права быть обвинителем и свидетелем в суде. Древнее наказание — клеймение лба буквой «K» (kalumniator).
(обратно)49
В Риме уголовные дела в судах должны были возбуждать должностные или частные лица. Обвинитель уполномочивался производить следствия с правом доступа в архивы, изъятия документов (также и у частных лиц), снятия копий с них.
(обратно)50
В Капитолии держали гусей и собак. Предание рассказывает о спасении Капитолия от захвата галлами в 390 г. Находившиеся в нем гуси проявили беспокойство, а собаки знака не подали. Поэтому, по обычаю, каждый год распинали нескольких собак. См. Плиний, «Ест. ист.», X, 22, 51.
(обратно)51
В календы (первое число месяца) платили проценты по долгам. Слово Kalendae начиналось с той же буквы «K», которой в древнейшую эпоху клеймили лоб за ложное обвинение; см. выше, прим. 48.
(обратно)52
Ср. Цицерон, «О границах добра и зла», III, § 62.
(обратно)53
Целий — неизвестное нам лицо. Таррацина — город в Лаций.
(обратно)54
Имеются в виду Орест и Алкмеон. По преданию, Орест убил по повелению Аполлона свою мать Клитемнестру, мстя ей за убийство своего отца Агамемнона. Алкмеон убил мать Эрифилу, уговорившую своего мужа Амфиарая принять участие в походе против Фив, где ему было суждено погибнуть. Мифы о терзаниях Ореста и Алкмеона обработали Эсхил и Эврипид. См. Вергилий, «Энеида», III, 331. Фурии (Кары) — богини возмездия; соответствуют эриниям греческой мифологии.
(обратно)55
Афинский законодатель VI в.
(обратно)56
По представлениям древних, текучая и морская вода очищала убийцу от совершенного им преступления. См. Эврипид, «Ифигения в Тавриде», 1191.
(обратно)57
Ср. Цицерон, «Оратор», 107.
(обратно)58
Перекрестный допрос (altercatio) происходил после речей обвинителя и защитника, но Цицерон, уверенный в невиновности Росция, готов отступить от этого правила. См. ниже, § 94.
(обратно)59
Допрос рабов, как и допрос всяких свидетелей, происходил после речей обвинителя и защитника. Допрос рабов для получения показаний против их господина допускался только при суде о кощунстве и о государственном преступлении. Показания рабов считались действительными только в том случае, если были получены под пыткой. См. ниже, § 77 сл., 120. Ср. речи 6, § 176 сл.; 19, § 68; 22, § 59; «Подразделения речей», § 118.
(обратно)60
О заступниках см. прим. 1. Заступниками Росция, возможно, были Публий Корнелий Сципион Насика, претор 94 г., и Марк Цецилий Метелл, претор 69 г. В данном случае допрос рабов должен был происходить частным образом. Ср. речь 6, § 176.
(обратно)61
Поговорка. Ср. письмо Fam., VII, 29, 2 (DCLXXIX).
(обратно)62
В подлиннике игра слов, основанная на двояком значении слова sector: 1) sector collorum — рассекающий шею; 2) sector bonorum — покупающий на аукционе конфискованные имения, разделенные на части, или же покупающий имения для перепродажи по частям.
(обратно)63
Peculatus — кража государственного имущества; таковым стало конфискованное имущество Росция-отца. Его сына, по-видимому, обвиняли в утайке этого имущества. Ср. ниже, § 144.
(обратно)64
Declamare — произносить речь на тему, заданную ритором.
(обратно)65
Обвинение в уголовном деянии (causa publica), закончившееся обвинительным приговором (особенно видному лицу) считалось заслугой и облегчало политическую карьеру. См. Цицерон, «Об обязанностях», II, § 49 сл.
(обратно)66
Луций Кассий Лонгин Равилла, народный трибун 137 г., консул 127 г., автор закона о тайном голосовании в уголовных судах (lex Cassia tabellaria). Его выражение «cui bono?» («кому выгодно?») стало крылатым, как и выражение «Кассиевы (т. е. строгие) судьи». См. ниже, § 85; ср. речи 22, § 32; 25, § 35; «Брут», § 97.
(обратно)67
Во время проскрипций 81 г. (прим. 28) головы профессиональных обвинителей были выставлены на форуме, на ораторской трибуне и около Сервилиева пруда, находившегося вблизи форума. В битвах у Трасименского озера (217 г.) и под Каннами (216 г.) Ганнибал нанес римлянам тяжелые поражения. Выражение «битва под Каннами» стало поговоркой: побоище. Ср. речь 4, § 28.
(обратно)68
Кв. Энний, «Hectoris lytra», фрагм. 167 Уормингтон. Перевод Ф. Ф. Зелинского.
(обратно)69
Очевидно, профессиональные обвинители. Люди старше 60 лет освобождались от участия в войне и не могли выступать в суде и голосовать в комициях. Антистий, видимо, утратил гражданскую честь, раз ему «законы запрещали сражаться».
(обратно)70
Император — в эпоху республики высшее почетное военное звание. После решительной победы, дававшей право на триумф (см. прим. 45 к речи 4), солдаты приветствовали своего полководца как императора. В I в. звание императора присваивал также и сенат.
(обратно)71
Намек на Хрисогона. См. выше, § 20.
(обратно)72
Dius Fidius — бог клятвы и верности, покровитель гостеприимства; этот культ отделился от культа Юпитера; был отождествлен с умбро-сабинским культом Семона Санка, покровителя верности. См. Овидий, «Фасты», VI, 213 сл.
(обратно)73
Римляне говорили о детях во множественном числе даже при наличии одного сына или дочери.
(обратно)74
Автомедонт — возница Ахилла, известный своей быстрой ездой. См. Гомер. «Илиада», XVI, 145; XVII, 459.
(обратно)75
Награда, украшенная лентой, считалась более почетной.
(обратно)76
Возможно, намек на старинный обычай лишать римских граждан, достигших 60 лет, избирательных прав (см. прим. 69). Их не допускали к мосткам, по которым граждане проходили для голосования подачей таблички. Так возникла поговорка: «Шестидесятилетних с моста!». Есть указания и на то, что в древности стариков сбрасывали с моста в Тибр.
(обратно)77
Тит Росций Магн.
(обратно)78
Тит Росций Капитон.
(обратно)79
Публий Корнелий Сципион Эмилиан.
(обратно)80
Патронат и клиентела — в древнейшую эпоху отношения между патрицием и зависевшими от него людьми, возможно, из покоренного населения. Патрон покровительствовал клиенту, защищал его в суде. Клиенты помогали патрону оружием и деньгами, поддерживали его при соискании магистратур. Впоследствии патронат и клиентела охватывали все отношения между влиятельным лицом и его вольноотпущенниками. Эти отношения существовали также и между влиятельным лицом и городской общиной, между бывшим наместником провинции и ее населением. Они были преемственными.
(обратно)81
Выступление в качестве свидетеля было обязательно только в уголовном суде. Правом вызова свидетелей обладал обвинитель, но не обвиняемый.
(обратно)82
Речь идет о договоре поручения (mandatum): одно лицо (доверитель — mandans, mandator) поручает, а другое (доверенный, — mandatarius, procurator) принимает на себя безвозмездное выполнение каких-либо действий. Лицо, осужденное за нарушение доверия, теряло гражданскую честь (infamia, atimia).
(обратно)83
Иск за невыполнение поручения был иском за нарушение доверия. Судья (арбитр) выносил решение не по формуле, а по совести (bona fide). Суд назывался arbitrium или bonae fidei iudicium.
(обратно)84
См. прим. 22. Здесь речь идет о Тите Росции Капитоне; «ученик» — Тит Росций Магн.
(обратно)85
Рабы-греки, которых Хрисогон забирал для себя у проскриптов.
(обратно)86
«Хрисогон» означает златорожденный.
(обратно)87
Намек на более значительных людей из окружения Суллы.
(обратно)88
Имеется в виду конфискация имущества проскриптов.
(обратно)89
«Древние законы» — вероятно законы Двенадцати таблиц, согласно традиции, первое писаное уложение Рима (середина V в.) Ср. речь 22, § 9.
(обратно)90
Поговорка. В подлиннике игра слов, основанная на двояком значении слова caput: 1) голова, 2) сумма гражданских прав.
(обратно)91
В эпоху республики понятие «империй» охватывало всю полноту власти консулов и преторов, ограниченной коллегиальностью, годичным сроком, интерцессией народных трибунов и правом провокации (апелляции) к народу, присущим римским гражданам. Империй слагался из права ауспиций, набора солдат и командования войском, созыва куриатских комиций, юрисдикции, принуждения и наказания. Различался imperium domi, т. е. судебная власть в пределах померия (сакральная городская черта Рима), и imperium militiae, т. е. вся полнота власти вне померия, в Италии и в провинциях. Магистрату, уже облеченному гражданской властью (potestas), империй предоставлялся путем издания куриатского закона (lex curiata de imperio). В I в. куриатские комиции уже утратили значение, при издании такого закона символически голосовали 30 ликторов в присутствии трех авгуров. Под imperium maius (imperium infinitum) разумели верховное командование с чрезвычайными полномочиями.
(обратно)92
Далее в тексте лакуна. Схолиаст приводит следующую фразу из утраченного текста: Хрисогон говорил: «Не потому растратил я имущество, что боялся, как бы его у меня не отняли, но так как строился под Вейями; поэтому я и перенес туда, что мне было нужно».
(обратно)93
Бруттий — область в Калабрии (южная Италия).
(обратно)94
Имеется в виду Хрисогон. В Риме, на Палатинском холме был его богато убранный дом.
(обратно)95
Изделия из коринфской и из делосской бронзы (сплав меди с серебром и золотом) особенно ценились. Ср. речь 3, § 1. Автепса (буквально «самовар») — металлический сосуд с двойным дном или с особым вместилищем для углей; служил для нагревания воды или вина.
(обратно)96
Собственно, лектикарии — рабы, носившие лектику, парадные носилки. См. письмо Q. fr., II, 8, 2 (CXI); Катулл, 10, 16.
(обратно)97
Т. е. римских граждан, клиентов вольноотпущенника. Тога — шерстяная верхняя одежда римских граждан, мужчин и детей. Это кусок ткани овальной формы, который по определенным правилам обертывали вокруг тела. Курульные (старшие) магистраты носили тогу с пурпурной каймой (toga praetexta). Претексту носили и мальчики; на 16-м году жизни, в день Либералий (17 марта), мальчик сменял перед алтарем ларов детскую тогу на белую (toga virilis, toga pura, toga libera), после чего его имя вносили в списки членов трибы. Набеленную мелом тогу (toga candida) носили лица, добивавшиеся магистратур («кандидаты»). Выражение «носящий тогу» (togatus) означало: 1) римский гражданин, 2) магистрат, не применяющий империя.
(обратно)98
Как сенатор внес бы предложение и обосновал бы его.
(обратно)99
Сулла, которому в 82 г., по предложению интеррекса Луция Валерия Флакка, была предоставлена диктатура, провел выборы консулов на 81 г. Он предложил и провел ряд законов: о судоустройстве, о вымогательстве, о магистратурах и др.
(обратно)100
До диктатуры Суллы судебная власть принадлежала сословию римских всадников (по закону Гая Гракха, 123 г.). Во время гражданской войны многие римские всадники поддерживали марианцев, что навлекло на них месть Суллы.
(обратно)101
Ius gentium — система права, применимого ко всем народам; она сложилась на почве юрисдикции претора, разбиравшего тяжбы между римскими гражданами и чужеземцами (praetor peregrinus, магистратура учреждена в 242 г.). Как и частное право (ius civile), ius gentium касалось частных отношений.
(обратно)102
Перстень с именной печатью носил римский гражданин. Золотой перстень был знаком принадлежности к одному из высших сословий. Ср. речь 3, § 57 сл.; письмо Fam., X, 32, 2 (DCCCXCV).
(обратно)103
Марк Валерий Мессалла Нигр был консулом в 61 г. См. Цицерон, «Брут», § 246.
(обратно)104
Consilium publicum — обычно так говорили о римском сенате; здесь, возможно, говорится о совете судей, составленном из сенаторов в соответствии с Корнелиевым законом о судоустройстве.
(обратно)105
Имеются в виду сенаторские суды и сословие сенаторов. Речь идет о предстоящей промульгации Аврелиева закона о судоустройстве; см. речь 4, § 178. На основании Цецилиева-Дидиева закона 98 г. (и Юниева-Лициниева закона 62 г.) законопроект объявляли народу на форуме за три нундины (8-дневные недели) до его обсуждения и голосования в комициях; этот акт назывался промульгацией. Цецилиев-Дидиев закон запрещал также включать несколько вопросов в один законопроект.
(обратно)106
Aerarium (эрарий) — государственное казначейство, находившееся при храме Сатурна. Эрарием управляли двое городских квесторов под контролем сената.
(обратно)107
Во время поездки Цицерона в Сицилию для следствия. Он возвратился в Рим не через Регий и далее по суше, а морем — из Вибона до Велии.
(обратно)108
Намек на слова македонского царя Филиппа. Ср. письмо Att., I, 16, 12 (XXII).
(обратно)109
Цицерон хочет сказать, что 70 г., вследствие честности претора Мания Ацилия Глабриона, не благоприятен для Верреса.
(обратно)110
О тщательности, с какой Цицерон вел следствие по делу Верреса, см. его речь в защиту Марка Эмилия Скавра, § 25.
(обратно)111
См. выше, § 6.
(обратно)112
Как обвинитель, так и обвиняемый имели право отводить судей, которых назначал претор. По закону Суллы об отводе судей (lex Cornelia de reiectione iudicum), обвиняемый, не принадлежавший к сословию сенаторов, мог отвести не больше трех судей; сенатор как обвиняемый пользовался более широким правом отвода судей.
(обратно)113
См. вводное примечание.
(обратно)114
Цари — это Гиерон II и Агафокл. Императоры — это Марк Марцелл, взявший Сиракузы в 212 г., и Публий Корнелий Сципион Эмилиан. О значении термина «император» во времена республики см. прим. 70 к речи 1.
(обратно)115
Цицерон намекает на случай, происшедший в 75 г. при суде над Теренцием Варроном, обвиненным в вымогательстве. Квинт Гортенсий, подкупив судей, роздал им таблички для голосования, покрытые воском необычного цвета, чтобы иметь возможность проследить за голосованием. На табличках по слою воска писали буквы «A» (absolvo — оправдываю), «C» (condemno — осуждаю), «NL» (non liquet — неясно); ненужную надпись судья стирал и опускал табличку в урну.
(обратно)116
«Избранный» — перевод термина «designatus». Так назывался магистрат, уже избранный комициями, но еще не приступивший к исполнению своих обязанностей. Избранный магистрат считался частным лицом и мог быть привлечен к суду. «Поле» — Марсово, где происходили выборы.
(обратно)117
Гай Скрибоний Курион, народный трибун 90 г., легат Суллы во время войны с Митридатом VI, консул 76 г.
(обратно)118
Триумфальная арка, построенная консулом 121 г. Фабием Максимом Кунктатором на Священной дороге у входа на форум. [В действительности — Кв. Фабием Максимом Аллоброгским. — О. В. Любимова (ancientrome.ru)]
(обратно)119
Имеется в виду метание жребия о полномочиях преторов (городская претура, разбор дел между чужеземцами и римскими гражданами, постоянные суды). Марк Метелл был в 69 г. городским претором.
(обратно)120
Fiscus — ивовая корзина для перевозки денег; отсюда — «фиск», название казны в императорскую эпоху.
(обратно)121
Имеются в виду комиции по выбору курульных эдилов на 69 г.
(обратно)122
Подкуп избирателей считался преступлением (crimen de ambitu — «домогательство»). Так как голосование в комициях происходило по трибам, то кандидату надо было обеспечить себе голоса 18 триб (из общего числа 35 триб). Подкуп производился через раздатчиков (divisores); иногда деньги передавались посредникам (sequestres) и раздавались уже после выборов. Кандидаты иногда вступали в соглашение (coitio) о взаимной поддержке голосами своих сторонников. При домогательстве использовались также и «товарищества» (sodalitates — объединения граждан в пределах трибы, преследовавшие культовые цели) и «сообщества» (collegia sodalicia — объединения граждан в пределах трибы, объединения ремесленников). Для борьбы с незаконным домогательством был издан ряд законов. Корнелиев закон карал это преступление запрещением занимать государственные должности в течение 10 лет, Кальпурниев-Ацилиев закон 67 г. — денежным штрафом и неограниченным по времени запрещением занимать государственные должности. Туллиев закон 63 г., проведенный Цицероном, запрещал платить сторонникам, устраивать зрелища для народа и угощать трибы и карал изгнанием на 10 лет.
(обратно)123
Квинт Веррес, по-видимому, был вольноотпущенником одного из Верресов. Название трибы иногда прибавлялось к родовому имени малоизвестного человека.
(обратно)124
Порядок голосования центурий и триб во время выборов определялся жребием. Центурия (триба), голосовавшая первой, называлась centuria (tribus) praerogativa; ее голосованию обычно следовали остальные центурии (трибы). В подлиннике непереводимая игра слов.
(обратно)125
Квинт Цецилий Метелл Критский.
(обратно)126
Намек на стих Гнея Невия (III в.):
Злой рок дает Метеллов Риму в консулы!(Перевод Ф. А. Петровского)
(обратно)127
Марк Цесоний был избран в курульные эдилы на 69 г.
(обратно)128
Имеется в виду дело Оппианика. См. речь 6, § 1, 103, 119, 138.
(обратно)129
В декабрьские ноны (5 декабря) новоизбранные квесторы, после распределения между собой обязанностей по жребию в храме Сатурна, приступали к своим обязанностям.
(обратно)130
Военные трибуны — командный состав римского легиона; для первых четырех легионов они избирались комициями (tribuni militum comitiati); для прочих они назначались полководцем или же выбирались солдатами (tribuni militum rufuli). В легионе было 24 военных трибуна.
(обратно)131
Обет устроить игры для народа был дан Помпеем в связи с военными действиями против Сертория. Игры должны были состояться с 16 августа по 1 сентября. Римские игры происходили с 5 по 19 сентября, игры Победы (Суллы, в 82 г.) — с 26 октября по 1 ноября, Плебейские игры — с 4 по 17 ноября.
(обратно)132
В постоянных судах (quaestiones perpetuae) судьи приносили присягу; председатель суда не приносил ее.
(обратно)133
Имеется в виду oratio perpetua, т. е. речь, которая не прерывается репликами и вопросами противной стороны. Ср. речь 1, § 73.
(обратно)134
Для слушания уголовного дела было три возможности: 1) судебное следствие должно было быть закончено в одну сессию; 2) оно откладывалось один раз (комперендинация), дело должно было быть решено в две сессии; 3) оно откладывалось решением судей неограниченное число раз (амплиация). Амплиация была введена законом о вымогательстве, проведенным в 123 г. или 122 г. народным трибуном Манием Ацилием Глабрионом (Ацилиев закон). Другие законы распространили ее на все уголовные суды. Она была отменена Сервилиевым законом о вымогательстве (111 г. или 106 г.) с заменой ее комперендинацией. Сулла вновь ввел амплиацию для уголовных дел, кроме суда о вымогательстве. Аврелиев закон о судоустройстве (70 г.) отменил амплиацию и комперендинацию и ввел первый способ.
(обратно)135
Цицерон нередко говорит о «царской власти» Гортенсия в судах. Ср. речь 4, § 75. Понятия «царь» и «царская власть» имели для Цицерона отрицательный смысл и были равносильны понятиям «тиранн» и «тиранния». Царем и тиранном он назвал также и Гая Юлия Цезаря. См. речи 7, § 8, 15, 20, 32 сл., 35; 14, § 25; письма Att., I, 16, 10, (XXII); II, 13, 2 (XL); Fam., IX, 19, 1 (CCCCLXXVI); VI, 19, 1 (DCLII); XII, 1, 1 (DCCLIV); XI, 5, 3 (DCCCX); 8, 1 (DCCCXVI); «Об обязанностях», III, §§ 19, 82.
(обратно)136
В городе Риме курульные эдилы имели ограниченную судебную власть в областях гражданской и уголовной, т. е. могли налагать штраф и в случае апелляции (провокации) к народу отстаивать принятую ими меру перед народом. «Место» — ораторская трибуна на форуме, «ростры»; она была в 338 г. украшена носовыми частями (таранами, рострами) вражеских кораблей.
(обратно)137
Imperium et potestas. Об империи см. прим. 90 к речи 1. Potestas — власть магистрата, избранного комициями и не обладающего империем (эдил, квестор).
(обратно)138
На основании закона Суллы о судоустройстве (81 г.).
(обратно)139
Точнее — 42 года, на основании закона Гая Гракха о судоустройстве (123 г.). Римские всадники иногда выносили суровые приговоры магистратам, препятствовавшим им грабить провинции. Так, Публий Рутилий Руф, в 97 г. легат проконсула Азии, Квинта Муция Сцеволы, а впоследствии его преемник, был обвинен в вымогательстве и осужден. См. речь 8, § 21; письма Fam., I, 9, 26 (CLIX); Att., V, 17, 5 (CCIX); VI, 1, 15 (CCLI); VIII, 3, 6 (CCCXXXII); IX, 12, 1 (CCCLXVII); «Брут», § 115.
(обратно)140
Намек на ограничение власти народных трибунов, произведенное Суллой.
(обратно)141
Квинт Калидий, пропретор Испании в 79 г., был осужден после своего наместничества. Преторий — бывший претор.
(обратно)142
После осуждения определялся материальный ущерб, который осужденный должен был возместить (litis aestimatio), по формуле: «Куда эти деньги попали» (quo ista pecunia pervenerit). Ср. речь 6, § 45; письмо Fam., VIII, 8, 2 (CCXXII). Здесь речь идет о взятке, полученной членом суда Публием Септимием Сцеволой во время разбора дела Оппианика. См. речь 6, § 115.
(обратно)143
Гай Попилий после осуждения жил в Нуцерии, где получил права гражданства.
(обратно)144
Crimen de maiestate, crimen minutae maiestatis populi Romani. В эпоху республики умалением и оскорблением «величества римского народа» могло быть признано любое действие магистрата, объявленное вредным для государства: командование войском, закончившееся поражением, выезд наместника из провинции без разрешения сената, самочинное объявление войны, вообще дурное исполнение магистратом его обязанностей. Такие действия карались по Аппулееву закону (103 или 100 г.), Вариеву закону (90 г.) и Корнелиеву закону (81 г.) по суду в quaestio perpetua de maiestate.
(обратно)145
Два последних факта, приводимые Цицероном, также относятся к делу Оппианика. См. речь 6, § 79, 89.
(обратно)146
Т. е. сословие сенаторов, в которое Цицерон перешел из всаднического после своей квестуры в 75 г.
(обратно)147
Квинт Лутаций Катул Капитолийский, консул 78 г., оптимат, один из судей Верреса. См. речь 5, § 51.
(обратно)148
Речь идет об обсуждении в сенате закона о полном восстановлении власти народных трибунов, предложенного в 70 г. консулами Гнеем Помпеем и Марком Лицинием Крассом (lex Pompeia Licinia de tribunicia potestate). «Высказывать мнение» (sententiam dicere) — технический термин: мотивированное голосование сенатора.
(обратно)149
Ad Urbem, т. е. вне померия (сакральная городская черта Рима). Помпей ожидал согласия сената на предоставление ему триумфа. См. прим. 45 к речи 4.
(обратно)150
Публий Муций Сцевола, консул 133 г. См. «Брут», § 239; Att., VI, 1, 4 (CCLI).
(обратно)151
Марк Эмилий Скавр, консул 115 г. и 107 г. Ср. речи 13, § 16; 16, § 101; «Об ораторе», I, § 214.
(обратно)152
См. выше, § 27.
(обратно)153
Ценз — производившееся через каждые пять лет составление списка римских граждан с распределением их на классы в зависимости от размера их имущества. Цензоры блюли строгость нравов, составляли список сенаторов и были вправе удалять из сената его членов, запятнавших себя позорным поведением. Сулла ограничил права цензоров. Цензоры 70 г. Гней Корнелий Лентул Клодиан и Луций Геллий Попликола произвели ценз, коснувшийся 900.000 римских граждан; они удалили из сената 64 сенаторов из числа трехсот, введенных в сенат Суллой. См. прим. 93 к речи 6.
(обратно)154
Имеется в виду Мессана. Ее жителей называли также и мамертинцами — от осского и сабинского «Мамерс» (Марс, покровитель Мессаны). Ср. речь 4, § 42 сл.
(обратно)155
Предстатель (laudator) — лицо, выступающее в суде с хвалебным отзывом о подсудимом. Кроме случаев суда, предстатели из городских общин иногда приезжали в Рим с хвалебными отзывами о своих бывших наместниках. См. письмо Fam., III, 8, 2 (CCXXI).
(обратно)156
Притворное пренебрежение к греческой культуре. Ср. речь 1, § 46. Пракситель — знаменитый аттический скульптор IV в.
(обратно)157
Луций Муммий взял Коринф в 146 г. По мифу, местом пребывания муз была гора Геликон, близ Феспий. Статуи муз, перевезенные Муммием в Рим, были названы Феспиадами. Храм Счастья (или Удачи, Felicitas) находился невдалеке от Палатинского холма.
(обратно)158
Мирон — греческий скульптор V в.
(обратно)159
Канефоры (корзиноносицы) — аргосские девушки, участницы жертвоприношений Гере, носившие на голове корзины со священными предметами.
(обратно)160
Поликлет — скульптор VI в., родом из Аргоса.
(обратно)161
Гай Клавдий Пульхр был курульным эдилом в 99 г. Он первый показал народу слонов во время общественных игр.
(обратно)162
Басилика (римская) — общественное здание с галереями и колоннадами, место для суда, торговых сделок и прогулок. Первая басилика была построена в 184 г. цензором Марком Порцием Катоном (Порциева б.); сгорела в 52 г. во время похорон Публия Клодия (см. речь 22). В 179 г. консул Марк Фульвий Нобилиор построил басилику (Фульвиева б.), восстановленную в 78 г. консулом Луцием Эмилием Лепидом [В действительности — консулом 78 г. Марком Эмилием Лепидом. — Любимова Ольга (ancientrome.ru)] (Эмилиева б.). В 169 г. была построена Семпрониева, в 121 г. Опимиева басилика.
(обратно)163
Намек на оратора Квинта Гортенсия. См. прим. 11 к речи 2.
(обратно)164
Богиня благополучия (греч. Agathe Tyche); ее изображали с рогом изобилия. Ее особенно почитали в Сицилии; одна из частей города Сиракуз называлась Тихэ.
(обратно)165
Имеется в виду Хелидона, возлюбленная Верреса, умершая в 72 г.
(обратно)166
Potestas. Об империи см. прим. 90 к речи 1. Легаты — 1) послы сената, 2) назначенные сенатом должностные лица для сопровождения полководца или наместника. В отсутствие наместника, его заменял legatus pro praetore. Легат не обладал potestas.
(обратно)167
Имеются в виду законы о вымогательстве, определявшие также и права наместников в провинциях.
(обратно)168
400 денариев равнялись 1 600 сестерциям.
(обратно)169
Ср. речь 4, § 47.
(обратно)170
Кибея (греч.) — большое грузовое судно. См. речь 4, § 44 сл.
(обратно)171
Имеется в виду Корнелиев закон о вымогательстве.
(обратно)172
О богах-пенатах см. прим. 31 к речи 1.
(обратно)173
Так называемая атимия (утрата гражданской чести). Утратив гражданскую честь, Гей уже не мог бы выступить как свидетель, а его прежние показания потеряли бы силу. «Сенат» — местный.
(обратно)174
Модий равнялся 8, 75 литра.
(обратно)175
В Сицилии независимыми (суверенными) городскими общинами, свободными от повинностей (civitates liberae ac immunes), были Галеса, Центурипы, Сегеста, Галикии и Панорм. Их права определялись постановлением римского сената.
(обратно)176
Фаселида — приморский город в Ликии (Малая Азия). Публий Сервилий, консул 79 г., успешно действовал против пиратов в Киликии, Ликии, Памфилии и Исаврии, в 74 г. справил триумф и получил прозвание «Исаврийский».
(обратно)177
Гай Порций Катон, консул 114 г. О суде над ним сведений нет.
(обратно)178
Имеются в виду Луций Эмилий Павел Македонский, Марк Порций Катон Старший и Публий Корнелий Сципион Эмилиан.
(обратно)179
Тимархид был вольноотпущенником и акценсом (прим. 91) Верреса и его пособником в злоупотреблениях.
(обратно)180
О возмещении ущерба (litis aestimatio) см. прим. 38 к речи 2.
(обратно)181
О Верриях (празднествах, введенных Верресом в Сицилии) см. ниже, § 151. О Сексте Коминии других сведений нет.
(обратно)182
См. речь 4, § 139—171.
(обратно)183
Об узах гостеприимства см. прим. 3 к речи 1. Городская община оказывала римскому официальному лицу гостеприимство путем так называемой проксении: именитый член общины принимал его у себя от имени общины; при этом соблюдалась очередность.
(обратно)184
«Благоволение» римского народа — избрание в квесторы. Бывший квестор (квесторий) становился сенатором.
(обратно)185
Очевидно, Басилиск и Перценнии получили права римского гражданства благодаря Гнею Помпею Страбону и, по обычаю, приняли его родовое, а Басилиск также и личное имя. Ср. ниже, § 37 сл.
(обратно)186
Т. е. к сенаторам, которых Цицерон старается настроить против городской общины, не уважавшей сената.
(обратно)187
Город Регий получил права римского гражданства в 90 г. Регий находился на италийском берегу Мессанского (Сицилийского) пролива.
(обратно)188
Городская община в Италии и в провинциях обычно состояла из граждан (cives) и поселенцев (incolae).
(обратно)189
Аттал — имя пергамских царей; имеются в виду ковры, расшитые золотом.
(обратно)190
Фалеры — золотые или серебряные пластины с изображениями; их носили поверх панциря, а также украшали ими сбрую коня.
(обратно)191
Кибира — город в Карии. Этот факт, по-видимому, относится к квестуре Верреса. Ср. речь 2, § 11.
(обратно)192
Веррес был в 80—79 гг. легатом Гнея Корнелия Долабеллы в Киликии, его легатство, по словам Цицерона, ознаменовалось грабежами и насилиями.
(обратно)193
Один из приближенных Верреса.
(обратно)194
Гидрия — сосуд для воды.
(обратно)195
В Сицилии на горе Эрике находился храм Афродиты Урании. При храме были рабы и рабыни, помогавшие при богослужении. Они могли выкупаться на свободу, но оставались в зависимом положении. Они имели право выступать в суде как сторона. Веррес использовал «рабов Венеры» как своих агентов для сбора десятины и для вымогательства. См. речи 4, § 141; 6, § 43.
(обратно)196
О комперендинации см. прим. 30 к речи 2.
(обратно)197
О Луции Корнелии Сисенне см. ниже, § 43; «Брут», § 228. Речь идет о Римских играх в цирке; они состояли в беговых состязаниях — на колесницах и верхом. Сисенна был тогда курульным эдилом и устраивал празднества для народа.
(обратно)198
Триклиний — ложе на троих: вокруг стола с трех сторон ставили три таких ложа; пирующие возлежали, опираясь на локоть.
(обратно)199
Абак (греч.) — стол, на который во время обеда или напоказ ставили ценную утварь. Его доска и ножки изготовлялись из ценного материала.
(обратно)200
Закон запрещал делать актерам дорогие подарки; поэтому их стоимость преуменьшали.
(обратно)201
Африканская туя из породы можжевельников. Это дерево очень ценилось.
(обратно)202
Ферикл — ваятель родом из Коринфа. Ментор — знаменитый скульптор; см. Марциал, Эпиграммы, XI, 11, 5.
(обратно)203
По мифу, царь Амфиарай, обладавший даром предвидения, скрывался, чтобы не участвовать в войне Семерых против Фив, на которой ему было суждено погибнуть. Его выдала его жена Эрифила, которой Полиник, сын Эдипа, добивавшийся власти над Фивами, подарил золотое ожерелье.
(обратно)204
Т. е. человека из своей преторской когорты (см. прим. 91). Ср. речь 4, § 146.
(обратно)205
Внесение отсутствующего человека в списки обвиняемых считалось противозаконным.
(обратно)206
Траур: обвиняемый или лицо, которому грозило судебное преследование, появлялись в общественных местах в темной тоге, отпускали бороду и волосы на голове; сенаторы сменяли тунику с широкой пурпурной каймой (tunica laticlava) на тунику с узкой каймой (tunica angusticlava), какую носили римские всадники; последние надевали тунику без пурпурной полосы. Траур надевали также и родственники и друзья обвиняемого.
(обратно)207
Стений, гражданин города Ферм в Сицилии, был ограблен Верресом, а впоследствии осужден им заочно.
(обратно)208
Квинт Аррий, претор 73 г., должен был сменить Верреса в 72 г., но ему было поручено вести войну против Спартака. Аррий умер в 72 г.
(обратно)209
О раздатчиках см. прим. 18 к речи 2. Подкуп обвинителя и нерадивое исполнение им своих обязанностей назывались преварикацией. Ср. речь 2, § 22 сл.
(обратно)210
Сосуд для сжигания благовоний, иногда на цепях.
(обратно)211
О лектике см. прим. 95 к речи 1.
(обратно)212
Tumultus — положение чрезвычайной опасности, которое объявляли в Риме, когда враг переходил через Альпы; граждане поголовно призывались к оружию, деятельность государственных учреждений и разбор дел в судах приостанавливались (так называемое iustitum). Ср. 10, § 26, 28; 11, § 4; 14, § 33.
(обратно)213
В подлиннике everriculum — игра слов, намек на родовое имя «Веррес». Ср. ниже, § 95. Ниже намек на значение слова «Веррес» (боров). Ср. ниже, § 57.
(обратно)214
Дворец царя Гиерона II (269—216 гг.), резиденция римских наместников.
(обратно)215
Темная туника и плащ были одеждой греков, не подобавшей римскому магистрату. Римляне иногда одевались так в провинциях.
(обратно)216
Конвентом римских граждан называлось общество римских граждан, живших в данном округе провинции и внесенных в списки. Конвентом назывался также и судебный округ провинции (conventus iuridicus); центр округа назывался форумом.
(обратно)217
Луций Кальпурний Писон был в 74 г. претором вместе с Верресом; его отец был в 113 г. претором в Испании; его дед, Луций Кальпурний Писон, народный трибун 149 г., был автором закона о вымогательстве и получил прозвание Frugi (честный), сохранившееся в этой ветви Кальпурниева рода.
(обратно)218
Имеется в виду курульное кресло — складное кресло из дерева или из бронзы с украшениями, принадлежность курульных (старших) магистратов.
(обратно)219
Белой глиной греки пользовались для печатей на Востоке и, по-видимому, в Сицилии; у римлян были приняты восковые печати.
(обратно)220
Сыновья Антиоха Евсебия, изгнанного из Сирии Тиграном, царем Армении. После успехов, достигнутых Лукуллом в войне с Митридатом VI, они вместе со своей матерью, дочерью Птолемея Фискона, отправились в Рим поддерживать свои притязания на царство в Александрии.
(обратно)221
Имеются в виду войны Рима против Сертория, Митридата, пиратов и восставших гладиаторов (74—73 гг.).
(обратно)222
В данном случае триклиний — столовая.
(обратно)223
Канделябры изготовлялись из бронзы или мрамора и имели до 2—3 метров в вышину. На плоскую верхушку канделябра ставили лампы.
(обратно)224
Храм Юпитера Капитолийского сгорел во время пожара в 83 г. Восстановление его было начато Суллой и закончено Квинтом Лутацием Катулом в 69 г. Катул получил прозвание «Капитолийский».
(обратно)225
Cella — святилище, в котором стояло изображение божества. Ср. речь 4, § 184.
(обратно)226
Дедикация — акт освящения, передачи храма или предмета божеству.
(обратно)227
См. Вергилий, «Энеида», V, 711 сл., 746—762.
(обратно)228
Публий Корнелий Сципион Эмилиан, Карфаген был взят им и разрушен в 146 г.
(обратно)229
Тиранн Агригента (570—554 гг.). Мастера, по его заказу изготовившего полого медного быка, звали Периллом или Перилаем. Ср. речь 4, § 145; письмо Att., VII, 20, 2 (CCCXVII).
(обратно)230
Одежда римских матрон, доходившая до пят.
(обратно)231
По представлению древних, человек, пораженный факелом божества, лишался рассудка. Ср. речь 1, § 66 сл.
(обратно)232
Об императоре см. прим. 70 к речи 1.
(обратно)233
Имеется в виду орган самоуправления городской общины, «курия».
(обратно)234
Не давая им аудиенции.
(обратно)235
Публий Корнелий Сципион Насика, усыновленный Квинтом Цецилием Метеллом Пием, получил имя Квинта Цецилия Метелла Пия Сципиона; оптимат, впоследствии тесть Помпея; заступник Верреса.
(обратно)236
«Новым человеком» (homo novus) называли человека не из сенаторского сословия, первым в своем роду добивающегося или достигшего консульства. Ср. речи 1, § 139; 4, § 35 сл.; 7, § 1, 3; 13, § 14 сл.; Квинт Цицерон, письмо Comment. pet., § 1 сл. (XII); Ювенал, Сатиры, VIII, 237.
(обратно)237
Проагор — высшее должностное лицо греческой городской общины в Сицилии.
(обратно)238
Гай Клавдий Марцелл был наместником в Сицилии в 79 г.
(обратно)239
См. прим. 40 к речи 2.
(обратно)240
После взятия Сиракуз Марком Клавдием Марцеллом (212 г.) Марцеллы стали патронами Сицилии. В честь Марка Марцелла были учреждены празднества — Марцеллии, впоследствии упраздненные Верресом.
(обратно)241
Гимнасиарх — управитель гимнасия, т. е. участка и помещений, где происходили гимнастические упражнения.
(обратно)242
Культ Эскулапа (Асклепия) возник в Фессалии и распространился на области, населенные греками. Эскулап считался сыном Аполлона.
(обратно)243
Имеются в виду должностные лица городской общины.
(обратно)244
Преторскую когорту составляли «спутники» (contubernales, comites) наместника, его личная охрана — молодые люди, начинавшие военную службу или желавшие сделать карьеру, а также и писцы, гаруспики, врачи, акценсы и вольноотпущенники. Акценс — младший чиновник при магистрате с империем. Ср. письмо Q. fr., I, 1, 11 (XXX).
(обратно)245
Великая Матерь — обожествленная земля, в разных странах именовавшаяся по-разному: Геей, Реей, Кибелой. Посвященные божеству панцири и шлемы употреблялись при священной пляске жрецов-куретов. См. Гесиод, фрагм. 198.
(обратно)246
В Сицилии был распространен культ Деметры (Цереры) и Персефоны (Просерпины). В Катине почитали Деметру-Законодательницу (Thesmophoros — наставница в земледелии).
(обратно)247
Изготовлявшиеся в Мелите (Мальта) ткани и ковры славились.
(обратно)248
Квинкверема (военное судно с пятью рядами весел) была снаряжена для оказания почета. В Карфагене поклонялись Юноне-Небожительнице (Iuno Caelestis).
(обратно)249
Греческие божества Деметра и ее дочь Персефона были отождествлены с римскими божествами Церерой и Либерой. Область Энны, ввиду своего плодородия, считалась местом пребывания Цереры. Дит и Орк (§ 111) — имена бога Плутона. См. Овидий, «Метаморфозы», V, 385 сл.; «Фасты», IV, 417 сл.
(обратно)250
Афиняне справляли в честь Деметры и Коры (Персефоны) мистерии в Элевсине, где по греческой традиции возникло земледелие.
(обратно)251
В 113 г.
(обратно)252
Сивиллины книги — собрание предсказаний, по преданию, привезенное из Эрифт (Азия) в Кумы, а оттуда в Рим. Они получили название по имени пророчицы Сивиллы. Истолкованием их занималась особая жреческая коллегия (decemviri sacris faciundis).
(обратно)253
Храм Цереры, Либера и Либеры находился в Риме и был основан диктатором Авлом Постумием в 496 г., во время голода. Отец Либер — италийское божество плодородия и весны, впоследствии отождествленное с греческим Дионисом (Вакхом).
(обратно)254
Триптолем — аттическое божество, покровитель земледелия.
(обратно)255
Ника (Победа) часто изображалась вместе с главными божествами греков. Фидий изваял Зевса и Афину держащими на руке Нику.
(обратно)256
Ветки оливы, обвитые шерстяными лентами, были у греков принадлежностью просителей.
(обратно)257
В 132 г., во время первого восстания рабов в Сицилии. Рабы, осажденные римлянами в Энне, продержались около двух лет.
(обратно)258
Ср. речь 4, § 95 сл., 103 сл. Киликийцы были пиратами.
(обратно)259
По свидетельству Страбона, город Сиракузы имел 180 стадиев (около 33 километров) в окружности; площадь его, внутри стен, равнялась около 18 квадратных километров. Это был самый большой город классической древности.
(обратно)260
Т. е. общественное здание, место суда, пиршеств и пр.
(обратно)261
Слово «Неаполь» означает новый город.
(обратно)262
Temenos (греч.) — участок, посвященный божеству, святилище. Теменит был предместьем Сиракуз и получил свое название от находившегося там храма Аполлона.
(обратно)263
Агафокл — тиранн, а позднее царь в Сиракузах (317—289 гг.).
(обратно)264
По верованию римлян, всякий город находился под охраной своих богов и его можно было взять только после того, как боги отступятся от него. Поэтому осаде города предшествовали особые обряды и молитвы, в которых полководец, который вел осаду, просил богов-покровителей города покинуть его и переселиться в Рим (так называемая эвокация). Успешность осады свидетельствовала о том, что боги покинули храмы города, которые тем самым теряли свою святость и неприкосновенность.
(обратно)265
Имеется в виду Хелидона; см. выше, § 7, 83.
(обратно)266
Силанион — греческий скульптор середины IV в. Сапфо — греческая поэтесса VII—VI вв., родом с острова Лесбоса.
(обратно)267
Храм Богини счастливого случая (Fortuna huiusce diei), построенный Квинтом Лутацием Катулом, консулом 102 г., после его победы над кимврами. В нем стояла статуя Афины работы Фидия.
(обратно)268
Находившийся вблизи Фламиниева цирка портик Метелла Македонского был построен им после победы над Лже-Филиппом и превращения Македонии в римскую провинцию (148 г.).
(обратно)269
«Эпиграмма» — надпись, обычно в стихах; в данном случае — посвящение или прославление.
(обратно)270
Пэан — врач богов в гомеровской мифологии. Его отождествляли с Аполлоном.
(обратно)271
О Либере ср. прим. 100. Аристей, греческое божество, считался сыном Аполлона и нимфы Кирены, он познакомил людей с оливой.
(обратно)272
Урий (греч.) — посылающий попутный ветер.
(обратно)273
До пожара 83 г. Эта статуя была вывезена из Пренесты Титом Квинкцием Цинциннатом; см. Ливий, VI, 29. На цоколе была надпись «Т. Квинкций», чем можно объяснить ошибку Цицерона. Тит Квинкций Фламинин — победитель македонян при Киноскефалах (197 г.)
(обратно)274
О могиле Архимеда см. Цицерон, «Тускуланские беседы», V, § 64; Ливий, XXV, 31.
(обратно)275
Delphica mensa — стол из мрамора или бронзы на трех ножках, напоминающий дельфийский треножник. Кратер (греч.) — сосуд с широким горлом для смешивания вина с водой.
(обратно)276
Оратор Луций Лициний Красс и Квинт Муций Сцевола (понтифик) были в 103 г. курульными эдилами и во время общественных игр впервые в Риме показали народу львов.
(обратно)277
Статуя Европы на быке была изваяна Пифагором из Регия (V в.). Сатир, или Сатирий — герой-эпоним Сатирик, местности вокруг Тарента. В Книде (Кария) находилась статуя Афродиты, в Косе — картина Апеллеса, изображавшая Афродиту. В Эфесе, в храме Артемиды, находилась картина Апеллеса, изображавшая Александра Великого с молнией в руке. «Аянт» и «Медея», по-видимому, картины Тимомаха. Иалис — легендарный основатель города Иалиса на острове Родосе.
(обратно)278
В храме Деметры, около Афин, было три статуи работы Праксителя: Деметры, Персефоны и Иакха с факелом в руке. Иакх — гений из окружения Деметры; впоследствии превратился в юного Диониса.
(обратно)279
Парал — аттический герой, которому приписывали изобретение длинных кораблей.
(обратно)280
Об ограблении Верресом Гераклия говорится в «книге» II (О судебном деле), § 35.
(обратно)281
Ср. речь 4, § 31.
(обратно)282
Луций Карпинаций был представителем компании откупщиков пастбищ и находился в Сицилии при Верресе. Вначале Карпинаций, в своих письмах в Рим, жаловался на притеснения со стороны Верреса, но впоследствии столковался с ним.
(обратно)283
Имеются в виду злоупотребления Верреса в связи с откупами в Сицилии. «Верруций» (вместо «Веррес») — подлог в книгах Карпинация, раскрытый Цицероном. См. «книга» II (О судебном деле), § 169—191.
(обратно)284
Т. е. проагором; ср. выше, § 50, 85; речь 4, § 160. Не смешивать с Гераклием, упомянутым в § 136.
(обратно)285
Не смешивать с Тимархидом, агентом Верреса.
(обратно)286
Претор Луций Цецилий Метелл, сменивший Верреса в Сицилии в 70 г.
(обратно)287
Наместник в Сицилии в 76—75 гг.
(обратно)288
Сын Верреса был изображен нагим, по греческому обычаю; так изображали эфебов (юношей-гимнастов).
(обратно)289
Во время первой сессии, при допросе свидетелей.
(обратно)290
См. выше, § 117; речь 4, § 96 сл.
(обратно)291
Цицерон был вправе присутствовать в сиракузском «сенате», но удалился, памятуя о правилах, принятых в римском сенате: приняв послов, сенат приступал к обсуждению вопроса лишь после их ухода.
(обратно)292
Цицерон был связан с сиракузянами узами общественного гостеприимства со времени своей квестуры в Лилибее (75 г.)
(обратно)293
Дисцессия — голосование в сенате; при этом сенаторы переходили к месту того сенатора, чье предложение они поддерживали.
(обратно)294
Апелляцией, в широком смысле слова, называлось обращение к высшему магистрату с жалобой на действия или на распоряжение низшего.
(обратно)295
О Цесеции см. речь 4, § 63.
(обратно)296
Тем самым претор Луций Метелл выступил в защиту Верреса.
(обратно)297
Квинт Цецилий Метелл был консулом в 109 г. и за победу над царем Югуртой получил прозвание «Нумидийский». См. речь 18, § 37, 101, 130; письма Att., I, 16, 4 (XXII); Fam., I, 9, 16 (CLIX).
(обратно)298
Луций Лициний Лукулл, отец консула 74 г., после неудачных действий в 102 г. против восставших рабов в Сицилии был обвинен в казнокрадстве и осужден.
(обратно)299
После получения этих писем Луций Метелл начал требовать, чтобы городские общины Сицилии дали хвалебные отзывы о Верресе, запугивать свидетелей и препятствовать их выезду в Рим. См. «книгу» II (О судебном деле), § 64.
(обратно)300
Прозвище «Феоракт» означает: обезумевший по воле богов.
(обратно)301
Ср. выше, § 15; речь 4, § 57 сл.
(обратно)302
Имеются в виду восстание рабов под руководством Спартака, господство пиратов на морях и третья война с Митридатом VI.
(обратно)303
Об императоре см. прим. 70 к речи 1, об империи — прим. 90 к речи 1.
(обратно)304
«Место» (locus communis) — технический термин: общее положение в риторике. См. Цицерон, «Оратор», § 122.
(обратно)305
Маний Аквилий, проконсул Сицилии в 101—98 гг., подавивший восстание рабов, был в 98 г. обвинен в вымогательстве. Оратор Марк Антоний, консул 99 г., был убит марианцами в 87 г.
(обратно)306
Афинион, вождь восставших сицилийских рабов, которого Маний Аквилий убил в рукопашном бою.
(обратно)307
См. прим. 29 к речи 1.
(обратно)308
Корнелиев закон 81 г. о вымогательстве. Обвинение, поддерживаемое Цицероном, выходит за рамки иска по этому закону.
(обратно)309
Когда силы Спартака прорвались из Регия, где они были окружены Марком Лицинием Крассом, и двинулись на север, Помпея вызвали из Испании, где он воевал против Сертория. Красс настиг войско рабов и нанес ему поражение в Лукании. Помпей истребил остатки их войска.
(обратно)310
Океаном древние называли море, по их представлению, обтекающее всю сушу.
(обратно)311
Имеются в виду восстания рабов Сицилии, происходившие в 134—132 гг. и в 104—101 гг.
(обратно)312
Через несколько лет после Мания Аквилия. Он был консулом в 94 г.
(обратно)313
Союзническая, или Италийская, или Марсийская, война (восстание союзников против Рима) 91—88 гг. Гай Юний Норбан был пропретором Сицилии в 91 г. и консулом в 83 г.
(обратно)314
О конвенте римских граждан см. прим. 63 к речи 3.
(обратно)315
Для наказания розгами, после чего рабов распинали на крестах (казнь «по обычаю предков»). Римским гражданам отсекали голову.
(обратно)316
Ср. речь 7, § 10.
(обратно)317
Обычная формула приговора. Ср. Ливий, XXV, 4.
(обратно)318
Об узах гостеприимства см. прим. 3 к речи 1. Аполлоний мог принимать Цицерона во время его квестуры или во время его поездки по Сицилии для следствия по делу Верреса.
(обратно)319
Интердикт — приказ претора, запрещавший какое-либо действие или предписывавший что-либо. Интердикту предшествовало расследование (cognitio).
(обратно)320
Секиры были принадлежностью ликторов, почетной охраны магистратов, облеченных империем. См. прим. 126.
(обратно)321
Квинт Фабий Максим Кунктатор, герой второй пунической войны. См. Энний, «Анналы», фрагм. 360 Уормингтон:
Нам один человек республику спас промедленьем. (обратно)322
Имеются в виду Сципионы — Старший и Младший, сын Луция Эмилия Павла Македонского, усыновленный сыном Сципиона Старшего.
(обратно)323
В подлиннике игра слов: lectus ложе и tectum кров, дом; кроме того, сарказм, основанный на разных значениях слова lectus — ложе в спальне и ложе в столовой.
(обратно)324
Фавоний — западный ветер. Ср. Гораций, Оды, I, 4, 1.
(обратно)325
Сарказм Цицерона связан с обычаем римлян бросать на стол во время пира лепестки роз. Ср. Гораций, Оды, I, 36, 15.
(обратно)326
О лекти́ке см. прим. 95 к речи 1; о мелитских тканях — прим. 94 к речи 3.
(обратно)327
См. прим. 96 и 100 к речи 3.
(обратно)328
В Сицилии центрами судебных округов были Сиракузы, Агригент (Акрагант), Панорм, Лилибей и Тиндарида.
(обратно)329
Ср. речь 1, § 89.
(обратно)330
Ср. Энний, «Анналы», фрагм. 276 сл. Уормингтон:
Всяк, кто ударит врага, Карфагена сочтен будет сыном, Кто бы, откуда бы родом он ни был.(Перевод Ф. Ф. Зелинского)
(обратно)331
Греческий плащ, тем более пурпурный, и туника до пят (одежда женщин) были неприличны для римского магистрата. См. ниже, § 86, 137; речи 3, § 54; 10, § 22.
(обратно)332
См. выше, § 3.
(обратно)333
Во всем § 32 содержатся намеки на распутно проведенную молодость Верреса. Выражение militia Veneris (военная служба у Венеры) было общепринятым. Ср. Овидий, Amores, I, 9, 1 сл.
(обратно)334
Т. е. в 74 г., когда Веррес был городским претором.
(обратно)335
Консул или претор, перед выездом в провинцию или на войну, совершал в Капитолии авспиции (вопрошение воли богов), после чего приносил жертву богам и давал им обет (nuncupatio votorum); затем он надевал военный плащ (paludamentum), это было началом его военного империя, причем он терял право доступа в пределы померия (сакральная городская черта Рима).
(обратно)336
Флоралии, праздник в честь богини Флоры, начинались 28 апреля.
(обратно)337
Римские игры в честь капитолийских божеств Юпитера, Юноны и Минервы происходили с 5 по 19 сентября.
(обратно)338
Голосование в сенате, т. е. высказывание сенатором его предложения, происходило по старшинству магистратов.
(обратно)339
Ius imaginum — право хранить у себя в доме восковые маски предков. Эти маски несли во время похоронного шествия. Таким правом обладали курульные магистраты и их потомки.
(обратно)340
Ср. речь 3, § 45.
(обратно)341
По традиции со времен царя Сервия Туллия свободное население (ополчение) Рима делилось на 193 центурии, которые делились на пять классов по имущественному признаку. В каждом классе центурии делились на старшие (воины от 46 до 60 лет) и младшие (воины от 17 до 40 лет). Вероятно, в 221 г. была произведена реформа центуриатских комиций на основе территориального принципа в сочетании с цензовым — в соответствии с наличием 35 триб, каждая из которых была разделена на пять разрядов; разряд состоял из старшей и младшей центурий. Общее количество центурий определяется следующей формулой: (2 центурии × 5) × 35 + 18 центурий всадников + 4 центурии ремесленников и музыкантов + 1 центурия пролетариев = 373 центурии.
(обратно)342
В 74 г. как городской претор, обладающий юрисдикцией.
(обратно)343
Ср. речь 3, § 7, 71, 123.
(обратно)344
Город в Бруттии; в нем укрывались остатки войск Спартака.
(обратно)345
Vibo Valentia (ранее Гиппон) — город в Бруттии, обычно назывался Вибоном.
(обратно)346
Триумф — празднество в честь Юпитера Феретрийского, приуроченное к возвращению полководца после большой победы над внешним врагом, когда пало не менее 5000 врагов. В ожидании триумфа полководец находился в окрестностях Рима (ad Urbem) и должен был получить на день триумфа империй в Риме, о чем издавался куриатский закон. В шествии участвовали сенаторы и магистраты; за ними следовали трубачи; несли военную добычу и изображения взятых городов, вели белых быков для жертвоприношения и наиболее важных пленников в оковах. За ними, на триумфальной колеснице, запряженной четверкой белых коней, стоя ехал триумфатор с лавровой веткой в руке, с лицом, раскрашенным в красный цвет (как у древних статуй Юпитера); государственный раб держал над его головой золотой венок. Колесницу окружали ликторы, связки которых были увиты лавром. За ликторами следовали солдаты, иногда распевавшие песенки с насмешками над триумфатором. Процессия вступала в Рим через триумфальные ворота, проходила по Большому цирку, forum boarium, Велабру и по Священной дороге вступала на форум. У подъема на Капитолий пленников уводили и обычно казнили. В Капитолии триумфатор приносил жертву Юпитеру и слагал с себя венок. Его имя вносили в особые списки (fasti triumphales).
(обратно)347
Беллона (Дуеллона) — богиня войны (культ ее, возможно, сабинского происхождения), впоследствии отождествленная с греческой Энио и восточным божеством луны. Храм Беллоны был на Марсовом поле; перед храмом стояла колонна (columna bellica), над которой фециал (прим. 54) метал копье в знак объявления войны. Культ каппадокийской Беллоны был перенесен в Рим при Сулле, после войны с Митридатом.
(обратно)348
См. прим. 40 к речи 2.
(обратно)349
Ср. речь 3, § 23.
(обратно)350
Кибея (греч.) — большой грузовой корабль. Трирема (греч.) — военное судно с тремя, бирема — с двумя рядами весел.
(обратно)351
Город в Лукании, на Тирренском море.
(обратно)352
Клавдиев плебисцит 218 г. запрещал сенатору и сыну сенатора иметь корабль емкостью более 300 амфор (8 тонн). Корабль средней величины обладал емкостью около 2.000 амфор.
(обратно)353
См. речь 3, § 15. О предстателях см. прим. 2 к речи 3.
(обратно)354
Наместникам Сицилии, по-видимому, разрешалось реквизировать строевой лес на италийском берегу пролива.
(обратно)355
Фециалы — жрецы бога верности (см. прим. 72 к речи 1), высшая инстанция в Риме по международному праву. В древнейшую эпоху ее глава (pater patratus) объявлял войну и заключал мир.
(обратно)356
В 264 г. Мессана обратилась к Риму за помощью; это послужило поводом к первой пунической войне.
(обратно)357
Имеется в виду senatus consultum de ornandis provinciis praetorum — постановление сената о предоставлении преторам, назначенным в провинции, денег, войска и всего необходимого для наместничества.
(обратно)358
Lex Cassia Terentia — закон, проведенный в 73 г. консулами Гаем Кассием Варом и Марком Теренцием Варроном Лукуллом, о предоставлении римским гражданам зерна по дешевой цене и о принудительной покупке его в провинциях, в частности — в Сицилии.
(обратно)359
Lex censoria — постановление цензора, определявшее ставки податей за пользование государственной землей (ager publicus); издавалось на пятилетие. См. письмо Q. fr., I, 1, 35 (XXX). См. вводное примечание к речи 7.
(обратно)360
Гиеронов закон — положение о едином сельскохозяйственном налоге натурой в размере десятины, изданное сицилийским царем Гиероном II (269—215) и распространенное на всю Сицилию римлянами после завоевания ими Сицилии. См. «книгу» III, О хлебном деле.
(обратно)361
По-видимому, поставки хлеба Сицилией определялись, помимо Кассиева-Теренциева закона, также и другими законами, возможно, законом Гая Гракха (lex Sempronia frumentaria), отмененным при Сулле.
(обратно)362
Поговорка. Ср. Гораций, Оды, I, 35, 18; Петроний, Сатиры, § 75.
(обратно)363
Имеется в виду компания откупщиков.
(обратно)364
Гай Лициний Сацердот был наместником в Сицилии в 74 г.
(обратно)365
Секст Педуцей был наместником в Сицилии в 76—75 гг.
(обратно)366
Упоминаемое Цицероном число предстателей требовалось при разборе дела о вымогательстве.
(обратно)367
См. речь 3, § 19 сл., 150 сл.
(обратно)368
Риторическое преувеличение: такое заявление сделал один только Гей. См. речь 3, § 3 сл.
(обратно)369
Колонией называлось военное поселение, основанное со стратегической целью, в силу закона, издававшегося в каждом отдельном случае, с предоставлением земли римским гражданам, сохранявшим принадлежность к своим трибам (colonia civium Romanorum). Лица, которым поручалась вывести колонию (curatores coloniae deducendae), часто облекались империем и впоследствии становились патронами колонии. Другим видом колонии была латинская колония, которая составлялась из членов общин, входивших в латинскую федерацию: эти колонии существовали на основании латинского права (ius Latii). Третий вид колонии — колонии солдат-ветеранов, которым давали землю после увольнения их от службы.
(обратно)370
О муниципии см. прим. 19 к речи 1. Это может относиться к муниципию, который еще до предоставления прав римского гражданства союзникам-италикам (по Юлиеву закону 90 г.) стал суверенной общиной (civitas immunis et libera).
(обратно)371
См. ниже, § 86 сл.
(обратно)372
Командир военного корабля или флота.
(обратно)373
Такое положение существовало до Союзнической войны, когда италики считались союзниками (socii) и должны были выставлять вспомогательные войска (auxilia). Юлиев закон 90 г. дал им возможность вступать в римские легионы.
(обратно)374
Экипаж военного судна состоял из матросов, гребцов и солдат.
(обратно)375
Первый был квестором, второй — легатом Верреса.
(обратно)376
Т. е. осудил на смерть.
(обратно)377
Публий Сервилий Исаврийский (см. прим. 23 к речи 3) входил в совет судей.
(обратно)378
При «морском триумфе» (прим. 45) трофеем являлись носовые части (тараны, ростры) вражеских кораблей. Трофей (греч.) воздвигался на месте, где враг был разбит, и посвящался божеству, «обращающему врага в бегство», — Зевсу, Гере, Афродите, Посейдону. Морской трофей сооружался на берегу. Римляне сооружали трофеи по окончании кампании. Первоначально это был столб, на который вешали оружие врага.
(обратно)379
«Цари» — это Агафокл, объявивший себя царем Сиракуз в 306 г., после 11 лет тираннии, и Гиерон II (269—216 гг.). «Тиранны» — это Дионисий Старший (см. ниже, § 143). В Каменоломнях содержались афиняне, взятые в плен во время их похода в Сицилию (415—413 гг.). См. ниже, § 98.
(обратно)380
Квинт Апроний был агентом Верреса и участвовал в незаконных поборах с населения Сицилии. См. «книгу» III, О хлебном деле.
(обратно)381
После убийства Сертория в 72 г. его войско было разбито Помпеем; уцелевшие солдаты разбрелись. Веррес мог сослаться на то, что серторианцы были вне закона как государственные преступники. См. ниже, § 146, 151.
(обратно)382
По старинному обычаю, отжившему в I в. См. ниже, § 156 сл. Ср. речь 8, § 13.
(обратно)383
Миопарон — легкое быстроходное военное судно.
(обратно)384
Марк Анний — римский всадник, жил в Сиракузах.
(обратно)385
См. ниже, § 113; речи 1, § 66; 3, § 74 сл., 14, § 76.
(обратно)386
Это обстоятельство отягчало вину Верреса.
(обратно)387
Во время триумфа колесница триумфатора поворачивала у храма Сатурна, где начинался подъем на Капитолий. Казнь пленных военачальников совершалась в подземелье Мамертинской тюрьмы.
(обратно)388
Имеется в виду постоянный суд по делам об оскорблении величества римского народа. См. прим. 40 к речи 2.
(обратно)389
Речь идет о хлебе для нужд претора и его когорты (frumentum in cellam). Мулы и палатки были нужны наместнику при разъездах. Возможно, что слова в квадратных скобках относятся к другому месту речи, так как упоминание о мулах, после того как говорилось о квесторе и легате, едва ли было уместным. Ср. речь 7, § 32.
(обратно)390
Префект-младший начальник. О военных трибунах см. прим. 26 к речи 2.
(обратно)391
По преданию, эти города были основаны выходцами из Трои. Ср. речь 3, § 72. Сегеста и Центурипы были суверенными городами, и потому их гражданин имел на командование флотом больше прав, чем сиракузянин Клеомен. Сиракузы были завоеванным городом. Ср. ниже, § 125.
(обратно)392
Цицерон умалчивает о верности Сиракуз Риму во времена Гиерона II и о разграблении города, которое допустил Марк Марцелл, взяв Сиракузы в 212 г. См. Ливий, XXV, 31.
(обратно)393
Пахин — мыс на юго-востоке Сицилии. Обычно морской переход от Сиракуз до Пахина продолжался двое суток.
(обратно)394
Одиссея находилась вблизи Пахина, к западу.
(обратно)395
Гелор находился на полупути между Пахином и Сиракузами.
(обратно)396
Локры — греческая колония на юге Италии.
(обратно)397
Корабль следовало вытащить на берег.
(обратно)398
Имеется в виду случай, когда Верресу, во время его легатства, угрожал самосуд населения города Лампсака, вызванный его покушением на женскую честь и права гостеприимства. Претор провинции Африки Гай Фабий Адриан был в 83 г., в отместку за его жестокость, сожжен заживо римскими гражданами, жившими в этой провинции. См. «книгу» I (О городской претуре), § 68 сл.
(обратно)399
Ср. речь 3, § 117 сл. Форум находился в Ахрадине.
(обратно)400
Ср. речь 3, § 117.
(обратно)401
Ораторское преувеличение. Это может относиться только к первой и второй пуническим войнам.
(обратно)402
Имеется в виду взятие Сиракуз Марком Марцеллом в 212 г. Гавань была в руках у карфагенян; римляне действовали только на суше.
(обратно)403
Цицерон преувеличивает численность афинского флота, посланного в Сицилию во время пелопоннесской войны. Ср. Фукидид, VI, 31, 43, 70; VII, 16, 42.
(обратно)404
См. ниже. § 188; речь 3, § 106.
(обратно)405
См. выше, § 89. На палубу ставили метательные машины, большие корабли имели тараны.
(обратно)406
Adulescentes — в Риме так называли мужчин в возрасте от 17 до 30 лет.
(обратно)407
Венки (coronae) были видом военной награды: за спасение римского гражданина солдат награждался дубовым венком (corona civica); золотой венок с изображением зубцов стены давался первому, взошедшему на стену города (corona muralis); corona castrensis — первому, взошедшему на вражеский корабль.
(обратно)408
По представлению римлян, души умерших, божества подземного мира. Культ манов охватывал обязанности живых членов рода и семьи по отношению к умершим.
(обратно)409
О преторской когорте и спутниках см. прим. 91 к речи 3.
(обратно)410
О Тимархиде см. речь 3, § 22, 35
(обратно)411
Таков был обычай. Ср. Вергилий, «Энеида», IV, 684.
(обратно)412
По представлению древних, души людей, оставшихся без погребения, в течение ста лет блуждают по берегу подземной реки Стикса, не находя себе покоя. См. Вергилий, «Энеида», III, 62; VI, 324 сл.
(обратно)413
В подлиннике suscipere. Древний обычай: глава рода брал на руки новорожденного, положенного перед ним на землю, и тем самым признавал его членом рода. Отвергнутый ребенок мог быть отнесен в уединенное место и обречен на смерть. См. прим. 41 к речи 1.
(обратно)414
Человек, укрывающийся в храме у алтаря, считался неприкосновенным. Ср. речь 16, § 11.
(обратно)415
Ср. речь 3, § 22, 133.
(обратно)416
Ср. Ливий, XXV, 40; Саллюстий, «Катилина», 10 сл., 20; «Югурта», 31; Ювенал, Сатиры, VI, 298 сл.; VII, 98 сл.
(обратно)417
О трауре см. прим. 53 к речи 3.
(обратно)418
См. прим. 38 к речи 2.
(обратно)419
См. прим. 146 к речи 3.
(обратно)420
Ср. Гомер, «Илиада», XVIII, 309:
Общий у смертных Арей; и разящего он поражает!(Перевод Н. И. Гнедича)
Имеется в виду переменчивость боевого счастья. Ср. речи 18, § 12; 22, § 56; письма Att., VII, 8, 4 (CCXCVIII); Fam., VI, 4, 1 (DXLIV). Слова «общая Венера» — намек на Нику; см. выше, § 82, 101, 107.
(обратно)421
Фалакр и Филарх.
(обратно)422
Марк Цецилий Метелл, избранный в преторы на 69 г., брат Луция Метелла, назначенного в качестве наместника Сицилии на 69 г.
(обратно)423
Т. е. в провинции плодородной и обильной хлебом.
(обратно)424
Как бывшего квестора в Лилибее и в силу уз гостеприимства.
(обратно)425
О рабах Венеры Эрицинской см. прим. 42 к речи 3.
(обратно)426
Устная процедура перед судом или рекуператорами (коллегия, разбиравшая тяжбы о материальном ущербе), самостоятельная или же предваряющая вчинение иска. При спонсии доказывался или опровергался тот или иной факт, давалось обязательство уплатить определенную сумму денег в случае проигрыша дела. Лицо, требовавшее такого обязательства, называлось стипулятором; лицо, дававшее обязательство, — промиссором. Спонсия совершалась в виде вопроса и ответа. В данном случае ликтор был подставным лицом, вместо Верреса. Проигравший спонсию терял гражданскую честь.
(обратно)427
Ликторы составляли почетную охрану магистратов с империем и носили перед ними связки прутьев, в которые вне Рима втыкали секиры. При диктаторе было 24 ликтора, при консуле 12, при преторе — 2 в Риме и 6 в провинции. Старшим ликтором был тот, который шел непосредственно перед магистратом (lictor proximus, lictor summus). Ликторы приводили в исполнение наказания, в провинциях и смертную казнь. «Ближайшим ликтором» Верреса был Секстий; см. ниже, § 113, 118.
(обратно)428
В подлиннике игра слов: Cupido (Купидон) и cupiditas (страсть).
(обратно)429
Сицилийский тиранн Дионисий Старший (406—367 гг.).
(обратно)430
На народной сходке могли быть заявлены жалобы на магистратов, превысивших власть и совершивших преступление.
(обратно)431
Возможно, имеются в виду лестригоны. См. Гомер, «Одиссея», X, 80 сл.
(обратно)432
О Фалариде см. речь 3, § 73.
(обратно)433
Цицерон намекает на агентов Верреса. См. речь 3, § 40. Харибда — водоворот в Сицилийском проливе, Сцилла — утес против Харибды, на италийском берегу. По мифологии, Харибда — чудовище, поглощавшее корабли, Сцилла — чудовище, опоясанное псами. Ср. речи 18, § 18; 24, § 67. См. Гомер, «Одиссея», XII, 85 сл.; Лукреций, «О природе вещей», V, 892; Овидий, «Метаморфозы», XIII, 730 сл.; Гораций, Оды, I, 27, 97.
(обратно)434
См. Гомер, «Одиссея», IX, 216 сл.
(обратно)435
Судовладельцы были объединены в компании. См. выше, § 46.
(обратно)436
Выбор этих метафор можно связать со значением слова verres (боров). Ср. речь 3, § 53, 95; Гораций, Оды, I, 1, 28; Эподы, II, 31.
(обратно)437
Т. е. с ораторской трибуны на форуме, как курульный эдил в 69 г., когда Цицерон созовет суд народа (см. прим. 39 к речи 1), если суд по делу об оскорблении величества не осудит Верреса (см. выше, § 79). Речь может идти о государственном преступлении (perduellio), когда осужденный объявлялся врагом государства (hostis publicus).
(обратно)438
Марк Перпенна вначале был соратником Сертория (см. прим. 80), но затем составил против него заговор, и Серторий был убит. Перпенна был разбит Помпеем, попал в плен и был казнен.
(обратно)439
О проскрипции см. прим. 28 к речи 1.
(обратно)440
Путеолы — порт в Неаполитанском заливе. Суда, направлявшиеся в Путеолы, заходили в Сицилию, возвращаясь с Востока.
(обратно)441
Город в северной Африке.
(обратно)442
Вольноотпущенники принадлежали главным образом к плебсу, низшему сословию.
(обратно)443
Город в Самнии.
(обратно)444
Т. е. проагором; он и доложил Верресу о своих действиях.
(обратно)445
Ср. выше, § 106; см. Квинтилиан, «Обучение оратора», IX, 2, 40; XI, 1, 30.
(обратно)446
Известны три Порциевых закона (198, 195 и 185 гг.). Их обычно объединяли; см. речь 8, § 12. Говоря о Семпрониевых законах, Цицерон имеет в виду законодательство Гая Гракха, в частности — закон о провокации. Эти законы расширяли право провокации, т. е. право римского гражданина апеллировать к центуриатским комициям на действия магистратов или на приговор суда. Валериев закон о провокации был издан в 300 г., но традиция приписывала его Публию Валерию Попликоле, одному из первых консулов Рима после изгнания царей. См. Ливий, X, 9, 3.
(обратно)447
Право апеллировать к народу, отнятое у народных трибунов Суллой в 82 г., было возвращено им в 70 г., в консульство Помпея и Красса. Власть трибунов была ограничена пределами города Рима. См. также прим. 90 к речи 1.
(обратно)448
«Царства» — государства, подвластные Риму, но управляемые царями; «независимые городские общины» — суверенные.
(обратно)449
Возможно, дорога, проложенная Помпеем в 82 г., во время его действий против марианцев.
(обратно)450
См. прим. 34 к речи 1.
(обратно)451
Ср. речи 2, § 13; 3, § 24 сл. После издания Порциевых законов порке розгами стали подвергать только чужеземцев. Распятие на кресте было казнью для рабов, перебежчиков и жителей провинций — за пиратство, убийство, разбой, мятеж.
(обратно)452
Комиций — незастроенная северная часть римского форума, где происходили выборы магистратов. О рострах см. прим. 32 к речи 2.
(обратно)453
Курульный эдилитет Цицерона должен был начаться 1 января 69 г. См. выше, § 151; речь 2, § 37.
(обратно)454
Намек на возможный подкуп судей. Ср. речь 2, § 36, 50.
(обратно)455
Имеется в виду отвод судей, произведенный обвинителем.
(обратно)456
В подлиннике игра слов: cera (воск) и caenum (грязь). См. прим. 11 к речи 2.
(обратно)457
Ко времени слушания дела Верреса Гортенсий уже был избран в консулы на 69 г. Ср. речь 2, § 18 сл.
(обратно)458
Намек на диктатуру Суллы.
(обратно)459
Имеется в виду нобилитет. О господстве Гортенсия в судах см. речь 2, § 35.
(обратно)460
Гортенсий. Обращение по личному имени звучало по-дружески; здесь ирония. Ср. речь 13, § 9.
(обратно)461
Имеется в виду Аврелиев закон о судоустройстве (lex Aurelia iudiciaria), проведенный претором Луцием Аврелием Коттой в 70 г. Совет судей должен был составляться из трех декурий: сенаторов, римских всадников и эрарных трибунов. О последних см. прим. 93 к речи 6.
(обратно)462
Имеются в виду, кроме Сицилии, провинции Азия, Киликия, Цисальпийская Галлия, Памфилия.
(обратно)463
Милости римского народа — избрание в магистраты. Выборы начинались на рассвете; слова Цицерона можно понимать и буквально. Ср. речь 7, § 100; Саллюстий, «Югурта», 85.
(обратно)464
Марк Порций Катон Старший (234—149), как и Цицерон, был «новым человеком» (см. прим. 83 к речи 3) и первый в своем роду получил право изображений.
(обратно)465
Квинт Помпей, консул 141 г., «новый человек», был противником Гая Лелия и Сципиона Эмилиана. См. Цицерон, «Брут», § 96.
(обратно)466
Гай Флавий Фимбрия, консул 104 г., вместе с Гаем Марием. См. прим. 37 к речи 1. См. Цицерон, «Брут», § 129.
(обратно)467
Цицерон часто упоминает о том, что Гай Марий был его земляком и тоже «новым человеком». См., речи 14, § 23; 16, § 38; 18, § 37 сл., 50, 116; 21, § 19, 32.
(обратно)468
Гай Целий Кальд, народный трибун 107 г., автор закона о тайном голосовании в суде о государственной измене (lex Caelia tabellaria), консул 98 г., сторонник Мария.
(обратно)469
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что Цицерон здесь превозносит противников нобилитета.
(обратно)470
Ср. речь 18, § 102.
(обратно)471
До процесса Верреса Цицерон выступал в суде только как защитник; позднее, в конце 52 г. или в начале 51 г., он обвинял в суде Тита Мунация Планка Бурсу и добился осуждения.
(обратно)472
См. речь 3, § 61 сл.
(обратно)473
В культе Великой Матери богов римляне объединяли культы Матери Идейской, Реи (Крит), Кибелы (Фригия). Ида — название горы во Фригии и горы на Крите.
(обратно)474
Храм Диоскуров (Кастора и Поллукса, Aedes Castoris) был одним из мест собраний римского сената.
(обратно)475
Во время Римских игр и других празднеств в Большом цирке (Circus Maximus) происходили бега и скачки, начинавшиеся с торжественного шествия из Капитолия через форум и Велабр. При этом статуи богов везли на священных колесницах (тенсы); когда процессия вступала в Большой цирк, изображения богов ставили на особые подушки (pulvinaria). Ср. речь 20, § 115.
(обратно)476
Ср. речь 3, § 115.
(обратно)477
Почетно-торжественное наименование римского народа.
(обратно)478
Ораторская трибуна на форуме (ростры).
(обратно)479
Преторы избирались центуриатскими комициями; как только кандидат получал в данной центурии большинство голосов, счетчики сообщали об этом председательствующему, а тот объявлял собранию; имя кандидата, первым получившего большинство голосов в центуриях, объявлялось в первую очередь. Причина отсрочки выборов неизвестна.
(обратно)480
Т. е. провинцию Азию, в состав которой входили Фригия, Мисия, Кария и Лидия. Под «данниками» Цицерон разумеет население провинций; «союзники» — население провинций и цари, дружественные Риму.
(обратно)481
Взимание податей и налогов, а также и пастбищных сборов в провинциях, по Семпрониеву закону 123 г., сдавалось в Риме цензорами на откуп на пятилетие. Откупщиками были римские всадники, объединявшиеся в компании. О связях Цицерона, происходившего из всаднического сословия, с откупщиками см. речь 13, § 62; письма Q. fr., I, 1, 7 (XXX); Fam., XIII, 9 (CCXXXVII); 65 (CCXXXVI); «Об обязанностях», III, § 88.
(обратно)482
Вифиния была завещана Риму царем Никомедом III в 77 г.
(обратно)483
Царь Каппадокии, которого называли Филоромеем («друг римлян»). См. письмо Fam., XV, 2, 3 сл. (CCXX).
(обратно)484
Консул 67 г. Маний Ацилий Глабрион.
(обратно)485
Об императоре см. прим. 70 к речи 1.
(обратно)486
Мурена, легат Суллы, хотя и потерпел поражение, все же справил триумф. Ср. речь 13, § 11.
(обратно)487
Подготовка Митридатом похода против Боспора Киммерийского предшествовала его действиям против Мурены.
(обратно)488
Имеются в виду переговоры Митридата с Серторием о совместных действиях против Рима. Ср. речь 13, § 33.
(обратно)489
См., например, речь 4, § 149.
(обратно)490
Взятый римлянами в 146 г. Коринф был ими разрушен до основания под предлогом наказания за оскорбление римских послов.
(обратно)491
Войны Рима с сирийским царем Антиохом III (192—188 гг.) и македонским царем Филиппом V (200—197 гг.) были начаты Римом под предлогом защиты интересов Пергама, Родоса и Афин; война с этолянами (189 г.) была связана с нападением их на греческие города. Вторая пуническая война была связана с нападением Ганнибала на город Сагунт в Испании.
(обратно)492
Десятиной называлась десятая часть всех видов урожая, сдававшаяся римской казне. Пользование государственными землями (ager publicus) для пастбищ сдавалось на откуп; сборы (scriptura) исчислялись по числу голов скота.
(обратно)493
Кроме откупщиков, в Азии находилось много дельцов из других сословий: купцов, менял, судовладельцев, ремесленников. Они пострадали в 88 г. и в 74 г.
(обратно)494
Многие богатые люди вкладывали деньги в дела откупщиков и предоставляли займы городским общинам в провинциях. См. письма Fam., V, 5, 3 (XVIII); Att., I, 13, 1 (XIX); 19, 9 (XXV); V, 21, 10 сл. (CCXLIX); VI, 1, 3 сл. (CCLI).
(обратно)495
Союзный город Кизик находился на острове в Пропонтиде. См. речь 13, § 33.
(обратно)496
Митридат обратился за помощью к своему сыну, царю Боспора Киммерийского, и к своему зятю, царю Армении Тиграну.
(обратно)497
Рассказ Цицерона не вполне точен: Тигран встретил Митридата враждебно и два года держал его в крепости как пленника. Отношение Тиграна к Митридату изменилось к лучшему после того, как Лукулл потребовал его выдачи.
(обратно)498
Возможно, храм в Бариде, на пути из Артаксаты в Экбатану.
(обратно)499
После разгрома войск Тиграна под Тигранокертой (октябрь 69 г.) Лукулл, заняв всю страну к югу от реки Тигра, летом 68 г. двинулся на Артаксату, но вследствие жары и волнений в войске должен был отступить к югу. В это время его легаты, находившиеся в Понте, оказались в опасном положении.
(обратно)500
Гней Невий (III в.) — автор поэмы «Пуническая война», и Квинт Энний (II в.) — автор «Анналов», истории Рима. От этих поэм до нас дошли фрагменты.
(обратно)501
Речь идет о поражении под Гациурой, которое потерпел легат Триарий (весна 67 г.); римская пехота была уничтожена.
(обратно)502
Союзническая война 91—88 гг. Помпей начал военную службу под знаменами своего отца, консула 89 г. Гнея Помпея Страбона. В 83 г., когда Сулла возвратился в Италию из Азии, молодой Помпей привел к нему два легиона, составленные им из клиентов и бывших солдат своего отца. Сулла приветствовал Помпея как императора.
(обратно)503
Помпей справил триумф в 81 г., в 26-летнем возрасте, по случаю победы над нумидийским царем Ярбой, и в 71 г., после войны в Испании, но не по случаю победы над Серторием, так как победа в гражданской войне не давала права на триумф. См. прим. 45 к речи 4.
(обратно)504
Находясь под началом Суллы, Помпей нанес поражение марианцам в Сицилии в 82 г. и в Африке в 81 г. После смерти Суллы он по поручению сената действовал против Лепида на севере Италии в 77 г. Он восстановил коммуникации между Италией и Испанией, нарушенные восставшими галльскими племенами. В звании проконсула он в 77—71 гг. успешно действовал против Сертория и Перпенны. Возвратившись из Испании, он уничтожил часть войск Спартака. В 67 г. он уничтожил пиратов.
(обратно)505
Ни победы Марка Антония (102—100 гг.), ни победы Публия Сервилия (78—74 гг.) не привели к уничтожению морского разбоя. Действия Марка Антония «Критского» закончились его поражением в 71 г. С тех пор пираты господствовали на Средиземном море вплоть до 67 г.
(обратно)506
Метонимия: двое преторов, каждого из которых в провинции сопровождало шестеро ликторов. См. прим. 126 к речи 4.
(обратно)507
Пираты похитили дочь Марка Антония. См. Плутарх, «Помпей», 24.
(обратно)508
Имя консула неизвестно. См. Дион Кассий, XXXVI, 5.
(обратно)509
«Вход в Океан» — Гадитанский (Гибралтарский) пролив.
(обратно)510
Помпей сначала освободил от пиратов западную часть Средиземного моря, затем перенес свои действия на Восток и завершил их в Киликии, опорном пункте пиратов. Он провел в Киликии зиму 67/66 гг.
(обратно)511
Обычно зимой мореплавание по Средиземному морю прекращалось.
(обратно)512
После неудач Марка Антония «Критского» в 74—71 гг. действия против критян, помогавших пиратам, были в 68 г. поручены Квинту Цецилию Метеллу. В силу Габиниева закона 67 г. Метелл должен был быть подчинен Помпею, но не сложил своего командования. Помпей потребовал, чтобы послы критян явились к нему, и послал на Крит легата принять командование от Метелла.
(обратно)513
В этом Цицерон впоследствии обвинял консула 58 г. Луция Кальпурния Писона, бывшего проконсула Македонии.
(обратно)514
Ср. Цицерон, письмо Q. fr., I, 1, 7 (XXX).
(обратно)515
Помпей задержался только в Афинах; принеся жертву богам и выступив с речью перед народом, он продолжал свой путь. См. Плутарх, «Помпей», 27.
(обратно)516
Ср. Цицерон, «Брут», § 239.
(обратно)517
Об imperium militiae см. прим. 90 к речи 1.
(обратно)518
Имеются в виду храм Весты и храм Диоскуров, находившиеся у подошвы Палатинского холма, и храм Согласия, находившийся у подошвы Капитолийского холма.
(обратно)519
Имеется в виду поражение, нанесенное Митридатом Триарию, легату Луция Лукулла. См. выше, § 25; Плутарх, «Лукулл», 24.
(обратно)520
В действительности Митридат, освободив свое царство от римлян, был занят приготовлениями к войне, и Вифиния страдала только от набегов конницы. Тигран, проникший в Каппадокию, отступил в Армению, узнав, что его сын объявил себя царем.
(обратно)521
В это время Квинт Метелл еще находился на Крите с тремя легионами. См. выше, § 35.
(обратно)522
Так как проконсулом Дальней Испании в то время был Квинт Цецилий Метелл Пий, действовавший против Сертория. См. выше, § 9.
(обратно)523
Об удачливости как благоволении богов см. прим. 29 к речи 1.
(обратно)524
Квинт Фабий Максим Кунктатор спас Рим от Ганнибала во время второй пунической войны. Марк Марцелл взял Сиракузы в 212 г. Оба они были консулами по пяти раз. Сципион Эмилиан взял Карфаген в 146 г. и Нуманцию в 133 г. Гай Марий победил Югурту в 106 г., кимвров и тевтонов в 102 г. и 101 г.
(обратно)525
Получив верховное командование в силу Манилиева закона, Помпей должен был принять войска от Луция Лукулла, сохранявшего за собой провинцию Азию, от Мания Ацилия Глабриона, действовавшего в Вифинии, и от Квинта Марция Рекса, проконсула Киликии.
(обратно)526
Квинт Лутаций Катул, консул 78 г., и Квинт Гортенсий, консул 69 г., в 67 г. возражали против издания Габиниева закона. В 66 г. они были противниками Манилиева закона.
(обратно)527
См. выше, § 32 (но о квесторах там не говорится).
(обратно)528
Флот сирийского царя Антиоха III был уничтожен римлянами в 191 г. у берегов Ионии. Флот последнего македонского царя Персея сдался в 168 г. Гнею Октавию.
(обратно)529
Делос, находившийся на полупути из Европы в Азию, имел большое торговое значение; оно еще более возросло после разрушения Коринфа в 146 г. Вопреки утверждению Цицерона, Делос был в 88 г. разорен Митридатом, в 69 г. — пиратом Афинодором.
(обратно)530
От Таррацины (Лаций) и до Синуессы (Кампания) Аппиева дорога проходит по берегу Тирренского («Нижнего») моря.
(обратно)531
О рострах см. прим. 32 к речи 2.
(обратно)532
Право назначать легатов принадлежало сенату. Габиниев закон предоставил Помпею право выбирать для себя легатов, но Лициниев и Эбуциев законы не допускали, чтобы автор предложения о предоставлении полномочий сам получил назначение в силу своего предложения.
(обратно)533
Как претор Цицерон имел право докладывать сенату. По его предложению мог совершить интерцессию его коллега или же консул. Интерцессией называлось осуществляемое личным вмешательством наложение магистратом запрета на распоряжение или предложение его коллеги или нижестоящего магистрата. В частности, право народных трибунов налагать запрет на указы магистратов, законопроекты и постановления сената; последние в этом случае записывались как senatus auctoritas («суждение сената»); право трибунов запрещать созыв комиций для выбора ординарных магистратов (за исключением плебейских магистратов). Ср. письмо Fam., VIII, 8, 4 сл. (CCXXII).
(обратно)534
В 80 г. Помпею было 25 лет; для квестуры требовался возраст не меньше 27 лет (см. прим. 63).
(обратно)535
По окончании военных действий против марианцев Сулла приказал Помпею распустить свое войско и не хотел согласиться на триумф Помпея.
(обратно)536
Триумф предоставлялся только магистратам с империем (претор, консул, диктатор). См. прим. 45 к речи 4. Ср. речь 13, § 15.
(обратно)537
В 77 г. консулами были Децим Юний Брут и Мамерк Эмилий Лепид. Имеется в виду война с Серторием. Помпей был облечен проконсульским империем.
(обратно)538
Луций Марий Филипп, консул 91 г., сторонник Суллы. См. Цицерон, «Брут», § 173; «Об ораторе», III, § 4. Далее игра слов: pro consule — проконсул и «вместо консула».
(обратно)539
По Виллиеву закону 180 г. (lex Villia annalis) — магистратуры предоставлялись только после военной службы с промежутком в три года между каждой из них: квестура не ранее 27 лет, эдилитет — 30, претура — 33, консульство — 36. По Корнелиеву закону 81 г. (lex Cornelia de magistratibus), квестура предоставлялась не ранее 29, претура (после обязательного 10-летнего промежутка) — 39 лет, консульство — по достижении 42 лет, второе консульство — только через 10 лет после первого. Избрание на должность в указанном возрасте называлось избранием «в свой год» (suo anno). Бывший консул назывался консуляром (vir consularis), бывший претор — преторием, бывший эдил — эдилицием, бывший трибун — трибуницием, бывший квестор — квесторием.
(обратно)540
В действительности, со времени диктатуры Суллы и по 70 г. народное собрание не имело значения при решении государственных дел, которыми ведал сенат. Здесь уловка оратора.
(обратно)541
Ср. Цицерон, письмо Q. fr., I, 1, 19 (XXX).
(обратно)542
При разъездах магистрата по провинции все расходы несло ее население. Ср. письма Q. fr., I, 1, 9 (XXX); Att., V, 16, 2 (CCVIII).
(обратно)543
Ср. письма Att., V, 16, 2 (CCVIII); Fam., XV, 4, 2 (CCXXXVIII).
(обратно)544
Имеется в виду, главным образом, деятельность Марка Антония «Критского».
(обратно)545
Гай Скрибоний Курион, консул 76 г., проконсул Македонии в 75—73 гг., справил триумф после победы над фракийцами.
(обратно)546
Гней Корнелий Лентул Клодиан был консулом в 72 г., цензором в 70 г., легатом Помпея во время войны с пиратами; был разбит Спартаком в 72 г.
(обратно)547
Гай Кассий Лонгин Вар, консул 73 г., был разбит Спартаком в 72 г.
(обратно)548
Ростры были освящены. Освящение города, храма, магистрата по его избрании совершалось с участием авгура и называлось инавгурацией. Авгур при этом совершал авспиции, разделив своим посохом небо на четыре участка. Освященное место называлось locus inauguratus и templum. См. речь 18, § 75. См. прим. 11 к речи 8.
(обратно)549
О Юниевом суде упоминается также и в § 119 и 138; намек на него см. в речи 2, § 39.
(обратно)550
Впоследствии, впрочем, рассказывали, что Цицерон позднее говорил, что он «затемнил вопрос при слушании дела Клуенция». См. Квинтилиан, II, 17, 21.
(обратно)551
Об этих событиях говорится в § 79, 95, 103, 110 сл., 127, 137 сл.
(обратно)552
Римский форум лежал в низине между холмами; отсюда выражение «спуститься для обвинения» (descendere ad accusandum).
(обратно)553
Гай Оппианик младший.
(обратно)554
Обвинение в суде было средством обратить на себя внимание и сделать политическую карьеру. Кроме того, были профессиональные обвинители. См. прим. 67 к речи 1.
(обратно)555
О муниципии см. прим 19 к речи 1.
(обратно)556
Луций Корнелий Сулла и Квинт Помпей Руф были консулами в 88 г.
(обратно)557
Lectus genialis — парадное ложе, стоявшее в атрии римского дома.
(обратно)558
Авспиции — вопрошение воли богов. В I в. auspices nuptiarum уже утратили свое значение при свадебных церемониях. Об авспициях см. прим. 11 к речи 8.
(обратно)559
Женщина, находившаяся под властью (in manu) отца, мужа или брата, могла совершить юридический акт только с их согласия.
(обратно)560
Ср. Цицерон, «О границах добра и зла», IV, § 55; «Об ораторе», III, § 195; Гораций, Сатиры, I, 3, 66.
(обратно)561
О трауре см. прим. 53 к речи 3.
(обратно)562
Об Италийской войне см. прим. 12 к речи 4.
(обратно)563
Острог для рабов; устраивался в усадьбах, реже при городских домах. Рабы носили оковы и выполняли тяжелые работы. После Италийской войны жители Ларина получили права римского гражданства; поэтому Сергий должен был отпустить Марка Аврия; задержав его в эргастуле, он совершил преступление plagium. См. прим. 6 к речи 8.
(обратно)564
Ager Gallicus — территория на берегу Адриатического моря, между Аримином и Анконой, некогда населенная сенонскими галлами.
(обратно)565
Легат — денежная сумма, отказанная по завещанию.
(обратно)566
Квинт Цецилий Метелл Пий, сын Метелла Нумидийского, в 83 г. возвратился из Африки, где он, во времена господства Цинны, был в изгнании, и в Брундисии присоединился к Сулле, возвращавшемуся с Востока.
(обратно)567
Во главе муниципия стояли дуумвиры или кваттуорвиры; из последних двое ведали правосудием, двое были эдилами
(обратно)568
Имеются в виду молодой Оппианик, сын Магии, и еще два сына, о которых речь будет ниже.
(обратно)569
Римская миля составляла около 1,48 километров.
(обратно)570
Об ораторском искусстве Каннуция см. также и ниже, в § 50, «Брут», § 205.
(обратно)571
Речь идет о поездке Цицерона в Грецию и Азию, совершенной им в 79 г. См. «Брут», § 314.
(обратно)572
Вторые наследники назначались на случай смерти первых или утраты ими гражданских прав. Легат (прим. 17) должен был заплатить наследник. Вторым наследником был молодой Оппианик. Завещатель хотел заинтересовать Оппианика-отца в том, чтобы его, завещателя, сын, рождение которого ожидалось, был жив.
(обратно)573
Десять лунных месяцев — продолжительность беременности. Ср. Апулей, «Апология», § 15. Траур по мужу продолжался столько же; см. Овидий, «Фасты», I, 35 сл. Обозначение срока беременности по лунным месяцам сохранилось и после реформы календаря (46 г.). См. Вергилий, «Эклоги», IV, 61:
Десять месяцев ей принесли страданий не мало(Перевод С. В. Шервинского)
Счет по лунным месяцам сохранился и в сакральном языке.
(обратно)574
При составлении завещания должны были присутствовать семеро римских граждан, скреплявшие завещание своими печатями.
(обратно)575
По-видимому, карьеры для добывания вулканического песка.
(обратно)576
Tresviri capitales (tresviri nocturni). Их обязанностью было собирать сведения о преступлениях, совершенных в Риме; они исполняли и смертные приговоры.
(обратно)577
Мениева колонна, находившаяся в северной части форума, около тюрьмы, где находился трибунал «ночных триумвиров». Ср. речь 18, § 124.
(обратно)578
Как муж Магии. См. § 21 сл.
(обратно)579
Ввиду этого он подлежал судебной ответственности на основании Корнелиева закона о подлогах (lex Cornelia de falsis). Завещание было написано на деревянных дощечках, покрытых слоем воска.
(обратно)580
О декурионах см. прим. 19 к речи 1.
(обратно)581
О рабах Венеры см. прим. 42 к речи 3.
(обратно)582
Ср. речь 13, § 83.
(обратно)583
Неизвестное нам лицо.
(обратно)584
В это время Цицерону было 32 года.
(обратно)585
См. прим. 79 к речи 1.
(обратно)586
Рассказ Цицерона позволяет думать, что он не произнес непрерывающейся речи (oratio perpetua) и что это была так называемая альтеркация: ряд коротких замечаний, прерываемых возражениями и вопросами противника. Ср. речи 1, § 94; 14, § 39.
(обратно)587
См. прим. 1 к речи 1.
(обратно)588
В 137 г. Кассиев закон ввел тайное голосование в уголовном суде. В 80 г. Сулла установил свободный выбор способа голосования; этот Корнелиев закон был отменен незадолго до процесса Клуенция.
(обратно)589
Второе слушание дела назначалось в случае, когда большинство судей вынесло решение «неясно». См. прим. 11 к речи 2.
(обратно)590
О предстателях см. прим. 2 к речи 3.
(обратно)591
О Цепасиях см. Цицерон, «Брут», § 242.
(обратно)592
О преварикации см. прим. 56 к речи 3.
(обратно)593
Т. е. приговорами (praeiudicia, см. выше, § 9) Гаю Фабрицию и его вольноотпущеннику Скамандру.
(обратно)594
См. ниже, § 79, 93; ср. речь 2, § 2.
(обратно)595
Тит Аттий (Акций), обвинитель Клуенция.
(обратно)596
Это место свидетельствует о том, что записи прений и свидетельских показаний в уголовных судах хранились в архиве. См. § 99.
(обратно)597
Цицерон умалчивает о третьей возможности — подкуп суда и Оппиаником, и Клуенцием. Ср. Квинтилиан, V, 10, 68.
(обратно)598
Ср. ниже, § 78.
(обратно)599
Об этом деле см. ниже, § 99.
(обратно)600
О поведении Стайена см. Цицерон, «Брут», § 241.
(обратно)601
Непереводимая игра слов: 1) bulbus — лук; еды не начинали с лука; поэтому Цицерон и говорит: «вопреки рассудку и навыворот»; 2) condĭtor (от condere) — основатель, зачинщик; condītor (от condire) — приправляющий, сдабривающий; вторая игра слов повторена в § 72: «припрятанные деньги» и «сдобривший».
(обратно)602
См. прим. 18 к речи 2.
(обратно)603
Ср. Цицерон, «Брут», § 421. В роду Элиев были ветви с прозваниями: Ламия, Пет, Лигур. Игра слов: лигурийцы слыли лживыми и хитрыми людьми. Ср. речь 18, § 69, Вергилий, «Энеида», VI, 701, 715.
(обратно)604
Обычная формула при окончании речи. Ср. речь 2, конец. Каннуций не использовал своего права отвечать.
(обратно)605
Ср. письмо Fam., VIII, 8, 3 (CCXXII); Плутарх, «Марий», 5.
(обратно)606
Это право народного трибуна называлось prohibitio — недопущение.
(обратно)607
Марсово поле, где происходили выборы магистратов.
(обратно)608
Ср. речь 2, § 1.
(обратно)609
Это мог быть усыновитель будущего трибуна 57 г. Милона, происходившего из рода Папиев (после усыновления Тит Анний Папиан Милон). См. речь 22.
(обратно)610
См. выше, § 65, 70; Topica, § 75.
(обратно)611
Эдилиций — бывший эдил. Эдилициям часто поручалось председательствование в постоянном суде (iudex quaestionis, quaesitor).
(обратно)612
Гай Юний отказался от государственной деятельности; он не утратил гражданских прав, так как не был осужден за уголовное преступление.
(обратно)613
Публий Корнелий Цетег вначале был марианцем и бежал после победы Суллы; впоследствии перешел на его сторону.
(обратно)614
Extra ordinem. Экстраординарными назывались деньги, полученные необычным путем — по завещанию или как дар, и деньги, не внесенные в приходо-расходную книгу.
(обратно)615
Возможно, что и Стайен, и Цетег в то время добивались эдилитета.
(обратно)616
Calumnia. См. прим. 48 к речи 1.
(обратно)617
См. прим. 44.
(обратно)618
При толковании Стайена непонятно, почему Оппианик дал ему 640.000 сестерциев, а не 600.000.
(обратно)619
Обвиняемый имел право на отсрочку в 10 дней для подготовки к суду.
(обратно)620
Полномочия народных трибунов истекали 10 декабря.
(обратно)621
Председатель суда должен был дать клятву, что будет применять закон, соответствующий данному постоянному суду.
(обратно)622
В речи против Верреса (II сессия, книга I, О городской претуре, § 157 сл.) Цицерон излагает дело по-иному.
(обратно)623
Имеются в виду ступени Аврелиева трибунала, построенного, скорее всего, консулом 74 г. Марком Аврелием Коттой («тогда новые»). Ср. речи 17, § 54; 18, § 34.
(обратно)624
Гай Орхивий, претор 66 г., ведал постоянным судом по делам о казнокрадстве (quaestio perpetua de peculatu).
(обратно)625
Луций Корнелий Сулла Фавст, сын диктатора, унаследовал огромное состояние отца.
(обратно)626
Публий Попилий Ленат, консул 132 г., один из виновников смерти Тиберия Гракха, удалился в изгнание, когда Гай Гракх провел закон о провокации. Ср. речи 16, § 37 сл.; 17, § 32, 87.
(обратно)627
Квинт Цецилий Метелл Нумидийский удалился в изгнание в 100 г., когда трибун Луций Аппулей Сатурнин провел земельный закон. Ср. речи 16, § 25, 37 сл.; 17, § 82, 87; 18, § 37; 19, § 59; письмо Fam., I, 9, 16 (CLIX).
(обратно)628
См. прим. 40 к речи 2.
(обратно)629
Гай Косконий был в 78—76 гг. проконсулом Иллирика и завоевал значительную часть Далмации.
(обратно)630
См. прим. 18 к речи 2.
(обратно)631
В случае осуждения обвиненного его обвинитель имел право на награду (praemium ex lege): осужденные за подкуп избирателей, уличив в этом другое лицо, подлежали восстановлению в правах; член городской трибы переходил в ту из сельских триб, к которой принадлежал осужденный; вольноотпущенники переходили в сословие свободнорожденных; денежная награда за счет осужденного.
(обратно)632
Мамерк Эмилий Лепид Ливиан был консулом в 77 г.
(обратно)633
О Публии Коминии см. Цицерон, «Брут», § 271.
(обратно)634
Храм нимфы Ютурны находился на Марсовом поле. О каких царях здесь говорится, неизвестно.
(обратно)635
Subsortitio — жеребьевка для пополнения списка судей, взамен выбывших. Это вызвало подозрение в том, что Фалькула был умышленно выбран Верресом и Юнием, а не назначен путем жеребьевки.
(обратно)636
Упоминаемые здесь судьи нам неизвестны. См. выше, § 76.
(обратно)637
В 81 г. Сулла лишил трибунов права законодательной инициативы.
(обратно)638
Трибун не имел права носить тогу-претексту. Возможно, что Квинкций рассчитывал на избрание в курульные эдилы или в преторы и заранее облекся в нее.
(обратно)639
См. прим. 83 к речи 3.
(обратно)640
Ср. речь 2, § 39.
(обратно)641
См. прим. 38 к речи 2.
(обратно)642
Пометка (nota), которую цензоры делали в списке граждан, сопровождалась указанием проступка данного лица («осуждение», subscriptio). Цензоры осуществляли надзор за нравами (cura morum): 1) lectio senatus — составление списка сенаторов с правом вычеркивать лиц недостойного поведения; 2) составление списка римских всадников; 3) составление списков граждан по трибам и центуриям; цензоры могли переводить граждан из сельских триб в городские (tribu movere), что было равносильно лишению права голоса, так как в городских трибах было много членов, а в сельских — мало, а также зачислять граждан в эрарные трибуны (aerarium relinquere); последние составляли сословие, следующее по цензу после римских всадников (ценз — 300.000 сестерциев); вначале это были магистраты, собиравшие военную контрибуцию и выдававшие жалование войску.
(обратно)643
Луций Геллий и Гней Корнелий Лентул Клодиан были первыми цензорами, избранными на 70 г. после восстановления прав цензоров в связи с отменой сулланской конституции.
(обратно)644
Iudices selecti — судьи, отбираемые претором (после Аврелиевой судебной реформы 70 г.) из числа сенаторов, римских всадников и эрарных трибунов. Их имена ежегодно вносились в список судей (album iudicum).
(обратно)645
Игра слов: subscriptio — «осуждение» и proscriptio. Стиль (греч.) — заостренная палочка для писания на навощенной дощечке; намек на проскрипции 82—81 гг. Ср. речь 13, § 30.
(обратно)646
Писцы были организованы в сословие, состоявшее при соответствующей коллегии магистратов.
(обратно)647
Этот Маний Аквилий нам не известен. О Гутте см. выше, § 98.
(обратно)648
Имеется в виду децимация (казнь каждого десятого), применявшаяся в войсках во время войны.
(обратно)649
См. прим. 11 к речи 2.
(обратно)650
См. речь 4, § 177 и прим. 160.
(обратно)651
Лентул Клодиан не присоединился к мнению коллеги, но исключил Попилия из сената по другим соображениям.
(обратно)652
Цензура Сципиона Эмилиана (142 г.). Смотр конницы происходил на форуме. Выражение «traduc equum» (веди коня дальше) означало, что всадник остается на службе; в противном случае ему говорили «vende equum» (продай коня).
(обратно)653
Сенат имел право потребовать рассмотрения дела судом вне очереди. См. речь 22.
(обратно)654
В 74 г. консулами были Луций Лициний Лукулл и Марк Аврелий Котта, в 73 г. — Марк Теренций Варрон Лукулл и Гай Кассий Вар. См. прим. 12 к речи 2.
(обратно)655
Закон, о котором говорится выше, — о привлечении римского всадника Клуенция к суду на основании Корнелиева закона — не был предложен. Корнелиев закон, каравший за подкуп при вынесении приговора, применялся только к сенаторам. Для привлечения римского всадника требовалось особое постановление сената (формула его приведена в § 136).
(обратно)656
По-видимому, имеется в виду речь Цицерона против Верреса.
(обратно)657
Марк Антоний (143—87), оратор, претор 102 г., консул 97 г., оптимат. В 102 г. боролся с пиратами и организовал провинцию Киликию. Убит марианцами. См. Цицерон, «Брут», § 139.
(обратно)658
Луций Лициний Красс (140—91), оратор, консул 95 г., цензор 92 г. В 91 г. поддерживал реформы Марка Друса младшего (прим. 123) и, как и Марк Антоний, выведен Цицероном как участник диалога «Об ораторе».
(обратно)659
Марк Брут, сын известного юриста, не занимая магистратур, был профессиональным обвинителем. См. «Об ораторе», II, § 222 сл.; «Брут», § 130; «Об обязанностях», II, § 50.
(обратно)660
Колония Нарбон Марсов (Narbo Martius) была основана в Трансальпийской Галлии в 118 г. консулом Квинтом Марцием Рексом. Рогацией называлось внесение законопроекта в комиции, а также и самый законопроект.
(обратно)661
В 106 г. Квинт Сервилий Цепион предложил — в отмену Семпрониева закона, проведенного Гаем Гракхом в 123 г., — возвратить судебную власть сенаторскому сословию.
(обратно)662
Этого не допускал обычай. См. Цицерон, «Об обязанностях», I, § 129.
(обратно)663
Речь идет о банях, построенных Брутом-отцом с коммерческой целью.
(обратно)664
См. вводное примечание. Выдержки из текста Корнелиева закона см. в § 148, 157.
(обратно)665
«Наше сословие» — сенаторское.
(обратно)666
Ср. Цицерон, «Об обязанностях», I, § 89; II, § 41 сл.
(обратно)667
Квинт Воконий Насон был председателем суда; см. § 148.
(обратно)668
В 66 г. Цицерон как претор был председателем суда по делам о вымогательстве (quaestio repetundarum).
(обратно)669
Ср. выше, § 104.
(обратно)670
О военных трибунах см. прим. 26 к речи 2.
(обратно)671
Жертвами сулланских проскрипций пало около 1600 римских всадников.
(обратно)672
О Марке Ливии Друсе см. прим. 55 к речи 17.
(обратно)673
Об этом и о событиях, о которых говорится ниже, сведений нет.
(обратно)674
Имеется в виду конфискация имений во время проскрипций 82—81 гг. Ср. речь 1, § 80.
(обратно)675
Игра слов: трактирщик мог покинуть Латинскую дорогу и приехать в Рим или же отойти от нее в поисках посетителей.
(обратно)676
О Карах см. прим. 54 к речи 1. Ср. речь 26, § 32.
(обратно)677
Подобно тому, как Клуенций преследовал Скамандра и Гая Фабриция. См. выше, § 49 сл.
(обратно)678
См. выше, § 47.
(обратно)679
О допросе рабов в присутствии свидетелей см. речь 1, § 77.
(обратно)680
Квинт Гортенсий и Квинт Цецилий Метелл Критский были консулами в 69 г.
(обратно)681
Речь идет о записях допроса раба Стратона. См. § 182.
(обратно)682
Стаций Аббий, упомянутый в § 175, 182.
(обратно)683
В действительности это третий брак Сассии. Цицерон не считает ее брака с Клуенцием-отцом.
(обратно)684
См. выше, § 47 сл.
(обратно)685
«Верхнее море» — Адриатическое. Сассия должна была проехать через Бовиан и Эсернию, затем направиться в Рим по Латинской дороге, на которой лежали Аквин и Фабратерна.
(обратно)686
Оскверненный предмет или местность подлежали очищению (lustratio) — особому молению, которым к ним снова привлекалась милость богов. При этом применялись очистительные средства (окуривание серой); вокруг предмета (или участка земли) возили жертвенное животное. См. Катон Старший, «Земледелие», гл. 141; Проперций, Элегии, V, 8, 86.
(обратно)687
Женщинам были запрещены ночные жертвоприношения. Цицерон обвиняет Сассию в defixio — магических действиях с целью навлечь на Клуенция гнев богов. См. Цицерон. «О законах», II, § 21; Овидий, «Любовные элегии», III, 7, 27; Гораций, Эподы, V.
(обратно)688
Об этих лицах сведений нет. О Публии Волумнии Евтрапеле см. письма Цицерона Att., XV, 8, 1 (DCCXLIII); Fam., VII, 32 (CCXXIX); 33 (CCCCLXXI); IX, 26, 1 sq. (D).
(обратно)689
В уголовном суде выступало несколько защитников. Цицерон обычно говорил последним. См. письмо Att., IV, 17, 4 (CXLVI).
(обратно)690
Об изображениях предков см. прим. 38 к речи 4.
(обратно)691
О «новых людях» см. прим. 83 к речи 3. Ср. речь 4, § 180 сл.
(обратно)692
Из числа «новых людей» в консулы были избраны Гай Марий в 107 г., Тит Дидий в 98 г., Гай Целий Кальд в 94 г.
(обратно)693
Ср. речь 13, § 17.
(обратно)694
См. прим. 63 к речи 5.
(обратно)695
Тайное голосование в комициях было введено Габиниевым законом в 138 г. Цицерону не пришлось ждать подсчета голосов всех центурий, так как уже до этого выяснилось, что за него проголосовало большинство центурий.
(обратно)696
Ораторская трибуна на форуме. См. прим. 32 к речи 2.
(обратно)697
Имеются в виду события 64 г., когда популяры с Цезарем и Крассом во главе пытались провести Катилину в консулы.
(обратно)698
Об империи см. прим. 90 к речи 1. Экстраординарным империем (imperium infinitum) были облечены: Марк Антоний в 74 г. для борьбы с критскими пиратами; Гней Помпей в 67 г., для борьбы с пиратами, в силу Габиниева закона, и в 66 г., для ведения войны против Митридата VI, в силу Манилиева закона.
(обратно)699
См. прим. 31 к речи 2.
(обратно)700
Давая деятельности Гракхов такую высокую оценку, Цицерон, по-видимому, принимал во внимание добрую память, какую народ хранил о них. Сам Цицерон, видимо, придерживался иного мнения. Так, например, в 44 г. он писал («Об обязанностях», II, § 43), что Гракхи, при своей жизни, не находили одобрения у честных людей и что после их смерти их относили к числу людей, убитых по справедливости. Ср. также и речь 22, § 8.
(обратно)701
Designatus. См. прим. 12 к речи 2.
(обратно)702
См. прим. 1 к речи 2.
(обратно)703
Curatio. Заведование какой-либо областью гражданской администрации, например, состоянием дорог (curatio viarum).
(обратно)704
Т. е. голосованием девяти триб. См. § 16 сл.
(обратно)705
Домициев закон (около 103 г.) был компромиссом между религиозным правом и народовластием. Такой способ выборов восходит к 255—252 гг., когда было лишь 33 трибы, и поэтому 17 триб составляли большинство. Этот закон был отменен при Сулле и восстановлен в 63 г. по предложению трибуна Тита Лабиена.
(обратно)706
По-видимому, намек на Цезаря и Красса.
(обратно)707
Наблюдатель (custos) следил за опусканием табличек (жребиев) в урну. «Призвать трибы к голосованию» — термин.
(обратно)708
Помпей в это время был в Антиохии. В течение всего 63 г. он был занят подавлением восстания в Иудее и организацией Сирии как римской провинции. Он возвратился в Рим в конце 62 г.
(обратно)709
Таковы квестура, эдилитет и др. При соискании магистратуры кандидат мог сделать заявление (professio) при посредстве родных или друзей. Он должен был быть в Риме только в день выборов.
(обратно)710
См. прим. 90 к речи 1. См. ниже, § 31.
(обратно)711
Магистратов избирали комиции, а народных трибунов — concilium plebis (римский плебс в целом); 17 триб не были народным собранием.
(обратно)712
Lex centuriata de censoria potestate; он издавался в древнейшую эпоху. Цензоры не обладали империем.
(обратно)713
Трибун не был вправе вносить куриатский закон, так как не обладал правом авспиций. Цицерон нарочно говорит «велит»: трибун не был вправе приказывать магистрату.
(обратно)714
Пулларии (цыплятники) ведали священными курами, жадный клёв которых считался хорошим предзнаменованием. См. письмо Fam., VI, 6, 7 (CCCCXCI).
(обратно)715
Имеется в виду земельный закон Тиберия Гракха (133 г.).
(обратно)716
См. прим. 145 к речи 4.
(обратно)717
Auxilium — древнейшая обязанность трибунов: оказание помощи плебеям (впоследствии и патрициям) путем интерцессии. Эта помощь оказывалась ими также и в суде гражданском и уголовном как до вынесения решения, так и после него. При этом требовалось единогласие всех трибунов. См. прим. 57 к речи 5.
(обратно)718
Марк Туллий Декула и Гней Корнелий Долабелла были консулами в 81 г.
(обратно)719
Власть трибунов, ограниченная Суллой в 82 г., была полностью восстановлена в 70 г., в консульство Помпея и Красса.
(обратно)720
Гора Гавр в Кампании славилась виноградниками.
(обратно)721
Заросли ивняка в Лации, в устье реки Лирис, где в 88 г. скрывался Марий. Какие доходы казна извлекала из этого ивняка, неизвестно.
(обратно)722
Либо дорога между Байями и Путеолами («Геркулесова дорога»), либо дорога в Геркулан.
(обратно)723
Промежуток в 18 лет между консульством Декулы и Долабеллы (81 г.) и консульством Цицерона (63 г.).
(обратно)724
В подлиннике военный термин gradus — исходная позиция.
(обратно)725
Луций Корнелий Сулла и Квинт Помпей Руф были консулами в 88 г.
(обратно)726
Вифинское царство было в 74 г. завещано Риму царем Никомедом III.
(обратно)727
Город на острове Лесбосе. После того как Сулла заключил мир с Митридатом, римлянам сдались все города Азии, за исключением Митилен. Митилены были взяты после осады и разрушены.
(обратно)728
Птолемей XII Александр II (Алекса) воцарился в 80 г., при поддержке Суллы; царствовал всего 19 дней и был свергнут и убит. В Риме распространился слух, что Алекса завещал свое царство Риму. См. Цицерон, письмо Fam., I, 1 (XCIV).
(обратно)729
См. прим. 57 к речи 5.
(обратно)730
Луций Марций Филипп, консул 91 г., оратор. См. речь 5, § 62.
(обратно)731
Птолемей XIII Авлет Ноф, побочный сын Птолемея Лафира (Сотера II), отец Клеопатры.
(обратно)732
Ежегодно избираемый суд в составе 105 членов; рассматривал тяжбы главным образом о наследствах.
(обратно)733
В 65 г., в консульство Луция Аврелия Котты и Луция Манлия Торквата. Возможно, имеется в виду намерение Марка Лициния Красса, тогда цензора, сделать Египет данником Рима; этому воспротивился цензор Квинт Лутаций Катул.
(обратно)734
Пассатные, так называемые «годичные ветры». См. письмо Fam., XII, 25, 3 (DCCCXXV); Лукреций, «О природе вещей», VI, 716; Цезарь, «Записки о гражданской войне», III, 107.
(обратно)735
Legatio libera — поездка, которую сенаторы совершали как официальные лица и на казенный счет, но по своим делам; расходы при этом несли муниципии. Как консул Цицерон боролся с этим обычаем; ср. «О законах», III, § 18. Цезарь ограничил свободные легатства своим законом о вымогательстве (lex Iulia de repetundis, 59 г.).
(обратно)736
На основании Габиниева (67 г.) и Манилиева (66 г.) законов.
(обратно)737
Т. е. в 66 г. Цицерон не считает ни года своей претуры, ни года своего консульства; далее он намекает на поддержку, оказанную им Манилиеву законопроекту, см. речь 5.
(обратно)738
Атталия и Олимп находились в Памфилии, Фаселида — в Ликии, Ороанда — в Писидии. О Публии Сервилии см. прим. 23 к речи 3.
(обратно)739
Херсонес Фракийский, относившийся к Пергамскому царству. Последний пергамский царь, Аттал III, в 133 г. завещал свое царство Риму.
(обратно)740
Киренаика (Северная Африка) была завещана Риму в 96 г. царем Птолемеем Апионом; римская провинция с 75 г.
(обратно)741
Назначенная сенатом комиссия (decemviri ex lege Livia facti), которая должна была вместе с полководцем решить судьбу побежденной страны. Речь идет о Сципионе Эмилиане.
(обратно)742
Эта земля не должна была обрабатываться, так как считалась посвященной богине Юноне.
(обратно)743
Митридат после полного поражения, которое ему в 62 г. нанес Помпей, удалился в Херсонес Таврический, где покончил с собой. Меотида — Азовское море.
(обратно)744
«Великий» (Magnus) — прозвание Помпея, перешедшее к его сыновьям.
(обратно)745
Копье, как символ квиритской собственности, водружалось при аукционе, при продаже имущества в пользу казны. Отсюда выражение «vendere sub hasta» — продать под копьем, т. е. с аукциона.
(обратно)746
Первое — ораторская трибуна на форуме, ростры; второе, возможно, — басилика.
(обратно)747
Речь идет о продаже имущества проскриптов. Ср. Цицерон, речь против Верреса, II сессия, «книга» III (О хлебном деле), § 81.
(обратно)748
Земли, принадлежащие римской казне (ager publicus).
(обратно)749
Цицерон имеет в виду свою квестуру в Сицилии в 75 г. и дело Верреса. См. речи 2—4.
(обратно)750
О богах-пенатах см. прим. 31 к речи 1.
(обратно)751
Нумидийский царь, в 81 г. восстановленный Помпеем на престоле. Гай Аврелий Котта был консулом в 75 г.
(обратно)752
Царь Юба, сын Гиемпсала, сторонник Помпея, в 46 г. был разбит Цезарем под Тапсом, после чего Нумидия была сделана римской провинцией; iuba — по-латински грива, на чем и основан каламбур.
(обратно)753
Речь идет о золоте для венка, которое наместники требовали от населения провинций, рассчитывая на триумф. Они также заставляли население провинций сооружать в их честь памятники. См. письмо Q. fr., I, 1, 26 (XXX).
(обратно)754
Гай Фабриций Лусцин, консул 282 и 278 гг., воевал против Пирра; Авл Аттилий Калатин участвовал в первой пунической войне; консул 258 г., затем диктатор. Луций Манлий Ацидин, консул 179 г., участвовал во второй пунической войне. Марк Порций Катон Старший, консул 195 г., был врагом Карфагена. Луций Фурий Фил, консул 136 г., и Гай Лелий Мудрый, консул 140 г., — друзья Сципиона Эмилиана.
(обратно)755
Эти земли были расположены к югу от Рима.
(обратно)756
Фламиниевы ворота, через которые из Рима выезжали на север. По Аппиевой дороге (через «третьи ворота») выезжали на юг, в Капую.
(обратно)757
Массик (Фалернская гора) — гора в Кампании, славилась винами.
(обратно)758
В марте 60 г., говоря о Флавиевом земельном законе, Цицерон повторит это выражение. Ср. речи 9, § 12; 10, § 7; письмо Att., I, 19, 4 (XXV); Саллюстий, «Катилина», 37, 5.
(обратно)759
Сипонт — город в Апулии, у моря; Сальпин — город в Этрурии.
(обратно)760
Имеется в виду один из законов Суллы.
(обратно)761
Эти земли были розданы Суллой после казни их владельцев, жителей Пренесты, предоставивших убежище Гаю Марию младшему. Несмотря на юридическую неотчуждаемость земли, новые владельцы передали ее крупным землевладельцам. Ср. речь 9, § 8.
(обратно)762
Кумы и Путеолы были излюбленными местами отдыха римской знати.
(обратно)763
Трибы перечислялись в определенном порядке; сначала четыре городских: Субурская, Палатинская, Эсквилинская, Коллинская; затем 31 сельская: на первом месте была Ромилийская, на последнем Арнская (35-я по счету).
(обратно)764
Италийская (Союзническая, Марсийская) война 91—88 гг.
(обратно)765
Публий Корнелий Лентул, консул 162 г., умерший в 121 г. от раны, полученной им при подавлении движения Гая Гракха. Princeps senatus («первоприсутствующий в сенате») — сенатор, имя которого стояло первым в цензорском списке сенаторов.
(обратно)766
Митридат VI захватывал провинцию Азию в 88 и 73 гг.
(обратно)767
Восстание Квинта Сертория продолжалось с 80 г. до 72 г.
(обратно)768
Основа земельной политики Гракхов: стремление заменить рабов, занятых на государственных землях, бывших в руках у крупных землевладельцев, римскими гражданами.
(обратно)769
Т. е. владеет (possidet) арендуемой им землей.
(обратно)770
Ср. Цицерон, письмо Fam., IV, 5, 4 (DLX).
(обратно)771
За измену Риму во время второй пунической войны Капуя была лишена независимости и превращена в префектуру. Ее земли стали государственными. В 59 г. на основании второго земельного закона Цезаря в Капуе была основана колония ветеранов (20.000 человек) и созданы местные органы власти. См. прим. 68 к речи 4 и прим. 7 к речи 11.
(обратно)772
Марк Юний Брут, отец будущего убийцы Цезаря, во время гражданской войны был на стороне Мария младшего. В 83 г. (год его трибуната?) провел закон о выводе колонии в Капую; был казнен Помпеем в 77 г. в Цисальпийской Галлии.
(обратно)773
Хронологическая ошибка: в 211 г. (год взятия Капуи) консулами были Гней Фульвий Центумал и Публий Сульпиций Гальба. Лица, названные Цицероном, были консулами в 209 г.
(обратно)774
Город на реке Лирис. В 125 г. он восстал против Рима, но был взят и разрушен консулом Луцием Опимием.
(обратно)775
О разных видах жертвы см. Цицерон, «О законах», II, § 29.
(обратно)776
Члены совета колонии имели право только на звание декурионов. «Сенат» муниципия и колонии состоял из ста декурионов. Ср. речь 1, § 25.
(обратно)777
Стих неизвестного поэта. Перевод Ф. Ф. Зелинского.
(обратно)778
После взятия Капуи братья Блосии устроили заговор против Рима. Вибеллий Таврея, друг Ганнибала, покончил с собой в присутствии консула Флакка. См. Ливий, XXVII, 3.
(обратно)779
Т. е. не носившие тоги, простой народ.
(обратно)780
Сепласия — улица или площадь в Капуе, где продавались благовония. Ср. речь 18, § 19.
(обратно)781
Хитрость и вероломство пунийцев (карфагенян) вошли в поговорку («пунийская верность», Punica fides). Ср. Цицерон, «Об обязанностях», I, § 38; Саллюстий, «Югурта», 108, 3.
(обратно)782
Эти небольшие города в I в., в связи с увеличившимся значением Рима, пришли в упадок. Ср. речь 22, § 23.
(обратно)783
Высшие магистраты имели право принимать меры принуждения (coërcitio) к гражданам, неповинующимся закону или их распоряжениям: арест, штраф, высылка. Говоря так о народном трибуне, Цицерон допускает преувеличение.
(обратно)784
На Марсовом поле. Цицерон противопоставляет себя, достигшего консульства своими личными заслугами, нобилитету. Ср. речь 4, § 180.
(обратно)785
Трибун мог арестовать любое должностное лицо, за исключением диктатора. В 60 г. трибун Луций Флавий арестовал консула Квинта Цецилия Метелла Целера, противника его земельного закона.
(обратно)786
По Семпрониеву закону, провинции, которыми новоизбранные консулы должны были впоследствии, по окончании своего консульства, управлять, назначались им по жребию сенатом после их избрания. Цицерону досталась Македония, Гаю Антонию — Цисальпийская Галлия. Цицерон поменялся провинциями с Антонием, уступив ему богатую Македонию. Этим он Антония, которого подозревали в сочувствии движению Катилины, удалял из Италии. Впоследствии Цицерон отказался от проконсульства в Цисальпийской Галлии.
(обратно)787
В подлиннике caput, т. е. жизнь и сумма гражданских прав; также и ниже Цицерон говорит, что Рабирию грозит смертная казнь. Изгнание, о котором он упоминает в § 16 и 37, было не карой по закону, а средством, позволявшим обвиненному избегнуть суда. Ср. речь 9, § 13.
(обратно)788
Речь идет о senatus consultum ultimum, см. вводное примечание.
(обратно)789
Об империи см. прим. 90 к речи 1.
(обратно)790
Лабиен был вправе сделать это как народный трибун.
(обратно)791
В § 7—8 опровергаются дополнительные пункты обвинения, касающиеся прошлой жизни подсудимого. О них сведений нет.
(обратно)792
Захват чужих рабов (plagium) преследовался на основании lex Fabia de plagiariis. Ловили и свободных людей для обращения их в рабство. См. письмо Q. fr., I, 2, 6 (LIII).
(обратно)793
Порциевы законы (от 198, 195 и 184 гг.) о неприкосновенности личности римского гражданина объединяли в один закон (lex Porcia de tergo civium). Ср. речи 1, § 126; 4, § 163.
(обратно)794
Речь идет о предстателях. См. прим. 2 к речи 3.
(обратно)795
К наложению штрафа присуждали трибутские комиции, в которых председательствовал народный трибун.
(обратно)796
Казнь на кресте происходила на Марсовом поле.
(обратно)797
Официальные акты (созыв комиций, назначение диктатора, выступление войска в поход и пр.) требовали предварительных авгурий, или авспиций, т. е. вопрошения воли богов, о которой, по представлению римлян, можно было узнать по явлениям на небе, по полету и крику птиц, поеданию корма священными курами, необычному поведению людей и животных. В эпоху республики правом авспиций обладали магистраты с империем. Различались auspicia urbana, совершавшиеся внутри померия (сакральная городская черта Рима), и auspicia bellica, совершавшиеся в походе и перед боем; различались auspicia impetrativa и auspicia oblativa; первые получались путем нарочитого наблюдения, вторые обнаруживались случайно, например, случай падучей болезни во время комиций. Городские авспиции совершались на авгуракуле, особом месте в крепости. Авспиции совершались в присутствии жреца-авгура, истолковывавшего их. Уже одного заявления магистрата, что им начаты авспиции (нунциация), было достаточно для того, чтобы комиции были отложены. Сообщение о неблагоприятных знамениях называлось обнунциацией. Право нунциации и обнунциации, принадлежавшее магистратам и трибунам, по-видимому, было установлено Элиевым законом (середина II в.); им широко пользовались в политических целях.
(обратно)798
Об очистительных обрядах см. прим. 137 к речи 6.
(обратно)799
Имеется в виду закон о провокации, проведенный Гаем Гракхом в 123 г. (Семпрониев закон). См. прим. 145 к речи 4.
(обратно)800
Согласно традиции, последний римский царь Тарквиний Гордый был изгнан в 510 г. Приведенные Цицероном выражения относятся, по свидетельству Ливия (I, 26), к закону, изданному царем Туллом Гостилием. «Зловещее дерево» — то, на котором совершалась казнь; оно считалось посвященным подземным богам.
(обратно)801
Дядя обвинителя, Квинт Лабиен, убитый вместе с Сатурнином и Главцией в 100 г.
(обратно)802
Обязанности палачей исполнялись государственными рабами, которые были в распоряжении цензоров.
(обратно)803
Возможно, постановления сакрального характера более древние, чем законы Двенадцати таблиц. См. прим. 88 к речи 1.
(обратно)804
Намек на процедуру отпуска раба на свободу per vindictam, когда претор (assertor libertatis) прикасался к рабу своим жезлом (vindicta, festuca).
(обратно)805
Крюком влекли к Тибру тело преступника низкого происхождения.
(обратно)806
См. прим. 31 к речи 2.
(обратно)807
Приводится содержание senatus consultum ultimum, принятого в 100 г.
(обратно)808
Умбро-сабинское божество Семон Санк считалось покровителем верности. См. прим. 72 к речи 1.
(обратно)809
Вольноотпущенник Эквиций, выдававший себя за сына Тиберия Гракха, в 100 г. вместе с Сатурнином выставил свою кандидатуру в народные трибуны на 99 г. Об эргастуле см. прим. 15 к речи 6.
(обратно)810
В 123 г., в силу Семпрониева закона, судебная власть была передана римским всадникам. В 81 г., в силу Корнелиева закона, суды были переданы сенаторам.
(обратно)811
Марк Эмилий Скавр был первоприсутствующим в сенате (princeps senatus), т.е. первым в цензорском списке сенаторов, с 115 г.
(обратно)812
О комиции см. прим. 151 к речи 4.
(обратно)813
Квинт Муций Сцевола («авгур») был консулом в 117 г. Далее перечисляются консуляры: Луций Цецилий Метелл Далматинский, консул 119 г.; Сервий Сульпиций Гальба, консул 108 г.; Гай Атилий Серран, консул 106 г.; Публий Рутилий Руф, консул 105 г.; Гай Флавий Фимбрия, консул 104 г., «новый человек»; Квинт Лутаций Катул, консул 102 г., победитель кимвров.
(обратно)814
Цицерон перечисляет лиц, ставших консулами впоследствии: Гней Домиций Агенобарб был консулом в 96 г., его брат Луций — в 94 г.; Квинт Муций Сцевола («понтифик») и Луций Лициний Красс (оратор) — в 95 г.; Гай Клавдий Пульхр — в 92 г. Народный трибун Марк Ливий Друс (младший) был убит в 91 г. Далее говорится о консуле 91 г. Луции Марции Филиппе, о консуле 83 г. Луции Корнелии Сципионе Азиатском, о консулах 77 г. Мамерке Эмилии Лепиде Ливиане и Дециме Юнии Бруте, о консуле 79 г. Публии Сервилии, о консуле 78 г. Квинте Лутации Катуле и о консуле 76 г. Гае Скрибонии Курионе.
(обратно)815
Пиценская область находилась в южной Италии, между Аппенином и Адриатическим морем.
(обратно)816
О Гае Аппулее Дециане см. Валерий Максим, VIII, 1, 2.
(обратно)817
Секст Тиций был народным трибуном в 99 г.
(обратно)818
Об эрарных трибунах см. прим. 93 к речи 6.
(обратно)819
Parricidium. См. прим. 34 к речи 1.
(обратно)820
Так как вся полнота власти уже была вручена консулам, в силу senatus consultum ultimum, в этом постановлении сената не было надобности.
(обратно)821
Имеется в виду победа Мария над кимврами (101 г.).
(обратно)822
Цицерон, по-видимому, имеет в виду свои выступления, в сенате и на сходках, против земельного закона Рулла. См. речь 7.
(обратно)823
Ср. речи 10, § 11; 13, § 78; 18, § 51.
(обратно)824
Призыв к оружию, обращенный консулами к гражданам после издания senatus consultum ultimum. Ср. речь 16, § 24; Саллюстий, «Катилина», 29, 2.
(обратно)825
Имеется в виду освобождение Лже-Гракха (прим. 23), схваченного Марием.
(обратно)826
Крепость в Риме (arx) находилась около Капитолийского холма. Ср. речь 12, § 18.
(обратно)827
См. прим. 40 к речи 2.
(обратно)828
Из речи Гортенсия, который защищал Рабирия первым, до нас дошли всего два слова: «…моих рубцов…».
(обратно)829
Servius, Ad Vergil. Aeneid., I, 13.
(обратно)830
При наличии опасности Палатинский холм, имевший военное значение, охранялся особенно тщательно. См. Саллюстий, «Катилина», 30, 7.
(обратно)831
Сенат собирался в Гостилиевой курии или в одном из храмов. Храм Юпитера Статора находился у подошвы Палатинского холма.
(обратно)832
Ср. речи 3, § 56; 17, § 137.
(обратно)833
На основании senatus consultum ultimum консулы обладали в это время чрезвычайными полномочиями, правом жизни и смерти.
(обратно)834
В 133 г. консуляр Публий Сципион Насика Серапион поднял сторонников нобилитета против Тиберия Гракха.
(обратно)835
В 439 г., во время голода, Спурий Мелий стал продавать народу хлеб по дешевой цене; он был заподозрен в стремлении к царской власти. Не явившись для ответа по вызову диктатора Цинцинната, он был убит его помощником Гаем Сервилием Структом Агалой. Ср. речи 17, § 86; 22, § 8, 83; 26, § 26 сл.; письма Att., II, 22, 4 (LI); XIII, 40, 1 (DCLXIV).
(обратно)836
Консул 121 г. Луций Опимий, действуя на основании senatus consultum ultimum, подавил движение Гая Гракха. Гай Гракх был внуком Публия Корнелия Сципиона Африканского (Старшего).
(обратно)837
Марк Фульвий Флакк, соратник Гая Гракха, консул 125 г., народный трибун 122 г., хотел предоставить гражданские права всем италикам.
(обратно)838
В 100 г. для действий против Сатурнина и Главции. См. речь 8, § 20.
(обратно)839
Точнее, 18-й день; т. е. с 21 октября.
(обратно)840
Об императоре см. прим. 70 к речи 1. Здесь ирония.
(обратно)841
Одни уехали из страха, другие, чтобы не быть скомпрометированными.
(обратно)842
Пренеста — город в 24 милях к юго-востоку от Рима. О колонии см. прим. 68 к речи 4.
(обратно)843
Марк Порций Лека принадлежал к одному из лучших родов Рима. Ср. речь 14, § 6; Саллюстий, «Катилина», 17.
(обратно)844
Т. е. наметил очаги восстания.
(обратно)845
Это были Гай Корнелий и Луций Варгунтей. Ср. речь 14, § 18, 52; Саллюстий, «Катилина», 28, 1.
(обратно)846
Цицерон был извещен некоей Фульвией. См. Саллюстий, «Катилина», 23, 3 сл.
(обратно)847
Salutatio — утреннее посещение влиятельного лица его друзьями и клиентами. Ср. речь 14, § 73; Квинт Цицерон, письмо Comment. petit., 34 (XII).
(обратно)848
Речь произнесена в храме Юпитера Статора.
(обратно)849
Марсово поле, где собирались центуриатские комиции.
(обратно)850
См. прим. 59 к речи 3.
(обратно)851
Об империи см. прим. 90 к речи 1. Здесь имеются в виду полномочия на основании senatus consultum ultimum.
(обратно)852
Ср. речи 7, § 70; 10, § 7; письмо Att., I, 19, 4 (XXV); Саллюстий, «Катилина», 37, 5.
(обратно)853
Hostis publicus, т. е. государственный преступник.
(обратно)854
Улицы Рима не освещались; рабы несли факелы перед своими господами.
(обратно)855
Молва обвиняла Катилину в убийстве сына. Ср. речь 6, § 27 сл.; Саллюстий, «Катилина», 15, 2.
(обратно)856
См. прим. 49 к речи 1.
(обратно)857
Обычным сроком уплаты долгов были календы, крайним — иды, после чего была неизбежна утрата заложенного имущества.
(обратно)858
Маний Эмилий Лепид и Луций Волкаций Тулл были консулами в 66 г. Консулы приступали к своим обязанностям 1 января. Речь идет о покушении на избранных на 65 г. консулов Луция Аврелия Котту и Луция Мания Торквата. Ношение оружия в городе Риме не разрешалось. Канун январских календ — 29 декабря.
(обратно)859
О комиции см. прим. 151 к речи 4.
(обратно)860
Нож, применявшийся при жертвоприношении, посвящался божеству, как и оружие, которым было совершено политическое убийство. См. Тацит, «Анналы», XV, 74.
(обратно)861
Цицерон не всегда проявлял такую мягкость по отношению к рабам. Ср. речь 12, § 12.
(обратно)862
См. прим. 34 к речи 1.
(обратно)863
См. Квинт Цицерон, письмо Comment. petit., 9 сл. (XII).
(обратно)864
Маний Эмилий Лепид, консул 66 г., был одним из противников Катилины.
(обратно)865
Квинт Цецилий Метелл Целер был претором в 63 г., консулом в 60 г. О Марке Метелле сведения недостаточны.
(обратно)866
Публий Сестий в январе 62 г. участвовал в сражении против Катилины под Писторией; в 57 г. как трибун способствовал возвращению Цицерона из изгнания. См. речь 18.
(обратно)867
Марк Клавдий Марцелл, консул 51 г., впоследствии помпеянец. См. речь 23; письма Fam., IV, 8 (CCCCLXXXVI); 7 (CCCCLXXXVII); 9 (CCCCLXXXVIII); 11; (CCCCXCIII); 12 (DCXVIII); IX, 10 (DXL).
(обратно)868
Когда магистраты выезжали из Рима, их друзья и клиенты провожали их до городских ворот. Здесь ирония.
(обратно)869
Это могло быть решено во время собрания заговорщиков у Марка Леки. См. выше, § 9.
(обратно)870
Городок Аврелиев Форум лежал у Аврелиевой дороги, которая вела в сторону Фезул, где находился Гай Манлий с войском.
(обратно)871
По преданию, этот серебряный орел (знак легиона) был у Мария во время войны с кимврами. См. Саллюстий, «Катилина», 59, 3.
(обратно)872
О сторонниках Катилины см. речь 10, § 17 сл.
(обратно)873
Ср. речь 19, § 12 сл.
(обратно)874
В подлиннике игра слов: exsul (изгнанник) — consul.
(обратно)875
По законам Валериеву, Порциевым и Семпрониеву вынести смертный приговор римскому гражданину могли только центуриатские комиции.
(обратно)876
Цицерон был «новым человеком». См. прим. 83 к речи 3.
(обратно)877
Цицерон достиг государственных должностей «в свой год». См. прим. 63 к речи 5.
(обратно)878
Тиберий Гракх был убит в 133 г., Гай Гракх и Марк Фульвий Флакк — в 121 г., Луций Аппулей Сатурнин — в 100 г.
(обратно)879
См. прим. 31 к речи 2.
(обратно)880
Дела о долгах рассматривались городским претором. В 63 г. им был Луций Валерий Флакк.
(обратно)881
Храм Юпитера Статора («Останавливающего бегущие войска») был освящен в 294 г.
(обратно)882
Ср. речь 9, § 9 сл., 15, 32.
(обратно)883
Выражение гладиаторов. Подобные выражения как метафоры часты у Цицерона.
(обратно)884
Чрезвычайные полномочия в силу senatus consultum ultimum.
(обратно)885
Речь идет о молодом развратнике. О претексте см. прим. 96 к речи 1.
(обратно)886
См. письмо Fam., V, 1, 2 (XIII).
(обратно)887
О Пиценской области см. прим. 29 к речи 8, о Галльской — прим. 16 к речи 6.
(обратно)888
Имеются в виду ветераны Суллы; ср. Саллюстий, «Катилина», 16, 4. Сулла наделил землей около 120.000 ветеранов, устроив колонии, главным образом, в Этрурии и Самнии.
(обратно)889
Неявка в суд по делу о неуплате долга влекла за собой опись имущества и утрату залога. Присоединение к войску Катилины было равносильно удалению в изгнание.
(обратно)890
Ср. речь 9, § 9.
(обратно)891
Аврелиева дорога была менее прямой, чем Кассиева, но Катилина, видимо, хотел, чтобы думали, что он поехал в Массилию, а не в Этрурию.
(обратно)892
Ср. речь 19, § 12 сл.
(обратно)893
Ремесло актера презиралось в Риме и было несовместимо, например, с принадлежностью к всадническому сословию. См. письмо Fam., X, 32, 2 (DCCCXCV).
(обратно)894
Гней Помпей.
(обратно)895
Над войсками, составленными из римских граждан, мог начальствовать только магистрат, облеченный империем. Поэтому Катилина и присвоил себе эти знаки. См. Саллюстий, «Катилина», 36, 1.
(обратно)896
См. речь 9, § 24.
(обратно)897
Катилина писал друзьям, что уезжает в Массилию, обычное место изгнания. См. Саллюстий, «Катилина», 34, 2.
(обратно)898
Ср. речь 9, § 30; см. прим. 31 к речи 2.
(обратно)899
Так как Катилину, по мнению Цицерона, могло спасти только изгнание.
(обратно)900
Ср. речь 14, § 59.
(обратно)901
Имеется в виду кассация долгов и составление новых долговых книг (tabulae novae). См. Саллюстий, «Катилина», 21, 2.
(обратно)902
Ср. Саллюстий, «Катилина», 39, 4.
(обратно)903
Ср. Цицерон, письмо Att., I, 16, 6 (XXII).
(обратно)904
В подлиннике infitiatores lenti, т. е. люди, склонные уклоняться от военной службы и от уплаты долгов.
(обратно)905
См. прим. 34 к речи 1.
(обратно)906
Мамертинская тюрьма в Риме имела две подземные камеры, расположенные одна над другой; в нижней (Tullianum) осужденных казнили (удавливали). См. Саллюстий, «Катилина», 55, 3.
(обратно)907
Холеную бородку в Риме носили щеголи. См. письмо Att., I, 14, 5 (XX). Тунику до пят с рукавами носили женщины. Носить такую тунику было недостойным мужчины.
(обратно)908
О преторской когорте см. прим. 91 к речи 3.
(обратно)909
Цицерон хочет сказать, что Катилина способен только на удары из засады.
(обратно)910
См. прим. 59 к речи 3.
(обратно)911
См. прим. 96 к речи 1.
(обратно)912
Имеются в виду победы Помпея.
(обратно)913
Катилина покинул Рим 24 дня назад, в ночь на 9 ноября.
(обратно)914
Публий Корнелий Лентул Сура, консул 71 г., был в 70 г. исключен цензорами из сената; добился претуры на 63 г., дабы возвратиться в сенат. См. Плутарх, «Цицерон», 17.
(обратно)915
Тит Вольтурций вез письма от Лентула Суры, Цетега и Статилия. См. Саллюстий, «Катилина», 44, 3.
(обратно)916
Луций Валерий Флакк был после претуры пропретором Азии; в 59 г. он был обвинен в вымогательстве. Это обвинение носило политический характер и было направлено против Цицерона, который защищал Флакка в суде.
(обратно)917
Гай Помптин в 61 г. как пропретор Нарбонской Галлии вел войну с восставшими аллоброгами и в 54 г. справил триумф.
(обратно)918
Мост, построенный цензором Марком Эмилием Скавром на Тибре, на Фламиниевой дороге; «Мульвиев» — народное название, вместо «Эмилиев».
(обратно)919
Префектура — поселение, во главе которого стоял назначаемый Римом префект (praefectus iuri dicundo) с судебной властью. Цицерон был патроном Реаты.
(обратно)920
Ночь делилась на четыре стражи. Третья стража была от полуночи до трех часов утра
(обратно)921
Письма писали на навощенных дощечках; их затем складывали и перевязывали нитью; узел закрепляли воском, к которому прикладывали именную печать.
(обратно)922
Ирония. Письмо Лентула содержало всего три строки; см. ниже, § 12. Он был известен своей леностью.
(обратно)923
Неприкосновенность как доносчика; ср. Att., II, 24, 2 (LI). Гарантировать неприкосновенность мог только сенат. Ср. речь 8, § 28; Саллюстий, «Катилина», 47, 1; 48, 4.
(обратно)924
См. прим. 99 к речи 3.
(обратно)925
О гаруспицине см. вводное примечание к речи 20.
(обратно)926
Жрицы Весты, считавшейся покровительницей домашнего и государственного очага. Они поддерживали неугасимый огонь в ее храме. Они имели право миловать осужденных на казнь, составлять завещание и выступать в суде как свидетельницы и были свободны от опеки родичей. В течение 30 лет своего служения богине они были обязаны хранить целомудрие; нарушение этого обета каралось замуровыванием заживо. Суд над весталкой за нарушение обета целомудрия считался дурным предзнаменованием даже в случае оправдания. В 73 г., среди других весталок, к суду была привлечена Фабия, родственница жены Цицерона, скомпрометированная Катилиной.
(обратно)927
Пожар Капитолия произошел в 83 г., причина его неизвестна.
(обратно)928
Сатурналии начинались 19 декабря и продолжались несколько дней; в Сатурналии было принято делать подарки.
(обратно)929
Публий Корнелий Лентул, консул 162 г., был ранен при подавлении движения Гая Гракха. См. речь 12, § 13.
(обратно)930
Имеются в виду рабы, к помощи которых Катилина до сего времени не прибегал. См. Саллюстий, «Катилина», 44, 5.
(обратно)931
Гай Антоний, консул 63 г. Перед битвой под Писторией в январе 62 г. он сказался больным и передал командование своему легату Марку Петрею.
(обратно)932
Т. е. под охрану уважаемого гражданина (custodia libera). Ср. речь 9, § 19.
(обратно)933
Т. е. рабов, находившихся в латифундиях.
(обратно)934
Всенародные молебствия богам устраивались как для предотвращения несчастья, так и в начале войны; их повторяли как благодарственные после победы. Вначале молебствия были однодневными; в I в. их продолжительность была увеличена до 10, 15, 20 и даже 50 дней. В дни молебствий храмы были открыты и совершались лектистернии, т. е. угощение богов, изображения которых помещали на ложах. См. ниже, § 23; речи 14, § 85; 17, § 136; 20, § 26 сл.; 26, § 26, 37; Цезарь, «Записки о галльской войне», II, 35; IV, 38; VII, 90.
(обратно)935
Цицерон был первым, от чьего имени как магистрата, не применившего военного империя, были назначены молебствия. См. речи 10, § 28; 14, § 26; 26, § 13. О тоге см. прим. 96 к речи 1.
(обратно)936
Луций Аврелий Котта и Луций Манлий Торкват были консулами в 65 г.
(обратно)937
Где происходило заседание сената.
(обратно)938
Народный трибун 88 г. Публий Сульпиций Руф предложил возвратить граждан, которые были изгнаны в 100 г. после подавления движения Сатурнина, исключить из сената всех, имеющих более 2000 денариев [более 2000 денариев долга (Плутарх, «Сулла», 8). — Прим. О. В. Любимовой (ancientrome.ru)], и впредь приписывать новых граждан из числа италиков не к 8, а ко всем 35 трибам, а также командование в войне против Митридата отнять у Суллы и передать Марию. Руф был убит в 88 г. после захвата Рима Суллой.
(обратно)939
Луций Корнелий Цинна, сторонник Мария, покинул Рим после ожесточенных уличных боев (87 г.).
(обратно)940
В конце 87 г. Гай Марий и Цинна были избраны в консулы на 86 г. На семнадцатый день консульства (седьмого по счету) Марий умер.
(обратно)941
Имеется в виду истребление виднейших нобилей: консула 87 г. Гнея Октавия, консула 102 г. Квинта Лутация Катула, оратора Марка Антония, Квинта Муция Сцеволы («понтифика»), Публия Лициния Красса, Луция и Гая Юлиев Цезарей.
(обратно)942
Марк Эмилий Лепид, отец триумвира 43 г., консул 78 г., выступил против сулланской конституции, но был разбит на Марсовом поле войсками своего коллеги, консула Квинта Лутация Катула. Союзник Лепида, народный трибун Марк Юний Брут был в 77 г. разбит и казнен Помпеем.
(обратно)943
Имеется в виду Гней Помпей. Ср. речи 10, § 11; 17, § 67.
(обратно)944
О покушении на жизнь Цицерона, совершенном в Гостилиевой курии, неизвестно.
(обратно)945
Намек на задуманное заговорщиками покушение на жизнь Цицерона. Ср. речи 9, § 9; 14, § 18.
(обратно)946
Ср. речь 11, § 9.
(обратно)947
Квинт Цицерон был в это время избранным претором (на 62 г.).
(обратно)948
Туллии, дочери Цицерона, тогда было тринадцать лет, сыну Марку — два года.
(обратно)949
Гай Кальпурний Писон Фруги; он не был сенатором, поэтому стоял у входа в храм. Он был квестором в 58 г. и умер, когда Цицерон находился в изгнании.
(обратно)950
Ср. речь 9, § 3. Тиберий Гракх вторично добивался трибуната на 133 г. и это послужило поводом к выступлению нобилитета.
(обратно)951
Ср. речь 9, § 4. Гай Меммий был убит Сатурнином в то время, когда добивался консульства.
(обратно)952
См. речь 11, § 15.
(обратно)953
См. Саллюстий, «Катилина», 47, 4.
(обратно)954
С заходом солнца заседание сената прерывалось, поэтому решение не могло быть принято.
(обратно)955
В частности, Испанию и Мавретанию. См. Саллюстий, «Катилина», 21, 3.
(обратно)956
Ср. речь 9, § 4, 28.
(обратно)957
См. речь Цезаря у Саллюстия, «Катилина», 51, 20.
(обратно)958
О Семпрониевом законе о провокации см. прим. 145 к речи 4.
(обратно)959
Ср. речь 11, § 9.
(обратно)960
Луций Юлий Цезарь Страбон, консул 64 г. Его сестра Юлия, мать будущего триумвира Марка Антония, во втором браке была женой Публия Корнелия Лентула Суры.
(обратно)961
Марк Фульвий Флакк, сподвижник Гая Гракха, казненный консулом Луцием Опимием в 121 г. См. Плутарх, «Гай Гракх», 16.
(обратно)962
Публий Корнелий Лентул, консул 162 г. Ср. речь 11, § 10.
(обратно)963
Согласие между сенаторским и всадническим сословиями (concordia ordinum) Цицерон считал опорой римского государственного строя. Более подробно об этом см. в статье М. Е. Грабарь-Пассек (стр. 379 настоящего издания). Ср. также письма Att., I, 14, 4 (XX); 17, 10 (XXIII); 18, 3 (XXIV).
(обратно)964
Об эрарных трибунах см. прим. 93 к речи 6.
(обратно)965
5 декабря новые квесторы приступали к своим обязанностям и метали жребий, определявший круг деятельности каждого из них. При жеребьевке присутствовали писцы, объединенные в сословие. Об эрарии см. прим. 2 к речи 2.
(обратно)966
О попытке освободить Лентула см. Саллюстий, «Катилина», 50, 1 сл.
(обратно)967
См. прим. 40 к речи 8.
(обратно)968
Имеется в виду ночь с 2 на 3 декабря. См. вводное примечание.
(обратно)969
Публий Корнелий Сципион Африканский Старший и Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский (Младший).
(обратно)970
Последний македонский царь Персей шел перед колесницей своего победителя Луция Эмилия Павла во время его триумфа. См. прим. 45 к речи 4.
(обратно)971
Гай Марий нанес поражение тевтонам в 102 г. и кимврам в 101 г.
(обратно)972
Ср. речи 10, § 11, 29; 11, § 26.
(обратно)973
О праве принуждения см. прим. 94 к речи 7.
(обратно)974
О клиентеле см. прим. 79 к речи 1.
(обратно)975
Об узах гостеприимства см. прим. 3 к речи 1.
(обратно)976
Курульные магистраты избирались центуриатскими комициями после совершения авспиций. В комициях председательствовал консул, вначале приносивший жертву и совершавший моление.
(обратно)977
Выражение «римский народ и плебс» встречается в молитвах, оракулах и формулах. Оно возникло в древнейшую эпоху, когда полноправными гражданами были одни только патриции («римский народ»).
(обратно)978
Ср. речь 14, § 2.
(обратно)979
Марк Порций Катон придерживался стоической философии.
(обратно)980
Манципация — древняя процедура передачи прав полной собственности; символический акт: покупавший брал в руку вещь и произносил установленную формулу, ударив по весам куском меди, в присутствии «весодержателя» и пяти свидетелей. Продавший, если это была недвижимость, становился auctor fundi; т. е. нес ответственность за доброкачественность имущества и должен был помогать купившему отводить возможные впоследствии претензии других лиц.
(обратно)981
См. прим. 12 к речи 2.
(обратно)982
Имеются в виду Афины.
(обратно)983
Об империи см. прим. 90 к речи 1. О Катилине см. вводные примечания к речам 8—12.
(обратно)984
Ср. речь 14, § 8.
(обратно)985
Ср. речи 5, § 2; 7, § 2 сл.
(обратно)986
Об обращении по личному имени см. прим. 159 к речи 4.
(обратно)987
Это следует понимать в том смысле, что противная сторона ранее обращалась к Сульпицию за советом, с просьбой составить исковую формулу.
(обратно)988
Квинт Туллий Цицерон, избранный в преторы на 62 г.
(обратно)989
См. прим. 45 к речи 4. Во время триумфа малолетние дети триумфатора ехали на его колеснице, сыновья-подростки — верхом на лошадях, запряженных в колесницу, взрослые сыновья — верхами рядом с колесницей.
(обратно)990
Т. е. актером, выступавшим с мимической пляской на пиру; занятие рабов и вольноотпущенников, считавшееся неподобающим римскому гражданину.
(обратно)991
Обед начинался в девятом часу дня. Здесь речь идет о необычно раннем обеде, о чревоугодии. Ср. речь 15, § 13; письмо Att., IX, 13, 6 (CCCLXIX).
(обратно)992
Лициниев род был плебейским; особенно известны были Лицинии Лукуллы и Лицинии Крассы.
(обратно)993
Согласно традиции, первый уход плебса, в его борьбе против патрициев, произошел в 494 г. После этого был учрежден трибунат. См. Ливий, II, 22.
(обратно)994
См. прим. 35 к речи 7.
(обратно)995
Т. е. к «новым людям», как и Цицерон. В случае избрания Сульпиций был бы в своем роду первым консулом. См. прим. 93 к речи 3.
(обратно)996
Квинт Помпей, в 141 г. первый консул-плебей. Ср. речь 4, § 181.
(обратно)997
Марк Эмилий Скавр был консулом в 115 и 107 гг., цензором в 109 г. См. Цицерон, «Об ораторе», I, § 214; Саллюстий, «Югурта», 15, 4.
(обратно)998
Маний Курий Дентат, победитель самнитов и Пирра, консул 290, 285 и 274 гг.
(обратно)999
Марк Порций Катон Старший был консулом в 195 г., цензором в 184 г.
(обратно)1000
Гай Марий был консулом в 107, 104—100 и 86 гг.
(обратно)1001
Ср. речь 7, § 3 и прим. 3.
(обратно)1002
О Тициевом законе сведений нет. В городе Риме было два квестора, вне Рима четыре. Через Остию в Италию ввозились товары и хлеб.
(обратно)1003
Ср. Гораций, Сатиры, I, 1, 9 сл.
(обратно)1004
Если кто-нибудь преграждал дождевой воде доступ на свой участок и наносил этим ущерб соседу, то сосед мог вчинить иск — actio aquae pluviae arcendae.
(обратно)1005
Возможно, намек на акт «указания рубежей» (demonstratio finium), совершавшийся при продаже или разделе земли.
(обратно)1006
См. прим. 59 к речи 3.
(обратно)1007
Гней Флавий, писец Аппия Клавдия Слепого, опубликовал судебные формулы — ligis actiones (ius Flavianum). В 304 г. он, будучи курульным эдилом, опубликовал календарь, в котором судебные дни (dies fasti) обозначались буквой «F», несудебные (dies nefasti) — буквой «N». Ранее календарь был в ведении понтификов. См. Цицерон, «Об ораторе», I, § 186; Ливий, IX, 46.
(обратно)1008
«Выколоть вороне глаз» — поговорка, означающая перехитрить хитрого и связанная с ворожбой. Ср. Проперций, Элегии, V, 5, 16.
(обратно)1009
Первоначально квиритским правом называлось право, применявшееся к квиритам, во времена государства-города — патрициям, носившим оружие. Впоследствии сумма частных прав римских граждан.
(обратно)1010
Имеется в виду древнейший вид тяжбы о собственности — legis actio per sacramentum, когда стороны подтверждали свое заявление клятвой и вносили денежный залог. Стороны заявляли претору о своих правах на спорный участок земли и выходили на него («из суда», ex iure); впоследствии это совершалось над комом земли, положенным невдалеке от места суда; стороны накладывали руки на спорную вещь или для вида вступали в бой (conserere manum); после этого акта они возвращались в суд (in ius). См. ниже, § 30; письмо Fam., VII, 13, 2 (CLXIII); Энний, «Анналы», фр. 262 сл. Уормингтон; Геллий, «Аттические ночи», XX, 10, 4.
(обратно)1011
В римской драме флейтист сопровождал речитатив (canticum). Ср. письмо Fam., IX, 22, 1 (DCXXXVIII).
(обратно)1012
Т. е. в древнейшую эпоху.
(обратно)1013
Речь идет о родовых обрядах и домашних культах (sacra privata), переходивших по наследству. Богатые женщины, желая избавиться от обязанности совершать их, вступали в брак со стариками, не имевшими наследников, заключавшийся путем коемпции (символическая купля-продажа). Обязанность совершать обряды переходила к мужу, который, по предварительному уговору, возвращал женщине свободу и ее состояние; за вознаграждение он продолжал совершать обряды до своей смерти, когда они прекращались.
(обратно)1014
Намек на формулу, которую произносили при заключении брака: у порога своего дома жених спрашивал невесту, как ее имя; она отвечала: «Ubi tu Gaius, ego Gaia» (раз ты — Гай, то я — Гая). Возможно, что имя приведено для примера.
(обратно)1015
Авлед — флейтист. Кифаред пел под аккомпанемент кифары. См. Цицерон, «Тускуланские беседы», V, § 116.
(обратно)1016
Энний, «Анналы», фрагм. 262 сл. Уормингтон:
Мудрость изгнана прочь, решается дело насильем. Честный оратор презрен, в почете воитель свирепый. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не идут из суда, чтобы длань наложить, но булатом Вещь отнимают свою…См. выше, § 26 и прим. 35.
(обратно)1017
Ср. речь 6, § 123.
(обратно)1018
Маний Курий Дентат одержал победу над Пирром под Беневентом в 275 г., Тит Квинкций Фламинин — над Филиппом V под Киноскефалами в 197 г., Марк Фульвий Нобилиор занял Амбракию и покорил Этолию в 187 г., Луций Эмилий Павел разбил царя Персея под Пидной в 168 г. Самозванец Андриск, выдававший себя за незаконного сына Филиппа V и овладевший Македонией, был разбит и взят в плен Квинтом Цецилием Метеллом в 148 г. Луций Муммий взял Коринф в 146 г.
(обратно)1019
Митридат VI Евпатор.
(обратно)1020
Луций Корнелий Сципион в 190 г. победил под Магнесией сирийского царя Антиоха III; он получил прозвание «Азиатский».
(обратно)1021
Марк Порций Катон Старший (234—149 гг.) был во время войны с Антиохом III военным трибуном Мания Ацилия Глабриона и отличился под Фермопилами.
(обратно)1022
Речь идет об окончании первой войны с Митридатом (88—84 гг.). Суллу заставила заключить мир необходимость возвратиться в Италию для борьбы с марианцами.
(обратно)1023
Митридат вел переговоры с Серторием в 75 г. через Луция Магия и Луция Фанния, бывших центурионов Гая Флавия Фимбрии; речь была о совместных действиях против Рима. См. Плутарх, «Серторий», XXII, 3.
(обратно)1024
В 74 г. консулами были Луций Лициний Лукулл и Марк Аврелий Котта.
(обратно)1025
Флотом командовал Марк Марий, центурион Сертория; предполагалось вызвать гражданскую войну в Италии. Ср. речь 5, § 21.
(обратно)1026
Имеется в виду битва под Никополем, на реке Лике (66 г.), после которой Митридат бежал в Боспор Киммерийский. Помпей дошел до реки Фасиса (ныне Рион).
(обратно)1027
См. прим. 3 к речи 5.
(обратно)1028
Еврип — пролив между островом Евбеей и материком; в нем течение менялось несколько раз в течение суток.
(обратно)1029
При выборах консулов неудачу потерпели Марк Эмилий Скавр в 116 г., Квинт Лутаций Катул в 105 г., Луций Марций Филипп в 93 г.
(обратно)1030
Луций Лукулл возвратился из Азии в 66 г., но не получал согласия сената на триумф, поэтому он находился вне померия; триумф его состоялся только в 63 г.
(обратно)1031
Мурена не был эдилом и поэтому не устраивал игр, установленных обычаем; он не отметил играми и похорон отца. Как городской претор он устроил игры в честь Аполлона.
(обратно)1032
См. прим. 20 к речи 2.
(обратно)1033
Ср. письмо Fam., VII, 1, 1 (CXXVII).
(обратно)1034
Плебисцит (постановление трибутских комиций), проведенный в 67 г. трибуном Луцием Росцием Отоном (lex Roscia theatralis), о предоставлении римским всадникам 14 передних рядов в театре (позади мест сенаторов). Сулла лишил всадников этого преимущества. Ср. речь 26, § 44; письма Att., II, 1, 3 (XXVII); Fam., X, 32, 2 (DCCCXCV); Ювенал, Сатиры, III, 159.
(обратно)1035
Цицерон и Гай Антоний устроили игры как курульные эдилы в 69 г. Они оба были преторами в 66 г.
(обратно)1036
Со времен Суллы в Риме было восемь преторов: два для рассмотрения гражданских дел (iuris dictio) — praetor urbanus, praetor peregrinus; шесть председательствовали в постоянных судах. Сульпиций ведал судом о казнокрадстве. Мурена был городским претором.
(обратно)1037
Сословие квесторских и эдильских писцов; почти все они были свободнорожденными людьми. Прочие писцы были вольноотпущенниками.
(обратно)1038
Земли, конфискованные Суллой у его противников и розданные его сторонникам и ветеранам.
(обратно)1039
См. прим. 38 к речи 2.
(обратно)1040
Наместники помогали откупщикам и римлянам-кредиторам взыскивать долги в провинциях. См. письма Fam., XIII, 11 (CCCCLI); 14 (CCCCLII); 56 (CCXXXII).
(обратно)1041
См. прим. 18 к речи 2.
(обратно)1042
Марсово поле, где происходили выборы консулов.
(обратно)1043
Закон об учреждении постоянного суда по делам о вымогательстве (quaestio perpetua repetundarum), проведенный Луцием Кальпурнием Писоном Фруги в 149 г.
(обратно)1044
«Наше сословие» — сенаторское. Избранный магистрат, привлеченный к суду за недозволенные способы домогательства, часто, ссылаясь на болезнь, оттягивал явку в суд вплоть до начала своих должностных полномочий, когда он становился неподсудным.
(обратно)1045
Сам Цицерон, автор закона о домогательстве.
(обратно)1046
В 67 г. трибун Гай Манилий провел закон, допускавший вольноотпущенников к голосованию в составе триб их патронов, т. е. всех 35 триб (а не только четырех городских триб). Закон был вскоре отменен.
(обратно)1047
Iudices editicu. Обвинитель был вправе предложить из общего списка судей 125 судей из числа римских всадников и эрарных трибунов, обвиняемый — отвести 75 судей.
(обратно)1048
Субскриптор — второй обвинитель, подписывавший заявление, подаваемое претору, после первого обвинителя.
(обратно)1049
Речь идет о 18 центуриях римских всадников, приглашенных Муреной на празднество. Цицерон обращается к Сервию Сульпицию-сыну.
(обратно)1050
Товарищество (sodalitas) преследовало политические или же культовые цели. Его члены помогали друг другу. Ср. речь 14, § 7; «О старости», § 45.
(обратно)1051
Ответ на обвинение со стороны Постума и Сульпиция-сына, по-видимому, был исключен Цицероном при обработке текста речи. Ср. Плиний Младший, Письма, I, 20, 7.
(обратно)1052
Луций Аврелий Котта, консул 144 г., был обвинен в вымогательстве Сципионом Эмилианом. Он был виновен, но был оправдан.
(обратно)1053
Сервий Сульпиций Гальба в 150 г. казнил 30.000 луситанцев, сдавшихся ему на честное слово. В 149 г. он был обвинен Титом Скрибонием Либоном и Катоном Старшим, которому тогда было более 90 лет. См. Цицерон, «Брут», § 89; Тацит, «Анналы», III, 66.
(обратно)1054
Возможно, цитата из «Мирмидонян» Луция Акция. Речь идет об Ахилле и его наставнике: Фениксе или кентавре Хироне. См. Гомер, «Илиада», IX, 432 сл.
(обратно)1055
Ср. Цицерон, «О границах добра и зла», IV, § 74.
(обратно)1056
Зенон из Кития (Кипр), основатель стоического учения.
(обратно)1057
См. Цицерон, «Парадоксы стоиков».
(обратно)1058
Позднейшая вставка, относящаяся к событиям 61 г., когда откупщики потребовали уменьшения платы за откупа в Азии, ссылаясь на разорение провинции. Катон был в этом вопросе непримирим. Плата была уменьшена только в 59 г., по закону, проведенному Цезарем. См. речь 21, § 10; письма Att., I, 17, 9 (XXIII); 18, 7 (XXIV); II, 1, 8 (XXVII); 16, 2, 4 (XLIII); Q. fr., I, 1, 33 (XXX); Светоний, «Божественный Юлий», 20.
(обратно)1059
См. Плутарх, «Катон Младший», 21.
(обратно)1060
Ср. Цицерон, «Об обязанностях», I, § 89.
(обратно)1061
В доме у Сципиона Эмилиана жил стоик Панэтий; у Катона Младшего — стоик Афинодор; у Цицерона — стоик Диодот. См. Att., II, 20, 6 (XLVII); «Брут», § 309.
(обратно)1062
Перечисляются члены кружка Сципиона Эмилиана: Гай Лелий, консул 140 г., Луций Фурий Фил, консул 136 г., Гай Сульпиций Галл, консул 166 г. Ср. «О государстве», III, § 5; «Об ораторе», II, § 154.
(обратно)1063
При возвращении наместника из провинции ему устраивали торжественную встречу.
(обратно)1064
Юношу, надевшего тогу взрослого, т. е. достигшего совершеннолетия, в первый раз сопровождали на форум друзья его отца; так называемая deductio.
(обратно)1065
Об этом Фабиевом законе сведений нет. Луций Цезарь был консулом в 64 г. Это постановление сената могло быть направлено против действий Катилины во время подготовки выборов. Ср. Квинт Цицерон, Comment. petit., § 34 сл. (XII).
(обратно)1066
При подсчете голоса отмечались точками.
(обратно)1067
В то время бои гладиаторов происходили на форуме. Первый известный нам амфитеатр для боев гладиаторов был построен в Помпеях в 80 г. Первый постоянный каменный амфитеатр был построен Статилием Тавром в 29 г.
(обратно)1068
Praefectus fabrum — начальник рабочих и мастеров в войсках.
(обратно)1069
Луций Пинарий Натта, пасынок обвиняемого. Ср. речь 17, § 118, 134, 139 сл.
(обратно)1070
Право занимать почетные места во время общественных игр и боев гладиаторов было одним из преимуществ жриц Весты.
(обратно)1071
Краткость речи лакедемонян (спартанцев) вошла в поговорку («лаконическая речь»).
(обратно)1072
См. прим. 36 к речи 5.
(обратно)1073
Квинт Элий Туберон, внук Луция Эмилия Павла, ученик Панэтия, соблюдавший правила стоической философии также и в обыденной жизни; участник диалога Цицерона «О государстве»; см. «Брут» § 117. Квинт Фабий Максим Аллоброгский, внук Луция Эмилия Павла, был консулом в 121 г. Публий Африканский — Сципион Эмилиан.
(обратно)1074
О триклинии см. прим. 45 к речи 3. В торжественных случаях на ложа стелили роскошные ткани и ковры и подавали еду на золотой, серебряной или бронзовой посуде, а не на глиняной («самосской»). «Пунийские ложа» — жесткие.
(обратно)1075
Философ-киник Диоген, родом из Синопы (404—323 гг.), учил, что человек должен довольствоваться малым.
(обратно)1076
Одним из дозволенных способов домогательства была prensatio: кандидат подходил к гражданину в общественном месте, брал его за руку и заговаривал с ним; раб-номенклатор, знавший граждан в лицо, называл кандидату имена граждан, встречавшихся ему.
(обратно)1077
Текст испорчен; перевод по конъектуре Кларка.
(обратно)1078
Ср. Цицерон, «Об ораторе», II, § 105.
(обратно)1079
Народный трибун 62 г. Квинт Цецилий Метелл Непот. См. письмо Fam., V, 2, 6 сл. (XIV); Плутарх, «Катон Младший», 20.
(обратно)1080
Имеются в виду события 66—65 гг. См. вводное примечание к речи 14.
(обратно)1081
В 211 г. во время Второй пунической войны Ганнибал, желая облегчить положение Капуи, осажденной римлянами, совершил поход на Рим и стал лагерем на реке Аннио. Ср. речь 21, § 4; 25, § 11; 27, § 9.
(обратно)1082
Перед битвой под Писторией (январь 62 г.), окончившейся истреблением войска Катилины и гибелью его самого, Гай Антоний сказался больным и передал командование легату Марку Петрею.
(обратно)1083
Ланувий, где находился храм Юноны Спасительницы. См. ниже, § 90; речь 22, § 27, 45 сл.; Проперций, Элегии, V, 8, 16.
(обратно)1084
Ср. Цицерон, «Об ораторе», III, § 214, 217.
(обратно)1085
О родовых изображениях см. прим. 39 к речи 4. Изображение отца обвиняемого было украшено лавром, так как он справил триумф и был vir triumphalis.
(обратно)1086
В виде изгнания, в соответствии с Туллиевым законом. См. выше, § 46.
(обратно)1087
Публия Суллу — прим. О. В. Любимовой (ancientrome.ru).
(обратно)1088
Оратор имеет в виду нападки на свою деятельность как консула.
(обратно)1089
Имеется в виду подавление заговора Катилины.
(обратно)1090
В 54 г. в сочинении «О границах добра и зла» Цицерон вывел Луция Манлия Торквата как участника беседы об эпикуреизме. Ср. «Брут», § 265.
(обратно)1091
Знаменитый оратор, консул 69 г.
(обратно)1092
О заступниках см. прим. 1 к речи 1.
(обратно)1093
Скамьи, где сидел обвиняемый со своими заступниками.
(обратно)1094
См. ниже, § 52; речь 9, § 8; Саллюстий, «Катилина», 28, 1.
(обратно)1095
Сервий и Публий (не путать с обвиняемым Публием Суллой) были сыновьями Сервия Суллы, брата диктатора.
(обратно)1096
См. прим. 34 к речи 1.
(обратно)1097
Публий Автроний Пет не был магистратом, каковой не мог быть судим. «Коллеги» — люди, принадлежащие к одной коллегии. См. прим. 18 к речи 2.
(обратно)1098
См. прим. 12 к речи 2.
(обратно)1099
Возможно, здесь ирония Цицерона над пренебрежительным отношением Торкватов к нему; в 66 г. Цицерон был претором.
(обратно)1100
Т. е. выступления в суде, которые могли принести Цицерону известность и облегчить ему достижение магистратур.
(обратно)1101
Публий Корнелий Лентул Сура — участник заговора Катилины, казненный 5 декабря 63 г. См. прим. 25 к речи 10 и прим. 2 к речи 11.
(обратно)1102
Рожки — сигнальные; связки — ликторские. Ср. речь 10, § 13; Саллюстий, «Катилина», 36, 1. Об империи см. прим. 90 к речи 1.
(обратно)1103
В Этрурии, где заговорщики собирались. Ср. § 53; речь 10, § 23.
(обратно)1104
Цицерон, из двоих подосланных, упоминает только о Гае Корнелии, возможно, потому, что сын его был субскриптором в деле Суллы.
(обратно)1105
Потомки Марка Клавдия Марцелла, взявшего Сиракузы в 212 г. Марцелл-отец был в 79 г. наместником в Сицилии; его сын был консулом в 50 г.
(обратно)1106
Марк Валерий Мессалла Нигр, консул 61 г.
(обратно)1107
Частый упрек противников Цицерона. О «царской власти» см. прим. 31 к речи 2.
(обратно)1108
Ср. речь 11, § 9; Саллюстий, «Катилина», 47, 2.
(обратно)1109
На основании senatus consultum ultimum. См. вводные примечания к речам 8 и 9—12.
(обратно)1110
Обвиняемый мог не явиться в суд и удалиться в изгнание.
(обратно)1111
Царь Тарквиний Приск, по преданию, был сыном коринфянина Демарата. Нума Помпилий происходил из Сабинской области.
(обратно)1112
Родина Цицерона, Арпин получил полные права римского гражданства в 188 г. Поэтому слово «чужеземец» звучало оскорбительно.
(обратно)1113
О муниципии см. прим. 19 к речи 1.
(обратно)1114
Из Арпина происходил и Гай Марий, «спаситель Рима» благодаря своей победе над кимврами и тевтонами. См. речь 18, § 50. Второй «спаситель Рима», по мысли Цицерона, он сам.
(обратно)1115
Марк Порций Катон Старший был родом из Тускула.
(обратно)1116
Тиберий Корунканий, консул 280 г., первый верховный понтифик из плебеев, был родом из Тускула.
(обратно)1117
Маний Курий Дентат, консул 290 и 275 гг., одержал победу над самнитами, сабинянами и царем Пирром. Откуда происходил, неизвестно.
(обратно)1118
По Юлиеву закону 90 г., права римского гражданства получили все союзники, сохранившие верность Риму во время Союзнической войны, по Папириеву закону — все италики. Поэтому жители города Рима уже составляли меньшинство римских граждан. Кроме того, в столице осело много жителей муниципиев. Ср. речь 15, § 7.
(обратно)1119
Так как сословные преимущества патрициев уже утратили силу.
(обратно)1120
Аскул (в Пиценской области) получил права римского гражданства только в 88 г.
(обратно)1121
Ср. речь 12, § 23; письма Fam., II, 10, 2 (CCXXV); Att, IX, 10, 3 (CCCLXIV).
(обратно)1122
«На форуме» — выступления в суде; «в Курии» — в сенате.
(обратно)1123
В 60 г. Цицерон написал записки о своем консульстве и собирался писать поэму, которую написал только в 55 г. До нас дошли отрывки. См. письма Att., I, 19, 10 (XXV); Q. fr., II, 7, 1 (CXXII); 13, 2 (CXXXVIII); 15, 5 (CXLIV); III, 1, 11 (CXLV).
(обратно)1124
Цицерон имеет в виду Марка Манлия Вульсона, консула 392 г., по преданию, спасшего Капитолий во время нашествия галлов и получившего прозвание «Капитолийский». В 384 г. он был обвинен в стремлении к царской власти и казнен. Ср. речи 17, § 101; 26, § 87, 114; «О государстве», II, § 49. О родовых изображениях см. прим. 39 к речи 4.
(обратно)1125
См. Цицерон, «Об ораторе», II, § 295.
(обратно)1126
Народный трибун 62 г. Луций Кальпурний Бестия. В 63 г. он остался в Риме после отъезда Катилины, чтобы подстрекать народ против Цицерона. См. письмо Q. fr., II, 3, 6 (CII); Саллюстий, «Катилина», 17, 3; Плутарх, «Цицерон», 23.
(обратно)1127
По преданию, Тит Манлий Торкват Империос в 340 г. во время войны с самнитами осудил на смерть сына, нарушившего воинскую дисциплину, хотя его действия были успешными. См. Саллюстий, «Катилина», 52, 30; Ливий, VIII, 7.
(обратно)1128
См. прим. 59 к речи 3.
(обратно)1129
Цицерон передал Гаю Антонию войска, набранные в силу senatus consultum ultimum, о котором упоминает Саллюстий (36, 6); ср. письмо Fam., V, 2, 1 (XIV).
(обратно)1130
Ср. речи 11, § 14 сл.; 12, § 5; Саллюстий, «Катилина», 55, 6.
(обратно)1131
Речь идет о выступлении Цицерона перед народом в последний день его консульства, когда трибун Квинт Метелл Непот не дал ему произнести речь и позволил только поклясться в том, что он не нарушал законов. См. письмо Fam., V, 2, 7 (XIV).
(обратно)1132
Т. е. римских всадников. Молодежь из сословия всадников составляла конницу.
(обратно)1133
Луций Кассий Лонгин взялся поджечь Рим. См. Саллюстий, «Катилина», 40, 6.
(обратно)1134
Имеется в виду осуждение Автрония и Суллы в 66 г. на основании Кальпурниева-Ацилиева закона о домогательстве; они утратили право занимать магистратуры и гражданскую честь. Ср. § 91.
(обратно)1135
Ср. Саллюстий, «Катилина», 40, 6.
(обратно)1136
См. речь 11, § 8 сл.; Саллюстий, «Катилина», 47, 1.
(обратно)1137
Гай Косконий, наместник Дальней Испании в 61 г.; Марк Валерий Мессалла Руф, консул 53 г.; Публий Нигидий Фигул, друг Цицерона, историк; Аппий Клавдий Пульхр, претор 57 г., консул 54 г.
(обратно)1138
Записи постановлений сената хранились в архиве. По-видимому, другие материалы хранились у консула.
(обратно)1139
Предложено чтение, дающее перевод: «не пожаловался мне как своему близкому другу» (Кларк).
(обратно)1140
Оратор предполагает, что Торкват обвиняет Суллу из вражды, так как отец Торквата был в 66 г. соперником Суллы при выборах консулов на 65 г.
(обратно)1141
Речь идет о суде над Суллой в 66 г. В случае осуждения Суллы и Автрония их соперники по соисканию Торкват и Котта могли рассчитывать на избрание, что и произошло.
(обратно)1142
Марсово поле.
(обратно)1143
См. прим. 13 к речи 1.
(обратно)1144
Безнаказанность и денежное вознаграждение. См. речь 12, § 5; письмо Att., II, 24 (LI).
(обратно)1145
Гай Корнелий-отец, обнаруживая свою осведомленность о заговоре Катилины, тем самым признает свою причастность к нему.
(обратно)1146
Слово «мальчик» (puer) в применении к взрослому звучало презрительно. Ср. письма Att., XIV, 12, 2 (DCCXVI); XVI, 11, 6 (DCCXCIX); 15, 3 (DCCCVIII); Fam., X, 28, 3 (DCCCXIX); XI, 7, 2 (DCCCXII); XII, 25, 4 (DCCCXV); Brut., I, 16, 2, 6 (DCCCLXIII); 17, 1, 4 (DCCCLXIV); Светоний, «Октавиан», 12.
(обратно)1147
28 октября 63 г. Ср. речи 9, § 11; 13, § 52.
(обратно)1148
Ср. речь 10, § 6.
(обратно)1149
Ср. § 17; речь 18, § 9.
(обратно)1150
Фавст Сулла, сын диктатора, должен был, по завещанию отца, устроить для народа бои гладиаторов.
(обратно)1151
Эти бои были устроены только в 60 г. В 64—63 гг. Фавст Сулла был на Востоке вместе с Помпеем.
(обратно)1152
Луций Юлий Цезарь, консул 64 г., дядя Марка Антония, будущего триумвира.
(обратно)1153
Квинт Помпей Руф, внук диктатора Суллы, народный трибун 52 г.
(обратно)1154
Муж Фавсты, сестры Фавста Суллы. Впоследствии она была женой Тита Анния Милона. См. речь 22, § 28; письмо Q. fr., III, 3, 2 (CXLIX).
(обратно)1155
Римский всадник Публий Ситтий, родом из Нуцерии, в 64 г. выехал в Испанию. По-видимому, был агентом Катилины; впоследствии жил в Мавретании и в 46 г. оказал Цезарю услуги во время войны в Африке. См. письма Att., XV, 17, 1 (DCCL); Fam., V, 17 (CMXXIII); Саллюстий, «Катилина», 21, 3.
(обратно)1156
См. прим. 3 к речи 1.
(обратно)1157
Речь идет о Союзнической войне 91—88 гг. Нуцерия (в Кампании) была союзным городом.
(обратно)1158
Имеется в виду Мавретания. Возможно, что Ситтий предоставлял ссуды и другим царькам, а также и городским общинам.
(обратно)1159
Ср. речь 10, § 18.
(обратно)1160
О колонии см. прим. 68 к речи 4. Катилина старался привлечь на свою сторону те города Италии, которые Сулла лишил их земли, передав ее своим ветеранам. Так было в Помпеях, где была основана Colonia Venerea Cornelia, причем колонам были предоставлены преимущества за счет коренного населения. Ситтий [у Цицерона (§ 62) П. Сулла — прим. О. В. Любимовой (ancientrome.ru)], устраивавший колонию как tresvir coloniae deducendae, был одним из ее патронов. Ему было поставлено в вину стремление использовать раздоры в колонии и привлечь обиженных на сторону Катилины.
(обратно)1161
О предстателях см. прим. 2 к речи 3.
(обратно)1162
Общественный портик для прогулок. См. письмо Q. fr., III, 1, 1 (CXLV); Катулл, 55, 6.
(обратно)1163
Луций Цецилий, сводный брат Публия Суллы, приступив 10 декабря 64 г. к исполнению обязанностей трибуна, внес закон о смягчении наказания за домогательство; этот закон позволил бы Сулле и Автронию возвратиться в сенат. Цецилию пришлось взять свой законопроект обратно. Рогацией называлось внесение закона в комиции и самый законопроект.
(обратно)1164
См. прим. 1 к речи 2.
(обратно)1165
Т. е. законами о домогательстве, изданными до 67 г. См. прим. 18 к речи 2.
(обратно)1166
Сенаторов, римских всадников и эрарных трибунов.
(обратно)1167
Квинт Цецилий Метелл Целер, претор 63 г., консул 60 г. См. речь 10, § 5; письма Fam., V, 1 (XIII); 2 (XIV).
(обратно)1168
Об интерцессии см. прим. 57 к речи 5.
(обратно)1169
См. речь 7; письмо Att., II, 1, 3 (XXVII).
(обратно)1170
Так как Луций Цецилий был вынужден взять свой законопроект обратно.
(обратно)1171
В это время Помпей был на Востоке и вел войну против Митридата. Письмо Цицерона до нас не дошло. Ср. письмо Fam., V, 7, 3 (XV).
(обратно)1172
Так называемое probabile ex vita — доводы в пользу обвиняемого, основанные на его образе жизни.
(обратно)1173
См. речи 13, § 49; 18, § 95.
(обратно)1174
См. речь 11, § 9.
(обратно)1175
Квинт Метелл Пий в 79—71 гг. вел в Испании войну против Сертория. О покушении Цетега на его жизнь сведений нет.
(обратно)1176
Кальпурниев-Ацилиев закон 67 г. не карал изгнанием; изгнание было введено Туллиевым законом 63 г.
(обратно)1177
См. прим. 54 к речи 1.
(обратно)1178
В 73 г., когда Катилину обвиняли в кощунстве (сожительство с весталкой).
(обратно)1179
В 65 г., когда Катилина был привлечен к суду Публием Клодием. См. письма Att., I, 1, 1 (X); 2, 1 (XI); 16, 9 (XXII).
(обратно)1180
В 64 г. Катилина был привлечен к суду за убийства во время сулланских проскрипций, но был оправдан. См. письма Att., I, 16, 9 (XXII); Квинт Цицерон, Comment. petit., 9 сл. (XII).
(обратно)1181
Преторы Луций Валерий Флакк и Гай Помптин. Ср. речь 11, § 5 сл., 14.
(обратно)1182
См. прим. 72 к речи 1.
(обратно)1183
См. речь 12, § 14.
(обратно)1184
См. прим. 22 к речи 11.
(обратно)1185
«Боги отцов» — общеримские божества. О пенатах см. прим. 31 к речи 1.
(обратно)1186
Ср. речь 11, § 17.
(обратно)1187
В случае несчастья в семье или поражения ее главы в гражданских правах изображения предков закрывались покрывалами.
(обратно)1188
Т. е. снимет траур; см. прим. 53 к речи 3; знаки отличия сенатора: туника с широкой пурпурной полосой, башмаки особого покроя с украшением из кости в виде полумесяца.
(обратно)1189
Утрата консульства Суллой ввиду осуждения в 66 г. лишила его возможности пользоваться правами нобиля и сенатора.
(обратно)1190
Сын обвиняемого, присутствующий в суде.
(обратно)1191
Иносказание. Участие в заговоре Катилины каралось лишением гражданских прав и изгнанием.
(обратно)1192
Это место толковалось по-разному. Имеется в виду установление состава суда: председатель назначал путем жеребьевки известное число судей; затем обвинитель и обвиняемый (последний без подготовки — «наша сторона ни о чем не подозревала») отводили по некоторому числу судей; недостающее число судей пополнялось председателем путем дополнительной жеребьевки («для нас назначенные судьбой»). Время отвода судей имело большое значение, так как чем дольше окончательный состав суда оставался неизвестным, тем меньше была опасность, что на судей будет оказано воздействие со стороны.
(обратно)1193
Чужеземцы, получавшие права римского гражданства, принимали личное и родовое имя того римского гражданина, который им в этом способствовал. Цицерон называет Архия Авлом Лицинием во всех случаях, когда касается событий после предоставления ему прав римского гражданства.
(обратно)1194
Цицерон имеет в виду свои занятия поэзией — перевод сочинений Арата (III в.). См. также и прим. 36 к речи 14.
(обратно)1195
Риторика, поэтика, грамматика.
(обратно)1196
Южная Италия, называвшаяся Великой Грецией. В ее городах преобладало греческое население.
(обратно)1197
Речь идет о времени, предшествовавшем гражданским войнам 88—82 гг.
(обратно)1198
Греческие законы разрешали быть гражданином нескольких городских общин, в данном случае это было почетное гражданство, о чем Цицерон умалчивает. Очевидно, Архий потому и хотел получить права гражданства в Гераклее (см. ниже, § 6); в дальнейшем это позволило бы ему получить права римского гражданства.
(обратно)1199
См. прим. 3 к речи 1.
(обратно)1200
В 102 г.
(обратно)1201
См. прим. 96 к речи 1.
(обратно)1202
Луций Лициний Лукулл как пропретор вел в 103 г. в Сицилии войну с рабами; возвратившись в Рим, был обвинен в хищениях и удалился в изгнание. Его сыном был Луций Лукулл, консул 74 г., вел войну против Митридата VI. Его другой сын, Марк Лукулл, был консулом в 73 г.
(обратно)1203
Квинт Цецилий Метелл Нумидийский, консул 109 г., вел войну с царем Югуртой. См. прим. 59 к речи 16. Его сын Квинт Метелл Пий, консул 89 г. [консул 80 г. — прим. О. В. Любимовой (ancientrome.ru)], коллега и соратник Суллы. В 79—71 гг. Пий был проконсулом Испании и вел войну против Сертория. Мать Луция и Марка Лукуллов была из рода Цецилиев Метеллов.
(обратно)1204
Марк Эмилий Скавр, консул 115 и 107 гг., цензор 109 г.
(обратно)1205
Квинт Лутаций Катул, консул 102 г.; покончил с собой в 87 г., будучи осужден на смерть Марием. Квинт Лутаций Катул-сын был консулом в 78 г., оптимат.
(обратно)1206
Луций Лициний Красс, консул 95 г., оратор.
(обратно)1207
Трибун 91 г. Марк Ливий Друс младший; убит в 91 г., дядя Марка Порция Катона.
(обратно)1208
Гней Октавий, консул 87 г.; впоследствии убит марианцами.
(обратно)1209
Возможно, отец Марка Порция Катона (Утического).
(обратно)1210
Наибольшей известностью пользовался оратор Квинт Гортенсий Гортал, консул 69 г.
(обратно)1211
Марк Лукулл стал квестором только в 89 г. Архий получил права гражданства в Гераклее до этого срока. Поэтому поездка Лукулла, о которой говорит Цицерон, по-видимому, носила частный характер.
(обратно)1212
Гераклея заключила в 278 г. настолько выгодный для нее союз с Римом, что после Союзнической войны неохотно приняла права римского гражданства.
(обратно)1213
Плавциев-Папириев закон предоставлял права римского гражданства всем городским общинам, чья независимость была обеспечена союзным договором (civitas foederata), при условии постоянного проживания их граждан в Италии и подачи заявления претору в течение 60 дней после издания закона.
(обратно)1214
Права римского гражданства. Цицерон должен был доказать: 1) факт приписки Архия к союзной общине; 2) факт его проживания в Италии; 3) факт своевременного заявления претору.
(обратно)1215
См. прим. 2 к речи 3.
(обратно)1216
Союзническая (Марсийская, Италийская) война 91—88 гг.
(обратно)1217
См. прим. 19 к речи 1.
(обратно)1218
Аппий Клавдий Пульхр, претор 89 г., консул 79 г., отец Аппия Клавдия Пульхра, консула 54 г., и Публия Клодия, народного трибуна 58 г.
(обратно)1219
Публий Габиний Капитон, претор 89 г., после своей претуры был обвинен ахейцами в вымогательстве. От их имени выступал Луций Кальпурний Писон.
(обратно)1220
Претор 89 г. Других сведений о нем нет.
(обратно)1221
Профессия актера считалась в Риме позорной. См. письма Fam., XII, 18, 2 (DXXXIII); X, 32, 2 (DCCCXCV).
(обратно)1222
Т. е. после издания Плавциева-Папириева закона.
(обратно)1223
Цензоры 70 г. Луций Геллий Попликола и Гней Корнелий Лентул Клодиан. После них цензоры были избраны в 65 г., но при последних ценза не было.
(обратно)1224
См. прим. 70 к речи 1.
(обратно)1225
Луций Марций Филипп и Марк Перперна, цензоры 86 г.
(обратно)1226
При первых же цензорах после предоставления прав римского гражданства союзникам. Это были Луций Юлий Цезарь и Публий Лициний Красс (89 г.).
(обратно)1227
Архий мог составить завещание перед отъездом в дальние страны. Правом составлять завещание и наследовать от римских граждан пользовались только римские граждане.
(обратно)1228
См. прим. 2 к речи 2.
(обратно)1229
В отчете по управлению провинцией наместник мог сообщить имена своих подчиненных, заслуживавших награждения. См. письмо Fam., V, 20, 7 (CCCI).
(обратно)1230
О ранних пирах см. прим. 16 к речи 13. Игра в кости была запрещена, игра в мяч — широко распространена. Ср. Гораций, Оды, III, 24, 58; Сатиры, I, 5, 49.
(обратно)1231
См. прим. 87 к речи 13.
(обратно)1232
Марк Порций Катон, консул 195 г., цензор 184 г., считался образцом древней строгости нравов; написал сочинение по истории Рима «Начала» (до нас не дошло) и сочинение «Земледелие».
(обратно)1233
Квинт Росций Галл (умер в 62 г), известный комический актер, бывший раб. См. Цицерон, «Об ораторе», I, § 129. Сохранилась речь Цицерона по делу Росция-актера
(обратно)1234
Квинт Энний (239—169 гг.), эпический и драматический поэт; ввел в римскую литературу гексаметр.
(обратно)1235
Первое можно отнести к Амфиону: по преданию, от звуков его лиры камни соединились и образовали стены Фив, второе — к Орфею, сыну Аполлона, поэту и певцу.
(обратно)1236
См. Палатинская Антология, XVI, 298, неизвестный автор:
Семь городов, пререкаясь, зовутся отчизной Гомера: Смирна, Хиос, Колофон, Пилос, Аргос, Ифака, Афины (Перевод Л. В. Блуменау) (обратно)1237
Луций Плоций, грамматик начала I в. Первым стал преподавать на латинском языке вместо греческого, как было принято в то время.
(обратно)1238
См. речи 5, § 20; 13, § 33.
(обратно)1239
Этот морской бой, происшедший в 73 г. невдалеке от острова Лемноса известен как бой под Тенедосом. См. речь 13, § 33.
(обратно)1240
См. прим. 77 к речи 4.
(обратно)1241
Гробница Сципионов находилась у Аппиевой дороги. Цицерон говорит «как полагают», так как статуи были без надписей.
(обратно)1242
«Наш современник» — Марк Порций Катон, в 62 г. народный трибун.
(обратно)1243
Полководцы времен Второй пунической войны, воспетые Эннием: Квинт Фабий Максим (см. прим. 20 к речи 4); Марк Клавдий Марцелл одержал победу над Ганнибалом при Ноле и взял Сиракузы. Говоря о Фульвиях, Цицерон может иметь в виду Квинта Фульвия Флакка, освободившего Капую, или Марка Фульвия Нобилиора, консула 189 г., занявшего Этолию. Энний сопровождал его при походе в Этолию и получил права римского гражданства при посредстве его сыновей.
(обратно)1244
Международным языком, распространенным во всем римском государстве, был греческий. Латинский начал распространяться по всей Италии после дарования союзникам прав римского гражданства; местные языки (оскский и др.) долго сохраняли свое значение.
(обратно)1245
Александра Македонского сопровождали в его походах писатели Анаксимен, Каллисфен, Онесикрит, Птолемей, Аристобул, Клитарх и поэт Херилл. См. письмо Fam., V, 2, 7 (CXII); Гораций, Послания, II, 1, 232 сл.
(обратно)1246
Мыс и местность в Троаде, где, по преданию, находилась могила Ахилла.
(обратно)1247
Гней Помпей, имевший прозвание «Великий». Он предоставлял права гражданства в силу Геллиева-Корнелиева закона 72 г.
(обратно)1248
Эпиграмма (греч.) — надпись; в расширенном значении — стихотворение, написанное на какой-либо случай. В эпиграмме обычно чередовались гексаметры и пентаметры («стихи разной длины»). Поэт поднес Сулле эпиграмму, когда Сулла производил продажу конфискованного имущества. Ср. Плутарх, «Сулла», 33.
(обратно)1249
Город в Бетике (Испания), ныне Кордова.
(обратно)1250
Децим Юний Брут Галлекский (Каллекский), консул 138 г., победитель луситанцев и галлеков (Испания).
(обратно)1251
Луций Акций (170—94 гг.), трагический поэт.
(обратно)1252
Марк Фульвий Нобилиор построил храм Геркулеса и муз и украсил его статуями и картинами, которые он вывез из Амбракии.
(обратно)1253
Речь идет о поэме Архия о консульстве Цицерона. Ср. письма Att., I, 16, 15 (XXII); 20, 6 (XXVI). См. прим. 36 к речи 14.
(обратно)1254
Философы, верившие в дальнейшую жизнь души: Пифагор, Сократ, Платон.
(обратно)1255
Цицерон отождествляет свою судьбу с судьбой своих детей, брата Квинта и его сына. Ср. речи 17, § 96; 18, § 49, 145; письма Att., III, 10, 2 (LXVII); 15, 4 (LXXIII).
(обратно)1256
Римский сенат. Ср. речи 12, § 11; 14, § 35.
(обратно)1257
Ср. речь 18, § 128 сл.
(обратно)1258
Народный трибун Публий Элий Лигур. Намек неясен.
(обратно)1259
Трибуны имели право докладывать в комициях и в сенате, докладывать в случае несогласия консула и налагать запрет на его предложение. См. прим. 57 к речи 5.
(обратно)1260
Клодиев закон «Об изгнании Марка Туллия». Ср. речи 17, § 44, 47, 50, 58, 69, 82; 18, § 65; письма Att., III, 12, 1 (LXIX); 15, 6 (LXXIII); 23, 2 (LXXXIII).
(обратно)1261
Гней Помпей, который после покушения на его жизнь, совершенного 11 августа 58 г., перестал бывать в сенате. Ср. речи 18, § 69; 20, § 49; Плутарх, «Помпей», 49.
(обратно)1262
«Отцы» — сенат; «опекуны» — магистраты.
(обратно)1263
Ср. письма Att., III, 12, 1 (LXIX); 15, 6 (LXXIII).
(обратно)1264
Публий Корнелий Спинтер, консул 57 г. Его коллегой был Квинт Цецилий Метелл Непот, народный трибун в 62 г. См. письмо Fam., V, 2, 6 сл. (XIV).
(обратно)1265
Из преторов противником Цицерона был Аппий Клавдий, из трибунов — Секст Атилий Серран и Квинт Нумерий Руф (Нумерий Квинкций).
(обратно)1266
Цицерон часто говорит о своем добровольном отъезде в изгнание ввиду его желания предотвратить кровопролитие. Ср. ниже, § 33 сл.; речи 17, § 43 сл.; 18, § 29, 53, 60, 77; 22 § 36.
(обратно)1267
Цицерон имеет в виду подавление движения Катилины.
(обратно)1268
Клодий поджег храм Нимф, где хранились цензорские списки. Ср. речь 22, § 73.
(обратно)1269
Трибун 57 г. Публий Сестий. См. речь 18, § 79; письмо Att., III, 15, 6 (LXXIII).
(обратно)1270
Scribendo adesse («участвовать в составлении», «присутствовать при записи») — термин, значивший: участвовать в составлении постановления сената, неся ответственность за его подлинность. Ср. письмо Fam., VIII, 8, 5 сл. (CCXXII).
(обратно)1271
Ср. выше, § 4; речи 17, § 44, 50; 21, § 45.
(обратно)1272
Законы, проведенные Публием Клодием в начале 58 г.: 1) о правах римского гражданина; 2) об изгнании Цицерона; это была «привилегия», т. е. закон, изданный в пользу или в ущерб интересам одного лица (lex in privum hominem); привилегия была запрещена законами Двенадцати таблиц. Ср. речь 17, § 26, 43, 50, 58; Авл Геллий, X, 10, 4.
(обратно)1273
Квинт Лутаций Катул Капитолийский, консул 78 г. Ср. речь 17, § 113.
(обратно)1274
Цицерон имеет в виду годы господства Цинны и его сторонников, особенно 85—84 гг., когда коллегой Цинны (консул с 87 по 84) был Гней Папирий Карбон.
(обратно)1275
Авл Габиний.
(обратно)1276
Луций Писон. Гай Корнелий Цетег был казнен 5 декабря 63 г.
(обратно)1277
В неприкосновенном месте. Авл Габиний был трибуном в 67 г.
(обратно)1278
Городской претор описывал имущество должника, не явившегося в суд. См. прим. 28 к речи 1.
(обратно)1279
См. прим. 11 к речи 8.
(обратно)1280
Народная сходка, созывавшаяся для предварительного обсуждения, а также и для промульгации законопроекта. См. прим. 1 к речи 2.
(обратно)1281
Фуфиев закон (консул Публий Фуфий, около 154 г.) установил, что комиции вправе принимать законы не во все судебные дни.
(обратно)1282
См. прим. 53 к речи 3. Когда Цицерону грозило изгнание, траур был общественным. Ср. речи 17, § 99; 18, § 26; 22, § 20; Плутарх, «Цицерон», 31.
(обратно)1283
Казнь пятерых катилинариев 5 декабря 63 г. в Мамертинской тюрьме на капитолийском склоне. В этот день на капитолийском склоне находились вооруженные римские всадники, охранявшие храм Согласия, где собрался сенат. См. речи 12; 18, § 28.
(обратно)1284
Ср. речь 17, § 29; письма Fam., XI, 16, 2 (DCCCLXXXVIII); XII, 29, 1 (DCCCXXXI).
(обратно)1285
Фламиниев цирк, находившийся вне померия (сакральная городская черта), был выбран для сходки, чтобы на ней мог присутствовать Цезарь, который, будучи облечен империем, не имел права входить в пределы померия. См. прим. 90 к речи 1.
(обратно)1286
Луций Кальпурний Писон Цезонин. Его дед по матери был глашатаем в Плаценции (Инсубрия); его отец женился на дочери галла Кальвенция. Ср. § 15; речь 21, § 7; письмо Q. fr., III, 1, 11 (CXLV).
(обратно)1287
К каппадокийцам, карийцам, киликийцам и фригийцам римляне относились с презрением, что выражалось и в поговорках. Ср. письмо Q. fr., I, 1, 19 (XXX).
(обратно)1288
Ср. речь 17, § 121; письмо Fam., XIII, 1, 2 (CXCVIII).
(обратно)1289
Первым мужем Туллии, дочери Цицерона, был Гай Писон Фруги, дальний родственник консула 58 г.
(обратно)1290
Намек на обычай клеймить преступника: на лбу выжигали буквы FUR (вор) или FUG (fugitivus, беглый).
(обратно)1291
Клодиев закон о консульских провинциях. По этому закону, изданному в нарушение Семпрониева закона (123 г.), Писон получил проконсульство в Македонии, Габиний — в Киликии; последнее далее было ему заменено проконсульством в Сирии. См. речи 17, § 23, 70; 18, § 24, 55.
(обратно)1292
Писон в 58 г. был дуовиром в новой колонии в Капуе и консулом в Риме. См. § 29; речи 7, § 91, 95 сл.: 17, § 60; 18, § 19.
(обратно)1293
См. прим. 20 к речи 2.
(обратно)1294
Расходы на похороны нес наследник. Ирония: по словам Цицерона, издержки на его политические похороны были возмещены Писону еще до самих похорон.
(обратно)1295
Писон. Дом его тещи находился на Палатинском холме, невдалеке от дома Цицерона. Ср. речь 17, § 62
(обратно)1296
Авл Габиний, владевший усадьбой под Тускулом.
(обратно)1297
Бранное слово: головорез. Имеется в виду Публий Клодий.
(обратно)1298
Оратор обращается к консулам 57 г.
(обратно)1299
Трибун 57 г. Тит Анний Милон. См. речь 22.
(обратно)1300
В ноябре 57 г. сторонники Клодия совершили нападения на Цицерона, на дом Милона и другие насильственные действия. Такие действия (сопротивление властям, самоуправство) карались Плавциевым законом 89 г., если исходили от магистрата, и Лутациевым законом 78 г., если исходили от частного лица. Они объединялись под понятием crimen de vi. В 57 г. Милон пытался привлечь Клодия к судебной ответственности, но этому помешали претор Аппий Клавдий Пульхр и трибун Секст Атилий Серран. Тогда Милон набрал для себя вооруженный отряд из рабов. См. речи 18, § 86 сл., 127; 22, § 38; письмо Att., IV, 3, 3 (XCII).
(обратно)1301
Народный трибун 57 г. См. речь 18, § 76.
(обратно)1302
В 63 г.
(обратно)1303
В 75 г. Цицерон был в Сицилии квестором пропретора Секста Педуцея. Марк Курций, видимо, был усыновлен последним. Ср. письмо Fam., XIII, 59 (CCXLVII).
(обратно)1304
Народный трибун 57 г. Ср. письмо Att., IV, 1, 7 (XC).
(обратно)1305
За исключением Аппия Клавдия. Ср. речи 18, § 87; 22, § 39.
(обратно)1306
Городской претор 57 г. Луций Цецилий Руф отказался утвердить Писона и Габиния в правах собственности на захваченное ими имущество Цицерона. Ср. речи 14, § 62 сл., 22, § 38.
(обратно)1307
Преторы 57 г., как и оратор Марк Калидий. Публий Красс, сын триумвира; в 53 г. пал под Каррами. [П. Красс (RE 63), сын триумвира, в 58 г. был начальником конницы, а в 57 г. — легатом Цезаря в Галлии (Цезарь, «Галльская война», I, 52; II, 34); упомянутый Цицероном П. Красс — другое лицо (RE 71). — Прим. О. В. Любимовой (ancientrome.ru).]
(обратно)1308
Чтобы придать большее значение своему возвращению из изгнания, Цицерон упоминает о призыве консула к оружию: «Кто хочет спасения государства, да последует…». Ср. речь 18, § 128.
(обратно)1309
Квинт Метелл Непот был двоюродным братом Публия Клодия. Ср. речь 17, § 7, 17, 30; письмо Fam., V, 2, 7 (XIV).
(обратно)1310
Публий Сервилий Исаврийский, консул 79 г. По матери он был внуком Квинта Метелла Македонского.
(обратно)1311
Квинт Цецилий Метелл Целер, умерший в 59 г. Ср. речь 10, § 5.
(обратно)1312
Ахеронт — река подземного царства.
(обратно)1313
Квинт Цецилий Метелл Нумидийский, консул 109 г. В 100 г. трибун Луций Аппулей Сатурнин провел земельный закон, который содержал заключительную статью (клаузулу), обязывавшую сенаторов под страхом удаления из сената и штрафа присягнуть в соблюдении его. Метелл отказался присягнуть и удалился в изгнание. Он был возвращен в 99 г. Ср. речи 17, § 22; 18, § 37, 101; письмо Att., I, 16, 4 (XXII).
(обратно)1314
Публий Клодий. См. выше, § 4.
(обратно)1315
Ср. речь 18, § 129.
(обратно)1316
Т. е. через три нундины (24 дня).
(обратно)1317
Имеются в виду: 1) rogatores — собиратели голосов (до введения тайного голосования; впоследствии они приглашали центурии — или трибы — приступить к голосованию); 2) diribitores — раздатчики табличек для голосования и счетчики; 3) custodes — наблюдатели за порядком голосования.
(обратно)1318
Риторическое преувеличение: как триумфатор.
(обратно)1319
Намек на Цезаря. Ср. речь 21, § 43.
(обратно)1320
Речь идет о Гнее Помпее.
(обратно)1321
При уличных боях храмы часто использовались как опорные пункты, особенно храм Диоскуров (Кастора и Поллукса), заново украшенный консулом 119 г. Луцием Метеллом Далматинским. Чтобы сделать здание неприступным, его ступени иногда разбирали. См. речи 17, § 54, 110; 18, § 34; 22, § 99.
(обратно)1322
Речь идет о Писоне; под наградами имеются в виду наместничество в провинции и возможность присвоить имущество Цицерона.
(обратно)1323
Цезарь, который, как проконсул Цисальпийской Галлии и Иллирика, не имел права находиться в пределах померия. Он отбыл в Галлию только после того, как были приняты законы Клодия: об изгнании Цицерона и о назначении Катона на Кипр. Ср. речи 17, § 20 сл.; 18, § 40.
(обратно)1324
3 января 58 г. был принят Клодиев закон о восстановлении коллегий, запрещенных сенатом в 64 г. Это были объединения с культовыми целями; в некоторые коллегии имели доступ и рабы; коллегии часто использовались с политическими целями. Ср. речи 17, § 54; 18, § 34, 55.
(обратно)1325
Публий Клодий, в глазах Цицерона, продолжатель дела Катилины. Ср. речи 17, § 61; 18, § 42; 22, § 34.
(обратно)1326
Квестор в Македонии в 58 г., Цицерон защищал его в 54 г. См. письма Att., III, 14, 2 (LXX); 22, 1 (LXXXI); Fam., IV, 14 (DXXXIX); 15 (CCCCLXXXV); XIV, 1, 3 (LXXXII).
(обратно)1327
Публий Попилий Ленат, консул 132 г., председатель суда, осудившего сторонников Тиберия Гракха; был изгнан Гаем Гракхом в 123 г., возвращен из изгнания в 121 г. по предложению трибуна Луция Кальпурния Бестии. Ср. речь 17, § 87; «Брут», § 98.
(обратно)1328
Квинт Метелл Пий, консул 80 г.
(обратно)1329
Луций Цецилий Метелл Диадемат и Гай Цецилий Метелл Капрарский, сыновья Квинта Метелла Македонского.
(обратно)1330
Это были: Луций Лициний Лукулл, консул 74 г., женатый на сестре Метелла Нумидийского [Луций Лициний Лукулл, консул 74 г. — сын сестры Метелла Нумидийского (Плутарх, «Лукулл», 1). — Прим. О. В. Любимовой (ancientrome.ru).]; Публий Сервилий Исаврийский, сын Метеллы, дочери Метелла Македонского; Публий Сципион Насика, коллега Помпея по консульству 52 г., усыновленный Квинтом Метеллом Пием и принявший имя Квинта Цецилия Метелла Пия Сципиона; его называли и Публием и Квинтом. [Кв. Цецилий Метелл Пий Сципион, консул 52 г., родился не ранее 100 г. (F. X. Ryan «The Birth-Dates of Domitius and Scipio», AHB 11. 2—3 (1997), 89—93); у Цицерона речь идет о его отце, П. Корнелии Сципионе Назике (RE 351), преторе 93 г., который был сыном Цецилии Метеллы и внуком Метелла Македонского (см. речь 17, § 123). — Прим. О. В. Любимовой (ancientrome.ru).]
(обратно)1331
Ср. речь 18, § 54, 68, 131. Молодой Писон умер незадолго до возвращения Цицерона из изгнания.
(обратно)1332
Гай Марий покинул Рим в 88 г. и возвратился в 87 г.
(обратно)1333
Коллегия понтификов осуществляла общее наблюдение за выполнением требований религии и решала вопросы, касавшиеся культа. Огульниев закон 300 г. открыл доступ в эту вначале патрицианскую коллегию также и плебеям. Верховный понтифик избирался 17 (из 35) трибами, назначавшимися по жребию. Коллегия состояла из понтификов (при Цезаре их было 16), «царя священнодействий» (rex sacrorum, rex sacrificus; к нему перешли жреческие обязанности царя), фламинов (жрецы отдельных божеств; было три старших фламина — Юпитера, Марса и Квирина и 12 младших), шести дев-весталок.
(обратно)1334
О богах-пенатах см. прим. 31 к речи 1.
(обратно)1335
Публий Клодий Пульхр.
(обратно)1336
Цицерон представляет безрассудство Клодия как кару. Намек на кощунство, совершенное Клодием в декабре 62 г. См. ниже, § 77, 105.
(обратно)1337
Речь идет о предоставлении Помпею чрезвычайных полномочий по снабжению государства хлебом. Цицерон предложил это в сенате 7 сентября 57 г. См. письмо Att, IV, 1, 6 сл. (XC).
(обратно)1338
Возможно, намек на предложение Цицерона; см. прим. 5.
(обратно)1339
Вопрос о возвращении Цицерону его участка мог обсуждаться еще до его приезда, но ввиду наличия религиозного запрета был передан на рассмотрение понтификов. См. письма Att., IV, 1, 7 (XC); 2, 2 сл. (XCI).
(обратно)1340
Войско Цезаря, стоявшее в окрестностях Рима и в Цисальпийской Галлии. См. ниже, § 131; речи 16, § 32; 18, § 41, 52.
(обратно)1341
Консулы 58 г. Авл Габиний и Луций Кальпурний Писон Цезонин.
(обратно)1342
См. прим. 67 к речи 16.
(обратно)1343
В день, когда в Риме произошли волнения из-за недостатка хлеба.
(обратно)1344
Консул 57 г. Квинт Цецилий Метелл Непот, родственник Клодия.
(обратно)1345
Возможно, намек на Помпея, в 58 г. отказавшегося от политической деятельности. Ср. ниже, § 67, 110; речи 16, § 29; 18, § 69; 22, § 18.
(обратно)1346
Консулы 57 г. Публий Корнелий Лентул Спинтер и Квинт Цецилий Метелл Непот.
(обратно)1347
Провинции Сицилия и Азия.
(обратно)1348
Луций Сергий, возможно, вольноотпущенник Катилины. О замысле убить Помпея см. речи 18, § 69; 22, § 18.
(обратно)1349
Ср. речь 5, § 61 сл.
(обратно)1350
Вероятно, единомышленники Квинта Гортенсия. Ср. речь 5, § 52.
(обратно)1351
После смерти александрийского царя Птолемея XII Александра II (см. прим. 39 к речи 7) два внебрачных сына царя Птолемея Лафира завладели его престолом: один — в Александрии, под именем Птолемея XII Нофа (Авлета), другой (также Птолемей) — на Кипре. В 58 г. Клодий, ссылаясь на то, что царь Кипра оказывал помощь пиратам, провел закон о превращении Кипра в римскую провинцию. Желая удалить Марка Катона из Рима, Клодий провел закон о предоставлении ему соответствующих полномочий; они были чрезвычайными, так как 1) были даны частному лицу, которое до этого было только квестором и трибуном, между тем Катон получал права претора; 2) были именными; 3) касались двух поручений: насчет Кипра и Византия. Катон лишался свободы действий и был вынужден поддерживать как этот, так и другие законы Клодия; его отказ был бы равносилен неповиновению воле римского народа. Царь, узнав о событиях в Риме, отравился. Катону, возвратившемуся в Рим с сокровищами царя, была устроена торжественная встреча. См. речь 18, § 57, 60 сл.
(обратно)1352
5 декабря 63 г. Катон высказался в сенате за смертную казнь для пятерых сторонников Катилины. См. Саллюстий, «Катилина», 52.
(обратно)1353
Ср. речь 18, § 60.
(обратно)1354
Консул 58 г. Авл Габиний.
(обратно)1355
Имеется в виду второй земельный закон Цезаря (59 г.) о покупке земли в Кампании для раздачи ветеранам и римскому плебсу. См. письмо Att., II, 17, 1 (XLIV).
(обратно)1356
Об эрарии см. прим. 2 к речи 2.
(обратно)1357
Тит Ампий Бальб, впоследствии помпеянец.
(обратно)1358
Ср. речь 18, § 24, 55, 71, 93 сл.
(обратно)1359
Имеется в виду Юлиев закон о вымогательстве (59 г.). Цезарь был женат на Кальпурнии, дочери Луция Кальпурния Писона.
(обратно)1360
Гай Гракх провел в 123 г. закон о консульских провинциях, установивший, что сенат еще до выборов консулов должен был назначить провинции, которыми те будут ведать по окончании своего консульства. Интерцессия трибуна по этому постановлению сената не допускалась. См. речь 21, § 3, 7.
(обратно)1361
Ораторское преувеличение: как трибун Клодий империем не обладал и ликторы не сопровождали его.
(обратно)1362
Клодиев закон от 3 января 58 г. о бесплатной раздаче хлеба беднейшему населению Рима.
(обратно)1363
Ср. речи 19, § 78; 20, § 11; Марциал, Эпиграммы, II, 84, 3.
(обратно)1364
Риторическое преувеличение. Ср. речь 18, § 16.
(обратно)1365
Цицерон имеет в виду себя и Клодиев закон «Об изгнании Марка Туллия». О привилегии см. прим. 18 к речи 16.
(обратно)1366
Ср. речь 114, § 67; письмо Fam., V, 7 (XV).
(обратно)1367
Ср. речь 18, § 41.
(обратно)1368
Ср. речь 18, § 46.
(обратно)1369
Намек на Гая Цезаря.
(обратно)1370
Ср. речь 16, § 29.
(обратно)1371
Под публичным правом разумеется все государственное и уголовное право в совокупности.
(обратно)1372
Патриций мог быть избран в народные трибуны только после своего перехода в плебейское сословие путем усыновления плебеем.
(обратно)1373
Усыновление римского гражданина, бывшего под властью главы рода (см. прим. 41 к речи 1), называлось адопцией. Глава рода передавал члена рода из-под своей власти под власть другого лица путем трехкратной символической продажи (манципация), причем этот член рода, дважды отпущенный на свободу этим лицом, дважды снова возвращался под власть главы рода; в третий раз он получал свободу (эманципация). Адоптированный получал права сына. Усыновление самостоятельного (sui iuris) римского гражданина называлось адрогацией; для нее требовалось издание куриатского закона. Усыновляемый отказывался от своих родовых священнодействий (alienatio, s. detestatio, sacrorum) и обязывался совершать священнодействия рода, в который вступал. См. ниже, § 77.
(обратно)1374
См. прим. 112 к речи 4.
(обратно)1375
Претор 108 г. Гней Авфидий усыновил Гнея Аврелия Ореста. Марк Пупий усыновил Кальпурния Писона, принявшего имя Марка Пупия Кальпурниана Писона (консул 61 г.).
(обратно)1376
По закону трибунов Гая Лициния Столона и Луция Сестия Латерана (367 г.), один из консулов должен был быть плебеем.
(обратно)1377
Это место указывает на то, что плебеи получили половину, если не большинство мест в коллегиях понтификов, авгуров и децемвиров священнодействий. «Царь священнодействий» (прим. 1), фламины и салии (древняя коллегия жрецов Марса) должны были быть патрициями.
(обратно)1378
Имеется в виду понятие о patrum auctoritas и формула «patres auctores fiunt», т. е. патриции — члены сената одобряют постановление центуриатских комиций. После издания Публилиева закона (339 г.) это одобрение стало формальностью.
(обратно)1379
Интеррекс («междуцарь») — магистрат, избиравшийся на пятидневный срок в случае гибели или отсутствия обоих консулов. Он проводил выборы консулов. Об авспициях см. прим. 11 к речи 8.
(обратно)1380
Куриатский закон об усыновлении Клодия Фонтеем, принятый под председательством Цезаря как верховного понтифика.
(обратно)1381
Марк Кальпурний Бибул, коллега Цезаря по консульству 59 г. и противник его земельных законов. Отстраненный Цезарем от деятельности, он объявлял все акты Цезаря не имеющими силы, ссылаясь на то, что он, Бибул, в это время наблюдал за небесными знамениями. См. письма Att., II, 20, 4 (XLVII); 21, 3—5 (XLVIII).
(обратно)1382
Аппий Клавдий Пульхр, претор 57 г.
(обратно)1383
Цицерон охотно относил к себе эпитет custos (страж) или conservator Urbis (охранитель Рима); так обычно называли Юпитера и Минерву. Перед своим отъездом в изгнание он поставил в Капитолии статую Минервы с надписью на цоколе: «Охранительница Рима». См. ниже, § 92, 144.
(обратно)1384
Гай Антоний Гибрида, консул 63 г., был в марте 59 г. осужден, по-видимому, за преступление против величества римского народа (прим. 40 к речи 2) и, возможно, за связи с Катилиной.
(обратно)1385
Цезарь. Ср. ниже, § 42; речь 21, § 42; Светоний, «Божественный Юлий», 20.
(обратно)1386
См. прим. 1 к речи 2.
(обратно)1387
Марк Ливий Друс, трибун 91 г., сын известного противника Гая Гракха. Сторонник нобилитета, он пытался вернуть сенаторам суды ценой компромисса с другими силами: римские всадники должны были получить места в сенате, городской плебс — дешевый хлеб и землю в Италии и Сицилии, италики — права гражданства. Сопротивление крайних нобилей и всадников вызвало решительные меры Друса. Борьба закончилась гибелью Друса и восстанием италиков (Союзническая или Италийская война, 91—88 гг.).
(обратно)1388
Публий Сервилий был понтификом; см. прим. 23 к речи 3.
(обратно)1389
«Священные законы» (Leges sacratae) — об избрании и правах народных трибунов, которые были приняты, согласно традиции, после ухода плебса на Священную гору и грозили нарушителю обречением божеству (consecratio capitis), т. е. ставили его вне закона. Ср. речь 18, § 16. См. ниже, прим. 161.
(обратно)1390
См. прим. 88 к речи 1.
(обратно)1391
См. прим. 28 к речи 1.
(обратно)1392
Плебисцит — постановление, закон, принятые трибутскими комициями. О рогации см. прим. 76 к речи 14.
(обратно)1393
О суде народа см. прим. 39 к речи 1.
(обратно)1394
Возможно, намек на господство триумвиров в 59 г. См. письма Цицерона к Аттику, книга II.
(обратно)1395
Имеется в виду Секст Клодий; см. выше, § 25.
(обратно)1396
В подлиннике непереводимая игра слов.
(обратно)1397
Имеется в виду постройка храма Свободы на земле Цицерона.
(обратно)1398
Для освящения храма Свободы. Ср. ниже, § 117 сл.
(обратно)1399
Имеется в виду Публий Ватиний, трибун 59 г., впоследствии потерпевший неудачу при выборах эдилов. В Палатинской городской трибе Клодий пользовался влиянием. Ср. речь 18, § 114.
(обратно)1400
Народный трибун 58 г. Публий Элий Лигур. Ср. речи 16, § 3; 18, § 68.
(обратно)1401
Видимо, при попытке оспорить завещание. Ср. речь 22, § 18.
(обратно)1402
См. прим. 48 к речи 1.
(обратно)1403
Палец поднимали во время аукциона, подавая этим знак. Далее говорится о разграблении имущества Цицерона и о голосовании за Клодиев закон.
(обратно)1404
Текст рогации; имеется в виду senatus consultum ultimum от 22 октября 63 г. См. вводные примечания к речам 8 и 9—12.
(обратно)1405
Т. е. при однократном назначении centuria praerogativa (прим. 20 к речи 2), при однократном голосовании, вопреки Цецилиеву-Дидиеву закону; см. прим. 1 к речи 2.
(обратно)1406
Марк Эмилий Скавр, консул 115 и 107 гг. О Луции Лицинии Крассе см. прим. 109 к речи 6. О Друсе см. прим. 55.
(обратно)1407
Клодию, видимо, было поручено наблюдать за постройкой храма Свободы на участке Цицерона.
(обратно)1408
Надпись, сделанная на храме Свободы, с упоминанием имени Клодия. См. письмо Q. fr., II, 7, 2 (CXXII).
(обратно)1409
Лициниев и Эбуциев законы запрещали предоставлять должность лицу, предложившему учредить ее, и его коллегам и родственникам. Ср. речь 7, § 21.
(обратно)1410
Дедикация и консекрация (храма, участка земли и т. п.) — два связанных один с другим сакральных акта. Дедикация, часто совершавшаяся во исполнение обета, — отказ владельца имущества от своих прав на него в пользу божества. Консекрация — это передача этого имущества во власть божества, т. е. из области применения ius humanum в область применения ius divinum, причем такое имущество становилось res sacra. Так как дом и земля Цицерона, после издания Клодиева закона об его изгнании, были конфискованы, то дедикацию их должен был совершить магистрат. Оба термина часто смешивались, причем понятие дедикации включало в себя и понятие консекрации.
(обратно)1411
Для соискания консульства кандидат должен был во время выборов находиться в Риме. Кистофор — пергамская монета с изображением священного ларца Диониса. Речь идет о взыскании податей.
(обратно)1412
Об Аврелиевом трибунале см. прим. 74 к речи 6.
(обратно)1413
Ср. речь 18, § 29; см. прим. 28 к речи 1.
(обратно)1414
Ср. речь 18, § 32; см. прим. 53 к речи 3.
(обратно)1415
Об интерцессии см. прим. 57 к речи 5. Денежный штраф налагали трибутские комиции.
(обратно)1416
Ср. речи 18, § 54; 19, § 50; письмо Fam., XIV, 2, 2 (LXXIX).
(обратно)1417
Из провинции Азии, где Квинт Цицерон был пропретором в 61—59 гг. См. письма Q. fr., I, 1 (XXX); 2 (LIII).
(обратно)1418
Ср. речь 16, § 37.
(обратно)1419
Тетрарх (четвертовластник) — правитель четвертой части. Так назывались царьки на Востоке, которым Рим предоставлял некоторую самостоятельность.
(обратно)1420
«Кампанский консул» — Луций Писон, дуовир в Капуе; «плясун» — Авл Габиний. Ср. речи 13, § 13; 16, § 6, 17.
(обратно)1421
Ср. речь 16, § 18.
(обратно)1422
Ср. речь 16, § 10.
(обратно)1423
В 337 г., во время войны с латинянами, Публий Деций Мус ради победы обрек себя в жертву Земле и манам. Его сын, консул 295 г., поступил так же во время войны с этрусками. Ср. речь 18, § 121.
(обратно)1424
См. выше, § 19 сл.
(обратно)1425
Помпей после своего триумфа держал пленного армянского царевича Тиграна под стражей у претора Луция Флавия. В 58 г. Клодий освободил Тиграна, совершив на Аппиевой дороге нападение на охрану царевича. При этом был убит римский всадник Марк Папирий. См. речь 22, § 18, 37; письмо Att., III, 8, 3 (LXXIII).
(обратно)1426
Ср. речи 16, § 5; 18, § 73 сл. Сенатор Луций Аврелий Котта в 63 г. предложил устроить молебствия богам от имени Цицерона.
(обратно)1427
Возможно, намек на триумвиров Цезаря, Помпея и Красса.
(обратно)1428
Это запрещалось клаузулой Клодиева закона об изгнании Цицерона. Ср. § 69; речь 16, § 8; письмо Att., III, 15, 6 (LXXIII).
(обратно)1429
См. прим. 18 к речи 4.
(обратно)1430
Клодиев закон о консульских провинциях. См. прим. 37 к речи 16.
(обратно)1431
Авл Габиний повторит это в сенате в 54 г. См. письмо Q. fr., III, 2, 2 (CXLVII).
(обратно)1432
По некоторым законам изгнание с утратой гражданских прав было карой за преступление. Средством уклониться от предстоящего суда было добровольное изгнание (exsilii causa solum vertere — удаляясь в изгнание, «переменить место жительства»), которое влекло за собой утрату гражданских прав. См. ниже, § 78; речь по делу Авла Цецины, § 100.
(обратно)1433
Говоря о сельских жителях, Цицерон мог иметь в виду жителей деревень вокруг Рима; они входили в состав городских триб. «Жители холмов» — возможно, население холмистой части Рима.
(обратно)1434
4 секстилия (августа) 57 г., когда консулы внесли в центуриатские комиции закон о возвращении Цицерона из изгнания.
(обратно)1435
Ср. речь 18, § 128, 131; письмо Att., IV, 1, 5 (XC).
(обратно)1436
Ирония. В декабре 62 г. Клодий во время жертвоприношения Доброй Богине и моления за римский народ, совершавшихся женщинами, когда присутствие мужчин в доме запрещалось, проник в дом Цезаря для свидания с его женой Помпеей. Клодий был обвинен в кощунстве. Суд его оправдал. См. речь 20, § 9; письма Att., I, 12, 3 (XVII); 13, 3 (XIX); 14, 5 (XX); 16, 1 сл. (XXII).
(обратно)1437
Decemviri stlitibus iudicandis — ежегодно избиравшаяся коллегия судей, ведавшая, в частности, вопросом о гражданском статусе; ей были подсудны плебеи.
(обратно)1438
Корнелиев закон о гражданстве. Сулла, приводя в покорность враждебные ему города, заставлял их срывать свои стены, отнимал у них землю и лишал их гражданских прав, предоставленных им ранее. См. письма Att., I, 19, 4 (XXV); Fam., XIII, 4, 1 (DCLXXIV).
(обратно)1439
Гады — город в Испании (ныне Кадикс); Интерамна — город в Лации. В 61 г. Клодий, желая на суде доказать свое алиби, заявил, что он во время жертвоприношения Доброй Богине был в Интерамне. См. прим. 104; письмо Att., II, 1, 5 (XXVII).
(обратно)1440
Об этом законе сведений нет.
(обратно)1441
Город в Лации.
(обратно)1442
Речь идет об изгнании Публия Попилия Лената, консула 132 г., и Метелла Нумидийского. См. речь 16, § 25, 37.
(обратно)1443
Аппий Клавдий Пульхр, претор 89 г., сторонник Суллы, удалился в изгнание, но это не спасло его от преследований Цинны.
(обратно)1444
Луций Марций Филипп, консул 91 г., противник Друса, оратор; см. Цицерон, «Брут», § 47.
(обратно)1445
Бывший цензор Луций Аврелий Котта был цензором в 64 г.
(обратно)1446
Имеется в виду составление списка судей городским претором. Цицерон входил в судейскую декурию сенаторов.
(обратно)1447
Закон допускал назначение вторых и даже третьих наследников — на случай смерти первых наследников, утраты ими гражданских прав или отказа от наследства. Завещание составлялось и в пользу друзей. Ср. речь 22 § 48.
(обратно)1448
«Закон» — Корнелиев-Цецилиев закон о возвращении Цицерона из изгнания. Ср. речь 18, § 128.
(обратно)1449
Сын Луция Квинкция Цинцинната; он был изгнан за насильственные действия по отношению к народному трибуну (около 461 г.).
(обратно)1450
Марк Фурий Камилл, консул в 403 г. и шесть раз военный трибун с диктаторской властью, был после взятия им Вей в 396 г. обвинен в утайке войной добычи и удалился в изгнание. После поражения римлян на реке Аллии сенат в 390 г. вызвал Камилла из изгнания и назначил диктатором. За победу над галлами и освобождение Рима Камилл был провозглашен отцом отечества. См. Ливий, V, 32, 49; VI, 38, 42.
(обратно)1451
Об Агале см. прим. 6 к речи 9.
(обратно)1452
Об императоре см. прим. 70 к речи 1. См. прим. 110.
(обратно)1453
Ср. речь 16, § 27, 38.
(обратно)1454
Ср. выше, § 13 сл., 21, 54; речь 18, § 80.
(обратно)1455
Марсово поле. Оратор имеет в виду центуриатские комиции, принявшие закон о его возвращении из изгнания.
(обратно)1456
Имеется в виду убийство Тиберия Гракха сторонниками Публия Сципиона Насики Серапиона. Публий Муций Сцевола — консул 133 г. См. речь 22, § 88; «Об обязанностях», I, § 76.
(обратно)1457
По мифологии, Гера (Юнона) была сестрой и женой Зевса (Юпитера). Намек на близкие отношения, будто бы бывшие между Клодием и его сестрой. Ср. речь 19, § 32, 36; письма Att., II, 1, 5 (XXVII); 9, 1 (XXXVI); Q. fr., II, 3, 2 (CII).
(обратно)1458
В последний день консульства консул давал клятву в том, что не нарушал законов. Цицерон, которому трибун Квинт Метелл Непот не позволил произнести речь перед народом, поклялся в том, что спас отечество. Ср. речь 14, § 34; письмо Fam., V, 2, 7 (XIV).
(обратно)1459
Ср. речь 18, § 49; «Тускуланские беседы», III, 6, 12.
(обратно)1460
Ср. речь 16, § 18; см. прим. 96 к речи 1.
(обратно)1461
О трофее см. прим. 77 к речи 4.
(обратно)1462
Т. е. государственным преступником (hostis publicus).
(обратно)1463
О Мелии см. прим. 6 к речи 9. «Эквимелий», возможно, от aequus — справедливый.
(обратно)1464
Спурий Кассий Вецеллин в 486 г. предложил закон о предоставлении плебеям права занимать государственные земли. Он был обвинен в стремлении к царской власти и осужден на смерть. Ср. речь 26, § 87, 114. Храм Земли был освящен в 268 г.
(обратно)1465
Марк Витрувий Вакк руководил восстанием привернатов; был казнен в 330 г.
(обратно)1466
См. прим. 37 к речи 14.
(обратно)1467
См. прим. 18 к речи 12. Ср. речь 18, § 121.
(обратно)1468
Первый случай, когда был принят senatus consultum ultimum. См. вводное примечание к речи 8.
(обратно)1469
По-видимому, Аппий Клавдий Слепой, цензор 312 г., по преданию, лишенный зрения за разглашение сведений о священнодействиях в честь Геркулеса. Ср. речь 19, § 33; «Тускуланские беседы», V, § 112; «О старости», § 36. Возможно, Луций Цецилий Метелл, который в 241 г. спас палладий из горевшего храма Весты и лишился зрения. См. прим. 48 к речи 22.
(обратно)1470
Обычная оговорка. Ср. письмо Att., III, 23, 2 (L).
(обратно)1471
Первоначально lar familiaris был божеством-покровителем земельного участка и людей, обрабатывающих его. В городе лары считались покровителями перекрестков. 23 декабря справлялся праздник Ларалий или Компиталий.
(обратно)1472
См. выше, § 5, 54; речь 16, § 32.
(обратно)1473
Возможно, Марк Теренций Варрон Лукулл, консул 73 г. Ср. § 132; письмо Att., IV, 2, 4 (XCI).
(обратно)1474
Помпей. Ср. выше, § 67. См. прим. 11 к речи 16.
(обратно)1475
Город в Беотии; славился изготовлением статуэток из обожженной глины.
(обратно)1476
Аппий Клавдий Пульхр, старший брат Клодия. См. письма Fam., III, 1, 1 (CLXXVIII); VIII, 14, 4 (CCLXXV).
(обратно)1477
Курульный эдилитет не был обязателен при прохождении магистратур, но лица, отказавшиеся от него и не устроившие игр для народа, могли впоследствии потерпеть неудачу при соискании. См. Цицерон, «Об обязанностях», II, § 58.
(обратно)1478
Это облегчало злоупотребления при подсчете голосов: имена кандидатов писались на табличках сокращенно.
(обратно)1479
См. прим. 13 к речи 1.
(обратно)1480
Ср. речь 16, § 9.
(обратно)1481
Фактически были объединены два участка земли: тот, где стоял портик Катула, и тот, где стоял дом Цицерона; самые здания были разрушены.
(обратно)1482
Галерея (см. прим. 75 к речи 14) была посвящена богам; портиком и комнатами пользовался Клодий.
(обратно)1483
Ограниченный колоннами внутренний дворик в римском доме; его превращали в сад с водоемом и фонтаном.
(обратно)1484
Клодий продал конфискованный дом Цицерона, действуя как официальное лицо.
(обратно)1485
Луций Пинарий Натта. Пинарии участвовали в культе Геркулеса. Ср. речь 13, § 73; письмо Att., IV, 8a, 3 (CXVII); Вергилий, «Энеида», VIII, 269 сл.
(обратно)1486
Это могли быть Аппий или Гай Клавдии Пульхры.
(обратно)1487
О Друсе см. выше, § 41, 50. Его противником был Квинт Сервилий Цепион, женатый на его сестре Ливии. Их дочь Сервилия была матерью Марка Юния Брута (первый брак) и Марка Порция Катона (второй брак). [Сервилия была не матерью, а единоутробной сестрой Марка Порция Катона Утического (Плутарх, «Катон Младший», 1). — Прим. О. В. Любимовой (ancientrome.ru).] Ср. речь 22, § 16.
(обратно)1488
Во II—I вв народный трибун, усмотрев посягательство на свей авторитет, мог произвести консекрацию имущества (consecratio bonorum) оскорбителя, т. е. своего рода конфискацию в пользу божества или храма. Она без предварительной судебной процедуры совершалась на рострах в виде искупительного обряда с участием флейтиста и курением благовоний (треножник с углями). Эта процедура не могла быть применена к уже конфискованному имуществу Цицерона.
(обратно)1489
Консул 157 г. Квинт Цецилий Метелл Македонский [Квинт Цецилий Метелл Македонский — консул 143 г. — Прим. О. В. Любимовой (ancientrome.ru).], дед упоминаемых ниже консула 69 г. Квинта Метелла Критского и консула 79 г. Публия Сервилия Исаврийского, прадед претора Квинта Метелла Пия Сципиона (Публия Сципиона Насики).
(обратно)1490
Гней Корнелий Лентул Клодиан, цензор 70 г.
(обратно)1491
По Клодиеву закону о консульских провинциях. О консекрации имущества Авла Габиния сведений нет.
(обратно)1492
Луций Нинний Квадрат, народный трибун 58 г., сторонник Цицерона. Ср. речи 16, § 3, 5, 8; 18, § 26, 68; письмо Att., III, 15, 4 (LXXIII).
(обратно)1493
В древнейшую эпоху кощунство и преступление против родителей и против народного трибуна карались так называемой consecratio capitis et bonorum: преступник объявлялся вне закона, а его имущество продавалось в пользу храма, чаще всего Цереры (по Валериеву-Горациеву закону 449 г.).
(обратно)1494
Ирония. По традиции, царь Нума Помпилий основал коллегии жрецов и заменил 10-месячный календарь 12-месячным.
(обратно)1495
Луций Клавдий. О «царе священнодействий» см. выше, прим. 1.
(обратно)1496
Время издания Папириева закона неизвестно. Магистрат, облеченный империем был вправе совершать дедикацию без особого на то разрешения.
(обратно)1497
Ср. речь 7, § 5; Светоний, «Божественный Юлий», 20.
(обратно)1498
Тетрарх Брогитар, подкупив Клодия, получил право разделять с царем Дейотаром титул царя и жречество в храме Великой Матери богов (в Пессинунте), почитавшейся в Галатии под именем Агдистиды. Дейотар обвинил Брогитара в ограблении храма и отстранил от жречества. См. выше, § 52 сл., речи 18, § 56; 20, § 28; письмо Q. fr., II, 7, 2 (CXXII).
(обратно)1499
Ср. выше, § 55; речь 18, § 24, 34.
(обратно)1500
Центурии конницы, составлявшиеся из молодых римских всадников.
(обратно)1501
Квинт Марций Филипп был цензором в 164 г., Гай Кассий Лонгин — в 154 г.
(обратно)1502
Преувеличение: Клодиев закон о цензуре требовал для исключения сенатора из сената решения обоих цензоров. Ср. речь 18, § 55.
(обратно)1503
Публий Сервилий Исаврийский и Марк Теренций Варрон Лукулл были понтификами.
(обратно)1504
Квинт Лутаций Катул. Ср. выше, § 113.
(обратно)1505
В подлиннике игра слов, основанная на двояком значении слова caput: 1) голова, жизнь, 2) гражданские права.
(обратно)1506
См. речь 13. Спасение Мурены «вместе со всеми» — благодаря подавлению заговора Катилины.
(обратно)1507
Т. е. у подошвы Авентинского холма, где был храм Bona Dea Subsaxanea. См. Овидий, «Фасты», V, 147.
(обратно)1508
Лициния была казнена в 114 г. Тит Квинкций Фламинин и Тит Метелл Балеарский [Квинт Метелл Балеарский. — Прим. О. В. Любимовой (ancientrome.ru).] были консулами в 123 г. Публий Муций Сцевола — один из первых римских законоведов. «Ложе» применялось при обряде угощения божества; см. прим. 22 к речи 11.
(обратно)1509
См. прим. 72 к речи 5.
(обратно)1510
Первый плебей, ставший верховным понтификом.
(обратно)1511
Первый консул времен республики. Недруги указывали, что он не может освящать Капитолий, так как в его семье произошло несчастье. См. Ливий, II, 8, 7 сл.
(обратно)1512
При некоторых празднествах вместо жертвенного животного пользовались его изображением из теста или воска.
(обратно)1513
Ср. Плиний, «Естественная история», II, 24.
(обратно)1514
Мысль в духе стоической философии. Ср. выше, § 97.
(обратно)1515
Ср. Цицерон, «Об обязанностях», I, § 25.
(обратно)1516
Ср. письмо Fam., II, 16, 5 (CCCXC); написано в 49 г.
(обратно)1517
Имеются в виду потрясения в политической жизни, вызванные Публием Клодием и его сторонниками.
(обратно)1518
Как Публий Корнелий Лентул Спинтер. О трауре см. прим. 53 к речи 3.
(обратно)1519
Как Тит Анний Милон и Сестий, привлеченные Клодием к суду по обвинению в насильственных действиях.
(обратно)1520
Совокупность гражданских прав определялась термином caput. Осуждение по уголовному делу влекло за собой ограничение и утрату прав (deminutio capitis), римский гражданин терял имущественные права, власть над членами рода (patria potestas), доброе имя (становился infamis) и должен был удалиться в изгнание.
(обратно)1521
Оратор имеет в виду свое возвращение из изгнания.
(обратно)1522
О произнесении речи в последнюю очередь см. Цицерон, «Оратор», § 130; «Брут», § 190.
(обратно)1523
Цицерон подчеркивает это обстоятельство, так как избрание во времена смуты не всегда говорило в пользу избранного.
(обратно)1524
Согласие отца на брак сына требовалось ввиду того, что сын находился «под властью отца». См. прим. 41 к речи 1.
(обратно)1525
См. прим. 1 к речи 1.
(обратно)1526
Консульство Луция Корнелия Сципиона (83 г.) пришлось на время гражданских войн. Он попал в плен к Сулле и, отпущенный им, удалился в изгнание в Массилию.
(обратно)1527
О военных трибунах см. прим. 26 к речи 2.
(обратно)1528
В 62 г. Сестий был квестором проконсула Гая Антония. Провинции для квесторов назначались жеребьевкой, происходившей 5 декабря в храме Сатурна. См. письма Fam., V, 5 (XVI); Q. fr., I, 1, 11 (XXX).
(обратно)1529
Речь, видимо, идет о связях Гая Антония с Катилиной.
(обратно)1530
В двояком смысле: 1) относился с уважением, 2) держал под наблюдением.
(обратно)1531
Город в Умбрии.
(обратно)1532
Прибрежная территория к северу от Пицена с городами: Галльская Сена, Фан, Аримин, Равенна.
(обратно)1533
См. речь 14, § 19; Орозий, VI, 6.
(обратно)1534
По словам Цицерона, в Капуе ему воздвигли вызолоченную статую.
(обратно)1535
Сын обвиняемого.
(обратно)1536
См. прим. 3 и прим. 79 к речи 1. Отношения клиентелы и общественного гостеприимства позволили бы Сестию ожидать от населения Капуи выступления в его защиту.
(обратно)1537
Т. е. трибунов 62 г., особенно Квинта Метелла Непота и Луция Кальпурния Бестии.
(обратно)1538
Узнав, что Квинт Непот добивается трибуната на 62 г., Марк Катон выставил и свою кандидатуру в трибуны и добился избрания.
(обратно)1539
См. прим. 119 к речи 4. Консул — Гай Антоний.
(обратно)1540
Легат Марка Антония, командовавший войсками в битве под Писторией. См. Саллюстий, «Катилина», 59, 4.
(обратно)1541
Уйдя в горы, Катилина мог быть отрезан с юга Гаем Антонием, с севера — Квинтом Метеллом Целером. См. письмо Fam., V, 1, 2 (XIII); Саллюстий, «Катилина», 57, 2.
(обратно)1542
Катилина вербовал солдат среди пастухов. В средней и южной Италии находились латифундии римской знати и было распространено скотоводство. Ср. речь 17, § 41.
(обратно)1543
Во время пребывания в Фессалонике в 58 г., в изгнании.
(обратно)1544
В 58 г., в консульство Луция Писона и Авла Габиния.
(обратно)1545
Имеется в виду 59 г. Далее говорится о переходе Клодия в плебейское сословие. Ср. речь 17, § 41.
(обратно)1546
Ср. письма Att., II, 20, 2 (XLVII); 22, 2 (XLIX).
(обратно)1547
См. прим. 11 к речи 8.
(обратно)1548
Переход из сословия патрициев в плебейское не запрещался законом, но противоречил обычаю.
(обратно)1549
См. прим. 57 к речи 17.
(обратно)1550
Цезарь, который как верховный понтифик созвал куриатские комиции и провел куриатский закон об усыновлении Клодия Марком Фонтеем, председательствовал в комициях. Для выхода Клодия из сословия патрициев требовалось согласие патрицианских курий.
(обратно)1551
Курульное кресло и тога-претекста. См. прим. 90 к речи 1.
(обратно)1552
Авл Габиний.
(обратно)1553
«Ограда» (puteal Libonis, Scribonianum) — огражденное место у входа на форум, где собирались ростовщики. Невдалеке находилась колонна («столб»), воздвигнутая в честь консула 338 г. Гая Мения; около нее объявляли о продаже имущества несостоятельных должников. Скилла (или Сцилла) — мифическое морское чудовище, пожиравшее мореплавателей; против Скиллы находился водоворот Харибда. Скиллу и Харибду помещали в Сицилийском проливе, на италийском берегу которого был воздвигнут столб в честь Посейдона. Игра слов; «цепляться за столб»: 1) потерпеть кораблекрушение, 2) стоять у Мениевой колонны как несостоятельный должник.
(обратно)1554
Отряды, набранные Клодием для уличных боев. См. письмо Q. fr., I, 2, 15 (LIII).
(обратно)1555
Получение наместничества избавляло Авла Габиния от несостоятельности как должника.
(обратно)1556
Луций Кальпурний Писон.
(обратно)1557
Пурпурная полоса делалась на тунике и на тоге. Дешевый местный сорт пурпура («плебейский пурпур») имел лиловый оттенок. Тарентинский и тирский пурпур (дорогие сорта) был ярко-красного цвета.
(обратно)1558
Знатные римляне охотно занимали должности в муниципиях, что давало им право упомянуть об этом в надписях под портретными бюстами. См. прим. 38 к речи 4.
(обратно)1559
См. прим. 91 к речи 7.
(обратно)1560
См. прим. 35 к речи 16.
(обратно)1561
С помощью триумвиров Цезаря, Помпея и Красса.
(обратно)1562
Прозвание «Фруги» (бережливый, честный) носила другая ветвь рода Кальпурниев Писонов. Луций Писон принадлежал к ветви Цезонинов.
(обратно)1563
См. прим. 32 к речи 16.
(обратно)1564
Цицерон имеет в виду гедонистов, считавших высшим благом чувственные удовольствия, эпикурейцев, считавших высшим благом спокойствие духа, отсутствие боли, свободу от страха и страстей (атараксия). См. речь 16, § 14.
(обратно)1565
Имеются в виду стоики, академики и перипатетики. См. Цицерон, «О границах добра и зла», III, § 68.
(обратно)1566
По обычаю, договоры освящались принесением жертвы. Речь идет о соглашении между консулами 58 г. и Публием Клодием.
(обратно)1567
См. прим. 37 к речи 16.
(обратно)1568
В храме Согласия 5 декабря 63 г. состоялось заседание сената, после которого пять заговорщиков были казнены. См. речь 12.
(обратно)1569
Так как консул отказался докладывать сенату о деле Цицерона, то это сделал народный трибун. Ср. речь 16, § 3.
(обратно)1570
5 декабря 63 г. для охраны сенаторов, собравшихся в храме Согласия. См. письмо Att., II, 1, 7 (XXVII).
(обратно)1571
Ср. письмо Fam., XI, 16, 2 (DCCCLXXXVIII). В отличие от изгнания (exsilium), высылка (relegatio) не влекла за собой утраты гражданских прав. В 54 г. Луций Элий Ламия вернулся в сенат.
(обратно)1572
Hostis publicus — государственный преступник.
(обратно)1573
Обычные наименования народов Италии, зависевших от Рима до предоставления им прав римского гражданства (90 г.).
(обратно)1574
В 187 и 177 гг. латиняне, незаконно числившиеся римскими гражданами, получили распоряжение вернуться в свои города. В 125 и 122 гг. латинянам и италикам был запрещен доступ в Рим. В 95 г. они были удалены из Рима на основании Лициниева-Муциева закона.
(обратно)1575
См. прим. 39 к речи 17.
(обратно)1576
См. прим. 31 к речи 1.
(обратно)1577
О муниципии см. прим. 19 к речи 1, о колонии — прим. 68 к речи 4.
(обратно)1578
См. прим. 7 к речи 11.
(обратно)1579
В случае, если Писон, в то время находившийся в Македонии, по возвращении будет привлечен к суду. Оратор обращается к отсутствующему (фигура apostrophe).
(обратно)1580
Консульские фасты — погодные записи имен консулов.
(обратно)1581
См. прим. 31 к речи 16.
(обратно)1582
См. прим. 11 к речи 8, прим. 27 к речи 16. Ср. речь 16, § 11.
(обратно)1583
См. прим. 74 к речи 6.
(обратно)1584
В январе 58 г. Клодий провел закон о восстановлении коллегий, запрещенных в 64 г. постановлением сената, и об учреждении новых коллегий. Особенное значение имели collegia compitalicia — религиозные объединения, связанные с культом ларов перекрестков (прим. 139 к речи 17). Эти коллегии, использовавшиеся и для подкупа избирателей, были доступны и рабам.
(обратно)1585
Чтобы сделать храм неприступным. Ср. речи 16, § 32; 17, § 110; 22, § 81.
(обратно)1586
См. прим. 59 к речи 16.
(обратно)1587
Гай Марий был консулом в 107, 104—100 и 86 гг.
(обратно)1588
Ср. речь 16, § 27 сл.
(обратно)1589
«Отдать во власть» (addicere) — судебный термин: решение претора о передаче собственности или об обращении несостоятельного должника в рабство.
(обратно)1590
Кроме двух городских квесторов в Риме, квесторы были и в важнейших городах Италии. Квестор в Остии контролировал ввоз зерна в Италию.
(обратно)1591
См. прим. 104 к речи 17.
(обратно)1592
Ср. речи 17, § 115; 20, § 30.
(обратно)1593
Т. е. пока не был образован триумвират (конец 60 г.). Ср. § 41, 67, 133.
(обратно)1594
Цезарь. Ср. речи 16, § 32; 17, § 20 сл.
(обратно)1595
О суде народа см. прим. 39 к речи 1. «Борьба на законном основании» — уголовный суд в одной из quaestiones perpetuae.
(обратно)1596
Об императоре см. прим. 70 к речи 1.
(обратно)1597
Речь идет о законах, проведенных Цезарем в 59 г.
(обратно)1598
Народный трибун 59 г. Публий Ватиний.
(обратно)1599
Цезарь дал назначение Гаю Клавдию, старшему брату Публия Клодия.
(обратно)1600
Цезарь, Помпей и Красс.
(обратно)1601
Публий Клодий. Цицерон считал его продолжателем дела Катилины.
(обратно)1602
Убийство трибуна каралось священными законами. См. прим. 57 к речи 17.
(обратно)1603
Цитата из неизвестной нам трагедии.
(обратно)1604
Т. е. детей и имущество.
(обратно)1605
Первая мысль принадлежит эпикурейцам, вторая — сократикам и стоикам. Ср. Цицерон, «О старости», § 83; «О дружбе», § 13; «Тускуланские беседы», I, § 18 сл.
(обратно)1606
По преданию, оракул предсказал афинскому царю Эрехфею (V в.), что он одержит победу над фракийцами, если принесет в жертву одну из дочерей. Царь обрек в жертву младшую дочь; ее судьбу разделили и две другие.
(обратно)1607
По преданию, в конце VI в., когда Рим был осажден этрусским царем Порсенной, знатный юноша Гай Муций, схваченный при попытке убить царя в его лагере и приведенный к царю, положил правую руку в огонь, чтобы доказать свое бесстрашие. Царь отпустил его, пощадив за доблесть. Муций получил прозвание «Сцевола» (Левша).
(обратно)1608
О Дециях Мусах см. прим. 91 к речи 17.
(обратно)1609
Марк Красс был одним из защитников Сестия. Его отец, Публий Лициний Красс Луситанский, консул 97 г., был осужден на смерть Цинной и покончил с собой.
(обратно)1610
Гай Марий и Цицерон оба были родом из Арпина; оба были «новыми людьми»; см. прим. 83 к речи 3.
(обратно)1611
Победа Мария сопровождалась избиением нобилей и римских всадников.
(обратно)1612
Это позволяет считать, что кампании Цезаря в 58 и 57 гг. уже увенчались покорением Галлии. Ср. речь 21, § 34.
(обратно)1613
22 октября 63 г. сенат, приняв senatus consultum ultimum, облек консулов чрезвычайными полномочиями. Цицерон говорит о суждении сената (senatus auctoritas); возможно, что была попытка интерцессии. См. прим. 57 к речи 5.
(обратно)1614
После того как дом Цицерона был разрушен, жена его Теренция нашла приют у своей родственницы, весталки Фабии. Однажды ее заставили дать у меняльной лавки Валерия обязательство заплатить долги. См. письмо Fam., XIV, 2, 2 (LXXIX). О покушениях на жизнь детей Цицерона сведений нет.
(обратно)1615
Клодиев закон о цензуре; он был отменен в конце 52 г. См. прим. 170 к речи 17.
(обратно)1616
На основании закона Гая Гракха (lex Sempronia frumentaria) каждый римский гражданин получал паек пшеницы за плату в 6 1/3 асса за модий. Это было отменено Суллой, но восстановлено в 73 г. Теренциевым-Кассиевым законом. Катон в 62 г. установил паек в 5 модиев для 320.000 человек менее чем за половину нормальной цены. В 58 г. Клодий своим законом ввел бесплатную раздачу хлеба. Модий — 8,75 литра.
(обратно)1617
Клодиевы законы: об отмене права нунциации («права властей»), об отмене Элиева закона («о праве»), об отмене Фуфиева закона («о времени предложения»), Ср. § 33, конец.
(обратно)1618
Т. е. на основании плебисцита (постановление трибутских комиций), между тем как принятие решений по делам, касавшимся других народов, было правом сената.
(обратно)1619
См. прим. 166 к речи 17.
(обратно)1620
См. § 64—84; речь 17, § 52; письмо Q. fr., II, 7, 2 (CXXII).
(обратно)1621
Царь Кипра. Его брат — Птолемей Авлет Ноф.
(обратно)1622
Имеется в виду древний обычай Рима — перед объявлением войны посылать четырех жрецов-фециалов с заявлением о претензиях Рима. См. прим. 54 к речи 4.
(обратно)1623
Царь Сирии Антиох III Великий (222—186 гг).
(обратно)1624
Ошибка Цицерона: это был не Аттал I, а его преемник на пергамском престоле Евмен II (197—159 гг.)
(обратно)1625
Тигран I (94—66 гг.), союзник Митридата VI. См. речь 5.
(обратно)1626
Диадема — знак царского достоинства, белая головная повязка.
(обратно)1627
Тигран сдался Помпею в 66 г. и был оставлен на престоле на правах государя, зависимого от Рима.
(обратно)1628
См. прим. 19 к речи 17.
(обратно)1629
Имеется в виду первый земельный закон Цезаря (59 г.).
(обратно)1630
Следуя своему излюбленному изречению: «Если Катон не нуждается в Риме, Рим нуждается в Катоне». См. Плутарх, «Катон Младший», 32.
(обратно)1631
О казни пяти катилинариев (5 декабря 63 г.).
(обратно)1632
См. Плутарх, «Катон Младший», 27 сл.
(обратно)1633
В 59 г., в первое консульство Цезаря.
(обратно)1634
Жители Пессинунта; Птолемей, царь Кипра; Византий.
(обратно)1635
Клодиев закон об изгнании Цицерона.
(обратно)1636
Ср. речь 17, § 43. О привилегии см. прим. 18 к речи 16, о священных законах — прим. 57 к речи 17, о Двенадцати таблицах — прим. 88 к речи 1.
(обратно)1637
Ср. Цицерон, «О законах», III, § 11, 44.
(обратно)1638
Имеется в виду собрание плебса по трибам (concilium plebis tributum). Ср. Ливий, XXXIX, 155, Авл Геллий, XV, 27, 4.
(обратно)1639
Деньги, отпускавшиеся наместнику на расходы по управлению провинцией, и деньги, выдававшиеся ему на обзаведение (vasarium).
(обратно)1640
Для катилинариев, осужденных в 62 г. на основании Плавциева закона.
(обратно)1641
Имеются в виду действия Помпея против марианцев во время гражданской войны и против Квинта Сертория.
(обратно)1642
См. речь 5, § 31 сл.
(обратно)1643
Остатки войска Спартака, истребленные Помпеем.
(обратно)1644
Публий Элий Лигур, трибун 58 г. Ср. речь 17, § 49.
(обратно)1645
По окончании своего наместничества (61—59 гг.).
(обратно)1646
См. речь 16, § 4, 8, 11.
(обратно)1647
11 августа 58 г.
(обратно)1648
29 октября 58 г. Восемь народных трибунов — все, кроме Клодия и Лигура.
(обратно)1649
Трибун Лигур, по утверждению Цицерона, обманом причислил себя к плебейскому роду Элиев, в котором существовало прозвание «Лигур», т. е. лигуриец. Лигурийцы (италийский народ) считались у римлян хитрыми и лживыми людьми. Ср. Вергилий, «Энеида», XI, 701, 715.
(обратно)1650
См. речь 16, § 8.
(обратно)1651
Возможно, Цезарь требовал, чтобы Цицерон обязался считаться с Юлиевыми законами 59 г. Ср. речь 21, § 43; письмо Att., III, 18, 1 (LXXVI).
(обратно)1652
Консулы 58 г. Полководец надевал военный плащ (paludamentum) перед выступлением в поход (наместник — перед выездом в провинцию) в Капитолии при облечении его империем, после взятия им на себя обета (nuncupatio votorum, см. прим. 34 к речи 4). Консулы выехали в свои провинции, видимо, еще до того, как новые трибуны приступили к своим обязанностям (10 декабря).
(обратно)1653
В проконсульство Писона Македония была разорена фракийцами. См. письмо Q. fr., III, 1, 24 (CXLV). Неудачи Габиния были связаны с восстанием в Иудее. См. речь 21, § 9.
(обратно)1654
Трибун Нумерий Квинций Руф. Сравнение с полевой мышью могло быть связано с его прозванием «Руф» (рыжий).
(обратно)1655
Текст испорчен. В роду Атилиев первым получил прозвание «Серран» (сеятель) Гай Атилий Регул (см. прим. 46 к речи 1). По мнению Цицерона, Секст Атилий Серран происходил из безвестного рода Гавиев и был усыновлен («пересажен») Атилием. Гавии должны были быть созваны для получения их согласия на выход данного лица из их рода. В подлиннике игра слов, основанная на разном значении слов nomen и tabula: внеся сумму, полученную в виде взятки (nomen), в свою книгу (tabula), Гавий стер свое имя (nomen) с доски (tabula), на которой был написан текст законопроекта.
(обратно)1656
Квинт Метелл Непот. Ср. ниже, § 130; речь 16, § 8 сл.; письмо Fam., V, 2, 6 сл. (XIV).
(обратно)1657
При отсутствии консулов, избранных на следующий год, очередность выступлений консуляров в сенате определял председательствующий. Луций Аврелий Котта — претор 70 г., консул 65 г., автор закона о судоустройстве.
(обратно)1658
О Цицероне был издан закон об изгнании, но приговора с последующей провокацией к народу и решением центуриатских комиций вынесено не было. Ср. речь 17, § 68; «О законах», III, § 45.
(обратно)1659
Т. е. с тем, чтобы решение сената было подтверждено постановлением центуриатских комиций.
(обратно)1660
См. прим. 140 к речи 3.
(обратно)1661
Гней Оппий Корницин. См. выше, § 72; письмо Att., IV, 2, 4 (XCI).
(обратно)1662
На основании Пуппиева закона сенат не мог собираться в комициальные дни. В январе сенат мог собираться и принимать постановления только 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 13 и 14-го числа. Все остальные дни считались комициальными.
(обратно)1663
См. прим. 32 к речи 2 и прим. 72 к речи 5. Квинт Фабриций — трибун 57 г.
(обратно)1664
О комиции см. прим. 151 к речи 4. Гостилиева курия находилась к северо-востоку от комиция.
(обратно)1665
Ср. Плутарх, «Цицерон», 33.
(обратно)1666
Т. е. не Публия Клодия, а Аппия Клавдия Пульхра, претора 57 г.
(обратно)1667
Вооруженное столкновение между консулами 87 г. Гнеем Октавием (сторонником Суллы) и Луцием Корнелием Цинной.
(обратно)1668
Имеется в виду Публий Клодий; в подлиннике saginare — откармливать, намек на усиленное питание для гладиаторов перед боями.
(обратно)1669
Аппий Клавдий. До обнунциации дело не дошло, так как Фабриция с самого начала удалили с ростр. См. прим. 11 к речи 8.
(обратно)1670
Обращение к Клодию, которого в суде представлял Публий Туллий Альбинован.
(обратно)1671
Это может относиться как к Сестию, так и к Титу Аннию Милону, которого Клодий обвинил сам.
(обратно)1672
Это мог быть консул Квинт Метелл Непот. Ср. Дион Кассий, Римская история, XXXVIII, 7.
(обратно)1673
Ограда, которой был обнесен комиций. К юго-западу от комиция находился храм Кастора и Поллукса.
(обратно)1674
См. прим. 40 к речи 1. См. письмо Q. fr., II, 3, 6 (CII).
(обратно)1675
Полное его имя было Нумерий Квинций (Квинкций) Руф. Редкое личное имя Нумерий могло быть и родовым; поэтому одни искали Нумерия Руфа, другие знали его как Квинция Руфа; возможно, что с ним хотели расправиться сторонники Сестия, о чем Цицерон не говорит.
(обратно)1676
На рострах находились статуи послов Рима, убитых при исполнении ими своего долга.
(обратно)1677
См. письмо Q. fr., II, 1, 3 (XCIII).
(обратно)1678
Имеется в виду поджог храма Нимф, где хранились цензорские списки. Ср. речи 16, § 7; 22, § 73.
(обратно)1679
Помпей. Ср. § 69; речь 22, § 18, 37; Плутарх, «Помпей», 49; «Цицерон», 33.
(обратно)1680
По праву интерцессии. Милон и Серран были трибунами. См. прим. 57 к речи 5.
(обратно)1681
В отличие от обычного уголовного суда в quaestiones perpetuae, в особых случаях, изданием специального закона, назначался чрезвычайный суд. Так было в 61 г. по делу о кощунстве Клодия (Фуфиев закон), в 52 г. по делу об убийстве Клодия (Помпеев закон), в 43 г. по делу об убийстве Цезаря (Педиев закон).
(обратно)1682
Так называемое iustitum — приостановка государственных дел. Возможно, это было сделано после уличных схваток, вызванных Клодием 23 января 57 г. в связи с внесением в комиции законопроекта о возвращении Цицерона из изгнания. Ср. § 89, 95; речь 16, § 6; письмо Att., IV, 3, 2 (XCII).
(обратно)1683
Это нападение на дом Милона, видимо, произошло вскоре после событий 23 января и ранения Сестия; его не следует смешивать с нападением 12 ноября 57 г.; см. письмо Att., IV, 3, 3 (XCII).
(обратно)1684
Обращение к обвинителю Публию Туллию Альбиновану.
(обратно)1685
Публий Корнелий Лентул Спинтер и Квинт Метелл Непот.
(обратно)1686
См. выше, § 72.
(обратно)1687
В 57 г. Милон дважды привлекал Клодия к суду по обвинению в насильственных действиях. См. речь 16, § 19; письма Att., IV, 3, 2 (CII); Q. fr., II, 1, 2 (XCIII).
(обратно)1688
О награждении обвинителя см. прим. 82 к речи 6.
(обратно)1689
Намек на кощунство, совершенное Публием Клодием (62 г.).
(обратно)1690
Это были Квинт Метелл Непот, Аппий Клавдий и Секст Атилий Серран или Квинт Нумерий Руф.
(обратно)1691
Т. е. набрал вооруженный отряд.
(обратно)1692
Ср. Цицерон, «Об обязанностях», III, § 69.
(обратно)1693
Ср. Лукреций, «О природе вещей», V, 931 сл., 1105 сл.
(обратно)1694
О тускульской усадьбе Габиния см. речь 17, § 124. В 67 г. Габиний, выступая как народный трибун в защиту предложенного им закона о предоставлении Помпею чрезвычайных полномочий для борьбы с пиратами, показывал на сходках планы строившейся роскошной усадьбы Луция Лукулла.
(обратно)1695
Писон был проконсулом Македонии в 57—56 гг. Ср. речь 21, § 4.
(обратно)1696
Диррахий был суверенной городской общиной (civitas libera).
(обратно)1697
Милон и Сестий.
(обратно)1698
Клодий был избран в курульные эдилы 20 января 56 г. и немедленно привлек Милона к суду на основании Плавциева закона. См. прим. 39 к речи 1.
(обратно)1699
Портик Катула. См. вводное примечание к речи 17.
(обратно)1700
Дом Милона и дома Марка и Квинта Цицеронов.
(обратно)1701
Возможно, из своих владений в Этрурии. Ср. речь 22, § 26.
(обратно)1702
Милон хотел во время выборов эдилов в 57 г. заявить, что он наблюдает за небесными знамениями. См. письмо Att., IV, 3, 4 (XCII).
(обратно)1703
По-видимому, изданию эдиктов, упомянутых в § 89, предшествовало суждение сената. Ср. письмо Fam., I, 9, 15 (CLIX).
(обратно)1704
Цицерон здесь толкует понятие «оптиматы» расширенно, имея в виду вообще сторонников сената, а не одних только нобилей. Ср. Цицерон, «О государстве», III, § 23.
(обратно)1705
Т. е. римские всадники и эрарные трибуны, получившие доступ в сенат благодаря своему цензу при условии, что они занимали магистратуры.
(обратно)1706
Ср. письмо Fam., I, 9, 21 (CLIX). По мнению Цицерона, покой (otium) — досуг, позволяющий заниматься литературой и философией. См. ниже, § 110; «Тускуланские беседы», V, § 105.
(обратно)1707
Т. е. люди, причастные к государственной деятельности, которых Цицерон противопоставляет честным гражданам (boni cives). Ср. ниже, § 103.
(обратно)1708
Марк Эмилий Скавр был председателем суда. Его отец, Марк Эмилий Скавр, консул 115 и 107 гг., был с 115 г. первоприсутствующим в сенате и главой оптиматов. Квинт Варий был в 90 г. народным трибуном.
(обратно)1709
Квинт Цецилий Метелл Нумидийский. См. прим. 59 к речи 16.
(обратно)1710
Лже-Гракх (Луций Эквиций) поддерживал Сатурнина; был избран в трибуны на 100 г. и убит 10 декабря 101 г., в день вступления в должность.
(обратно)1711
Квинт Лутаций Катул Капитолийский, консул 78 г., вступил в борьбу с коллегой Марком Эмилием Лепидом, добивавшимся отмены законов Суллы; в 70 г. противился восстановлению власти трибунов; умер в 60 г. См. письмо Att., I, 20, 3 (XXVI)
(обратно)1712
Луций Акций, «Атрей», фрагм. 170 сл., Уормингтон.
(обратно)1713
Акций, «Атрей», фрагм. 168. Ср. Цицерон, «Об обязанностях», I, § 97; Светоний, «Калигула», 30.
(обратно)1714
Т. е. политика оптиматов.
(обратно)1715
Тайное голосование при выборах магистратов было введено в 139 г. Габиниевым законом. В 137 г. трибун Луций Кассий Лонгин Равилла провел закон о тайном голосовании по уголовным делам в центуриатских комициях (за исключением суда за государственную измену). В 107 г. трибун Гай Целий Кальд ввел тайное голосование при суде за государственное преступление (Целиев закон). Тайное голосование осуществлялось подачей таблички (навощенной дощечки). При выборах на ней писали имя кандидата. По поводу предложения в комициях писали «UR» (uti rogas — согласие) или же «A» (antiquo — несогласие). В суде писали «A» (absolvo — оправдываю), или «C» (condemno — осуждаю), или же «NL» (non liquet — неясно).
(обратно)1716
Тиберий Гракх предложил в 133 г. ограничить размеры оккупации государственной земли: глава семьи мог иметь не более 500 югеров земли на себя и по 250 югеров на взрослых сыновей, но так, чтобы семья владела не более чем тысячью югеров. Излишки земли должны были отбираться и распределяться между крестьянами. См. вводное примечание к речи 7.
(обратно)1717
Намек на земельные законы Цезаря (59 г.).
(обратно)1718
Ср. письмо Att., II, 19, 3 (XLVI).
(обратно)1719
А не к своим «наймитам». Клодий выступал против возвращения Цицерона из изгнания.
(обратно)1720
По-видимому, в комициях обычно голосовали жители Рима и окрестных городов и для обеспечения кворума прибегали к недобросовестным действиям.
(обратно)1721
Консул 56 г. Луций Марций Филипп был сводным братом Луция Геллия Попликолы, свидетеля при суде над Сестием.
(обратно)1722
Узкая пурпурная полоса на тунике, золотой перстень. В 70 г. ценз не производился; с 61 г. цензоры не избирались. Это позволило Геллию остаться в сословии римских всадников.
(обратно)1723
Луций Марций Филипп, консул 91 г., цензор 86 г., оратор.
(обратно)1724
Чтец (анагност, греч.) — обычно образованный раб. Ср. письма Att., I, 12, 14 (XVII), Fam., V, 9, 2 (DCXLIII).
(обратно)1725
«Сторонник плебса» (plebicola) — намек на прозвание Геллия (Попликола).
(обратно)1726
Ср. выше, § 54; речь 16, § 18; см. прим. 34 к речи 1.
(обратно)1727
Ср. § 80, 109.
(обратно)1728
Корнелиев-Цецилиев закон, принятый 4 августа 57 г.
(обратно)1729
Среди трибунов 59 г. сторонниками Цезаря были Публий Ватиний и Гай Альфий Флав, противниками — Гней Домиций Кальвин, Квинт Анхарий и Гай Фанний. Трое последних совершили интерцессию при проведении земельного закона Цезаря.
(обратно)1730
Домиций Кальвин и Анхарий — преторы 56 г.
(обратно)1731
Гай Альфий Флав в 63 г. поддерживал Цицерона, в 59 г. поддерживал Цезаря против Бибула (см. ниже, прим. 218); в 57 г. потерпел неудачу на выборах преторов и был избран только на 54 г. См. письма Q. fr., III, 1, 24 (CXLV); 3, 3 (CXLIX).
(обратно)1732
См. прим. 11 к речи 8.
(обратно)1733
В 59 г. важнейшие законопроекты вносились в комиции без предварительного обсуждения в сенате.
(обратно)1734
Марк Кальпурний Бибул. Бо́льшая часть законов 59 г. была проведена через concilium plebis по предложению трибуна Публия Ватиния (в том числе и закон о проконсульстве Цезаря). При проведении земельных законов Цезаря Бибул объявил, что будет наблюдать за небесными знамениями, что делало невозможным принятие законов комициями. В день голосования Бибул был силой удален с форума и после этого, не появляясь на форуме, издавал эдикты, в которых объявлял недействительными все законы Цезаря. См. речь 17, § 40; Att., II, 16, 2 (XLIII); 19, 2 (XLVI); 20, 4, 6 (XLVII).
(обратно)1735
Сергиева триба. Палатинская была одной из четырех городских триб; в ней популяры были особенно влиятельны.
(обратно)1736
Марк Эмилий Скавр-сын (§ 101), будучи курульным эдилом, построил театр на 80.000 мест, украшенных множеством колонн и статуй.
(обратно)1737
Публий Клодий. Цицерон намекает на образ жизни сестры Клодия и на инцидент во время жертвоприношения Доброй Богине. См. прим. 4 к речи 17.
(обратно)1738
Храм Чести и Доблести, построенный Гаем Марием. В июне 57 г. сенат принял здесь постановление в честь Цицерона, который, как и Марий, был родом из Арпина.
(обратно)1739
Публий Корнелий Лентул Спинтер. Это были игры в честь Аполлона (6—13 июля).
(обратно)1740
Комедия Луция Афрания; от нее сохранилось несколько стихов. Комедия тоги — комедия из римской жизни на бытовую тему, подражание греческим образцам.
(обратно)1741
Текст испорчен. См. Ribbeck, Comic. Roman. fragm., p. 203.
(обратно)1742
Ср. речь 15, § 12 сл.
(обратно)1743
Знаменитый трагический актер Клавдий Эзоп. Ср. письмо Fam., VII, 1, 2 (CXXVII); Гораций, Послания, II, 1, 82.
(обратно)1744
Луций Акций, «Еврисак», фрагм. 351 сл., 356 сл., Уормингтон.
(обратно)1745
Слова из трагедии Энния «Андромаха» (фрагм. 106, Уормингтон). Эзоп, видимо, вставил эту цитату при исполнении «Еврисака».
(обратно)1746
Квинт Лутаций Катул назвал Цицерона отцом отечества после суда над катилинариями.
(обратно)1747
«Брут» — трагедия Акция. Цитата — слова Луция Брута над трупом Лукреции, с напоминанием об убийстве царя Сервия Туллия. «Брут» — образец fabula praetexta, т. е. трагедии из римской жизни на историческую тему. Ср. письма Att., II, 19, 3 (XLVI); XVI, 5, 1 (DCCLXX).
(обратно)1748
О Квинте Цецилии Метелле Пие см. прим. 11 к речи 15. О его приемном сыне Публии Сципионе см. прим. 76 к речи 16.
(обратно)1749
Мениева колонна (прим. 37) находилась у южного выхода с форума, Капитолий — к северо-западу от форума. Ограда была временной, по случаю представлений.
(обратно)1750
Цицерон сравнивает тайный приход Аппия Клавдия с появлением тени убитого Полидора в «Илионе», трагедии Марка Пакувия (220—132 гг.?).
(обратно)1751
Гладиаторы-андабаты сражались верхом, эсседарии — на двуколках.
(обратно)1752
Проконсул Марк Атилий Регул, попавший во время первой пунической войны в плен к карфагенянам вместе с 500 римлянами, был послан карфагенянами в Рим для переговоров о мире или хотя бы об обмене пленными. Выступив в сенате как противник мира, Регул отказался остаться в Риме и, верный слову, вернулся в Карфаген, где был казнен. См. Цицерон, «Об обязанностях», III, § 99; Гораций, Оды, III, 5, 13.
(обратно)1753
О возвращении Цицерона из изгнания сенат принял три постановления: 1) в храме Доблести и Чести (см. § 116, 128), 2) в храме Юпитера Капитолийского, 3) в Гостилиевой курии (см. § 129 сл.).
(обратно)1754
Помпей справил триумфы после победы: в Африке над марианцами (80 или 79 г.), в Испании над луситанцами (71 г.), над Митридатом VI Евпатором (61 г.).
(обратно)1755
«Враг» (прим. 56) — Клодий. Ср. речь 16, § 26.
(обратно)1756
Acta diurna senatus et populi — поденные записи событий и постановлений сената, введенные Цезарем в 59 г.
(обратно)1757
Ср. § 33. Здесь имеется в виду временное неприменение Клодиева закона, имевшее целью обеспечить возвращение Цицерона из изгнания. См. также § 78 сл., 83.
(обратно)1758
В течение пяти комициальных дней. Речь идет о внесении закона в центуриатские комиции.
(обратно)1759
В соответствии с Цецилиевым-Дидиевым законом. См. прим. 1 к речи 2.
(обратно)1760
Ср. речь 16, § 26; письмо Fam., V, 2, 6 сл. (XIV).
(обратно)1761
Публий Сервилий Исаврийский, консул 79 г., оптимат.
(обратно)1762
Публий Сервилий был по матери внуком Квинта Метелла Македонского.
(обратно)1763
Квинт Метелл Целер, претор 63 г., консул 60 г.; умер в 59 г. См. речь 19, § 59; письма Fam., V, 1, 2 (XIII); 2, 1 (XIV).
(обратно)1764
Колония Брундисий была основана в 244 г. (в I в. уже муниципий). Дедикация храма Благоденствия была совершена в 302 г. См. письмо Att., IV, 1, 4 (XC); прим. 78 к речи 17.
(обратно)1765
Люди, оказывавшие гостеприимство изгнаннику, сами подлежали изгнанию. См. письмо Fam., XIV, 4, 2 (LXIII).
(обратно)1766
Капенские ворота в Риме. См. письмо Att., IV, 1, 5 (XC).
(обратно)1767
В унаследованный от отца дом в Каринах (улица).
(обратно)1768
Речь идет о высказанном в сенате (в 59 г.) обвинении против Гая Скрибония Куриона-сына в том, что он стоит во главе заговора против Помпея. Доносчик Веттий был заключен в тюрьму, где вскоре был найден удавленным. См. письмо Att., II, 24, 2 сл. (LI).
(обратно)1769
Ср. речь 17, § 25, 47, 50.
(обратно)1770
Ср. речь 17, § 58.
(обратно)1771
Действия Цицерона как консула, в частности, упоминаемый ниже закон о домогательстве. См. прим. 18 к речи 2.
(обратно)1772
От суда на основании Туллиева закона о домогательстве. Ср. письмо Q. fr., II, 4, 1 (CIV).
(обратно)1773
Ср. письмо Att., II, 9, 2 (XXXVI).
(обратно)1774
Ватиний потерпел неудачу при выборах курульных эдилов на 57 г. Ср. § 114.
(обратно)1775
Для продажи выставляли рабов, не представлявших ценности. Более ценные рабы продавались в лавках работорговцев. Об эргастуле см. прим. 15 к речи 6.
(обратно)1776
«Самнит» — гладиатор с тяжелым самнитским вооружением; «провокатор» — легковооруженный.
(обратно)1777
Возможно, имя одного из гладиаторов было Лев; отсюда игра слов. Бестиарии — гладиаторы, бившиеся с дикими зверями.
(обратно)1778
См. прим. 28 к речи 7.
(обратно)1779
Это произошло в 58 г., когда Ватиний был привлечен к суду по окончании своего трибуната.
(обратно)1780
Лициниев-Юниев закон (62 г.) требовал, чтобы записи текста предложенных законов передавались в эрарий.
(обратно)1781
Ватиниев закон о проконсульстве Цезаря в Цисальпийской Галлии и Иллирике. Он был принят в нарушение Семпрониева закона (см. прим. 97 к речи 7). Закон Цезаря о вымогательстве (lex Julia de repetundis) определял права наместников и устанавливал их ответственность за хищения. Он относился и к магистратам в Италии.
(обратно)1782
Луций Кальпурний Писон, проконсул Македонии. Цезарь женился на его дочери в 59 г.
(обратно)1783
Намек на зоб, которым страдал Ватиний.
(обратно)1784
«Новым человеком» был сам Цицерон. См. прим. 83 к речи 3.
(обратно)1785
В сенат вступали по окончании магистратуры лица, избиравшиеся комициями. Составлением списка сенаторов ведали цензоры.
(обратно)1786
Консул 121 г. Луций Опимий восстановил в память подавления движения Гая Гракха храм Согласия на форуме и построил басилику (см. прим. 9 к речи 3). В 120 г. Опимий, обвиненный в том, что он заключил в тюрьму римских граждан, не осужденных судом, был оправдан. В 110 г. был осужден за получение взятки от Югурты. Умер в изгнании в Диррахии. См. Цицерон, «Брут», § 128; Саллюстий, «Югурта», 16.
(обратно)1787
Ср. речь 17, § 86 сл.
(обратно)1788
Ср. письмо Fam., I, 9, 7 (CLIX).
(обратно)1789
См. Ливий, XXXIII, 47.
(обратно)1790
Ср. Цицерон, «О государстве», VI, XIII (III), 13.
(обратно)1791
По мифу, в подземном царстве пребывал лишь образ Геракла; его душа вознеслась на Олимп.
(обратно)1792
Обвиняемый, его родные и друзья.
(обратно)1793
Сын консула 57 г. Публия Лентула Спинтера надел тогу взрослого и был избран в коллегию авгуров, что позволило ему носить претексту. Консул Лентул провел закон, поручавший будущему проконсулу Киликии, т. е. ему самому, восстановить Птолемея Авлета на престоле. В 56 г. трибун Гай Катон внес законопроект о лишении Лентула проконсульства. См. письмо Q. fr., II, 3, 1 (CII).
(обратно)1794
3 декабря 63 г., когда Цицерон сообщил народу об уликах против Катилины, добытых им (речь 11).
(обратно)1795
Цицерон обращается к декурии сенаторов.
(обратно)1796
Мегалесии — священные игры в честь Великой Матери богов. Культ этот проник в Рим с Востока. В эти дни (4—10 апреля) все дела на форуме приостанавливались, кроме суда на основании Лутациева закона о насильственных действиях против государства.
(обратно)1797
Лутациев закон 89 г. с дополнениями, внесенными в 78 г. в связи с движением Лепида.
(обратно)1798
Клодия, воспетая Катуллом под именем Лесбии.
(обратно)1799
Молодые римляне часто начинали политическую карьеру, привлекая к суду какое-нибудь видное лицо.
(обратно)1800
Блистательный (splendidus) — эпитет римского всадника.
(обратно)1801
Римские всадники составляли одну из декурий в суде (по Аврелиеву закону 70 г.).
(обратно)1802
Т. е. от свидетелей.
(обратно)1803
Испорченный текст. В Пиценской области был ager Praetuttianus с главным городом Интерамнией (ныне Терамо; не смешивать с Интерамной, на р. Нар, ныне Терни). Интерамния была и муниципием, и колонией.
(обратно)1804
В декурионы муниципия. См. прим. 19 к речи 1.
(обратно)1805
О предстателях см. прим. 2 к речи 3.
(обратно)1806
Атратин назвал Целия «красавчиком Ясоном». Ср. § 18, 36.
(обратно)1807
В соответствии с обычным построением речи (narratio, causae constitutio, probatio, refutatio).
(обратно)1808
О тоге см. прим. 96 к речи 1. Марк Целий учился ораторскому искусству у Цицерона и у Марка Красса. См. Тацит, «Диалог», 34, 1; Плутарх, «Красс», 3.
(обратно)1809
Цицерон был претором в 66 г. Катилина выехал в провинцию Африку в 67 г. и покинул ее в конце 66 г. В 65 г. он был привлечен к суду за вымогательство; Цицерон намеревался защищать его. См. § 14; письмо Att., I, 2, 1 (XI); Саллюстий, «Катилина», 18, 3.
(обратно)1810
О заступниках см. прим. 1 к речи 1.
(обратно)1811
Катилина добивался избрания в консулы на 64, 63, и 62 гг.
(обратно)1812
Надев тогу взрослого, юноша, прежде чем избрать себе род деятельности, в течение года посещал форум и Марсово поле. При произнесении речи на форуме высовывать руку из тоги считалось неприличным.
(обратно)1813
Без тоги, в одной только тунике, римляне занимались гимнастическими упражнениями на Марсовом поле («в школе»).
(обратно)1814
Ср. речь 13, § 49, Саллюстий, «Катилина», 5; 14; 16.
(обратно)1815
Возможно, намек на Цезаря и Красса
(обратно)1816
См. прим. 14.
(обратно)1817
Луций Семпроний Атратин.
(обратно)1818
Имеется в виду дело Гая Антония (59 г.).
(обратно)1819
Возможно, обвинители имели в виду помощь, которую Целий оказал кому-нибудь из своих друзей. О сотоварищах и посредниках см. прим. 18 к речи 2.
(обратно)1820
Речь идет о деле Бестии; см. вводное примечание.
(обратно)1821
См. прим. 41 к речи 1. В I в. власть главы семьи в значительной мере отжила, но все же сын не мог самостоятельно иметь собственность и вести приходо-расходные книги.
(обратно)1822
В 59 г. Целий, на основании Виллиева и Корнелиева закона, мог бы быть квестором. См. прим. 63 к речи 5.
(обратно)1823
Дом Цицерона и дом Красса. См. выше, § 9; речь 17, § 102, 114.
(обратно)1824
Энний, «Медея изгнанница», фрагм. 253 сл. Уормингтон. Кормилица Медеи, сетуя на приход корабля аргонавтов, говорит, что если бы на горе Пелионе не срубили елей для постройки этого корабля, то не было бы роковой любви Медеи к Ясону. Ср. Эврипид, «Медея», 1 сл.
(обратно)1825
Видимо, Квинт Фуфий Кален, народный трибун 61 г, претор 59 г., консул 47 г. участник галльской войны.
(обратно)1826
В 57 г.; Домициев закон 104 г. об избрании понтификов комициями, отмененный при Сулле, был восстановлен в 63 г.
(обратно)1827
Т. е. почему этот сенатор не привлек Целия к суду по обвинению в оскорблении (de iniuriis).
(обратно)1828
Имеются в виду третейский суд и попытки примирения до обращения потерпевшей стороны в суд.
(обратно)1829
Видимо, местные события, не имевшие значения.
(обратно)1830
Птолемей XIII Авлет Ноф. См. речь 7, § 42 сл.; письма Fam., I, 1—7 (XCIV—XCVII, C, CI, CIII, CXVI); Q. fr., II, 2, 3 (XCVIII).
(обратно)1831
Публий Асиций был обвинен Гаем Лицинием Макром Кальвом в убийстве Диона, но был оправдан; защищал его Цицерон. Ср. письмо Q. fr., I, 8, 2 (CXI).
(обратно)1832
О преварикации см. прим. 55 к речи 3. Атратин мог указать, что Кальв был подкуплен Асицием. Ср. Тацит, «Диалог», 21.
(обратно)1833
См. письмо Att., VIII, 12a, 4 (CCCXXXI); Цезарь, «Гражданская война», III, 5. Ср. ниже, § 51.
(обратно)1834
В подлиннике patruus — дядя; ходячая фигура ворчуна. Ср. Гораций, Оды, III, 12, 3; Сатиры, II, 2, 97; 3, 87.
(обратно)1835
Коллегия жрецов Фавна, именовавшегося Луперком. 14 февраля, в день Луперкалий, после жертвоприношения, луперки, обнаженные, бегали вокруг Палатинского холма. Этот обряд был искупительным и очистительным. См. Овидий, «Фасты», II, 267—452. Возможно, что в I в. принадлежность к братству луперков вредила репутации человека.
(обратно)1836
Субскриптор Публий Клодий; видимо, это не трибун 58 г.
(обратно)1837
Городок Байи (близ Путеол), славившийся целебными водами и морскими купаниями, был излюбленным местом отдыха высшего общества и был известен царившей в нем распущенностью нравов. Ср. Гораций, Послания, I, 1, 83; Ювенал, Сатиры, III, 4.
(обратно)1838
Ср. Плавт, «Бакхиды», 675:
Ты же брал чуть-чуть, вот этак, кончиками пальчиков. (Перевод А. В. Артюшкова)Ср. Плавт, «Пуниец», 566:
Дело крохотное; держим кончиками пальчиков. (Перевод А. В. Артюшкова)Поговорка, как и «краями губ». См. Квинтилиан, XII, 12, 4.
(обратно)1839
Претор Гней Домиций Кальвин, трибун 59 г, председательствовавший в суде о насильственных действиях вместо претора Марка Скавра, председателя этого постоянного суда. Кальвин был председателем суда по делам о незаконном домогательстве (quaestio perpetua de ambitu), в частности во время суда над Бестией.
(обратно)1840
Цицерон опасается, что его негодование против Клодии будет истолковано как проявление вражды к Клодию. Обмолвка нарочитая, намек на предосудительные отношения между братом и сестрой. Ср. речь 18, § 36, 42, 59, письма Att., II, 1, 5 (XXVII); Fam., I, 9, 4 (CLIX); Плутарх, «Цицерон», 29.
(обратно)1841
Аппий Клавдий Слепой был цензором в 312 г., консулом в 307 и 286 гг., он построил дорогу от Рима до Капуи и водопровод, названные его именем. См. Фронтин, I, 5.
(обратно)1842
Это были консул 79 г. Аппий Клавдий Пульхр (отец); консул 92 г. Гай Пульхр (дядя); консул 143 г. Аппий Пульхр (дед); консул 177 г. Гай Пульхр (прадед); консул 221 г. Аппий Пульхр (прапрапрадед) и Аппий Клавдий Слепой. В роду Клавдиев было 32 консула, пять диктаторов, семь цензоров.
(обратно)1843
Квинт Цецилий Метелл Целер, консул 60 г. В его скоропостижной смерти молва обвинила Клодию. См. речь 18, § 45; письмо Att., II, 1, 4 сл. (XXVII).
(обратно)1844
Возможно, внучка Аппия Клавдия Слепого, весталка Квинта Клавдия, которая будто бы одна сняла с мели корабль, на котором находились священные дары Идейской Матери. Ср. речь 18, § 27; Овидий, «Фасты», IV, 305; Ливий, XXIX, 14.
(обратно)1845
Это произошло с консулом 143 г. Аппием Клавдием Пульхром. См. Ливий, Периоха 53; Валерий Максим, V, 4, 6.
(обратно)1846
Ср. Цицерон, «О старости», VI, 16; «Брут», § 61.
(обратно)1847
Ср. речь 22, § 17.
(обратно)1848
Публий Клодий.
(обратно)1849
Стих неизвестного поэта.
(обратно)1850
Цецилий Стаций, комический поэт (умер в 166 г.). Ср. письмо Att., VII, 3, 10 (CCXCIII).
(обратно)1851
Теренций, «Братья», 120. Перевод А. В. Артюшкова.
(обратно)1852
Т. е. римскую державу. Марк Фурий Камилл был диктатором в 396 и 390 гг.; Гай Фабриций Лусцин, консул 282 г., одержал победу над луканами и бруттиями. Маний Курий Дентат, консул 290 г., разбил самнитов; в 275 г. одержал победу над царем Пирром.
(обратно)1853
Эпикурейцы. См. Цицерон, «Тускуланские беседы», IV, 3, 7.
(обратно)1854
Перипатетики и академики. См. «Тускуланские беседы», V, 85.
(обратно)1855
Т. е. без учеников. Это относится к стоикам.
(обратно)1856
См. Цицерон, «Брут», § 273; Тацит, «Диалог», 21.
(обратно)1857
В случае, если враги привлекут к суду его самого.
(обратно)1858
Соседство с Клодией. Ср. выше, § 17.
(обратно)1859
Цицерон называл Клодию волоокой (гомеровский эпитет Геры, жены и сестры Зевса). Ср. выше, § 32, 36; речь 18, § 38; письма Att., II, 1, 5 (XXVII); 9, 1 (XXXVI).
(обратно)1860
Ср. речи 16, § 18; 17, § 62; письмо Fam., XIV, 2, 3 (LXXIX); Плутарх, «Цицерон», 29.
(обратно)1861
Друг Цицерона, историк. См. письмо Fam., V, 12 (CXII).
(обратно)1862
Речь идет не о действительно совершенном убийстве Диона, а об инкриминируемом Целию покушении на его жизнь. В § 24 Цицерон мог намеренно подчеркивать дружеские отношения между Дионом и Копонием, чтобы предотвратить впечатление, что Дион покинул дом Лукцея, не чувствуя себя там в безопасности.
(обратно)1863
Эпитет «Грабительница», возможно, придуман Цицероном по аналогии с другими эпитетами Венеры — Победительница, Родительница и др.
(обратно)1864
Целий еще не был курульным магистратом; возможно, что он как старшина какой-либо коллегии устраивал игры от чужого имени.
(обратно)1865
В убийстве Диона.
(обратно)1866
Приписываемая Целию попытка отравить Клодию.
(обратно)1867
Цицерон имеет в виду свое изгнание.
(обратно)1868
Квинт Лутаций Катул, консул 78 г. Дома Метелла Целера и Катула стояли рядом.
(обратно)1869
Публий Клодий (двоюродный брат Целера) уже в 60 г., в консульство Целера, пытался перейти в плебейское сословие.
(обратно)1870
Игра слов: celer — быстрый.
(обратно)1871
См. Теренций, «Девушка с Андроса», 126. Цитата стала пословицей. Ср. Гораций, Послания, I, 19, 41; Ювенал, Сатиры, I, 168.
(обратно)1872
Вестибул — площадка или дворик перед входом в дом, ограниченный с боков крыльями дома. Ср. речи 22, § 75; 26, § 68. О покушении на отравление ср. речь 6, § 46 сл.
(обратно)1873
Плутарх («Цицерон», 29) пишет, что Клодию «прозвали Квадрантарией за то, что кто-то из ее любовников, насыпав в кошелек медных денег, послал ей вместо серебра». Квадрант — четверть асса, мелкая медная монета. Целий назвал Клодию «квадрантной Клитемнестрой» — намек на убийство мужа. См. также Ювенал, Сатиры, VI, 447; Сенека, Письма, 86, 9; Квинтилиан, VIII, 6, 53.
(обратно)1874
На основании столь ничтожных доказательств обвинив Целия в попытке отравить Клодию.
(обратно)1875
Мим — написанные прозой короткие драматические сценки натуралистического характера. Скабиллы — музыкальный инструмент, помещенный в разрезной подошве особого башмака и издававший звук при сжатии; этим отмечали начало и конец действия в театре. В римском театре занавес поднимали снизу и опускали перед началом действия. См. Гораций, Послания, II, 1, 189.
(обратно)1876
В подлиннике игра слов: manus — рука и отряд, шайка.
(обратно)1877
Об императоре см. прим. 70 к речи 1. Здесь насмешка над Клодией.
(обратно)1878
Бассейн в бане, в котором вода нагревалась горячим воздухом, циркулировавшим в каналах под полом.
(обратно)1879
Здесь триклиний — столовая с ложами; скамьи — в суде.
(обратно)1880
Как вдова, Клодия состояла под опекой родичей; только с их согласия она могла отпустить своих рабов. Ср. речь 13, § 27.
(обратно)1881
Вольноотпущенников уже нельзя было подвергнуть пытке, обязательной при допросе рабов. Ср. речи 1, § 77; 6, § 176 сл.; 22, § 57.
(обратно)1882
Видимо, когда о деле Целия заговорили, какой-то насмешник прислал Клодии баночку, непристойную по форме или с непристойной надписью. Ср. Квинтилиан, VI, 3, 25.
(обратно)1883
Об империи см. прим. 90 к речи 1.
(обратно)1884
Очевидно, Клодия, оскорбленная Веттием, уговорила Марка Камурция и Гая Цесерния отомстить за нее, что они и сделали. Они должны были отвечать на основании Скантиниева закона о преступлениях против нравственности. Ср. письма Fam., VIII, 12, 3 (CCLXXIX); 14, 4 (CCLXXV); Ювенал, Сатиры, II, 44.
(обратно)1885
Постоянный суд по делам о насильственных действиях (de vi); за покушение на отравление должен был судить суд по делам об убийстве и отравлении (quaestio perpetua de sicariis et veneficis).
(обратно)1886
Марк Красс (§ 9), Луций Лукцей (§ 55), Квинт Помпей Руф (§ 73).
(обратно)1887
Квинт Помпей Руф в 63 г. был послан как претор в Капую, чтобы не допустить восстания рабов в поддержку Катилины. В 61 г. управлял провинцией Африкой. Целий мог уехать в Африку в связи с толками о его причастности к заговору Катилины. «Соратники» — члены преторской когорты; см. прим. 91 к речи 3.
(обратно)1888
Победа над войском Катилины; она была одержана, впрочем, не Гаем Антонием, который сказался больным, а его легатом Марком Петреем.
(обратно)1889
Гая Антония подозревали в связях с Катилиной. См. Саллюстий, «Катилина», 26, 4.
(обратно)1890
Мета — возвышение из трех рядом поставленных столбов, находившееся на каждом из концов невысокой стенки (spina), разделявшей по длине беговую дорожку цирка. При состязаниях возницы старались обогнуть мету, пройдя возможно ближе к ней. Ср. Овидий, «Любовные элегии», III, 15, 2; «Тристии», IV, 8, 35.
(обратно)1891
Как римский всадник, Целий носил тунику с узкой пурпурной полосой, как декурион муниципия — тогу-претексту.
(обратно)1892
Секст Клодий был обвинен Титом Аннием Милоном в насильственных действиях. См. письмо Q. fr., II, 4a, 4 (CV).
(обратно)1893
Имеется в виду храм Нимф, где хранились цензорские списки. См. речи 16, § 7; 18, § 39; 22, § 73.
(обратно)1894
Ср. речь 17, § 102, 114.
(обратно)1895
Ср. письмо Att., IV, 3, 2 (XCII).
(обратно)1896
Отец обвиняемого.
(обратно)1897
Сын обвиняемого.
(обратно)1898
Для обсуждения споров между населением Сирии и откупщиками. Ср. письмо Q. fr., II, 11, 2 (CXXXIII).
(обратно)1899
Неизвестный нам вольноотпущенник.
(обратно)1900
Видимо, один из консулов 58 г. — Авл Габиний или Луций Писон.
(обратно)1901
Консулы 56 г., Гней Корнелий Лентул Марцеллин и Луций Марций Филипп.
(обратно)1902
Т. е. самим Цицероном.
(обратно)1903
Публий Сервилий Исаврийский, в 79 г. консул вместе с Аппием Клавдием Пульхром, отцом Публия Клодия.
(обратно)1904
Консулам 58 г. Авлу Габинию и Луцию Писону.
(обратно)1905
См. прим. 37 к речи 16. Ср. речи 16, § 16; 17, § 70; 18, § 25; письмо Att., III, 1. (LVI).
(обратно)1906
Об империи см. прим. 90 к речи 1.
(обратно)1907
Во время проконсульства Писона в Македонию вторглись варвары. Габиний в Сирии был разбит, после того как послал сенату донесение о своей победе. Ср. речь 21, § 4, 14.
(обратно)1908
Ср. речь 16, § 18.
(обратно)1909
См. прим. 104 к речи 17.
(обратно)1910
Народный трибун 58 г. Публий Элий Лигур. Игра слов: лживость и коварство лигурийцев вошли в поговорку. Ср. речь 18, § 68 сл.; Вергилий, «Энеида», XI, 701, 715.
(обратно)1911
В 57 г. трибун Тит Анний Милон привлек Клодия к суду за насильственные действия (на основании Плавциева закона).
(обратно)1912
Об императоре см. прим. 70 к речи 1.
(обратно)1913
«Одни» — сам Цицерон и Публий Сестий; «другие» — Помпей, переставший бывать в сенате и общественных местах после покушения на его жизнь (11 августа 58 г.).
(обратно)1914
О священных ложах см. прим. 22 к речи 11.
(обратно)1915
Ср. речь 19, § 32, 36.
(обратно)1916
Ср. Ульпиан, Пандекты, 7, 2, § 4: «Чистым называется место, которое не свято, не освящено, не находится под религиозным запретом».
(обратно)1917
Имеются в виду Клодиевы законы, проведенные им в начале его трибуната: о бесплатной раздаче хлеба, о восстановлении коллегий, об отмене права нунциации, об ограничении прав цензоров. Ср. речи 17, § 11, 25; 18, § 33, 55. Стиль (греч.) — заостренная палочка для писания по навощенной дощечке. О Сексте Клодии см. речь 17, § 47; 19, § 78.
(обратно)1918
О пенатах см. прим. 31 к речи 1.
(обратно)1919
О царе священнодействий см. прим. 1 к речи 17.
(обратно)1920
Божество Отец Квирин считалось покровителем общины на холме Квиринале. Культ, близкий к культу Марса.
(обратно)1921
Гней Корнелий Лентул Марцеллин, избранный в консулы на 56 г.
(обратно)1922
Консулы 57 г.
(обратно)1923
См. прим. 16 к речи 16.
(обратно)1924
Nexum — торжественный заем денег, совершавшийся путем манципации (прим. 5 к речи 13). Должник отвечал перед заимодавцем своим имуществом.
(обратно)1925
О публичном праве см. прим. 39 к речи 17.
(обратно)1926
Об эрарии см. прим. 2 к речи 2.
(обратно)1927
Публий Валерий Попликола, по традиции, один из первых консулов Рима после изгнания царей. Велия — холм в Риме.
(обратно)1928
Заговор Катилины.
(обратно)1929
Т. е. греческих философов.
(обратно)1930
См. прим. 92 к речи 7.
(обратно)1931
Ср. Гесиод, «Феогония», 617—726.
(обратно)1932
Тенсы — священные колесницы, на которых возили статуи богов во время шествия из Капитолия, через форум и далее к Большому Цирку (Circus Maximus), по случаю игр в цирке; колесницы, о которых Цицерон говорит далее, служили для состязаний; музыкальное вступление перед началом игр исполнялось на флейтах.
(обратно)1933
Коллегия жрецов Юпитера, ведавшая «угощением» божества. См. прим. 22 к речи 11.
(обратно)1934
О Великой Матери богов см. прим. 1 к речи 19.
(обратно)1935
Публий Клодий был курульным эдилом в 56 г.
(обратно)1936
Сироты не могли участвовать в священнодействии.
(обратно)1937
См. Ливий, XXXIV, 54.
(обратно)1938
Аппий Клавдий Пульхр, отец Публия, был эдилом в 93 г., Гай Клавдий, его дядя, — в 99 г. Он первый показал народу слонов во время игр в цирке.
(обратно)1939
Афинион — предводитель рабов, восставших в Сицилии в 103—100 гг. Спартак руководил восстанием рабов в Италии в 73—71 гг.
(обратно)1940
Публий Клодий был членом коллегии жрецов, хранившей книги Сивиллы. См. прим. 99 к речи 3.
(обратно)1941
Клодия, вдова Квинта Метелла Целера. Ср. речь 19, § 32.
(обратно)1942
Ср. речи 17, § 129; 18, § 56; письмо Q. fr., II, 7, 2 (CXXII).
(обратно)1943
О вестибуле см. прим. 77 к речи 19.
(обратно)1944
Аппий Клавдий Пульхр, претор 57 г. Ср. письмо Att., IV, 2, 3 (XCI).
(обратно)1945
Usucapio. По законам Двенадцати таблиц, двухлетней давности владения недвижимостью было достаточно для перехода последней в полную собственность.
(обратно)1946
Часть холма Целия в Риме, называвшаяся также Малым Целием.
(обратно)1947
Народный трибун 57 г. Ср. речь 18, § 72.
(обратно)1948
Ср. речь 17, § 111 сл.
(обратно)1949
Послы из Александрии, убитые в Риме по проискам царя Птолемея Авлета. Ср. речь 19, § 23 сл., 51.
(обратно)1950
Об этом событии сведений нет.
(обратно)1951
Луций Кальпурний Писон; об умерщвлении Платора сведений нет.
(обратно)1952
Секиры ликторов — эмблема империя.
(обратно)1953
Речь идет о суде над Клодием по обвинению в кощунстве (61 г.). См. письмо Att., I, 16, 5 сл. (XXII).
(обратно)1954
Очевидно, Клодий подкупил этих людей.
(обратно)1955
Аппий Клавдий Слепой, цензор 312 г. Ср. речи 17, § 105; 19, § 33 сл.
(обратно)1956
Намек на Цезаря; см. прим. 104 к речи 17.
(обратно)1957
Помпей.
(обратно)1958
По мифу, Филоктет, спутник Геракла, участник похода против Трои, был оставлен на острове Лемносе, так как после укуса змеи у него образовалась гноящаяся рана. См. Гомер, «Илиада», II, 716.
(обратно)1959
Афамант — герой из греческой трагедии, не дошедшей до нас. Гера поразила его безумием, и он убил своего сына Леарха.
(обратно)1960
См. прим. 54 к речи 1.
(обратно)1961
Клодия обвиняли в сожжении храма Нимф. Ср. речи 16, § 7; 19, § 78; 22, § 73.
(обратно)1962
Испорченный текст. Ламбин предложил чтение, дающее перевод: государство не должно оказаться во власти одного.
(обратно)1963
Корнелия, мать Гракхов, была дочерью Сципиона Африканского Старшего.
(обратно)1964
Луций Аппулей Сатурнин, трибун 100 г. См. вводное примечание к речи 8.
(обратно)1965
Противник Суллы, народный трибун 88 г. Из его законов наиболее важны закон о распределении новых граждан из числа италиков по всем трибам, закон о передаче Гаю Марию командования в войне с Митридатом. За принятием этих законов последовал поход Суллы на Рим. Город был взят, Сульпиций погиб.
(обратно)1966
В молодости Клодий попал в плен к пиратам, но вскоре был отпущен. В 68 г. он пытался устроить бунт в войсках Луция Лукулла во время войны с Тиграном.
(обратно)1967
О преварикации см. прим. 55 к речи 3. Катилина был обвинен Клодием в разорении провинции Африки.
(обратно)1968
Марсово поле. Далее говорится о подкупе избирателей.
(обратно)1969
Клодий был квестором в 62 г.
(обратно)1970
Договор о капитуляции армии консула Гая Гостилия Манцина под Нуманцией (137 г.). Сенат не утвердил договора и выдал консула нумантинцам: они не приняли пленника, не желая признать расторжения договора. В 133 г. Нуманция была взята Сципионом Эмилианом.
(обратно)1971
Ср. речь 18, § 39.
(обратно)1972
Бывший эдил Гай Юлий в 88 г. добивался консульства, хотя не был претором. Этому воспротивился трибун Публий Сульпиций. См. прим. 68.
(обратно)1973
Платье шафранного цвета в торжественных случаях носили женщины; митра — фригийский женский головной убор. Псалтерий — струнный музыкальный инструмент.
(обратно)1974
Ср. речь 17, § 36 сл.
(обратно)1975
Квинт Метелл Целер, консул 60 г., двоюродный брат Клодия.
(обратно)1976
Помпей, сын которого был женат на племяннице Клодия.
(обратно)1977
Цезарь, консул в 59 г.
(обратно)1978
Цезарь намекал на то, что Помпей содействовал переходу Клодия в плебейское сословие и его избранию в трибуны.
(обратно)1979
Оптиматы Марк Кальпурний Бибул, Гай Скрибоний Курион, Гай Фавоний, Публий Сервилий-сын. Ср. письмо Q. fr., II, 3, 2 (CII).
(обратно)1980
Гней Помпей и Марк Лициний Красс.
(обратно)1981
Цицерон не хочет задеть Цезаря. Ср. речь 18, § 40 сл.
(обратно)1982
Т. е. законы, проведенные в 59 г. Цезарем, в частности земельные законы.
(обратно)1983
Куриатский закон об усыновлении Клодия плебеем Марком Фонтеем. См. речь 17, § 34, 77.
(обратно)1984
См. прим. 11 к речи 8. Клодий как трибун задавал на сходках вопросы Бибулу, консулу 59 г., частному лицу в 58 г.
(обратно)1985
Т. е. самого Цицерона, ставившего себе в заслугу подавление заговора Катилины (в пределах Рима) без применения оружия. Ср. речи 10, § 28; 14, § 33; 16, § 32 сл.; 18, § 99.
(обратно)1986
Речь идет о рабе, подосланном, чтобы убить Помпея. Ср. речь 22, § 18; письма Att., II, 24, 2 (LI); Q. fr., II, 3, 3 (CII).
(обратно)1987
Помпей перестал выходить из дому. Ср. речи 16, § 4; 17, § 69; Плутарх, «Помпей», 49.
(обратно)1988
В Каринах (район или улица в Риме) находился дом Помпея, на Палатинском холме — дом Цицерона, после его изгнания разрушенный Клодием. В словах Клодия (как их передает Цицерон) содержится угроза изгнать Помпея.
(обратно)1989
Триумвиры Цезарь, Помпей и Красс.
(обратно)1990
Марк Кальпурний Бибул, Марк Порций Катон, Луций Домиций Агенобарб.
(обратно)1991
В 57 г. Тит Анний Милон дважды пытался привлечь Клодия к суду за насильственные действия. Избрание Клодия в эдилы избавило его от суда. Ср. речь 21, § 89; письмо Fam., V, 3, 2 (CXVII).
(обратно)1992
См. вводное примечание к речи 8.
(обратно)1993
Клодий действовал тогда в интересах Цезаря, находившегося в Галлии.
(обратно)1994
См. прим. 151 к речи 18.
(обратно)1995
О рострах см. прим. 32 к речи 2.
(обратно)1996
Это запрещалось Туллиевым законом о домогательстве. См. прим. 18 к речи 2.
(обратно)1997
См. прим. 112 к речи 4.
(обратно)1998
Престолы, на которые помещали изображения богинь во время «угощения» божеств (см. прим. 36), и столы для подготовки жертвы. См. также и прим. 41 к речи 17.
(обратно)1999
Ср. речь 17, § 80; письмо Att., II, 7, 2 (CXXII).
(обратно)2000
См. прим. 132 к речи 4.
(обратно)2001
Игра слов. Ростры — корабельные носы (тараны) и украшенная носовыми частями вражеских кораблей ораторская трибуна на форуме. Псы Сциллы хватали только людей, не трогая кораблей. См. прим. 37 к речи 18.
(обратно)2002
Ср. письма Q. fr., I, 1, 32 сл. (XXX); Att., I, 17, 9 (XXIII); II, 1, 8 (XXVII). См. прим. 83 к речи 13.
(обратно)2003
На основании Семпрониева закона 123 г. См. прим. 28 к речи 17.
(обратно)2004
Цицерон имеет в виду свое изгнание в 58 г.
(обратно)2005
В 56 г. Сирия и Македония были консульскими провинциями. Консульские провинции назначались сенатом; интерцессии трибуна при этом не допускалось. Преторские провинции назначались комициями; интерцессия была возможна. См. прим. 57 к речи 5.
(обратно)2006
На основании Ватиниева закона 59 г. (принят в нарушение Семпрониева закона и прав сената) Цезарю было на пять лет предоставлено проконсульство в Цисальпийской Галлии с Иллириком и командование тремя легионами. Сенат прибавил ему проконсульство в Трансальпийской Галлии и еще два легиона.
(обратно)2007
Консулы 58 г., Луций Кальпурний Писон и Авл Габиний.
(обратно)2008
См. прим. 46 к речи 17.
(обратно)2009
См. прим. 106 к речи 13.
(обратно)2010
Об императоре см. прим. 70 к речи 1, о трофее — прим. 77 к речи 4.
(обратно)2011
См. письмо Q. fr., III, 1, 24 (CXLV).
(обратно)2012
О легатах см. прим. 13 к речи 3.
(обратно)2013
О Цезонине Кальвенции см. прим. 32 к речи 16.
(обратно)2014
Верность Риму во время войны с Митридатом VI Евпатором.
(обратно)2015
Очевидно, Византий был сделан суверенной городской общиной (civitas libera).
(обратно)2016
Публий Клодий Пульхр.
(обратно)2017
См. прим. 27 к речи 17 и прим. 265 к речи 18.
(обратно)2018
Авл Габиний. Прообразом Семирамиды была ассирийская царица Шаммурамат (IX—VIII вв.). Античная историография смешала ее с мидийской царевной, женой Навуходоносора, для которой он устроил «висячие сады». См. Диодор, II, 4—20. (Прим. Э. Л. Казакевич).
(обратно)2019
Каппадокийский царь Ариобарзан II, дважды изгнанный Митридатом и восстановленный на престоле Суллой, а затем Помпеем. См. письмо Fam., XV, 2, 5 (CCXX).
(обратно)2020
Т. е. как гладиатора, вооруженного по-фракийски.
(обратно)2021
Т. е. с местными царьками (тетрархами).
(обратно)2022
Соглашения между откупщиками и городскими общинами в провинции насчет уплаты налогов и податей. См. письмо Q. fr., I, 1, 35 (XXX). Откупщики были вправе брать неплательщиков под стражу.
(обратно)2023
Откупщики доводили провинции до полного разорения. См. письма Att., V, 16, 2 (CCVIII); 21, 10 сл. (CCXLIX); VI, 1, 2 сл. (CCLI). Поэтому такое отрицательное отношение Цицерона к той борьбе, какую, по его словам, Габиний вел с откупщиками, едва ли справедливо.
(обратно)2024
См. прим. 83 к речи 13.
(обратно)2025
Lex censoria — постановление, которое цензор издавал на пятилетие, определяя размер податей и налогов и условия платежа. См. письмо Q. fr., I, 1, 35 (XXX).
(обратно)2026
Ср. речь 16, § 13.
(обратно)2027
В 57 г. в сенате обсуждался вопрос об отмене законов Клодия (в том числе закона о консульских провинциях), как принятых вопреки авспициям и под давлением силы.
(обратно)2028
Ср. письмо Q. fr., II, 6, 1 (CVIII). См. прим. 22 к речи 11.
(обратно)2029
Луций Кальпурний Писон. Ср. речь 16, § 14.
(обратно)2030
Тит Альбуций, получивший образование в Афинах, после своей претуры в Сардинии был обвинен в вымогательстве и осужден; он снова уехал в Афины, в изгнание. Ср. Цицерон, «Брут», § 131.
(обратно)2031
Речь идет о назначении провинций для консулов 55 г. Если одному из них будет назначена Трансальпийская, а другому Цисальпийская Галлия, то Писон и Габиний смогут остаться наместниками консульских провинций Македонии и Сирии.
(обратно)2032
О ком идет речь, неизвестно. См. выше, прим. 3.
(обратно)2033
Это мог быть консул Луций Марций Филипп (см. § 21) или кто-нибудь из оптиматов.
(обратно)2034
Тиберий Семпроний Гракх, трибун 187 г., консул 177 г., цензор 169 г., отец известных братьев Гракхов.
(обратно)2035
Луций Корнелий Сципион Азиатский и Публий Корнелий Сципион Африканский Старший, привлеченные к суду после войны в Сирии.
(обратно)2036
После этого Сципион, по просьбе сената, обещал Гракху в жены свою дочь.
(обратно)2037
Луций Лициний Красс, известный оратор. О Скавре см. прим. 47 к речи 2.
(обратно)2038
Марий был во время войны легатом Квинта Цецилия Метелла. Избранный в консулы на 107 г. Марий сменил Метелла в Африке, где закончил войну с Югуртой. См. Саллюстий, «Югурта», 64, 82 сл.
(обратно)2039
Война с кимврами.
(обратно)2040
Марк Эмилий Лепид, консул 187 и 175 гг., строитель Эмилиевой дороги. В 201 г., когда Птолемей V Эпифан поручил своего сына опеке Рима, сенат отправил Лепида в Александрию.
(обратно)2041
Квинт Энний.
(обратно)2042
Марк Фульвий Нобилиор, консул 189 г., победитель этолян. Ср. речь 15, § 11.
(обратно)2043
Луций Марций Филипп-отец был консулом в 91 г., противник Марка Ливия Друса. Цицерон обращается к его сыну, консулу 56 г.
(обратно)2044
Луций Лициний Лукулл, консул 74 г. (брат Марка Лукулла, консула 73 г.), руководил военными действиями против Митридата и Тиграна. В 66 г. командование на Востоке было поручено Помпею; см. речь 5.
(обратно)2045
Имеются в виду события 57 г., предшествовавшие возвращению Цицерона из изгнания. Ср. речи 16, § 25; 17, § 7; 18, § 72, 130; письмо Fam., V, 4 (LXXXVIII).
(обратно)2046
Подавлением заговора Катилины и своим отъездом в изгнание. Ср. речи 16, § 6, 33; 17, § 76, 99; 18, § 42 сл., 49.
(обратно)2047
См. прим. 104 к речи 17.
(обратно)2048
См. выше, § 14.
(обратно)2049
По окончании войны с кимврами.
(обратно)2050
Благодарственные молебствия богам по случаю победы (прим. 22 к речи 11) обычно назначались продолжительностью в пять дней. В 63 г., по окончании войны с Митридатом, по предложению Цицерона были назначены 10-дневные молебствия от имени Помпея. В 56 г., после победы Цезаря над белгами, были назначены 15-дневные молебствия, в 55 г., после его победы над арвернами, — 20-дневные. Ср. Цезарь, «Галльская война», II, 35; IV, 38, 52; VII, 90.
(обратно)2051
Древние называли Океаном моря, омывающие Европу с северо-запада.
(обратно)2052
Речь идет о пиратах, уничтоженных Помпеем. См. речь 5, § 31 сл.
(обратно)2053
Черное море (Понт Эвксинский).
(обратно)2054
Провинции Вифиния, Понт и Сирия, организованные Помпеем после войны с Митридатом VI.
(обратно)2055
Претор 63 г. Вместе с претором Луцием Валерием Флакком в ночь на 3 декабря задержал послов аллоброгов и захватил письма сторонников Катилины; см. речь 11; впоследствии был пропретором в Галлии, в 51—50 гг. — легатом Цицерона в Киликии.
(обратно)2056
Нарбонская Галлия, через которую лежал путь в Испанию.
(обратно)2057
О богах-пенатах см. прим. 31 к речи 1.
(обратно)2058
У Цезаря была дочь Юлия (жена Помпея). Римляне иногда говорили об одном ребенке, употребляя множественное число.
(обратно)2059
Ватиниев закон; см. выше, прим. 4.
(обратно)2060
Проконсульство в Трансальпийской Галлии было предоставлено Цезарю сенатом; см. выше, прим. 3. Часть провинции, «имеющая защитника», — Цисальпийская Галлия; «защитник» — трибун, который вправе совершить интерцессию в комициях; см. выше, прим. 4.
(обратно)2061
Так как провинция останется в ведении Цезаря до 1 марта 54 г.
(обратно)2062
См. прим. 136 к речи 18.
(обратно)2063
Ср. речь 18, § 96, 105, 113 сл.
(обратно)2064
О Гае Виселлии Варроне см. Цицерон, «Брут», § 264.
(обратно)2065
Квинквевирам было поручено устроить колонию ветеранов в Капуе. См. письмо Att., II, 19, 4 (XLVI). Предложено и чтение «в вигинтивирате». Это была комиссия из 20 человек, ведавшая распределением земли в Кампании (в силу второго земельного закона Цезаря, 59 г.).
(обратно)2066
Помпей, Красс, Цицерон.
(обратно)2067
См. письма Att., II, 18, 3 (XLV); 19, 5 (XLVI).
(обратно)2068
В подлиннике игра слов: «популяр» и «народный».
(обратно)2069
Публий Клодий Пульхр. Ср. речь 17, § 41.
(обратно)2070
Консульство Авла Габиния и Луция Писона и трибунат Клодия.
(обратно)2071
Ср. речь 18, § 71.
(обратно)2072
Ср. письмо Fam., I, 9, 12 (CLIX).
(обратно)2073
Оптиматы Марк Порций Катон, Публий Корнелий Лентул Спинтер, Марк Кальпурний Бибул, Квинт Цецилий Метелл Непот.
(обратно)2074
Ср. речь 17, § 40; письмо Att., II, 20, 4 (XLVII).
(обратно)2075
Так Цицерон называл Клодиев закон «Об изгнании Марка Туллия». Ср. речи 16, § 4; 18, § 65, 133. См. прим. 28 к речи 1.
(обратно)2076
Ср. речи 17, § 20 сл., 65 сл.; 18, § 56, 60 сл.
(обратно)2077
Ср. речь 17, § 41 сл.
(обратно)2078
Об Элиевом законе см. прим. 11 к речи 8, о Фуфиевом — прим. 27 к речи 16.
(обратно)2079
Клодиевы законы 58 г.: об отмене права обнунциации, об отмене Фуфиева закона, об ограничении прав цензоров. Об обнунциации см. прим. 11 к речи 8, об интерцессии — прим. 57 к речи 5.
(обратно)2080
О священных законах см. прим. 57 к речи 17.
(обратно)2081
Земельные законы Цезаря (59 г.), проведенные им через комиции несмотря на противодействие сената.
(обратно)2082
Цезарь.
(обратно)2083
По свидетельству Плутарха («Цицерон», 35), Милон явился в суд, не надев траура и не отпустив себе бороды.
(обратно)2084
См. прим. 165 к речи 18; Асконий, Введение, § 15, 22 сл.
(обратно)2085
Вокруг форума находились храмы Сатурна, Диоскуров, Весты, Согласия. См. письмо Fam., III, 10, 10 (CCLXII).
(обратно)2086
Сословия сенаторов, римских всадников, эрарных трибунов.
(обратно)2087
Оратор объединяет себя с обвиняемым, имея в виду свое изгнание.
(обратно)2088
Так как нельзя было отрицать факт убийства Клодия, то возникал вопрос о законности или незаконности действий Милона; постановка вопроса в суде (constitutio causae) становилась iuridicialis и допускала три вида рассмотрения: 1) relatio criminis — поступок признается законным, так как другой человек своими предшествовавшими незаконными действиями подал повод к нему; этот статус Цицерон и избрал; 2) deprecatio — вина признается, но испрашивается снисхождение ввиду других заслуг обвиняемого; 3) compensatio — цель поступка обращают в повод для оправдания; это положение Цицерон рассматривает в § 72—92 (extra causam).
(обратно)2089
По преданию, Марк Гораций, убив троих Куриациев, встретил свою сестру, оплакивавшую смерть Аттия Куриация, и убил ее. Это был первый случай суда народа и провокации к народу. «Комиции» — куриатские. См. Ливий, I, 26, 7.
(обратно)2090
Ср. Цицерон «Об ораторе», II, § 106; письма Fam., IX, 21, 3 (CCCCXCVI); Q. fr., II, 3, 3 (CCII).
(обратно)2091
О Гае Сервилии Агале и Спурии Мелии см. прим. 6 к речи 9.
(обратно)2092
См. речь 17, § 91.
(обратно)2093
Луций Опимий, консул 121 г., был повинен в смерти Гая Гракха.
(обратно)2094
Гай Марий, в 100 г. консул в шестой раз, применил оружие против Сатурнина и Главции. См. речь 8, § 20, 27 сл.
(обратно)2095
Имеется в виду смертный приговор пяти катилинариям. См. вводное примечание к речам 9—12.
(обратно)2096
Имеется в виду миф об Оресте, который, мстя за убийство своего отца Агамемнона, убил свою мать Клитемнестру. Ареопаг богов под председательством Афины-Паллады (Минервы) судил Ореста; равенство голосов, означавшее оправдание, называлось «камешком Минервы».
(обратно)2097
О Двенадцати таблицах см. прим. 88 к речи 1. В I в. это положение утратило силу, убийство ночного вора допускалось только при самообороне.
(обратно)2098
Закон, проведенный Суллой в 87 г. — lex Cornelia de sicariis et veneficis.
(обратно)2099
Тит Мунаций Планк Бурса. Намек на пожар, уничтоживший Гостилиеву курию при сожжении тела Клодия. См. Асконий, § 8—9.
(обратно)2100
См. прим. 104 к речи 17. В 61 г. по постановлению сената консулы внесли в комиции предложение о назначении чрезвычайного суда (для которого судей должен был назначить претор), но принято было предложение трибуна Квинта Фуфия Калена о том, чтобы судьи были назначены по жребию. См. письма Att., I, 13, 3 (XIX); 16, 2 сл. (XXII).
(обратно)2101
Через два дня после убийства Клодия в интеррексы был избран Марк Эмилий Лепид. Первый интеррекс не созывал консульских комиций, но сторонники Гипсея и Сципиона потребовали немедленного созыва комиций; после отказа Лепида они пять дней осаждали его дом, взяли его приступом и разгромили.
(обратно)2102
Если предложение содержало несколько параграфов, то сенатор мог потребовать раздельного голосования по каждому из них.
(обратно)2103
Квинт Фуфий Кален. Сенат признал убийство Клодия, поджог Курии и разгром дома Лепида противогосударственными деяниями. Гортенсий предложил назначить суд вне очереди, Фуфий потребовал раздельного голосования; по части предложения совершили интерцессию Тит Мунаций Планк и Гай Саллюстий. 1 марта Планк на сходке сообщил народу о постановлении сената.
(обратно)2104
См. прим. 199 к речи 18.
(обратно)2105
См. прим. 55 к речи 17.
(обратно)2106
В 129 г. Сципион Эмилиан, противник реформ Тиберия Гракха, был найден мертвым в своей постели.
(обратно)2107
Публий Клодий был убит на Аппиевой дороге. Об Аппии Клавдии Слепом см. прим. 46 к речи 19.
(обратно)2108
Ср. речь 17, § 66.
(обратно)2109
Ср. речь 18, § 69; Плутарх, «Помпей», 49.
(обратно)2110
О вестибуле см. прим. 77 к речи 19.
(обратно)2111
Ср. письмо Att., IV, 3, 3 (XCII).
(обратно)2112
Помпей «помирился» с Клодием (в расчете на его поддержку) в начале 56 г.
(обратно)2113
Луций Домиций Агенобарб, претор 58 г., консул 54 г.
(обратно)2114
Ср. письмо Att., VIII, 1, 3 (CCCXXVI).
(обратно)2115
Помпей, консул без коллеги.
(обратно)2116
Консулы и преторы 53 г. были избраны только в июле 53 г.
(обратно)2117
Луций Эмилий Павел, консул 50 г., оптимат.
(обратно)2118
См. прим. 63 к речи 5.
(обратно)2119
Публий Плавций Гипсей и Квинт Цецилий Метелл Пий Сципион. См. Асконий, § 2.
(обратно)2120
Речь идет о посредничестве между кандидатами и 35-ю трибами.
(обратно)2121
Ирония. 36-й трибы Клодий не учреждал. Коллинская городская триба пользовалась дурной репутацией.
(обратно)2122
Комиции для выборов консулов на 52 г. собирались несколько раз, но выборы не могли состояться из-за интерцессии, обнунциации или беспорядков.
(обратно)2123
Также и Милон угрожал Клодию расправой. См. письмо Att., IV, 3, 5 (XCII).
(обратно)2124
У Клодия были поместья в Этрурии. См. ниже, § 50, 74.
(обратно)2125
Оптимат; в 42 г. в битве под Филиппами попал в плен к Октавиану и был казнен.
(обратно)2126
См. прим. 101 к речи 14.
(обратно)2127
См. прим. 66 к речи 1.
(обратно)2128
Клеймили беглых рабов. Цицерон считает принятие законов Клодия порабощением римского народа.
(обратно)2129
См. речи 17, § 25; 18, § 133.
(обратно)2130
Изображение Афины-Паллады, по преданию, попавшее в Рим из Трои. В III в. палладий был спасен из горящего храма Весты верховным понтификом Луцием Цецилием Метеллом. См. Овидий, «Фасты», VI, 419 сл.
(обратно)2131
Ирония. Намек на поджог Гостилиевой курии.
(обратно)2132
Погребение магистратов и знатных людей было торжественным. Шествие открывал духовой оркестр; за ним шли плакальщицы, актеры, изображавшие предков умершего и надевавшие их маски и одежду магистратов; один из актеров изображал умершего; несли предметы, связанные с его деятельностью, изображения взятых им городов; следовали ликторы с опущенными факелами, одетые в черное; на парадном ложе несли тело умершего, облеченное в тогу-претексту. Около ростр процессия останавливалась, родственник или магистрат произносил хвалебную речь. Оттуда процессия следовала к месту погребения. Тело сжигали или же хоронили в земле. «Зловещими» у римлян назывались дикие деревья; они были посвящены подземным богам и служили материалом для виселиц и крестов. На крестах распинали рабов.
(обратно)2133
В тексте лакуна; слова в квадратных скобках — конъектура.
(обратно)2134
Ср. Квинт Цицерон, письмо Comment. pet., § 18 сл. (XII).
(обратно)2135
В 56 г. Клодий как курульный эдил привлек Милона к суду на основании Плавциева закона о насильственных действиях. См. ниже, § 40.
(обратно)2136
См. прим. 12 к речи 16.
(обратно)2137
Суд в центуриатских комициях. См. прим. 39 к речи 1.
(обратно)2138
В 58 г. Гортенсий, Курион и другие сенаторы присоединились к депутации римских всадников, отправившейся в сенат и к консулу Авлу Габинию с ходатайством за Цицерона. Габиний не допустил делегации в сенат; на форуме на нее напали клодианцы.
(обратно)2139
Domus regia — по преданию, дворец царя Нумы Помпилия или царя Анка Марция. Регия находилась на Священной дороге и была в распоряжении верховного понтифика.
(обратно)2140
В ноябре 57 г. См. письмо Att., IV, 3, 3 (XCII).
(обратно)2141
Трибун 57 г. Ср. речи 16, § 7; 18, § 79; письмо Q. fr., II, 3, 6 (CII).
(обратно)2142
Трибун 57 г. 25 января внес предложение возвратить Цицерона из изгнания.
(обратно)2143
Претор Луций Цецилий Руф устроил 5 июня 57 г. игры в честь Аполлона. Толпа, недовольная недостатком хлеба в Риме, разогнала зрителей и преследовала претора.
(обратно)2144
Законопроект о возвращении Цицерона из изгнания. См. вводное примечание к речи 16.
(обратно)2145
За исключением претора Аппия Клавдия Пульхра.
(обратно)2146
См. прим. 11 к речи 16.
(обратно)2147
Помпей, как и Луций Кальпурний Писон, консул 58 г., был в Капуе дуовиром, т. е. высшим должностным лицом муниципия.
(обратно)2148
Есть сведения об обвинении в насильственных действиях, предъявленном Клодию в конце 57 г. Ср. письмо Att., IV, 3, 2 (XCII).
(обратно)2149
По окончании трибуната (10 декабря 57 г.) Милон был привлечен к суду Клодием (начало 56 г.). См. письмо Q. fr., II, 3, 1 (CII).
(обратно)2150
Ораторское преувеличение. См. то же письмо, § 2.
(обратно)2151
Марк Антоний, будущий народный трибун 49 г., триумвир в 43 г.
(обратно)2152
Клодий спрятался от Антония в книжной лавке. См. речь 26, § 21.
(обратно)2153
На Марсовом поле были перегородки, разделявшие его на участки (ovilia), где трибы (или центурии) дожидались своей очереди для голосования.
(обратно)2154
В центуриатские комиции, которые могли приступить к выборам только при благоприятных авспициях. См. прим. 11 к речи 8.
(обратно)2155
По свидетельству Аскония, в этот день сходки были созваны трибунами Гаем Саллюстием Криспом и Квинтом Помпеем Руфом.
(обратно)2156
Указание не точно: Клодий выехал из Рима 16 января, Милон — 17 января; избрание фламина было назначено на 18 января.
(обратно)2157
Интерамна — город в Умбрии (ныне Терни). В 61 г. во время суда над Клодием по поводу кощунства свидетель Гай Кавсиний показал, что в день жертвоприношения Доброй Богине Клодий был у него в Интерамне. Это опроверг Цицерон, заявивший, что в этот день Клодий приходил к нему в дом. Ср. письма Att., I, 16, 2 (XXII); II, 1, 5 (XXVII).
(обратно)2158
Об архитекторе Кире Веттии, греке, вольноотпущеннике рода Веттиев, см. § 48; письма Att., II, 3, 2 (XXIX); Q. fr., II, 2, 2 (XCVIII); Fam., VII, 14, 1 (CLXXVII).
(обратно)2159
Трибуны Квинт Помпей Руф и Гай Саллюстий Крисп, враги Цицерона и Милона.
(обратно)2160
Предложение о чрезвычайном суде над Милоном.
(обратно)2161
См. прим. 115 к речи 17.
(обратно)2162
Родовые усыпальницы римской знати близ Аппиевой дороги были пристанищем грабителей. См. письмо Att., VII, 9, 1 (CCXCIX).
(обратно)2163
Усадьбу эту, находившуюся у дороги, не следует смешивать с упомянутой выше альбанской усадьбой на горе (см. § 46).
(обратно)2164
Альсий — город в Этрурии, у моря.
(обратно)2165
Цицерон напоминает о лагере Катилины в Этрурии; намек на то, что Клодий разделял взгляды Катилины.
(обратно)2166
Намек на внешность Клодия, постоянный предмет насмешек Цицерона. См. письмо Att., I, 16, 10 (XXII).
(обратно)2167
Милон располагал отрядами гладиаторов для борьбы с отрядами Клодия.
(обратно)2168
См. прим. 119 к речи 4.
(обратно)2169
См. прим. 13 к речи 1.
(обратно)2170
Атрий Свободы, находившийся к северу от форума, был местом допросов и пыток.
(обратно)2171
Племянник убитого Клодия, один из обвинителей Милона. Рабы Клодия, оставаясь собственностью Клавдиева рода, перешли в собственность Аппия Клавдия младшего.
(обратно)2172
Допрос рабов для получения показаний против их господина допускался только в делах о государственной измене и о кощунстве.
(обратно)2173
Обычная казнь раба. Распятию предшествовала порка розгами. Ср. речь 4, § 166 сл.
(обратно)2174
Очевидно, речь на народной сходке.
(обратно)2175
Этому утверждению противоречит свидетельство Аскония (§ 32).
(обратно)2176
Окрикул — город в Умбрии, на Тибре.
(обратно)2177
Прислужники при жертвоприношениях, заботившиеся об огне, воде, фимиаме, вине и пр., получали остатки от жертвы и часто держали харчевни.
(обратно)2178
Большой Цирк (Circus Maximus) находился в Мурциевой долине, между Палатинским и Авентинским холмами.
(обратно)2179
Цезарь как верховный понтифик жил в Государственном доме (Domus publica) на Священной дороге. Дом Цезаря был осажден отрядами Милона. Впоследствии, во время диктатуры, Цезарь, возвращая из изгнания многих людей, изгнанных на основании Помпеева закона о насильственных действиях, отказал в помиловании одному только Милону.
(обратно)2180
См. Асконий, § 17; Валерий Максим, II, 1, 7.
(обратно)2181
По свидетельству Аскония, трибун Квинт Помпей заявил 23 января на народной сходке: «Милон дал нам кого сжечь в Курии; я дам вам, кого похоронить в Капитолии», — намекая на Гнея Помпея. Он же указал, что Милон хотел 22 января посетить Помпея в его загородной усадьбе, но Помпей не принял его.
(обратно)2182
Публий Клодий Пульхр.
(обратно)2183
См. речь 16, § 19.
(обратно)2184
В 80 г. при возвращении Помпея из Африки после победы над марианцами Сулла назвал его Великим; это стало наследственных прозванием Помпеев. См. Плутарх, «Помпей», 13.
(обратно)2185
Формула senatus consultum ultimum. См. вводное примечание к речи 8. Ср. Саллюстий, «Катилина», 29, 3.
(обратно)2186
Закон о насильственных действиях, изданный после резни на Аппиевой дороге. Ср. § 15, 21; Асконий, § 15 сл.
(обратно)2187
Помпей находился в отдалении, перед храмом Сатурна.
(обратно)2188
Сходка, созванная трибуном Титом Мунацием Планком. См. Асконий, § 8.
(обратно)2189
Народный трибун Марк Октавий.
(обратно)2190
Младшая сестра Клодия, жена Луция Лукулла. См. Плутарх, «Цицерон», 29.
(обратно)2191
Цицерон имеет в виду себя. Ср. речь 14, § 33; письма Fam., II, 10, 2 (CCXXV); Att., IX, 10, 3 (CCCLXIV).
(обратно)2192
Брогитару. Ср. речь 18, § 56.
(обратно)2193
У Птолемея, царя Кипра. Ср. речь 18, § 57.
(обратно)2194
Риторическое преувеличение. Имеется в виду Клодиев закон о консульских провинциях. Ср. речь 18, § 66.
(обратно)2195
Ср. речи 18, § 95; 20, § 57.
(обратно)2196
Риторическое преувеличение. Яникул — холм в Риме, на правом берегу Тибра. Альпы — Приморские.
(обратно)2197
Небольшое озеро в Этрурии.
(обратно)2198
Тит Фурфаний Постум, друг Цицерона, в 46 г. наместник Сицилии. См. письмо Fam., VI, 9 (DXXVIII).
(обратно)2199
Прямая речь ведется от имени Милона, но слова «со мной», стоящие в конце периода, относятся уже к Цицерону.
(обратно)2200
Речь идет о второй сестре Клодия, вдове Квинта Метелла.
(обратно)2201
О тетрархе см. прим. 87 к речи 17.
(обратно)2202
Как некогда, по преданию, поступил Луций Юний Брут. Ср. речь 26, § 28; Ливий, I, 59.
(обратно)2203
Имеется в виду убийство Клодия, если оно совершено при самообороне.
(обратно)2204
Т. е. в убийстве Клодия, совершенном ради блага государства (а не при самообороне).
(обратно)2205
По преданию, царь Тулл Гостилий, разрушив Альбу-Лонгу и переселив ее жителей, пощадил ее храмы.
(обратно)2206
В честь Юпитера, покровителя Латинского союза (Iuppiter Latiaris), на Альбанской горе устраивались празднества, сопровождавшиеся жертвоприношением (Ludi Latini in monte Albano).
(обратно)2207
Трибуны Тит Мунаций Планк и Квинт Помпей Руф, а также и Секст Клодий.
(обратно)2208
Ср. письмо Fam., XIV, 2, 2 (LXXIX).
(обратно)2209
Нападения на Сестия, Фабриция, Цецилия; см. § 38.
(обратно)2210
Риторическое преувеличение: составлялись законопроекты. На бронзовых досках вырезали текст принятого закона. Речь идет о законопроекте о допущении вольноотпущенников к голосованию в составе сельских триб.
(обратно)2211
Т. е. в 52 г., когда Клодий мог быть избран в преторы.
(обратно)2212
С 10 декабря 58 г. (окончание трибуната) до 56 г. (когда он был курульным эдилом).
(обратно)2213
Цицерон имеет в виду свое изгнание.
(обратно)2214
Гостилиева курия. Она не была храмом, но была освящена. См. прим. 72 к речи 5. Сенат мог принять постановление только в освященном месте.
(обратно)2215
Тем, что в Курию внесли труп Клодия.
(обратно)2216
По верованию древних, души людей, оставленных без погребения, скитались в виде привидений, доводивших встреченных ими людей до сумасшествия.
(обратно)2217
См. прим. 67 к речи 16.
(обратно)2218
Наследства: от отца, Гая Папия и деда, Гая Анния; приданое Фавсты, дочери Луция Суллы. См. письмо Q. fr., III, 7, 2 (CLVII).
(обратно)2219
Глашатай объявлял о результатах голосования каждой центурии в отдельности и окончательный результат выборов; затем председательствующий объявлял об избрании.
(обратно)2220
Войска, оцепившие форум. Ср. § 2, 67.
(обратно)2221
Ср. Палатинская Антология, VII, 251 (Симонид Кеосский).
(обратно)2222
Ежегодные празднества по случаю избавления от Клодия.
(обратно)2223
Клодий был убит 18 января. Цицерон считает 12 дней января (18—29) + 24 дня февраля + 27 дней дополнительного месяца + 31 день марта + 8 дней апреля. Речь была произнесена 8 апреля. Римляне вели счет дням включительно.
(обратно)2224
Ср. письмо Fam., II, 6, 3 (CLXXV).
(обратно)2225
Имеется в виду, главным образом, Помпей.
(обратно)2226
Милон родился в Ланувии. Он мог считать Рим своей второй родиной. Ср. Цицерон, «О законах», II, § 5.
(обратно)2227
Квинт Цицерон как легат Цезаря в это время был в Галлии.
(обратно)2228
Марцелл. — Прим. О. В. Любимовой (ancientrome.ru).
(обратно)2229
Ср. письмо Fam., IV, 4, 4 (CCCCXCII).
(обратно)2230
В это время Цезарь был консулом, диктатором на 10-летний срок, народным трибуном пожизненно, первоприсутствующим в сенате, императором, верховным понтификом, цензором на трехлетие. Ср. письмо Fam., IX, 15, 5 (CCCCXCIV).
(обратно)2231
Ср. письмо Fam., IV, 4, 3 (CCCCXCII).
(обратно)2232
Имеется в виду быстрота, с какой Цезарь овладел городами Италии в 49 г., во время гражданской войны, и быстрота его действий в Африке в 47 г. См. письмо Att., VII, 9, 4 (CCXCIX); Светоний, «Божественный Юлий», 37; Плутарх, «Цезарь», 50.
(обратно)2233
См. Цезарь, «Гражданская война», III, 73.
(обратно)2234
О преторской когорте см. прим. 91 к речи 3.
(обратно)2235
Ср. письма Fam., IV, 4, 3 (CCCCXCII); VI, 6, 10 (CCCCXCI).
(обратно)2236
Ср. речь 21, § 26 сл. См. прим. 22 к речи 11, прим. 48 к речи 21.
(обратно)2237
О трофее см. прим. 77 к речи 4.
(обратно)2238
Ср. письма Att., VII, 7, 7 (CCXCVII); 20, 2 (CCCXVII); 21, 1 (CCCXVIII); Fam., IV, 9, 3 (CCCCLXXXVIII).
(обратно)2239
Ср. письмо Att., XI, 7, 7 (CCCCXVI). Зять Цицерона Публий Корнелий Долабелла ходатайствовал перед Цезарем за Цицерона, просившего о разрешении возвратиться в Италию.
(обратно)2240
Ср. письмо Fam., IV, 11, 6 (CCCXLIII).
(обратно)2241
Цицерон имеет в виду старания Помпея в пользу его возвращения из изгнания. Ср. речи 16, § 29; 17, § 30 сл.
(обратно)2242
Ср. письмо Fam., IX, 6, 3 (CCCCLXVIII).
(обратно)2243
Ср. письма Att., IX, 15, 3 (CCCLXXI); X, 14, 1 (CCCXCVI); XI, 6, 2 (CCCCXII); Fam., VII, 3, 2 (CCCCLXII).
(обратно)2244
Римляне считали удачливость особым качеством человека. Ср. речь 5, § 47 сл. См. прим. 29 к речи 1.
(обратно)2245
Катон и другие противники Цезаря, павшие в Африке.
(обратно)2246
В этих словах Цицерона можно усмотреть скрытую критику диктатуры. Во время диктатуры Цезаря Цицерон относился к нему враждебно; это явствует из писем Цицерона, написанных после убийства Цезаря.
(обратно)2247
Имеются в виду Юлиевы законы о судоустройстве, о долгах, о роскоши. Ср. Цицерон, «О законах», III, § 31.
(обратно)2248
Цезарь установил денежную помощь многодетным семьям и запретил мужчинам в возрасте от 20 до 40 лет покидать Италию на срок более трех лет.
(обратно)2249
См. прим. 96 к речи 1.
(обратно)2250
Еще в конце 46 г. Цезарь совершил освящение (дедикацию) расширенного форума, лежавшего между Капитолийским и Палатинским холмами (Forum Iulium, F. Caesaris), с недостроенным еще храмом Венеры-Родоначальницы (Venus Genetrix), от которой Юлии вели свой род. Храм этот был достроен лишь при Августе.
(обратно)2251
Ср. высказывания Цезаря о смерти, которые ему приписывает Саллюстий («Катилина», 51, 20). Ср. речь 12, § 7.
(обратно)2252
После битвы под Фарсалом.
(обратно)2253
Жена Туберона-отца была из рода Туллиев.
(обратно)2254
Гай Вибий Панса, сторонник Цезаря, впоследствии один из консулов 43 г., погибших в битве под Мутиной.
(обратно)2255
Т. е., о гражданской войне между Цезарем и сенатом, начавшейся в январе 49 г.
(обратно)2256
Сторонник Помпея, собравший в Африке два легиона. Ср. Цезарь, «Гражданская война», I, 31.
(обратно)2257
Об империи см. прим. 90 к речи 1.
(обратно)2258
Так как он выполнял распоряжения вышестоящего магистрата и свои обязанности по отношению к государству.
(обратно)2259
К тому времени, когда Цицерон присоединился к Помпею (июнь 49 г.), война происходила только в Италии и Сицилии.
(обратно)2260
Цезарь сообщил Цицерону через его зятя Долабеллу, что разрешает ему возвратиться в Италию. Цицерон получил это письмо в Брундисии, оно показалось ему сдержанным; в августе 47 г. он получил от Цезаря второе письмо, которое его успокоило; в сентябре он встретился с Цезарем, который обошелся с ним милостиво. См. письма Att., XI, 7, 2 (CCCCXVI); 16, 1 (CCCCXXVII); Fam., XIV, 23, (CCCCXLI).
(обратно)2261
Об императоре см. прим. 70 к речи 1. После смерти Помпея Цезарь оказался единственным императором, официально получившим это звание. Цицерон был провозглашен императором во время своего проконсульства в Киликии (51 г.). Он не отпускал своих ликторов вплоть до октября 47 г., рассчитывая на триумф.
(обратно)2262
См. письмо Q. fr, I, 1, 10 (XXX).
(обратно)2263
См. [Цицерон], «К Гереннию», I, 3. Квинтилиан (V, 13, 20) осуждает Туберона за то, что он обвиняет изгнанника и старается помешать его прощению Цезарем.
(обратно)2264
Сулла. См. Плутарх, «Сулла», 31.
(обратно)2265
В 64 г. Цезарь был председателем суда по делам об убийствах и осудил некоторых лиц, обвинявшихся в убийствах, совершенных ими 17 лет назад, во время сулланских проскрипций, хотя закон Суллы освобождал их от ответственности.
(обратно)2266
Патрицианский [Плебейский. — Прим. О. В. Любимовой (ancientrome.ru).] род Элиев дал Риму ряд юристов, философов и историков.
(обратно)2267
См. письмо Fam., VI, 14, 2 (CCCCXC).
(обратно)2268
Выпад против некоторых сторонников Цезаря, требовавших крутых мер. Ср. письма Att., XI, 20, 2 (CCCCXLII); Fam., XV, 15, 2 (CCCCXLIII); VI, 6, 8 (CCCCXCI).
(обратно)2269
Так называемая postulatio — заявление претору или председателю суда (здесь Цезарю) о желании привлечь такого-то к суду.
(обратно)2270
Ср. речь 23, § 13.
(обратно)2271
Термин parricidium (parricidium patriae) часто означал государственную измену (perduellio). Сравнивая Лигария с Тубероном и Помпеем, Цицерон обходит дело о сотрудничестве Лигария с царем Юбой. См. Цицерон, «Об обязанностях», III, § 83.
(обратно)2272
Ср. речь 23, § 13.
(обратно)2273
В подлиннике secessio (уход); намек на «уход» плебса на Авентинский холм (в древнейшую эпоху, по преданию).
(обратно)2274
На стороне Помпея было большинство нобилитета. О сторонниках Цезаря см. письма Att., VII, 3, 5 (CCXCIII); Fam., VIII, 14, 3 (CCLXXV).
(обратно)2275
См. речь 23, § 17.
(обратно)2276
В войске Гнея Помпея Страбона, во время Союзнической войны (89 г.).
(обратно)2277
Это мог быть Марк Клавдий Марцелл. См. речь 23.
(обратно)2278
Нумидийский царь Юба, сторонник Помпея. В 81 г. Помпей после победы над Гнеем Домицием Агенобарбом и Ярбой восстановил на престоле Гиемпсала, отца Юбы, и расширил его владения. См. Цезарь, «Гражданская война», II, 25.
(обратно)2279
О конвенте римских граждан см. прим. 63 к речи 3.
(обратно)2280
По правилам надо было издать куриатский закон об империи, в I в. это стало формальностью. Ср. Цезарь, «Гражданская война», I, 6.
(обратно)2281
Гай Вибий Панса и другие; см. выше, § 7.
(обратно)2282
Лигарии происходили из Сабинской области, где Цезарь в 82 г. скрывался от гнева Суллы. См. Плутарх, «Цезарь», 1.
(обратно)2283
О трауре см. прим. 53 к речи 3.
(обратно)2284
О богах-пенатах см. прим. 31 к речи 1.
(обратно)2285
Ср. Цезарь, «Гражданская война», I, 33; Светоний, «Божественный Юлий», 75.
(обратно)2286
См. письмо Att., XIII, 44, 3 (DCL).
(обратно)2287
Намек на события 56 г., когда по предложению Цицерона сенат отпустил деньги на содержание войск Цезаря в Галлии. Ср. речь 21, § 28.
(обратно)2288
Имеется в виду Марк Марцелл. См. речь 23.
(обратно)2289
После убийства диктатора Цезаря.
(обратно)2290
17 марта 44 г. Храм Земли находился на склоне Эсквилинского холма.
(обратно)2291
Греческое слово — «амнистия» (предание забвению). Амнистия была объявлена в Афинах после изгнания 30 тираннов (403 г.).
(обратно)2292
17 марта, в последний день Либералий, Антоний предложил заговорщикам спуститься из Капитолия и дал им в заложники своего сына.
(обратно)2293
Цицерон умалчивает о таких действиях Антония за время от 17 марта и до 1 июня, как набор ветеранов и личной охраны, раздача денег, предоставление льгот, возвращение изгнанных. Ср. письмо Fam., XII, 1, 1 (DCCXXIV).
(обратно)2294
Секст Клодий, осужденный в 52 г. См. письмо Att., XIV, 13a, 2 сл. (DCCXVII).
(обратно)2295
Антоний провел в сенате постановление об упразднении диктатуры навсегда, впоследствии подтвержденное законом. Цицерон не верил в искренность Антония. Ср. речь 26, § 89; письма Att., XIV, 10, 1 (DCCXIV); 14, 2 (DCCXX); Fam, X, 28 (DCCCXIX).
(обратно)2296
Тело преступника низкого происхождения после казни влекли крюком к Гемониевым ступеням, лестнице, которая вела с Авентинского холма к Тибру, и бросали в реку.
(обратно)2297
Герофил (Аматий), выдававший себя за внука Гая Мария, был казнен Публием Корнелием Долабеллой, которого Цезарь сделал консулом-суффектом (заместителем) на время своего похода против парфян.
(обратно)2298
Колонна, воздвигнутая на форуме, на месте, где было сожжено тело Цезаря; на ней была надпись: «Отцу отечества»; около колонны совершались жертвоприношения, давались обеты. См. письма Att., XII, 49, 1 (DCII); XIV, 15, 2 (DCCXXI); Fam., XI, 2, 9 (DCCXLII); XII, 1, 1 (DCCXXIV).
(обратно)2299
Сожжение тела Цезаря на форуме, совершенное в нарушение правил государственных похорон. См. вводное примечание.
(обратно)2300
Избранными консулами на 43 г. были Авл Гирций и Гай Вибий Панса.
(обратно)2301
Марк Брут и Гай Кассий, покинувшие Рим в середине апреля 44 г. См. письма Fam., XI, 2 (DCCXLII); Att., XV, 5, 2 (DCCXL); 20, 2 (DCCLIII).
(обратно)2302
В начале июня Цицерон был назначен легатом Долабеллы и должен был сопровождать его в Сирию. См. письмо Att., XV, 11, 4 (DCCXLVI).
(обратно)2303
В Брундисии находились четыре македонских легиона Антония.
(обратно)2304
Австр — южный ветер.
(обратно)2305
Эдикт преторов Марка Брута и Гая Кассия; они писали о своем согласии жить в изгнании, если это сможет принести мир государству. Ср. письма Fam., XI, 3 (DCCLXXXII); Att., XVI, 7, 1, 7 (DCCLXXXIII); Веллей Патеркул, II, 62, 3.
(обратно)2306
Трансальпийская и Цисальпийская Галлии. Наместником первой Цезарь сделал Тита Мунация Планка [Луция Мунация Планка. — Прим. О. В. Любимовой (ancientrome.ru).], наместником второй — Децима Брута. Распространился слух, что Антоний требует эти провинции для себя. См. письмо Att., XIV, 14, 4 (DCCXX).
(обратно)2307
Ср. письмо Att., XVI, 7, 5, 7 (DCCLXXXIII).
(обратно)2308
Убийство Цезаря.
(обратно)2309
Луций Кальпурний Писон, консул 58 г., тесть Цезаря. Речь Писона была направлена против Антония.
(обратно)2310
Ср. письма Fam., XII, 2, 1 (DCCXC). См. Авл Геллий, XVI, 1.
(обратно)2311
По римской терминологии amicitia — политическое единомыслие. Ср. письма Fam., I, 8, 2 (CXXIII); III, 10, 10 (CCLXII). «Услуга» — то, что Антоний пощадил Цицерона в Брундисии в 47 г. Ср. речь 26, § 5, 59.
(обратно)2312
См. прим. 106 к речи 13.
(обратно)2313
Ср. речь 19, § 34; «О старости», § 16.
(обратно)2314
См. прим. 22 к речи 11. В честь Цезаря было прибавлено по одному дню ко всем молебствиям. Так как Цезарь был обожествлен, то убийство его было, с точки зрения религии, кощунством. Ср. речь 26, § 110.
(обратно)2315
Для обеспечения явки сенаторов магистрат мог брать у них залог или впоследствии штрафовать их за неявку.
(обратно)2316
См. письма Att., IV, 2 (XCI); 3, 2 (XCII).
(обратно)2317
Паренталии — обряды в память умерших родных, жертвы для умилостивления манов. См. Овидий, «Фасты», II, 570. С молебствиями обращались только к богам-олимпийцам (di superi), поэтому Цицерон и говорит о кощунстве, не считаясь с тем, что Цезарь был при жизни обожествлен. Ср. речь 26, § 110.
(обратно)2318
Луций Юний Брут, по традиции, участвовавший в изгнании царей, был патрицием; его род угас со смертью его сыновей. Позднейшие Юнии были плебеями, но из политических соображений было выгодно приписывать убийство Цезаря потомкам основателя республики. Ср. речь 26, § 26.
(обратно)2319
Намек на возможный подкуп сенаторов Антонием.
(обратно)2320
См. прим. 1 к речи 1. Ирония: солдаты Антония.
(обратно)2321
Ср. речь 26, § 100; Аппиан, III, 22.
(обратно)2322
См. письма Att., XIV, 10, 1 (DCCXIV); Fam., XII, 1, 2 (DCCXXIV).
(обратно)2323
Италийское божество плодородия, жена Сатурна. Храм Опс находился на капитолийском склоне. «Обагренные кровью» деньги — 700 миллионов сестерциев — были собраны от продажи имущества помпеянцев и самого Гнея Помпея. Ср. речь 26, § 93; письма Att., XIV, 14, 5 (DCCXX); 18, 1 (DCCXXVII); XVI, 14, 3 (DCCCV).
(обратно)2324
О тоге см. прим. 96 к речи 1, об империи — прим. 90 к речи 1.
(обратно)2325
Консульство «без коллеги» в 52 г.
(обратно)2326
Юлиев закон 46 г. о провинциях.
(обратно)2327
Юлиев закон 46 г. о судоустройстве упразднил третью декурию (эрарные трибуны), входившую в состав совета уголовного суда в силу Аврелиева закона 70 г. Антоний хотел восстановить третью декурию, образовав ее из центурионов и солдат легиона «жаворонков». См. прим. 42.
(обратно)2328
«Вы» — консулы Антоний и Долабелла. Имеется в виду Антоний.
(обратно)2329
Помпеев закон о судоустройстве (55 г.), сохранив три декурии, установленные Аврелиевым законом, ограничил право участия в суде состоятельными членами сословий и изменил порядок назначения судей.
(обратно)2330
Солдаты легиона, набранного Цезарем в Трансальпийской Галлии, носили на шлеме птичьи перья, что напоминало хохолок жаворонка. Цезарь даровал «жаворонкам» права римского гражданства.
(обратно)2331
О насильственных действиях см. прим. 46 к речи 16, об оскорблении величества римского народа — прим. 40 к речи 2. Людям, осужденным в постоянном суде, право провокации, т. е. обращения к центуриатским или трибутским комициям, не предоставлялось.
(обратно)2332
Формула изгнания. См. вводное примечание к речи 8.
(обратно)2333
Известен только случай возвращения Секста Клодия; см. речь 26, § 97; письма Att., XIV, 12, 1 (DCCXVI); 13a, 2 (DCCXVII).
(обратно)2334
Внесение закона в комиции и самый законопроект.
(обратно)2335
Дед Антония со стороны отца — оратор Марк Антоний, со стороны матери — Луций Юлий Цезарь, консул 90 г. Оба были убиты марианцами в 87 г. Дядя со стороны матери — Луций Юлий Цезарь, консул 64 г.
(обратно)2336
См. ниже, § 37; речь 18, § 115.
(обратно)2337
Проект отмены долгов, предложенный Долабеллой в 47 г., в отсутствие Цезаря.
(обратно)2338
Антоний в 44 г. наблюдал за небесными знамениями при назначении Долабеллы консулом-суффектом; см. прим. 11 к речи 8.
(обратно)2339
Народная сходка 17 марта после собрания сената в храме Земли.
(обратно)2340
О Марке Манлии Капитолийском см. прим. 37 к речи 14.
(обратно)2341
Намек на Фульвию, жену Антония. Ср. речь 26, § 11, 113.
(обратно)2342
Луций Акций, «Атрей», фрагм. 168, Уормингтон. Ср. речь 18, § 102; Цицерон, «Об обязанностях», I, § 17.
(обратно)2343
Цицерон часто высказывает этот взгляд. Ср. речь 18, § 91 сл.; «О государстве», II, § 46.
(обратно)2344
Конная статуя Помпея находилась перед построенным им театром.
(обратно)2345
Игры в честь Аполлона начинались 7 июля. Их должен был устроить Марк Брут как городской претор. 5 июня сенат постановил, чтобы Брут и Гай Кассий выехали в восточные провинции закупать хлеб для Рима. Трагедия Акция «Брут» (об изгнании царей) была заменена его же трагедией «Терей». Слова «по прошествии 60 лет» возвращают нас к 104 г. (первое представление трагедии?). Ср. речи 18, § 117 сл.; 26, § 31; письма Att., XVI, 2, 3 (DCCLXXII); 4, 1 (DCCLXXI).
(обратно)2346
Ср. Филиппика VII, § 12; Авл Гирций, сподвижник Цезаря по галльской и гражданской войнам, был избран в консулы на 43 г. Он пал в бою под Мутиной 21 апреля 43 г.
(обратно)2347
Ср. выше, § 10; письмо Att., XIV, 13, 2 (DCCXIX).
(обратно)2348
Т. е. со времени консульства Цицерона (63 г.). Счет времени ведется включительно.
(обратно)2349
Участники заговора Катилины.
(обратно)2350
Ср. речи 11, § 15; 12, § 20; 27, § 24.
(обратно)2351
Ср. письмо Att., XVI, 11, 1 (DCCXCIX). Фадия, первая жена Антония, была дочерью вольноотпущенника Квинта Фадия. Цицерон говорит «был», так как, по представлению римлян, со смертью человека родственные отношения прекращались. Ср. речь 18, § 6.
(обратно)2352
Молодые люди обучались ораторскому искусству у ораторов и государственных деятелей. Ср. речь 19, § 9; Плиний Младший, Письма, 8, 14.
(обратно)2353
См. ниже, § 44 сл.
(обратно)2354
Цицерон был избран в авгуры в 53 г., после гибели Марка Лициния Красса на войне против парфян [Цицерон был избран в авгуры на место Публия Лициния Красса, сына Марка, погибшего вместе с отцом (Плутарх, «Цицерон», 36). — Прим. О. В. Любимовой (ancientrome.ru).].
(обратно)2355
Квинт Гортенсий Гортал, консул 69 г., знаменитый оратор.
(обратно)2356
См. прим. 46 к речи 16.
(обратно)2357
Цезарь. См. прим. 8 к речи 24.
(обратно)2358
Марк Юний Брут и Гай Кассий Лонгин. См. Светоний, «Божественный Юлий», 84.
(обратно)2359
Имеется в виду I филиппика (речь 25).
(обратно)2360
Имеется в виду расхищение государственного имущества. См. ниже, § 92, 95; речь 25, § 17.
(обратно)2361
Об авспициях см. прим. 11 к речи 8, об интерцессии — прим. 57 к речи 5.
(обратно)2362
См. письма Att., XIV, 13a (DCCXVII); 13b (DCCXVIII).
(обратно)2363
Мустела и Тирон — предводители шаек Антония.
(обратно)2364
См. ниже, § 35, 97 сл. Намек на заметки Цезаря, оказавшиеся в руках у Антония. Ср. речь 25, § 2.
(обратно)2365
Ср. речь 25, § 3.
(обратно)2366
См. вводное примечание к речам 9—12.
(обратно)2367
Цезарианец Гай Скрибоний Курион-сын в 49 г. пал в Африке во время гражданской войны.
(обратно)2368
Фульвия — жена Марка Антония, вдова Публия Клодия и Гая Куриона.
(обратно)2369
Публий Сервилий Исаврийский, консул 79 г. (умер в 44 г.), Квинт Лутаций Катул, консул 78 г. (умер в 60 г.), Луций Лициний Лукулл, консул 74 г., Марк Лициний Лукулл [Марк Теренций Варрон Лукулл. — Прим. О. В. Любимовой (ancientrome.ru).], консул 73 г., Марк Лициний Красс, консул 70 и 55 гг., Гай Скрибоний Курион, консул 76 г., Гай Кальпурний Писон и Маний Ацилий Глабрион, консулы 67 г., Маний Эмилий Лепид и Луций Волкаций Тулл, консулы 66 г., Гай Марций Фигул, консул 64 г., Децим Юний Силан и Луций Лициний Мурена, консулы 62 г.
(обратно)2370
Марк Катон в 46 г., после поражения помпеянцев в Африке, покончил с собой в Утике; получил посмертно прозвание «Утический».
(обратно)2371
Помпей, по возвращении в конце 62 г. с Востока, в окрестностях Рима ожидал своего триумфа, который он справил в сентябре 61 г.
(обратно)2372
Ср. письмо Att., I, 14, 3 (XX).
(обратно)2373
Луций Аврелий Котта, консул 65 г. Ср. речи 11, § 15; 17, § 68.
(обратно)2374
См. прим. 96 к речи 1 и прим. 22 к речи 11.
(обратно)2375
Луций Юлий Цезарь, консул 64 г.
(обратно)2376
Публий Корнелий Лентул Сура, один из казненных катилинариев.
(обратно)2377
Первые два — параситы из комедий Теренция «Формион» и «Евнух». Баллион — сводник из комедии Плавта «Раб-обманщик».
(обратно)2378
5 декабря 63 г., когда сенат в храме Согласия решал вопрос о казни катилинариев, на капитолийском склоне находились вооруженные римские всадники. См. речь 18, § 28; письмо Att., II, 1, 7 (XXVII).
(обратно)2379
Сам Цицерон.
(обратно)2380
Сирийское племя, покоренное Помпеем. Антоний составил из итирийцев свою личную охрану.
(обратно)2381
Т. е. у Кифериды, любовницы Антония. Ср. письмо Att., X, 10, 5 (CCCXCI).
(обратно)2382
Начало стиха из поэмы Цицерона «О моем времени». Ср. речь против Писона, § 72; письмо Fam., I, 9, 23 (CLIX); «Об обязанностях», I, § 77; Квинтилиан, XI, 1, 24.
(обратно)2383
См. речь 22, § 40.
(обратно)2384
Ср. речь 22, § 13.
(обратно)2385
В 59 г. на основании Ватиниева закона Цезарю было предоставлено проконсульство в Цисальпийской Галлии и Иллирике сроком на пять лет. В 55 г. на основании Помпеева-Лициниева закона проконсульство в Галлиях ему было продлено еще на пять лет. См. речь 21.
(обратно)2386
В 52 г. трибун Марк Целий Руф провел закон, разрешавший Цезарю заочно добиваться консульства. Ср. письма Att., VII, 1, 4 (CCLXXXIII); VIII, 3, 3 (CCCXXXII).
(обратно)2387
Ср. письмо Fam., XII, 2, 1 (DCCXC).
(обратно)2388
Например, Публий Корнелий Лентул, сын консула 57 г. См. письмо Fam., XII, 14, 6 (DCCCLXXXII).
(обратно)2389
Марк и Децим Бруты. См. прим. 30 к речи 25. Мать Марка Брута, Сервилия, вела свой род от Гая Сервилия Агалы. См. прим. 6 к речи 9.
(обратно)2390
Намек на Спурия Кассия Вецеллина, который был заподозрен в стремлении к царской власти и убит будто бы по требованию своего отца. См. Ливий, II, 41.
(обратно)2391
О событии, о котором говорит Цицерон, сведений нет. В 47 г. Цезарь двигался из Египта в Понт через Киликию.
(обратно)2392
Гней Домиций Агенобарб и его отец Луций были взяты Цезарем в плен в 49 г. в Корфинии и отпущены им. Луций Домиций пал под Фарсалом. См. Цезарь, «Гражданская война», I, 23; III, 99.
(обратно)2393
Гай Требоний, легат Цезаря в Галлии, трибун 55 г., консул в течение трех последних месяцев 45 г., был назначен наместником Ахайи. 15 марта 44 г., во время убийства Цезаря, задержал Антония у входа в Курию, вступив в ним в беседу. Ср. письма Fam., X, 28, 1 (DCCCXIX); XII, 4, 1 (DCCCXVIII).
(обратно)2394
Луций Тиллий Кимвр, цезарианец, впоследствии один из убийц Цезаря.
(обратно)2395
Публий Сервилий Каска, нанесший Цезарю первую рану, и его брат Гай. См. выше, прим. 42.
(обратно)2396
Марк Брут как городской претор не имел права быть вне Рима более десяти дней.
(обратно)2397
Игры в честь Аполлона были устроены от имени и на средства Марка Брута претором Гаем Антонием. Они начинались 7 июля. См. письма Att., XV, 12, 1 (DCCXLVII); XVI, 4, 1 (DCCLXXI).
(обратно)2398
Провинции Крит и Кирена, предоставленные Марку Бруту и Гаю Кассию по предложению Антония. Провинции Сирия и Македония, назначенные им Цезарем, были переданы Долабелле и Марку Антонию.
(обратно)2399
Стиль (греч.) — заостренная палочка для писания на навощенных дощечках. Здесь — кинжал. Ср. письма Fam., XII, 1, 1 (DCCXXIV); 3, 1 (DCCXCII); Гораций. Сатиры, II, 1, 39.
(обратно)2400
Преувеличение: Антония пытались вовлечь в заговор. См. Плутарх, «Антоний», 13.
(обратно)2401
См. речь 1, § 84, прим. 66.
(обратно)2402
См. ниже, § 93; речь 24, § 17.
(обратно)2403
Летом 49 г. Цицерон после долгих колебаний покинул Италию и присоединился к Помпею в Эпире.
(обратно)2404
См. Плутарх, «Цицерон», 38; Макробий, «Сатурналии», II, 3, 7.
(обратно)2405
О наследствах от друзей см. прим. 115 к речи 17.
(обратно)2406
С 1 по 19 сентября 44 г.
(обратно)2407
Марк Антоний, консул 99 г., знаменитый оратор.
(обратно)2408
О тоге-претексте см. прим. 96 к речи 1.
(обратно)2409
О Росциевом законе см. прим. 59 к речи 13.
(обратно)2410
Стола — одежда римской матроны (замужней женщины).
(обратно)2411
Т. е. через имплувий [Комплувий. — Прим. О. В. Любимовой (ancientrome.ru).], отверстие в крыше дома над атрием.
(обратно)2412
Очевидно, Курион-сын поручился за Антония. Ср. письма Att., II, 8, 1 (XXXV); Fam., II, 1—7 (CLXIV—CLXVI, CLXXIII—CLXXV, CLXXVII).
(обратно)2413
Речь идет о восстановлении царя Птолемея Авлета, изгнанного из Александрии. В Сивиллиных книгах нашли запрет восстанавливать царя вооруженной силой. См. письма Fam., I, 1 (XCIV); 2 (XCV).
(обратно)2414
Имеется в виду усадьба около Мисенского мыса в Кампании. Невдалеке от Сисапона (Испания) компании откупщиков добывали киноварь. Цицерон намекает на то, что мисенская усадьба принадлежит не столько Антонию, сколько его заимодавцам.
(обратно)2415
Юлия, дочь Луция Юлия Цезаря, консула 90 г.
(обратно)2416
Новоизбранные квесторы распределяли между собой провинции по жребию 5 декабря; с этого времени и начинались их полномочия. Марк Антоний был квестором Цезаря в Галлии в 52 г.
(обратно)2417
Т. е. Куриону. В 50 г. Курион, будучи трибуном, перешел на сторону Цезаря, возможно, подкупленный им. См. выше, § 44.
(обратно)2418
Консул 49 г. Лентул Крус погиб вместе с Помпеем в Египте в 48 г.
(обратно)2419
Т. е. принял senatus consultum ultimum. См. вводное примечание к речи 8; письмо Fam., XVI, 11, 2 (CCC); Цезарь, «Гражданская война», I, 5, 4.
(обратно)2420
Интерцессия Антония по постановлению сената о том, чтобы Цезарь распустил свои войска (6 января 49 г.).
(обратно)2421
Senatus auctoritas. См. прим. 57 к речи 5.
(обратно)2422
Военные действия против сената. См. Цезарь, «Гражданская война», I, 32.
(обратно)2423
Гай Антоний, консул 63 г., осужденный в 59 г. после проконсульства в Македонии. Восстановление изгнанников в их правах было отменой решенного судебного дела (res iudicata).
(обратно)2424
Азартная игра в кости была в Риме запрещена.
(обратно)2425
В 49 г. для борьбы с помпеянцами.
(обратно)2426
Это неверно: Цицерон в это время был в Кумах. См. Att., X, 10 (CCCXCI).
(обратно)2427
По свидетельству Плиния («Естественная история», VIII, 21) и Плутарха («Антоний», 9), в колесницу Антония были запряжены львы (или пантеры?). Народный трибун не имел права на ликторов.
(обратно)2428
См. выше, прим. 34. О лектике см. прим. 95 к речи 1.
(обратно)2429
Т. е. помощником диктатора.
(обратно)2430
Т. е. лошадей, принадлежащих казне и отдаваемых внаймы, например магистратам, для устройства общественных игр. Гиппий и Сергий — мимические актеры.
(обратно)2431
Антоний вначале поселился в доме Помпея, не получив его в собственность. На этот дом заявлял притязания сын Гнея Помпея Секст. Другой дом — Марка Пупия Писона Кальпурниана, консула 61 г.
(обратно)2432
См. выше, § 40 сл. Антоний не уплатил за имущество помпеянцев, купленное им на аукционе.
(обратно)2433
См. прим. 56 к речи 7. Храм Юпитера Статора находился вблизи Фламиниева цирка.
(обратно)2434
См. прим. 80 к речи 19.
(обратно)2435
Ср. Плавт, «Пуниец», 843. Перевод А. В. Артюшкова.
(обратно)2436
О Харибде см. прим. 132 к речи 4.
(обратно)2437
Об Океане см. прим. 9 к речи 4.
(обратно)2438
О вестибуле см. прим. 77 к речи 19. Ростры — тараны пиратских кораблей, захваченных Помпеем.
(обратно)2439
О Двенадцати таблицах см. прим. 88 к речи 1. Киферида не была законной женой Антония. «Забрать вещи» — перевод формулы, которую произносил муж, объявляя жене о разводе (res tuas tibi habeto). Сарказм.
(обратно)2440
Антоний переправил в Эпир войска, оставленные Цезарем в Брундисии, и оказал этим помощь Цезарю, потерпевшему от Помпея поражение под Диррахием. Под Фарсалом Антоний командовал левым крылом войск Цезаря. Цицерон сам противоречит себе. Ср. Плутарх, «Антоний», 8.
(обратно)2441
Имущество помпеянцев, скупленное Антонием; см. выше, § 62.
(обратно)2442
См. выше, § 53, 56; Дион Кассий, 41, 17.
(обратно)2443
Т. е. список имущества для продажи с торгов с целью уплаты долгов.
(обратно)2444
См. выше, § 40; законные наследники Рубрия указали Цезарю на свои права, после чего он запретил продажу имущества.
(обратно)2445
Гладиатор, увольняемый от службы, получал деревянный меч.
(обратно)2446
Ср. письмо Att., XVI, 11, 2 (DCCXCIX).
(обратно)2447
См. речь 25, § 7 сл.
(обратно)2448
Башмаки особого покроя и тога — одежда сенатора. Галльской обувью (сандалиями) римляне пользовались дома.
(обратно)2449
Город в Этрурии. Ср. письмо Att., XIII, 40, 2 (DCCXCIX).
(обратно)2450
«Катамит» — латинское искажение имени Ганимед.
(обратно)2451
Ср. письма Att., XII, 18a, 1 (DLVI); 19, 2 (DLVII).
(обратно)2452
Уезжая в конце 46 г. в Испанию, Цезарь назначил городских префектов, чтобы они вместе с начальником конницы Марком Лепидом управляли государством. Луций Мунаций Планк как префект вел дела городского претора.
(обратно)2453
В октябре 45 г. после полной победы над помпеянцами.
(обратно)2454
См. прим. 31 к речи 2.
(обратно)2455
Об авспициях см. прим. 11 к речи 8. Наблюдение и право наблюдения за небесными знамениями называлось спекцией. Клодиев закон 58 г. запрещал авспиции в комициальные дни, но не всегда соблюдался, хотя и не был отменен. Ср. речь 18, § 129.
(обратно)2456
15 марта 44 г. — день убийства Цезаря.
(обратно)2457
О centuria praerogativa см. прим. 20 к речи 2.
(обратно)2458
См. прим. 40 к речи 4.
(обратно)2459
Alio die — слова авгура, признавшего знамения дурными, вследствие чего комиции должны быть отложены. Гай Лелий Мудрый — друг Сципиона Младшего.
(обратно)2460
О Луперкалиях см. прим. 40 к речи 19. «Коллега» — Цезарь. Диадема — головная повязка восточных царей. См. Плутарх, «Антоний», 10.
(обратно)2461
Марк Брут, Гай Кассий и другие заговорщики.
(обратно)2462
Луций Тарквиний — последний царь Рима; о Мелии см. прим. 6 к речи 9; о Марке Манлии — прим. 37 к речи 14.
(обратно)2463
Имеется в виду речь Антония в сенате, произнесенная 1 сентября 44 г.
(обратно)2464
Отказавшись от политики, спасительной для государства. Ср. речь 25, § 1 сл.
(обратно)2465
Марк Фульвий Бамбалион, отец Фульвии, жены Антония.
(обратно)2466
Т. е. деньги, добытые продажей имущества помпеянцев. Ср. речь 25, § 17.
(обратно)2467
Налог на недвижимость был отменен после покорения Македонии (167 г.), снова был введен в 43 г., во времена триумвирата.
(обратно)2468
Тетрарх Галатии, союзник Рима в войнах против Митридата; во время гражданской войны был на стороне Помпея; был прощен Цезарем. В 45 г. внук Дейотара обвинил его в покушении на жизнь Цезаря. Цицерон защищал Дейотара перед Цезарем.
(обратно)2469
Это был Митридат Пергамский. Дейотар должен был уступить Малую Армению Ариобарзану, царю Каппадокии.
(обратно)2470
Имеется в виду вымышленный Антонием «Юлиев закон о восстановлении Дейотара в правах».
(обратно)2471
Имеется в виду Фульвия. См. выше, § 11, 77; Att., XIV, 12, 1 (DCCXVI).
(обратно)2472
Очевидно, Секст Клодий. См. выше, § 9; речь 25, § 3.
(обратно)2473
Преувеличение: эти финансовые мероприятия не изменяли положения Крита как римской провинции. Цезарь сделал Марка Брута наместником Македонии, а не Крита.
(обратно)2474
Политические изгнанники, возвращенные в Италию вместе с уголовными преступниками.
(обратно)2475
Неблагоприятное знамение. См. Цицерон, «О гадании», II, § 42.
(обратно)2476
Септемвират — комиссия из семи человек с участием Марка Антония. Она должна была дать землю ветеранам на основании земельного закона Луция Антония. См. письмо Att., XIV, 21, 2 (DCCXXIX).
(обратно)2477
Антония, вторая жена Марка Антония; он разошелся с ней в 47 г.
(обратно)2478
Консулы Марк Антоний и Публий Корнелий Долабелла. Ср. письмо Att., XVI, 16c, § 11 (DCCLXXIV).
(обратно)2479
Антоний встретил в Капуе враждебный прием: старые колоны не желали появления новых поселенцев. См. Филиппика XII, § 7.
(обратно)2480
Имеется в виду второй земельный закон Цезаря (59 г.). См. Att., II, 6, 1 (XLI).
(обратно)2481
Плодородные земли в Сицилии.
(обратно)2482
См. выше, § 43.
(обратно)2483
Касилин — город в Кампании; оказал сопротивление Ганнибалу.
(обратно)2484
Новые колоны, занимая отведенные им земли, двигались в военном строю со знаменем. Проведение границ плугом — сакральный акт.
(обратно)2485
Марк Теренций Варрон, выдающийся ученый древности; помпеянец. См. Светоний, «Божественный Юлий», 44.
(обратно)2486
Во время или после пира рвоту иногда вызывали у себя искусственно. См. письмо Att., XIII, 52, 1 (DCLXXXII).
(обратно)2487
Цитата из трагедии. См. Цицерон, «Об обязанностях», I, § 139.
(обратно)2488
Ср. письмо Att., XVI, 11, 3 (DCCXCIX).
(обратно)2489
Сидицинцы — народность в Кампании; главный город — Теан.
(обратно)2490
О патронате и клиентеле см. прим. 79 к речи 1.
(обратно)2491
Марк Сатрий, усыновленный Луцием Минуцием Басилом. См. Цицерон, «Об обязанностях», III, § 74.
(обратно)2492
См. речь 25, § 5.
(обратно)2493
Ср. речь 25, § 19, 23 сл.
(обратно)2494
О промульгации см. прим. 1 к речи 2. См. речь 25, § 19, 25.
(обратно)2495
Цезарь был при жизни обожествлен. На ложе изображение божества помещали при обряде угощения (см. прим. 22 к речи 11). Двускатная кровля — отличительный признак храма; фламин — жрец определенного божества. См. Светоний, «Юлий», 76.
(обратно)2496
Акт посвящения; см. прим. 72 к речи 5. Фламина назначал верховный понтифик.
(обратно)2497
Римские игры в честь Юпитера, Юноны и Минервы — с 4 по 12 сентября включительно. После перерыва в два дня — Римские игры в цирке. Речь составлена так, словно она произносится 19 сентября.
(обратно)2498
Намек на то, что Антония ждет судьба Клодия и Куриона, вдовой которых была Фульвия («третий взнос»).
(обратно)2499
Намек на убийство Цезаря.
(обратно)2500
Ср. письмо Fam., XII, 1, 2 (DCCXXIV).
(обратно)2501
Ср. речь 12, § 3.
(обратно)2502
Намек на Квинта Фуфия Калена и его сторонников.
(обратно)2503
Сенат относился к Дециму Бруту недоброжелательно: Брута обвиняли в медлительности, а он писал, что разорился, неся расходы на войну. Ср. письма Att., XV, 11, 2 (DCCXLVI); Fam., XI, 10, 5 (DCCCLIV); 11, 2 (DCCCLV); 14, 2 (DCCCLXXXV); XII, 5, 2 (DCCCXXI).
(обратно)2504
Марк Антоний. См. прим. 34 к речи 1.
(обратно)2505
Октавиан.
(обратно)2506
Убийство диктатора Гая Юлия Цезаря.
(обратно)2507
Два сражения под Галльским Форумом 15 апреля 43 г.: одно до полудня, другое после полудня.
(обратно)2508
Имеется в виду нападение Луция Антония на лагерь Октавиана.
(обратно)2509
Т. е. солдат Антония, коль скоро он не заклеймен как враг государства.
(обратно)2510
О молебствиях см. прим. 22 к речи 11.
(обратно)2511
Публий Сервилий Исаврийский.
(обратно)2512
Консулы 43 г. Авл Гирций и Гай Вибий Панса; консулы, избранные на 42 г., — Луций Мунаций Планк и Децим Юний Брут Альбин.
(обратно)2513
Убийство Гая Требония, совершенное Долабеллой в Смирне.
(обратно)2514
Видимо, сенат собрался в храме Юпитера Капитолийского.
(обратно)2515
Ввиду важного стратегического значения римской колонии Пармы, Антоний отправил туда брата Луция. См. письмо Fam., XI, 13b (DCCCXLIX).
(обратно)2516
Децидий Сакса входил в комиссию по землеустройству. См. прим. 129 к речи 26.
(обратно)2517
Слухи о победе Марка Антония.
(обратно)2518
См. прим. 139 к речи 17.
(обратно)2519
Об императоре см. прим. 70 к речи 1.
(обратно)2520
Такое число убитых врагов требовалось обычаем. В 62 г. трибун Марк Катон провел закон, увеличивший эту цифру до 5 тысяч.
(обратно)2521
О триумфе см. прим. 45 к речи 4. Овация — малый триумф. Здесь это метафоры. 20 апреля состоялась народная сходка.
(обратно)2522
Палилии (или Парилии) — празднества в честь божества Pales, покровительницы пастухов и скота (21 апреля); совпадали с годовщиной основания Рима.
(обратно)2523
Присутствие ликторов со связками — атрибут диктаторской власти.
(обратно)2524
Диктатура допускалась на срок не более шести месяцев, после чего диктатор передавал свои полномочия консулам, но их в Риме не было.
(обратно)2525
Слухи о поражении войск сената, дошедшие в Рим 17 или 18 апреля, видимо, относились к сражению, предшествовавшему сражению под Галльским Форумом.
(обратно)2526
Имеется в виду Помпеева курия, где был убит Цезарь.
(обратно)2527
Луций Лициний Красс (141—90) — оратор, один из учителей Цицерона.
(обратно)2528
Намек на Помпея. Ср. письмо Fam., V, 7, 3 (XV).
(обратно)2529
Ср. письма Att., I, 19, 6 (XXV); 20, 3 (XXVI); II, 9, 1 (XXXVI).
(обратно)2530
Обращение к воображаемому противнику. Ср. речь 25, § 20, 26.
(обратно)2531
20 декабря 44 г., когда были произнесены III и IV филиппики.
(обратно)2532
1 января 43 г. Цицерон произнес V филиппику с предложением объявить Марка Антония врагом государства (hostis publicus).
(обратно)2533
Цицерон в это время переписывался с Титом Мунацием Планком, Гаем Асинием Поллионом, Квинтом Корнифицием, Октавианом, Авлом Гирцием, Гаем Вибием Пансой, Гаем Кассием, Марком Брутом. Многие сборники писем утрачены.
(обратно)2534
Публий Вентидий Басс, в детстве попавший в рабство, в начале карьеры снабжал мулами и повозками магистратов, выезжавших в провинции; позднее снабжал войска Цезаря в Галлии. Благодаря Цезарю стал народным трибуном в 46 г. и был избран в преторы на 43 г. Присоединился к Антонию и после его поражения под Мутиной привел к нему два набранных им легиона; в 43 г. был консулом-суффектом (заместителем).
(обратно)2535
Порядок голосования в сенате: сенаторы переходили к месту того сенатора, чье предложение они поддерживали.
(обратно)2536
Гай Юлий Цезарь, в 48 г. консул вместе с Публием Сервилием.
(обратно)2537
Намек на Помпея и его сторонников.
(обратно)2538
См. речь 11, § 23.
(обратно)2539
Авл Габиний, проконсул Сирии в 57 г. Ср. речь 21, § 14 сл.
(обратно)2540
См. письмо Fam., X, 30, 2 (DCCCXLII). Донесение Гальбы.
(обратно)2541
«Пыл» солдат поставил войска сената в опасное положение. Панса был ранен и вынесен с поля битвы. Победа была одержана свежими войсками Гирция. Цицерон, еще не получивший донесения Гальбы, приукрашает события. Панса вскоре умер от ран.
(обратно)2542
Имеются в виду земельные наделы.
(обратно)2543
Это означает, что Гирций был в первых рядах первой когорты IV легиона. Серебряное изображение орла — знамя легиона.
(обратно)2544
Октавиану было 19 лет. 1 января 43 г. сенат предоставил ему права пропретора с империем, хотя по закону он еще не имел права даже на квестуру. См. прим. 63 к речи 5.
(обратно)2545
Пятидесятидневные молебствия еще никогда не назначались. См. прим. 22 к речи 11; прим. 48 к речи 21.
(обратно)2546
Солдаты преторской когорты Октавиана, павшие на Эмилиевой дороге.
(обратно)2547
По-видимому, реминисценция из Софокла, «Филоктет», 437; ср. Эсхил, фрагм. 52; Эврипид, фрагм. 649, 721.
(обратно)2548
Ср. речи 15, § 28; 17 § 143; 22, § 97; Саллюстий, «Катилина», 3; Вергилий, «Энеида», X, 467 сл.
(обратно)2549
Ср. речь 4, § 119 сл.
(обратно)2550
Два из четырех легионов, участвовавших в сражении, состояли из новобранцев.
(обратно)2551
Имеется в виду заговор Катилины. Ср. Цицерон, К близким, V, 2, 8 (14); Саллюстий, «Катилина», 42.
(обратно)2552
По преданию, в 509 г., после изгнания царей, первыми консулами были Луций Юний Брут и Тарквиний Коллатин; в том же году последнего сменил Публий Валерий Попликола (Публикола), предок обвиняемого (см. ниже XI, 25).
(обратно)2553
Возможно, имеется в виду голосование в консульских комициях. Оратор противопоставляет его решению суда в составе 25 сенаторов, 25 римских всадников и 25 эрарных трибунов.
(обратно)2554
Цицерон вначале приписывал заслугу подавления заговора Катилины лично себе; впоследствии, когда положение изменилось не в его пользу, он стал говорить, что действовал, следуя воле сената (ср.: В защиту Суллы, 21; О доме, 50; 94; В защиту Сестия, 1; 144, Против Писона, 7; Филиппика II, 11).
(обратно)2555
Гай Антоний Гибрида, коллега Цицерона по консулату 63 г., разбивший войска Катилины под Писторией в январе 62 г.
(обратно)2556
Сам Цицерон (ср. Против Катилины, 1).
(обратно)2557
Жалобы жителей Тмола и Лоримы ниже не рассматриваются. Возможно, что о них уже высказался Кв. Гортенсий.
(обратно)2558
Первым Кальпурнием Писоном, получившим прозвище «Фруги» (честный), был Луций Кальпурний Писон, плебейский трибун 149 г.
(обратно)2559
Император — во времена Республики почетное высшее военное звание. Титулом императора солдаты приветствовали полководца после решительной победы; он давал право на триумф. Публий Сервилий Ватия в 78 г. был проконсулом Киликии и боролся с пиратами; после триумфа получил прозвище «Исаврийский».
(обратно)2560
Консул 69 г. Кв. Цецилий Метелл завоевал Крит в войне 68—66 гг. и получил прозвище «Критский».
(обратно)2561
Имеется в виду заговор Катилины.
(обратно)2562
О свидетелях-римлянах см. ниже 88 сл., 100.
(обратно)2563
Рекуператоры первоначально разрешали споры между римлянами и чужеземцами, в частности как провинциальные судьи; впоследствии их компетенция распространилась и на споры между римлянами в частных делах. Их коллегия состояла сначала из трех, затем из пяти и одиннадцати человек.
(обратно)2564
Имеются в виду военные действия Помпея против средиземноморских пиратов (67 г.) и против понтийского царя Митридата VI Евпатора.
(обратно)2565
Промульгация — ознакомление римских граждан с законопроектом, для чего записи его текста выставлялись на форуме. Выше описывается порядок голосования в комициях.
(обратно)2566
Митридат Пергамский считался побочным сыном Митридата VI Евпатора. Впоследствии Цезарь назначил его тетрархом Галатии (см. ниже, 41).
(обратно)2567
Местное собрание старейшин.
(обратно)2568
Империй — во времена Республики полнота власти высших магистратов (консул, проконсул, претор, пропретор), ограниченная коллегиальностью и годичным сроком, а в пределах города Рима — также и интерцессией коллеги и плебейских трибунов. Империй слагался из права авспиций (птицегаданий), набора и командования войском, созыва комиций, принуждения и наказания. Магистрату, уже облеченному гражданской властью (potestas), империй предоставлялся особым куриатским законом (lex curiata de imperio). Лицо, облеченное империем, не было вправе входить в пределы померия (сакральная городская черта).
(обратно)2569
Секиры, заключенные в ликторских фасцах, — принадлежность ликторов, телохранителей старших магистратов.
(обратно)2570
Публий Плавций Гипсей был квестором Помпея во время третьей войны с Митридатом VI Евпатором.
(обратно)2571
В действительности после изгнания царей первыми консулами Рима были Луций Юний Брут и Тарквиний Коллатин; последнего, согласно традиции, в первый же год Республики заменил Публий Валерий Публикола (Попликола).
(обратно)2572
Децим Юний Силан и Луций Лициний Мурена были консулами в 62 г. Гней Помпей возвратился в Рим в начале 61 г.
(обратно)2573
Верхнее море — Адриатическое, Нижнее море — Тирренское.
(обратно)2574
Плебейский трибун Гней Домиций Кальвин 59 г.
(обратно)2575
Триумф — религиозный акт в честь Юпитера Капитолийского, приуроченный к возвращению в Рим полководца-победителя в войне с внешним врагом. Он состоял в торжественном шествии и жертвоприношении Юпитеру.
(обратно)2576
Энос — приморский город во Фракии. В 62 г., когда Помпей возвращался в Италию, Марк Лициний Красс выехал из Рима в Азию через Македонию и Фракию. Флакк отправился в Македонию по окончании своего наместничества в Азии.
(обратно)2577
Имеются в виду мероприятия Суллы после заключения мира с Митридатом в 84 г. Пираты, связанные с Митридатом, не переставали угрожать провинциям и мореплаванию.
(обратно)2578
Iudicium turpe — приговор, влекущий за собой утрату гражданских прав (poena capitalis), а также приговор за некоторые delicta privata — кражи, присвоение чужого имущества, бесчестные поступки.
(обратно)2579
Город в Апулии, через который должны были проезжать жители Дорилея.
(обратно)2580
Это были, несомненно, рекуператоры (см. прим. 13).
(обратно)2581
При отпуске на свободу заинтересованное лицо могло выступать лично. От его имени мог выступить так называемый adsertor in libertatem. Председатель Дорилея мог выступить как адсертор.
(обратно)2582
Похоронные процессии следовали в Риме через форум и комиций и останавливались перед ораторской трибуной, с которой произносилась речь о заслугах умершего.
(обратно)2583
О Митридате Пергамском см. выше (17). Он, очевидно, обвинил Флакка в покушении на его жизнь с целью устранения опасного свидетеля.
(обратно)2584
Actio pro socio — судебное преследование за нарушение договора о товариществе и обязанностей его члена.
(обратно)2585
Оратор заменяет наименования должностных лиц греческой гражданской общины привычными для римлян соответствующими названиями.
(обратно)2586
Квестор 84 г., пропретор Азии около 74 г.
(обратно)2587
Публий Вариний Глабр, пропретор Азии в 72 г.
(обратно)2588
Гней Корнелий Лентул Клодиан, консул 72 г., цензор 70 г.
(обратно)2589
Поговорка: обмануть самого хитрого человека (ср. Цицерон, «В защиту Мурены», 25).
(обратно)2590
Несостоятельный должник, не выполнивший решения суда в течение 30 дней, мог быть «присужден» своему кредитору, который заключал его в свою домовую тюрьму.
(обратно)2591
Fiducia — залог, который должник передавал заимодавцу в полную собственность путем манципации или in iure cessio, отказ от прав собственности перед лицом должностного лица с правом обратного получения этого имущества после уплаты долга. При неуплате долга в течение определенного срока имущество могло быть продано заимодавцем.
(обратно)2592
О римском всаднике Кастриции см. Цицерон, К Аттику, II, 7, 55; XII, 28, 3. Община Траллы была должником Кастриция, обратившегося к суду претора Флакка, который решил дело в пользу Кастриция.
(обратно)2593
Оратор прибегает к привычным для римлян понятиям: «оптиматы», «народная сходка».
(обратно)2594
Метафора: речи ораторов к народу. Ростры — ораторская трибуна.
(обратно)2595
Метафора: сенат, чаще всего собиравшийся в Гостилиевой курии.
(обратно)2596
Имеется в виду истребление по приказу Митридата VI в 88 г., во время первой войны между Митридатом и Римом, всех римлян, находившихся в городах Малой Азии. По данным античных авторов, было убито около 80 тысяч человек.
(обратно)2597
Иудеи, жившие за пределами Палестины, ежегодно вносили сбор (по 2 драхмы, по данным Иосифа Флавия) на нужды Иерусалимского храма.
(обратно)2598
Имеется в виду Аврелиев трибунал, построенный, скорее всего, консулом 74 г. Марком Аврелием Коттой.
(обратно)2599
Во время третьей войны с Митридатом в Палестине происходила борьба между фарисеями, сторонниками первосвященника Гиркана, и Аристобулом, братом Гиркана. Легаты Помпея Габиний и Скавр встали на сторону Аристобула, но Помпей, прибывший в Палестину в конце 65 г., встал на сторону партии фарисеев. Партия Аристобула подняла восстание, но была побеждена, Иерусалимский храм был взят после осады. Помпей вошел в святая святых храма, но пощадил его сокровища (см. Иосиф Флавий, Иудейская война, 1, 7, 6).
(обратно)2600
То есть перед трибуналом претора. Апамея и Лаодикея — города во Фригии, Адрамиттий — приморский город в Мисии.
(обратно)2601
В Аполлониде: ср. выше (51). Независимые гражданские общины (civitates liberae) были свободны от военной оккупации, имели суды на основании своих законов (автономия). Этим судам были подсудны и римские граждане.
(обратно)2602
Отец обвинителя Гай Аппулей Дециан был осужден, по-видимому, за преступление против величества и удалился в изгнание, где он впоследствии перешел на сторону Митридата.
(обратно)2603
Верхняя одежда иностранцев; от них римляне заимствовали обычай окрашивать пурпуром дорожные плащи (lacerna) и военные плащи (sagum). Тирийский темно-красный пурпур считался дорогим (ср. Овидий, Фасты, II, 107; Ювенал, Сатиры, 1, 27).
(обратно)2604
Смысл изречения Катона Старшего: недостаток денежных средств возмещается проворством и энергией.
(обратно)2605
Каик — река в Мисии.
(обратно)2606
Телеф, сын Геракла, был в Мисии, когда туда прибыли греки, выступившие в поход против Трои. Он оказал им сопротивление и был ранен Ахиллом. Узнав о происхождении Телефа, греки предложили ему участвовать в их походе, от чего тот отказался, и греки отплыли без него. Буря отбросила греков назад, и Телеф, после того как Ахилл вылечил нанесенную им Телефу рану, отплыл вместе с ними и привел их к берегам Троады.
(обратно)2607
Публий Сципион Насика Серапион, консул 138 г., подавивший движение Тиберия Гракха. Осужденный на изгнание, он удалился в Пергам.
(обратно)2608
Галке приписывали склонность красть предметы из золота и серебра
(обратно)2609
Пропретор Азии в 64 г. В 63 г. его сменил Публий Сервилий Глобул, которого в 62 г. сменил Луций Валерий Флакк.
(обратно)2610
Эдилы как младшие магистраты могли быть привлечены к суду в год своих должностных полномочий. Флакк-отец был претором в 97 г.
(обратно)2611
Защитник объединяет себя со своим подзащитным — частый прием Цицерона в его судебных речах.
(обратно)2612
Это были Публий Орбий и Публий Сервилий Глобул (63 г.) и Флакк (62 г.).
(обратно)2613
Полное право собственности называлось dominium; владение и пользование — possessio; имеется в виду насильственный захват.
(обратно)2614
Манципация: древний акт обычного права — передача, продажа, отчуждение собственности совершалось в присутствии пяти свидетелей и весовщика; покупающий ударял по чаше весов куском меди и произносил торжественную формулу; имущество разделялось на res mancipi и res nec mancipi (i).
(обратно)2615
Незаконно приобретенное имущество нельзя было предъявить для ценза.
(обратно)2616
Tributum — подать, налог в пользу государства; вначале подушная подать, затем с недвижимости, на основании ценза. Отменена в 167 г. после завоевания Македонии.
(обратно)2617
Так как земля находилась в Аполлониде, независимом городе, и не входила в состав государственной земли (ager publicus), подлежащей распределению между плебсом на основании ряда аграрных законов.
(обратно)2618
Этот Лукцей — не известное нам лицо.
(обратно)2619
Это мог быть либо грек-вольноотпущенник, либо грек, получивший право римского гражданства при посредстве некоего Секстилия.
(обратно)2620
В Риме существовали следующие формы заключения брака: А. Жена переходила под власть мужа «в качестве дочери», (convenire viro in manum filiae loco), принося ему свое имущество и получая права наследования в его роду и теряя их в своем роду. Способы заключения брака были следующие: 1) конфарреация — у патрициев — религиозный обряд, причем брачащиеся отведывали жертвенного пирога из полбы (farreum libum confarreatio); 2) коемпция, купля невесты женихом у ее отца, с совершением манципации, с ее согласия; 3) сожительство (usus) — если женщина проводила в доме мужа целый год, не покидая его на три дня подряд. Б. Женщина не переходила под власть мужа (sine conventione in manum) и становилась не mater familias, а uxor (жена), оставаясь под властью своего отца; этой формой было сожительство до истечения годичного срока. В данном случае Валерия как вольноотпущенница Флакка могла вступить в манус-брак только с его согласия как опекуна.
(обратно)2621
При отсутствии завещания вольноотпущенника был следующий порядок наследования: первыми были sui heredes, т. е. наследники, находившиеся под его властью (potestas, manus) — дети, дети сыновей и их вдовы; затем его патрон и его жена, их дети и родичи. Если вольноотпущенница состояла в формальном браке, то ее наследником был ее муж. Чтобы доказать законность притязаний Флакка на наследство, надо было доказать, что он как законный опекун не давал согласия на брак и что формального брака не было.
(обратно)2622
Луций Лициний Лукулл Понтийский, консул 74 г.
(обратно)2623
Поездка сенатора по его личным делам, под видом официального поручении, за счет казны.
(обратно)2624
Приданое различалось: 1) данное отцом женщины (dos profecticia); 2) полученное от других лиц или приобретенное самой женщиной (dos adventicia); в собственность мужа после смерти жены переходил только второй вид приданого.
(обратно)2625
Цицерон, уклонившийся от пропретуры в 65 г., в 62 г. должен был быть проконсулом Македонии; он сначала обменялся провинциями с коллегой Гаем Антонием, который должен был быть наместником Цисальпийской Галлии, а затем совсем отказался от наместничества.
(обратно)2626
Неизвестное нам лицо. «Старик Флакк», возможно, его отец. Гай Валерий Флакк, дядя обвиняемого, был наместником Нарбонской Галлии.
(обратно)2627
После казни главных заговорщиков были осуждены и другие: Луций Варгунтей, Сервий Сулла, Марк Порций Лека, Гай Корнелий, Публий Автроний Пет. Публий Сулла был оправдан.
(обратно)2628
Из дальнейших слов оратора следует, что Гай Антоний был осужден в отместку за его действия против Катилины.
(обратно)2629
Катилина пал в январе 62 г. под Писторией; его голова была доставлена в Рим. Его «могила» могла быть только кенотафом. В день поминовения умерших (Паренталии, 13 февраля) на могиле совершали возлияния водой, вином, молоком, медом, маслом, кровью черных быков, овец и свиней; приносилась жертва, совершалась трапеза, могилу украшали цветами.
(обратно)2630
Публий Корнелий Лентул Сура, один из казненных главарей заговора, был в 63 г. претором.
(обратно)2631
Консул Маний Аквилий одержал в 101 г. победу над восставшими сицилийскими рабами. Он был обвинен Луцием Фуфием. Его защищал оратор Марк Антоний, показавший судьям рубцы от боевых ран, полученных Аквилием.
(обратно)2632
Гай Кальпурний Писон, консул 67 г., проконсул Нарбонской Галлии в 66—64 гг., был обвинен во взяточничестве. Речь Цицерона не дошла до нас.
(обратно)2633
См. Цицерон, «В защиту Мурены».
(обратно)2634
О процессах Авла Минуция Ферма (59 г.) сведений нет.
(обратно)2635
Табличка для тайного голосования — навощенная дощечка с надписями A (absolvo «оправдываю») и C (condemno «осуждаю»); одну из надписей стирали и опускали табличку в урну. При голосовании в комициях на табличках было UR (uti rogas «согласие») и A (antiquo «по-старому, несогласие»); при выборах магистратов писали имя кандидата.
(обратно)2636
Публий Сервилий Ватия Исаврийский и Квинт Цецилий Метелл Критский.
(обратно)2637
Имеется в виду заговор Катилины.
(обратно)2638
Ночь со 2 на 3 декабря 63 г., когда Флакк и Помптин задержали на Мульвиевом мосту послов аллоброгов и добыли прямые улики.
(обратно)2639
То есть римское государство, все, находящееся перед взором оратора.
(обратно)2640
Сын обвиняемого. Коммизерация — заключительная часть речи, рассчитанная на то, чтобы вызвать сострадание судей.
(обратно)2641
С этой молитвой Цицерон мог обратиться к богам 19 марта 58 г. перед отъездом из Рима, поднявшись на Капитолий, чтобы установить на нем статую Минервы-Хранительницы.
(обратно)2642
Квириты — торжественное наименование римских граждан.
(обратно)2643
Подавление движения Катилины в 63 г.
(обратно)2644
Древний обряд: отец семейства брал на руки новорожденного, положенного на землю, и тем самым признавал его. Отвергнутый новорожденный мог быть выброшен или подкинут.
(обратно)2645
Цицерон имеет в виду свой консулат, в начале которого он боролся против аграрного закона П. Сервилия Рулла, а в конце — против Катилины.
(обратно)2646
П. Попилий Ленат был возвращен из изгнания в 121 г.
(обратно)2647
Кв. Метелл Нумидийский возвратился из изгнания в 99 г.
(обратно)2648
Ввиду популярности Г. Мария в народе Цицерон здесь выражается более мягко и более лестно для него, чем в речи, произнесенной в сенате.
(обратно)2649
Консулы 58 г.: Авл Габиний, в 57 г. проконсул Сирии, и Луций Писон, в 57 г. проконсул Македонии.
(обратно)2650
Кв. Цецилий Метелл Непот.
(обратно)2651
П. Корнелий Лентул Спинтер.
(обратно)2652
П. Клодий, соединившийся с уцелевшими сторонниками Катилины.
(обратно)2653
Консул 121 г., возглавивший борьбу нобилитета против Г. Гракха.
(обратно)2654
Во время войны с Югуртой Г. Марий, легат Метелла Нумидийского, был им отпущен в Рим и там обвинил его в затягивании войны. М. Антоний, А. Постумий Альбин — консулы 99 г.
(обратно)2655
А. Габиний, которого Цицерон мог защищать, будучи кандидатом в преторы.
(обратно)2656
С. Атилий Серран Гавиан. См. Cic., Pro Sest. 74.
(обратно)2657
П. Клодий.
(обратно)2658
Консуляр П. Сервилий Исаврийский, прославившийся своей борьбой с пиратами.
(обратно)2659
Л. Геллий Попликола, консул 72 г., легат Помпея в 67—65 гг., во время войны с пиратами командовал подразделением флота, которое возмутили сторонники Катилины.
(обратно)2660
Все, находящееся перед взором оратора, — римское государство.
(обратно)2661
Минтурны — колония на юге Лация. В 88 г. Марий, вытесненный Суллой из Рима, отплыл из Остии; его корабль был прибит бурей к берегам Италии, и Марий скрывался вблизи Минтурн. Впоследствии он добрался до Африки.
(обратно)2662
В 56 г. Цицерон произнес в сенате речь «О консульских провинциях», в которой он требовал отозвать А. Габиния и Л. Писона.
(обратно)2663
Ср. ниже, § 58.
(обратно)2664
Л. Лициний Красс, знаменитый оратор, консул 95 г., цензор 92 г. См. Цицерон. Об ораторе, I, 24; III, 1; Брут, 303.
(обратно)2665
Имеется в виду Гн. Помпей.
(обратно)2666
Возможно, имеется в виду выступление Цицерона в защиту Публия Сестия, трибуна 57 г.
(обратно)2667
Военные действия против Кв. Сертория (см. Плутарх. Серторий, 21).
(обратно)2668
Карфаген — Новый Карфаген (н. Картахена, Испания). Сукрон и Турия — реки в Тарраконской Испании.
(обратно)2669
Оратор обращается к обвинителю.
(обратно)2670
Помпей справлял триумф трижды: в 81 г. после победы над африканским царьком Иарбой, сторонником Мария; в 71 г. после победы над Серторием и Перперной; в 61 г. после победы над пиратами и понтийским царем Митридатом VI Евпатором.
(обратно)2671
В подлиннике игра слов: Фортуна, богиня счастья и удачи, и удачливость (Помпея).
(обратно)2672
В 67 г. по закону Габиния Помпею были предоставлены чрезвычайные полномочия (imperium infinitum) для борьбы с пиратами; в 66 г. по закону Манилия Помпей получил верховное командование для войны против Митридата VI Евпатора.
(обратно)2673
Кв. Цецилий Метелл Нумидийский, обвиненный Марием в вымогательстве, был привлечен им к суду. См. Цицерон. К Аттику, I, 16, 4; Валерий Максим. II, 10, 1.
(обратно)2674
Совет при проконсуле или главнокомандующем.
(обратно)2675
Речь идет о философе Ксенократе, ученике Платона, известном своей неподкупностью. См. Цицерон. К Аттику, I, 16, 4.
(обратно)2676
Тетрарх (четверовластник) — установившееся в эллинистическую эпоху наименование правителя области.
(обратно)2677
Триумвир М. Лициний Красс (см. Цицерон. Брут, 233).
(обратно)2678
nisi is populus fundus factus esset. Буквальный перевод этой архаической правовой формулировки затруднителен, специфический ее смысл понятен из дальнейшего изложения. О слове fundus = auctor см. в латинско-русском словаре И. Х. Дворецкого (s. v. fundus. 5).
(обратно)2679
Фуриев закон 183 г. установил, что размер легата (дара по завещанию) не должен превышать одной тысячи ассов.
(обратно)2680
Вокониев закон 169 г. воспрещал завещать имущество женщинам, разрешая в их пользу легаты, не превышавшие половины стоимости наследственного имущества.
(обратно)2681
Договоры Рима с Гераклеей (278 г. до н. э.) и Неаполем (326 г. до н. э.) были заключены на условиях, очень выгодных для этих городов.
(обратно)2682
Рано возникшие хорошие отношения между Массилией и Римом сохранялись до 49 г. (осада Массилии Ю. Цезарем), союз между Римом и Гадесом был заключен в 206 г., с Сагунтом — в 231 г.
(обратно)2683
Цицерон обращается к обвинителю.
(обратно)2684
О Кв. Максиме и о Кв. Филиппе сведений нет. Г. Попилий Ленат во время войны с кимврами (107 г.) был окружен и отступил на позорных условиях; в Риме он был привлечен к суду, но предпочел изгнание. Нуцерия — город в Кампании.
(обратно)2685
Очевидно, Г. Порций Катон, консул 114 г., впоследствии осужденный за лихоимство.
(обратно)2686
Кв. Сервилий Цепион, консул 106 г., был в 105 г. разбит галлами; осужденный за грабежи, удалился в изгнание в Смирну.
(обратно)2687
П. Рутилий Руф. консул 105 г., в 98 г. был в Азии легатом Кв. Муция Сцеволы. Сцевола и Руф боролись с хищениями откупщиков; последние, не решившись выступить против Сцеволы, обвинили Руфа в вымогательстве и в 92 г. он был осужден всадническим судом.
(обратно)2688
Ius postliminii — право римского гражданина, утратившего на чужбине гражданские права, вернувшись, обрести прежнее правовое положение. Аналогичное право признавалось и за бывшими гражданами других государств.
(обратно)2689
Намек на соглашение между Метеллом [Меттием. — Прим. О. В. Любимовой (ancientrome.ru)] Курцием и Ромулом (см. Тит Ливий. I, 13, 4; Цицерон. О государстве, II, 7).
(обратно)2690
Тускул получил римское гражданство в 381 г., Ланувий — в 338 г., сабиняне — полные права римского гражданства — в 268 г.
(обратно)2691
Ценоманы, обитавшие в области Вероны и Мантуи, и инсубры, обитавшие к северо-западу от Плаценции, возмутились при приближении Ганнибала; после 202 г. Гамилькар вызвал среди них новые волнения. Ценоманы были покорены только в 197 г., инсубры — в 196 г. Гельветы проявили активность при вторжении кимвров и тевтонов в 113 г. и 105 г. Япиды (крайний северо-восток Адриатики) были в 129 г. покорены консулом Г. Семпронием Тудитаном.
(обратно)2692
Т. е. с законами города Гадеса, основанного пунийцами.
(обратно)2693
Намек на неизвестное нам уголовное дело, в результате которого обвинитель, будучи осужден, потерпел поражение в правах.
(обратно)2694
Под римским народом имеются в виду куриатские комиции, под римским плебсом — трибутские комиции (concilium plebis).
(обратно)2695
Гн. и П. Сципионы пали в Испании в боях с карфагенянами в 211 г., во вторую Пуническую войну. После их гибели во главе римских войск встал римский всадник Л. Марций Септимий. Примипил — центурион первой центурии первого манипула первой когорты легиона — старший офицер легиона. Гадес сдался ему в 216 г. М. Эмилий Лепид и Кв. Лутаций Катул были консулами в 78 г.
(обратно)2696
В латинском языке эти слова созвучны (comiter и communiter).
(обратно)2697
Ср. Энний. Фр. 398; Цицерон. Об обязанностях, I, 51.
(обратно)2698
Гадитанцы отправили в Рим представителей, чтобы они выступили в суде в защиту Бальба.
(обратно)2699
Так называемая tessera hospitalis — пластинка из свинца или из обожженной глины с написанным именем главы дома; половину ее глава дома вручал гостю при его отъезде; ее при новом посещении дома предъявлял гость или его близкий как доказательство уз заключенного гостеприимства.
(обратно)2700
Цезарь был в 68 г. квестором в Испании «Дальней», в 62 г. он был там же претором.
(обратно)2701
Кв. Муций Сцевола, консул 117 г., правовед.
(обратно)2702
М. Тугион — знаток законов о праве на воду; Г. Аквилий — знаменитый правовед, коллега Цицерона по претуре 66 г.
(обратно)2703
Камерин — город в Юго-Восточной Умбрии. В 310 г., во время войны с самнитами, Рим заключил с ним договор.
(обратно)2704
Закон, проведенный в 95 г. консулами Л. Лицинием Крассом и Кв. Муцием Сцеволой, об удалении из Рима союзников, выдававших себя за римских граждан (см. Цицерон. Об обязанностях, III, 11, 47).
(обратно)2705
В 241 г. в Сполетии (Южная Умбрия) была основана латинская колония.
(обратно)2706
Аграрный закон, проведенный в 103 г. плебейским трибуном Л. Апулеем Сатурнином; он предоставлял ветеранам Мария (по Югуртинской войне) крупные земельные участки в Африке.
(обратно)2707
Консул 89 г. Гн. Помпей Страбон, отец Помпея Великого, в Италийскую войну одержал ряд побед над пицентинцами, марсами, пренестинцами, пелигнами и др.
(обратно)2708
П. Лициний Красс, консул 97 г., Г. Фабриций Лусцин, консул 282 г. О договоре с Гераклеей см. выше § 21 и прим. к нему.
(обратно)2709
Текст испорчен.
(обратно)2710
Кв. Метелл Пий, сын Метелла Нумидийского, консул 80 г. Сагунт поступил под покровительство римлян около 231 г.
(обратно)2711
В 81 г., во время военных действий против марианца Гн. Домиция Агенобарба и нумидийского царька Иарбы.
(обратно)2712
Энний. Фр. 280.
(обратно)2713
Плебисцит, проведенный в 64 г. плебейским трибуном Г. Папием, карал изгнанием чужеземцев, присвоивших себе права римского гражданства. Папиев закон был принят в развитие Плавциева-Папириева закона 89 г. и был направлен главным образом против галлов и транспаданцев.
(обратно)2714
Речь идет о договоре, заключенном в 493 г., во второй консулат Спурия Кассия Вецеллина.
(обратно)2715
Римскими законами был установлен ряд наград для лиц, успешно выступивших обвинителями в судах по серьезным делам. В числе таких наград было и предоставление римского гражданства.
(обратно)2716
Тибур оставался автономным городом до 90 г.
(обратно)2717
Сервилиев закон 106 г. (lex Servilia Caepionis).
(обратно)2718
Велия — город в Лукании, основан около 535 г., в союзе с Римом с 272 г.
(обратно)2719
Возможно, Кв. Метелл Пий и Л. Лициний Красс.
(обратно)2720
См. Цицерон. К Аттику, VI, 1, 25; 3, 5.
(обратно)2721
Клустуминская триба была сельский и более престижной, чем та, к которой Бальб принадлежал ранее; одна из 21 первоначальных триб.
(обратно)2722
Речь идет о наградах за выступление обвинителем в суде (см. прим. 53). Преторий — бывший претор; сенаторы высказывались по старшинству.
(обратно)2723
Бальб первоначально был усыновлен Теофаном, клиентом и любимцем Помпея.
(обратно)2724
Цезарю и Помпею.
(обратно)2725
С Цезарем.
(обратно)2726
Ср. Цицерон. Филиппика, XIII, 30. Намек на свое изгнание в 58 г.
(обратно)2727
Главным образом Помпей и Цезарь.
(обратно)2728
Благодарственные молебствия богам первоначально были однодневными, затем трехдневными; от имени Мария — 10-дневными; от имени Помпея после войны с Митридатом — 12-дневными: от имени Цезаря после его действии против гельветов — 15-дневными; впоследствии они стали 20, 40 и даже 50-дневными.
(обратно)2729
Более подробно о политической позиции Цицерона и о его литературной деятельности см.: История римской литературы, т. I. Изд-во АН СССР, 1959; сборник Цицерон. Изд-во АН СССР, 1958.
(обратно)2730
Об эрарных трибунах см. прим. 93 к речи 6.
(обратно)
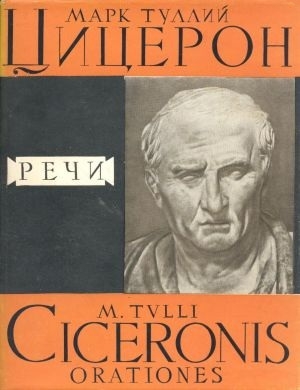
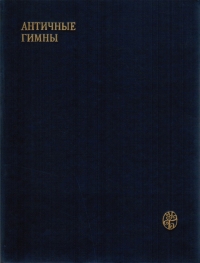


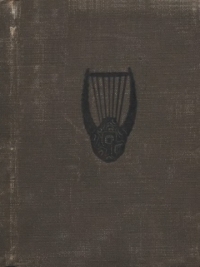
Комментарии к книге «Речи», Марк Туллий Цицерон
Всего 0 комментариев