Чередниченко Татьяна Васильевна «КРИЗИС ОБЩЕСТВА — КРИЗИС ИСКУССТВА» Музыкальный "авангард" и поп-музыка в системе буржуазной идеологии (Империализм: события, факты, документы)
Предисловие
Буржуазная идеология испытывает на себе действие кризисных процессов, охвативших всю капиталистическую систему. «Антигуманная идеология современного капитализма, — подчеркивается в Новой редакции Программы КПСС, — наносит все больший ущерб духовному миру людей. Культ индивидуализма, насилия и вседозволенности, злобный антикоммунизм, эксплуатация культуры в качестве источника наживы ведут к насаждению бездуховности, к моральной деградации… Все более пагубной становится роль буржуазных средств массовой информации, одурманивающих сознание людей в интересах господствующего класса»1.
Империализм ищет новые способы воздействия на умонастроения и поведение людей. Советский исследователь С. Е. Можнягун, в частности, пишет: «Одних политических средств и прямых действий теперь уже недостаточно. Поэтому особое внимание уделяется вопросам влияния идеологии, культуры, искусства на все области практической деятельности. Дать массам культуру, но такую, которая погасила бы их политическое сознание, дезориентировала его, — вот настоятельная потребность правящих классов»2.
Западная культура, в том числе музыкальная, — явление неоднородное. «В каждой национальной культуре есть, — писал В. И. Ленин, — хотя бы не развитые, элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую. Но в каждой нации есть также культура буржуазная (…) — притом не в виде только "элементов", а в виде господствующей культуры»3.
Когда о своей культуре пишут буржуазные исследователи, они также вынуждены констатировать наличие многих разнонаправленных течений. Однако мы не встретим в буржуазной культурологической литературе, например, анализа демократических культурных движений, отличающихся особой социальной программой, которая включает идеи преобразования существующих общественных отношений4.
Демократические элементы в музыкальной культуре современного буржуазного общества многообразны. Здесь прежде всего следует сказать о политической песне5, но ею не ограничена демократическая тенденция в современной западной музыке. Поиски композиторов, стремящихся воплотить антибуржуазные идеи и настроения при помощи нетрадиционных выразительных средств, не лишены демократической направленности6. Более ярко и определенно выступает демократический элемент в творчестве композиторов, видящих свою задачу в синтезе фольклорных традиций и высокого профессионализма, синтезе, который дает возможность сплачивать вокруг несомых музыкой прогрессивных идей широкие массы. Примечательным примером такого синтеза является творчество греческого композитора-коммуниста Микиса Теодоракиса. Наследие выдающихся композиторов XX века — Стравинского и Хиндемита, Онеггера и Бриттена, Айвза, Берга, Яначека, Бартока — также оказывает заметное позитивное воздействие на строй мыслей и чувств публики, на творческую деятельность композиторов и исполнителей. Невозможно не учитывать также тот факт, что творчество выдающихся композиторов — представителей социалистической культуры — Прокофьева и Шостаковича, Хачатуряна и Щедрина, Кодая, Владигерова, Эйслера все более активно завоевывает внимание западных слушателей, функционируя в культуре буржуазного общества как мощное демократическое движение. Элементы демократической культуры постоянно возникают на уровне организации музыкальной жизни, деятельности культурных учреждений. «В сфере культуры растет активность левых, прогрессивных сил, рабочих организаций, рабочих и коммунистических партий; они поддерживают и стараются развивать лучшие национальные традиции в культуре, демократические ее начала. Коммунистические партии выдвигают требования: расширить возможности образования для широких масс трудящихся; увеличить бюджетные ассигнования на культуру (…) усилить контроль общественности над средствами массовой информации (…) провести реформы в интересах широких народных масс населения в издательском деле, в работе печати, в рекламной деятельности»7.
Эти требования и действия приносят известные результаты. В 70-х годах в ряде западных стран существенно расширилась и демократизировалась, например, аудитория оперы, чему способствовала система льгот, принятая под давлением общественности8. Важной демократической формой организации музыкальной жизни стали клубы фольклорной музыки, разветвленная сеть которых существует как в странах Европы, так и в США. Особую роль в демократизации художественной (в том числе музыкальной) жизни играют праздники коммунистических газет во Франции, Италии, ФРГ, Австрии и других странах9.
Современная культурная ситуация буржуазного общества характеризуется нарастающей борьбой тенденций демократических, прогрессивных с реакционными, отвечающими интересам сохранения капиталистического общественного строя. При этом демократические культурные движения, прямо связанные с политической борьбой, с борьбой мировоззрений, испытывают систематическую дискриминацию со стороны пропагандистской машины Запада10. Да и классическое музыкальное наследие существует в современной культурной ситуации на Западе в условиях затяжного экономического кризиса, подавляющей экспансии «массовой» коммерческой развлекательной музыки, с одной стороны, и элитарного экспериментаторства — с другой11.
Последние два течения музыкального творчества чрезвычайно характерны для буржуазной культуры XX века. Они пользуются постоянной, особой поддержкой средств массовой информации и музыкальных предпринимателей. По словам западногерманского композитора Л. Купковича, радиоорганизации на Западе стали культурным «убежищем» для музыкального авангардизма12. Что же касается поп-музыки, то это широкая сфера приложения капиталов, основной товар фонографических концернов, который также активно пропагандируется в теле- и радиопередачах, забирая до 80 % общего времени музыкального вещания. Несмотря на принципиальную «непонятность» авангардистского экспериментаторства и зачастую принципиальную «неценность» поп-поделок, эти два течения музыкальной жизни на Западе выполняют роль культурно-художественных рычагов поддержания социального статус-кво.
Порожденные социальным и идейным кризисом, течения музыкального творчества, о которых пойдет речь в предлагаемой книге, становятся кризисными течениями в самом музыкальном искусстве. Этот кризис музыки углубляется от десятилетия к десятилетию, охватывает все стороны сочинения, распространения и восприятия художественных произведений.
«В подлинном искусстве, — пишет С. Е. Можнягун, — выражается гармония разума и чувства, идеальных стремлений и обыденных переживаний. Но это именно гармония начал, а не механическое равновесие частей… Между тем современное буржуазное искусство как бы раздвоилось: в нем есть течения, желающие иметь дело лишь с вечными "абстрактными сущностями" (элитарное искусство), и есть его антипод, ориентированный лишь на обыденное сознание, на сиюминутное переживание (поп-искусство)»13. О раздвоении музыки на Е-Musik (нем. еlitе — элитарная, emste — серьезная) и U-Musik (нем. untere — низшая, Unterhaltung — развлечение) многие музыковеды пишут как об одном из главных процессов западной музыкальной жизни в XX веке. Именно это раздвоение лишает оба направления точности и полноты в отражении действительности, оказывается предпосылкой формирования в общественном сознании односторонне-искаженных представлений о социальной реальности. «Современная буржуазная культура "разрывается": с одной стороны, она проявляется в бесконечно повторяющемся самовыражении ее создателей (элиты), а с другой — в отрывочной, случайной информированности ее потребителей (толпы). Но целостного мировоззрения, то есть взгляда, охватывающего мир как нечто единое, ни у создателей, ни у потребителей нет. Не потому ли и те и другие располагают "истину" и "ложь" в одной плоскости?» — размышляет об утрате единой художественной «меры» в современном западном искусстве советский ученый14.
О становлении и видоизменении, о современном функционировании элитарной авангардистской и «массовой» развлекательной музыки в системе буржуазной идеологии и культуры пойдет речь в этой книге. Принадлежность Е- и U-музыки к ситуации социального кризиса, их сущность как проявлений музыкального кризиса все отчетливее обнаруживают себя в ходе истории. История словно высвечивает единую идейную суть авангардистского творчества и поп-музыки. Зародившись как противоположные (по жанрово-стилистическим параметрам, по отношению к традиции, по своему воздействию на слушателей, мировоззренческим установкам), музыкальный авангардизм и поп-музыка постепенно приходят к идейно-эстетическому и художественно-стилистическому «созвучию»15. Навязанная искусству буржуазной идеологической машиной одна и та же социокультурная функция парадоксальным образом унифицирует облик своих музыкальных носителей, смывая следы их различного происхождения. Об элитарной и развлекательной коммерческой музыке в их эволюции на протяжении последних семидесяти лет можно говорить как о двух сторонах фонограммы кризиса буржуазной культуры и общества. Причем на каждой из сторон сегодня отчетливо прослушивается сходный идейный и музыкальный материал.
Следует кратко остановиться на тех способах «прослушивания» идейного материала Е- и U-музыки, которые используются в предлагаемой вниманию читателей книге.
Советской наукой неоднократно отмечался факт небывалой политизации художественного творчества во второй половине XX века, в том числе музыкального16. Дистанция между «жизнью» (политической прежде всего) и «искусством» сократилась, а в некоторых случаях и упразднилась совсем, — и композитор может размышлять о социальных и эстетических принципах той или иной политической программы (как, например, X. В. Хенце о русском народничестве)17, публикуя эти размышления в качестве своеобразного творческого манифеста. Тесно смыкается с идейно-политической жизнью творческий материал как авангардисткого искусства, так и (в ряде направлений) поп-музыки, что многократно отмечалось отечественными исследователями18.
В советской науке показана прямая связь, существующая, например, между творческими программами авангардистов 60-х годов и доктринами франкфуртской философской школы19. Эта связь верифицируется, в частности, путем сопоставления философских текстов с высказываниями композиторов20 — сопоставлением вполне правомерным, поскольку контакт социальных и музыкальных идей стал настолько тесным, что в значительной степени гасится разница самих «языков», которыми пользуются идеологи и философы, с одной стороны, и авангардистские композиторы в своих манифестах — с другой. Мы попытались распространить этот подход и на некоторые другие исторические периоды авангардистской музыки. При этом мы опирались на методологические принципы, разработанные классиками марксизма-ленинизма. В этой связи упомянем, например, осуществленный К. Марксом и Ф. Энгельсом в «Святом семействе» критический разбор романа Эжена Сю «Парижские тайны»21. Мировоззрение писателя, выраженное во взглядах его героев, Маркс и Энгельс анализировали путем сопоставления фрагментов романа с изложением идей, бытовавших в тогдашней философско-политической литературе[1]. В. И. Ленин, рассматривая взгляды Толстого, указывает на сходство социальных и этических идей писателя с комплексом моральных установок русского патриархального крестьянства23.
«Господствующие мысли» фиксируются и собственно в продуктах художественного мышления. Музыкальные произведения всегда выступают как конкретизация той или иной идеологии, как соединение типических мировоззренческих установок со смыслами, образующимися в оригинальной образной системе отдельного произведения24. Последние (уникальные смысловые структуры, накладывающиеся на общеидеологические) особенно значимы в художественно-ярких, мастерских произведениях, какие подчас создаются и в рамках авангардистского искусства. Однако для целей документации основной идейной тенденции авангардистского творчества более показательным материалом являются «средние» сочинения. Именно они составляют основную массу «авангардной» продукции и обнаруживают общеидеологические моменты более выпукло и наглядно, чем опусы, возвышающиеся над массой «средней музыки». «Средние» сочинения становятся в книге тем материалом, который позволит выявить главные идейные функции, выполняемые авангардистской музыкальной продукцией. Эти функции существенны также и для сочинений, отмеченных известной художественной убедительностью и яркостью, хотя зачастую и не находятся на первом плане, от этого не переставая быть сущностью E-Musik.
Особые задачи встают перед исследователем, стремящимся вскрыть идейную функцию развлекательной популярной музыки, производимой и распространяемой в современной буржуазной культуре с коммерческими целями. Эта продукция подчас кажется лишенной всякой связи с бурлящими в общественной жизни противоречиями, с классовой борьбой, как, например, консервирующая бездумные модели любовных отношений развлекательная лирическая танцевальная песня. А подчас, напротив, U-Musik способна обмануть своей явной и подчеркнутой связью с модными политическими лозунгами. В книге рассматриваются экономические механизмы производства и распространения поп-музыки в единстве с ее идейными функциями. Документами глубокого художественного кризиса являются данные о развитии и современном функционировании индустрии музыкальных товаров, документами глубокого кризиса общественно-политической системы выступают примеры манипулирования сознанием людей в буржуазном обществе посредством музыки. Примеры, которые приводятся в книге, отобраны не с точки зрения их художественной яркости, но, как и в разделах об авангардистской композиции, с точки зрения яркости тенденций — экономических и идейных.
«Искусство всегда так или иначе участвовало в межклассовой и внутриклассовой борьбе. Нередко оно играло в ней существенную, а подчас и первостепенную роль. Однако никогда его участие в социально-классовых конфликтах не достигало таких масштабов, как в последние десятилетия», — отмечается в отечественной литературе25. На стороне империалистических сил, неспособных преодолеть кризис своей социальной системы, выступают ныне многие деятели музыкального авангардизма и поп-музыки. Эти художественные течения оказываются документами идейного и социального кризиса отживающего строя.
«АВАНГАРД» КАК АРЬЕРГАРД
Введение
«Новая музыка», «современная музыка», «юная музыка», «авангард», «новейшая музыка», «неоавангард». Таковы наименования и самонаименования творческих волн, вот уже более семидесяти лет катящихся по морю музыкальной журналистики и научно-музыковедческих трудов1. Эти названия свидетельствуют об особой социокультурной функции творчества композиторов элитарного направления, выходцев из академической профессиональной среды, сложившейся в прошлом столетии. Функции, которую условно можно назвать «футурологической». Во всех этих наименованиях и самонаименованиях волн элитарного творчества скрыт двойной смысл: внутримузыкальный, связанный с радикальным обновлением традиционных композиционных форм, и внемузыкальный, социальный, выражающий позицию противопоставления «плохому» настоящему некоего «лучшего» будущего.
Но поскольку «предвосхищение будущего» негативным способом, отрицая и ломая старые нормы, означает негативное, отрицательное отношение к сложившимся художественным канонам как некоему универсальному «настоящему», то авангардистская композиция в сознании ее творцов и апологетов стала суррогатом действий, практически направленных против буржуазной действительности. Иллюзорно выражая «критическую» по отношению к этой действительности позицию, авангардистская формальная новация оказалась «убежищем», где мелкобуржуазное сознание «пряталось» и от реального настоящего, и от реальной его переделки. Ведь если ломка норм — единственный способ музыкального творчества, то происходит то, что Ал. В. Михайлов заметил в отношении философской концепции Т. В. Адорно: «Адорно всю жизнь разрабатывал свою "негативную диалектику": такая негативная диалектика закрепляет и увековечивает социальный протест, — увековечивая, перечеркивает и лишает смысла»2.
Поэтому вся «футурологическая» интенция авангардизма сводится к той «содержательной пустоте», которая, например, в сочинениях композиторов-эпигонов прошлого столетия создавалась самоцельной, формальной игрой апробированными музыкально-выразительными средствами. В обоих случаях происходит «остановка» истории. Только у авангардистов экспонируется «прошлое» не в его цельности (как у композиторов-эпигонов), а в его разъятости, раздробленности, сокрушенности — под натиском слепого в своей неопределенности и неосуществимого в своей утопичности будущего. Академизм эпигонов XIX века противостоял будущему, «восхищаясь» прошлым. Авангардизм элитарных композиторов XX века, якобы «предвосхищая» будущее, тоже противостоит ему, поскольку прикован к прошлому, акты «уничтожения» которого, бесконечно повторяемые, предполагают и бесконечно-неуничтожимое существование этого прошлого.
Подобно тому как эпигонский академизм в XIX веке был арьергардом музыкального развития — арьергардом, воображающим свою роль как социально-значимую, высокохудожественную, эстетически-передовую, так и элитарный авангардизм в наше время выступает как арьергард подлинного художественного прогресса, воображающий свою функцию особо важной для общественного будущего, особо ценной для художественной перспективы, особо достойной с эстетической точки зрения. И точно так же, как в мнении публики претензии эпигонов XIX века находили вполне сочувственный отклик, возникавший из инерции уважительного отношения к «искусству звуков» вообще, так и в мнении современных культурологических публицистов (и даже «фундаментальных» писателей по проблемам культуры) футурологические устремления авангардистов встречают известное доверие. И не в последнюю очередь за счет своей постоянной «пересказанности» в терминах буржуазной социологии и культурологии3.
Последнее обстоятельство (постоянное словесное истолковывание композиторами творческих намерений) особо симптоматично для социокультурной функции авангардистского элитаризма. «Авангард» должен все время компенсировать иллюзорность своих художественных устремлений в будущее обоснованиями своих футурологических исканий «на словах». Многократно отмечалось, что музыкальный авангардизм — в той же мере писательство о музыке и от музыки, как и сочинительство самой музыки4. Двусмысленность идейной позиции авангардизма — не то «критической» по отношению к настоящему, не то «оправдывающей» его как нечто неустранимое — вызывает потребность выйти за рамки «неопределенных» звуков и обратиться к понятийности слова — «объясниться». Но и выходя к слову как универсальному способу объяснения своих творческих намерений, «авангард» не перестает быть арьергардом.
В условиях преобладания в буржуазной идеологии спекуляций по поводу «будущего», которые должны оправдать и сохранить изживающее себя буржуазное «настоящее», авангардистское композиторское «слово» постепенно становится частью общей идеологической машины, направленной против подлинного социального будущего, связанного с практикой реального социализма. При этом традиционный ореол вокруг «серьезной» (притом — радикально-новаторской) музыки как важного и ответственного социального деяния, традиционное уважение к высказыванию художника, совершающего это деяние, используются буржуазной пропагандой в качестве рельсов, по которым «футурологический» вагон вкатывается в сознание тех, кто ориентирован на «независимую» от пропаганды «высокую» культуру. То есть прежде всего — в сознание интеллигенции. А как раз интеллигенция в наше время представляет собой социальный слой, который начинает играть заметную роль в мировом революционном процессе5. Идейная функция авангардистской композиции, словом и делом спекулирующей на социальном критицизме, и состоит в особом воздействии на интеллигенцию, отвечающем целям буржуазной общественной системы.
Мы рассмотрим эволюцию авангардистского композиторского сознания, запечатленную, с одной стороны, в творческих манифестах, в высказываниях композиторов и, с другой стороны, в мире звуковых образов. Две стороны — «слово» и «дело» — по-разному высвечивают арьергардную по отношению к буржуазной идеологии мировоззренческую позицию элитарного авангардизма. Эта позиция присутствовала в творчестве и в словесных самопояснениях композиторов, зачастую в скрытом виде. Однако наступивший в 70-х годах на Западе период идеологического неоконсерватизма заставил музыкальный «авангард» отказаться от своего гордо пронесенного через многие годы «футурологического» антуража.
Оценивать эту эволюцию приходится, учитывая тот факт, что в структуре буржуазного сознания в XX веке идет перестройка, которая ставит процессы, происходящие в искусстве и в мысли об искусстве, в ранг ключевых моделей для всякого рода социальных обобщений. «Общие проблемы культуры, искусства и эстетики, до той поры относившиеся преимущественно к компетенции специальных дисциплин, вышли, как будто бы неожиданно, на первый план политической теории. Более того, художественно-эстетическая проблематика предстала в качестве средоточия размышлений западных авторов о судьбах человека и общества, о политике и социальных преобразованиях»6. Поэтому, несмотря на относительно незначительную распространенность авангардистской композиции как слушаемого музыкального явления, именно эта композиция, заявившая о своих претензиях на роль передового течения в музыкальном искусстве, стала влиятельным явлением идеологии.
В таком качестве она предстает наиболее отчетливо в композиторских манифестах. Впрочем, грань между «собственно творчеством» музыканта-авангардиста и его «словотворчеством» — его комментариями к своим поискам — зачастую размыта. Став явлением идеологии по преимуществу, музыкальный авангардизм во многом теряет автономию именно художественную, музыкальную, тяготея к слову как наиболее прямому и непосредственному носителю идеологических построений. Это слово не только объясняет музыку как «теория» — «практику». Оно, как мы увидим, становится еще и частью самой музыки, ее вербализованным «смыслом».
С рассмотрения авангардистского «слова» и начнем анализ эволюции элитарного композиторского сознания, которая является документом углубляющегося идейного кризиса, переживаемого буржуазным обществом.
Глава 1 Композиторское самосознание под прессом идеологии
Для развития музыкального «авангарда» характерна постоянная словесная манифестация: композиторское «дело» подается слушателю в плотной упаковке из комментариев, лозунгов, заявлений, которые тиражируются музыкальными журналами, газетными интервью, конвертами пластинок. Музыковед Э. Буддэ имел право заметить: «История новой музыки, между прочим, примечательна тем, что она является не просто историей музыки, то есть музыкальных произведений, но одновременно в большой степени историей лозунгов и модных терминов»1.
Причины отмечаемого крена от «дела» к «слову» — и внутренние, связанные с процессами собственно творческими, и внешние, обусловленные социальными механизмами музыкальной жизни.
Уже в 10-20-х годах нашего века итальянские футуристы занялись кардинальной ломкой слуховых привычек публики: музыкальный язык раздвинул свои границы, используя шумы, парадоксальную игру стилевыми «этикетками», атональные построения, то есть то, что в известной мере обессмысливало этот язык для слушательской аудитории. Слушателю поэтому следовало дополнительно сообщать о том, что «говорит» музыка. Возникла потребность наладить разрушенную коммуникацию между композитором и публикой (естественная основа которой — общепонятный музыкальный язык — постоянно разрушалась авангардистами) хотя бы «в обход» музыки, хотя бы «по поводу» музыки.
Позднее, как развитие (и огрубление) идей нововенской школы, рождается новый тип композиции, принципиально порвавший с тональностью, вообще со всяким «узнаваемым» музыкальным материалом. В этом «беспримерно радикальном авангардизме»2 каждое произведение задумывалось и строилось как принципиально новое (то есть новое в самих принципах музыкального мышления). Возникает потребность «настраивать» ухо слушателя теоретически — объяснять ему эти новые принципы мышления, чтобы он мог если не руководствоваться ими в процессе слушания, то хотя бы частично опознать их в слушаемом опусе. Композиторы стали как бы преподавателями постоянно изобретаемой ими теории музыки, а слушатель — учеником, постигающим эту теорию, которая не то вызывается музыкой, не то сама ее вызывает. Последний момент подчеркивает Ал. В. Михайлов: «Важно то, что создаваемое по строгим рецептам технологии, конструктивное по замыслу и автономное по своей внутренней эстетике произведение искусства постоянно рождало теорию, анализ, слово… Теоретические анализы и комментарии не были дополнением к музыке, а составляли с ней одно неразделимое по смыслу целое. Они восполняли зияние между конкретно-чувственным звучанием музыки и абстрактностью ее конструктивного замысла»3.
Важно отметить и другую (переходную между внутри- и внемузыкальными) причину «оречевления» композиторского «дела». Для авангардистов (от итальянского «протоавангарда», как можно назвать футуризм 10 — 20-х годов, до сегодняшнего «антиавангарда», как называет себя направление «новой простоты») чрезвычайно важной стала самооценка с точки зрения будущего развития, или, что то же самое, прогноз «будущего», нацеленный на оправдание сегодняшних новаций. Так как слушатель принадлежит к современности, то авангардистам пришлось самим взять на себя утопическую роль «слушателей будущего». Сами они поэтому становились и своими критиками, и «историками самих себя» (как метко сказал К. Дальхауз)4, а следовательно, необходимо обращались к оценивающему и обобщающему слову.
Эти самооценки-прогнозы выполняют, наконец, также и вполне практическую функцию. Они участвуют в композиторской конкуренции за место в концертных залах, за время в радиопередачах, за листаж в прессе и, в конечном счете, за «материальное выживание» сочинений, не имеющих и не могущих иметь, а подчас и не хотящих иметь отклика у широкой публики. Тот или иной лозунг, связывающий «музыкальное будущее» с тем или иным направлением композиторских поисков, служит своего рода рекламой, обеспечивающей в настоящем на некоторое время сенсационный интерес к продукции данного направления, а также и его престижность. Рефрен, которым пронизана статья одного из наблюдателей музыкального развития послевоенных лет, исполнен меланхолии: «И скоро все композиторы, которые хотели сделать карьеру, стали сериалистами… И почти все композиторы стали писать композицию слоев или алеаторические сочинения»5. Буржуазная пресса (не только музыкальная), поднимая на щит очередной сенсационный композиторский манифест, создает условия для «квазиспроса» (то есть спроса не широкой публики, а экспертов радиостанций, издательств, премиальных фондов, устроителей фестивалей) на очередное «движение». Так возникает тот слой авангардистской музыкальной истории, который западные музыковеды сегодня называют «историей понятий»6. Наравне с «историей произведений» он входит в современную музыкальную жизнь. «Понятия», содержащиеся в манифестах и комментариях композиторов, на разные лады толкуются критиками-апологетами (как, например, Д. Шнебелем — «придворным» критиком М. Кагеля). Они составляют особый поток «музыкальной» продукции, одновременно формируя ориентиры для восприятия другого потока музыкальной продукции — звучащего.
Но «слово» об искусстве (ход мысли, тип аргументов, терминология) — высказываемое и воспринимаемое — не замыкается только на искусстве. Оно вступает в сложный синтез со смыслами, закрепленными за ним традицией и всеми современными контекстами его употребления. Помимо воли высказывающегося композитора, «слово» не ограничено предметом высказывания (музыкой). Обращаясь к такому, а не иному «слову», композитор делает определенный выбор среди наличных в идейном «словаре» культуры ходов мысли и типов аргументов. А этот выбор — сознательный или бессознательный — уже есть мировоззренческая позиция. Вот почему словесная «упаковка» музыкального «дела» обретает значение, несводимое к самому «делу», она становится особым инструментом идейного воздействия на аудиторию. Это воздействие производит композитор, находящийся под влиянием определенных мировоззренческих идей, «упакованных» в том «словаре», которым он подчас стихийно, а подчас нестихийно (имея в виду ситуацию конкуренции, в которой большую роль играет идеологическая мода) пользуется в своих комментариях. И оказывается, что таким образом воздействуют на слушателя (и, кстати сказать, не только слушателя[2]) определенные идеологические стереотипы, которые целенаправленно вырабатываются буржуазным пропагандистским аппаратом и тиражируются теми же газетами или радиоканалами, что распространяют композиторские манифесты и самообъяснения.
Трудно анализировать развитие буржуазной идеологии на современном этапе, трудно даже говорить о ее развитии как линии «от предшествовавшего к настоящему в будущее». Еще в первой половине XIX века, когда стала выявляться историческая ограниченность капитализма, наблюдалась «интеллектуальная анархия» — так назвал Огюст Конт воцарившийся уже тогда разброд идей по фундаментальным социальным вопросам7. Углубившиеся и расширившиеся противоречия буржуазной общественной системы на новом — империалистическом — этапе усилили интеллектуальную анархию. Ее выражением стали различные противоречивые концепции и оценки важнейших общественных явлений, с одной стороны, и эклектизм оценок в рамках одной и той же концепции — с другой. Советские исследователи выделяют следующие дихотомии в рамках идеологических оценок, формируемых на современном этапе буржуазной социальной мыслью: тезис о «конце» идеологии, якобы вытесняемой точным научным знанием (так называемая «деидеологизация»), и тенденция к формированию новой и универсальной идеологии (так называемая «реидеологизация»); буржуазный рационализм, оптимистически обращающийся к точным наукам и к технике как к панацее от общественных катаклизмов (так называемый «сциентизм» — от латинского scientia — наука), и буржуазный иррационализм, напротив, видящий в мистике и религии способ устранения всех общественных зол; буржуазный социальный критицизм и его проявления — либерализм и «революционаризм» (последний выражает радикализм и анархизм запутавшегося в противоречиях действительности мелкобуржуазного сознания) — и социальный консерватизм, выдвигающий идеи укрепления социального статус-кво… Эти пары противоположностей необязательно параллельны друг другу. Например, консерватизм может сочетаться и со сциентизмом (в 50-х годах), и с антисциентизмом (в 70—80-х годах), с «деидеологизацией» (как у некоторых неоконсерваторов ФРГ сегодня) и с «реидеологизацией» (как у некоторых американских мыслителей 70-х годов).
В нашу задачу не входит подробная характеристика противоречий и эклектики современной буржуазной идеологии — читатель может обратиться к трудам политологов и философов, в которых освещаются соответствующие концепции8. Для наших целей важно отметить следующее: в рамках подобной «саморазорванности» идеологии не может существовать подлинное развитие идей. Но так как общественное бытие, а вместе с ним настроения и чаяния широких масс не стоят на месте, то в слое духовного производства, в котором вырабатывается общая мировоззренческая картина, тоже должно происходить движение, тоже должна наблюдаться борьба. Борьба как в подлинном смысле (с тенденциями, противостоящими буржуазной идеологии и рождающимися как внутри самого буржуазного общества, так и благодаря существованию противоположной общественной системы, практике реального социализма), так и в неподлинном смысле слова: «борьба» сменяющих друг друга идейных течений, противостояние которых маскирует их общий классовый смысл. Эта квазиборьба протекает под воздействием изменений в общественных умонастроениях, которые выражают углубляющийся кризис буржуазного мира, и к которым пропагандистский аппарат должен приспосабливаться. И здесь можно выделить несколько этапов, хотя это и не будут этапы развития в действительном смысле слова. Их можно назвать этапами идейной моды.
В 20-х годах, после образования первого в истории социалистического государства, таким наиболее влиятельным комплексом в системе буржуазной идеологии стал консервативно-иррационалистический, в который вошли и фашистские доктрины. Этот комплекс вмещал в себя также и мотивы сциентистского и общественно-критического плана в качестве средства социальной демагогии. После второй мировой войны, под влиянием развернувшейся научно-технической революции и относительной стабилизации капиталистической экономики, возобладал деидеологизаторско-сциентистский комплекс, также консервативный по основным социальным программам. Обострение экономического кризиса в 60-х годах и подъем массовых демократических движений привели к вспышке социально-критических настроений, сочетавшихся с мотивами антисциентизма, богоискательства, недоверия к сложившимся идейным и философским системам. Наконец в 70-х годах наступает и продолжается в 80-х годах «консервативная контрреформация», сложно объединяющая ре- и деидеологизаторские концепции, сциентизм и «религиозное возрождение», критику и апологетику буржуазного строя. В рамках современного неоконсерватизма оживают и некоторые фашистские доктрины, что делает настоящий этап «идейной моды» некоей «суммой» предшествовавшего квазиразвития.
На разных этапах этого «движения внутри эклектики» были свои «ударные» лозунги, что позволяет буржуазным историкам давать «этикетки» десятилетиям: 50-е годы фигурируют как «эпоха технократов», 60-е как эпоха «неореволюционеров», 70-е — «неоконсерваторов». Однозначность этих этикеток должна свидетельствовать о каком-то реальном, а потому словно бы оправданном в каждый данный момент развитии. Подобная историография выполняет апологетическую по отношению ко всему буржуазному мировоззрению функцию. Справедливо замечание советских исследователей об «обманчивости метафизического представления о чисто временном чередовании строго определенных противоположных и равновеликих идейно-политических и художественно-эстетических тенденций по принципу маятника, который идеологи капитализма пытаются использовать в качестве доказательства якобы глобального поворота "вправо" в 70-х годах». Категориальный аппарат «западной социологии… не столько помогает, сколько препятствует разграничению прогрессивных и реакционных тенденций»9.
Но если «ударные» лозунги не могут служить обобщенным выражением действительного идейного содержания того или иного этапа буржуазного общественного сознания, то они служили и служат в рамках самой буржуазной идеологии специально вырабатываемыми орудиями консолидации общественной мысли, «завораживающими» (благодаря частой своей повторяемости) ориентирами для сознания масс. Они, словно пропечатанные жирным шрифтом в идейном «словаре» эпохи, являются теми «словами», которые быстрее и легче других входят в индивидуальные «словари», например, представителей художественной культуры, порабощая их сознание, «клишируя» его. И — уже через индивидуальные «словари» «неспециалистов-идеологов» — эти «ударные» лозунги выходят из «книжного» существования и внедряются в массовое сознание.
С этой точки зрения особенно интересно и показательно, к каким именно идеологическим построениям и лозунгам обращались и обращаются композиторы-авангардисты в своих манифестах («словесных упаковках» творческих тенденций) в разные десятилетия. Привлекает к себе внимание сходство терминологии и аргументации, в которых выражает себя композиторское самосознание авангардистов, как раз с «ударными лозунгами», служащими средством унификации общественных умонастроений. Это сходство явственно прослеживается, если сопоставить творческие программы авангардистов разных десятилетий с хронологически-параллельными и наиболее влиятельными идеологическими доктринами. Совпадения композиторского и политико-социального «модного слова» показывают, что музыканты, сознательно или бессознательно, попадают в своей мысли о музыке в зависимость от «господствующих мыслей», которые К. Маркс и Ф. Энгельс называли «мыслями его (господствующего класса. — Т. Ч.) господства»10. Композиторское самосознание оказывается под прессом «мыслей господства», а вышедшие из-под этого пресса идейные штампы «по поводу» музыки, в свою очередь, штампуют сознание как слушателей (принимающих или же отвергающих авангардистскую музыку), так и вовсе не слушателей, а случайных читателей композиторских манифестов.
Разумеется, отнюдь не все (весьма многочисленные в XX веке) документы музыкальной «истории понятий» являются также документами мировоззренческой унификации сознания, осуществляемой буржуазной идеологией. Но этих последних, свидетельствующих о постоянстве и интенсивности такой унификации, достаточно много. Первую историческую группу здесь составляют манифесты итальянских композиторов-футуристов 10 — 20-х годов; вторую — автокомментарии радикальных сериал истов и композиторов «тотально-упорядоченных» электронных микроструктур 50-х годов; третью — манифесты течений «открытой формы» 60-х годов; четвертую — публикации представителей так называемой «новой простоты» 70-х годов. Хотя последнее течение объявляет себя «антиавангардистским», его участники сохраняют существенную для авангардизма на протяжении всей его истории арьергардную ориентацию на господствующий буржуазно-идеологический словарь.
1910–1920-е годы: агуманный «прогрессизм»
По словам итальянского музыковеда Э. Фубини, «первым известным авангардистским течением, которое сформулировало глобальную, а не только художественную идеологию», был итальянский футуризм и. «Глобальную идеологию» — значит комплекс воззрений не только на искусство, но и на ход общественного развития, сущность и существование человека, его политическую будущность, его долг и его идеал. Манифесты, сопровождавшие теперь каждый художественный жест футуристов и часто выступавшие в виде своеобразного художественного жеста, имели задачей прояснить мировоззренческую позицию буржуазного художника, которая ранее была «обратной», непосредственно невидимой стороной произведения, должна была вычитываться и дешифроваться из произведения.
Впрочем, манифесты футуристов не столько проясняли задачи художественных деяний, сколько вводили публику относительно реального их содержания в заблуждение. Исследователь, издавший собрание манифестов, резонно замечает: «В действительности произведения футуристов далеко не всегда корреспондировали с их заявлениями… В некоторых из них отмечается отсутствие ярко выраженного новаторства, в других мы находим скудность индивидуальности и неопределенность стиля». И в этой ситуации бесчисленные лозунги и призывы выступают как своего рода реклама, стимулирующая интерес к продукции, без сопутствующей шумихи показавшейся бы пресной[3]. И не только пресной, но и количественно незначительной. Если манифесты итальянских футуристов только за период с 1905 по 1918 год (причем собранные далеко не полностью) заняли в книге У. Аполлонио более 200 страниц, и более десяти крупных заявлений и трактатов принадлежат перу музыкантов или посвящены музыке, то собственно музыкальных произведений футуристического направления в Италии в эти годы созданы считанные единицы: несколько — Л. Руссоло, несколько — Б. Прателлой. Не случайно, имея в виду эту беспрецедентную словесно-манифестационную активность, историк признает: «Футуризм не может быть понят и оценен при помощи обычных норм художественной критики; он одновременно и искусство и не-искусство, он нечто большее, чем искусство, и нечто меньшее, чем искусство»14.
Футуристические манифесты «затемняли» не только реальность художественного творчества, но и общественное его осознание. Впрочем, по отношению к такой константной в позднейшем «авангарде» черте, как связь композиторского «слова» с модными мировоззренческими построениями, итальянский футуризм может рассматриваться как этап предвосхищения, как «протоавангард». В нем нет однозначной связи с той или иной идеологической концепцией, но уже сильна тяга к дублированию ходячих идеологем, внедряемых в общественное сознание оформителями и распространителями «господствующих мыслей». В частности, можно заметить размытую, неоднозначную связь высказываний футуристов с постепенно входившими в силу наиболее реакционными моделями буржуазного мировоззрения. Эти модели противопоставлялись подъему прогрессивной мысли, подъему революционных настроений. Сконцентрированные впоследствии в фашистской идеологии, они были окрашены в милитаристские тона, провоцировали настроения, связанные с прославлением грубой и бесчеловечной силы, «сильной личности», с витально-физической трактовкой человека.
Создатель и ведущий теоретик футуризма писатель Ф. Маринетти в дальнейшем сотрудничал с фашистским государством Муссолини15. Маринетти писал даже: «Футуризм — тот же фашизм»16. Мы не можем полностью согласиться с этим заявлением. Ведь итальянский футуризм — это не только Маринетти. В «слове» футуризма много других, совершенно не связанных с фашистским антигуманизмом смыслов. Однако в свете последующего развития музыкального «авангарда» важно зафиксировать некоторые совпадения лексикона и арсенала аргументации в футуристических манифестах с характерными для 10—30-х годов реакционными построениями буржуазной идеологии.
Это, в частности, радикальный иррационализм в сочетании с весьма плоским позитивизмом. Характерным примером может служить манифест футуриста Бруно Корры «Абстрактная кинохроматическая музыка» (1912). Речь в нем идет о «революционизацйи» музыки и живописи, выражающейся в опытах «музыки цвета». И живопись (цвет), и музыка (звук) в духе примитивного позитивизма сводятся к «соотношениям тонов». Конечно, при этом и музыка, и живопись полностью лишаются своей специфики, становятся сугубо «материальной» (от слова «материал») абстракцией. Далее, хроматическая гамма (музыкальная) сравнивается со спектром цветов (живописной хроматической гаммой); изготовляется инструмент, состоящий из 28 цветных ламп (по семь цветов в каждой «октаве»), — «цветовое пианино», и для него делается упрощенное переложение «Венецианской баркаролы» Мендельсона, рондо Шопена и сонаты Моцарта17. Иррационалистический апофеоз идеи: «незвучащая музыка» — музыка цвета! Она неимоверно, по мысли Корры, раздвигает музыкальное чувство, пробуждает глубинные и доселе неведомые возможности чувственности и т. п.
Здесь перед нами одновременно и безграничное раздувание иррационалистских представлений о музыке, и позитивистское сведение той же музыки к «соотношению тонов», когда она может быть «научно» приравнена к чему угодно, лишь бы в этом существовало «соотношение элементов». Бруно Корра постоянно балансирует на стыке интуитивизма и позитивизма: «Мы предприняли попытку создать музыку цвета. Сразу же мы начали думать об инструменте, который, возможно, еще не существовал… Мы путешествовали нехоженными дорогами, сделав своим гидом интуицию… И изучение физики цвета и звука»18.
Немалое место в самосознании футуристов занимало «биологистское» понимание творчества и человека. Идеи биологизма, как известно, были распространены и в реакционной социально-политической мысли. «Мы смотрим на мир не с позиции логики, разума, а биологически, из тайны инстинкта. Для нас все, что происходит, является жизненным процессом, определено, сформировано землей, в своей последней сущности непостижимо разумом», — писалось в печально известном «Журнале геополитики»19. Разрушение как самоосуществление «биологического» человека — основная идея реакционных буржуазных идеологов тех лет. Она может быть услышана и в манифестах футуристов. Ее окрашивал особый ликующий пафорс — пафос возвещения «будущего». «Я обращаюсь к молодым, — писал композитор Б. Прателла. — Только они могут услышать и только они — понять, что я хочу сказать. Старым… не мысль и не слово, а единственный приговор: конец»20. И продолжал: «Футуризм, бунт и интуиции, и чувственности, объявляет непримиримую войну доктринам, личностям и произведениям, которые продолжают прошлое или держатся за него. Он провозглашает победу аморальной свободы, действия, сознания и воображения… Я с наслаждением кричу об отказе от традиции, от сомнений, оппортунизма и тщеславия!»21 Экстремистская нота звучит в манифесте Прателлы и в таком пассаже: «Я требую провоцировать в публике глубокую враждебность по отношению к эксгумации старых произведений, которые мешают признанию произведений новаторских»22. Футуристы порой не признавали никакого инакомыслия: «Разрушать, разрушать, разрушать, чтобы перестроить сознание и мысли, культуру и генезис искусства», — требовал художник и музыкант Энрико Прамполини23. «Ничто не аморально в наших глазах», — писали в 1910 году Умберто Боччиони, Карло Карра, Луиджи Руссоло, Джиакомо Балла и Джино Северини, экстремистски настаивая на уничтожении традиции, мешавшей их «новому»: «Все формы подражания должны быть уничтожены, все формы оригинальности — возвеличены»24. «Революционность» переходит в демагогическую тиранию — те же авторы завершают манифест тезисом: «Искусство критики бесполезно или вредно»25.
Акцент на агуманном как новой «ценности» виден и в запрещении изображать человеческое тело, выдвинутом группой футуристов в 1910 году26, и в прокламациях Руссоло против «благозвучия», в защиту «музыки шумов»: «Много лет Бетховен и Вагнер потрясали наши нервы и сердца. Теперь мы насытились ими и нашли гораздо больше наслаждения в комбинациях шумов поездов, моторов, автомобилей и орущей толпы, чем в очередном повторении, например, "Героической" или "Пасторальной"»27.
Специфическое преломление в заявлениях музыкантов и художников находил антипацифизм. В манифесте «Новая религия— мораль скорости» Маринетти, обожеставляя «человеческую энергию, во сто раз повышенную скоростью» («энергия», которую можно «повысить скоростью», очевидно, есть физическая энергия, а не духовно-интеллектуальная), заявлял: «Только скорость сможет убить дряхлый сентиментально культурно-пацифистский свет луны»28. Композитор Руссоло призывал музыку «погрузиться в вой современных войн» и при этом с воодушевлением цитировал одно из писем Маринетти, в котором тот «удивительно свободными словами описал оркестр большой битвы»29. Для западных реакционных философов 20-х и 30-х годов было характерно релятивистское представление об основных человеческих ценностях. Им казалось, что технический прогресс выводит мир за границы добра и зла. И вот что читаем в манифесте художника-футуриста: «Взамен рухнувших Добра и Зла древности мы создаем новое Добро — Скорость, новое Зло — Медленность». Отсюда — «святость рельс и колес… Нужно преклонить колени перед вихревой скоростью компаса-гироскопа: 20 000 оборотов в минуту»30. У композиторов-футуристов «рухнувшее» добро и зло персонифицировались в сокрушенной оппозиции консонанса и диссонанса. Прателла утверждал: «Мы доказываем, что консонанса и диссонанса больше не существует»31. Им противопоставлялся шум, издаваемый машинами, и, следовательно, также «скорость» машинно-механического движения. Руссоло выдвигал концепцию музыкального прогресса от звука к шуму. «Древняя жизнь — насквозь молчание. В XIX веке, с изобретением машин, рождается шум. Сегодня шум справляет триумф, господствуя в верховных сферах чувственности человека. (…) Примитивные расы причисляли звук к дарам богов, он считался сакральным и употреблялся для молитв… Так родилась концепция звука как вещи в себе, отделенной и независимой от жизни, и результатом стала музыка, надстраивавшая фантастический мир над реальным… Сегодня музыка, непрерывно становясь все более сложной, достигает наиболее диссонантных, странных и грубых звуков. На этом пути она вплотную приближается к шумо-звуку. Эта музыкальная эволюция параллельна размножению машин, которые сотрудничают с человеком во всех областях»32. Звук работающих машин становится для Руссоло идеалом: «Сегодня требуется избыток акустических эмоций… Ограниченный круг чистых звуков необходимо прорвать и войти в бесконечное многообразие шумо-звуков… Необходимо оживить сонную атмосферу концертных залов. Войдем же теперь, как футуристы, в один из таких госпиталей для анемичных звуков. Там: первый такт несет скуку родства с вашим слухом и предвосхищает следующий такт. Что же, — смаковать такт за тактом два-три оттенка истинной скуки, ожидая необычного впечатления, которое никогда не наступит?… монотонные впечатления и идиотски религиозные эмоции слушателя, буддистски упивающегося повторением в очередной раз… Прочь! С этих пор мы не можем больше сдерживать наше желание творить новую реальность «…), исключающую скрипки, рояли, контрабасы и заунывные органы! Сломаем их!»33 А «сломав», предлагает Руссоло, «пересечем большой город, раскрыв не только глаза, но и уши, и мы получим наслаждение, когда различим клокотание воды, воздуха и газа в металлических трубах… скрежетание поездов по рельсам, щелканье кучерских кнутов, шлепанье на ветру занавесок и флагов… Любое проявление нашей жизни сопровождается шумом. Шум, следовательно, родствен нашему слуху и имеет способность вызывать самое жизнь… Иррегулярность шума соответствует иррегулярности жизни. Шум брутально взывает к действительной жизни»34.
В шуме Руссоло видел залог бесконечного многообразия «музыкальных» эмоций, причем связывал перспективу этой бесконечности с ростом армии машин. «Многообразие шумов бесконечно. Сегодня, когда мы имеем, может быть, тысячу машин, мы можем различать 10, 20 или 30 тысяч различных шумов»35.
В десятилетие между 1929 и 1938 годами было написано около 30 сонат, кантат, симфонических поэм, балетов, в партитурах которых имелись партии наковален, пил, самолетных двигателей и т. п.36. Одно из самых нашумевших (в прямом и переносном смысле) произведений этого «металлического демонизма» принадлежало пианисту и композитору Г. Антейлю. Партитура его «Механического балета» (1926) включала от четырех до шестнадцати роялей (последняя цифра была зарегистрирована при исполнении в Нью-Йорке), а также звонки, пилы, наковальни — и «гремевший аэропропеллер»37. Руссоло для своих опусов «Просыпающийся город» и «Свидание автомобиля и аэроплана» (названия этих произведений тоже звучали как своего рода манифесты «металлического демонизма» и механической скорости) в 1914 году изобрел особый шумовой инструмент38.
Шум, скорость и воплощавшие их машины служили для футуристов своего рода противовесом к традиционному представлению об обязательной для деятеля искусства творческой и человеческой неповторимости — гениальности. Руссоло видел в шумах «современную альтернативу общему понятию музыки и культу гения»39. Он и Прателла называли себя «в пику» этому «устаревшему культу» «ремесленниками и техниками»40. Но тут же возникал новый культ — культ «ремесленников и техников». Отсюда категоричность и агрессивность призывов: «Живопись звуков, шумов и запахов требует: красного, кррррасного, кррррраснейше кррррррасного, который кричииииииит!»41; «Запретить категорически все исторические реконструкции», — призывает Прателла42; «Я триумфально завоевал Италию, — писал тот же Прателла, — публику, критику, издателей… Молодые последуют за мной — вперед, по дороге будущего, проложенной мною со славой, проложенной нами, бесстрашные братья»43.
Бунт против традиций принимал форму не просто их отрицания («запретить баллады, типа пишущихся Тости и Коста, отбросить неаполитанские песни и духовную музыку как не имеющие больше оправданий для существования», — писал Прателла"), но и абсурдистской насмешки над ними. «Известен ли символ большей смехотворности, чем когда 20 человек неистово раскачиваются, пытаясь усилить звук мяукающей скрипки?» — риторически вопрошал Руссоло, выстраивая пьедестал для своей «музыки шумов»45. Одна из симфонических пьес («антисимфония») эпохи футуризма называлась «Круговая музыкальная гильотина»46. Названиями ее частей (типа «Подводный самолет», «Отверстие хаотического жерла», «Фа-диезик мажор») автор словно заявлял о своем дистанцированно-равнодушном и ироническом отношении к традиции («фа-диезик», погибающий под наводкой «хаотического жерла»).
Идейный словарь манифестов итальянских футуристов был эклектичным. В нем совмещался фетиш «революции», «прогресса», плоско понятого как «размножение машин» (Руссоло), с лозунгами о раскованности эмоций, о бескрайних правах субъективного вйдения. Такой перенасыщенный противоположными моментами раствор содержал в себе самые разные тенденции. В начале своей футуристической карьеры композитор Прателла призывал: «удерживаться на дистанции от коммерческих и академических кругов», «отказываться от участия в любых конкурсах», проводимых в традиционной манере традиционными музыкальными учреждениями47, а в годы муссолиниевского режима тот же Прателла директорствует в лицее Дж. Верди Равенне; противник оперы и вокальной музыки (музыки «слишком человеческой») пишет оперетты (!), песни, музыку к кинофильмам. И.никаких манифестов: вполне академичные работы по истории итальянской песни (напомним о прежних «запретах», в частности неаполитанской песни).
Краткая жизнь «слова» футуристов-музыкантов была продолжена позднейшим «авангардом» — ив новом «слове», и на «деле». Но и эта новая жизнь «протоавангарда», превратившегося в «авангард», не была особенно длинной. Теперь, в 80-х годах, в эпоху неотрадиционализма, высказывание историка о том, что, «несмотря на эйфорические прокламации футуристов, эпоха музыки будущего, порвавшей с традицией, все не начиналась»48, хочется отнести не только к футуризму, но и к последующему авангардистскому движению, прообразом которого футуризм во многом явился. Эпоха «музыки будущего», обрисованная в шумных заявлениях авангардистов 10-х или 20-х годов, «все не начинается», а действительно существует творчество, реально продолжающее и обновляющее традиции прошлого. Творчество выдающихся советских и прогрессивных зарубежных композиторов, которое входит в золотой фонд современной культуры.
1950-е годы: некритический «рационализм»
Торжество разума над иррациональными, расистскими притязаниями фашистов, достигнутое благодаря великому подвигу советского народа, ценой величайших человеческих жертв, вызвало в 50-х годах в буржуазном мире волну умонастроений, связанных с оптимистической верой в возможность прогресса, в универсальность человеческого духа. Тогда же началось и интенсивное научно-техническое развитие, которое впоследствии получило название научно-технической революции. Этот сдвиг в сфере материального производства стал импульсом для многих буржуазных идеологов, целенаправленно разрабатывавших в конце 40-х и в 50-х годах сциентистские доктрины.
Для сциентизма характерно понимание мировоззрения лишь как вывода из частных эмпирических исследований. По определению В. Г. Федотовой, «сциентизм выступает как упрощенный и более "плоский" рационализм, верящий не в универсальную способность разума, а в универсальность определенной его способности, в выработанный естественными науками инструментарий получения знания»49. Все исторические развитие получает схематическую трактовку: от господства религиозных воззрений через метафизику к науке50, притом к пауке естественной, которая якобы способна выполнять и роль религии, и роль «метафизики».
Так зарождаются технократические концепции общественного развития (Р. Арон, В. Штегмюллер, позднее Д. Белл, Дж. Гэлбрейт и другие). Пафос этих концепций состоял в обосновании возможности бескризисного развития капитализма, ибо «техника все сделает сама»51. Одновременно полностью отрицалась идеология, роль которой стали выполнять «техника и наука».
В музыкальном развитии Европы, особенно Западной Германии, Италии и некоторых других стран, после крушения фашизма создалась ситуация, благоприятствовавшая проникновению в композиторское сознание охарактеризованной выше идейной моды. Реакцией же на общий примитивизм искусства, насаждавшегося национал-социалистами, и на категорический запрет в фашистских государствах практики нововенской школы стало тяготение молодых композиторов к искусству «сложному» (причем именно в аспекте технических средств), прежде всего к наследию нововенской школы.
Сочетаясь с общим для умонастроений эпохи «рациональным оптимизмом», верой в методы точных технических наук, эта односторонняя реакция на официальную культурную политику нацизма обрела вид музыкально-технического рационализма, главными адептами которого в 50-х годах стали К. Штокхаузен, П. Булез, а также учившийся в Германии и во Франции в этот период Я. Ксенакис. Додекафонные методы организации музыкального материала стали для них многозначным символом «свободы» (от предшествующего насильственного примитивизма и традиционализма), «рационализма», «инженерной научности» творчества, его отдаленности от всякого рода мировоззренческих проблем, сама мысль о ценности которых была опорочена практикой фашистских функционеров.
Послевоенный музыкальный «авангард», набирая «высоту», осознавал себя прямым наследником нововенской школы, преимущественно А. Веберна (об этом, в частности, свидетельствуют высказывания К. Штокхаузена и П. Булеза). Однако, едва обретя абрис «волны», уже в 50-х годах «авангард» отходит от эстетики нововенцев. Это было связано с предпринятым авангардистами «размыванием» границ музыкального произведения (как в формальном смысле, так и в содержательном) и движением в сторону однозначных «концептов» из области буржуазной философии, социологии, политологии. Таким образом, послевоенный музыкальный «авангард» продолжал скорее нигилистическую линию итальянских футуристов, чем искания нововенцев; хотя именно додекафония была вначале «технической» программой композиторов-авангардистов «второй волны».
Последнее обстоятельство явилось одной из причин той неоднозначной оценки, которую нередко получает творчество композиторов нововенской школы в историческом аспекте. Однако в последних исследованиях творчества нововенцев все чаще подчеркивается невозможность однозначно интерпретировать их музыкальнотехнологические нововведения как прямую подготовку послевоенного «авангарда». В частности, для Шёнберга было отнюдь не случайным в конце творческого пути «примирение» с традиционными формой и гармоническим языком, а для Берга — романтическая экспрессия и программная основа многих сочинений. Особо следует сказать о Веберне, музыку которого послевоенные авангардисты охотно противопоставляли «романтизму» и «экспрессионизму» Берга и Шёнберга. Художественному мироощущению Веберна, однако, гораздо ближе натурфилософские интуиции Гёте, чем расхожие мировоззренческие модели музыкального авангардизма 50—70-х годов.
Творческие устремления нововенцев обладают иной природой, по сравнению с деятельностью Штокхаузена или Кейджа. Творчество нововенцев, в целом, находится под знаком европейской художественно-этической традиции, со времен Бетховена (если не с более ранних) включавшей в себя также и ценность «революционного» обновления художественного языка, предполагавшей строгость в отборе музыкально-выразительных средств.
Можно напомнить также о работе А. Веберна в рабочих хоровых обществах, о широкой преподавательской деятельности Шёнберга, продолжавшей традиции классической музыкальной педагогики.
Без учета опыта Шёнберга, Берга и Веберна трудно понять развитие музыки во второй половине XX века. При этом речь идет как раз не о сектантских авангардистских течениях. Поздний И. Стравинский и О. Мессиан, поздний Д. Д. Шостакович, а также К. Караев, Р. Щедрин, — многие крупные мастера зарубежной и советской музыки так или иначе соприкоснулись в своем творчестве с наследием нововенцев.
Поэтому, несмотря на серьезную противоречивость творческих позиций нововенцев, несмотря на нечастое звучание их сочинений (например, сегодня по отношению к Веберну говорят даже о «культе умолчания»), нельзя сказать, что их творчество лишь преходящий исторический «эпизод». Таковым оно оказалось только для радикального авангардизма, к концу 50-х годов расставшегося с первоначальными «веберновскими» лозунгами.
В манифестах представителей послевоенного «авангарда» наблюдаются вполне конкретные и далеко идущие аналогии именно с технократически-сциентистскими и позитивистскими концепциями общества.
Параллель 1-я: антипсихологизм и фетиш эксперимента. Теоретики сциентизма обвиняли различные философские системы прежде всего в субъективизме. «Объективный» метод социальных наук, согласно, например, К. Попперу, состоит в «испытании попыток решения проблем». Попытки практически разрешить ту или иную проблему должны быть каждый раз подвергнуты критике, надо постоянно пытаться опровергнуть их и заменить новыми попытками разрешения проблемы, то есть применять метод проб и ошибок. Причем первый шаг познания, первая попытка «теоретического разрешения проблемы» оказывается случайной, затем делается поправка с учетом новых возможностей, тоже случайно открытых, затем следует новая попытка как исправление первой и т. д. «Так случайность, — пишут советские ученые, — возводится Поппером в онтологический абсолют»52, что в плане социально-политическом означает возведение в закон субъективных «проб», производимых лицами, управляющими обществом, возведение в абсолют волюнтаризма господствующих классов. Одновременно человек понимается в этой концепции как своего рода калькулятор, «машиноподобный агент технического мира»53.
Представителями авангардизма 50-х годов были усвоены и антипсихологизм, и фетиш естественнонаучных методов, столь категорично выраженные Поппером в их взаимосвязи. Представление о композиторе и слушателе как объектах продуцирования и потребления калькулируемой информации окрашивается в тона аэмоционализма. Сам же процесс музыкального сочинения выступает в высказываниях композиторов как аналогия попперовскому «испытанию попыток решения проблем», скрыто базирующемуся на изначальной и возводимой в абсолют случайности.
Пьер Булез, пришедший к композиции после изучения математики и технических наук, вскоре после появления своего первого сериального сочинения («Полифония X») издал короткую статью, симптоматично названную «Шёнберг мертв» (1952) и оказавшую большое влияние на композиторов молодого поколения. Что же означала манифестированная Булезом «смерть Шёнберга»? Отнюдь не «смерть» додекафонии, обязанной своим возникновением, в частности, Шёнбергу. Наоборот, Булез призывает продолжать «дело додекафонии»: «Мы использовали лишь ограниченную область звуковых феноменов, будущее ясно: расширение и умножение»54. Шёнберг для Булеза олицетворял эмоциональность и психологизм экспрессионистического видения мира, «бытие в постоянном самосознании кризиса», «интенсивное переживание своей эпохи». По Булезу, на место этого эмоционально-психологического отношения приходят «утрата субъективности», «формальный порядок», распространяемый в «глубину музыки, на уровень микроструктур»55.
Депсихологизация творческого процесса (как и его результатов) была в 50-х годах также установкой Карлхайнца Штокхаузена. Причем парадоксальным образом (так же как в логике рассуждений Поппера) эта депсихологизация связывалась с абсолютной свободой композитора, экспериментирующего методом «проб и ошибок».
Штокхаузен писал в начале своего пути: «Города стерты с лица земли, и можно начать с самого начала, без оглядки на руины»56, называя «счастливым» момент, когда, как ему кажется, композитор впервые оказался шцом к лицу с «ничто», и следовательно, впервые может по-настоящему проявить творческое всемогущество. Но поскольку «ничто» — предельная абстракция, то и выведение из него некоторого «что» может быть только предельно абстрактным выведением предельной абстракции или, по словам Штокхаузена, «тотальным упорядочением звукового материала»57. Это «тотальное упорядочение» адекватно научному мышлению: «Сочинение в перспективе должно совпадать с исследованием»58.
«Ремесло» творения из «ничего» скрыто подразумевает попперовскую постоянную «критическую» отмену найденного «решения проблемы» под воздействием вновь учитываемых «случайностей». Причем в композиторской деятельности в качестве «случайностей» выступают новые идеи самого же композитора, фатально скованного необходимостью отбрасывать предшествующую находку, поскольку она есть «что-то», а не «ничто». «Новый композитор не может терпеть ничего заранее готового», — писал Штокхаузен59. Композитор становится в своем сознании одновременно и хаосом, и упорядочивающей силой. Каждое сочинение, однако, стоит ему появиться, вновь оказывается «ничем» и потому, как замечает исследователь творчества Штокхаузена, каждое его сочинение представляется композитору «номером первым»60. И каждый такой «номер первый» есть «проба и ошибка» одновременно. Процесс оказывается бесконечным и в равной степени бесцельным воплощением абсолютного волюнтаризма.
Подобно тому, как в воззрениях «критического рационализма» человек представал «машиноподобным агентом технического мира», так и в манифестах Штокхаузена слушатель становится «машиноподобным агентом» композиторской воли. Композитора Штокхаузен называет «производителем музыки», а слушателя — «потребителем»61.
В качестве техников-экспериментаторов осознают себя и другие представители «авангарда». Янис Ксенакис с 40-х годов разрабатывал математические методы композиции. Экспериментаторская и научно-техническая ориентация этого архитектора, инженера и композитора ясно видна уже из его признания (в предисловии к трактату «Формализованная музыка»): «Мои сочинения составляют экспериментальное досье этого изложения (то есть метода математической формализации звукового материала. — Т. Ч.) 62. Музыкальное мышление для Ксенакиса совершенно тождественно научному. То, что отличает музыку у Ксенакиса от науки и техники, — это только ее акустический материал, лишенный всякой специфически художественной определенности. Можно сопоставить идеи Ксенакиса с высказыванием одного из сциентистов, К. Штайнбуха: «Что отличает автомат от человека — это не различные закономерности… но различные структуры, реализуемые в рамках одних и тех же закономерностей, а именно физических»63.
Параллель 2-я: «Власть как форма проявления техники» и техника как форма проявления власти. В технократических концепциях особая роль отводилась инженерному управлению обществом. По мнению убежденного сторонника социальной инженерии Н. Лумана, «если положить понятие техники в основу, то можно осуществить… выделение власти как формы проявления техники»64.
Однако «власть как форма проявления техники» приводит к технике как форме проявления власти, власти над умами. Вот что пишет кибернетик-социолог К. Штайнбух: «Сосуществование различных способов мышления в разных областях в высшей степени неэкономично»65. «Тяжкий удар для тех, — комментирует вывод Штайнбуха буржуазный ученый, — кто верит в продолжающееся существование либерального плюрализма в технократическом обществе!»66. Советские исследователи в этой связи отмечают: «Стереотипные формы поведения людей, растущая стандартизация являются, с его (сциентизма) точки зрения, торжеством разумного, целесообразного, разрушающего традиции и идеологические иллюзии порядка»67.
Эту сциентистскую тенденцию к стереотипизации мышления по-своему выразили и представители послевоенного «авангарда» 50-х годов. Композиторы-сериалисты решительно отрицали какие-либо иные пути развития музыки, кроме «тотального упорядочивания» на базе додекафонии. Булез, например, категорически заявлял в 1952 году, что «музыка не может иметь иного развития, кроме заданного ей Веберном»68.
Штокхаузен писал годом позже: «Сегодня, очевидно, прогрессирует представление об универсальном, запланированном порядке и одновременно развивается потребность… осознать музыку как модель "глобальной" структуры, в которую все втягивается»69. Эту структуру Штокхаузен описывает почти в тех же выражениях, в которых Штайнбух обосновывал «неэкономичность» всякого инакомыслия в буржуазном обществе. Свою сериальную композицию Штокхаузен называет «упорядочением, исключающим внутренние противоречия»70.
Я. Ксенакис, также словно следуя концепции «экономичности», направленной Штайнбухом против всякого инакомыслия, «либерального плюрализма», «унифицирует» и специфику музыкального мышления. «Творческая мысль человека имеет источник в тех ментальных механизмах, которые, при точном анализе, сводятся к выведению следствий и выбору. Этот процесс имеет место во всех областях мышления, включая искусство. Некоторые из этих механизмов могут быть выражены в математических терминах. Некоторые из них физически реализованы: колесо, моторы, бомбы, счетные машины и т. д. (…) Определенные механизируемые аспекты художественного творчества могут быть воспроизведены определенными физическими механизмами или машинами, которые уже существуют или могут быть созданы. Компьютер может быть употреблен как раз с этой целью. Это — исходный пункт для применения компьютера в музыкальной композиции»71. Как видим, колесо, бомбы, моторы и компьютеры оказываются в одном ряду с композиторским мышлением. И музыка, и моторы, и бомбы — лишь элементы «единообразной упорядоченности» (Штокхаузен), которую хотели бы насадить технократы в общественной мысли и социальном поведении масс.
Еще один штрих к композиторской адаптации идеи «техники как власти» составляет концепция восприятия музыки, которая сложилась в 50-х годах у Штокхаузена. По его мысли, весь процесс слушательского восприятия сводится к механическому «резонансу» на музыкальные «колебания». Колебания тонов переносятся на человека, порождая «соколебания» («Mitschwingungen»)72. От слушателя Штокхаузен требует «освобождения от всех ассоциаций», слышания «чистой, свободной от значений структуры»73, то есть опять-таки полного подчинения власти упорядочивающего композитора.
Скрытый смысл социологического тезиса о «власти», ставшей будто бы всего лишь «формой проявления техники» и потому якобы точной и объективной, ликвидирующей все социальные конфликты, проявляется в композиторской эйфории по поводу техники (как собственно музыкальной, так и внемузыкальной) — эта техника якобы обеспечивает едва ли не тотальную власть и над музыкальным материалом-звуком, и над «резонатором-слушателем», и над самим временем.
Параллель 3-я: судьба концепции. Антипсихологизм и фетишизация эксперимента, «техника как власть» — эти установки идеологической моды 50-х годов, разделявшиеся и подкреплявшиеся композиторами-авангардистами в их высказываниях, концентрировались вокруг идеи «тотального», механицистски-рационализированного «порядка». Но идея абсолютизированного «порядка» несет в себе свое абсолютное же отрицание, то есть возрождение того самого «беспорядка», реакцией на который она являлась. Критик сциентизма Л. Мамфорд писал: «Власть и порядок, достигнув кульминации, ведут к саморазрыву: к дезорганизации, насилию, духовному разброду, субъективному хаосу»74.
Внутри самих рационалистских концепций 50-х годов имелись моменты, скрыто содержащие противоположность «порядку», — вспомним о возведенной в главный принцип случайности «проб и ошибок» в теории Поппера. Нарастание противоречий в экономике и политике капиталистического общества в 60-х годах помогло этим скрытым моментам выйти наружу. Те же самые технократы, преобразившись из «оптимистов» в «пессимистов», обратились к анализу «кризиса», «дезинтеграции», «экзистенциальных противоречий» и т. п.
Сходным образом эволюционировало композиторское самосознание авангардистов, начавших свою деятельность после 1945 года. И сходным образом предпосылки для эволюции к «беспорядку» были заложены в концепции абсолютной контролируемости творчества.
Уже в 1955 году Булез дал уничтожающую критику результатов сериального упорядочивания звукового материала, к которому он сам ранее призывал как к «единственному» пути развития музыки. Булез говорил об «отчаянной монотонии», «стерильном маньеризме абстрактных изделий, в которых сочинение оказалось подмененным организацией»75.
Порядок оборачивается произволом. Штокхаузен от концепции «насквозь организованной формы» в конце 50-х годов переходит к доктрине «открытой формы», причем сам подчеркивает, что в известном смысле и сериализм был «открытой формой», «в том смысле, что в нем можно было открыть нечто, ранее скрытое»76. Не случайно уже в 60-м году Штокхаузен высказывается следующим образом: «Один учитель музыки сказал мне во время дискуссии: "Если я выйду в эту дверь, это тоже будет искусство?" Я возразил: "Если вы это сделаете художественно, то почему нет?"»77.
Для идеологической моды 60-х годов характерно то, что «чувства оптимизма, которые раньше были широко распространены, становятся довольно редкими в западном мире»78. В качестве господствующей установки выдвигается антисциентизм, критика науки и техники как «ложного» пути западной цивилизации. Утверждается критическое и вместе с тем иррационалистическое отношение к общественной ситуации.
Ассимиляция критических настроений общественности буржуазной идеологической машиной проходила путем критики культуры. Акцентировалась мысль, что именно культура с ее «ложными» установками привела якобы к кризису цивилизации. В этой «критике культуры» приняли заметное участие и композиторы-авангардисты, выступившие со своими манифестами в 60-х годах.
1960-е — начало 1970-х годов: «критический» иррационализм
Чрезвычайно трудно выделить некий общий знаменатель для идеологического развития на Западе 60-х годов. Однако если иметь в виду те аспекты этого развития, которые так или иначе обращены к культурной проблематике и потому воздействуют на сознание художников наиболее непосредственно, то в первую очередь должны быть названы социальные идеи франкфуртской школы, с одной стороны, и, с другой — обращение к некоторым восточным мистическим направлениям. Фрагменты этих направлений приспосабливались западными теоретиками для мистификации реальных проблем общественного развития, сводились к абстрактной оппозиции подлинной «человечности» и антигуманного «прогресса».
Старшие представители франкфуртской школы (Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Фромм, Ю. Хабермас) еще в 30-х годах выступили с критикой отдельных отрицательных черт монополистического капитализма. После войны философы-франкфуртцы продолжали разрабатывать свою критическую концепцию. Их позицию называют эстетической: творчество художника фигурирует как альтернатива буржуазному однобокому сциентизму, общественному отчуждению, «тотальному манипулированию сознанием», росту потребительских настроений и т. п.
Со столь широкой и размытой позиции можно осуществлять тоже очень широкую и размытую критику, когда обвинения в адрес капитализма начинают звучать как обвинения в адрес пути цивилизации вообще. Кроме того, можно примирить непримиримое: элитаристское понимание искусства как «мира свободы», принципиально противостоящего реальности, и «революционное» его понимание — как способа отрицания этой реальности.
Соединение «элитаристского» и «революционного» помогает объяснить достаточно определенное сходство идей представителей музыкального «авангарда» 60-х со взглядами теоретиков-франкфуртцев. При этом не следует забывать, что, как отмечал секретарь ЦК СЕПГ К. Хабер, представители франкфуртской школы «создают утопически-романтические конструкции, которые не составляют никакой критической альтернативы современному капитализму, но используются в системе антикоммунизма как средство для дискредитации реального социализма»79.
Едва ли не столь же важное значение в панораме социально-критического иррационализма имели идеи, связанные с мотивами восточной мистики.
Как подчеркивает Е. В. Завадская, «надежды части интеллигенции на Западе обрести в учении чань панацею от всех социальных бед представляют собой иллюзию, поскольку это учение лишено научной мировоззренческой основы. На уровне социального протеста чаньская программа поведения имеет позитивный смысл лишь как эпатаж буржуазной элиты. Реализация этой программы состоит в отходе от действительности, где царят продажность и делячество»[4]80.
Некоторые композиторы присоединялись к характеризуемым идеологическим течениям сознательно, некоторые же — стихийно, найдя в новой идейной моде отголосок своих композиторских исканий. Если в 1952 году Штокхаузен писал: «На низшем уровне организации материала из идеи выводятся отдельные принципы организации. Способность к этому я называю профессиональным умением, неспособность — дилетантизмом. Родство последнего и импровизации, работы с готовым (найденным) материалом, очевидно»82, то в конце 50-х годов он же провозглашает: «Случай, ускользающий случай играет громадную роль»83.
Иррационализм новой ориентации музыкального авангардизма особенно явственно виден из следующего высказывания композитора: «Современный художник — это радиоприемник, самосознание которого — в сфере сверхсознательного… Каким образом достичь этого? Прежде всего делать лишь такие "произведения", которые в любой момент остаются открытыми для прямого ощущения колебаний сверхсознательного, всегда "витающего" в воздухе»84.
Общий параллелизм развития композиторского сознания и идеологической моды — от некритического «рационализма» к «социально-критическому» иррационализму конкретизируется рядом сопоставлений.
Параллель 1-я: идеал утопической свободы. Один из отработанных буржуазной идеологией способов фиктивной критики капиталистической действительности заключается в признании общества изначально и извечно несвободным в силу того неотменяемого обстоятельства, что общество есть некая организация. «Следовательно», оно неизбежно противостоит индивиду, предполагая его «несвободу», «отчуждение», «овеществление» и т. п.
Философы франкфуртской школы учат, что основной конфликт общества проходит не между трудом и капиталом, а между «рациональностью» технического аппарата общества и «иррациональностью» вызываемых им явлений. Из этого противоречия, по мнению Маркузе, есть лишь один выход — в распространении революции за пределы социально-экономических отношений, на область психобиологических основ поведения людей, на саму совокупность их инстинктов. «Новая чувственность» рассматривается как «отрицание общества в целом, его морали, его культуры»85. Одним из средств достижения «новой чувственности» в концепциях франкфуртцев оказывается искусство. У Адорно «подлинное искусство» становится «гением свободы», так как оно новизной своей формы моделирует нечто абсолютно «иное», чем то, что можно увидеть в действительности. Насквозь иллюзорные способ критики и идеал свободы именно в силу своей иллюзорности были легко усвоены композиторами-авангардистами, далекими от понимания общественной реальности. Особенно притягательным оказался тезис о воплощении свободы в искусстве — он предполагал самое раскованное экспериментирование, которое получало при этом идеологическое оправдание и даже некую политическую функцию.
Встречающиеся в композиторских манифестах 60-х и начала 70-х годов спекуляции на темы «свободы» и «новой чувственности» достаточно многообразны. Д. Шнебель, композитор и критик, в комментариях к «пьесам-процессам» Кейджа, Штокхаузена, X. Брюна, Г. М. Кёнига, Й. А. Ридля, М. Кагеля и собственным пишет: «В пьесах такого рода музыка более не является чем-то готовым, окончательным… Скорее эти пьесы — события, планируемые при своем возникновении, но реализуемые в неисчислимых вариантах… Эти опусы также не представляют собой больше каких-то ограниченных предметов; в них низвержено понятие произведения. Новые композиции начали терять пространственные и временные границы (…) Композиция такого типа изменяет практику исполнения. Исполнение перестало быть воспроизведением предписанного произведения, но само превратилось в игру, которая свободно обращается с созвучиями и голосами. Как сама пьеса превратилась в процесс, так и ее звуковая реализация стала чем-то неготовым, процессом создания (…) Музыка становится тем, чем должна быть: временным искусством, в котором каждый момент самоценен (…) музыка возвращается к непосредственности, которую имела первично (…) Когда звучание идет своим собственным путем и голоса ничего, кроме самих себя, не значат (…), тогда живет сама музыка». И заканчивает Шнебель этот очерк «раскрепощенной» музыки цитатой из Маркузе86.
Если свобода предполагается в сфере принципиально «иного» (по отношению к наличной действительности), то лучшими способами ее достижения будут не политикопрактические, а иллюзорно-символически относящиеся к действительности акции. Здесь имеется богатый набор возможностей. Можно, как призывал Маркузе, «высвобождать» свои витальные жизненные потребности, в особенности «непристойные», — они, нарушая сложившиеся общественные нормы, обладают «революционным потенциалом»87. Можно демонстрировать различными эпатирующими действиями «разрушительную силу фантазии» (Маркузе), которая тоже выступает как «революционная» сила. Можно, наконец, и просто не действовать, погружаясь в свое сознание или бессознательное. Последняя идея подкрепляется авторитетом восточных мистических учений с их принципом «недеяния».
Все эти средства, рекомендуемые идеологами 60-х, как «грани» свободы, удобно и легко достижимой помимо реальной политической борьбы, рекомендуются также и композиторами в их печатных выступлениях.
Кейдж предписывает исполнителям «45 минут для чтеца» расчесываться, кашлять, сморкаться, пить воду, то есть проявлять «витальность», свободную от норм академического поведения. Манифесты авторов хэппенингов всячески варьируют лозунг о «революционности» фантазии, причем обязательно абсурдистской. Сквозная идея многих хэппенингов — «эмансипация» музыкантов от музицирования. Вот примеры. Йозеф Бёрд, «Пьеса для К. Максфилда»: шесть музыкантов поднимаются на подиум, несколько раз хлопают в ладоши и уходят после этого с эстрады. Георг Брехт, «Квартет для струнных»: четыре музыканта берутся за руки, здороваются с публикой и скрываются. Нам Чжун Пайке, «Пьеса для скрипки»: музыкант поднимает виолончель высоко над головой, как бы преодолевая действие потусторонних сил. После чего он с размаху разбивает виолончель о стол88. И т. д, и т. п. Эти «действа» тоже можно принимать как своего рода манифесты — хотя в них нет слов, но зато нет и музыки — есть вполне однозначно «читаемая», «наглядная» концепция, выраженная в мимике, жесте, акции.
В этой эмансипации музыкантов от музицирования «действие» уже смыкается с «недеянием», тоже воспринимаемым как «погружение в свободу». Вот слова Штокхаузена: «Нужно стать совсем пустым. Нужно так успокоить мысли, чтобы не возникало никаких представлений, и тогда медленно опускаться в подсознательное»89.
Указанные грани «свободы» — от «витального» действия до «недеяния» — обосновываются и в манифестах Кейджа, причудливо сочетающих дух крайне сомнительного социального критицизма с некоторыми моментами из восточных мистических учений, и прежде всего — из чань-буддизма. Это сочетание приводит к своеобразному слиянию идей абсурдистского активизма и мистического погружения в «сверхсознательное». Знаком этого слияния стала обосновываемая Кейджем «равнозначность» звука (или шума) и тишины.
Эту равнозначность Кейдж манифестирует в «Неопределенном» (1957) — сочинении, представляющем нечто среднее между теоретическим манифестом и музыкальной «акцией тишины». Перед нами словесный текст, изложенный, однако, в виде графической «партитуры», каждый из тридцати фрагментов которой должен не звучать одну минуту. Тексты, располагающиеся внутри «минут», — это притчи на тему об отсутствии разницы между тишиной и звуком, шумом и музыкой, свободой и несвободой.
«Прислушаемся» к этим притчам. Вот «третья минута» (примерно воспроизводим облик «партитуры»):
«Однажды днем, когда окна были открыты, Христиан Вольф исполнял свою пьесу на рояле. Уличные шумы, сирены машин слышались не только в паузах, но, когда они были более громкими, даже лучше, чем звуки рояля. После этого кто-то попросил Христиана Вольфа повторить пьесу при закрытых окнах. Христиан Вольф с охотой бы сделал это, однако он полагал, что такое повторение было бы собственно не нужным:, ведь звуки окружающего мира прерывают не всякую музыку»90.
Вот другая притча (4'00"):
«Когда я оказался в Бостоне, я пришел в звукоизолированное помещение Гарвардского университета. Каждый, кто знаком со мной, знает эту историю. Я рассказываю ее беспрестанно. И вот, в этом обеззвученном помещении я услышал два шума: высокий и низкий. После я спросил компетентного техника: почему я слышал шумы, хотя помещение было абсолютно звукоизолированным? "Опишите их", — сказал он. Я это сделал. Тогда он говорит: "Высокий шум издавала ваша работающая нервная система; низкий — ваша циркулирующая кровь"»[5]91. Итак, «откровение» здесь состоит в том, чтобы «прислушаться» к своему первично-витальному началу, что, как мы видели, рекомендует и Маркузе в качестве «революционного» средства. Кейджевская, окрашенная в фиктивно-критические тона, идея «прислушивания» глубоко иррационалистична и реакционна. Ведь, по Кейджу, «прислушиваться» можно, лишь отвергнув свою волю, свою логику, в конечном счете — свое социальное «я».
Штокхаузен провозглашает себя уже избавившимся от «Я»: «Уже много лет я неоднократно говорю и пишу, что я вовсе не мою музыку делаю, однако передаю колебания, которые я перехватываю, что я функционирую как передатчик, что я есть радиоаппарат. Если я сочиняю правильно, в правильном состоянии, то я сам больше не существую»92.
Фиктивность, утопичность идеала свободы, заданного буржуазными идеологами, которые нашли эффективные (почерпнутые, в частности, в восточной мистике) средства ассимилировать настроения социальной критики, оборачиваются полным примирением с наличной обыденной действительностью. И это примирение по-своему рекламировали композиторы, когда поясняли и обосновывали свои творческие позиции.
Параллель 2-я: иллюзорный демократизм. Маркузе, Хабермасу и другим теоретикам мелкобуржуазного «левого» радикализма массы представляются равно пассивными и в ситуации угнетения, и в ситуации борьбы с угнетением. Более того, эти массы становятся чем-то вроде подопытного материала. Им собираются перестроить структуру сознания, даже не гарантируя конечного результата: Маркузе не может сказать, чем окончится «революция структуры инстинктов» и восторжествует ли «свобода или тоталитаризм»93. Демократизм этой концепции общественного переустройства, таким образом, фиктивный; он является вариантом характерного для буржуазного сознания беспредельного индивидуализма.
Фиктивны и демократические притязания авангардистов. В «Очерке о народничестве» композитор Хенце говорит о том, что «понятие народничества означает хождение в народ, без того, чтобы принимать участие в его борьбе», и что народники «противостояли как царскому бюрократизму, так и западному индустриализму»94. Последняя характеристика выделена не случайно: Хенце рисует прообраз модного в «неомарксизме» поиска «третьего пути», «пути», находящегося якобы между поздним капитализмом и реальным социализмом. Из этого понятия композитор развертывает перспективу «музыкального народничества». Кратко говоря, она состоит в том, чтобы музыка (которая, по Хенце, «идентична политике») стала «всеобщим достоянием», для чего композитор должен выйти из своей изоляции в радиостудии или концертном зале непосредственно в публику, пространственное размещение которой уже тогда не будет ограничиваться концертным залом. И не просто выйти, но заставить публику понять свою музыку, чтобы мир «освободился»95. Оказывается, вся «несвобода» мира состоит в том, что «понимание» людьми новейшей музыки остается «индифферентным, смутным, мимолетным». Однако, как видно из высказываний Хенце, музыкальное «хождение в народ» есть навязывание в качестве «всеобщего достояния» того, что является достоянием «прогрессивной» авангардистской композиции. Сознание публики, даже если это подлинные любители музыки, объявляется просто «смутным и мимолетным», и композитор не должен даже пытаться вникнуть в глубины этого сознания, а «с размаху» перевоспитывать его. Демократизм идеи «композиторского народничества» оказывается маскировкой элитаристского высокомерия.
«Демократичной» кажется на первый взгляд и идея объединения людей в коллективном музицировании, в котором каждому предоставлена «свобода», в том числе — слушателю, который волен перемещаться в пространстве, в любой момент «войти» в музыку или «уйти» из нее96. Однако, как замечает 3. Боррис, в этих коллективных действиях «возникает новая зависимость унтер-композиторов от распоряжений находящегося в центре обер-композитора: музыкальный процесс превращается в процессию, мистифицированную до уровня ритуала»97. Ритуальный коллективизм импровизации с необходимостью выдвигает «фашистоидную» фигуру лидера, берущего на себя смелость определять направление, в котором достигается «сверхорганичное» единение участников, заставляющего их по своей воле достигать этого единения: «Держи аккорд, пока тот, кто играет рядом с тобой, не придет к тому же настроению. Тогда сразу снимай!»98.
Параллель 3-я: судьба концепции. «Царство свободы» теоретиков «протеста» 60-х годов опиралось на представления о вневременной чувственной «сущности» человека. В такой концепции общественное переустройство выступает как «возвращение», путь вспять. «Прогрессизм» леворадикальных идеологов содержал в себе консервативный фермент: прогресс общества оказывался всего лишь «поиском утраченного времени». Поэтому нет большого парадокса в том, что когда в конце 60-х годов начала спадать волна «неореволюционаризма», то новое движение — «неоконсерватизм» — возглавили те же самые мыслители, которые выдвигали различные варианты «освобождения»99.
В 70-х годах в творчестве композиторов-авангардистов проявляются симптомы «нового традиционализма». Например, Кейдж в «Apartment House" (1976) — сочинении, написанном к 200-летию США, обращается к традициям программно-иллюстративной музыки, словно противопоставляя самого себя своему же кредо «неопределенности»! Но этот резкий разворот бывших атрадиционалистов, параллельный зигзагу недавних либералов-социологов, имел предпосылки, скрыто содержащиеся в композиторской мысли о музыке предшествующего десятилетия.
В год появления «ритуально-коллективной» композиции «Musik fur ein Haus» (1968) Штокхаузен ищет тексты, способные своей символической насыщенностью и вместе с тем простотой дать наибольший простор для медитативного настроения. Таким типом текстов для него оказываются молитвы, причем вполне традиционные — христианские. Мы увидим, что мотивы «религиозного возрождения», которые проявились у Штокхаузена, тесно вплетены в новый идейный комплекс, господствующий в 70-х и 80-х годах на Западе.
Объявив традицию пустым местом, деятели музыкального «авангарда» пришли к традиции как к пустому месту: к традиции, не имеющей будущего, к традиции, не имеющей настоящего, к традиции — как к игре музыкальной историей.
1970–1980-е годы: антипрогрессивный «гуманизм»
Целый ряд молодых композиторов, стремясь предстать «новой школой» в глазах привыкшей к подобного рода «конкурентной борьбе» (и стимулирующей ее) музыкальной журналистики и фестивальной публики, заявил о традиционализме как о своем кредо. Появилось и самонаименование школы «новых» традиционалистов: «новая простота», — отчетливо выражающее стремление отмежеваться от «Донауэшингена и Дармштадта», то есть от «авангарда» в целом. О своем «разрыве с авангардом» заявляют немцы Вольфганг Рим (лидер движения «новой простоты»), Манфред Троян, Вольфганг фон Швайнитц, Ханс-Кристиан фон Дадельзен, Дэтлев Мюллер-Сименс, американцы Стив Рейч, Фил Гласс, испанец Хуан Гидальго, аргентинец Горацио Ваджионе и другие.
При этом словно выполняется установка, сформулированная нынешними консерваторами-социологами в виде обвинения авангардистскому искусству: «Традиционная буржуазная организация жизни — ее рационализм и уравновешенность — почти не имеет сторонников в высокой культуре; не имеет она также и соответствующей системы культурных значений или стилистических форм с какой бы то ни было интеллектуальной или культурной респектабельностью. Что мы имеем сегодня, так это радикальный разрыв между культурой и общественной структурой, а именно такие разрывы исторически мостили путь к эрозии авторитетов, если не к социальным революциям»100.
Эти слова Д. Белла были написаны в 1977 году, то есть в том же году, когда в Европе укоренился термин «новая простота». Так был озаглавлен цикл из семи передач Кёльнского радио, в которых звучали опусы неоромантического направления, минималистские композиции, а также вполне авангардистские алеаторические композиции, и вместе со всем этим — традиционная корейская музыка и опусы Б. Циммермана, «сплавляющие в амальгаму элементы европейской средневековой системы с признаками арабской музыки»101. Термин, давший общее название передачам, оказался чрезвычайно размытым. Однако постепенно в ходе все более настойчивого его употребления как наименования группы композиторов, объединившихся вокруг В. Рима, а также в манифестах самого В. Рима и его приверженцев он стал восприниматься как «обозначение целого ряда различных тенденций, чья общность состоит лишь в более или менее выраженном отказе от авангардизма»102.
Но подобно тому как предшествующее музыкальное развитие «авангарда» манифестировало себя языком модных в соответствующий момент буржуазных философских и политических доктрин, так и нынешний «антиавангард» объясняет себя, пользуясь идеологемами, распространенными в данный момент в буржуазной социально-философской и политической мысли.
Хотя композиторы сегодня рекламируют отказ от «авангарда», они в то же время сохраняют в своих манифестах многие черты авангардистского самосознания. Уже термин «новый» в сочетании «новая простота» («новая тональность», «новая душевность», «новый гуманизм», «новая субъективность» и т. д.) свидетельствует об ориентации на авангардистский фетиш новизны. Кроме того, от 60-х годов наследуется, как мы увидим, специфический иррационализм истолкования сущности творчества, в то время как от 50-х годов — ориентация на упорядоченность звукового целого и ярко выраженный элитаризм, парадоксально соседствующий с бесплодными призывами к «демократичности», доставшимися в наследство от 60-х годов.
В этом «псевдоотказе» от предшествующего развития проявляется связь с современным философско-социальным и политическим консерватизмом, для которого также характерен крайний эклектизм. Крайний эклектизм типичен и для творчества представителей «новой простоты».
«Лозунги подобны шлагбаумам: это — судьба», — гласит афоризм Маурицио Кагеля103. «Судьба» композиторского самосознания последних лет раскрывается в следующих композиторских параллелях к лозунгам сегодняшней буржуазной идеологии — «шлагбаумам», которые фатально перекрывают путь к реальному пониманию композиторами проблем музыкального развития и места искусства в социальной действительности.
Параллель 1-я: отказ от прогресса. Отказ от прогресса у композиторов и социальных мыслителей 70-х — начала 80-х годов выражается в сходных терминах. Один из представителей «новой простоты», композитор М. Троян обозначает свое направление как «прогрессивный, современный консерватизм»104. Отказывающиеся от «прогрессистских» концепций социальные мыслители также называют себя «неоконсерваторами». По мысли идеологов, такой старый и постоянный аспект буржуазного образа мышления, как консерватизм, может стать «новым», «современным»: «Каждая эпоха, каждое поколение нуждается в новом понимании консервативного, то есть того, как следует консервативно думать и действовать и каковы задачи консервативного мышления и деятельности в данное время»105. Почти вторит этим словам Г. Й. Меркатца композитор В. Рим, который пишет, что музыка должна постоянно оставаться «старой», но при этом каждый раз подвергаться «новой интерпретации»106.
Отказ от прогресса и у социальных мыслителей, и у композиторов сопровождается истолкованиями самой идеи прогресса как идеи «реакционной». «Отказывайся верить, — пишет идеолог, — когда приходится слышать, что идет прогресс… Человечество, которое окончательно отвергло бы консервативный элемент, стало бы не только жертвой утопической лжи о жизни, но в конечном счете неизбежно вернулось бы к варварству»107. Сходным образом отождествляет прогресс с регрессом В. Рим: «Все, что ново, является таковым лишь в соотношении с прежним; следовательно, новое всегда относительно. Новая музыка в таком случае реагирующее (reagierende) искусство, если не реакционное (wenn nicht reaktionаrе)»108.
Отказ от прогресса должен содержать некую альтернативу. И для идеологического, и для композиторского «неоконсерватизма» характерна чрезвычайная расплывчатость позитивных программ. Можно встретить лишь указания на необходимость найти такие программы, но чаще — отказ от их формулирования: «Что нам нужно, так это не латание старой, а создание новой идеологии. К сожалению, четко сформулировать такую идеологию превыше сил вашего покорного слуги»109. Другие идеологи не считают обязательным выдвижение четкой теоретической альтернативы прогрессу. «Что такое консерватизм? — вопрошал Голо Манн. — Этого я не знаю. Я не хочу это знать. Этого нельзя знать и не стоит знать»110. Один из композиторов — представителей «новой простоты», Ханс-Юрген фон Бозе, отвергая «связанное со структурированием понятие музыки 50-х и 60-х годов», в то же время считает принципиально неопределенным то, что взамен предлагают композиторы нового поколения: «Нет… никакой возможности делать теоретические заключения о новейших тенденциях в музыке». Музыковеды в растерянности: «Что же имеется в виду?… Инновация или реновация, обновление или возобновление?… Имеем мы дело с "новаторами" или "реакционерами“? 112.
Синонимом отказа от прогресса выступает модный сегодня как в работах по общесоциальной проблематике, так и в композиторских манифестах лозунг «назад к…!» Причем варианты хронологической конкретизации этого призыва весьма разнообразны: нижней границей здесь являются древневосточные империи, древние и средневековые кастовые общества — в политической мысли; в композиторской — древнейшие принципы музицирования, вроде повторения простейших попевок; верхней же границей у политологов — эпоха «свободного предпринимательства» или «классический» капитализм XVIII–XIX веков; у музыкантов — классическая тональность и выразительность романтической музыки.
Композитор Г. Вимбергер идеализирует ситуацию, сохранявшуюся еще в эпоху барокко, когда композитор был «ремесленником» и именно потому (выполняя определенные заказы) не терял связи с публикой, тогда как нынешние композиторы мыслят себя «художниками, сочиняющими не для своего окружения, но для всего человечества, и не столько для современности, сколько для будущего»113. Л. Купкович тоже зовет назад, но на не столь большое расстояние, а именно к эпохе широкого распространения открытых концертов (конец XVIII— начало XIX века), когда композиторов было меньше и их произведения свободно «соревновались» в концертном репертуаре, в то время как сегодня основным способом распространения музыки стало радио. Другие композиторские варианты пути «назад» охватывают едва ли не всю историю музыки: Штокхаузен зовет к синтезу фольклорных традиций, Рим — к «неделимой простоте архетипа», Дадельзен — к «матриархату тональности», Троян — назад, к разрушенному в 60-х годах «законченному произведению», к принципам репризности, экспрессивной мелодике и другим критериям классикоромантического стиля.
И идеологи, и композиторы выдвигают весьма «глобальные» аргументы против прогресса, причем в этих инвективах поступательному развитию также наблюдаются совпадающие мотивы.
Параллель 2-я: антропологическое, экологическое и этическое обоснование отказа от прогресса. Многие политологи-консерваторы утверждают, что консерватизм берет на себя роль защитника человека от грозящих его физическому складу и психике опасностей со стороны техники, прогресса.
«Консервативная политика… выполняет в конечном итоге функцию, обусловленную природой человека… Она выступает как природная сила… Консерватизм… создается… на базе открытого недоверия ко всем существующим планам переустройства мира, заявляя при этом о своем человеколюбии»114. В высказываниях идеологов постоянно подчеркивается антропологическая миссия консерватизма. И композиторы провозглашают: «В прошлое, назад к простодушному человеку!», к «регуманизации музыки!»115. «Новая простота есть аскетическая противоположность мусору индустриального общества… Новая простота тождественна искренности и любви к истине»116
Для идеологического консерватизма характерна «экологическая ностальгия». Зовущий к восстановлению кастового строя французский неоконсерватор Л. Дюмон выражает тоску по патриархальным временам, «когда воздух был чистым, реки и озера светлыми, быт пасторальным, а отношения между добрыми господами и верными слугами не омрачались попытками последних изменить существующий порядок»117.
У композиторов, выступающих против «авангарда — прогресса», также прослеживаются экологически-ностальгические мотивы. «Наивная вера ранних дармштадцев, — пишет Л. Купкович, — показывает нам, насколько бессмысленно впадать в транс предвидения блестящего будущего… В пределах человека все остается старым. Солнце и зеленая листва — это древнейшее; новое же — это небоскребы и машины, порча окружающей среды и "авангардистская" музыка»118.
Прокламируется возвращение к тональности как к утерянной авангардистами «природе музыки», как если бы, замечает О. Коллерич, у музыки была какая-то «первая природа», существующая независимо от человека119. Тональность пытаются представить некоторой изначальной «природной» данностью музыки120, забывая о том, что и сама тональность развивалась и что «общей» тональности никогда не существовало, не было «матриархата тональности»121, а были различные ладовые системы.
Наконец, отказ от прогресса оформляется и как этическая позиция. Развивая одну из своих антипрогрессистских идей — идею «пределов роста», — теоретики Римского клуба в конце 70-х годов от экологического и антропологического рассмотрения этих «пределов» переходят к этическому, выдвигая концепцию «внутренних пределов роста» человечества122. Однако призывы к созданию «новой глобальной этики» весьма абстрактны и не учитывают того научного вывода, который был обоснован еще К. Марксом: определенные отношения людей к природе вытекают из организации общественного производства и зависят от характера социального строя.
Такой же декларативностью и абстрактностью, таким же проповедническим пафосом отличаются и композиторские этические инвективы в адрес безудержного «роста» музыки, спровоцированного авангардистской тягой к новации. «Следует вообще исключить предикат "авангардистского" из мира музыки. Иоганн Себастьян Бах не был авангардистом, и не был им Вольфганг Амадей Моцарт. Мы должны насколько возможно опомниться; и если фактически развитие музыки должно состоять в увеличении музыкальности, то нужно ориентироваться на предикат более музыкального»|23. Однако что такое «более» или «менее музыкальное», никто из «антиавангардистов» не объясняет. Перед нами скорее проповедь, провозглашающая, что «музыка должна быть музыкой» (В. Рим), скорее заклинания, призывающие к «музыке» как спасению от прогрессирующего непонимания слушателями композиторов.
Антропологическое, экологическое и этическое обоснования отказа от прогресса сливаются в одной, весьма расплывчатой идее — идее «равновесия», «порядка» как противоположности крайностям «беспредельного» и «опасного» развития. М. Троян настаивает, что результат сочинения должен иметь законченную форму, с обязательной репризностью и тематическими взаимосвязями, позволяющими слушателю охватить ее в целом как завершенную структуру124. Троян полемически выступает против «открытой» и «вариабельной» формы, как дезориентирующей слушателя, который, руководствуясь своими привычками, слышит «произведение» даже там, где оно не имеется в виду. Предстоит, по Трояну, снова открыть произведение, как «эстетически новое»125.
Однако чрезвычайная идеологическая размытость как альтернатив «прогрессу», так и инвектив в его адрес сигнализирует об общей установке неоконсервативного сознания, которую следует назвать иррационалистической. Иррациональное мироощущение и обращение к религии характеризуют тонус как сегодняшних господствующих идеологических доктрин, так и композиторское самосознание. В 70-х и 80-х годах манифесты композиторов стали средством тиражирования идей богоискательства — идей, неотрывных от социально-философского и политического неоконсерватизма.
Параллель 3-я: иррационализм и религиозное отношение к миру. Современные консерваторы склонны, как замечает советский исследователь, «рассматривать все экономические и политические проблемы как морально-религиозные в своей основе»126.
Подобно политическим мыслителям и социологам-консерваторам, композиторы нередко видят в музыке род мистической деятельности. Особенно активны в этом отношении адепты так называемой медитативной музыки, примыкающей к направлению «новой простоты», в частности М. Келькель. По его мнению, музыка должна быть «молитвой сердца», возвышением духа «в мир абсолюта». Ориентация на практику восточной медитации подразумевает концентрацию внимания на повторении слов или звуков, а также на созерцании абстрактных смысловых образов. «Только посредством такого отношения звуковые и визуальные символы могут проникнуть в глубинные слои подсознания и пробудить покоящиеся там идеи»127.
Следует отметить, что религиозная ориентация (или же ее более широкое выражение — ритуально-мистическая, медитативная) прослеживается и в композиторских манифестах авангардистов 60-х годов. Концепция свободы как «иного» заставляла композиторов обращаться к разного рода мистическим учениям. Однако сегодня религиозная терминология и религиозные умонастроения в системе буржуазной идеологии выполняют другую функцию: не утопически-критическую, а стабилизирующую, консолидирующую. Религиозные мотивы в манифестах композиторов теперь звучат иначе, несут иные социальные обертоны, способствуют распространению неоконсервативных идей.
Надежды на «гуманизирующую» и «обновительскую» миссию религии входят в состав более широкого умонастроения, которое можно обозначить как усиливающееся сомнение в возможности рационального постижения и преобразования мира. Иррационализм становится позицией, которая настоятельно рекомендуется идеологами:
«Чем больше мы культивируем разум, — утверждал еще в 50-х годах ныне снова модный мыслитель Л. Страусс, — тем больше мы культивируем нигилизм и тем меньше мы способны быть лояльными членами общества»128. Анафеме предается рационально-аналитический подход к миру. По мнению Т. Роззака, следует возродить «старый гнозис», то есть — магию, первобытную фантазию129. Методология научного исследования должна быть заменена «новой наукой, которая будет относиться к объекту познания, как поэт относится к своей возлюбленной, — созерцать, а не анализировать, восхищаться, а не выпытывать тайны»130. Теория как таковая кажется опасным синонимом прогресса, и консерваторы-политики называют себя поверенными и защитниками жизни «от опасностей односторонней абстракции, теории и систематики» 131.
Будущее — за «целостным сознанием», в котором якобы будет «отсутствовать односторонность» и которое будет насквозь пропитано «гуманистическими ценностями»132.
Протест против рациональности, характерный для консервативных социальных доктрин, адаптируется в композиторских манифестах 70—80-х годов. Один из приверженцев «новой простоты» поясняет, что «тяга к новой душевности необходимо ведет за собой запрет на рационализацию»133. Композиторы, говоря о своей «новой простой» музыке, прокламируют наступление нового этапа «синтетического сознания», в отличие от господствовавшего ранее «аналитического». Теоретическое постижение, по Швайнитцу, означает «отчуждение души, запечатлевающее рационалистически-материалистический мир», и потому является ложным и недопустимым. Фон Дадельзен пишет о «целостном» композиторском сознании, которому противопоказаны систематизация и понятия, а Рим поясняет, что он сочиняет «не сверху» (то есть не рационально), а «снизу». «Музыка, — пишет Рим, обосновывая свой иррациональный идеал, — это глубоко анархичное искусство. А потому — искусство без понятий»134.
Если одним полюсом иррационалистических тенденций консервативных социальных доктрин является идея религиозного возрождения и новой мистики, а «центром» — протест против научной теории, то другим крылом современного политического консерватизма оказывается идея «эмоциональности», противопоставленной интеллекту. Однако имеется в виду не та ничем не ограниченная эмоциональность, которая выплескивала себя в поисках «новой чувственности» в 60-х годах. Речь идет о «нормальной», не «невротической» эмоциональности, то есть такой, которая характеризует в представлении консерваторов «идеального потребителя», не осложняющего себе жизнь лишними размышлениями. Это — эмоциональность не индивидуалистическая и не ритуально-коллективистская, а такая, которая «органически» формируется у человека — лояльного члена буржуазного общества, воспитывается системой «социальной взаимосвязанности, морального единства и преемственности во времени»135. Речь идет, таким образом, о традиционной буржуазной «эмоциональности» или о типичных реакциях буржуазного обыденного сознания.
Любопытно видеть, как все эти определения «нормальной» эмоциональности заново открывают для себя и композиторы, выдвигая (вслед за профессиональными буржуазными идеологами) идеал обывательски-беспроблемного переживания. Приверженцы «новой простоты» говорят о некой «душевности», «новой гражданственности», «чувствительности», «романтичности», и «понятности», «ясности». В. Рим пишет, что пора перейти от «дурно звучащей музыки к благозвучной»136. В. фон Швайнитц подчеркивает свое стремление «достичь эмоциональной наполненности абстрактного звучания и формы», словно повторяя положения школьной эстетики XIX века137.
О «понятности», «мелодичности», «красоте» в последние годы говорит и Штокхаузен, одновременно разрабатывая религиозную концепцию музыкального переживания. В комментариях к своей «мелодической композиции» 1972 года («По небу странствую, сопровождая птицу») композитор требует: «Певец должен лишь тогда исполнять эту музыку, когда он сможет совершенно идентифицировать себя с тем, что он поет. Кто не пережил в себе до конца "Странствую по небу, сопровождая птицу", и кто поет слова "вездесущие боги", испытывая внутреннее сомнение, и представляет себя стоящим среди певцов, когда поет "На месте, где сижу я, наблюдаю Тебя я духом" (…) — тот не должен исполнять эту музыку… Как певцы оживляют в себе внутренний, чисто духовный мир, так и внутренний взор должен видеть картину этой ритуальной сцены, действительно видеть. Лучше при этом закрыть глаза138.
Массовое «закрывание глаз» и является желанной целью для консерваторов с их инвективами в адрес прогресса, разума, науки.
* * *
Авангардистское композиторское самосознание в целом развивается по кругу и внутри круга, очерченного буржуазной идеологией. «История понятий», о которой говорят сегодня музыковеды как о важнейшей части развития авангардистской музыки, возвращает одни и те же штампы, в которых обнаруживается именно принадлежность к буржуазным «господствующим мыслям».
Маркс писал о буржуазной идеологии, что она не имеет истории, поскольку порождается одними и теми же общественными отношениями и состоит в идейном обосновании одного и того же классового интереса. Попавшее под «штампующий» механизм этой идеологии композиторское самосознание «авангарда», направления, казалось бы, сделавшего из собственной истории своего рода фетиш, тоже лишается исторического развития, замыкая по многим параметрам свой конец («антиавангард» 70—80-х годов) на свое начало (итальянский футуризм как «протоавангард»). Создается парадоксальное противоречие между композиторским «делом», ориентированным на «новое, еще более новое» и, наконец, в качестве «совершенно нового, нового из самого себя» (В. Рим) — на старое, традиционное, и композиторским «словом», все время возвращающимся то к одному, то к другому мировоззренческому штампу. Противоречие это указывает на то, что в своем «авангардном» самосознании композиторы, чьи манифесты образуют «историю понятий» (лучше же сказать — квазиисторию понятий), составляют арьергард в отряде распространителей буржуазной идеологии. Они — предводители «новых» движений — оказались в положении предводительствуемых. И даже кажется, что хронологически последние «предводительствуемые» — «лидеры» «новой простоты» — сознают и вполне спокойно оценивают свое двойственное положение, когда на вопрос, для кого они пишут, отвечают: «Для буржуазной публики»139.
Унифицирующая сила идеологической машины империалистического общества, навязывающей «господствующие мысли», проявляется также и в том, как манифестирует себя композиторское самосознание «авангарда». Композиторские манифесты поэтому выступают как документы унификации общественного сознания в рамках буржуазной идеологии.
Сложнее ситуация самого композиторского «дела», которое (хотя и воспринимается через не всегда прозрачную упаковку «слова» и часто «срастается» с этой упаковкой) все же многозначнее в своем «свидетельствующем» качестве. Композиторское «дело» свидетельствует о многообразных процессах в буржуазном обществе, дает отражение того социального кризиса, маскировку которого или выход из которого пытается найти буржуазная идеология.
Но отражает этот кризис авангардистская композиция своим специфическим образом, находясь внутри этого кризиса и «не видя» ничего, кроме него, — тем самым возводя его в ранг единственно возможной (а потому и оправданной) реальности. Картина мира, рисуемая «авангардом», поэтому также статична. Ведь те силы действительности, которые противостоят кризисным тенденциям, которые их преодолевают, открывая собой подлинную историческую перспективу, «вычеркнуты» музыкальным «авангардом» из нарисованной им самим картины мира.
Глава 2 «Авангард»: картина мира на «деле»
«Этикетка системы взглядов, — писал К. Маркс, — отличается от этикетки других товаров, между прочим, тем, что она обманывает не только покупателя, но часто и продавца»1. Идейные «этикетки» «авангарда» разных лет объективно служили распространению определенных, санкционированных пропагандистской модой мировоззренческих моделей и в то же время «обманывали» как слушателей, так и самих авторов в отношении реального смысла композиторского «дела». Мы отмечали, что призывы к новациям итальянских футуристов-музыкантов были гораздо радикальнее, чем новации в их музыкальном языке. Точно так же концепция «тотально-упорядоченной» музыки не согласовалась с реальным обликом самой музыки[6]. В 60-х годах, когда композиторская мысль выдвинула, в частности, идею «органичного единства» индивидов, народов и эпох, якобы достигаемого в «коллективной импровизации», «этикетка» опять не соответствовала реальному положению вещей: в коллективно импровизирующем «композиторском ансамбле» создавалась зависимость участников от лидера, в «симбиозе культур» доминировали методы электронной композиции («Гимны» Штокхаузена). Наконец, и в «новой простоте», прокламирующей «прогрессивный консерватизм», нет ни «простого», ни «нового»[7].
Да и само наименование «авангард» оказывается не соответствующим действительности: если в формальном смысле, имея в виду установку на эксперимент, об авангардистском движении можно говорить как о стремящемся «опередить» музыкальную историю, то в своем самосознании «авангард» не столько опережает историю, сколько следует за сдвигами в области буржуазной идеологии, основная цель которой, напротив, «удержать» историю на месте.
«Дело» «авангарда», уже постольку, поскольку оно во многих аспектах противоречит его «слову», в других же — выступает как иллюстрация «слова», оказывается сложнее, чем это последнее.
Замыслы композиторов «авангарда» объясняются ими самими в терминах какой-либо модной идеологической доктрины, но реальный смысл этих замыслов, раскрывающийся в процессе музицирования (или в тех или иных акциях, подменяющих музицирование) и на фоне музыки, создающейся сегодня за пределами авангардистских течений, не всегда тождествен замыслам.
Если замыслы, как мы видели, меняются в зависимости от идеологической моды, то музыкальный смысл композиторских нововведений относительно неизменен. Многие критики, ученые (в частности, известная польская исследовательница3. Лисса) определяют исходный пункт музыкального модернизма как самоцельную новацию4. Новация, нацеленная на «новое» как только и просто новое, не может быть чем-то иным, как только и просто отрицанием и деформацией старого[8]. Но музыкальный язык, естественно развивавшийся и развивающийся, — это не какой-то ничего не значащий сам по себе технологический «инвентарь», а развернутый комплекс смыслов, создающий определенную картину мира. Экстремистская деформация «старого» музыкального языка выступает как резкое нарушение ценностных соотношений в этой картине мира. То, что возникает в результате, является огрубленным (в силу экстремизма новации) воспроизведением реальных кризисных процессов буржуазного общества и сознания, свойственного определенным слоям этого общества. Частично же — средством закрепления на неявном уровне общественного сознания огрубленных, плакатно-однозначных представлений о современной кризисной ситуации как о, например, «фатальной», «необходимо-наступившей», «безысходной» и потому — словно бы оправданной. Композиции Кейджа или Нихауса, Кагеля или Штокхаузена выступают, таким образом, и как утрированные свидетельства общественного кризиса, и как неотъемлемая часть самого кризиса.
Музыкальный «авангард», если применить слова Г. В. Плеханова, сказанные им об «искусстве для искусства», рисует картину деформации буржуазных ценностей, «ничего не имея против буржуазного общественного устройства»6.
По этой причине искусство «авангарда» не только отражает некоторые агуманные тенденции современной капиталистической действительности, но и само, по своей сущности, агуманно. Здесь — критерий его отличия от иных художественных направлений современной западной творческой практики, стремящихся противопоставить отображаемому кризису подлинные человеческие ценности, пусть не всегда связанные с отчетливой социальной и политической позицией.
Анализируя «дело» «авангарда», необходимо отдавать себе отчет в том, что на Западе продолжала и продолжает жить прогрессивная музыкальная культура, в которой «города не стерты с лица земли», в которой сохраняется органическая связь с традицией, а новация не является самоцелью. Музыкальная культура, представленная, например, именами К. Орфа, Б. Бриттена, К. Чавеса, С. Барбера и других. Именно на фоне этой культуры, нередко замалчиваемой западной музыкальной публицистикой, которая ориентирована главным образом на «авангард»[9], идейная позиция последнего обретает свое подлинное значение: деструкция не просто традиционной, но вообще — гуманистической картины мира.
Музыкальный материал: за пределами звука, за пределами шума, за пределами…
Л. Руссоло, звавший за пределы звука как устаревшего наследия «примитивных рас», осуществил едва ли не первый опыт «классификации» шумов, из которых предполагалось составить «футуристический оркестр». Приведем эту примечательную в свете последующего развития «авангарда» классификацию:
первая группа: грохот, рев, взрыв, шум обвала, плеск, гул;
вторая группа: свист, шипенье, пыхтенье; третья группа: шёпот, ворчанье, бормотанье, ропот, бульканье;
четвертая группа: крик, скрип, шелест, жужжанье, треск, скобление;
пятая группа: шумы, производимые ударами по металлу, дереву, коже, камню, глине и т. д.;
шестая группа: голоса животных и людей (крик, визг, стон, вой, плач, смех, сопенье, всхлипывание)8.
Акустические явления, связанные с физической реальностью, оказываются у Руссоло на первом месте. Человеческие же звуки (вместе с животными!) ассоциируются скорее с реакциями организма на нечто чуждое и опасное (крик, визг, стон, вой, плач…). Тот звуковой материал, который как основу искусства предлагает Руссоло и который практически вводился композиторами-футуристами в их сочинения (правда, не в такой радикальной пропорции, какая предложена в трактате «Искусство шумов»), по своей ассоциативной нагрузке противоположен представлению, связанному с традиционым ориентиром на музыкальное «благозвучие».
Это музыкальное «благозвучие» явилось историческим результатом длительного процесса «очеловечивания» звука. «Перестройка умственной и эмоциональной "культуры человека" бурной эпохой Возрождения привела к новому качеству и строю интонаций, насытила их силой и яркостью небывалых жизнеощущений. (…) Не следствием исканий внутри самой музыки, в ее технике и стиле, а следствием революции интонации, ставшей в пении-дыхании независимым искусством-отражением обогащенной психики, было рождение вскоре завоевавшей весь мир итальянской новой музыкальной практики, душой которой была мелодия. Можно сказать, что до этого музыка была ритмо-интонацией, высказыванием, произношением; теперь она стала петь, дыхание стало ее первоосновой», — писал Б. В. Асафьев9.
Вокальный звук Нового времени был результатом не просто человеческого дыхания, но дыхания культивированного, особым образом обработанного, которое опирается на физиологические закономерности организма, но не сводится к ним. В этом звуке дан образ человека не просто естественного (в смысле природной грубости), но человека, по-человечески естественно раскрывающегося в культурной среде. Культивированное дыхание — это дыхание-дух; это человеческая органика-культура, это знак пройденной человеком истории.
Сформировавшийся идеал «вокального», «дышащего» звука в разные стилистические периоды музыки и в разных регионах европейского музыкального профессионализма конкретно претворялся в тех или иных излюбленных тембрах. Примеры — господство духовых инструментов в XVI столетии10, органа и хорового звучания — в Северной и Средней Европе в XVII веке11, струнных и вокальной культуры — в XVIII веке, духовых тембров в оркестре вагнеровского типа12. Однако все эти разнообразные проявления идеала «очеловеченного» звука в равной степени воплощают в себе непосредственную выраженность в звуке человеческого психофизиологического состояния, когда звук — словно органическое продолжение музицирующего инструменталиста или певца, сложную культивированность звука, требующую от музыканта специальной техники.
Шум с его хаотической «иррегулярностью» прежде всего снимает такое определение исторически сформировавшегося звукового идеала, как культивированность. В «футуристическом оркестре» преобладают шумы, вообще не связанные с дыханием, — удары по металлу или гром обвала не только «иррегулярны», но и «бездыханны», противоположны всякой органике. Введение их в качестве основного музыкального материала отрицает образ человека в его органическом бытии.
Итак, с одной стороны — дикая, «иррегулярная», некультивированно-хаотическая «физика» человеческих (животных) звуков, с другой — звуковой образ неорганического и неживого вообще, в частности современной техники. Это новые центры дегуманизированной картины мира. Ее эскиз дан в футуристском «протоавангарде» и дорисовывается авангардистами более близких к нам десятилетий.
В пуантилистическом сериализме начала 50-х годов продолжается отрыв звука от естественной дыхательной основы. Звук распадается на части: его длительность принадлежит одному «ряду», высотность — другому, тембр — третьему и т. д. Между тем раньше единство этих параметров было результатом целостного эмоционального и идейного импульса. Человек в пуантилистическом сочинении предстает «атомизированным», раздробленным: не как организм, а скорее как конгломерат материальных структур.
В «Контра-Пунктах» Штокхаузена (1953) для флейты, кларнета, бас-кларнета, фагота, трубы, литавр, фортепиано, арфы, скрипки, виолончели «каждый тон отделен от другого разделительно-структурной паузой»13, что не позволяет каждому отдельному инструменту сколько-нибудь выявиться. Каждый голос в каждый отдельный момент оказывается лишь «атомом» очередного тембрового элемента, а каждое тембровое сочетание — мозаикой потерявших связь с органично-человеческим наполнением звука «осколков» высотности, громкости, длительности. Из этих мозаичных пятен композитор и создает «рациональную звуковую структуру». Слух, следящий за сменой тембровых пятен и перетасовкой звуковых атомов, может воспринимать тонкость тембровых сочетаний, но неизбежно воспринимает при этом и деструкцию естественного человеческого дыхания. Рациональность же целого становится как бы продуктом синтетического, искусственного интеллекта, выведенного за пределы живого и чувствующего человека.
В «Контра-Пунктах» уже обозначены два противоположных, но в равной степени дегуманизированных «пункта» картины мира: неживая физическая материя на месте дышащего человека и неживой интеллект на месте человека-духа. Эти «контра-пункты» картины мира предстают как продукты распада органичной, целостной человеческой индивидуальности.
Позднее авангардисты отказываются от традиционных музыкальных инструментов, переходя к экспериментам с электронным звуком. Электронный звук выступает как искусственный продукт, синтезированный из «элементарных частиц» (синусоидальных тонов). Его существование (например, длительность, динамика) никак не связано с естественными акустическими возможностями человеческого голоса, которые воплощал «очеловеченный» инструментализм. Электронный звук, например, может длиться сколько угодно, так что окончательно теряются всякие ассоциативные связи с человеческим дыханием. Он не только продукт синтезатора, но и сам — синтетический заменитель естественного звука, и как такой синтезируемый и синтетический феномен может иметь любые запрограммированные композитором свойства, в том числе и выходящие за пределы возможностей естественного слухового восприятия.
Один из композиторов электроной музыки — Г. М. Кёниг предлагал в качестве музыкального материала электронный нестационарный («nichtstationaren») звук. С точки зрения Кёнига, традиционная инструментальная музыка, как и многие электронные произведения, «работает» со звучаниями, которые следует назвать «окаменевшими»: каждый звук имеет определенную высотность, и на этой основе становятся возможными контрапункт или гармония, то есть четкая связь между звуками с определенной высотной позицией. Однако, с точки зрения композитора, «историческое развитие музыкального материала, как и музыкального языка, направлено к отказу от этих окаменелостей (…) Техническим средством для этого являются электронные источники звука. В студии становится возможным достичь непрерывного звучания, которое следует за движением музыкальных мыслей, не разлагая их на "кирпичики" (…) Таким образом, возникают не "звучания", а "звучание". "Движение" этого звучания (движение по всем параметрам) должно следовать композиторским представлениям (…) Такая музыка уже не является "играемой", и едва ли монтируемой в студии. Считать условием такого движения скорее следует особую программу для компьютера, который будет сам производить звук»14.
Кёниг предлагает уничтожить определенность высотного положения звука, а тем самым — и основу различения между одним звуком и другим. Отсутствие такого различения превращает музыку в единственный «звук», в некоторое размытое звуковое «пятно», в котором происходят нефиксируемые слухом микроизменения. Этот звуковой «гул» уже мало чем отличается от шума.
Кёниг считает, что «нестационарный звук» наилучшим образом способен следовать за «движением мыслей, не разлагая их на кирпичики». Однако мысль человека всегда так или иначе артикулирована; бесструктурны лишь процессы бессознательной психической активности. «Нестационарный звук» поэтому скорее можно воспринять как иероглиф «потока бессознательного».
Итак, «дух» сводится к бессознательному, «дыхание» — к стихийной звуковой иррегулярности, но средством воссоздания того и другого становится компьютер. Человек моделируется в компьютерном «непозиционном» звуке как существо стихийно-бессознательное, а разум — как только лишь принадлежность компьютера, который закрепляет в человеке эту погруженность в бессознательное. Вновь обозначаются контуры «бицентрированного» мира, в котором человек распался на подчиненное физическое тело и подчиняющую «аппаратную» мысль.
В этом изменении звукового материала музыки можно видеть, согласно 3. Боррису, «вслушивание в мир науки и техники»15. Эта интерпретация достаточно поверхностна. Поскольку «мир науки и техники» предстает в виде самоценной и подавляющей сферы, то происходит «вслушивание» не просто в него, а в принципиально дегуманизированный, исключающий самоценность человека мир. Можно привести примеры из авангардистской практики, как бы «плакатно» свидетельствующие о выпадении человеческой индивидуальности из новой «картины мира».
Композитор Р. Либерман, словно следуя призывам Руссоло, звавшего «молодых композиторов упорядочивать, настраивать шумы»16, осуществил на выставке Экспо-62 в Лозанне проект «Les Echanges». В этом опусе, как замечают исследователи, «технологическая тема совпала с выполнением»17. «Произведение» состояло в том, что 156 машин, представленных в одном из разделов выставки, работали и производили шумы. Деятельность этого «оркестра» контролировалась с электронного пульта, откуда подавались «команды», определявшие виды операций, скорость работы, движения и, соответственно, шумовую продукцию той или иной машины. Композитор, как свидетельствует автокомментарий, ставил перед собой задачу «музыкально интерпретировать машины», «одухотворить» их18. Однако на деле слушатель, оказавшийся в окружении самостоятельно работающих машин, в шуме которых можно лишь угадывать некоторую координированность, оказывался словно в центре планомерно осуществляемой акустической агрессии.
Несколько лет спустя после опыта Либермана на индустриальной выставке в Ганновере демонстрировались «Звукомобили» («Klangmobile»), сделанные Г. Беккером из железа19. Их самостоятельное движение визуально подчеркивало агрессию «нечеловеческого» звуко-шума, создавая образ отчужденного от человека, превратившегося в механизм и ставшего автономным разума.
Концепция «подавления» человеческой органики выражается, в частности, и в хэппенинге. Показательно сочинение М. Кагеля для пяти исполнителей с симптоматичным названием «Звук» (1968). Замысел этого хэппенинга состоит в показе постепенного распада и «смерти» традиционного музыкального звука. Пьеса начинается в духе обычного концертного музицирования. Дается точка отсчета: традиционный «дышащий» инструментализм с его экспрессивной наполненностью звучания, с исполнителем, который делает инструмент как бы частью самого себя, своего эмоционального и физического состояния. Однако вскоре нормальное развитие музыки нарушается: теперь исполнители уже не столько играют на инструментах, сколько жестикулируют, используя инструменты, отчего те издают случайные шумы и как бы превращаются в независимые от человека предметы. Музицирование перерождается в абсурдистское действие, в котором традиционные инструменты, ставшие лишь источниками случайных шумов, постепенно отодвигаются на второй план. Наконец в дело подключаются и специальные источники шума вроде «камеры грохота» (модернизированной трещотки — объема, наполненного дробью) и «многих ветеранов из первовремен брюитизма»20. Этот угрожающе хаотический наплыв шумов окончательно вытесняет традиционный звук, заявленный в начале сочинения, и как бы «убивает» его. Во всяком случае, о «Звуке» Кагеля его апологет Д. Шнебель пишет как о «Траурной музыке», в которой «акустические сумерки» освещены «усмешкой»21.
Концепция «Звука» Кагеля — образ катастрофического движения от очеловеченного звучания к механическому шуму. Однако рисуемые Кагелем «сумерки» целой культуры — лишь повод для проявления эстетского «черного юмора», позиции, с которой удобно и даже забавно наблюдать «тотально расторгнутую культуру» (слова Кагеля)22. «Этика» Кагеля-композитора дает недвусмысленный содержательный эффект, при этом не менее значимый, чем показанная Кагелем гибель традиционного звука. После этой гибели на картине мира вновь остаются два центра: мертвая физическая материя (шумы) и усмехающийся «дух».
«Разложенный» звук сериальной музыки, окончательно лишенный связи с органикой человеческой интонации электронный звук, механический шум — еще не предел авангардистских поисков. В «Water Music Berlin» (1977) М. Нихауса два помещенных под водой громкоговорителя транслируют музыку. Слушатель должен плавать на спине, немного опуская уши под воду. Когда пловец надолго останавливается на одном месте, то ему слышны два непрерывных звука, составляющие нечистую октаву. Сам композитор считает, что он достиг «новой формы» музыки: «Звучание непрерывно, ситуация восприятия снаружи спокойна и медитативна (…) Посетитель может прийти и уйти, когда захочет»23. Смысл опуса Нихауса, однако, противоположен его замысловатой форме. Гул фальшивой октавы в воде, то есть собственно музыкальный материал, поражает своей примитивностью, рисуя на картине мира образ неорганичной, недышащей и бездуховной материи. Плаванье слушателя здесь тоже выступает как многозначительный штрих. Перед нами прямая реализация романтической метафоры: у Нихауса слушатель буквально физически «погружается» в «музыку». Однако если романтическое сознание «погружалось» в музыку ради ее художественной экспрессии и красоты, то слушатель Нихауса лезет в воду ради фальшивой октавы, издаваемой громкоговорителями. И если традиционное «погружение» в музыку приносило глубочайшие эстетические переживания, то слушатель Нихауса «спокойно и медитативно», «приходя и уходя, когда захочет», прислушивается к ничего не говорящему гулу пучины, «настроенному» на фальшивый интервал композитором. «Водная музыка» Нихауса — выход за пределы и звука, и шума — в новую среду, где вообще не живут люди. И с этой средой человеческого несуществования предлагается свыкнуться слушателю, «погружающему уши под поверхность воды».
Впрочем, у Нихауса еще остается какое-то звучание, хотя и «утонувшее» в среде, традиционно ассоциирующейся с «немотой».
Логически последним шагом по пути, обоснованному Руссоло (который звал за пределы звука), будет выход за пределы акустических явлений вообще, к «дематериализации» музыки. «Классическим» (по меньшей мере, по своей хрестоматийности) примером такого рода является «пьеса» Кейджа 4'33" (1952). Вот описание ее исполнения на Баховских днях в Западном Берлине в 1977 году. «Музыканты, образующие состав барочной трио-сонаты (флейта, скрипка, виолончель, фортепиано), появились на подиуме. Сообразно роду играемой в трио-сонате партии, каждый музыкант соответствующими жестами обозначал "образ" трех частей в различных темпах. После этой безмолвной рефлексии, длившейся 4 минуты 33 секунды, музыканты ушли с эстрады»24.
Замысел Кейджа объясняют по-разному: «изоляция музыканта от музыки»25, «структурирование пустоты»26, «создание антимузыки»27. Подобные объяснения лишь частично учитывают результативный смысл акции, создающийся в сознании публики на фоне традиционного звукового идеала — в целом господствующего, например на Баховских днях, в рамках которых исполнялась 4'33" в 1977 году.
Кейдж оставляет от музыки лишь воспоминание о форме (трехчастность, символически обозначенная жестами исполнителей). Музыкального материала, из которого строится форма, в самом опусе нет, хотя о нем не может не вспомнить слушатель. Однако это «воспоминание о материале» — уже сугубо слушательское воспоминание, которое автор вызывает лишь негативно, ибо в сознании слушателя возникает картина звука как «прошлого», несуществующего явления.
Как видно из приведенных примеров, выход за пределы звука — пределы шума — в тишину (ставшую «музыкальным материалом») «звучит» для слуха, сформированного идеалом «очеловеченного звука», как выход за пределы человеческого существования и человеческой истории. За пределами истории располагается «бицентрированный» мир. Его два полюса: «грубая» физическая (акустическая) материя и «равнодушный» техницистский разум (абстрактная звуковая структура).
Этот разорванный на противостоящие полюса мир парадоксальным образом возвращает к оппозициям средневекового сознания: «земля — небо», «тело — душа»[10]. По Марксу, выразившееся в этих оппозициях религиозное самоотчуждение было свидетельством «саморазорванности и самопротиворечивости… земной основы». Современная «саморазорванность» человеческих отношений в западной действительности находит свое отражение в авангардистской картине мира. Но эта «саморазорванность» иная и более радикальная, чем в обществе средневековом.
Она реализуется в таких явлениях социальной жизни, как «экологическая эксплуатация» (весьма примечательная тенденция последних десятилетий в развитых капиталистических странах — возможность дышать, сохранять здоровье — прямо обусловливается покупательной способностью[11]); новый уровень интенсификации производства, когда человеческий организм вступает в опасное соревнование с механическим ритмом машин и аппаратов; обезличивающие, лишающие человека его собственного «голоса» воздействия индустрии рекламы, пропаганды и других рычагов капиталистической манипуляции потреблением и сознанием.
Кризис капиталистических отношений, представленный, в частности, и как радикальный разрыв между человеком и его «неорганическим телом» — природой (К. Маркс), между человеком и его отчужденным «духом» (миром овеществленного сознания — техники), осознается «авангардом» в мистифицированном виде, близком к средневековой картине мира. Но если в средневековье оппозиции «тело — дух», «земля — небо» были проникнуты драматизмом и даже трагизмом (идея напряженного стремления «вверх» как иллюзорный способ обретения человеческой целостности, преодоления «саморазорванности земной основы»)[12], то в «неорелигиозной» авангардистской картине «бицентрированного» мира драматический поиск связи между «физическим телом» и «компьютерным духом» отсутствует. Ситуация подается или констатирующе, или даже как нечто позитивное (Нихаус), иногда с равнодушной дистанции «юмора» (Кагель, Кейдж).
Средневековое сознание своим напряженным поиском человеческой цельности все же утверждало некий идеал: религия «претворяет в фантастическую действительность человеческую сущность, потому что человеческая сущность не обладает истинной действительностью»32. Авангардистское «адраматическое» воспроизведение средневековой «бицентрированности» опирается, напротив, на отсутствие какого-либо идеала. В этом как раз и кроется авангардистская «ложь». Общество подается одномерно-фаталистически; его членам, если они поверили авангардистской интерпретации кризиса, не на кого надеяться и остается принять все как есть, забыть о борьбе.
Авангардистская картина мира — уже не протест против убожества реального мира, а только выражение этого убожества. Выражение, которое и в своей бессильной констатации существующих общественных противоречий, и в своей «юмористической» дистанцированности от них назойливо подчеркивает, что из этих противоречий выхода уже нет. Так, свидетельствуя об общественном кризисе, авангардистская картина мира утверждает и укрепляет этот кризис, полностью исключая представление о преодолении этих противоречий в ходе организованной борьбы прогрессивных сил против империализма.
Музыкальная форма: структурированная статика и бесструктурная активность
Структура художественных произведений сформирована традицией так, что в ней воплощены основные характеристики человеческой деятельности, в первую очередь — процессуальное единство необходимости, воплощенной в законах обрабатываемого материала, и свободы — целей, поставленных себе человеком и воплощаемых в обрабатываемом материале33. Созданный человеком предмет всегда целесообразен, «разумен», хотя одновременно не теряет своих объективных свойств.
И художник, обрабатывая материал, также воплощает свою цель. В неприкладном искусстве такой целью является идейная концепция, которая, подчиняя все детали произведения (и, следовательно, все этапы «обработки» материала), скрепляет эти детали и этот материал в художественном целом. Художественная целостность становится специфическим преломлением принципа целесообразности человеческой деятельности34. При этом ясно, что, воплощая художественную идею, музыкант, литератор или живописец не могут не учитывать объективных закономерностей своего материала (слова, звука, цвета) и его восприятия. Напротив, они используют эти закономерности, чтобы донести до сознания читателей, слушателей, зрителей концепцию произведения. Советский эстетик пишет: «Свобода художника согласуется с природой материала так, что природа материала становится свободной, а свобода художника непроизвольной»35.
В человеческой деятельности нет свободы без необходимости, и наоборот. Разрыв этой диалектической связи означал бы либо спонтанную активность, не приводящую ни к какому результату, либо отсутствие всякой активности вообще. Ситуацию, которую как раз в своих концепциях музыкальной формы «авангард» и пытается смоделировать.
«Свобода без необходимости» воплощается, например, в хэппенинге, коллективной импровизации, реагирующей на стихию шумов (типа «Kurzwellen» Штокхаузена), сольной интуитивистской импровизации по словесным «партитурам» (типа штокхаузеновского цикла «Из семи дней»). «Необходимость без свободы» — в сериальных сочинениях, в пьесах-акциях молчания (крайний пример — 4'33" Кейджа) или в акциях с жестко предусмотренными условиями типа «Water Music Berlin» Нихауса, а также в репетитивной и медитативной музыке. Различие между обоими типами форм, однако, относительно. И те, и другие не являются подлинной художественной целостностью. И те, и другие отрицают диалектику человеческой деятельности, заменяя ее структурированной статикой либо бесструктурной активностью. И те, и другие внушают пессимизм в отношении деятельных возможностей человека.
В этих формах отражаются некоторые тенденции буржуазного отчуждения, когда расторгнуты цель труда (капиталистическое накопление) и процесс труда. Одновременно искажается и представление об этой действительности: рисуется фатальная невозможность воссоединить цель и процесс деятельности, невозможность, которая якобы является неотъемлемым признаком «человека», «цивилизации» вообще.
Форма как структурированная статика впервые была представлена в сериальных сочинениях. «Klavierstiick — I» Штокхаузена (1952) написан в технике так называемого «сериализма групп». В отличие от пуантилистического сериализма, где звуковой процесс разлагается на отдельные звуковые точки, изолированно покоящиеся в пространстве пауз, здесь форма дробится на изолированные группы звуков. Каждая группа отделяется от другой переменой размера. В семи начальных тактах «Klavierstiick — I» излагается шесть таких групп.
Первая группа — стремительное скачкообразное движение вверх. Вторая — такое же движение вниз, начинающееся с выдержанного двузвучия в верхнем регистре. Третья группа представляет собой выдержанное двузвучие в среднем регистре. Четвертая — расходящееся движение скачками вверх и вниз соответственно в партиях правой и левой руки. Пятая группа характеризуется скачками сначала вверх, затем вниз — в правой и левой руке на фоне выдержанного двузвучия в низком регистре. В шестой группе выдержанное двузвучие помещено в средний регистр, и на его фоне звучит противодвижение вверх и вниз, напоминающее четвертую группу. Противодвижение заканчивается двузвучными остановками вверху и внизу. Таким образом, в начальных тактах — в «экспозиции» групп — перетасованы три логически возможных типа движения: вверх, вниз, на месте:
Эта логическая мозаика из компонентов механического перемещения противоположна развитию как диалектическому процессу. Вместо развития-роста — сборка-суммирование, «составленность» формы (по терминологии Б. В. Асафьева) 36.
«Эффект "превращения" неживого в одушевленное, механического в органическое — главный источник эстетического наслаждения, доставляемого искусством, и предпосылка его человечности»37. У Штокхаузена — обратный эффект: органическое развитие, живущее в слушательском сознании как традиционный критерий музыкальной формы, превращается в механическое «составление». Процесс «составления» закончен, парадоксальным образом, еще до своего начала — в наличествующих деталях, которые остается только сложить вместе. Поэтому музыкальная форма, хотя и завершена, но по существу апроцессуальна. Такого рода «завершенность», возникающая в результате механического суммирования исходных компонентов, может допускать внутри себя любые перестановки фрагментов. Так композиторы-сериалисты постепенно приходят к идее «вариабельной формы», символизирующей свободную, но при этом не вполне необходимую деятельность.
Типичные примеры «вариабельной формы» — «Цикл для ударных» и «Klavierstiick — XI» Штокхаузена. Исполнителю предлагается несколько звуковых фрагментов, и он волен выбирать, с какого начинать, каким продолжать и к какому приходить. Композиторская работа свелась к устранению связи между фрагментами сочинения: на нелинованном листе партитуры «островками» представлены нотные «детали» (Штокхаузен, «Цикл для ударных»). Поскольку исполнитель может начинать «сборку» с любой детали, то ясно обнаруживается композиторская задача: лишить процесс музицирования цели, расторгнуть деятельность исполнителя на изолированные, самодовлеющие операции. В «вариабельной форме» фрагменты, из которых исполнитель составляет произведение, разные и сочетание их в нескольких версиях опуса будет неодинаковым. Однако это лишь внешнее и обманчивое разнообразие. Отсутствие целенаправленного развития делает эти фрагменты, в принципе, идентичными, художественно не дифференцированными. Поэтому то или иное их сочетание будет по существу повторением одного и того же.
Отсюда — лишь шаг до «репетитивной музыки», в которой принцип повторения обозначен в самом наименовании. Наиболее известные авторы репетитивной музыки, зародившейся в 60-х годах в США — Терри Райли, Фил Гласс, Стив Рейч.
«Лучшая музыка, — пишет Гласс, — существует совершенно, целостно, интегрально. Она не имеет ни начала, ни конца»38. Концепция репетитивной формы выступает как отрицание целенаправленного музыкального развития. Это подмечают музыковеды: «В качестве чистой и простой репетиции, высказывания, не дифференцированного на функции и потому лишенного прошлого и будущего, эта музыка с ее внутренней равнозначностью и ее неподвижностью есть отказ от органичной целостности традиционного музыкального произведения»39.
Основное качество музыкального процесса, основанного на неуклонном повторении простой мелодической ячейки, нескольких ячеек, соединенных вместе или наслаивающемся повторении нескольких мелодических фигур — внутренняя стабильность, которая возникает из «безымпульсного» движения. По словам С. Рейча, восприятие такой музыки «соответствует наблюдению за малой часовой стрелкой»40. Таким образом, репетитивная музыка отказывается от того, чтобы нечто «сообщать», — она просто «есть», как «есть» время, незаполненное человеческой деятельностью, как «есть» окружающие человека, но не втянутые в его социальную практику и потому отчужденные от него объекты холодной и «равнодушной» природы.
«Классическим» опусом репетитивной музыки считается «In С» Терри Райли (1964). Автор предписал исполнителям 53 коротких мелодических фрагмента с центрами «до», «ми», «соль». Постоянно звучит записанный на пленку «пульс» — форшлаг «до — ми».
На повторение этого форшлага наслаивается повторение следующих «мотивов»: первый исполнитель до 50 раз повторяет «пульс» (который затем остается звучать на пленке) и переходит ко второму фрагменту «ми — фа — ми», повторяя и его не менее 50 раз. Тем временем второй исполнитель повторяет на своем инструменте первый фрагмент («пульс»), также не менее 50 раз, а если интуиция требует, то и больше. Затем второй исполнитель переходит ко второму сегменту, в то время как первый исполнитель может уже перейти к следующему (тоже «ми — фа — ми», но в другом ритме), а третий исполнитель начинает повторять «пульс» и т. д. В результате «мотивы» сливаются друг с другом, четко различается лишь «пульс» и мерно колеблющаяся диатоническая звуковая масса. В версии, записанной ансамблем из 11 человек под руководством тромбониста Стюарта Демпстера с участием Райли, пьеса длится 43 минуты, но может исполняться и дольше — 90 минут41.
Сходным образом построены репетитивные композиции Гласса, например «Music in 12 parts» (1971–1974). В этом опусе создана оппозиция между пульсирующим звуковым полем и наслаивающимися на него фрагментами, которые различаются между собой количеством звуков, ритмической структурой 42. Репетитивные произведения похожи друг на друга как повторения одного и того же «мотива» в каком-нибудь из них. Различаются репетитивные сочинения конкретной звуковой структурой исходных моделей и способом исполнения («живой» ансамбль, монтаж магнитофонных записей, сочетание «живого», электронного и магнитофонного источников звука).
Во многом связана с репетитивной музыкой новейшая «медитативная» композиция. Опорным техническим приемом медитативной музыки также является повторение. Помимо этого в медитативной музыке используется стилизация импровизационного музицирования. У Петера Михаэля Хамеля в произведениях «Dharana», «Samma Samadhi», «Integrale Musik», «Ananda» стилизованы, например, индонезийский гамелан, тибетская культовая музыка. В «Hesse between music» Хамель стилизует средневековые европейские церковные лады, хоралы эпохи барокко. Все эти символы переплетаются с современными электронными звучаниями. М. Келькель отмечает близость медитативных сочинений Хамеля идеям Штокхаузена о «симбиотической композиции»43. Перед нами, действительно, симбиоз — однако не в том смысле «непротиворечивого единства культур», какой хотел бы придать этому биологическому термину Штокхаузен. Симбиотическая композиция словно видит перед собой собрание музыкальных фрагментов, написанных анонимными коллективами, принадлежащих разным эпохам и расположенных на нелинованном листе истории так, как перед исполнителем вариабельной композиции располагались фрагменты «Цикла для ударных» Штокхаузена или его же «Klavierstiick — XI». И в симбиотической музыке происходит такой же произвольный выбор любого «фрагмента» для начала, продолжения или завершения, какой происходил при исполнении вариабельной композиции. Но только взгляд блуждает не по листу партитуры с разбросанными на нем «островками» специально сочиненных нотных фрагментов, а по целой панораме музыкальных культур. И подобно тому как автор вариабельной композиции представлял исполнителю звуковые фрагменты, связь между которыми принципиально расторгнута, так и композиторы «симбиотических» открытых форм интерпретируют историю, из которой они черпают музыкальный материал, как собрание изолированных фрагментов, принципиально бессвязное и бесцельное.
Создается картина недвижущейся, застывшей истории, в которой отсутствуют какие-либо причинно-следственные связи.
Для «Klangenvironments» (что приблизительно означает «окружающая звуковая среда») также характерен «тотальный отказ от принципа причинности»44. «Музыка окружающей среды» — это такие процессы, которые лишены направления и цели, начала и конца, фрагментарны, открыты для любого случайного материала, нерепродуцируемы, всегда оставаясь в рамках настоящего «здесь и теперь». Понятие «опуса» в этом авангардистском «жанре» означает не отдельный художественный процесс, а возможный ряд их, в который выстраиваются «Environments» того или иного композитора. Дитер Шнебель помечает «продолжающийся» опус «Maulwerke» (можно перевести как «Болтовня») «1968—…», а серию «Schulmusik» — «1973 —…». «Опусом» становится и объединение нескольких процессов, «авторами» которых являются различные композиторы. Известна «пьеса» «Duo» (1970), состоящая из объединения двух «процессов», авторами которых были М. Кагель и Й. А. Ридль. Точно так же «Звуко-Свето-Запахо-Игра» Ридля (1975) исполнялась в сочетании с пьесами Кейджа, Вольфа, Хамеля и самого Ридля45.
Таким образом, сущность «Klangenvironments»— возведение принципа случайности в абсолют. «Музыка окружающей среды» впускает в себя любые другие «опусы», а также вообще любой материал. Помимо звуков или шумов, или же хэппенингов — проекцию диапозитивов, изображающих виды природы, всевозможные схемы из биологии или физики, кристаллографические изображения, абстрактную графику, геометрические структуры, начерченные компьютером и т. д. «Материалом» «Кlаn-genvironments» могут быть фрагменты действительности (движущиеся поезда у Кейджа), сама публика, переходящая в «Звуко-Свето-Запахо-Игре» Ридля с места на место и тем самым случайностно перестраивающая «музыку» окружающей среды. Абсолютная свобода деятельности в «Klangenvironments» приводит к абсолютной иллюзорности этой деятельности. Движущиеся музыкальные поезда из опуса «В поисках утраченной тишины» Кейджа совершенно автономны от автора, как автономен тот ландшафт, среди которого катится шумозвуковая мешанина «музыкальных вагонов». Человек, выступающий в этих сочинениях, иллюзорно может все, а на деле — ничего. Он полностью беспомощен перед лицом окружающего, которое «как хочет» вторгается в его «дело», ломая и перекраивая его ежеминутно. Человек в «Klangenvironments» решительно «освобожден» от остатков человеческой свободы, а историческое время как время становления человеческой свободы полностью упразднено.
Не случайно композиторов, работающих в этом «жанре», притягивает такой звуко-шумовой и визуальный материал, который не связан с миром «очеловеченных» предметов, с миром истории и культуры. В этой связи говорят даже об «экологической музыке»46. Подразумевается, однако, не движение в защиту окружающей среды, которое является сегодня на Западе заметной формой социального протеста против хищнического отношения власть имущих к природе. Нет, в авангардистских «Klangenvironments» «экологизм» присутствует вне проблемы человека, безотносительно к драматизму современной экологической ситуации в капиталистических странах. «Природа» дана у авангардистов в качестве простой «замены» социуму, а не в сложном соотношении с ним. Поэтому основное настроение «экологических» «KJangenvironments» отнюдь не драматическое, а, напротив, «радостное»47.
Симптоматичен пример опуса Й. А. Ридля «Sila-Silaspihr», который называют «конгломератом нескольких композиций, вдохновленных природой»48. Некоторые «композиции» заимствованы, как, например, «Mix Fontana Mix» — из Кейджа («Fontana Mix»). Другие названы «растительными» именами: «Douce-Amere», «Rhipsalis», «Rhipsalis-Silphium», «Epiphyt», «Salvia pratensis». Bo время исполнения эти композиции одновременно звучат в разных концах зала, слушатель же может переходить с места на место. Одновременно на стены проецируются изображения камней, камышей, раковин, воды, облаков, также — гистограммы, кристаллографические изображения, геометрические структуры, начертанные вручную или компьютером. Затем на диапозитивы наслаивается проекция фильмов, в которых в движении предстают море, растения, процесс автоматического черчения и т. д., а на киноизображение — проекция новых диапозитивов на те же темы49. Все это, по Ридлю, должно выражать «радость от утери разделения между природой и искусством»50.
За сопоставлением «природа и искусство» традиция утвердила смысловую оппозицию «стихийность — рациональность». Таким образом, Ридль «радуется» снятию этой традиционной оппозиции, которое знаменует растворение человеческой свободы в природной стихии, осмысленной деятельности — в бесцельном процессе.
Открытые формы, создающие образ «структурированной статики» и образ «бесструктурной активности», выступают вместе как символ «разложившейся» целесообразной человеческой деятельности. Между двумя типами открытых форм «авангарда» существует отношение взаимодополнения, которое может стать основой открытой формы «интегративного» типа, объединяющей и «упорядоченную статику», и «бесструктурную активность». Одним из первых к такой «интегративной» открытой форме пришел Штокхаузен в своей «мелодической композиции» 70-х годов, примыкающей к направлению «новой простоты».
В цикле «По небу странствую я» (1972), состоящем из 12 «мелодий» для двух певцов собственно композиция состоит в заданном Штокхаузеном исполнителям ряду из 12 звуков (до — фа-диез — соль — ми — ре-диез — соль-диез — до-диез — си — ре — ля — си-бемоль — фа), выписанном целыми нотами. Исполнители должны в первой пьесе повторять первый звук, во второй — первый и второй, импровизируя двузвучные последовательности по своему усмотрению, в третьей пьесе — петь первые три звука, повторяя их в любом порядке, однако не меняя их октавного положения, и т. д., пока основой репетиции не станут все 12 звуков. Исполнители также, по предписанию Штокхаузена, должны постепенно прийти к сценическому изображению экстатического переживания. В начале цикла певцы сидят на сцене, к концу встают и кружатся в экстатическом танце51. 12 частей цикла, кроме того, являются «предметами» 12 различных медитаций (их темы также обозначил Штокхаузен: «Греза — любовь — война — смерть — вступительная молитва — танец солнца — танец смерти — против печали — птица Кецаль — благо бури — любовь — видение»).
Здесь объединены некоторые элементы серийной техники (в ряду из 12 звуков ни один не повторяется, между звуками отсутствует какая-либо тональная связь, они, подобно серии, являются «законом» и единственным материалом сочинения), вариабельная композиция (различный, зависящий от импровизатора порядок повторения звуков в рамках пьесы), репетитивизм (следующая пьеса отличается от предыдущей как повторение с прибавлением, подобно звуковым фрагментам в композициях Райли или Рейча), медитативная композиция (каждый из фрагментов повторения выступает как определенный «магический» символ), интуитивистская импровизация типа «Из семи дней», то есть такая, которая отталкивается от «поэтических» высказываний самого композитора52, ансамблевая импровизация (два певца представляют собой, по замыслу Штокхаузена, некое органичное единство), алеаторический принцип (каждый певец волен при репетиции выбирать любое сочетание громкости и темпа из 12 сочетаний, заготовленных композитором), хэппенинг (переход к танцу в конце цикла).
Сходные тенденции к интегративной открытой форме наблюдаются в других «простых» «мелодических композициях» Штокхаузена 70-х годов: «Harlekin» (1975) и «Amour» (1976), а также «Знаках Зодиака» (1975–1977).
Итак, мы видим, что на уровне материала музыки «авангардом» создавалась «бицентрированная» картина мира: человек как физическое тело на одном полюсе и технический интеллект — на другом. Все это, в каком-то смысле, воспроизводит специфическую для капиталистического отчуждения концентрацию физического и умственного труда на разных общественных полюсах. Но, с другой стороны, в авангардистской интерпретации капиталистическое «рассечение человека» (Маркс) предстает адраматическим, чем-то неизбежным, фатальным. Авангардисты не видят тех реальных общественных сил, которые стремятся уничтожить и уничтожают систему отчуждения труда.
Еще более недиалектично современный музыкальный «авангард» рисует картину человеческой деятельности. Человек представлен лишь как бесструктурно и бесцельно активное существо, либо — как работающий по заданной программе автомат. Переживание деятельности человека как «бесструктурной статики» воплощает специфически-авангардистский отказ от понимания потенций и результатов общественной борьбы. В. И. Ленин в статье «Рабочий класс и неомальтузианство» ставил вопрос о таком мировоззрении. «Мелкий буржуа видит и чувствует, что он гибнет, что жизнь становится все труднее (…) Факт бесспорный. И мелкий буржуа протестует против него. Но как протестует? Он протестует, как представитель класса безнадежно гибнущего, отчаявшегося в своем будущем, забитого и трусливого. Ничего не поделаешь (…) — вот крик мелкого буржуа. Сознательный рабочий бесконечно далек от этой точки зрения. Он не даст затемнять своего сознания подобными воплями, как бы ни были они искренни и прочувствованы (…) Мы научились и быстро учимся бороться (…) Рабочий класс не гибнет, а растет, крепнет, мужает, сплачивается, просвещается и закаляется в борьбе»53. Диалектико-материалистический взгляд на общество предполагает видение и оценку сил, которые «снимают» социальные противоречия, то есть видение общественных противоположностей в их самодвижении. Авангардистская картина мира недиалектична, нереалистична именно потому, что живая противоположность, в которой происходит борьба социальных сил, предстает как мертвая и недвижущаяся противоположность. Картина «зафиксированного», статичного и «неотменимого» противоречия, созданная «авангардом», — это как раз тот «крик мелкого буржуа», о котором писал Ленин.
В мире обесцененных вещей: способы существования «опуса» в музыкальном «авангарде»
Особый этап авангардистской новации — это деформация концерта — традиционного способа существования музыки.
Открытые концерты возникли в середине XVIII века и прежде всего в Англии54, где раньше, чем в других странах Европы, пошатнулись сословные перегородки между людьми. Знаком этой социальной перестройки стал и открытый концерт, который посещала публика, уже не тождественная узкому кругу аристократических слушателей.
Концерт — это исторически сложившаяся социальная форма бытования музыки. Здесь происходит общение людей, обмен их способностями и их миропониманием через особую, для других целей не предназначенную «вещь» — музыкальное произведение. Отнюдь не просто акустическое значение имеет поэтому устройство концертного зала: подиум, на котором царит произведение, концентрирующее в себе творческую деятельность человека, равномерно заполненный рядами концертный зал, где по отношению к музыкальному произведению люди почти равны между собой, афиши и программы (или конферанс), в которых до звучания объявляется произведение, его автор и исполнители (такая репрезентация подчеркивает самоценность музыкального опуса). Концертный зал и открытый концерт создают ситуацию, которая фиксирует «прочность» и самоценность художественного произведения, а следовательно, и самоценность людей, его творящих и его воспринимающих.
И отнюдь не просто акустический смысл имеет поэтому авангардистский опыт по «деформации» концерта, хотя самими авангардистами он описывается именно в акустических терминах: «пространственная музыка», «музыка окружающей среды» и т. п.
К 1955 году относится «Пение юношей» — электронная композиция Штокхаузена, объединяющая электронные звуки и шумы с препарированным человеческим голосом. Концертный зал, на который рассчитано «Пение юношей», видоизменяется. Слушатели помещаются посреди него на особой круглой платформе, а из пяти установленных вокруг нее динамиков идет звук. Музыка Штокхаузена, «рассеявшаяся» в пространстве, начинает агрессивно воздействовать на слушателей. Когда воспринимаешь «Пение юношей» и представляешь себя на круглой платформе «подиума для слушателей», то испытываешь некую подавленность: создается впечатление, что не музыка для тебя, а ты — для музыки. Слушатель— лишь необходимый компонент, способствующий «центрированию» звукового поля, самого по себе не имеющего центра и чуждого слушателю. Кончилось «Пение юношей» — кончился для композитора и слушатель, бывший как бы «элементом» акустического пространства.
Приведем в этой связи рассуждения американского социолога А. Тоффлера, посвященные соотношению «человек — вещь» в условиях современного капиталистического производства и потребления: «Мы вступаем в эпоху временных изделий, изготовленных временными методами для удовлетворения временных потребностей (…) Происходит неизбежная эфемеризация отношений человека с вещами…» Параллельно «отношения людей друг с другом приобретают все более временный, непостоянный характер. Люди, так же как вещи и места, проходят через нашу жизнь, не задерживаясь, во все убыстряющемся темпе… В сущности, мы распространяем принцип "использовал — выбросил" на человека…»55
В «Пении юношей» ушедшее с подиума в акустический фон произведение в каком-то смысле отражает непрочность, «временность» вещей, о которой пишет Тоффлер, а слушатели, «центрирующие» акустическое пространство и фигурирующие лишь как элемент этого пространства, словно символизируют «непрочность», «несамоценность» самого человека. Но Штокхаузен отражает эту ситуацию вполне позитивно, специально и изощренно моделирует ее, узаконивает и навязывает как новую эстетическую «ценность», как «открытие».
Деструкция музыкального произведения и деформация концерта, как формы существования музыки, различными путями, но настойчиво и постоянно осуществляется «авангардом».
Уже в сериальной композиции ощущалась некоторая эфемерность звуковой «вещи». Правда, здесь еще опус был «воплощением» авторского замысла, «точно передавался» исполнителями, он еще возвышался на подиуме, и ему еще внимал зал. Однако, как заметил Курт фон Фишер, «сериальное упорядочение всех параметров музыки ведет к утере чувственно-слухового восприятия композиторской техники»56. Действительно, «рациональность» звуковой конструкции на слух не воспринимается, и слушатель, пока он не проанализировал досконально нотный текст, не способен воспринять полностью воплощенные в сериальном опусе художественные замыслы автора. Уже здесь произведение перестает быть средством обмена творческими способностями и, значит, перестает быть образом самоценного предмета.
Вариабельная композиция тоже может еще исполняться в традиционном концертном зале. Однако ни композитор, ни исполнители не определяют полностью облик произведения, а определяется этот облик стихийным «усреднением» их усилий.
Симптоматичным примером является одна из первых вариабельных композиций Штокхаузена — «Zeitmasse» для флейты, гобоя, английского рожка, фагота и кларнета (1956). Исполнители должны, согласно указаниям композитора, реализовывать следующие темповые модели: первоначальный темп по метроному, «быстро, насколько возможно», «медленно, насколько возможно», «замедляя», «ускоряя». По замыслу композитора, метроном означает точное «физическое время». Выполнение же музыкантами остальных темповых указаний должно означать «органическое время» каждого из них57. Понятно, что реализация ремарки «быстро, насколько возможно» (или «медленно, насколько возможно») будет разной у исполнителей на разных духовых инструментах. Процесс музицирования в целом должен явиться усреднением «органических времен» пяти исполнителей. Задача дирижера — обусловить совместное окончание игры пятью интерпретаторами и тем самым создать видимость единства авторского опуса. В «Zeitmasse» слушателю предлагается не сделанный (кем-то) предмет, а как бы процесс его стихийного «самосозидания».
Позднее Штокхаузен еще ближе подходит к идее такой музыки — процесса, состоящего из бесконечного ряда «теперь», каждое из которых не связано с другим и бесследно исчезает58. Композитор задумывает для такой музыки и специальное помещение. Он «предполагает такой концертный зал, в который можно войти в любое время, чтобы слушать музыку, звучащую без начала и конца, день и ночь, и состоящую из бесконечного ряда моментов. Все равно, в какой момент начнешь слушать и какой момент услышишь вслед за другим. В идеальном случае концертный зал состоит из многих залов, в которых звучит разная музыка или ее разные слои, и поэтому любое движение слушателя в пространстве должно вести к изменению слушательского впечатления»59.
Такой концертный зал в 1970 году был построен, и полгода в нем из динамиков звучали опусы Штокхаузена, «слившиеся» друг с другом в бесконечную последовательность моментов. Годом раньше Штокхаузен пытался освоить таким образом Бетховенский зал в Бонне. В трех залах и трех фойе звучали почти все к тому времени известные опусы Штокхаузена, собранные, по выражению критика, в «сверхпараметрный коллаж»60.
Наконец, необязательно строить для подобного рода мероприятий специальный концертный зал. Ведь чем обширнее (и обыденнее) пространство, на котором задумано разместить музыку, тем «лучше». Штокхаузен в 1971 году в опусе «Звучание звезды» («Sternklang») осуществил широкомасштабную акцию, собрав в парке Западного Берлина около 500 человек, образовавших факельную процессию. В парке были расставлены группы инструменталистов, включавшиеся в процессию. Штокхаузен управлял этим стихийным «процессом-процессией», подавая команды инструменталистам: когда начать играть «аккорд» или когда снять звук61. Ладислав Купкович в том же 1971 году на 12 часов погрузил в музыку Бонн. Динамики одновременно играли самые разнообразные опусы (не только Купковича, но и других авангардистов, а также традиционную музыку). Аналогично и тоже в Бонне мюнхенский авангардист Йозеф Антон Ридль устроил многодневный хэппенинг, смонтировав круговой звук, свет, а также и круговую ароматизацию, которая должна была «пробудить чувственность публики»62. Однако ясно, что подобное сверхнасыщение «музыкой» пространства обыденной жизни не столько пробуждает «чувственность», сколько притупляет ее. Создается образ изобилия обесцененных вещей, среди которых теряется человек.
Включение в музыкальный процесс слушателя, который вместе с композитором и исполнителем создает музыкальный «опус», не означает, как это постоянно подчеркивается композиторами-авангардистами, «новый, активный вид слушания», «вхождение слушателя в искусство» и т. п.63 Если иметь в виду получающийся результат, то «слушатель, вошедший в музыку», нужен словно бы только для того, чтобы: во-первых, внести элемент стихийности в музыкальный процесс и тем самым «вытеснить» композитора и исполнителя с их позиций «творцов» музыки, во-вторых, самому стать всего лишь частью стихийного, обесцененного и обезличенного процесса.
Таким же образом накладывается печать обезличенности на участников «представления» «В поисках утраченной тишины»[13]. Кейдж, главный его организатор, действовал в сотрудничестве со многими композиторами, а также исполнителями, любителями и слушателями. По сути дела, создателями «Поисков утраченной тишины» были все, кто ехал в трех поездах, кто их видел и слышал, кто их готовил к отправке, и даже тот, кто делал вагоны, прокладывал дороги. В действо, таким образом, включается коллектив, большей частью анонимный. Действо это отмечено рядом специально оговоренных условий. Например, шумы не должны извлекаться после остановки поезда на станциях и по окончании движения. Пассажирам не разрешено менять волну, на которую настроены их радиоприемники64. В «Препарированных вагонах» Кейджа музицирующие или просто едущие люди становятся словно заменителями тех кусочков пробки или резины, которые Кейдж укреплял между струнами рояля, создавая свой «препарированный» инструмент. Тогда, в 30—40-х годах, художественное препарировалось нехудожественным. Теперь, в 70-х — наоборот, нехудожественное — людьми в функции «художников». Люди, таким образом, оказываются лишь вспомогательными вещами, их можно только «приложить» к движущимся и шумящим вагонам, но реальной ценностью они не обладают. Стихийное противопоставлено человечески-разумному, а сам разум, обладатели которого размещены в вагонах, оказывается «кусочком резины», препарирующим естественный шум стихии.
Слушатель «входит» в произведение не только в хэппенингах, но и в репетитивной и медитативной музыке. В композициях Паулины Оливер «Sonic Meditation», «Grow», которые представляют собой «церемониалы с участием публики»65, слушатель, выстукивая ритм, напевая или двигаясь, «достраивает» повторяющиеся ритмические и звуковые модели, словно вытесняя композитора с позиции автора опуса и превращая произведение в стихийный продукт. И одновременно тот же слушатель, втягиваясь в стандартную музыкальную пульсацию, «теряется» в ней, обесценивается как сотворческая личность.
Следует заметить, что репетитивная музыка, вариабельная композиция, хэппенинги представляют собой «одноразовый» опус, который невозможно повторить. В музыке создается аналогия «временным изделиям, изготовленным временными методами для удовлетворения временных потребностей» (А. Тоффлер). Композитор и критик Д. Шнебель симптоматичным образом употребляет по отношению к таким «временным» музыкальным «изделиям» термин «Wegwerfware» («бросовый товар»).
В 1968 году создан опус Херберта Брюна «Computer-Music». Компьютер здесь является не только производителем звучаний (по программе, которую мог вложить в него композитор), но и создателем самой программы. Компьютер, согласно набору вложенных в него алгоритмов, математико-графические символы приравнивает к звуковым значениям и озвучивает66.
Возникает такой музыкальный процесс, из которого полностью устранен композитор, исполнители, процесс, которому не нужны и слушатели. Он может быть производим компьютером безостановочно.
Другой пример — фильм с музыкой Ридля «100 Blat Schrebblock» (1968). Звуковой ряд состоит из электронного потока, который начинается медленно и затем непрерывно и неуклонно ускоряется, не делясь на какие-то логические этапы. Он соответствует визуальному ряду, где изображается превращение аппарата в человека. Причем человек музицирует таким же образом, как музицировал бы аппарат. Таким образом, между музыкой аппаратной, не несущей в себе следа человеческой индивидуальности, таланта или просто способностей, и музыкой, производимой людьми, по замыслу Ридля, нет «цезуры»: одно плавно переходит в другое, и составляет единое «звуко-видео-поле». Здесь опять перед нами концепция музыки, в которой «потерял себя» человек, которая перестала воплощать связь между людьми.
Попытки возвратить произведение в концертный зал или оперный театр мы находим у некоторых представителей «новой простоты». Композиторы, например Рим, хотят возродить ситуацию концерта, но, как проницательно замечает музыковед X. В. Хайстер, не ради нее самой, а ради противопоставления авангардистским «ночным студиям и улицам». «В отрицании (авангардистской неконцертной музыки. — Т. Ч.) они остаются зависимыми от узких представлений авангарда»67. Опера Рима «Якоб Ленц» характеризуется критиками как «убогая по тематизму», «бедная по материалу». Хайстер подчеркивает, что в опере эклектично соединены стилизация и цитирование прошлой музыки — придворной, оперной, концертной68. Концерт возвращается как «музейное» помещение для игры мертвой традицией. Таким образом, и в своем возвращении ситуация концерта как бы «уничтожается», хотя иначе, скрыто: под видом реставраторского протеста против экстремистского ее уничтожения.
Деструкция концерта как формы существования музыки является, поэтому, весьма многозначительной деталью на авангардистской (и поставангардистской) картине мира. Обесцененная музыка, композитор, слушатели, исполнители сосуществуют в какой-то «неокарнавальной» атмосфере: факельное шествие Штокхаузена, железнодорожный антураж Кейджа, праздничная музыкализация, иллюминация и ароматизация у Ридля. Непрочность, эфемерность вещей (как и всего бытия) трактуется в духе «холодного ликования». Перед нами не реалистическое отображение и не серьезное продумывание общественных противоречий, но своего рода «мифологическая фетишизация» их и развлекательная игра ими. Поэтому картина мира, рисуемая «авангардом», по сути дела, становится рекламно-простой и столь же рекламно-броской. Такая картина мира предназначена для особым образом устроенного сознания, и особым образом это сознание «устраивает», то есть формирует его, одновременно отзываясь на определенные его потребности. Это как раз такое сознание, которое не может не видеть общественные противоречия, но которое хотело бы преодолеть их, «ничего не меняя в общественном устройстве» (Плеханов).
Способ коммуникации: образ деиндивидуализированного и «пустого» сознания
«Музыка — уравнение мира в целом», — писал Новалис, имея в виду громадную концентрацию в искусстве звуков содержания универсального, которое невозможно перевести в неизбежно «однобокую» словесную формулу.
На фоне риторической традиции, когда однозначно толковали музыкальное содержание по типу: «гамма наверх — ликование; вниз — печаль», когда «скрипач, играющий симфонию фурий, должен сам раскачиваться и вертеться как бешеный… делая доступным для глаз то, что слышат уши»69, невозможность перевести музыкальное содержание в слова или в жесты означала новое представление о человеке и его сознании. Ал. В. Михайлов отмечает это в связи с немецким музыкальным искусством конца XVIII и начала XIX века: «В нем отразилось развитие, почти не имевшее аналогий в культуре других европейских стран, — развитие личности, осознающей себя как субъект, как индивид, как психологическую личность необычайно насыщенного, разнородного и противоречивого содержания, как личность, заключающую в себе целый мир»70. Личностное сознание как «целый мир» стало компонентом новой картины мира, которую выражала классико-романтическая музыка. И эта музыка была невыразима в словах.
В музыкальном «авангарде» нарастает тенденция к отмене непересказуемости художественного содержания. Еще в период господства сериальной композиции Опус был окружен авторскими комментариями, хотя только в технологически-формальном ракурсе. В авторских комментариях к вариабельным композициям появляются рассуждения о времени, пространстве — то есть о понятиях, обладающих мировоззренческим содержанием. Здесь уже вербализуется не только форма, но и смысл, несомый музыкальным сочинением. Наконец наступает момент, когда музыкальный смысл становится предельно простым и однозначным, так что без потерь может быть удвоен словом или жестом. Кейдж, например, содержание своего опуса 4'33" определяет указанием на отсутствие разницы между звуком и тишиной.
Возможность передать словесной формулой или изобразить жестом (акцией) музыкальный смысл означает перестройку образа человеческого сознания на картине мира. Теперь это уже не сознание, своей психологической сложностью отвечающее сложности и противоречивости «целого мира», а «простое», «депсихологизированное» сознание, которое отражает те или иные фрагменты действительности, не переживая их и не давая им личностной оценки. Такое сознание изнутри пусто и манипулируемо извне: что ему навяжут, то оно и усваивает, без активной переработки и оценки.
Не случайно композиторы «авангарда» видят нужный им идеал слушательского сознания в сфере развлекательной музыки. Бернд Алоис Циммерман говорит об отсутствии различия между словарем поп-музыки и «авангарда»71, а Дитер Шнебель пишет: «Интегрированное (то есть творчески-целостное. — Т. Ч.) восприятие в подавляющем числе произведений новой музыки уже больше не требуется… Что особенно меня интересует, так это диссоциированное слушание, провоцируемое поп-музыкой (…) Раз можно новую музыку и поп-музыку воспринимать одинаковым способом, тогда становится ясно — я аргументирую это с нашей стороны, то есть со стороны новой музыки, — что в поп-музыке воспроизводится то, что внесено новой музыкой: а именно, пьесы, которые звучат так, как если бы они были созданы с оглядкой на опыт Кейджа»72.
Ссылка на восприятие поп-музыки, как и на «опыт Кейджа», весьма многозначительна. «Диссоциированное» (расторгнутое, ненапряженное, невнимательное. — Т. Ч.) восприятие поп-музыки соответствует ее содержанию — однозначному, конфигуративному, броскому73. Видя свой идеал в сфере именно такого восприятия, авангардисты тем самым признают «упрощение» музыкального смысла в их собственной музыке. Рассмотрим примеры, показывающие, как предельно упрощается музыкальное содержание в авангардистских опусах.
Для многих сочинений Кагеля и Кейджа опорными элементами стали: «акции без действия», «художник без способностей», «музыкант без музыки». Почти обязательный оттенок черного юмора напрочь снимает возможность драматического переживания перечисленных символов «распада». Элементы черного юмора можно отчетливо увидеть в пьесах Кагеля «Речитатив Ария» («Recitativ Arie») и «Контрданс» («Konterdanse»). В рамках развертывающихся акций названия этих пьес обнаруживают свою двусмысленность, обыгрываемую Кагелем. «Речитатив Ария» предназначена для не-певца (клавесиниста), а «Контрданс» — для не-танцора. Человек, не умеющий петь, вместо арии издаст нечто невразумительно речитативное; тем самым обозначение традиционного музыкального жанра (речитатив и ария) становится знаком «художника без способностей». Также и человек, не умеющий танцевать, исполнит не «контрданс», а «контра-данс» — антитанец.
Точно такой же способ воссоздания музыкального «смысла» — в фильме Кагеля — Шнебеля «Solo», где показывается дирижер, управляющий несуществующим оркестром. Концепция ясна: музыкант без музыки, акция без действия, человек без способностей — распад традиционных культурных единств. Однако некоторая двусмысленность неожиданно выявляется в привычном музыкальном термине, составившем название, в пародировании телеконцертов, когда в кадре может быть только дирижер, а оркестр звучать за кадром (последнюю ассоциацию отмечает Б. Цубер74). Эти моменты делают эстетически «терпимой» предельную элементарность подачи основной смысловой идеи.
Юмор, таким образом, выполняет двоякую роль. Он, во-первых, снимает драматизм переживания, который естественно напрашивается при созерцании символов «распада». Во-вторых, юмор несколько «приукрашивает» смысловую идею, элементарную и наглядную до приторности. Если бы пьеса называлась просто «"акция" молчания», а не 4'33" (это цифровое название пародирует обычай композиторов-сериалистов обозначать длительность своего тотально-высчитанного сочинения в минутах и секундах), то тогда опус Кейджа потерял бы значительную долю своей броскости.
Сами концепты этих сочинений чрезвычайно просты — настолько, что не составляет труда их инсценировать, а остаток «многозначности» музыкального смысла «осел» в броских названиях пьес. Если эти заглавия убрать, то останется сравнительно примитивная пантомимическая символизация. Но слова «гасят» эмоциональную потенцию инсценировки, а инсценировка своей инфантильной однозначностью «гасит» интеллектуальную потенцию, выраженную в юмористической двусмысленности названий опусов. «Стихи отводят от портрета, портрет отводит от стихов», — заключил Пушкин одну из эпиграмм (на собрание невзрачных стихотворений, изданное с портретом известной красавицы).
«Пустое» человеческое сознание воссоздается также и в репетитивизме. Монотонно повторяющаяся звуковая структура, как отмечают критики, обладает несвойственным музыке качеством визуальной наглядности. Восприятие музыки оказывается крайне пассивным: структура репетитивной музыки словно втягивает в себя любую осмысленность слушания и нейтрализует этот порыв к осмыслению. Вот что пишет один из композиторов-репетитивистов, Горацио Ваджионе: «Пространство-время представляется пронизанным единственной звукоформулой. В результате своей борьбы против этого пространства субъект коммуникации попадает к нему под контроль»75.
Попав под этот «контроль», слушательское сознание депсихологизируется. Программу неэмоционального и неинтеллектуального сознания реализует, например, Хуан Гидальго в опусе «Rrose Selavy». Опус представляет собой постоянное возвращение легко запоминающихся звукоформул в до мажоре. Возвращение этих формул, однако, не является «напоминанием», «реминисценцией» в смысле мотивной и тематической работы, существующей в целесообразно построенной музыке, в которой слуху «есть, за чем следить». Поскольку при каждом появлении звукоформула повторяется большое число раз, то она и не исчезает из памяти. Кроме того, между формулами нет логико-смысловой связи, поэтому появление какой-либо новой среди них не оказывается «событием», меняющим контекст, а значит, и возвращение этой формулы не будет ни о чем напоминать. Подзаголовок, добавленный Ваджионе к названию «И так далее без конца», оказывается вербализованным смыслом всех этих манипуляций: бесконечно существует такое «теперь», в котором ничего не происходит и ничего не осмысляется.
Сходным образом дает образ опустошенного сознания мелодическая композиция Штокхаузена 70-х годов. Краткая мелодия «Япония» из цикла «Для будущего времени» (1970) расчленена на пять частей. Замысел Штокхаузена состоит в том, чтобы исполнители в процессе медитативной импровизации «изолировали элементы мелодии друг от друга» посредством одновременного исполнения мелодии в разных темпах, разных регистрах, в различной динамике и на разных инструментах. В конце концов «мелодия» должна принять облик колышущейся массы звуков. Под конец импровизации эта звуковая масса с нарастающей скоростью и интенсивностью звучания перемещается в верхние регистры и исчезает76. В «Японии» Штокхаузен дает образ не просто опустошенного, но опустошаемого сознания. Вначале слуху дана логичная, запоминающаяся мелодия. Затем четкие архитектонические ориентиры «тонут» в колышущейся звуковой массе, которая уже не требует внимательного и сознательного вслушивания. Мелодия из осмысленного музыкального построения превратилась в бессмысленную звуковую материю. Этот концепт, достаточно примитивный, Штокхаузен пытается в комментарии сделать более многозначным и символичным: «Во время периода дождей в Японии дождь часто не "падает" вниз, но стелется горизонтально, а иногда даже чуть-чуть уходит наверх»77. Таким образом, словесное указание композитора в сочетании с названием пьесы делает этот опус наглядной иллюстрацией — музыкальной инсценировкой «экзотического дождя» (экспозиция мелодии — это «нормальный дождь», по логике вещей «падающий вниз»; растворение мелодии в колышущейся массе — это «стелющийся» дождь; наконец, заключительное перемещение звуковой массы в верхние регистры — это дождь, «уходящий наверх»).
Итак, пьеса — это двойная инсценировка. Во-первых, она иллюстрирует распад и исчезновение логики и осмысленности в человеческом сознании. Во-вторых — экзотическое «поведение» японского дождя. Музыкальный смысл обрел переводимость, только переводов оказалось два. В то же время оба они вполне однозначны и сводятся к формулам, звучащим на словесном языке чрезвычайно просто: «сознание — это пустота» и «экзотика — это когда все наоборот». Такого рода готовые смыслы могут быть восприняты самым непритязательным интеллектом. По сути дела, это — «шлягерные» смыслы с присущей им ложной самоочевидностью, пустой весомостью, бездумной стереотипностью. И как полагается шлягерным текстам, они концентрируют в себе модные сегодня на Западе умонастроения: иррационалистское («сознание — это пустота») и тяготеющее к внеевропейским ценностям (экзотика как радикально «иное»). Таким образом, Штокхаузен рисует картину опустошенного сознания такими методами, которые сами соответствуют опустошенному сознанию и формируют его.
Фиксирует кризис, утверждает кризис, является частью кризиса — вот формула «авангарда», которая присутствует в каждом очередном его опусе.
* * *
Мы видели, что «авангард» в обеих своих ипостасях представляет статичное и в сущностном смысле неразвивающееся явление.
Хотя «слово» его постоянно меняется, следуя за идеологической модой, оно в то же время неизменно занимает арьергардную позицию по отношению к этой моде. И хотя «дело» «авангарда» «каждый год получает новое название» (Г. Вимбергер), оно из года в год, из десятилетия в десятилетие с удивительным постоянством рисует человека, превратившегося в простое физическое «тело» или в «механический разум». Столь же настойчиво показывают нам распад диалектики человеческой деятельности, «осколками» которой стали бесцельная активность и полная статика, а результатом — вещи, которые мгновенно обесцениваются, превращаются в ничто. Наконец, человек, чтобы выжить в этом мире, должен иметь «пустое», непереживающее, недумающее, некритическое, извне манипулируемое сознание — и оно также находит место на авангардистской картине мира.
Эта фаталистическая картина мира однобока и однозначна. В ней нет места отражению реальной общественной борьбы, необходимо вызываемой противоречиями, которые угаданы и утрированы авангардистами. В ней поэтому нет и принципиальной оценки этих противоречий. Общий колорит авангардистской картины мира — холодный, дистанцированный, иногда эстетски-юмористический, иногда даже празднично-игровой. Благодаря такому своему колориту авангардистский образ мира, несмотря на всю свою «плакатность», скорее является своеобразной рекламой рисуемых им противоречий, чем подлинной их критикой.
Поэтому не случайно «авангард» имел могущественных покровителей, финансировавших его «дело».
В литературе отмечается, что послевоенного «авангарда» в собственном смысле слова не было бы без финансовой и рекламной поддержки радиостанций и журналистики. Известно, что первоначально «авангард» завоевывал внимание публики посредством устройства специальных фестивалей «новой музыки». Но эти фестивали, проводившиеся еще до второй мировой войны, не были заметным явлением в музыкальной жизни Европы.
3. Боррис отмечает: «Прогрессивные (то есть модернистские — Т. Ч.) музыкальные фестивали (в Баден-Бадене и Донауэшингене) стали энергичным движением, попав на радио»78. Еще в 1969 году музыковед Г. Йош заметил, что «радио уже примерно 10 лет выполняет роль мецената по отношению к новой музыке»79. Штокхаузен авторитетно подтверждает: «радио — это меценат целой школы». И сами директора радиокомпаний не скрывают, что «произведения типа "Roaratorio" Кейджа, написанные в последние годы, никогда не возникли бы без субсидирования целым рядом радиоорганизаций»80.
Эту тесную связь композиторов-авангардистов с радио пытается объяснить Л. Купкович. Во-первых, по его мнению, сегодня композиторов «больше, чем когда-либо». Поэтому возникают трудности в завоевании признания. «Это теперь более трудный путь, и он осуществляется не только самим композитором, — даже если он достиг высококачественной техники». Когда, — продолжает Л. Купкович, — «не стало больше "нормальной" концертной жизни… новая музыка начала искать и нашла культурно-жизненное убежище, в котором она могла бы выжить». Это убежище дают радиостанции. «Возможно, я говорю нечто специфическое именно для культурно-политической ситуации в Западной Германии, но это достаточно бесспорно в целом, — ведь также и композиторы других национальностей в большем или меньшем объеме ориентируются на требования западногерманских радиостанций и заработок свой получают у них. После второй мировой войны движение, называющее себя "Новой музыкой", вообще едва ли можно представить себе без западногерманских радиостанций. Они доставляли в распоряжение авангардистов свое щедрое золото, свои оркестры, громкоговорители и ультракороткие волны, и что из этого вышло, мы видим сегодня. Современное широкое признание без радиостанций — еще не признание. Но это дело имеет обратную сторону: радиокорпорации решают, кого выдвинуть, и что этому будет способствовать. Насколько велика эта власть, настолько неясны основания ее решений и ответственность за них». Далее Купкович подчеркивает, что крупные фестивали современной музыки в большинстве своем прямо или косвенно связаны с радио, что «новая музыка» зависит также от фирм грамзаписи и издательств, которые тоже связаны с радио81. Еще одно свидетельство принадлежит Вимбергеру: «До второй мировой войны относительно свободно сосуществовали различные новые школы и стилистические направления; одинаковую оценку получали свободнотональная моторика, неоклассицизм, двенадцатитоновая техника. После 1945 года Европу захватила двенадцатитоновая серийная техника Шёнберга, став наиболее действенной исторической силой (…) ФРГ превратилась в центр современного музыкального дела, потому что западногерманские радиостанции предоставляли для него большие суммы, укрепившие Дармштадт и Донауэшинген в качестве цитаделей "Новой музыки". Произведения, создаваемые по заказу радиостанций, оказывались похожими друг на друга, — замечает Вимбергер, — однако запущенный однажды механизм крутился, крутился и крутился»82. Вимбергер, подчеркивая стилистическую монотонию «авангарда», объясняет такое положение дел «желанием композиторов сделать карьеру» и указанием на зависимость «карьеры» от субсидий радиостанций, в руках которых, определенным образом, сосредоточилось неявное «руководство» авангардистским творческим развитием.
Итак, желание «сделать карьеру», связанное с заказами радиокорпораций, приводит к монотонии стиля. Ибо радиомеценатов, ведающих средствами массовой информации в буржуазном обществе, интересует отнюдь не художественное качество сочинений, всегда связанное с индивидуальными находками, творческой уникальностью, смысловой неповторимостью. Напротив, радиоканалам важно то общее, что есть в различных опусах «авангарда». А это общее заключается в особой картине мира, постулирующей тотальную безысходность, — такую безысходность, которая равнозначна полному приятию кризиса буржуазной общественной системы. Социальнокритические умонастроения трансформируются, «отразившись» в авангардистской картине мира, в некритический пессимизм. А пессимистическая подавленность общественного сознания необходима господствующему классу для поддержания социального статус-кво.
Однако как явление музыкальное в западной культуре преобладает вовсе не «авангард». Он и не может преобладать, как не может некритический пессимизм быть главным или же единственным умонастроением, обеспечивающим буржуазному обществу стабильность. Объективной необходимостью оказывается формирование в умонастроениях людей некоего оптимизма — такого, который нейтрализовал бы нежелательные для господствующего класса настроения и побуждения.
Воспитывать этот иллюзорный оптимизм, распространять его в массах как раз и призвана поп-музыка.
ПОП-МУЗЫКА, «ДВОЙНАЯ ВЫГОДА»
Введение
«Вершки» (Тор), «попадание в десятку» (Hit). Эти жаргонные журналистские словечки, замечает исследователь, «очерчивают пространство поп-мира»1. Краткие, ставшие международными английские слова фигурируют в поп-журналах, в бюллетенях записей-бестселлеров, собраниях текстов, теле- и радиопередачах.
«Топ» и «хит» — это такие «вершки» («сливки») и такое «попадание в десятку», значение которых следует понимать двояко. Первый смысл — коммерческий. Второй — идейный. Эти два смысла определяют друг друга. Чтобы завоевать успех на музыкальном рынке, надо максимально точно уловить умонастроения публики. Затем — изготовить на основе актуальных на сегодняшний день идей и настроений определенный «музыкальный товар», широкий сбыт которого принесет уже коммерческую прибыль.
Не все, что популярно, есть поп-музыка в специфическом для западной «массовой культуры» смысле слова. Смысл обозначения «поп» выводим не из вообще популярности, как часто делают западные авторы, а из такой популярности, которой обладает, во-первых, коммерциализированная музыка, во-вторых — музыка, манипулирующая общественным сознанием2.
Популярностью вообще обладает и политическая песня, играющая важную роль в современном демократическом движении, в борьбе за мир. Популярна сегодня и фольклорная песня, также выполняющая зачастую важные функции в современной политической борьбе. Популярны и образцы классического искусства, и лучшие произведения современных композиторов. Но эта популярность неадекватна комплексу «поп-топ-хит».
«Поп» — это популярность «неестественная», особым образом «синтезированная», и зачастую не столько самими музыкантами, сколько опекающими их (и эксплуатирующими) предпринимателями.
Исполнителю народной и политической песни Питу Сигеру владельцы корпораций долгое время почти не давали возможности петь по радио и телевидению. Лишь в 1968 году (а музыкант к этому времени работал уже около тридцати лет) он начал выступать перед миллионами телезрителей3. В свое время проходил суд над П. Сигером — певца обвинили в «подрывной работе в области развлечений»4.
Большинство представителей коммерциализированной развлекательной музыки, напротив, непосредственно вовлечены в функционирование средств массовой информации. В деятельности таких музыкантов устранен, до известной степени, момент собственной художественной инициативы. И разумеется — момент собственной идейной позиции. Эти музыканты не сами находят дорогу к слушателям. Их, как явление поп-культуры, «выращивают»[14].
Популярность зачастую инсценирована, а музыкальный стиль эклектично соединяет все, что имеет успешное хождение на рынке развлекательной музыки. «Ложку регтайма, другую — кантри-блюза, что-нибудь из джаза 20-х годов и порцию современного бита» — таков рецепт возможного стиля в достаточно симптоматичной передаче музыкантов группы «Lovin’ Spoonful»6. Эклектичное совмещение тех черт развлекательной музыки, которые другим солистам и коллективам уже обеспечили успех, объясняется не в последнюю очередь коммерческой необходимостью. Для получения прибыли от выпуска той или иной пластинки необходимо, чтобы максимальное количество слушателей (потенциальных покупателей) услышали в этой записи то, что им нравится, хотя бы нравилось им весьма разное.
Широкий сбыт «музыкальных товаров» возможен, если в тексте и музыке учтено возможно большее количество «нравящихся» разным слоям публики стилистических признаков. Однако механическое объединение этих признаков не всегда возможно. Следует найти общий знаменатель музыкально-поэтической темы и стиля. Этот знаменатель хотя уже не вполне соответствует запросам той или иной конкретной социальной группы, однако усредняет, клиширует сознание слушателей. Например, в конце 60-х годов на Западе актуальной была леворадикальная критика буржуазных порядков. В те же годы в молодежных кругах оживляется интерес к религии. Как можно «усреднить» эти разнонаправленные идейные запросы, чтобы подать и тем, и другим один и тот же музыкальный товар как якобы отвечающий ожиданиям разных социальных групп? Ответ на этот вопрос дает, в частности, деятельность модного в конце 60-х — начале 70-х годов ансамбля Эдгара Браутона, выступавшего с политически окрашенными «шаманскими» радениями. «Прочь, демоны, прочь!» — кричал Браутон в своих выступлениях на стадионах, удовлетворяя сразу и потребности «революционеров», и «мистиков». Социально-критические умонастроения переводились в символический план борьбы с «демонами», мистические стремления перешли из сферы индивидуального опыта в ранг глобальных безадресных претензий. Публика, стоящая на разных социальных позициях, приводилась к общему знаменателю, вполне безопасному для капиталистической общественной системы.
Усреднение идейного и музыкально-стилистического облика коммерческой музыки, благодаря которому возникает ее фальшивое соответствие умонастроениям слушателей — имидж, — только первое условие широкого сбыта этой музыки. На второе условие непосредственно указывает ходовой лексикон поп-культуры, использующий в качестве присоединяемого к чему угодно словечко «супер»: «супероркестр», «суперзвезда», «супермен», «супермен из супероркестра», (так рекламировали гитариста Эрика Клэптона) и даже «Supertramp» («Супербродяга» — название группы 70-х)… Усредненные, воплощенные в имидже актуальные умонастроения и музыкально-стилистические вкусы различных слушательских групп должны быть поданы в броской, выделяющейся идейной и стилистической упаковке — иначе музыкальный «товар» не конкурентоспособен.
По-видимому, есть основание говорить о специфическом поп-феномене, который можно определить как «оригинальность среднего». Вся суть «оригинальности среднего» — в особом смешении ходовых идейных и стилистических мотивов, когда какой-то из них, неожиданно выдвигаясь на первый план в данном сочетании, бросает особый отсвет на все остальные. В этом брошенном на них отсвете они и сами становятся броскими, и превращают в броский тот мотив, что находится на переднем плане имиджа. Эта закономерность может действовать на всех уровнях, составляющих имидж: на уровне музыкальной и текстовой стилистики и образа жизни музыкантов, в названиях групп и альбомов.
Броское и эффектное «усреднение» ожиданий и умонастроений масс в западной коммерческой поп-продукции соответствующим образом поворачивает эти ожидания и потребности в приемлемое идейное и политическое русло. «Музыкальный товар», который изготавливается по этому методу, выгоден и коммерчески (так как находит широкий сбыт), и идеологически (так как нейтрализует нежелательные для господствующего класса импульсы в общественном сознании).
В своем отношении к содержанию общественного сознания коммерциализированная поп-музыка выступает как имидж, концентрируя в себе парадокс музыкальной (и шире — культурной) коммерции, о котором пишет советский исследователь: «Коммерческий лозунг прост: дать потребителю то, что он хочет. На самом же деле получается так, как бизнес хочет»7. Фальшивое отражение потребностей и настроений масс как раз и обеспечивается имиджами.
Имидж — столь же существенная категория «второй» (идеологической) выгоды, как деньги — центральная категория «первой» (экономической). Эти категории взаимосвязаны и обеспечивают функционирование капиталистической музыкально-развлекательной индустрии.
Понимая поп-музыку как область экономической жизни, с одной стороны, и как механизм идеологического воздействия — с другой, необходимо подчеркнуть, что так «двусторонне» она «звучит» лишь в определенном социальном контексте. Стереофония «двух выгод» возможна лишь в обществе, в котором экономика держится на эксплуатации масс, а господствующая идеология занята дезорганизацией этих масс как опасной социальной силы.
Влияние поп-музыки значительно шире и интенсивнее, чем идейное влияние «слова» и «дела» музыкального «авангарда». Однако, в отличие от авангардистского творчества, поп-музыка до последнего времени в глазах западной интеллигенции была несколько скомпрометирована своей ориентацией на «низшие» культурные потребности. Поэтому «авангард» играл самостоятельную роль в воздействии на те слои общественного сознания, которые самоустранялись из обихода «массовой культуры». Сегодня, когда авангардистское искусство недвусмысленно выявило свою вписанность в контекст господствующей идейной моды и когда в творческом плане оно пришло к известному самоотрицанию, сознание западной интеллигенции от пренебрежения к U-Musik переходит к ее апологии. Нередки заявления о том, что «развлекательная музыка — не значит низшая», что прежняя ее оценка — это «проекция на музыку пуритански-кальвинистских представлений»8. Можно прочесть, что Е- и U-музыка, по сути дела, движутся в одном направлении9.
Направление, в котором они движутся сегодня вместе и на котором ранее дополняли друг друга, уже было рассмотрено в главе об авангардистском «слове». Только в поп-музыке движение в этом направлении происходит особым способом. Особым в том смысле, что дает не только идейные, но и коммерческие результаты. Возможно, именно эта особенность помогла «серьезным» музыковедам, композиторам-авангардистам воспылать сегодня уважением к некогда презираемой развлекательной музыке. Не случайно еще в начале 70-х было замечено: «Авангардистская музыка завидует успехам тривиального искусства»10.
Рассмотрим коммерческую сторону этих «успехов».
Глава 3 «Первая выгода». Музыкальные поп-индустрия, поп-товары, поп-прибыль
К. Маркс писал об извращающей силе капиталистического накопительства: «Так как по внешности денег нельзя узнать, что именно превратилось в них, то в деньги превращается все: как товары, так и не товары. Все делается предметом купли-продажи. Обращение становится колоссальной общественной ретортой, в которую все втягивается для того, чтобы выйти оттуда в виде денежного кристалла. Этой алхимии не могут противостоять даже мощи святых, не говоря уже о менее грубых res sacrosanctae, extra commercium hominum [священных предметах, исключенных из торгового оборота людей]»1.
Долгое время из «торгового оборота людей» исключалось и искусство, в том числе музыкальное. Враждебность капиталистического способа производства художественному творчеству проявилась, в частности, в том, что товарное обращение втянуло в свою «реторту» и определенную часть музыкальной культуры.
На рубеже нашего столетия исследователи все в большей мере осознают экономическую зависимость музыкального творчества от общей системы хозяйства2. Появляются труды, в которых старая «метафизическая» наука — музыковедение — осваивает новую для себя экономическую терминологию[15]. И это не случайно.
В 10—20-х годах переживал свой расцвет шлягер — исторически первая зрелая форма коммерческой музыкальной продукции. В ней были переплавлены и стандартизированы предшествующие музыкальные традиции. Позднее, в 50-х годах продукцию такого рода, включающую помимо шлягера другие разновидности коммерческой развлекательной музыки, стали именовать словечком «поп». Но уже в 20-х годах наблюдался подлинный бум коммерческой музыки. Например в 1927 году в Германии количество проданных шлягерных пластинок достигло 25 миллионов штук, к 1929 году — 30 миллионов, а продажа проигрывателей возросла за этот период на 117 %4.
И все же активно о музыкальной коммерции стали писать позднее, когда ошеломляющим образом проявилась прибыльность развлекательной музыки. К 1976 году среднегодовой доход фонографического и нотоиздательского концерна GEMA, 80 % продукции которого составляет поп-музыка, исчислялся цифрой свыше 140 миллионов западногерманских марок5. В том же году в ФРГ общая прибыль от продажи звукозаписывающей и воспроизводящей аппаратуры составляла 7 миллиардов марок6. Симптоматично, что музыкальная поп-индустрия по обороту капитала устойчиво держит в ФРГ — одной из наиболее развитых капиталистических стран — второе место после химической промышленности (то есть даже опережает тяжелое машиностроение)7.
Итак, поп-музыка стала товаром, производство и сбыт которого — не просто полноправная часть современной буржуазной экономики, но в некоторых развитых капиталистических странах даже принадлежит к наиболее прибыльным экономическим отраслям.
Каким образом и какая музыка могла стать прибыльным «делом»?
Ответить на этот вопрос можно, учитывая широкий круг культурных и социальных явлений. Речь идет о специфической для современного капитализма эксплуатации свободного времени трудящихся. Свободное время рабочих становится выгодным капиталисту не только, так сказать, «естественным образом», то есть как время восстановления сил, затраченных в процессе производства. В результате организованной борьбы рабочих капиталисты вынуждены идти на уступки, сокращая рабочий день. Значительно расширяется сфера свободного времени в послевоенный период, когда в некоторых развитых капиталистических странах достигнуто заметное сокращение рабочего дня и рабочей недели8. Этот факт получил отражение в апологетических концепциях «цивилизация досуга»: свободное время якобы превращается, согласно этим концепциям, в главный регулятор жизни как отдельных индивидов, так и буржуазного общества в целом9. Параллельно расширению сферы досуга расширяется и укрепляется индустрия развлечений, частью которой стала и музыкальная поп-индустрия.
Труд при капитализме отягощен принудительностью. «Это не удовлетворение потребности в труде, а только средство для удовлетворения всяких других потребностей, но не потребности в труде. Отчужденность труда ясно сказывается в том, что, как только прекращается физическое или иное принуждение к труду, от труда бегут как от чумы»10. Убежищем оказывается свободное время, где предполагается именно «свобода от принуждения». Но такое свободное время, определенное чисто отрицательно — как «свобода от», на самом деле неспособно возвратить человеку подлинную человеческую свободу. Подлинно свободный человек «свободен не вследствие отрицательной силы избегать того или другого, а вследствие положительной силы проявлять свою истинную индивидуальность», — писал К. Маркс11.
«Люди, привыкшие к жесткой регламентации своей деятельности в сфере труда… в сфере свободного времени сталкиваются со сложной проблемой оценки собственной деятельности»12. Досуг трудящихся, как отмечают западные социологи, все в большей степени «ритуализируется», регламентируется, становится подобием «линейного времени трудового процесса»13. Подобно тому как в сфере производства человек существует в извне навязанном, конвейерном ритме движения, так и в сфере досуга он подчиняется, например, «ритму» средств масовой информации, структуре повседневных бытовых дел и т. п. Единственное, что может подчеркнуть его «свободу от» производственной принудительности, — это «независимость» навязываемого извне ритма от утилитарных целей, его «игровой» характер. И здесь особую роль играет музыка. Конкретнее — танцевально-музыкальная стихия.
Известно, что в традиционной фольклорной и раннебуржуазной культуре музыка выполняла также и развлекательные функции. Но в этом своем качестве она необязательно танцевальна, ее танцевально-ритмическая основа может отодвигаться на задний план, как, например, в хоровых песнях. Напротив, самодовлеющая танцевальность музыкального развлечения отчетливо наблюдается в современную эпоху в западной культуре (ведь и мода в развлекательной музыке — это прежде всего мода на танцевальный ритм).
Свобода, отнятая у трудящегося, в музыкальном поп-товаре превращается всего-навсего в танцевальный ритм, имитирующий свободу. Свою собственную, отчужденную капиталом свободу человек теперь покупает — но уже как иллюзию, специально изготовленную для него тем же капиталом.
В отчуждении как главной характеристике труда при капитализме есть еще один аспект. Это — отчуждение личностное. В капиталистическом обществе господствует «отношение полезности» (Маркс), когда человек превращается из цели в средство, в используемую «вещь». «Человек как реальный преобразователь и творец… не существует для отношения полезности. Для него человек — лишь пригодная для эксплуатации рабочая сила определенной производительности. Человек рассматривается здесь просто как вещь наряду с прочими… следовательно, как голое средство»14. Поэтому человек теряет свою индивидуально-личностную определенность, измеряясь некой производной от целей капитала абстрактно-всеобщей мерой. Люди в капиталистическом производстве теряют личностную самоценность как субъективно — в глазах друг друга, так и объективно: таков порядок вещей.
Поскольку свободное время, куда «бегут от труда», противостоит производственному, то в нем хотя бы иллюзорно должно удовлетворяться естественное стремление личности к обретению самоценности в глазах другой личности. Иллюзорному удовлетворению этой потребности способствует господствующая в текстах развлекательной музыки (также в коммерческой литературной, кинематографической продукции) тема любви.
Но как раз личностной окраски музыкально-развлекательная «любовь» не имеет. В коммерциализированной танцевальной лирической песне отношения «любви» предельно стандартизированы, сведены к таким клише, которые лишают чувство неповторимости, а человека, идентифицирующего себя с персонажами этого «любовного сюжета», — личностной определенности, самоценности.
Если в первой половине XIX века песенные тетради содержали и традиционные фольклорные образцы, где любовная тема зачастую не выступала на первом плане или не присутствовала вовсе, солдатские, студенческие, застольные песни, популярные арии из опер, куплеты сатирико-политического содержания15, то уже к концу века, а в еще большей мере — в современной песенной поп-продукции любовная тема преобладает.
Итак, чтобы стать прибыльным «делом» в системе индустрии развлечений, музыка должна была почти однозначно свестись к двум компонентам: к танцевальной ритмике как главному средству формальной организации опуса, к любовной тематике как к содержательной основе. Но этого еще недостаточно для превращения музыки в товар. В музыку непосредственно вложить деньги невозможно. Однако можно вложить деньги в материальные средства производства, служащие тиражированию музыкальных опусов: в нотопечатное или фонографическое оборудование.
В сферу нотопечатания постепенно вовлекаются бытовые танцы и песни16, которые — став нотной тетрадью — обретают отличное от их звучания товарное тело. В виде нотной сброшюрованной бумаги они существуют до процесса музыкального развлечения, как предмет продаваемый и покупаемый. Певцы, со своей стороны, и владельцы издательств — со своей, ориентируются на коммерческий успех (или неуспех) издаваемого и поющегося. Начинается та взаимная стандартизация звучащего и печатаемого репертуара, которая приводит к возникновению шлягера: любовной танцевальной песни, рассчитанной на широкий сбыт и покупаемой слушателем за деньги, поступающие в виде оплаты выступления певца, издания, позже — пластинки.
«Слово "шлягер", — писал один из владельцев фирм грамзаписи в 20-х годах, — происходит из купеческого». Действительно, понятие шлягера вошло в обиход из жаргона австрийских торговцев конца прошлого века. Оно обозначало у них особо успешно сбываемые товары17. Постепенно термин переносится на любовную танец-песню, ибо она становится особо успешно сбываемым товаром. Шлягерная формула — танец + любовь = продаваемая вещь (ноты, пластинки, трансляции) становится фундаментом, на который наслаиваются различные «успешные» стилистические клише и идейные мотивы. По признаку количества и качества этих наслоений можно различать «старую» и «новую» поп-музыку.
Это различение принято в западной литературе о легкой музыке18. Под «старой» поп-музыкой понимают традиционный шлягер, возникший в 10-х годах. По подсчетам западных социологов, шлягер и сейчас наиболее распространенное явление в сфере развлекательной музыки (80 %)19. Для молодежи, однако, «чистый» шлягер — вторая величина в «магазине» музыкальных поп-товаров. Молодежь в возрасте до 20 лет предпочитает рок-музыку (67,7 % от общего времени слушания), затем идет традиционный шлягер (28,3 %), после него — фольклор (4 %)20.
Говоря о «старой» и «новой» поп-музыке, исследователи сталкиваются с трудностью разграничения этих направлений. По-видимому, можно выделить некоторые признаки «новой» поп-музыки, впрочем, ассимилируемые постоянно тем же шлягером. Важнейший из них заключается в следующем. «Новая» поп-музыка, сохраняя шлягерную основу, не замкнута на одну только любовную тематику, включает нередко элементы социально-критического плана, философско-религиозные мотивы и подчас претендует на выход за пределы просто развлечения. В то же время подавляющее количество рок-музыки продолжает оставаться связанным с любовной темой.
Разделение поп-музыки на «старую» и «новую» имеет, в частности, и свою экономическую обусловленность. Если шлягер зародился в Европе в немецкоязычных странах в 10-х годах, то рок — в 50-х, на англоязычной почве, вобрав в себя музыкально-стилистические импульсы заокеанского происхождения. Эта пространственно-временная датировка «старой» и «новой» поп-музыки связана с процессом становления музыкальной коммерческой поп-индустрии, процессом капиталистической концентрации и монополизации сначала нотоиздательского, затем — фонографического «дела». В послевоенной ситуации центр фонографической промышленности перемещается из разрушенной Европы в Америку, где к тому времени формируется демографическая ситуация роста в структуре населения доли молодежи. Отсюда — и молодежная ориентация «новой» поп-музыки, и ее связь с американскими музыкальными традициями.
Становление музыкально-развлекательной индустрии
Период предыстории музыкального бизнеса — вторая половина XIX века. К середине столетия значительно выросло количество нотоиздательских предприятий, специализировавшихся на развлекательной музыке. С середины века в этой области коммерции начинается конкурентная борьба. В Вене и Берлине — тогдашних центрах музыкально-развлекательной моды — в 1860 году 34 новооснованным издательствам противостоят 40 ликвидированных, в 1866 году — 25 вновь созданным — 30 упраздненных. Позднее этот процесс ликвидации не выдерживающих конкуренции музыкально-коммерческих издательств идет еще интенсивнее21.
В процветающих издательствах стандартизация танцевальной любовной песни была поставлена на вполне индустриальную основу. Наемные работники — мелодисты, аранжировщики, текстовики — имели связь друг с другом лишь через издателя, который, оперируя критериями спроса, соединял результаты их «частичных работ»22. Создатели песни могли и не знать друг друга, а название их опусу давал издатель23.
Процесс концентрации музыкально-коммерческого дела начинает развиваться интенсивнее благодаря освоению предпринимателями более универсального, чем нотный текст, средства распространения музыки — пластинки. В начале нашего столетия бурно растет фонографическая промышленность.
Выгоды, сулимые ею для уже сконцентрировавшегося музыкально-развлекательного капитала, были заманчивы. Ведь если ноты имеют хождение в кругу покупателей с определенным образовательным цензом, то пластинки могут слушать люди вовсе неграмотные — круг потенциальных покупателей резко расширяется. Кроме того, возникает возможность однозначно планировать сбыт продукции. Ранее «живые» исполнители могли противостоять печатаемому репертуару. Теперь престиж и популярность исполнителя начинают зависеть от того, записан ли его репертуар на пластинку. А формируется репертуар в самой фирме и уже указанным методом[16]. Исполнитель в этих условиях превращается в наемного работника фирмы грамзаписи. Развлекательная песня-танец из частичной собственности фирмы-нотоиздательства превращается в полную собственность фонографической фирмы. Ее авторы и исполнители становятся лишь вспомогательными звеньями в обороте «деньги — музыкальный товар — деньги». Кроме того, пластинка исключает живое общение исполнителя и публики. Слушатель может лишь одно из двух: купить пластинку или не купить. Но по части рекламы, стимулирующей покупку, бизнес достаточно искушен.
Именно перенос акцента в музыкально-развлекательной индустрии на фонографическую промышленность оказался последним решающим импульсом, сформировавшим основную форму «старой» поп-музыки — шлягер. Европейские истоки шлягера — немецко-австрийская бидермайеровская Lied, французские опереточные арии, водевильные куплеты, ритмические формулы популярных в XIX веке танцев — вальса и польки — быстро смешиваются в один поток, уже почти лишенный национально-жанровой дифференцированности. Возникновение этого единого потока (как и «интернационализация» текстовых формул шлягера — сведение их к простейшим словесным конструкциям, понятным без перевода) обусловливалось, в частности, тем обстоятельством, что именно в рамках фонографического капитала быстрее пошла монополизация поп-промышленности и создание транснациональных корпораций.
Перед первой мировой войной в Германии было около 100 фирм грамзаписи. В 1925–1926 годах осталось лишь 6, успешно выходивших на мировой рынок. Обессиленный войной континент уступал деловую инициативу англо-американским предпринимателям. Шесть германских фирм постепенно оказались в зависимости от английских и заокеанских партнеров25.
В годы «великой депрессии» центрами музыкально-развлекательной промышленности становятся Англия и Америка. Ведущее место в фонографическом деле занимают английская фирма «ЕМ1» («Electrical and Musical Industries Ltd») и американский суперконцерн «RCA-Victor». К 1931 году сложилась мировая система музыкально-развлекательных монополий, тесно связанных друг с другом. Д. Шульц-Кен в труде «Пластинки на мировом рынке»26 приводит схему фонографической промышленности на начало 30-х годов:
Концентрация капитала в руках англо-американских предпринимателей сказалась на облике основной продукции, производившейся и распространявшейся музыкально-развлекательной индустрией. «Преобладание пластиночной продукции американских и английских концернов, — пишет историк, — воздействовало на текст и музыку: быстро менявшиеся стили танца, возникавшие в кругу коммерциализированного джаза, перемешивание в тексте национальных языков с фрагментами английского — все это определило облик шлягера, пропагандировавшегося концернами (…) Национальная определенность тематики и текста, которую еще можно констатировать в шлягере классической поры (то есть начала века, по хронологии Д. Кайзера. — Т.Ч.), теперь решительно упраздняется… Клише доминируют тотально»27.
В 50-х годах монополизированная музыкальная промышленность с главными центрами в Америке приходит к новой стадии своего развития — совместной эксплуатации рынка несколькими суперконцернами, тесно связанными между собой28.
По-видимому, тот факт, что центр поп-музыки в 50-х годах перемещается из Европы в Америку, не является случайным — на фоне доминирования американских фонографических концернов.
Возникновение «новой» поп-музыки датируют серединой 50-годов, называя среди ее источников и компонентов такие музыкально-стилистические явления, как американский коммерциализированный джаз, ритм-н-блюз, кантри, рок-н-ролл29. В «новой» поп-музыке почти полностью преобладает английский язык, обретающий «международно-музыкальный» статус. При этом, поскольку в «новой» поп-музыке утверждается более динамичный танцевальный стиль, ориентированный на молодежный досуг, то ритмически-танцевальная основа подавляет мелодико-лирическую сторону песни. Поэтика, выработанная в шлягере, в роке упрощается: «Язык редуцируется до уровня простого носителя ритма»30.
Не только изменение музыкальной стилистики связано в «новой» поп-музыке со смещением центра монополистической поп-промышленности в США. Вместе с новым этапом развития фонографического бизнеса рождаются и другие основные признаки поп-музыки. Громкость звучания, о которой 3. Боррис замечает, что она является своеобразным «символом статуса», способом самоутверждения и экспансии поп-музыки31,— это такой компонент стиля, который существует как бы отдельно и до акта музицирования. Этот компонент стиля овеществлен в электроусилительной аппаратуре, без которой музыка просто не звучит. А аппаратура, сложная и дорогостоящая, в 50-х годах начала производиться теми же самыми американскими концернами, которые монополизировали звукозапись и распространение пластинок. Изобретение электрогитары оказалось для них поистине «подарком»: теперь певческий голос, техника инструментальной игры, а значит и обладающие всем этим музыканты сами по себе уже не являются полноценными создателями музыки; чтобы стать таковыми, они должны купить аппаратуру. Громкость рок-музыки, таким образом, выступает не просто как «символ статуса» этого музыкально-стилистического направления, а как, прежде всего, символ безраздельного господства фонографического капитала, прибравшего к рукам сам момент «рождения звука». Музыканты парадоксальным образом превращаются в придаток к производимой капиталистами аппаратуре. Громкостная экспансия «новой» поп-музыки, которая сделала обычным пространством своих концертов парки и стадионы, собирающие громадные массы людей, — это только внешняя проекция экспансии фонографического капитала, осуществляемой во все сферы процесса создания и распространения музыки.
По мере развития рок-музыки зависимость музыкантов от владельцев фирм по производству аппаратуры и пластинок становилась все более многосторонней. В рок-музыке росло значение так называемых «третичных факторов композиции»32 — эффектов, достигаемых благодаря технике звукозаписи, в отличие от «первичной» композиции — сочинения мелодии, гармонии, формы, и «вторичной» — аранжировки. Примерно с 1967 года, когда «Beatles» начали осваивать электронные эффекты в звукозаписи, когда они использовали опыт «авангарда» в сложном инженерном «монтировании звука», основной удельный вес творчества рок-музыкантов начинает падать на работу в студии. Многие музыканты перестают давать концерты, запираясь в фонографических студиях (например, «Beatles», давшие последний концерт в 1966 году). Но тем самым музыканты попадают в новую зависимость от предпринимателей. Несколько месяцев студийной работы стоят зачастую многие тысячи долларов. Без субсидий фонографических концернов такая работа немыслима, как немыслима она и без инженеров-техников, служащих нередко при фирме33.
Таким образом, «новая» поп-музыка отличается от «старой» значительно большей зависимостью музыкантов от монополий.
Примерно к 60-м годам сформировалась особая система циркуляции поп-музыки, большей частью подчиненная транснациональным фонографическим концернам. В эту систему подключено не только радио и телевидение отдельных стран, и не только концертные организации, но и многочисленные органы прессы, гастрольные бюро, организация фестивалей, танцклубы, дискотеки, магазины пластинок и т. п.
Уровень монополизации сферы распространения поп-музыки виден на схеме (отдельное государство и его регионы представлены на примере ФРГ, см. стр. 118)34.
Вся эта система работает на прибыль. И прибыли растут. Например, в 1956 году оборот американской (наиболее мощной в мире) индустрии поп-пластинок составил 312 миллионов долларов. В 1966 году — уже 700 миллионов долларов, а в 1968 — почти 90035.
Итак, на этапе «новой» поп-музыки сформировалась многоуровневая монополистическая музыкально-развлекательная промышленность. Соответственно формируется и система профессий, среди которых профессия собственно музыкантов — отнюдь не решающая в деле выкачивания прибыли. До музыкантов и после них их музыку «делают» (как коммерческое «дело») предприниматели разных специальностей, среди которых особо важны менеджеры и промоутеры.
Как работает современная индустрия поп-музыки
Между музыкантами и слушателями в условиях коммерческой «массовой культуры» существуют следующие звенья: владельцы и эксперты фонографических предприятий, менеджеры и промоутеры (то есть организаторы сбыта). Каждый из представителей названных коммерческих профессий вносит свою лепту в создание музыкальной поп-продукции.
«Рок-оркестры нуждаются в деньгах» — так озаглавил видный менеджер один из разделов книги о поп-музыке36. Схема карьеры рок-коллектива или отдельной «звезды» такова. Сначала — прозябание на задворках рынка развлечений, вплоть до полученной возможности заинтересовать менеджера или фирму грамзаписи и выпустить пластинку. На этом этапе музыканты становятся носителями стилизованного имиджа, обеспечивающего беспроигрышность капиталовложений в их творчество. Впоследствии музыканты «нуждаются в деньгах» уже для того, чтобы сохранить свое место среди «звезд»: растут расходы на аппаратуру, прессу, гастроли. Но одновременно растут и доходы, которые в дальнейшем позволяют некоторым солистам и коллективам выйти из-под власти менеджеров и фирм грамзаписи, — для того чтобы самим стать дельцами, как это произошло, например, с группой «Who».
…Страница из иллюстрированной истории поп-музыки. Трап самолета. Роскошный автомобиль возле трапа. В самолет поднимается улыбающийся певец, «звезда» раннего рок-н-ролла — Бадди Холли. Подпись: «Эй, что произошло? Когда-то я жил в Техасе. У меня были плохие зубы, и я пел голосом, испорченным гландами и аденоидами, заикаясь и взвизгивая. Кто-то сказал мне, что я — заводной парень, и я двинулся в Нью-Йорк. Здесь я встретил людей, которые поправили мне зубы, дали мне новые очки, причесали меня и одели в настоящей итальянской манере. Затем они назвали меня Бадди Холли, — разве плохое имя? Они послали меня на гастроли, двинули меня на телевидение, и теперь я звезда рок-н-ролла. Всюду, где я ни появляюсь, девушки визжат от восторга, парни просят у меня автограф, и я катаюсь на «кадиллаке». Но иногда я не могу поверить во все это — я вспоминаю штат Техас, где все надо мной смеялись, и спрашиваю себя: неужели это — в прошлом?»37
В Бадди Холли вложили деньги в буквальном смысле — в его организм. Эти деньги родили его «заново», и менеджер едва ли не вправе был дать ему новое имя. От певца потребовалось одно-единственное присущее ему качество: «заводной» темперамент. Остальное, от нового имени до стрижки и одежды в «итальянской манере», традиционно ассоциирующейся с мужским «теноровым» обаянием, — имидж. Бадди Холли стал стилизацией мужской привлекательности; перед его «заводной» силой не могут устоять ни девушки, видящие в певце воплощение своей мечты, ни юноши, идентифицирующие себя со счастливым обладателем искусственных зубов, модных очков, «кадиллака» и темперамента.
Для солиста превратиться в «звезду» экономически проще, чем для оркестра. Связь рок-коллектива с поп-бизнесом сложнее. «Они должны сначала купить себе установку. Установка состоит из инструментов, электроусилителей и колонок и стоит по меньшей мере 20000 марок, однако чаще 50000 марок… Затем они должны купить себе какой-нибудь фургон, чтобы перевозить установку и самих себя. Концерты не состоятся, если не будет обеспечен транспорт. И для такого обеспечения нужно иметь особого человека. В группе все слишком заняты, чтобы заниматься еще и транспортом. Но вот становится одним человеком больше, и ему тоже нужно платить. В свою очередь он нуждается в агентах, обеспечивающих транспортную цепочку при больших переездах. На это уходит от 10 до 15 % выручки»38. Но чтобы концерты принесли выручку, чтобы публика раскупила билеты — рок-оркестр должен уже быть известным. Здесь он целиком зависит от выпуска пластинки, от менеджера, который сумеет заинтересовать фирму грамзаписи в работе с оркестром. Если расходы на выпуск пластинки берет на себя фирма, то в таком случае она еще в процессе записи начинает рекламировать ансамбль и ожидаемую запись.
В ходе этой карьеры и отдельный солист, и коллектив поп-музыкантов должны подчиняться деловой стратегии фирм. «Трудно консервировать звезду в течение многих лет», — делится профессиональной печалью менеджер39. Ибо вспыхивают новые «звезды», и для того чтобы конкурировать с ними, необходимо иметь разветвленную систему рекламы.
Технику организации широкой рекламы, сделанной Элвису Пресли, продемонстрировали владельцы фирмы «RCA», работавшие в сотрудничестве с менеджером Пресли Томом Паркером.
В 1965 году фирма учреждает «Международное общество поклонников Элвиса Пресли» («International Elvis Presley Appreciation Society»). «Общество» быстро заводит отделения в разных странах — не только в столицах, но и в провинции. О мотивах, заставляющих слушателей вступать в ряды «Общества», можно судить, например, по газете нюрнбергского его отделения («Elvis Presley Fun Club Niirnberg»). В одном из номеров 1971 года читаем следующее оповещение о задачах «Общества»: «помогать Элвису и почитать его», «объединять всех друзей Элвиса в общество, в котором каждый имеет равные права», «собирать суммы, употребляемые на нужды "Общества", а также — согласно желаниям самого Элвиса», «издавать тексты песен из репертуара Элвиса». Из публикаций мы также узнаем, что члены клуба в Нюрнберге помогают распространению пластинок Элвиса, свитеров с эмблемами Элвиса, блокнотов, на которых оттиснут профиль певца и т. п. То есть продукции, выпускаемой с финансовым участием «RCA», а следовательно, приносящей прибыль как самому певцу, так и его владельцам.
Симптоматично оформление нюрнбергского издания: этот орган добровольной и, казалось бы, независимой общественной организации выходит с товарной маркой фирмы грамзаписи, а не только с клеймом «идола» — оттиснутым профилем короля рок-н-ролла. Не менее симптоматична и «демократическая» демагогия, образующая особый имидж этой «независимой» общественной организации: «объединять всех друзей Элвиса в общество, в котором каждый имеет равные права». Права на что? Об этом не говорится. Но можно понять из контекста: права на сборы и пожертвования в карман «звезды» и фирмы, права на создание рекламы Элвису и «RCA».
Нюрнбергский журнал — не единственный печатный орган «Международного общества поклонников Элвиса Пресли». На английском языке выходит журнал «Элвис», во многих странах выпускаются сборники песен из репертуара «звезды».
Около 2000 «паломников» каждый день еще в конце 60-х приезжали в Мемфис, к «святыне» — собственному двадцатитрехкомнатному дому Элвиса, выстроенному в колониальном стиле. Один из таких паломников, житель ФРГ, высказывался в журнале «Элвис»: «Мое желание воистину одно: увидеть единственного короля — Элвиса Пресли». По приезде в Мемфис ему посчастливилось, однако, встретить лишь дядю «звезды» и поговорить с ним о цвете волос маленькой дочери Пресли. И это интервью размножается «элвиспрессой» словно нечто важное и содержательное40. Впрочем, в деле «консервирования звезды» нельзя брезговать ничем, все можно умело «обыграть». У маленькой дочери Пресли «светлые волосы, однако они начинают темнеть», она «уже сама открывает двери» — факты слишком естественные и обычные, но тоже воздействуют на покупательский спрос. «У него дети, как у нас» — иллюзия близости своему «королю» и «идолу». И разговор с дядей певца — тоже не мелочь: человек, читая запись беседы, ощущает себя словно допущенным в семейный круг Пресли, словно устанавливает со своим кумиром родственные связи. Но после этого трудно не помочь «родственнику», например, не купить его пластинку.
Элвис Пресли был первым музыкантом «новой» поп-музыки, которого сумели превратить в «звезду», потеснившую своей популярностью прежде находившихся вне конкуренции кинозвезд. Как мы видели, для этого были пущены в ход многие средства.
Вместе с тем карьера Пресли была не столь сложна, как у позднейших рок-ансамблей, экономические условия выживания которых «в бездне звезд» вообще гораздо более жесткие.
Итак, шанс реализован. Коллективу рок-ансамбля удалось достичь известности. Но когда его творчеству, казалось бы, гарантирована финансовая стабильность, участники коллектива, как правило, уже не имеют времени и сил ставить перед собой новые художественные задачи. К тому же расходы растут быстрее, чем доходы41. Количество менеджеров по транспорту и по организационной подготовке концертов увеличивается. Например, у рок-оркестра Заппы 15 менеджеров, из них — 14 не имеют непосредственного отношения к музыке. Несколько — по транспортным делам, несколько — по устройству концертов в США и различных странах Европы, несколько — по связям с радиостанциями ФРГ, Великобратинии, Скандинавии42. Эта группа служащих уже значительно превышает число самих музыкантов, однако оплачиваться должна из «музыкальных» денег, получаемых за концерты и пластинки.
Постоянно должна обновляться аппаратура. «Стоимость установки возрастает до 100000 марок. Теперь установку перевозят в двух больших фургонах… Нанимаются секретарши, заключается договор с фирмой, обеспечивающей рекламу и связь с публикой»43. Все это можно оплатить лишь за счет расширения круга публики (для концертов отводятся уже не залы, а стадионы) и повышения цен на входные билеты и пластинки. Все большее количество слушателей во все большем размере должны оплачивать то, что когда-то затеяли четыре или пять безвестных музыкантов.
Эти деньги распределяются между членами коллектива неравномерно. На стадии устойчивого успеха «композитор и текстовик начинают получать больше, чем их коллеги по ансамблю. И с этого момента навсегда коллектив перестает быть общностью. Оркестр работает как предприятие со служащими разного ранга»44.
Совершенно очевидно, что творчество музыкантов в рамках поп-индустрии подчиняется коммерческим интересам. Примеры показывают, что выживание в «бездне звезд» зависит прежде всего от фирмы грамзаписи. На нее — основные упования поп-музыкантов. Она — основной поставщик поп-продукции слушателям.
«Только после появления пластинки оркестр добивается известности. Лишь тогда ему обеспечено продвижение (Promotion). Оба важнейшие средства промоуции — телевидение и радио — в значительной мере зависят от индустрии грамзаписи»45.
Например, к началу 70-х годов в капиталистических странах насчитывалось 13 крупных фонографических фирм, 40 — со средним оборотом и несколько тысяч небольших коммерческих предприятий46. Степень монополизированности фонографической промышленности, таким образом, весьма велика, что свидетельствует о крупных доходах, приносимых этой ключевой отраслью поп-промышленности.
Рок-оркестр (или солист) заключает с фирмой грамзаписи договор на определенный срок, в течение которого ему гарантируется от 2 до 12 % поступлений с цены каждой проданной пластинки, а также задаток перед новым производством грамзаписи47. Фирма получает остальное. При этом современная поп-музыка, некогда связавшая свои судьбы с фонографической промышленностью, оказывается зависимой от оборудования студий звукозаписи — настолько, что «живые» концерты уже не имеют такого значения, как работа в студии. Оборудование студии становится «средством производства» нового рока. И эти средства производства, как правило, принадлежат не самим музыкантам, а их работодателям — капиталистам. Положение музыкантов в этих условиях сравнимо с положением наемных рабочих. «По отношению к публике актер выступает здесь как художник, но для своего предпринимателя он — производительный рабочий»48.
Маркс, разбирая характеристики товара в нематериальном производстве, также писал: «Оно имеет своим результатом такие товары, такие потребительные стоимости, которые обладают самостоятельной формой, обособленной как по отношению к производителю, так и по отношению к потребителю, — которые, следовательно, способны сохранять свое существование в промежутке времени между производством и потреблением и, стало быть, могут обращаться в течение этого времени как пригодные для продажи товары; таковы, например, книги, картины и вообще все произведения искусства, существующие отдельно от художественной деятельности создающего их художника»49. Пластинка «оторвалась» от творческой деятельности художника гораздо сильнее, чем, например, нотный текст. Пластинка с ее невоспроизводимыми в живом исполнении эффектами «отрывается» как от процесса сочинения, так и от процесса исполнения. «Певица, продающая свое пение на свой страх и риск, — непроизводительный работник. Но та же самая певица, приглашенная антрепренером, который, чтобы загребать деньги, заставляет ее петь, — производительный работник, ибо она производит капитал», — писал Маркс50. Однако певица имеет голос, который является ее собственностью. Современные рок-исполнители свой голос и талант нередко приспосабливают к техническому вооружению студий грамзаписи и, таким образом, вообще лишаются чего бы то ни было «своего», лишаются и возможности работать «на свой страх и риск». Они — изначально «производительные работники».
Если на ранних этапах истории поп-музыки контракт с фирмой грамзаписи был для певца как бы внешним условием карьеры, то сегодня такой контракт — внутреннее условие самого творчества.
Функционирование поп-музыки немыслимо также без обеспечения успешного сбыта продукции. Это означает: формирование продукции соответственно спросу — учет условий рынка, требований и настроений потребителя и т. п. А также — формирование спроса соответственно продукции — рекламирование, «продвижение» ее различными путями с использованием прессы, радио и телевидения. Первым родом обеспечения сбыта поп-музыки занимаются менеджеры, часто состоящие при фонографической фирме (в качестве ее работников) или же вступающие с ней в контракт по поводу того или иного музыканта или музыкального коллектива. Вторым родом обеспечения сбыта поп-музыки занимаются промоутеры — дельцы, профессией которых является реклама.
Роль радио, телевидения, кинематографа в стимулировании интереса масс к продукции коммерческого «искусства» широко известна. Читатель хорошо представляет себе и то воздействие на умы, которое оказывает на Западе печатная реклама. Поэтому остановимся только на некоторых примерах, характеризующих деятельность телевидения и издателей, «продвигающих» поп-музыку в ее «неживом» (транслируемом, иллюстрируемом, описываемом) виде.
Западный социолог пишет: «Современный досуг — это массовый досуг, основанный на массовой культуре, распространяемой средствами массовой информации»51. Подтверждение этому тезису — цифры. В США время просмотра телепередач неуклонно возрастало в 60-х и 70-х годах. В 1970-м оно отнимало 2,2 часа в день, на 45 минут больше, чем в 1965 году. В 1975-м просмотр телепередач занимал более 40 % свободного времени, находясь на первом месте среди прочих досуговых занятий. Слушание радио принадлежит к так называемым вторичным занятиям, которые могут накладываться на основную деятельность (еду, домашний труд, труд на производстве, пребывание в дороге и т. п.). С учетом этого факта слушание радио занимает четверть всего времени бодрствования. Ясно, что телевидение и радио обретают важное значение в качестве промоутеров поп-музыки.
Это их значение хорошо понимают фирмы грамзаписи. Они часто передают радиостанциям поп-пластинки бесплатно, тогда как пластинки с классической музыкой — чаще за деньги52. Каждая программа радио ФРГ до 35 часов в неделю отдает поп-музыке, каждая телепрограмма — до 45 часов в неделю53. Существуют специальные программы, построенные по типу: музыка и информационная пауза. Так, в частности, работает вещающее на всю Европу радио «Люксембург»54.
Поп-музыка благодаря радио и телевидению превращается в постоянный фон жизни масс. Она «становится фактором окружающей действительности»55, своего рода средой обитания. Проникая в повседневный быт людей, став частью этого быта, поп-музыка через радио- и телеканалы вербует себе покупателей56. Эта функция массовых средств информации столь сильна, что, как показывает статистика, «пластинка (начинающей группы), если она не прозвучала по радио, наверняка не будет распродана»57.
Появляясь в теле- или радиопередачах в качестве «рекламы самой себе», поп-музыка обретает дополнительные имиджи. Чтобы лучше разобраться в этом, необходимо вспомнить предысторию поп-музыки.
Ранний шлягер принимал свою форму под воздействием особых, характерных для середины — конца прошлого столетия условий бытования развлекательной музыки. Эти условия знаменовали новый, «урбанистический» тип досуга. В Австрии и Германии возникают большие развлекательно-танцевально-гастрономические заведения по типу несколько ранее образованных в Париже и Лондоне предприятий Мюзарда и Валентино58. Их названия (например, «Элизиум» в Берлине) как бы свидетельствовали о престижности досуга, проведенного в стенах этих заведений. В помпезных, чрезвычайно «элегантных» помещениях для танцев и еды, с высокой входной платой (каковая и полагается за вход в «Элизиум», то есть «рай») вмещалось до 10000 человек. В сочетании с массовым стечением публики и высокой входной платой прозрачная символика названий этих заведений ясно указывала на потребительский имидж: «рай» как массовое потребительство и высокая покупательная способность буржуа как «рай».
Впрочем, эти музыкально-танцевально-гастрономические заведения не были чем-то исторически непривычным по форме: их устройство и развлекательная функция словно повторяли в огрублении дворцовые аристократические празднества XVIII века. Подлинным порождением буржуазного досуга стало следующее «огрубление огрубления».
Держатели пивных и других небольших заведений в рабочих районах того же Берлина придавали сходство этим заведениям с «Элизиумами». Здесь звучали те же песни, что и в дворцах финансовых воротил. Здесь повторялась в уменьшении (и как бы пародировалась) структура модных крупных развлекательных помещений: на месте парадных зал для танцев — небольшие площадки на улице рядом с кафе, либо простой «пятачок» между столами, на месте больших оркестров — подрабатывающий пианист (которого называли «капелла», словно бессознательно перенося на него образ музыкантов, которые обеспечивают музыку «Элизиума»), на месте сцены и кулис — стулья, на которых сидели исполнители-певцы, и каждый вставал, когда начинался его номер. За право танцевать под эту «райскую» музыку «каждая пара платила какие-то гроши» — это вместо высокой входной платы в больших музыкально-танцевальных заведениях59.
Музыка, звучавшая в этих небольших гастрономическо-танцевальных помещениях, несла на себе имидж «потребительского рая», товарной престижности. В то же время здесь существовала непосредственная близость между публикой и исполнителями, которая облегчала процесс идентификации развлекающегося индивида с тем, о чем поется в песне. А на такой идентификации и держится поп-музыка, которая отчуждает силы, способности, потребности человека и возвращает их ему затем в виде иллюзии, требуя вдобавок за это денежного возмещения.
Шлягер получает зрелую товарную форму, став продуктом фонографической индустрии, заняв место на пластинке. В виде пластинки шлягер наилучшим образом обменивается на деньги. Одновременно он уходит из ситуации, облегчавшей непосредственную идентификацию субъекта со слушаемой музыкой. Налаживание этой идентификации «в обход» звучания — одна из задач средств массовой информации, прежде всего — телевидения, а также фотоинформации о поп-музыке.
Очевидно, не случаен тот факт, что параллельно с первым расцветом фонографического шлягера переживал свой расцвет и киношлягер. С одной стороны — пластинка, универсально продаваемая и универсально звучащая, но не создающая полноценной ситуации для слушательской идентификации с тем, о чем, как и кем поется, с другой стороны — киноизображение, сопровождаемое тем же шлягером. Это киноизображение дает более богатые возможности для воссоздания прежней ситуации непосредственной близости исполнителей и слушателей. Возможности настолько же более богатые, насколько более универсальна распространяемость шлягера при посредстве пластинок. Прежнее единство зримого и слышимого шлягера распадается на два дополняющих друг друга аспекта. Один воссоздает «товарную престижность» музыки, «шик Элизиума» (например, в голливудском фильме 20-х годов «Огни Нью-Йорка» Б. Фойя — «первом стопроцентном звуковом фильме» — воссоздана обстановка богатых гастрономических бальных заведений)60, а также «личностный» аспект воздействия песни и исполняющего ее певца. Фильм может рассказывать типичную историю из жизни «звезды» (как, например, в голливудском «Певце джаза» А. Крослэнда)61. Другой аспект репрезентирует только музыку, продавая ее отдельно от этих тоже обеспечивающих ее товарное бытие характеристик.
Позднее поп-индустрия переходит к стереозаписи. Стереопластинки стимулировали спрос на весь комплекс продукции фонографических концернов — от звукозаписывающей и проигрывающей аппаратуры до самих пластинок и до «новой» поп-музыки, «электрифицированной» и акустически-агрессивной. В годы внедрения стереоаппаратуры и соответствующих пластинок американские дельцы, например, продавали в год в среднем до 3415000 проигрывателей и до 400 миллионов пластинок62. Однако стереозвучание ставит и определенные проблемы для поп-бизнеса.
В мире стереофонически-совершенной музыки звучание становится как бы «самодовлеющим»; в него предполагается вслушивание, а не только простое «улавливание» ритма-мелодии-текста. Поэтому специфичное для развлекательной музыки непосредственное отождествление слушателя с ритмом-мелодией-текстом как бы отодвигается на задний план. «Неслышимо» (и вместе с тем явственно) между слушателем и музыкой присутствует аппаратура. Говоря словами В. Беньямина, «публика вчувствуется в исполнителя лишь тогда, когда она вчувствуется в аппарат»63. Слушатель сознательно, рефлективно идет в мир поп-опуса, а эмоционально, чувственно — остается на расстоянии от него, натыкаясь на «заслон», создаваемый аппаратом. Этот «заслон» мешает слушателю ощутить себя в своем доме (где звучит проигрыватель) как в «Маленьком Элизиуме». Под угрозой нейтрализации оказывается один из важнейших стимулов спроса на развлекательную музыку. И здесь на помощь приходит визуальная (фото-, кино- и теле-) промоуция поп-музыки, ее «продвижение» средствами массовой информации, которые не просто рекламируют те или иные пластинки, но возвращают слушателю утерянную стереопластинкой атмосферу непосредственной близости, интимности музыки.
С 50-х годов средства массовой информации рекламируют поп-музыку в жанре фотоальбомов — иллюстрированных изданий, вливающихся в общий поток непритязательного чтива. Любопытно, что в этих альбомах константными остаются два условия слушательской идентификации с музыкальным поп-товаром: 1) упор на престижность рекламируемой музыки и 2) «интимизация» «звезд» этой музыки.
Излюбленный способ доказательства и демонстрации «товарной престижности» рекламируемых в альбомах идолов (а следовательно, их пластинок) — это изображение по типу «звезда — толпа — полицейский кордон». Первая иллюстрация альбома Гая Пиллэрта и Ника Кона — фото Фрэнка Синатры, окруженного полицейскими, и бушующей вокруг него восторженной толпы. Подпись: «Синатра нуждается в кордоне полицейских, чтобы пройти в концертный зал»64. Далее разворот — собрание фотопортретов знаменитых певцов и подпись: «Я думаю, что из каждой капли дождя, которая падает, вырастает доллар». Еще один разворот, товар на этот раз — Элвис Пресли. Фотография застолья, стилизующая «Тайную вечерю». В центре — Элвис Пресли, делающий благословляющий жест. Вокруг почтительно сидят двенадцать «звезд»: Винс Тэйлор, Томми Сэндс, Рик Нельсон, Томми Стил, П. Дж. Проуви, Билли Фьюри, Том Джонс, Эдди Кохран, Терри Дин, Ричи Вэйленс, Фабиан, Клифф Ричард. Подпись: «Элвис Пресли — король. Мы — на его коронации».
А вот примеры «интимизации» имиджей поп-музыки. Биография Пола Анка, изложенная в виде комиксообразных картинок, рассказывающих историю, «каждому близкую». Певец вначале — неповоротливый толстяк; при помощи гимнастики он сбрасывает вес, становится «звездой» эстрады и объектом поклонения девушек. Так на «индивидуальном примере» закрепляется присущий рок-н-роллу имидж «спортивности», «успеха», зависящего от физической формы как высшей ценностной инстанции. Так «интимизируется» и восприятие пения «звезды» — каждый теперь, слушая, вспоминает картинки со спортивными снарядами и неуклонно-волевым, постепенно худеющим юношей…
Вообще, о фотоальбомах и фотопромоуции поп-музыки можно было бы говорить много. Несомненно, что стилистика фотографий — одно из мощных средств внедрения в сознание масс специфических смыслов, на которых спекулирует поп-культура и которые могут быть неполностью «услышаны» при знакомстве с пластинкой. Фотографии, стилизующие имиджи той или иной «звезды», наглядно раскрывающие «смысл» поп-опусов, позволяют слушателю помимо музыки «понять» имидж и слушать музыку, уже предварительно отождествив себя со «звездой». Средства, вкладываемые в издание и полученные от распродажи фотоиллюстраций, частично принадлежат фонографическим предприятиям и бюро менеджмента.
Другой мощный канал визуальной промоуции поп-музыки — это телевидение.
Достаточно часто телепередачи эксплуатируют традиционную атмосферу помпезного, богатого «Элизиума», внушая слушателю товарно-престижное ощущение музыки. При этом сама близость телеаппарата к слушателю, к его быту позволяет одновременно достигать ощущения некоторой близости к «звезде».
Т. Кнайф в своем отчете журналу «Neue Zeitschrift {йг Musik» о рок-передачах описывает, например, серию «Рок-дворец»: «шикарный» антураж трансляции внушает зрителю-слушателю ощущение, что музыка «стоящая», а комментарий, касающийся деталей жизни и карьеры артистов, способствует одновременному возникновению ощущения «близости», «тесного знакомства» со «звездами»65.
Телеоформление способно сообщить поп-музыке дополнительные имиджи. Показательна, например, передача Бременского телевидения «Бит-клуб». В ней фоном является собрание любителей и знатоков, которые своей свободной ориентацией в звучащей продукции и своим раскованным поведением словно приглашают телезрителя «отождествиться» с ними, воплощающими «жизнь в поп-мире». Общение с «интересными» людьми («интересность» их лишь в том, что они интересуются поп-новинками) налагает на саму поп-музыку имидж «проблемы», обсуждение которой сплачивает «интересных» людей. Тот же имидж, но более интенсивно внедряется с помощью передач типа «Ночные концерты»66.
С конца 60-х годов стало довольно распространенным явлением то, что рок-звезда выступает в трех ипостасях: концерта, пластинки, фильма, демонстрируемого как в кинотеатрах, так и по телевидению. Примерно с 1967 года, когда усложнилась техника многоканальной записи и последующего монтажа и когда «живое» звучание резко разошлось с записью, так что многие рок-звезды совсем отказались от концертов (как, например, «Beatles»), фильмы стали играть роль заместителя концертов. Не случайно у многих поп-исполнителей 70-х годов появление пластинки сопровождается появлением фильма, в том числе и телефильма (еще у «Beatles», а затем систематически — у Фрэнка Заппы).
Как отмечает западногерманский музыковед X. Райнике, кино- и телеизображение «разрушает представление (о музыке. — Т. Ч.) как о вещи, изъятой из контекста»67. На экране музыка всегда вписана в некоторые события и образы. Даже малоталантливая музыка, когда она сопровождается интересным зрительным рядом, не столь «заметна» в своей стереотипности и кажется привлекательнее. «Тривиальность (поп-музыки. — Т. Ч.)… может компенсироваться воздействием изображения на экране. Музыка здесь персонифицируется, ей возвращается характер события»68. Может быть, поэтому поп-музыка, краеугольным камнем которой, начиная со шлягера, является стандарт, всегда тяготела к сценическому контексту, к наглядному и красочному оформлению[17].
Не случайно в этой связи и то, что индивидуальность поп-артиста измеряется прежде всего внешними атрибутами, или атрибутами внешности. Оригинальность облика, манера одеваться, стиль сценического движения, передаваемые кино- и телесредствами, служат завораживающим «зеркалом» для «массового» слушателя, привыкшего в оценке людей и в самооценке оперировать прежде всего критериями внешней престижности.
И еще об одном имидже, добавляемом к поп-комплексу средствами массовой коммуникации. Он обязан своим происхождением главным образом радиоканалам. На радио поп-музыка фигурирует не только в специально посвященных ей передачах, но и в виде заставок и сигналов, обозначающих другие передачи. С одной стороны, легко запоминающаяся или широко известная поп-заставка служит своего рода ярлыком, обозначающим жанр передачи70. С другой же стороны, поп-музыка становится как бы воплощением сквозного информационного содержания радиоканалов[18]. Таким образом, она утверждается в качестве знака «современности» и претендует на монопольное право «выражать современность». «Я думаю вот о чем, — говорил В. Бурде о проблеме «музыка на телевидении», — молодежь уверена, что существует лишь три музыкальных инструмента: ударные, гитара и синти»72. Поп-музыка — воплощение «всей музыки», «метафора социума»73, сегодняшний «путь жизни»74. Это один из ключевых ее имиджей, один из ключевых стимулов спроса на нее, утверждению которого способствуют радиоканалы.
«Гетто свободного времени, — пишет западногерманский социолог, — лишено связей с действительностью»75.
Выкачивая прибыли из свободного времени масс за счет превращения его в рынок сбыта поп-музыки, владельцы фирм грамзаписи, менеджеры и промоутеры одновременно нейтрализуют неугодные течения мысли, насыщая сознание масс имиджами, которые иллюзорно отвечают его нуждам и чаяниям.
Западные социологи, анализируя «массовую культуру», приходят к выводу: в современных условиях досуг стал «подачкой трудящимся для приукрашивания отрицательных сторон жизни; это способ компенсации отчуждения, характерного для современной эпохи, выполняющий те же идеологические функции, что и религия на предшествовавших капитализму стадиях развития»76.
Социально-политическая функция иллюзорной компенсации опирается на естественную тягу людей к некоему противовесу, который можно противопоставить неувлекательному, лишенному инициативы, принудительному труду при капитализме. Интервьюер задает рок-звезде Фрэнку Заппе вопрос, сводящийся скорее к утверждению, что музыка Заппы никак не связана с реальностью, в которой живут слушатели. «Да, — отвечает Заппа, — я не в их реальности. Их реальность состоит из повседневной работы, из их быта. Возьмем кого-нибудь, кто работает в конторе. Это его реальность.
Вечером он идет на концерт, чтобы увидеть "Mothers of Invention" (оркестр Заппы. — Т. Ч.) или что-нибудь другое. Он хочет тем самым пережить другую реальность, нашу реальность. Ему не нужно видеть там свою реальность. И без того он наблюдает ее все время. Для этого ему не надо концерта». — «Он ищет иллюзий?» — спрашивает журналист. «Нет, не иллюзий, — пытается уйти от компрометирующего слова Заппа, — лишь чего-то, что отличалось бы от его собственной жизни. Любопытство — вот важнейший стимул, заставляющий его идти на концерт. Он ищет там непривычного».
«Непривычное, — подхватывает интервьюер, — дают поп-группы. Они выстраивают, следовательно, как ты говоришь, другую реальность (которую я называю иллюзией), отделяя ее от повседневной реальности..»77.
Положение слушателя в рамках поп-культуры характеризуют как положение в «утерянном пространстве внутренней свободы»78. Свидетельством действительной «несвободы» слушателя в мире поп-образов является отмечаемый социологами факт, что с ростом образовательного ценза публики «возрастает расхождение между осуждением развлекательной музыки на словах и фактическим ее восприятием», которое остается желательным и притягательным для слушателей79. Иначе говоря, сознание слушателей «понимает», что поп-культура — это суррогат, но «утерявший внутреннюю свободу» человек бессознательно продолжает тянуться к этому суррогату и ограничиваться им. Таково действие механизмов манипулирования слушательскими потребностями.
«В сфере свободного времени, — отмечают авторитетные наблюдатели, — конфронтация противоборствующих классов смягчается благодаря иллюзорному представлению о наличии возможностей для самовыражения. Это приносит двойную выгоду господствующему классу: расширяется продажа потребительских товаров, используемых во время досуга, укрепляется капиталистическое хозяйство, а ограничение интересов индивидуальной сферой досуга ослабляет классовое самосознание, разрушает коллективные представления о собственном социальном положении»80.
Двойная выгодность поп-музыки для господствующих классов оборачивается двойной эксплуатацией масс. Их свободное время становится временем «непроизводительных» расходов, фактически не служащих повышению уровня жизни. Одновременно это свободное время становится временем их духовной дезорганизации.
«Буржуазное общество, — пишет советский исследователь, — не может дать человеку подлинного счастья. Вот и снабжает его эрзац-счастьем. Именно в этой атмосфере формируется человек, восприимчивый ко всякого рода ненастоящим удовольствиям. А раз есть потребитель, есть спрос, то за предложением дело не станет. Для этого и существует индустрия развлечений»81. Таким образом, если производственная жизнь масс при капитализме формирует предпосылки примитивно-развлекательного досуга, то такого рода досуг способствует формированию трудящихся как пассивных орудий капиталистического производства.
Противоречия буржуазного общества обостряются — настолько, что уже недостаточно прежних средств давления на массы и нужны еще более тонко разработанные культурные механизмы такого давления. Но ясно, что эти механизмы — последнее средство поддержания статус-кво в антагонистическом обществе. По сути своей это фиктивное средство, неспособное решить проблемы не только трудящихся масс, но и их угнетателей, тем более что рядом существует культура реального социализма и — в рамках самого капиталистического общества — демократическая, прогрессивная культура[19].
Поэтому все труднее приходится магнатам развлекательного бизнеса достигать своих экономических и идеологических целей. Показателем растущих здесь трудностей является сама история поп-продукции с 10-х годов до наших дней; история, основная тенденция которой — совершенствование способов создания имиджа и разворачивание все более разнообразных иллюзорных «способов самовыражения» масс — свидетельствует об усложнении дела «управления» общественным сознанием, об объективно возрастающем сопротивлении сознания масс капиталистическому идейному «клишированию».
Глава 4 «Вторая выгода». Производство имиджей
Многие деятели западной культуры отчетливо представляют технику создания имиджей. Вот, например, высказывание Олдоса Хаксли: «Определить некоторое общее желание, широко распространенные чувства ожидания и заботы, обдумать, как связать это желание или это ожидание с продуктом, который вы должны продать; после этого возвести мост словесных или живописных (или любых других, в частности и музыкальных. — Т. Ч.) символов, по которому ваш потребитель может пройти от фактического до вознаграждающей мечты, а потом от нее — к иллюзии, будто ваш продукт, если его приобрести, сделает эту мечту реальностью»1
Имидж в поп-музыке — явление многоплановое. «Мост символов», по которому слушатель приходит к покупке музыкального товара (и одновременно уходит от действительной реализации своих стремлений), может строиться из материала поэтического текста, из музыкальных деталей, за которыми культурная традиция закрепила определенные ассоциации, из внешнего облика, манеры поведения на сцене того или иного коллектива или солиста поп-музыки, из биографических подробностей о той или иной «звезде» и из акций, сопровождающих поп-музицирование. Получаемый из разного сочетания этих «строительных деталей» имидж одновременно выполняет по меньшей мере две идейные функции: а) служит иллюзорному удовлетворению социальных потребностей масс и б) является проводником чуждых массам умонастроений, замаскированных под оболочкой фальшивой символизации их идеалов и стремлений.
В различных направлениях поп-музыки имиджи обладают разной структурой. Можно говорить даже о тенденции усложнения этой структуры в ходе развития поп-музыки. Эта тенденция косвенно свидетельствует о росте «взрывной силы» настроений социального недовольства, — чем больше эта сила, тем более универсально-действующими, более «совершенно» устроенными должны быть нейтрализующие ее «поп-клише».
Многими исследователями отмечается, что в «массовой культуре» Запада с конца 50-х годов кинозвезды оттесняются на второй план «звездами» поп-музыки (уже и сами кинозвезды рекрутируются на эстраде, как Элвис Пресли или — в последние годы — Дейвид Бауви)2. При этом интенсивность «культа звезды» и значение его усиливаются: уже не только идеал внешности, но стиль жизни, модель самосознания и социального поведения — вот что такое музыкальный «поп-идол». И не случайно ранее эстрадные кумиры не могли конкурировать с кинозвездами.
В «старой» поп-музыке существовало положение, аналогичное ситуации «актер — роль» в кино. До известной степени актер, даже знаменитый, — сам по себе, а роль — сама по себе. В массовом сознании актер (с его частной жизнью, смакуемой прессой) есть как бы отделенная от его искусства величина.
В «старой» поп-музыке отмечается сходная ситуация: репертуар — одно, сам певец — другое. Но если в кинематографе «перетягивал» актер, то в развлекательной музыке до 50-х годов основным носителем имиджа была музыкальная пьеса. В период пика своей популярности она могла исполняться разными певцами.
Позже положение меняется, и в поп-музыке формируется комплексный имидж, объединяющий практически все, что имеет отношение к творчеству и распространению музыки. Главные опорные точки поп-имиджей второй половины века это: внешний облик музыкантов, антураж концертов, стиль жизни «звезд», доносимые до масс прессой, кинематографом, телевидением, «звучание» — особая манера пения и игры на инструментах, фокусирующая определенные идейно-эмоциональные установки, наконец, репертуар, теперь уже четко привязанный к определенному исполнителю или ансамблю. В «новой» поп-музыке создается такой имидж, который обладает несравненно более универсальным воздействием, чем прежние киносимволы «героя». Поэтому поп-«звезды» и потеснили кинозвезд на «алтаре идолов».
Следует отметить, что среди слагаемых универсального по своей структуре имиджа, который в последние десятилетия сформировала поп-музыка, по-прежнему, как и в «старой» поп-музыке, то есть в шлягере, основным является поэтический текст. Именно он «переводит в понятия» то, что выражено во внешнем облике музыкантов, в стиле их поведения, в их «звучании».
На тот факт, что в поп-музыке слово служит решающим компонентом смысла и идейного воздействия (при всей привлекательности для слушателя как раз музыкального ряда), косвенно указывает характер литературы о ней. Тибор Кнайф обратил внимание на то, что в «литературе о рок-музыке полным-полно описаний концертов и деталей из жизни музыкантов, но крайне редко найдется хотя бы такт нотного примера»3. Музыковед объясняет это обстоятельство тем, что рок не нотируется. Однако это объяснение не учитывает многих обстоятельств. Структура рок-музыки (а тем более шлягера, который, кстати, постоянно издается в виде нот и тем не менее не фигурирует в исследованиях в виде нотных примеров) достаточно ясна на слух и может анализироваться или, по меньшей мере, описываться прямо по звукозаписи. Кроме того, джаз или фольклор тоже не нотируются, однако анализируются и нотные примеры в исследованиях приводятся. И наконец, Кнайф не отмечает, что в литературе о поп-музыке в основном приводятся именно поэтические тексты, — как раз в них апологеты или противники поп-музыки видят главный предмет анализа.
Последующий разбор того, как строятся и воздействуют поп-музыкальные имиджи, мы начнем с поэтических текстов, обыгрывающих ключевой среди клише развлекательной продукции символ — символ «любви».
Поэтический текст как носитель имиджа
Центральной темой коммерческой развлекательной музыки является тема «любви». По данным Д. Кайзера, она составляет 84,9 % тематики предшлягерных и шлягерных текстов, начиная с середины прошлого века и кончая 70-ми годами нашего4. Другая выделяющаяся тема, но так или иначе подчиненная «любви», — проведение свободного времени (прежде всего «танец», затем — «путешествия»). Крайне незначительно количество шлягерных текстов, где проскальзывали бы темы семьи, родины или исторических событий. Совсем не встречается в шлягере тема работы5.
Подобное распределение тематики не случайно. Перед нами выражение особой социальной функции свободного времени в обществе, где труд является областью принуждения, насилия, угнетения, обесчеловечивания человека.
Капиталистическое производство заставляет трудящегося сосредоточиваться на выполнении целей, заданий, не им поставленных, подчас непонятных ему и, главное, не требующих проявления личностной самобытности, индивидуальной инициативы. Самобытность, индивидуальность, инициатива человека подавлены, угнетены. В свободное же время он имеет возможность сам выбирать цели, сам проявлять инициативу. Но личная инициатива, потребность выбора целей, не основанные на развитом классовом самосознании, оказываются замкнутыми в сфере частной жизни. В чем же они могут проявиться? В основном или прежде всего — в выборе партнера по этой самой частной жизни. Но, скажем, партнер однажды уже выбран, создана семья, сложился быт с его потребительской в капиталистическом обществе ориентацией, которая во многом устраняет возможность свободного выбора целей. А потребность в таком выборе остается. Она, при наличии денег, может удовлетворяться в сфере особых услуг: от увеселительных заведений (в том числе и безобидно-танцевальных), где можно вновь и вновь повторять ситуацию выбора партнера, до развлекательных фильмов всех категорий и иллюстрированных журналов, где отношения ухаживания, «любви», расставания и нового «выбора цели» являются основным содержанием.
Музыкальная промышленность, однако, — в особо выгодном положении. Ибо в музыке остается простор для «довоображения», одухотворения ситуации выбора партнера. И вот человек покупает в виде любовно-лирического шлягерного текста, окруженного эмоциональным нимбом музыкальных ассоциаций, свой реально неосуществимый свободный выбор цели. Слушая музыкальные шлягеры, он вновь и вновь «выбирает партнера», не нарушая общественных табу, он в новых и новых обстоятельствах (воображаемых) реализует потребность свободного выбора, потребность в проявлении личной инициативы.
Итак, первое: любовная тема в шлягере доминирует постольку, поскольку в музыкально-коммерческой эксплуатации свободного времени масс шлягер выполняет роль товара, покупаемого в поиске иллюзорного удовлетворения потребности в свободном выборе, личной инициативе, которая не реализуется в сфере производства. Еще раз подчеркнем: капитализм старается ограничить свободное время трудящихся рамками частной жизни. Поэтому возможность выбора и личной инициативы замыкается прежде всего на непосредственном контакте с другим человеком, то есть на «любви». Свободное время противостоит времени труда как «любовь» — «отчуждению», как «моя воля» — безличной необходимости, как «мой выбор» — навязанным чужим решениям. Шлягер обыгрывает эту социально-психологическую оппозицию, когда превращает людей из общественного «Мы» в изолированные «Я» и «Ты», во взаимоотношениях которых и устанавливается гармония.
Второе. Шлягер — это танцующая и заставляющая танцевать «любовь». Игровой ритм танца противостоит ритму работы, извне навязываемому и принудительному. Поэтому танцевальность (и это касается не только шлягера, но и всей поп-музыки) становится желанным средством заполнения свободного времени: в танцевальных движениях человек видит и ощущает противоположность движению конвейера или порядку оффиса. Однако «любовь», «гармония двух», воплощенные в инерции танцевального ритма, — это такое снятие отчуждения и самоотчуждения человека, которое происходит без волевых усилий, без психологических решений, в силу «естественного» ритма тела, в силу психофизиологической моторной инерции. Танцевальный ритм становится образом «непринудительности», ибо к физиологической инерции принудить невозможно. Но тогда шлягерный комплекс (свободное время — любовь — танец) оказывается воплощением такой свободы, в которой человек — не более чем биологический индивид. Вспомним слова Маркса: «В результате получается такое положение, что человек (рабочий) чувствует себя свободно действующим только при выполнении своих животных функций — при еде, питье, в половом акте, в лучшем случае еще расположась у себя в жилище, украшая себя и т. д., — а в своих человеческих функциях он чувствует себя только животным (…) Правда, еда, питье, половой акт и т. д. тоже суть подлинно человеческие функции. Но в абстракции, отрывающей их от круга прочей человеческой деятельности и превращающей их в последние и единственные конечные цели, они носят животный характер»6.
«Любовь» в шлягере — это как раз и есть такая «оторванная от круга прочей человеческой деятельности абстракция». И поэтому столь абстрактен (сведен к самым общим формулам) и стабилен на протяжении почти целого века поэтический лексикон шлягерной «любви».
Шлягер выдвигает «любовь» как последнюю и конечную цель, достигая которой человек воссоздает ситуацию «идеального микросоциума». Здесь становятся возможными его свободный выбор, его неотчужденность от других людей и от самого себя. Любовь уже в романтической утопии казалась разрешением всех противоречий: она, например по Новалису, — «конечная цель мировой истории, аминь универсума». «Разве не в том состоит единственная абсолютная потребность… — любить, быть вместе с любимым человеком?»7 Однако при этом любовь у романтиков — это высшее проявление внутреннего мира человека, это нечто противоположное шлягерной «любви» как занятию аналогичному «еде и питью».
Буржуазия, которая к середине XIX века превратилась из восходящего, революционного класса в класс реакционный, переосмыслила образ «любви — свободы». В городском романсе конца прошлого века (непосредственном предшественнике шлягера) этот образ упрощается, из него уходит все связанное с романтическим культом неповторимой человеческой индивидуальности. Рождаются специфические квазиромантические клише. Буржуазные обыватели «украшали» свое экономное и потребительское существование схематическим (то есть тоже буржуазно-экономным) напоминанием о «романтических» отношениях, над которыми ни экономика, ни чистоган не властны. В западноевропейском городском романсе возникает поэтика, которую исследователь назвал «неверующим в себя романтизмом»8,— поэтика условно-романтической «любви».
Популярность городского романса росла. Благодаря деятельности уличных певцов он к концу XIX века стал господствующим видом городской и бытовой вокальной музыки, которую слышала и психологически усваивала не только сравнительно грамотная буржуазная публика, но и малограмотные городские низы. Романс все в большей степени насыщался модными танцевальными ритмами (в частности, под влиянием оперетты), а поэтический текст начал восприниматься как ритмическая основа. Процесс упрощения романтического лексикона, связанного с темой любви, продолжался и в шлягере.
Первые два места по частоте употребления в этом лексиконе занимают местоимения «Я» и «Ты»9. Около одной пятой части от процента встречаемости «Я» и около половины от «Ты» составляет «Мы» — но лишь в смысле «мы двое». С сильным отрывом от «Я», «Ты» и суммирующего «Мы» идут другие слова шлягерного лексикона. Из них, в свою очередь, наиболее часты глаголы-операторы отношений между «Я» и «Ты»: «идти», «мочь», «приходить», «сказать», также существительное «любовь» и наречие «сегодня». Третья по частоте употребления группа слов: «ночь», «счастье», «сердце».
Всего словарь шлягера включает 120 слов с учетом и таких, которые встречаются в 662 текстах менее 10 раз (это, симптоматичным образом, «омрачающие» слова: «плохой», «судьба» — в смысле «участь», «рок»). Заметим, что первое определение, которое хоть как-то конкретизирует «Я», «Ты» и их отношения «любви», представленные глаголами «идти» и «приходить», стоит только на 45-м месте по частоте употребления и не отличается особой психологической изысканностью, — это прилагательное «счастливый». Кроме него прилагательных в шлягерном словаре только пять и тоже весьма элементарных. Вот они: «довольный», «молодой», «нежный», «великолепный» и уже названное «плохой».
Бедность, элементарная обобщенность и оптимизм шлягерного словаря свидетельствуют об образе индивида депсихологизированного, потребности которого сведены к «еде и питью»… Герои шлягера «Я» и «Ты» поданы как предельные абстракции. Их «чувство» (то есть «любовь») потому и не характеризуется специально, что уже заложено в «Я» и «Ты», более того — является единственным модусом их бытия. Но если такие слова, как «любовь», «приходит», «говорит», «сегодня», выражают всегдашнюю неотъемлемую сущность «Я» и «Ты», то и «счастье» есть неотъемлемое состояние их «сердца» (а то, что «счастье» и «сердце» находятся в одной группе с «ночью», только подчеркивает непосредственно физический аспект «счастья»).
Очень симптоматично, что в шлягерном словаре вообще нет слова «Они». То, что существуют также и «другие люди», с одной стороны, неважно для иллюзии «любви», которая составляет сущность героев шлягера (ведь эта «любовь» — оазис, в котором забываешь о социуме), а с другой стороны, «Я» и «Ты» в их шлягерной определенности (точнее — неопределенности) — это такие предельные абстракции, которые вмещают в себя также и всех тех, кто подходит под местоимение «они».
Посмотрим, чем обставлен «оазис посреди социума», каковы же его приметы — природные и исторические. Их очень немного. Перечислим по частоте употребления. Временной параметр здесь обозначен как «ночь» и реже «день». Чередование «ночи» и «дня» — это «мир». Пространственное устройство «мира» — по количеству опознанных топологем — словно детская картинка, правда, лишенная одухотворенной наивности детской фантазии. В нем всего-то и есть только: «звезда», «море» и «солнце», «роза», «небо», «земля» и «город». Обратим внимание читателя: «город», то есть основное место обитания слушателей, появляется в словаре на пятьдесят пятом месте! Совершенно ясно, иллюзию какого мира создает шлягер: мира, в котором тщательным образом избегают любых намеков на современные проблемы, на ситуации реальной жизни. И не менее симптоматично то, какие еще, кроме «города», исторические (то есть сделанные руками человека) предметы помещены в мире «любви». Их всего только… три! И неудивительно, что это предметы, символизирующие досуг: «дом», «песня» или «музыка» и… «вино». Как не заметить, что шлягер «работает» чуть не буквально по формуле, которой Маркс охарактеризовал мнимую «свободу» капиталистического наемного работника.
Итак, герои шлягера, «Я» и «Ты», живут (в основном «ночью») в изолированном от истории и ее проблем «доме», где звучит «песня-музыка» (очевидно, музыка самого шлягера, заменяющая героям содержательное человеческое общение). Внешний мир они представляют себе в общих и безоблачных чертах, знают о его «звездах», «море», «солнце», «розах», «небе», «земле», «городе». Сами «Я» и «Ты» «счастливы», «довольны», «молоды», «великолепны». Могут они прежде всего «идти» и «приходить», а также «говорить», «хотеть», «оставаться», «давать», «брать», «слушать», «жить», «целовать», «петь», и наконец, «спрашивать», «забывать» и «не забывать», «смеяться», «играть», «танцевать», «печалиться», «плакать» (последние два действия — крайне редки). Действий, сколько-нибудь психологически мотивированных в этом перечне, — меньшая часть: «забывать — не забывать», «смеяться», «печалиться», «плакать». Таким образом, поведение человеческих субъектов в шлягере не только схематично-элементарно. Оно становится предельно внешним, полностью наблюдается и просматривается. В этом поведении нет и намека на «таинственную» внутреннюю жизнь. Перед нами люди, целиком «понятные», насквозь предсказуемые, — их телефонные разговоры, во всяком случае, не заинтересуют соответствующие западные спецслужбы.
Обратимся вновь к текстам шлягеров разных лет. Взаимная, счастливая любовь — это нормативная шлягерная ситуация. Осмысляется она как единственное условие свободы, возможное для человека. «Жить значит любить,/И я тебя очень люблю./ Лишь эта любовь делает меня свободным. /Жить значит любить./ И любовь — это больше /Чем удовольствие вдвоем»10. Последнее утверждение («любовь больше, чем удовольствие») сообщает «счастливой любви» квазисоциальное значение: «любовь» оказывается единственным средством, которое «делает меня свободным». Однако одновременно сами шлягерные тексты показывают, что «любовь» — это прежде всего и именно «удовольствие». Ведь стремится к ней индивид, лишенный подлинной, самобытной, духовной жизни.
«О, Пепито, приди этой ночью, /Когда луна улыбается на небе./ Пой мне свою песню/ Снова и снова/ О любви»11. В этом популярном шлягере 30-х годов «Я» и «Ты» пребывают в предустановленном согласии. Динамика их отношений исчерпывается тем, что один «приходит», другой — «ждет». Причем пассивную позицию ожидания в шлягере, как правило, занимает «Я», то есть герой, монологом которого является текст. Следовательно, усваивается пассивное ожидание как ключ к «счастью». «Я так одинок, приди ко мне», «Джинни, подойди ближе», «Приди ко мне, ко мне сегодня ночью», «Приблизься ко мне», «О, приди, о приди, о приди» — это рефрены из шлягеров разных лет. Единственное, что «Я» может сделать, — это дать заверения в своей «верности»: «Верь же мне», «Доверься мне», «О верь мне, я искренен с тобой»12.
Поскольку отношения «Я» и «Ты» в шлягере психологически пусты, то чем же оказывается их «встреча» — апофеоз «счастливой любви»? Встречу эту нечем наполнить, кроме как все тем же… шлягером: «О, Пепито (…) Пой мне свою песню (…) о любви», «Детка, ты танцуешь — как моя женщина! Прижимаешься и склоняешься — как моя женщина!»13, «Спой мне песню», «Пой о любви», «Пой сегодня и всегда»14. Под маркой «счастливой любви» шлягер фактически рекламирует сам себя. «Ты — музыка для меня, /И потому я люблю тебя (…) Я слушаю тебя/ И в этом нахожу успокоение»15.
Своей беспроблемностью шлягер в системе «массовой культуры», подчиненной целям «погашения политического сознания масс, дезориентации его»16, выполняет вполне однозначную функцию: обозначает возможность «рая — немедленно», счастья здесь и сейчас. Главный смысл любовного шлягера можно было бы обозначить формулой: в действительности нет проблем, люди живут в условиях перманентного «счастья». «Я влюблен в тебя,/ Ты влюблена в меня./Что в этом мире может быть прекрасней?» «Какое счастье — что я нашел тебя», «Ты любишь меня, я люблю тебя./Это ясно как солнечный свет», «Мир стал прекрасным, лишь только я влюбился в тебя»17. «В начале была любовь/И еще сегодня она является/ Золотым ключом в рай./ И вся наша жизнь/ Это праздник для двоих,/ Если только мы не потеряем ключ»18.
Но конечно, одним только этим клише индустрия поп-музыки не могла обойтись уже в начале века. Нужна еще и иллюзия «проблем», которая уводила бы от осознания и попыток разрешения действительных проблем. В шлягере, с его приматом любовной тематики, «проблемная» ситуация создается вокруг несчастливой (невзаимной) любви.
Итак, герои шлягера — это одинаковые и притом абстрактные «Я» и «Ты», между которыми не может возникнуть и никаких «проблемных» ситуаций, кроме столь же «предустановленных», какой была «взаимная любовь» в шлягере первого рода. Если там «Ты» почему-то приходило, то здесь оно почему-то уходит, и этот уход составляет такую же фальшивую «дисгармонию», какой была «гармония двух» в шлягере о счастливой любви.
Почему эту «дисгармонию» можно назвать ложной? К этому дают основание сами тексты шлягеров разных лет. Хотя «Ты» уходит, а «Я» переживает этот уход негативно, однако герой, монологом которого является текст, замыкаясь в мире «красивой» ностальгии, по сути дела, столь же комфортабельно чувствует себя в нем, как в мире совместного «пения о любви». «Твою фотографию я вижу перед собой,/ Она сегодня и всегда со мной в комнате,/ Как если бы ты была здесь, моя дорогая «…)/ Только твоя фотография/ Всегда здесь./ Но мне не хватает твоих поцелуев/ Моя дорогая, о, приди ко мне». «Мое счастье было отнято,/ Отнято твоей рукой,/ А ты ушел,/ Ушел в далекие края./ С тобой ушло мое счастье./ Ах, скорее принеси мне его обратно»19. Танцевальный ритм, превращающий эти сетования в фон для движения пар, делает переживание одиночества вполне позитивной эмоцией, поскольку танцуют уже «соединившиеся» двое. Тем приятнее обывателю сопереживать текст, дающий иллюзию проблемной жизненной ситуации и одновременно — иллюзию разрешимости всех проблем.
В охарактеризованном чистом виде клише «счастливой» и «несчастливой» любви продолжают жить и в шлягере второй половины века. Однако в «массовой культуре» на поверхности музыкально-стилевой моды возникают некоторые новые явления, в связи с которыми шлягерные имиджи «любви-гармонии» и «любви-проблемы» обрастают некоторыми добавочными мотивами.
В рок-н-ролле рядом с традиционно-шлягерными клише «любви» появляются мотивы «антиродительского протеста», протеста против навязываемого молодым стиля жизни. Под влияние этого нового имиджа попадает и символика «счастливой любви», теперь часто преподносимая как принципиальная оппозиция социальным нормам.
В рок-н-ролле громкость звучания становится самодовлеющей ценностью. Тем самым переживанию шлягерного «О приди» или «Верь мне» придается агрессивность, навязчивость. «Она должна думать обо мне,/ /Только обо мне одном./ И ее сердце мне должно быть подарено,/ Существовать для меня./ Она должна дать мне любовь/ И все понять»20. Таким образом, «счастливая любовь» обусловливается отношениями «неотразимой силы — подчинения ей», а сама «неотразимая сила» понимается прежде всего как внешняя и физическая.
Впрочем, в рок-н-ролле последний момент лишь намечается. Вполне выявляется он, например, в поп-музыке 60-х — начала 70-х годов. Под влиянием интереса к социальной тематике в этот период развития «новой» поп-музыки шлягерное клише разделенной любви как единственной области человеческой свободы видоизменяется следующим образом: соединение с «Ты» оказывается способом разрушения окружающего мира. Герой, ранее пассивно ожидавший счастья, врывается к «Ты», использует его и выбрасывает[20]. «Давай проведем ночь вместе», — поет Мик Джеггер из «Rolling Stones» (песня так и называется: «Let’s Spend the Night Together»). А «наутро» провозглашает: «Кому нужны вчерашние газеты? И кому нужна вчерашняя девушка?» («Yesterday Papers»).
С середины 70-х годов в поп-музыке отчасти реставрируется одномерная шлягерная «счастливая любовь» — прежде всего в диско. «Эта двухтактовая музыка, или, лучше сказать, ритм, настолько примитивна, что рядом с ней рок-н-ролл — просто Стравинский», — пишет французский критик Ж. К.Луазо22. Диско-музыка являет собой предельное упрощение песенных структур, редукцию шлягерной схемы «куплет — рефрен» к литании краткой мелодической фразы (иногда двух-трех фраз). Простота диско в сочетании с рекламой «танцевальной философии», составляющей особый диско-имидж[21], обозначает новую волну молодежных настроений, покатившуюся на смену «бунту» 60-х. «Коротко говоря, нынешняя дисколихорадка отражает разочарование молодежи, осознавшей свое бессилие изменить мир к лучшему, более того, можно сказать — отражает ее капитуляцию перед всем тем, что десятилетие назад она так шумно отрицала»24. «Капитулирует» диско и перед звуковой эстетикой шлягера. Резкие контрасты экспрессивного пения, свойственные «протестному» року, уступают в диско место ровности условного мужского и условного женского голоса.
Однако перед нами не просто возвращение к звуковому идеалу шлягера. В шлягере эмоционально открытый голос певца вкладывает в «о, приди» полноту своего дыхания. В диско с его ритмическим и интонационным однообразием нет места «аритмии» эмоций, негде и некогда мелодически распеть текст типа «о, приди». Инструментальная фактура в целом подавляет голоса певцов, оставляя им лишь мгновение для того, чтобы пропеть краткую фразу-формулу. Слова в диско нужны лишь как сугубо ритмическое средство.
Если шлягер еще пытался убедить слушателя в существовании высокого смысла любви, то диско окончательно теряет ассоциации с культурной традицией понимания любви. «Любовь» становится просто времяпрепровождением, вполне приятным, как вполне приятен и социум, который дает эту возможность. Поэтические тексты диско предельно упрощаются. В шлягере «о, приди» обставлялось хоть какими-то деталями: «Приди и спой мне свою песню». В диско рефрен может выглядеть так: «come on, come on, come on, соте оп…»
В целом в современной поп-музыке продолжает господствовать именно шлягерное клише счастливой любви, в наибольшей степени соответствующее обывательским ценностным представлениям. Однако социальная действительность постоянно опровергает эти представления, особенно — в сознании молодежи.
В начале 60-х в Америке и Европе поколение двадцатилетних остро ощутило ложность буржуазных порядков. И это выразилось в возникновении специфически молодежной популярной музыки — рок-музыки, которая вышла за рамки сугубо лирических тем.
В рок-музыке, пережившей свой расцвет в 60-х годах, которые вошли в историю под названием «бурных лет»25, сложно отразились настроения молодежного протеста, социальная проблематика, переоценка ценностей. Узкие рамки отношений «Я — Ты» сменяются коллизией «Мы — Они». Протестующая молодежь находила в рок-музыке и подлинное выражение своего «Мы». Здесь достаточно упомянуть и о лучших песнях Боба Дилана, ансамбля «Beatles», оказавшихся своеобразным историческим документом как «молодежного гуманизма», так и противоречий идейного самоопределения представителей «протестующего поколения». Однако молодежное «Мы» не только отражается в рок-музыке, но и искажается в ней, и в препарированном виде внедряется в сознание слушателей, дезорганизуя реальное протестующее «Мы».
Рассматривая имиджи, возникшие в рок-музыке для «нейтрализации» настроений протеста, следует иметь в виду, что само обращение к социальной тематике, связанное с представлениями о групповых интересах молодежи, обусловило более сложную систему художественного воздействия, вообще свойственную рок-музыке. В частности, в молодежной популярной музыке 60-х годов увеличивается роль изобразительно-сценических и внепонятийно-музыкальных компонентов. Важную роль обретает стиль жизни рок-коллективов, — он становится компонентом имиджа. Темы новых молодежных ценностей символизируются в рок-музыке и характером звучания (его атакующая громкость ассоциируется с накалом протеста), и новыми формами концертного музицирования (группа музыкантов в качестве единого коллектива-«звезды»), и новым типом сценического и внесценического поведения (элементы эпатажа и вызова нормам истеблишмента как характерная черта рок-эстетики в искусстве и в жизни), и, наконец, самим внешним обликом музыкантов (например, унифицированность причесок в группе «Beatles», в частности, символизировала единство молодежного «Мы», лидером которого стал ансамбль). Сами биографии музыкантов превращаются в «мифы» рок-музыки, окрашивая собой ее идейно-эмоциональное восприятие юным слушателем.
Эта комплексность художественного воздействия, вытекавшая из новой (выдвинутой потребностями молодежного движения) тематики популярной музыки, была, так же как и сама социально-протестная тематика, освоена производством имиджей. Ниже мы рассмотрим некоторые имиджи такого рода.
«Музыка и жизнь». Комплексные имиджи в рок-музыке 1960—1970-х годов
В конце 50-х и в 60-х годах «молодежь выразила свои чувства, свой порой плохо осознанный горький протест против общества потребления, против мира взрослых, ассоциированного с миром насилия и наживы, главным образом через песню и музыку»26,— отмечают многочиcленные исследователи западной культуры. Начиналась эпоха «новой» поп-музыки. Чем отличалась она от «старой»?
Прежде всего преимущественно молодежной ориентацией во всех своих аспектах. Иной стилистический облик не только музыки и текстов, но и самих «звезд», особая раскованность поведения, небрежная пестрота или подчеркнутая скромность одежды, тесная связь между творчеством и стилем жизни артистов.
Во-вторых, кругом тем, так или иначе связанных с неприятием буржуазного образа жизни. Даже традиционные для «старой» поп-музыки любовные темы, как мы видели, подверглись новой редакции.
В-третьих, активной переработкой тех музыкально-стилистических традиций, которые были «аутсайдерами» развлекательной музыки первой половины нашего века. Речь идет прежде всего о некоторых традициях народной музыки — от американского стиля кантри до народных песен европейских, а затем и внеевропейских стран. Однако кроме собственно народных источников «новая» поп-музыка вобрала в себя джазовые влияния. Среди них определяющим оказалось воздействие ритм-энд-блюза. В нем метрический принцип четкого выявления симметричных четных пар «тяжелое — легкое время» действовал в направлении объединения джаза и песенных (шлягерных) структур27. Стиль этот оказал влияние на возникновение в начале 50-х такого жанра, как рок-н-ролл, ставшего специфической «новой» формой танцевального шлягера.
Рок-н-ролл, «звездой» которого в середине 50-х годов был Билл Хейли, вначале ограничивался кругом шлягерных поэтических идиом, несколько упрощенных под влиянием самодовлеющей роли активного танцевального ритма. Однако к концу 50-х в рок-н-ролле, ставшем до известной степени суммой всего предшествовавшего развития музыкальной поп-индустрии, поэтический словарь начинает меняться. В духе поэтики «редуцированных» текстов, где главным является рубленый словесный ритм, Элвис Пресли поет монолог родителя, сочиненный для него Джерри Лейбером и Майком Столлером (1958).
«Вынеси бумагу и мусор/Или не получишь денег./Если не вымоешь в кухне пол,/Никогда не будешь танцевать рок-н-ролл./Молчи, не отвечай./Кончай убирать свою комнату,/Смахивай пыль веником,/Убери весь мусор с глаз долой/Или никуда не пойдешь в пятницу вечером./Молчи, не отвечай./Просто надевай пальто и шапку/И иди в прачечную,/А когда вернешься назад,/Приведешь собаку и выведешь кошку./Молчи, не отвечай./И не смей на меня так смотреть./Твой отец не дурак, он знает, что к чему./Прогони своих дружков-хулиганов./У тебя нет времени гулять./Молчи, не отвечай»28. Императивный рефрен, вложенный в уста «отца» («молчи, не отвечай»), на фоне ритмико-громкостной экспрессии рок-н-ролла становился образом насилия, вызывавшим со стороны слушателя-тинейджера ответное «молчаливое насилие» — динамичный и пластически резкий танец, который подразумевается рок-н-роллом.
Приведенный текст является переходным между шлягерной тематикой и мотивами протестного рока 60-х годов. От шлягера здесь сохраняется противопоставление свободного времени как времени танца и развлечений, покупаемых на деньги («никогда не будешь танцевать рок-н-ролл», «не получишь денег», «никуда не пойдешь в пятницу вечером», «у тебя нет времени гулять»), и времени работы как принудительного занятия («смахивай пыль веником», «иди в прачечную» и т. п.). Характерная для шлягера любовная тема отодвигается на задний план. Она дана скрыто — лишь названием танца, за которым закреплены эротические ассоциации. Одновременно появляются мотивы, предвосхищающие характерные «опорные пункты» молодежного протеста в 60-х годах. Главный среди них — мотив «новой общности»: «дружки», которые своим поведением провоцируют родителей на определение «хулиганы».
Советские исследователи пишут: «Песни Э. Пресли, конечно, нельзя считать программой социального действия, как и сочинения "фолкников", Боба Дилана или Джоан Баэз. Однако уже здесь было ухвачено то, что получит дальнейшее развитие в "бурные" 60-е, — инстинктивный протест молодежи против буржуазного образа жизни»29. Действительно, перед нами — выражение инстинктивного, непродуманного протеста, обращенного против сугубо внешних признаков общественного уклада. Протестующие и объединены тоже внешне: не идейно, а эмоционально, не действием, а танцем.
Для имиджей, возникших на почве рок-музыки, характерен прежде всего упор на внешние проявления внешнего протеста: эпатаж, карнавальный уход от норм истеблишмента. Этим эффективно выполняется задача нейтрализации, деформации социального самосознания молодежи. Имиджи в рок-музыке в целом служат делу «подмены» политико-социальных мотиваций поведения — игровыми, театральными, способствуют отводу «протеста» в модус «раскованного» поведения.
Как в шлягере создается оазис «свободы», иллюзия разрешения противоречий, так и в рок-музыке колорит «критики», «альтернативности» создает иллюзорный оазис, куда слушатель рока уходит от действительных социальных проблем. Причем, качество этой новой иллюзии свободы соответствует углублению кризиса общественной системы капитализма. Новая волна тревожных переживаний, отражающая обострение социальных противоречий, уже не может быть нейтрализована одной только идентификацией слушателя со шлягерной гармонией «Я» и «Ты». Возникает необходимость «продать» слушателю некое «Мы», якобы отвечающее его собственным поискам солидарности, но вместе с тем направляющее эти поиски в безопасное для индустрии «господствующих мыслей» русло.
Одним из первых примеров комплексного рок-имиджа, выполнявшего эту задачу, может служить деятельность ансамбля «Rolling Stones».
«Единство эксцентричных одиночек». «Мы» ансамбля «Rolling Stones». Менеджер Эндрью Луг Олдхэм, который стал опекать «Rolling Stones» в 1963 году, решил этот ансамбль построить по контрасту со стилистикой популярнейшего рок-коллектива «Beatles». Художественное обаяние «Beatles» было связано, в частности, с особым характером звучания ансамбля — «подростково-чистым», в котором все четыре голоса сливались в непротиворечивое единство. Это звучание превращало квартет в архетип молодежной группы.
Архетипу молодежной группы Олдхэм противопоставил стилизацию такого «протестного» поведения, которое нацелено прежде всего на проявление индивидуализма. Шестеро «Stones» стали архетипом индивидуалистического вызова общественным нормам. Менеджер всемерно содействовал усилению мотивов эпатажа в облике и поведении музыкантов, фиксации индивидуалистического «брутализма» в текстах, обработке соответствующего звучания, рождавшего образ эгоцентризма и насилия.
«Stones» и до Олдхэма вели себя на эстраде буйно. Вот как описывают обретенный «Stones» имидж историки: «Вначале это были шесть юношей, которые выстроили себе дворец вечных удовольствий и играли в свою жизнь как в игру. Иногда их игры бывали приятными, но чаще их игры были унизительными, тошнотворными… Они высовывали язык, показывая его публике; одевались в странные, шокирующие одежды»30. Под «шокирующими костюмами», как свидетельствует пресса, следует понимать, в частности, костюмы офицеров СС со свастиками на рукавах или женские наряды 31.
Метод создания новых идолов анализирует Ник Кон: «Олдхэм опирался на хорошо обоснованный психологический расчет. Подростки, впервые увидевшие "Stones", может быть, и не вполне становились на сторону группы; однако потом они слышали, как их родители ругают этих грязных длинноволосых животных, и тут они поворачивались в сторону группы и идентифицировали себя с ними из чувства протеста против родительского мнения»32.
Оставалось найти «звук», соответствующий этому имиджу. Олдхэм и солист ансамбля Мик Джеггер и здесь рассчитали точно. В отличие от «Beatles», звучание «Stones» создавалось как принципиально индивидуалистическое: на первом плане царил голос Мика Джеггера. Ангельскому «хору мальчиков» «Beatles» был противопоставлен голос, отличавшийся хриплой, мужественной спонтанностью, агрессивностью и резкостью, — голос, который превращал любовную песню в гимн насилию. Джеггер специально работал над своим голосом, стилизовал его33. Менеджер устроил группе запись на пластинку композиции «Beatles» «Я хочу быть твоим мужчиной». Эта уже популярная песня вдруг поразила слух нарочитым цинизмом и бескрайней агрессивностью. Предмет любви — в обход всех слов — утверждался звучанием «Stones» как всего только «предмет», как угодно ломаемый и когда угодно отбрасываемый. На волне начинавшейся «сексуальной революции» этот новый тип любовного высказывания обрел успех, ибо служил для определенной части публики «знаком времени». Реклама, запреты отдельных радиостанций на трансляцию некоторых песен «Stones» (эти запреты тоже служили своеобразной рекламой), известия о невероятном стиле жизни, которую ведет ансамбль, о его невероятных доходах — все это сделало свое дело. Олдхэм мог торжествовать.
Какой же образ «новой общности» «сбывали» «Rolling Stones» молодежному слушателю, чувствовавшему в их асоциальном поведении, брутальности соответствие своей собственной позиции по отношению к окружающей действительности?
«Stones» определились на стороне террора», — пишет критик34. «Протест» был оформлен как проявление индивидуальной воли, презирающей все вокруг. Мотивы насилия пронизали даже любовную тематику. В песне «Under my Thumb» критик Алан Бекет видел «выражение триумфа насилия и контроля над любимой»35. Мик Джеггер и «Rolling Stones» поют о девушках как об объектах, которые можно использовать не задумываясь. Некоторые критики видели в этом гимн эмансипации. Однако: «была ли действительно здесь эмансипация? Повысилась ли ценность женщины? Нет, она оставалась жертвой, предметом потребности многих мужчин»36.
У «Stones» иногда звучали и политические мотивы, как, например, в «The Street Fighting Man» и «Satisfaction». Первая песня относится к 1968 году и посвящена актуальным событиям года, «борьбе на улицах».
Однако политическая борьба, по сути дела, не подразумевалась песнями «Rolling Stones». Об этом как-то сказал сам Джеггер — поэт и «идеолог» группы: «Я не хочу ничего менять своими песнями; не хочу ничего исправлять; мне нечего сообщить»37. Или даже так: «К чему ты стремишься? К подлинной революции. К изменениям. Но нет никакого альтернативного общества. Его нет. Кое-что есть, но это не альтернатива. Ее действительно нет!».
А вот высказывание Джеггера о влиянии студентов и их демонстраций на творчество ансамбля: «Энергия велика. Они дают нам очень много энергии. Однако едва ли знают, что с этой энергией нужно делать. И они останавливаются. Каждый из нас это чувствует»39. И Джеггер не берется подсказывать, «что делать с энергией»: «Мы никому не говорим: делай то или это. Мы не говорим: не делай этого»40. Ансамбль, эстетизируя «упоение» террором и насилием, создавая образ радикально-брутального «Мы», закрепляет в своих слушателях ощущение самоценности «энергии».
В контексте таких представлений «Rolling Stones» становится имиджем общности, главная программа которой — эгоцентричный выплеск «энергии». Но отнюдь не для того, чтобы что-то изменить в окружающем мире. Такая позиция — позиция «изгнанников», или даже «самоизгнанников», не имеющих надежды на лучшее. Ее-то как имидж, уводящий молодежь от активных действий, и проповедовали «Rolling Stones».
«О певец, он сердито смотрит,/Подойдя к линии;/И басист глядит нервно/На девушек за линией,/И ударник, он совсем разбитый,/Пытается держать размер;/И солист-гитарист с голодным взором./Они были изгнанниками всю свою жизнь», — поется в песне «Sympathy for the Devil». Поется об ансамбле, в котором его многочисленные слушатели видят образ молодежного протеста. Поется людьми, лишь маскирующимися под «сердитых» и «голодных», имеющих, как Джеггер, дома, автомобили и «феодальное поместье на юге Франции»41. Поется теми, кто, используя стихийную активность выступлений молодежи, пытается превратить участников демократического движения в «изгнанников на всю жизнь»…
Другой пример рок-имиджа, нейтрализующего действенность молодежного протеста за счет особой комплексной символизации умонастроений и мотивов поведения, — это деятельность ансамбля «Grateful Dead». В отличие от «Rolling Stones», в творчестве этого коллектива роль «внехудожественных» составных частей имиджа — житейского поведения и жизненной философии музыкантов — особо велика. Эти «внемузыкальные» и «внесценические» компоненты тесно взаимодействуют с музыкально-поэтическим стилем ансамбля, с комплексом воплощаемых в этом стиле идей, с манерой концертного музицирования, что рождает образы особого единства «искусства» и «жизни», притягательные для молодежи.
«Единство в смерти». Община «Grateful Dеad». Стихийный протест молодежи против стиля жизни и ценностей потребительского общества в 60-х годах принимал самые разные формы. Одной из радикальнейших была та, которую выразил (и закрепил в своей музыке и стиле жизни) американский ансамбль «Grateful Dead» («Благородный Мертвец»). Этот коллектив нельзя назвать коммерческим: его участники часто не подчинялись планам менеджера, их деятельность сопровождалась финансовыми провалами, они систематически играли бесплатно. Идейным вдохновителем, переведшим ансамбль с рельсов обычного развлекательного рока, с которым они выступали до 1965 года в клубах и дискотеках под именем «Warlocks» (и не без коммерческого успеха), стал Кен Киси, основатель коммуны хиппи-бродяг, проповедник ЛСД. Он открыл музыкантам «ценность» наркотического «путешествия». И «Warlocks» превратились в «Grateful Dead», вокруг которых в Сан-Франциско была образована община поклонников, употреблявших наркотики («Community»).
Под руководством Киси, этого своеобразного «антименеджера», «Dead» давали концерты, которые символизировали «новую общность». Например, на «Trips-Festival» в Лос-Анджелесе музыканты импровизировали, также допуская выступления слушателей перед микрофоном. Киси тем временем записывал эти выступления и минутой позже транслировал очередную запись в другом конце пространства концертного зала42. Воздух наполнялся хаосом «импровизаций» слушателей, и в этом хаосе продолжали свою импровизацию «Dead», — так же как публика, одурманенные наркотиками. При этом выступления ансамбля не имели никаких четких программ. Суть состояла в музыкальном выявлении наркотического переживания, в психоделической импровизации, разделенной со слушателями.
Здесь следует напомнить об особом выражении идейного кризиса молодежного сознания на Западе. В конце 60-х — начале 70-х годов возник настоящий бум всякого рода групп психо- и социотерапии, сенситивной тренировки, трансакционного анализа, трансцендентальной медитации и т. п. Упор на «работу» с собственным сознанием, в том числе — и при помощи галлюциногенов, современные западные исследователи объясняют как бунт против рационалистического, прагматического отношения к жизни.
Джерри Гарсиа, ведущий гитарист ансамбля, вспоминал: «Не было никаких запрограммированных выступлений. Часто мы вставали и играли два, три часа, часто только 10 минут, чтобы потом разойтись в разные концы. Не было никакой колеи, был наркотический текст, где все было о’кей. Тысячи слушателей, все беспомощно валявшиеся, все находившие единство в пространстве, общим с другими тысячами слушателей; и никто не питал к другому зла. Это была магия, о да, чудесная магия»43.
В январе 1966 года на наркотический фестиваль в Сан-Франциско собрались 22 000 молодых людей, искавших в музыке и стиле жизни «Dead» «опыт другого измерения», общину «совместно живущих людей, у каждого из которых — свое самосознание»44. И сами «Dead», и антураж фестиваля казались им реализацией мечты о предельной свободе личности, сочетающейся с отсутствием насилия.
Для «Dead» характерно, что они не дискутируют о политике, вообще не обсуждают «идей», «лозунгов», «социальной ситуации». Их стиль игры и жизни для них является единственной «идеей», их наркотические путешествия — единственной «ситуацией», достойной внимания.
Р. У. Кайзер в 1968 году взял интервью у Джерри Гарсиа. Сам Гарсиа принимал участие в действиях американских студентов, выступал в концертах для жертв полицейского произвола. Однако «он не безусловно разделял убеждения партии демонстрантов». Их действия ему казались «заблуждениями детей», о которых он отзывался так, будто достиг подлинного знания и имеет право указать более осмысленный путь. Джерри напоминал о «Community», к которой принадлежал ансамбль в Сан-Франциско. В «Community», говорил Гарсиа, возможна подлинная коммуникация, обретающая космическую широту; наркотики дают разрешение земных проблем и выход на простор вселенской свободы. Свою музыку Джерри трактовал как «сообщение о возможности прекрасного мира», средством войти в который являются наркотики45. Главный признак «прекрасного мира» — это предельная индивидуальная свобода сознания каждого и вместе с тем общая радость, общий покой, общее творчество.
Джерри Гарсиа объясняет: «Мы старались уйти от сольных линий. Согласно рутине стандарта, одни участники сопровождают, другие ведут. Мы же искали общей музыки, однако не по типу диксиленда, а другой, которой до сих пор не знали… В стандартном рок-н-ролле бас и ударные работают вместе, составляя единство… Всегда дан лишь один путь, одна ритмическая ситуация… Мы же пытались дойти до того, чтобы ритм включался так, чтобы он не был очевидным. Так, чтобы под него можно было танцевать, но чтобы не надо было играть его в каждом двух- или четырехтакте. Чтобы, таким образом, можно было (ударнику или басисту) играть что-то еще»46.
Альбом из двух пластинок «Live/Dead» (двойной перевод: «Жизнь/Смерть» и «Жизнь "Мертвецов"», то есть ансамбля «Grateful Dead» и их «Community») выявляет концепцию стиля и идейную концепцию ансамбля. Слушатель попадает в музыкальное пространство, где отдельный инструмент кажется неким звуковым «столбом», поддерживающим общее звучание, акустически «безграничное».
Тихое начало знаменует «утро». Мелодии кратки, они набегают как маленькие волны в штиль. «День» ближе, громкость возрастает, импровизации разворачиваются, становятся интенсивней. «Жизнь» занимает 2-ю и 3-ю стороны альбома. Затем наступает «вечер», интенсивность звучания и импровизационной фантазии спадает, действие наркотиков ослабевает, грезы растворяются. Певец поет: «Спокойной ночи братьям и сестрам». «Смерть» звучит как народная песня. Реальность-Смерть-Народная песня — таков синонимический комплекс отрицания действительных ценностей, к которому приходят и приводят своих слушателей «Dead» в главной своей записи.
Герои альбома — группа наркоманов, совершающих свое «путешествие». Перед нами даже не рассказ об этом «путешествии», а само «путешествие» — звуковое воссоздание переживаний, вызываемых наркотиками.
Слушатели оказываются в мире видений, где легко «включить свет любви» (так называется одна из песен «Dead»). Этому способствуют и тексты, рисующие образ единства людей в мире ЛСД или кокаина: «Ты гонишь машину, доверху наполненную кокаином./Кейзи Джонс, тебе лучше бы следить за своей скоростью./Тревоги впереди, тревоги позади,/И ты знаешь, какая мысль сейчас перечеркнула мой разум…/Тревоги с тобой — это тревоги со мной,/Имею здоровые глаза, но совсем ничего не могу увидеть./Вылетаешь напрямик на поворот, ты знаешь, это конец./Пожарный кричит, и виден отблеск машины в пламени./Тревоги позади, тревоги впереди./Ты знаешь, какая мысль перечеркнула мой разум!»
Смерть в пожаре кокаина — это оазис посреди «тревог», которые «и впереди, и позади»; смерть — это реализация «мысли, перечеркивающей разум» участников ансамбля, которые разговаривают с членом «Community». У них общие «тревоги», у них общие глаза («ничего не видящие»), они солидарны в беспомощности перед действительной жизнью, у них «общий» конец — в катастрофе на повороте, когда «скорость» кокаинового путешествия вырывается из-под их контроля. Такова «общность», представленная «Dead», — общность наркотически-«счастливых» и «единых в смерти» («Спокойной ночи, братья и сестры»).
Имиджи «Grateful Dead», «Rolling Stones» строились и из «жизненного» и из «художественного» материала. Тенденция комплексного имиджа, ярко обозначившаяся в 60-х годах, затем прослеживается в панк-роке, в частности, например, в деятельности группы «Sex Pistols».
Однако производство имиджей в рамках молодежной рок-музыки может идти и более дешевым путем, когда между «искусством» и «жизнью» есть экономное разделение. В таких случаях радикальность протеста символизируется лишь художественными средствами; а за сценой и вне студии звукозаписи музыкант не только не «протестует», но и алчно пользуется всеми благами истеблишмента. Характерный пример — деятельность Эдгара Браутона и его оркестра.
История «Edgar Broughton Band». «Мы должны достичь такой организованности, чтобы все юные слушатели, которые причисляют себя к движению протеста, финансировали эту новую систему»47. Это — из интервью поп-газеты «Underground» с Петером Дженнером — крупнейшим рок-менеджером конца 60-х. Под «новой системой» делец имел в виду так называемые «Свободные концерты», то есть бесплатные выступления рок-«звезд» под открытым небом для всех желающих слушать. Эти концерты мыслятся как образ «освобождения» от социального гнета. Под «организованностью» Дженнер подразумевает сбор взносов в пользу «Свободных концертов» в разных странах юными поклонниками рока и сторонниками «протеста». Нечто вроде политической партии, специально созданной для того, чтобы поглощать социальную энергию масс. А кроме того, нечто вроде финансовой агентуры, обеспечивающей прибыль от «бесплатных» концертов. Во всем этом уже заложен определенный имидж, точнее — фундамент для него. Показательны также заявления и песенные тексты ансамблей, выдвинутых Дженнером для участия в «Свободных концертах». Первые такие концерты состоялись в Гайд-Парке в Лондоне в 1968 году. В них выступали, в частности, и «Rolling Stones».
Один из клиентов Дженнера Эдгар Браутон (солист «Edgar Broughton Band») объявляет перед своим приездом на «Свободные концерты» в ФРГ: «Хотя перед нами стоит языковая проблема, мы, однако, хотим идти вместе! Мы можем друг друга понять! Потому что в Англии, как и на континенте, растет движение молодых людей, которые защищаются от власть имущих и их помощников: военных, судей, церквей, полиции»48. Сказано, на первый взгляд, четко и бескомпромиссно. Но для чего сказано? Как выясняется, для того, чтобы обеспечить успех выступления Браутона в ФРГ. Деньги для менеджера и оркестра (и одновременно как бы «против» военных и полиции) собираются молодыми слушателями с большим энтузиазмом. А критики пишут тем временем о «прогрессивном звучании» музыки Браутона и о его «сильном политическом сознании»49.
Концерты начались. Под открытым небом в Дюссельдорфе разносится тяжелый, агрессивный бит-ритм. Браутон кричит: «Прочь, демоны, прочь!» Возбужденные слушатели вторят ему. «Демоны» как бы изгнаны с последним аккордом. Не полицейские или военные (они даже не названы в песне, дающей характерную для имиджа религиозную символизацию «критики» и «протеста») — нет, изгнаны и успокоены «демоны» юношеского протеста.
«Рецепт беспроигрышного успеха и одновременно противоположность ответственному социальному ангажементу… Полит-имидж — средство сделать карьеру и прибыль» — это пишет западногерманский наблюдатель50. Помимо всего прочего «бесплатность» концертов работает и как новый стимул для покупки пластинок рок-группы.
Осень 1970 года. Браутон снова приезжает в ФРГ. Но не с обещанными «Свободными концертами», а на обычные гастроли.
Билеты на концерты оркестра стоят самое малое — 6 марок, в среднем — свыше 10 марок. Слушатель, из бывших членов «организации», придуманной Дженнером, возмущенно писал в газету «Abend». «Нас обманул оркестр, окруживший себя прогрессивным имиджем, с которым плохо согласуются его подлинные намерения». В письме слушателя указывается, что участники оркестра согласились лишь с такими условиями турне, как отели первого класса, «мерседесы» с шоферами для каждого члена оркестра и т. п.51 Менеджеры и рок-группа на этот действительный протест «не обратили внимания. Они гребли золото, прежнее паблисити вознаграждалось, турне было запродано вперед. Протест был нужен, чтобы сделать рок-оркестр известным; как только обретена известность, долг протесту отдан»52,— пишет историк рок-музыки.
Симптоматично дальнейшее развитие карьеры оркестра Браутона, направлявшееся Питером Дженнером (и еще одним дельцом — Эндрью Кингом). Тот же 1970 год. Под заголовком «Браутон занимается вымогательством» в газете «Hamburger Morgenpost» от 2 ноября читаем: «Устроители Гамбургского фестиваля обвиняют в вымогательстве группу Эдгара Браутона. Браутон мошенничеством выманил у нас 4000 марок. Мы подаем иск против него». Браутон должен был воскресным вечером с 16 часов 45 минут до 17 часов 30 минут выступать в зале, билеты в который уже были проданы и который был снят именно на это время. Найдя недостатки в усилительных установках, Браутон обещал, что будет выступать позднее, но тогда он должен получить возмещение в 3000 марок за концерт в Англии, который в таком случае необходимо отменить. Получив деньги, оркестр выступал в тот же день в 22 часа, с теми же, якобы неисправными усилителями. Один из организаторов Гамбургского фестиваля говорит: «Мы думаем, что никакого концерта в Лондоне не намечалось. Это — обычный способ вымогательства, который водится за Браутоном. Этим трюком он недавно воспользовался, чтобы провести устроителей концертов в Западном Берлине. Там, получив 100 % оплаты вперед, он за несколько дней до концертов потребовал еще 1000 марок, под угрозой, что выступать не будет. И он получил эту сумму». Газета добавляет: «Браутон заявил, что хочет отдыхать на Багамских островах и что должен иметь достаточно денег для этого».
«Мерседес» с шофером, Багамы, отели первого класса — за квазипротест, за «имидж», которым обманули социальную активность молодежи…
Кажется не случайным, что краткая «политическая» комедия «Edgar Broughton Band» развернулась именно на стыке «бурных 60-х» и «усталых 70-х». В частности, и она растила разочарование молодежи в возможностях изменить мир к лучшему, охватившее в 70-х годах достаточно широкие круги молодежи на Западе.
Музыкально-поэтическая стилистика поп-имиджей
С конца 60-х годов рок-музыка переживает процесс усложнения своих музыкальных и поэтических выразительных средств. В границах этого процесса возникают способы построения имиджей, представляющих собой сложную идейную спекуляцию вокруг настроений исповедующей свою социальную оппозиционность молодежи. Молодежи, которая, однако, все в большей мере испытывает разочарование в возможностях «бороться с системой».
К спекуляциям вокруг разочарования молодежи подключаются музыкальные и поэтические средства, обладающие сильным воздействием не только чисто эмоционального, но подчас и рафинированно-интеллектуального плана. С этой точки зрения интересны творческие эволюции двух «звезд» рок-музыки 70-х — Лоу Рида и Дэйвида Бауви.
Ансамбль Лоу Рида «Velvet Underground» завоевал прочную известность в конце 60-х годов, в обстановке особо активных тогда бунтарских настроений молодежи.
В первом альбоме Рида (1967), названном «Velvet Underground and Nico» звучит гимн паранойе («Sunday Morning»). «Проснись, — мир позади тебя. Вокруг тебя зовы. Вокруг тебя — совсем ничего». Просыпаясь, герой идет в город, чтобы повстречать продавца наркотиков, которые «более или менее помогают провести нормальный день в нью-йоркском подпольном мире»53. В песне «Героин» говорится: «Героин может лучше отключить чувства, чем даже смерть… Кругом город, где человек не может быть свободным, свободным от всего зла своего времени, от самого себя и тех, кто вокруг»54.
Музыка соответствует этим апокалиптическим образам — образам протеста, замкнувшегося на себе и ставшего саморазрушением: чрезвычайно высокий регистр электрической скрипки, нервный ритм шестнадцатизвучных аккордов, извлекаемых из своей гитары Лоу Ридом, шумы подземки, грохоты города. Приведем выразительное описание, принадлежащее критику из журнала «Zigzag»: «Музыка теряется в хаосе шумов. Кричат они или поют? Усиленная скрипка поднимает звук все выше и выше, переходя на визг, на пронзительный шум, а регулярное "дик-дак-дит“ азбуки Морзе наложено на остальные шумы. Все это составляет ужасающую кульминацию. И спада нет. Это продолжается и продолжается. Вы надеетесь, что это кончится. Но музыканты усиливают акценты, приводящие в содрогание, так что вы чувствуете, как дрожит пол. Кончится ли это в конце концов? Но нет, это продолжается»55. Затяжная кульминация символизирует длящуюся невыносимость «этой жизни». И ее можно лишь «оборвать».
В 1969 году появилась новая пластинка Рида: «Velvet Underground». Она отличается от первой меньшей интенсивностью музыкальных эффектов. «Протест» как бы успокаивается, теряет напряженность своего фатализма и переходит чуть ли не в эпический план повествования о странностях паранойи, чудесах героина и неизбежности самоубийства. Только дважды в новой записи прорываются настроения первого альбома.
Два героя — Он и Она — не представляют пары в обычном, «шлягерном» смысле. Их отношения — не любовь, а скорее память о любви: «Мысль о тебе как моя заоблачная вершина./Мысль о тебе как высшая точка меня./Мысль о тебе как все,/Что я имел и не мог удержать». И вообще: «Как почувствовать, что значит быть любимым?.. Ибо я этого не знаю». Известно одно: «Смерть бродит под широким голубым небом», и к этому «факту» маниакально притягиваются чувства героев.
«Я принял хорошее решение,/Я делаю попытку аннулировать свою жизнь», — пел Рид в первом альбоме. «Я стал ненавидеть свое тело/И все, что ему требуется в этом мире», — поет Рид во втором. И внушает: «Давай сделаем то, чего ты больше всего опасаешься./Давай сделаем то, что внушает тебе наибольшее отвращение», ибо весь мир «извращен, опрокинут, порочен»56.
В альбоме 1973 года «Berlin» мы встречаемся с двумя героями — Джимом и Каролиной, — которые наконец осуществляют «то, что внушает наибольшее отвращение». Двое целеустремленно разрушают сначала свой мир — свою близость и взаимопонимание, а затем и самих себя.
История начинается в берлинском кафе, где Джим и Каролина пьют коктейль при свечах. Эта романтическая сцена — последнее, что мы узнаем об их предполагаемом совместном счастье. Все дальнейшее — показ безысходной отчужденности их друг от друга. Каролина, желая поступать «свободно», как ей хочется, вскакивает на стойку бара и поет, изображая развязную девицу. Джим, однако же, восхищается ею, и ее это раздражает. Она заявляет, что он «не мужчина».
Романтическую привязанность Джима Каролина поняла по-своему: «Итак, ей удалось это понять, как она могла понять это» («Caroline Says 1»). Каролина протестует против любви Джима. И вот на протяжении всей записи она разрушает предмет любви Джима — себя. Делает она это с помощью своих «друзей». Джим отдаляется, наблюдая ее трагедию издали. «Друзья» подстрекают ее на всевозможные безоглядные причуды, снабжают ее наркотиками. Наконец «Они» забирают ее ребенка, «так как она плохая мать» («The Kids»). Ее беспорядочная и грязная жизнь некоторое время еще продолжается, пока наконец Каролина не перерезает себе вены, оставляя после себя на полке «коробки со стихами и всякой дрянью» («The Bed»)57.
Центральная трагедия «Берлина» — это, однако, гибель не Каролины, а Джима. Сначала он реагирует на их неудачную «любовь» жалостью к себе, затем — пытается бить Каролину, и наконец осуществляет самоубийство. Ночь самоубийства описывается как «чудесная и роковая» («The Bed»). Жизнь покидает Джима, и он отзывается на это так: «О, о, о, о, о, о, что за ощущение!» Чуть позднее он на момент вдруг понимает, что «она никогда не была похожа на Марию, королеву Шотландии» («Sad Song»), какой он ее воображал. Но тем не менее у него нет сомнений в правильности того, что сделано: «Я собираюсь перестать тратить время зря. Кто-нибудь другой пусть разорвет ее объятия»58.
Музыка «Берлина», ее ритм, мелодия, фактура — все лишено эффектов, разработано минимально; голос Рида звучит безнадежно и вяло. Воссоздавая монологи героев, он рисует портреты двух людей, автоматически-бессмысленно калечащих друг друга. Критики отмечают, однако, известное «кокетство» Рида в этой записи: своим голосом он тщательно стилизует безнадежность; он играет отчаянием как стилем: «Отчаяние 60-х оставалось открытым для надежды на перемены; теперь, когда надежда кажется утерянной, отчаяние может быть лишь стилистическим приемом»59.
От безнадежности — живой экспрессии к безнадежности — стилизации, к коммерческому «конформированию нигилизма»60— такова эволюция, очерченная Лоу Ридом в трех его известнейших записях.
Следует отметить, что имиджи социальной безысходности, выдвинутые Лоу Ридом, опираются на достаточно сложную поэтическую и музыкально-стилистическую технику метафор и обобщений. Судьба двух героев «Берлина» становится образом судьбы «всех и каждого»; музыкальная атмосфера скупого, холодного звучания — образом идейно-эмоциональной усталости.
Такого же рода игру на поэтико-музыкальных ассоциациях как средстве создания имиджей видим и в записях Дэйвида Бауви.
В конце 60-х годов Бауви начинал с «поддержки и продвижения идеалов и творческих устремлений подполья»61. Эти собственные слова певца, однако, относятся лишь к небольшому периоду его творческой работы. Уже второй альбом Бауви, названный вначале «David Bowie», при перезаписи получил имя «Space Oddity» («Космическая причуда»). Личность «протестного» мечтателя и борца-идеалиста получает иронично холодную этикетку «чудачества». Бауви стилизует свои быстропрошедшие «протестные» увлечения в «космические причуды», выставляя самого себя и вместе с собой участников «подполья» как «космического чудака» и как неприкаянных юродивых вселенского масштаба.
В следующих альбомах: «The Man, Who Sold the World», «Hunky Dory» — Бауви уже почти пророк конца света, однако к его описанию «жизни на земле как вечного насилия и вечной неосуществленности… бесконечной трагедии живописи Босха», к его убеждению, что «только смерть может вызволить человека из этой смерти — подлинная смерть, несущая нирвану» («The Superman»)62, все еще примешана надежда. Правда, она сосредоточивается преимущественно на романтизированном образе рок-пророка, как в «Song for Bob Dylan»: «Верни нам наше единство»./Верни нам нашу семью. /Ты — прибежище всех народов./ Не оставь нас своим здравым смыслом»/63.
В 1972 году Бауви сказал о «Hunky Dory»: «Это было записано тогда, когда я думал, что мы все еще имеем шанс». Бауви понял, что «шанса» нет, в частности, под влиянием дзен-буддизма. Рок-«звезда» разделяет буддистскую точку зрения на перемены «здесь на земле». Они — невозможны, так как если «добро и зло — стороны одной медали», то для перемен нет разумного направления. Борцов и реформаторов Бауви готов сравнить с «глупой кошкой, которая ловит свой собственный хвост». Из этого взгляда вытекает фатализм, заставляющий Бауви верить, что только за пределами общества можно соприкоснуться с истиной64.
Если перемены невозможны в самом обществе, то следует выйти за его пределы. Бауви выводит слушателя за эти пределы в сферу, известную по текстам многих «звезд» 70-х годов, в частности Лоу Рида, в сферу психопатологии, сексопатологии, наркомании.
Бауви также привлекает в качестве «альтернативы» космологическую сферу, к которой тяготел уже давно. Истина прибывает из космоса вместе со «странниками» из «Oh You Pretty Things» и галактическими существами из «Starman». А если никто не прибывает, то все равно, может быть, есть «жизнь на Марсе» («Life on Mars»), раз уж ее фатально нет на Земле.
В 1972 году начинается перелом: Бауви становится общепризнанной «суперзвездой» рок-апокалипсиса65. Его альбом «Ziggi Stardust» содержит концепцию, в которой уже устранены всякие признаки «надежды».
Открывающая запись песня «Five Years» объявляет о «конце» без объяснений и сожалений: «Пять лет, это все, что нам осталось». На первой стороне есть еще песня Рона Дейвиса «It Ain’t Easy», в которой поется о «свете в конце длинного темного тоннеля». «Человек из звездного мира», летящий в своем космическом корабле, образует светлое пятно в конце тоннеля, в который смотрят глаза Бауви. Пришелец «хотел выйти к нам и познакомиться с нами», однако боится заразиться «нашим нездоровьем» и потерять свое космическое совершенство66.
«Звездный человек», сулящий «свет», но не входящий с «нами» в контакт, — это как бы ключ к истории рок-«звезды» Зигги, рассказанной на второй стороне пластинки. Как замечают критики, подъем и падение Зигги может рассматриваться как зашифрованный автопортрет Бауви. Рассказывается творческая биография Зигги; причем точка зрения на нее все время меняется: одна песня — от лица самого Зигги, другая — члена его оркестра, третья — поклонника, четвертая — стороннего наблюдателя. В момент, когда Зигги приходит к «песням тьмы и разочарования», он становится «звездой» («Lady Stardust»). Внезапно сознание его просветляется, одновременно усиливается гнет внешних условностей. Все это приводит Зигги к мысли о самоубийстве.
Заключительная песня альбома называется «Rock’n Roll-Suicide» («Рок-н-ролл-самоубийство»). Название символично: рок-н-ролл осмысляется как путь к самоубийству и способ его. Самое важное для Бауви то, что в момент ухода из жизни Зигги кричит: «gimme your hands»67. Здесь сразу несколько смыслов. Первый — «ваши аплодисменты!» (прославьте «звезду» за эффектное зрелище). Второй: «сомкните руки» (публика — это спрут, душащий «звезду»). Третий: «дайте руки» (призыв к солидарности и поддержке).
Парадокс: смерть мечтателя, космического юродивого оказывается «светом в конце тоннеля». В этом парадоксе глубоко спрятана идея безнадежности протеста — идея по существу конформистская.
Сложно-рафинированные поэтические и музыкально-стилистические конструкции, служащие созданию атмосферы художественной привлекательности, эстетизации настроений молодежного разочарования, сближают рок-музыку последних лет с авангардистской композицией, которая исповедует на рубеже 70-х и 80-х годов консервативные доктрины.
К середине 70-х наблюдается сближение авангардистского сознания и поп-идей. Наблюдается и собственно музыкальное, стилистическое сближение. Штокхаузеновские коллажи освоены не только рок-авангардистами, например Фрэнком Заппой или Фредом Фритом68, но и многочисленными менее заметными артистами. Сериальные структуры вошли в арсенал поп-солистов Роберта Фриппа или Майка Ратлиджа69. Репетитивная музыка Райли или Гласса получает отзвук в работах групп «Tangerine Dream», «Kraftwerk» или солиста Клауса Шульце. Увлечение того же Штокхаузена архаикой и внеевропейскими культурами корреспондирует со все более широким введением в рок инструментария, ритмики, мелодики, языков «экзотического» происхождения. Лондонский секстет «Incantation» употребляет старинные латиноамериканские инструменты, чаранго, флейту пана, сами же музыканты выглядят как «группа перуанских туристов»70. Майк Олдфилд постоянно использует в своих записях неевропейские типы развития мелодики. Сани Аде, «король» стиля «джу-джу» (так называют поп-музыку, в которой сильно влияние африканской ритмики), употребляет наряду с электронным инструментарием традиционные африканские «говорящие барабаны» и поет на непонятном для американско-европейской публики языке йоруба71. Можно вспомнить и о записях группы «Supermax», использующей африканские ударные.
Эпатажи Кейджа, театрализации Кагеля или «звуко-цвето-игры» Ридля не кажутся чем-то из ряда вон выходящими на фоне абсурдистской символики в фильмах Заппы, ироничных и самоироничных текстов рок-авангардиста Майо Томпсона72 или ставшего уже привычным компонентом поп-эстетики грандиозного свето-цветового лазерного оформления выступлений ансамблей типа «Space». Даже полистилистика, о которой столько пишут как об исключительной проблеме последних десятилетий для E-Musik, в конце 70-х наблюдается и в поп-музыке.
В авангардистском мышлении новейший отказ от прогресса, как мы ранее видели, аргументируется размытыми антропологически-экологическими лозунгами. Эти настроения сильны и в поп-музыке последних лет.
Воплощаются они зачастую чисто музыкальными средствами, далекими от привычной поп-развлекательной стилистики и кажущимися на ее фоне «авангардно»-рафинированными. Приведем в качестве примеров записи двух рок-музыкантов, выдвинувшихся в 70-х годах, — К. Шульце и М. Олдфилда, тяготеющих к тому направлению авангардистской композиции, которое называет себя «репетитивизмом».
Известность Клауса Шульце началась с записи «Ветер времени». Эволюция Шульце была направлена к психоделическому пантеизму, особо проявившемуся в альбоме «Закат Луны» (1976). Шульце писал: «Эта запись открыла дверь, в которую я хотел войти на протяжении нескольких лет»73. «Закат Луны» состоит из электронно-тембровых модуляций внутри нескольких монотонно повторяемых попевок. Следующей оказалась запись «Мираж» (1977): «Никаких мелодий, никаких ритмических секвенций, скорее угрожающая стилю репрезентация одного настроения»74. А впереди были «Дюны» (1979), звучащие как аморфная, безвольная импровизация. Лишенная мелодии, с не связанными между собой импровизируемыми осколками мотивов, аритмичная, с угасшим пульсом, запись представляет собой тембровое пятно, которое длится и длится, причем аритмичное время отмеряют изредка «вспыхивающие» мелизматические мотивы. К концу записи тембровое пятно преображается в несколько гимнически-хоральных аккордов, наступает «сатори», вызванное созерцанием «дюн».
Шульце пришел к своеобразному рок-импрессионизму. Качество «неподвижности», «априорной слитости с универсумом», вообще характерное для позднего рока, едва ли не вытеснило прежнюю энергию и драматизм, которые вырастали из ритмико-танцевальных импульсов или социально-ангажированного текста. Это качество мы находим и в записях Майка Олдфилда.
Медитативная застылость у Олдфилда внутренне более «живая», чем у Шульце. Сам универсум, с которым сливается «Я», — для Олдфилда нечто более многообразное. Природа у Олдфилда — мир, внушающий благоговение и ликование, — религиозно окрашенную эмоцию. Олдфилд широко применяет стилизацию шумов природы, из которых «вытекают» его диатонические последования. «Традиционалистская» установка Олдфилда сказывается и внешне. В частности, коллектив, принимающий участие в его записях, олицетворяет «семейный имидж». Двойной альбом «Incantations» вместе с Майком реализовали еще два Олдфилда: Салли и Тэрри. Или — другое слагаемое наглядного образа — оформление альбомов. Конверт «Incantations», например, оформлен в виде монтажа романтического прибоя, разбивающегося о прибрежные скалы, и фотографии Олдфилда на его фоне. Причем «звезда» одета предельно «нормально», на лице нет печати отверженности, — спокойный, доброжелательный взгляд.
К квазиавангардистским стилистическим идиомам, которыми музыканты типа Шульце и Олдфилда рисуют картину «вневременного» мира за пределами социума, может добавляться и авангардистская поэтическая техника. Она нацелена на создание образов, также знаменующих уход от действительности. Это мы видим, например, в работе Лаури Андерсон — записи «Большая наука» (1982). Андерсон — певица и композитор, начинавшая еще в конце 60-х, близкая к кругу авангардистски ориентированных художников, к Кейджу, Берроузу. Ее альбом представляет собой своеобразную «сумму» тем, мотивов, символов и музыкально-стилистических приемов, характерных для рок-музыки последних лет. Голос певицы — уже концепция, которая лишь понятийно формулируется текстом и отчетливее подается последовательностью пьес. Андерсон не столько поет, сколько говорит: ровно, безэмоционально. Ни динамических эффектов, ни выхода из «невыразительного» среднего диапазона, ни типичного для рока ритмического скандирования слогов, их экспрессивного выделения-подчеркивания. Нет — проговаривание фраз быстрое, словно бы фразы эти незначительны по смыслу; слегка усталое и «обесцвеченное» — словно бы говорится самому себе.
Что же говорит сам себе «усталый» рок, обратившийся к «цветам зла» авангардизма, — или: уставший от собственной сложности «авангард», устремившийся по дороге рок-музыки в записи Андерсон? «Добрый вечер. Говорит ваш капитан. Мы совершаем попытку избежать крушения при посадке (…) Ваш капитан говорит: прижмите голову к коленям. Ваш капитан говорит: обхватите голову руками (…). Говорит ваш капитан — и мы падаем. Мы все падаем. Все вместе (…) Это — время. И это — запись времени». И еще многое «говорят» в записи Андерсон рок и авангардизм последних лет: Они «говорят», бравируя абсурдизмом, который в равной степени окрасил рок «усталых» 70-х и беспафосное «отчаяние» авангардистской концепции мира: «Ты идешь. Но ты не можешь идти. Ты все время падаешь. На каждом шагу ты невесомо валишься вперед и подхватываешь себя в падении. И как же это возможно, чтобы ты шел и падал в одно и то же время?»
Рок-музыка сегодня демонстрирует: «как это возможно» — одновременно идти по дороге, учитывающей социальный ландшафт молодежного протеста, широкого социального недовольства, и «падать» в ухабы консервативных идей, противоположных чаяниям широких народных масс.
В поп-музыке последних лет в целом доминирует консервативная идейная тенденция. Симптоматичный пример. 1981 год. Ансамбль «Baw Waw Waw», образованный с участием музыкантов из круга «Sex Pistols» — группы, которая в свое время задала «нонконформистскую» панк-моду, записывает песню-бестселлер «Работа», в которой развивается любопытный (и удобный для консервативного правительства Великобритании) тезис о том, что безработица — лучше, чем работа, так как это — время развлечений, предоставляемое «бесплатно»75. О том, что «развлечения» не предоставляются бесплатно, в песне, разумеется, не упоминается. Но «заводная» музыка заставляет слушателя не вспоминать об этом, откровенно вставая на службу официозной пропаганде, стремящейся закрыть массам глаза на такое вопиющее социальное зло, против которого сегодня ведется интенсивная общественная борьба.
* * *
На первый взгляд, панорама современной поп-музыки чрезвычайно многопланова и разнообразна. Традиционный благопристойный шлягер и брутальный «тяжелый рок», циничный панк (отчасти и пост-панк) — рок и наивная внеевропейская поп-музыкальная экзотика, вереница возрожденных и возрождаемых стилей — от рок-н-ролла до психоделической музыки… Кажется — какая витрина! Товары на любой вкус и по любой цене!
Однако, пристально всматриваясь в выставленные на этой витрине поп-музыкальные товары, приходишь к выводу: за этим броским разнообразием кроется весьма ограниченное количество основных смыслов, идейных мотивов, о которых речь шла выше. Подчас они предстают в самых неожиданных обличьях и сочетаниях, но идейная, классовая сущность их не меняется из десятилетия в десятилетие.
Постоянство это свидетельствует: у поп-музыки — как и у музыкального «авангарда» — нет, по сути дела, истории, как нет ее, согласно приводившемуся замечанию К. Маркса, у всей буржуазной идеологии. Отсутствие истории — одно из проявлений интеграции рассмотренных областей западной музыкальной культуры в систему буржуазной идеологии.
Заключение
«Капитализм не был бы капитализмом, — отмечал В. И. Ленин, — если бы он (…) не давал буржуазии в руки гигантского аппарата лжи и обмана…»1 Особой частью этого аппарата лжи и обмана, особым видом идейно-эстетической «дезинформации» выступает Е- и U-музыка.
Элитарный авангардизм и коммерческая «массовая» звукопродукция в идейном отношении взаимодополняют друг друга, по-разному приспосабливая своих слушателей к жизни в контексте углубляющегося кризиса буржуазного общества.
В своем «слове» авангардисты стихийно или осознанно, косвенно или непосредственно повторяют трактовки социальных проблем, выдвигаемые буржуазными идеологами. В своем творческом «деле» авангардисты рисуют картину мира, преобладающий колорит которой— пессимистический. Социальный кризис превращается в привычный, не вызывающий идейно-эмоционального сопротивления атрагичный «антураж» мировоззренческого самочувствия тех интеллигентских слоев, к которым прежде всего обращена авангардистская композиция.
По-своему приспосабливает слушателя к современной буржуазной действительности поп-музыка. Опусы поп-музыки выступают как товары — рекламируемые предметы престижного потребления. В целом «система престижного потребления служит сокрытию основных, глубинных противоречий капиталистического способа производства, "усреднению" положения различных общественных групп, сглаживанию антагонистических интересов и поэтому выступает в качестве социально-объективной основы различных вариантов идеологии "интеграции"»2. Поп-музыка становится «платформой» иллюзорного единства разных социальных слоев потребителей, поскольку предлагает ориентированное на «средние» вкусы и потребности музыкальное заполнение свободного времени. Одновременно она вносит в сознание масс особым образом «примиряющую» с действительностью совокупность психологических и идеологических клише. Среди них преобладают оптимистические иллюзии, группирующиеся вокруг шлягерной ситуации «любви», в которой «снимается» социальная дисгармония, подавляющая индивида, и которая служит мнимым заместителем подлинной социальной гармонии человека с человеком.
Выполняя функции манипулирования сознанием масс в системе буржуазной идеологии, авангардизм и поп-музыка постоянно взаимодействуют. При этом в наши дни все заметнее обмен как идейными «ценностями», так и стилистическими средствами между Е- и U-музыкой. Этот обмен, это сближение музыкальных областей, в начале века находившихся в состоянии конфронтации, со своей стороны свидетельствует о единой идейной функции, сообщаемой искусству буржуазным «аппаратом лжи и обмана».
То, с какой целью обретшее возможность активно вмешиваться в общественную жизнь искусство обращается к умам людей, в конечном счете зависит от отношения к человеку, свойственного определенной общественной системе. В условиях социализма массы получают «право на настоящее великое искусство»3, так как целью этой общественной системы является всестороннее развитие каждого человека, отвечающее критериям социалистической цивилизованности.
В новой редакции Программы КПСС, принятой XXVII съездом партии, указывается: «КПСС придает большое значение более полному и глубокому освоению трудящимися массами богатств духовной и материальной культуры, активному приобщению их к художественному творчеству»4. Размежевание социальных лагерей в современной борьбе за умы и сердца людей проявляется на нынешнем этапе в особо резком размежевании гуманистических установок демократической музыкальной культуры, в которой все более видную роль играет советская музыка, и дегуманизирующих тенденций, действующих в западной Е- и U-Музыке. «Политике в области культуры, проводимой империализмом и правящим классом капиталистических стран, противостоит живое прогрессивное искусство, берущее свои истоки в народе и связанное с ним», — пишет выдающийся греческий композитор Микис Теодоракис5.
Эволюция, пережитая музыкальным «авангардом» и поп-музыкой и в конце концов обусловившая их сегодняшнее воссоединение, ярко свидетельствует не только о кризисе музыкального мышления, подчинившегося целям идейной стратегии правящего класса, но и о кризисе самой этой стратегии. Стратегии, осуществлению которой может служить лишь искусство, переставшее быть подлинной художественной ценностью.
Современный капитализм агрессивен во всех своих проявлениях. Его враждебность культуре, проявляющаяся, в частности, в рассмотренных в этой книге течениях художественной жизни, — лишь одна из сторон той глобальной опасности, которую отживающий общественный строй несет для человеческой цивилизации в целом, для дела мира и прогресса.
Примечания
К ПРЕДИСЛОВИЮ
1. Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. М., 1986, с. 131.
2. Можнягун. С. Е. Кризис буржуазной «массовой культуры». Киев, 1981, с. 9.
3. Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 24, с. 120–121.
4. См. о месте этих течений в современной культуре буржуазного общества: Мельвиль А. Ю. «Контркультура», ее эволюция и ее современные критики на Западе. — Вопросы философии, 1974, № 8; Новинская М. И. Исторические традиции и леворадикальное сознание. — Вопросы философии, 1975, № 5.
5. См.: Шнеерсон Г. М. Американская политическая песня. — В кн.: Искусство и общество. М., 1978.
6. См.: Леонтьева О. Т. Цели и средства «ангажированной» музыки на Западе. (Заметки о произведениях Ганса Вернера Хенце). — В кн.: Искусство и общество. М., 1978.
7. Туганова О. Э. Некоторые вопросы типологии течений в культуре современного буржуазного общества. — Вопросы философии, 1977, № 8, с. 61.
8. См.: Левин Л. И. Экономические и организационные проблемы западноевропейского музыкального театра (70-е гг. XX в.). М., 1982.— (Музыка: Науч. реф. сб., вып. 3), с. 24.
9. См.: Туганова О. Указ. соч., с. 61.
10. См.: Туганова О. Указ. соч., с. 60.
11. См.: Левин Л. И. Указ. соч.
12. См.: Kupkovil L. Die Rolle der Tonalitat im zeitgenossischen und zeitgemaBen Komponieren. — In: Zur «Neuen Einfachheit» in der Musik. Wien — Graz, 1981, S. 94.
13. Можнягун С. E. Указ. соч., с. 15.
14. Там же, с. 13.
15. См.: например: Borris S. Kulturgut Musik als Massenware. Wiesbaden, 1978, S. 45–46.
16. См., например: Давыдов Ю. H. Новые тенденции в музыкальной эстетике ФРГ (метаморфозы идеи «художественного произведения» в авангардистском сознании). — В кн.: Кризис буржуазной культуры и музыка. М., 1972; его же. Марксистский историзм и проблема кризиса искусства. — В сб.: Современное буржуазное искусство: Критика и размышления. М., 1975.
17. См.: Henze Н. W. Exkurs iiber den Populismus. — In: Zwi schen den Kulturen: Neue Aspekte der musikalischen Asthetik. Frankfurt/M., 1979.
18. См., например: Михайлов Ал. В. Концепция произведения искусства у Теодора В. Адорно. — В кн.: О современной буржуазной эстетике. М., 1972; см. также: Мельвиль А. Ю., Разлогов К. Э. Контркультура и «новый» консерватизм. М., 1981.
19. См.: Михайлов Ал. В. Некоторые мотивы музыкального авангардизма: Карлгейнц Штокхаузен. — В кн.: Искусство и общество. М., 1978; его же. Музыкальная социология: Адорно и после Адорно. — В кн.: Критика современной буржуазной социологии искусства. М., 1978.
20. См.: Михайлов Ал. В. Некоторые мотивы музыкального авангардизма…, с. 70–71.
21. См.: Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 2.
22. Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 2, с. 211.
23. См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20. с. 100–104.
24. См.: Ермаш Г. Л. Искусство как мышление. М., 1982, с. 114, 116.
25. Макаров О. Искусство в современной идеологической борьбе. М., 1975, с. 3.
К ВВЕДЕНИЮ (с. 14)
1. Их полный перечень и примерные даты введения см.: Dahlhaus С. Ober die Schwierigkeit vom Neuen zu reden. — Neue Zeitschrift fur Musik, 1974, № 4, S. 226.
2. Михайлов Ал. В. Музыкальная социология: Адорно и после Адорно. — В кн.: Критика современной буржуазной социологии искусства. М., 1978, с. 179.
3. См.: Мельвиль А. Ю., Разлогов К. Э. Контркультура и «новый» консерватизм. М., 1981, с. 3.
4. См.: Михайлов Ал. В. Некоторые мотивы музыкального авангардизма: Карлгейнц Штокхаузен. — В кн.: Искусство и общество. М., 1978.
5. См.: Пономарев Б. Н. Актуальные проблемы теории мирового революционного процесса. — Коммунист, 1971, № 15, с. 48–49.
6. См.: Мельвиль А. Ю., Разлогов К. Э. Указ. соч., с. 3.
К ГЛАВЕ 1
1. Budde Е. Formen der Einfachheit in der Musik — einige Aspekte kompositorisch-asthetischer Wertung. — In: Zur «Neuen Einfachheit» in der Musik. Wien-Graz, 1981, S. 25.
2. Kruger W. Karlheinz Stockhausen: Allmacht und Ohnmacht in der neuesten Musik. Regenensburg, 1971, S. 8.
3. Михайлов Ал. В. Некоторые мотивы музыкального авангардизма: Карлгейнц Штокхаузен. — В кн.: Искусство и общество. М., 1978, с. 69.
4. Dahlhaus С. Ober die Schwierigkeit vom Neuen zu reden. — Neue Zeitschrift fur Musik, 1974, № 4, S. 226.
5. Wimberger G. Zur Situation-Betrachtungen eines Komponisten. — In: Zur «Neuen Einfachheit»…, S. 99, 101.
6. Schmalzriedt S. Bemerkungen zum Gebrauch des Begriffs «Neue Einfachheit». — In: Zur «Neuen Einfachheit»…, S. 23.
7. См.: Гранов В. Д., Гуревич П. С., Семченко А. Т. В поисках духовной опоры: Общеполитические и международные аспекты буржуазных концепций «реидеологизации». М., 1981, с. 9.
8. См., помимо упомянутой работы Гранова В. Д. и др., в частности: Федотова В. Г. Критика социокультурных ориентаций в современной буржуазной философии. М., 1981; «Критический рационализм»: Философия и политика. Анализ концепций и тенденций. М., 1981; Социальная философия франкфуртской школы. М., 1978; Гаджиев Н. С. США: Эволюция буржуазного сознания. М., 1981; Скворцов Л. В. Социальный прогресс и свобода. М., 1979; Мельвиль А. Ю. Социальная философия современного американского консерватизма. М., 1980; Браун К-Х. Критика фрейдо-марксизма. М., 1982; Эльм Л. «Новый консерватизм»; Идеология и политика одного реакционного течения в ФРГ. М., 1980; Мельвиль А. Ю., Разлогов К. Э. Контркультура и «новый» консерватизм. М., 1981 и др.
9. Мельвиль А. Ю., Разлогов К. Э. Указ. соч., с. 261.
10. См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 45–46.
11. Fubini E. Der Futurismus in der italienischen Musik und seine asthetitischen und soziologischen Auswirkungen. — In: Der musikalische Futurismus. Graz, 1976, S. 26–27.
12. Futurist Manifestos. Ed. by U. Apollonio. London. 1973, p. 12. Далее везде — Apollonio U.
13. Кюи Ц. Избранные статьи. Л., 1952, с. 550–551.
14. Apollonio U., р. 16.
15. См.: Kolleritsch О. Vorbemerkung zum Thema. — In: Der Musikalische Futurismus, S. 8.
16. Ibid.
17. Cm.: Apollonio U., p. 66–67.
18. Цит. no: Apollonio U., p. 66.
19. Цит. по: Замковой В. И., Филатов М. Н. Философия агрессии. Алма-Ата, 1981, с. 98.
20. Цит. по: Apollonio U., р. 31.
21. Цит. по: Apollonio U., р. 34.
22. Цит. по: Apollonio U., р. 37.
23. Цит. по: Apollonio U., р. 118.
24. Цит. по: Apollonio U., р. 30.
25. Цит. по: Apollonio U., р. 30.
26. Цит. по: Apollonio U., р. 30, 125.
27. Цит. по: Apollonio U., р. 76.
28. Цит. по: Кукаркин А. В. По ту сторону расцвета. М., 1981, с. 14, 15.
29. Цит. по: Fubini Е. Op. cit., S. 31.
30. Цит. по: Кукаркин А. В. Указ. соч., с. 15.
31. Цит. по: Fubini Е. Op. cit., S. 29.
32. Цит. по: Apollonio U., р. 74–75.
33. Цит. по: Apollonio U., р. 76.
34. Цит. по: Apollonio U., р. 85–86.
35. Цит. по: Apollonio U., р. 87.
36. См.: Prieberg F. К. Musica ex Machina: Uber Verhaltnis von Musik und Technik. Ullstein, 1960, S. 58.
37. См.: Borris S. Kulturgut Musik als Massenware. Wiesbaden, 1978 S 11
38. См.: Prieberg F. K., Op. cit., S. 21.
39. Цит. по: Borris S. Op. cit., S. 12.
40. Цит. по: Skyllstad К. Futurismus und Futurologie: Die Kunstals Abbild oder Zukunfstmodell der Gesellschaft. — In: Der Musikalische Futurismus, S. 94.
41. Цит. по: Apollonio U., p. 112.
42. Цит. по: Apollortio U., p. 37.
43. Цит. по: Apollonio U., p. 37.
44. Цит. по: Apollonio U., p. 37.
45. Цит. по: Apollonio U., p. 76.
46. См.: Borris S. Op. cit., S. 13.
47. Цит. по: Apollonio U., p. 37.
48. Borris S. Op. cit., S. 13.
49. Федотова В. Г. Указ. соч., с. 7.
50. См.: Скворцов Л. В. Указ. соч., с. 25.
51. См. подробнее: Гранов В. Д., Гуревич П. С., Семченко А. Т. Указ. соч., с. 18.
52. «Критический рационализм»: Философия и политика, с. 32.
53. См. там же, с. 34.
54. Цит. по: Kirchmeyer Н., Schmidt Н. W. Aufbruch der Jungen Musik. Koln, 1970, S. 68.
55. Цит. по: Fubini Е. Die Entwicklung der italienischen Musikwissenschaft nach 1945 unter dem EinfluB der Zeitgenossischen Musik. — In: Der musikalische Futurismus, S. 111.
56. Stockhausen K. Texte, Bd. 1. Koln, 1963. S. 48.
57. Ibid., S. 47.
58. Ibid., S. 32.
59. Цит. по: Kruger W. Op. cit., S. 29.
60. См.: Kruger W. Op. cit., S. 29.
61. Stockhausen K. Texte, Bd. 2. Koln, 1964, S. 238.
62. Xenakis J. Formalized Music: Thought and Mathematics in Composition. London, 1971, p. X.
63. Steinbuch K. Automat und Mensch. Berlin — Heidelberg — New York, 1965, S. 406.
64. Цит. по: Федотова В. Г. Указ. соч., с. 48.
65. Steinbuch К. Op. cit., S. 406.
66. Skyllstad К. Futurismus und Futurologie: Die Kunst als Abbildoder Zukunftsmodell der Geselschaft. — In: Der Musikalische Futurismus, S. 98.
67. См.: Федотова В. Г. Указ. соч., с. 16–17.
68. Цит. по: Kirhmeyer Н., Schmidt Н. W. Op. cit., S. 63.
69. Stockhausen К. Texte, Bd. 1, S. 54.
70. Цит. по: Kruger W. Op. cit., S. 24.
71. Xenakis J. Op. cit., p. 132–133.
72. Цит. по: Kirhmeyer H., Schmidt H. W. Op. cit., S. 98–99.
73. Цит. по: Kruger W. Op. cit., S. 33.
74. Mumford L. Die Verwandlungen des Menschen. West Berlin, S. 154.
75. Boulez P. Einjchten und Aussichten. — Melos, 1955, H. 6, S. 162.
76. Stockhausen K. Texte, Bd. 2, S. 146.
77. Ibid. S. 258.
78. Цит. по: Лейбин В. М. «Модели мира» и образ человека. М., 1982, с. 51.
79. Цит. по: Социальная философия франкфуртской школы, с. 5.
80. Завадская Е. В. Культура Востока в современном западном мире. М., 1977, с. 5.
81. Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 14.
82. Stockhausen К. Texte, Bd. 1, S. 23.
83. Stockhausen К. Texte, Bd. 2, S. 148.
84. Цит. по: Kruger W. Op. cit., S. 91.
85. Цит. по: Социальная философия франкфуртской школы, с. 159.
86. Schnebel D. Werk-Stucke, Stuck-Werk. — Melos, 1969, № 3, 5. 114–115.
87. См.: Федотова В. Г. Указ. соч., с. 94, 93.
88. См.: Kruger W. Op. cit., S. 63.
89. Stockhausen К. Texte, Bd. 3. Koln, 1971, S. 314.
90. Cage J. Unbestimmtheit. — In: Die Reihe, V, 1959, S. 89.
91. Ibid., S. 90.
92. Stockhausen K. Texte, Bd. 3, S. 123.
93. См. в кн.: Социальная философия франкфуртской школы, с. 336.
94. Henze Н. W. Exkurs uber den Populismus. — In: Zwischen den Kulturen: Neue Aspekte der Musikalische Asthetik. Frankfurt/M., 1979,
95. Ibid., S. 31.
96. См.: Gelhaar R. Zur Komposition Ensemble. Mainz, 1968, S. 8.
97. Borris S. Op. cit., S. 49–50.
98. Цит. по: Borris S. Op. cit., S. 182.
99. См.: Гранов В. Д., Гуревич П. С., Семченко А. Т. Указ. соч., с. 38.
100. Цит. по: Мельвиль А. Ю. Указ. соч., с. 137.
101. См.: Schmalzriedt S. Bemerkungen zum Gebrauch des Begriffs «Neue Einfachheit». — In: Zur «Neuen Einfachheit»…, S. 18.
102. Ibid.
103. Цит. по: Schmalzriedt S. Op. cit., S. 23..
104. См.: Trojahn M. Formbegriff und Zeitgestalt in der «Neuen Einfachheit». — In: Zur «Neuen Einfachheit»…, S. 88.
105. Цит. по: Эльм Л. Указ. соч., с. 61.
106. Цит. по: Frobenius W. Die «Neue Einfachheit» und derburgerliche Schonheitsbegriff. — In: Zur «Neuen Einfachheit»…, S. 50–51.
107. Цит. по: Эльм Л. Указ. соч., с. 57, 56.
108. Rihm W. Der geschokte Komponist. — In: Fereinkurse’ 78. Mainz, 1978, S. 42.
109. Цит. по: Гранов В. Д., Гуревич П. С., Семченко А. Т. Указ. соч., с. 43.
110. Цит. по: Эльм Л. Указ. соч., с. 51.
111. Цит. по: Reimer Е. Komponist und Publikum: Historische Reflexionen zur «Neuen Einfachheit». — In: Zur «Neuen Einfachheit»…, S. 45.
112. Schmalzriedt S. Op. cit., S. 21.
113. Wimberger G. Zur Situation-Betrachtung eines komponisten. — In: Zur «Neuen Einfachheit»…, S. 97,98.
114. Цит. по: Эльм Л. Указ. соч., с. 54, 55, 57.
115. См.: Kelkel М. Meditationsmusik gestern und heute. — In: Zur «Neuen Einfachheit»…, S. 167.
116. Kelkel M. Op. cit., S. 167, 168.
117. Гранов В. Д., Гуревич П. С., Семченко А. Г. Указ. соч., с. 109.
118. Kupkovil L. Die Rolle der Tonalitat im zeitgenossischen und zeitgemaBen Komponieren. — In: Zur «Neuen Einfachheit»…, S. 93.
119. Kolleritsch O. Zur Wertbesetzung des Begriffs «Neue Einfachheit». — In: Zur «Neuen Einfachheit»…, S. 12.
120. См.: Kupkovil L. Op. cit., S. 12.
121. Цит. по: Frobenius W. Op. cit., S. 51.
122. См.: Лейбин. В. М. «Модели мира» и образ человека: Критический анализ идей Римского клуба. М., 1982, с. 106.
123. Kupkovil L. Op. cit., S. 92, 93.
124. Цит. по: Frobenius W. Op. cit., S. 51.
125. Trojahn M. Op. cit., S. 84.
126. Мельвиль А. Ю. Указ. соч., с. 57.
127. Kelkel M. Op. cit., S. 168–169.
128. Цит. по: Мельвиль А. Ю. Указ. соч., с. 71.
129. См.: Гранов В. Д., Гуревич П. С., Семченко А. Т. Указ. соч., с. 73.
130. Цит. по: Мельвиль А. Ю., Разлогов К. Э. Указ. соч., с. 190.
131. Цит. по: Эльм Л. Указ. соч., с. 55.
132. См.: Гранов В. Д., Гуревич П. С., Семченко А. Т. Указ. соч., с. 73.
133. Цит. по: Kolleritsch О. Op. cit., S. 10.
134. Rihm W. Die Klassifizierung der «Neuen Einfachheit» ausder Sicht des Komponisten. — In: Zur «Neuen Einfachheit»…, s. 81.
135. Цит. по: Мельвиль А. Ю., Указ. соч., с. 70.
136. Rihm W. «Neue Einfachheit»: Ausund Einfalle. — Hi Fi Stereophonic, 1977, H. 4, S. 420.
137. Schweinitz W. von. Standort. — Neue Zeitschrift fur Musik,
1979, № 1, S. 19.
138. Stockhausen K. Texte, Bd. 4. Koln, 1978, S; 208.
139. Цит. по: Heister H. W. Sachgasse oder Ausweg aus dem Elfenbeinturm? Zur musikalischen Sprache in Wolfgang Rihms «Jakob Lenz». — In: Zur «Neuen Einfachheit»…, S. 119.
К ГЛАВЕ 2
1. Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 24, с. 405.
2. Frobenius W. Die «Neuen Einfachheit in der Musik. Wien — Graz, 1981, S. 53–54, 57.
3. Stoianova I. Die «Neue Einfachheit» in der heutigen Praxis, repetitive Musik, Klangenvironments und Multimedia-Produktionsprozesse. — In: Zur «Neuen Einfachheit»…, S. 146.
4. Cм.: Lissa Z. Musikalische GeschichtsbewuBtsein: Segen oder Fluch? — In: Zwischen Tradition und Fortschritt: Ober das musikalische GeschichtsbewuBtsein. Mainz, 1973, S. 19.
5. Cм.: Borris S. Kulturgut Musik als Massenware. Wiesbaden, 1978, S. 109.
6. Плеханов Г. В. Искусство и литература. М., 1948, с. 236.
7. Новые художественные тенденции в развитии реализма на Западе: 1970-е гг. М., 1982, с. 3–4.
8. См.: Apollonio U., р. 86.
9. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971, с. 318–319.
10. См.: Besseler Н. Das musikalische Horen der Neuzeit. Berlin, 1959, S. 75.
11. См.: Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М., 1965, с. 21–33.
12. Besseler Н. Op. cit., S. 74.
13. Kirchmeyer H., Schmidt H. W. Aufbruch der Jungen Musik. Koln, 1970, S. 150.
14. Цит. по: Kirchmeyer Н., Schmigt Н. W. Op. cit., S. 127—
15. Borris S. Op. cit., S. 15.
16. Цит. по: Apollonio U., p. 85, 87.
17. Borris S. Op. cit., S. 16.
18. Цит. по: Mayer-Rosa E. Musik und Technik: Vom Futurismusbis zur Elektronik. — Beitrage zur Schulmusik, 1974, № 27, S. 20.
19. См.: Borris S. Op. cit., S. 16.
20. Cм.: Borris S. Op. cit., S. 21.
21. Цит. по: Pauli H. I. Fur Wen Komponieren Sie eigentlich? Frankfurt/M., 1971, S. 118.
22. Цит. по: Borris S. Op. cit., S. 183.
23. Цит. по: Borris S. Op. cit., S. 107.
24. Borris S. Op. cit., S. 106–107.
25. The New Grove’s Dictionary of Musik and Musicians, Vol. 1. London, 1980, p. 131.
26. Borris S. Op. cit., S. 106.
27. John Cage: Werkverzeichnis. N. Y. — Frankfurt/M, 1962, S. 57.
28. Kesting M. Happening: Analyse einen Symptoms. — Melos, 1969, № 7/8, S. 307.
29. Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 3, с. 2.
30. Лаптев И. Д. Экологические проблемы. М., 1982, с. 94.
31. Маркс К., Энгельс Ф., Соч., т. 1, с. 415.
32. Там же.
33. См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 188–189.
34. См.: Роднянская И. Художественный образ. — Философская энциклопедия, т. V. М., 1970, с. 453.
35. Там же, с. 454.
36. См.: Асафьев Б. В. О балете. Л., 1974, с. 23–24.
37. Роднянская И. Указ. соч., с. 454.
38. Цит. по: Stoianova I. Op. cit., S. 151.
39. Ibid.
40. Цит. пo: Stoianova I. Op. cit., S. 153.
41. Cm.: Kelkel M. Meditationsmusik gestern und heute. — In: Zur «Neuen Einfachheit»…, S. 173.
42. Описывается по: Kelkel M. Op. cit., S. 176–177.
43. См.: Kelkel M. Op. cit., S. 177.
44. Cм.: Stoianova I. Op. cit., S. 157.
45. Cm.: Stoianova I. Op. cit., S. 158.
46. Ibid.
47. Cм.: Stoianova I. Op. cit., S. 159.
48. Ibid.
49. Описывается пo: Stoianova I. Op. cit., S. 159–160.
50. Цит. пo: Stoianova I. Op. cit., S. 159.
51. Cм.: Stockhausen K. Texte, Bd. IV. Koln, 1978, S. 200.
52. Cм.: Andraschke P. Kompositorische Tendenzen bei Karlheinz Stockhausen seit 1965.— In: Zur «Neuen Einfachheit»…, S. 134.
53. Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 23, с. 256–257.
54. См.: Preusner Е. Die burgerliche Musikkultur. Kassel, 1951.
55. Цит. по: Кукаркин А. В. По ту сторону расцвета. М., 1981, с. 19–20.
56. См.: Fischer К. von. Das Zeitproblem in der Musik. — In: Das Zeitproblem im 20. Jahrhundert. Bern — Munchen, 1964, S. 315.
57. См.: Kirchmeyer Н., Schmidt Н. W. Op. cit., S. 156.
58. Cм.: Kruger W. Karlheinz Stockhausen: Allmacht und Ohnmacht in der neuesten Musik. Regensburg, 1971, S. 30.
59. Kirchmeyer H., Schmidt H. W. Op. cit., S. 159.
60. Budde Е. Zitat, Montage, Collage. — In: Musik der Sechziger Jahre. Mainz, 1972, S. 26 ff.
61. Cм.: Borris S. Op. cit., S. 182.
62. Cм.: Borris S. Op. cit., S. 87–88.
63. Kelkel M. Op. cit., S. 177.
64. Описывается пo: Stoianova I. Op. cit., S. 160–162.
65. Ibid.
66. Schnebel D. Werk-Stucke, Stuck-Werk. — Melos, 1969, № 3, S. 112.
67. Heister H. W. Sachgasse oder Ausweg aus dem Elfenbeinturm? — In: Zur «Neuen Einfachheit»…, S. 120.
68. Ibid., s. 121–122.
69. Cм.: Schmidt H.-P. Die Kunst der Verzierung in 18. Jahrhundert. Kassel-Basel, 1965, S. 12 (цитируются нормативные рекомендации И. Матезона и М. Мерсенна).
70. Михайлов Ал. В. Этапы развития музыкально-эстетической мысли в Германии XIX века. — В кн.: Музыкальная эстетика Германии XIX века, т. 1. М., 1981, с. 13.
71. См.: Zimmermann В. A. Interwall und Zeit. Mainz, 1974, S. 62.
72. Цит. пo: Borris S. Op. cit., S. 65–66.
73. См. характеристики «поп-содержания»: Strob J. Apropos pop-music. — Melos, 1970, № 5, S. 187.
74. Cм.: Zuber B. «Sonntags immer…» Ober Musiksendungen im Fernsehen. — Neue Zeitschrift fur Musik, 1980, № 1, S. 12.
75. Vaggione H. La nature est meme pas unconsciente. — Musique en Jeu, 1978, № 32, S. 87.
76. Cм.: Andraschke P. Kompositorische Tendenzen bei Karlheinz Stockhausen seit 1965.— In: Zur «Neuen Einfachheit»…, S. 132.
77. Ibid.
78. Borris S. Op. cit., S. 20.
79. Oesch H. Neue Musik und ihre Leute. — Melos, 1969, № 11, S. 461.
80. Neue Zeitschrift fur Musik, 1981, № 1, S. 21.
81. Kupkovil L. Die Rolle Tonalitat in zeitgenossischen und ZeitgemaBen Komponieren. — In: Zur «Neuen Einfachheit»…, 1981, S. 94.
82. Wimberger G. Zur Situation-Betrachtung eines komponisten. — In: Zur «Neuen Einfachheit»…, S. 98—100.
К ВВЕДЕНИЮ (с. 102)
1. Strob J. Apropos pop-music. — Melos, 1970, N. 5, S. 187.
2. См.: Можнягун С. E. Кризис буржуазной «массовой культуры». Киев, 1981, с. 13.
3. См.: Шнеерсон Г. М. Американская политическая песня. — В кн.: Искусство и общество. М., 1978, с. 97.
4. См. там же, с. 96.
5. См.: Kaiser R. U. Rock-Zeit: Stars, Geschaft und Geschichte der neuen Pop-Musik. Dusseldorf — Wien, 1972, S. 153.
6. Цит. пo: Strob J. Op. cit., S. 189.
7. См.: Можнягун С. Е. Указ. соч., с. 15.
8. Neue Zeitschrift fur Musik, 1981, № 1, S. 6.
9. Ibid., S. 22.
10. Melos, 1970, № 7–8, S. 288.
К ГЛАВЕ 3
1. Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 23, с. 142.
2. См.: Келлес-Крауз К. фон. Музыка и экономика. Спб., 1904, с. 38–41.
3. См.: Matzke Н. Musikokonomik und Musikpolitik: Grundzuge einer Musikwirtschaftslehre. Breslau, 1927, S. 22.
4. Cм.: Kayser D. Schlager — Das Lied als Ware: Untersuchungen zu einer Kategorie der Illusionsindustrie. Stuttgart, 1976, S. 23.
5. Cм.: GEMA. Geschaftsbericht. 1976, S. 22.
6. Cм.: Borris S. Kulturgut Musik als Massenware. Wiesbaden, 1978, S. 73.
7. Cм.: Borris S. Op. cit., S. 25.
8. См.: Дубсон Б. И. Культурная функция досуга в условиях современного капитализма: Теоретические концепции и реалии буржуазного общества. М., 1981.— (Общие проблемы культуры и культурного строительства: Науч. реф. сб., вып. 4), с. 1.
9. См.: Дубсон Б. И. Указ. соч., с. 2.
10. Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 42, с. 90–91.
11. Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 2, с. 145.
12. Дубсон Б. И. Указ. соч., с. 14.
13. Там же, с. 14.
14. Батищев Г. С. Деятельная сущность человека как философский принцип. — В кн.: Человек в социалистическом и буржуазном обществе. М., 1966, с. 280.
15. См.: Kayser D. Op. cit., S. 17.
16. См.: Kayser D. Op. cit., S. 7.
17. Cм.: Kayser D. Op. cit., S. 2–3.
18. Cм.: Kaiser R. U. Rock-Zeit: Stars, Geschaft und geschichte der neuen Pop-Musik. Dusseldorf — Wien. 1972, S. 127.
19. Cм.: Rauhe H. Popularitat in der Musik. — In: Musik und Gesellschaft. Karlsruhe, 1974, S. 34.
20. См. данные: Borris S. Op. cit., S. 142.
21. Cм.: Kayser D. Op. cit., S. 15.
22. Cм.: Kayser D. Op. cit., S. 21, 20.
23. Cм.: Kayser D. Op. cit., S. 23.
24. Cм.: Kayser D. Op. cit., S. 24.
25. Cм.: Kayser D. Op. cit., S. 23.
26. Cм.: Schulz-Kohrt D. Die Schallplatte auf dem Weltmarkt. Konigsberg, 1940, S. 68.
27. Cм.: Kayser D. Op. cit., S. 23.
28. Cм.: Kayser D. Op. cit., S. 163.
29. Cм.: Kneif T. Rockmusik und Wissenschaft: Aspekte einer zeitgenossischen Trivialkunst. — Melos/NZfM, 1976, № 1, S. 19.
30. Kayser D. Op. cit., S. 33.
31. Cм.: Borris S. Op. cit., S. 9.
32. Cм.: Strob J. Apropos pop-music. — Melos, 1970, № 5, S. 190.
33. Cм.: Strob J. Op. cit., S. 190.
34. Cм.: Kayser D. Op. cit., S. 164.
35. См.: Kaiser R. U. Op. cit., S. 127.
36. Ibid.
37. Cм.: Peellaert G., Cohn N. Rock Dreams. N. Y., 1973.
38. Kaiser R. U. Op. cit., S. 129.
39. Kaiser R. U. Op. cit., S. 158.
40. См. в кн.: Kaiser R. U. Op. cit., S. 23.
41. Cм.: Kaiser R. U. Op. cit., S. 130.
42. Cм.: Kaiser R. U. Op. cit., S. 78–79.
43. Kaiser R. U. Op. cit., S. 130.
44. Kaiser R. U. Op. cit., S. 130.
45. Kaiser R. U. Op. cit., S. 136.
46. Cм.: Hopkins J. The Rock-Story. N.Y., 1970, p. 128.
47. Cм.: Kaiser R. U. Op. cit., S. 132.
48. Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 26, ч. 1, с. 421.
49. Там же, с. 420.
50. Там же, с. 410.
51. Цит. по: Дубсон Б. И. Культурная функция досуга в условиях современного капитализма: Теоретические концепции и реалии буржуазного общества. М., 1981.— (Общие проблемы культуры и культурного строительства: Науч. реф. сб., вып. 4), с. 6.
52. См.: Kaiser R. U. Op. cit., S. 137.
53. См.: Kaiser R. U. Op. cit., S. 137.
54. Cм.: Borris S. Op. cit., S. 79.
55. Borris S. Op. cit., S. 19.
56. Cм.: Borris S. Op. cit., S. 23.
57. Cм.: Kaiser R. U. Op. cit., S. 137.
58. Cм.: Knepler G. Musikgeschihte des 19. Jahrhunderts. Bd. 1. Berlin, 1961, S. 486.
59. Cм.: Kayser D. Op. cit., S. 16.
60. См.: Садуль Ж. Всеобщая история кино, т. 4. М., 1982, с. 320–321.
61. Там же.
62. См.: Reichardt R. Die Schallplatte als kulturelles und okonomisches Phanomen: Ein Beitrag zur Problem der Kunstkommerzialisierung. Basel, 1962, S. 107.
63. Benjamin W. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Frankfurt/M., 1970, S. 28.
64. Cм.: Peelaert G., Cohn N. Op. cit. (без нумерации страниц).
65. Kneif T. Flimmern, Glamour, Ignorance: Warum Ich keine Rocksendungen auschaue. — Neue Zeitschrift fur Musik, 1981, № 1, S. 15.
66. Zuber B. Op. cit., S. 132.
67. Reinecke H. P. Das Fernsehen und der vermeintliche Niedergang der Musikkultur. — Neue Zeitschrift fiir Musik, 1981, № 1, S. 8.
68. Reinecke H. P. Op. cit., S. 8.
69. Strob J. Apropos pop-music. — Melos, 1970, № 5, S. 190.
70. Cм.: Borris S. Op. cit., S. 23.
71. Cм.: Borris S. Op. cit., S. 24.
72. Cм.: Burde W., Reinecke H. P. Gesprach mit Klaus Lindemann. — Neue Zeitschrift fur Musik, 1981, № 1, S. 18.
73. Cм.: Downing D. Future Rock. St. Albans, 1976, p. 58.
74. Цит. по: Сущенко М. В. Некоторые проблемы социологического изучения популярной музыки в США. — В кн.: Критика современной буржуазной социологии искусства. М., 1978, с. 241.
75. Цит. по: Дубсон Б. И. Указ. соч., с. 13.
76. Цит. по: Дубсон Б. И. Указ. соч., с. 10.
77. Цит. по: Kaiser R. U. Op. cit., S. 81.
78. Borris S. Op. cit., S. 22.
79. Bosshart L. Dynamik der Fernseh-Unterhaltung. Freiburg, 1979, S. 18.
80. Цит. по: Дубсон Б. И. Указ. соч., с. 15.
81. См.: Можнягун С. Е. Кризис буржуазной «массовой культуры». Киев, 1981, с. 17.
82. См., например: Новые художественные тенденции в развитии реализма на Западе: 1970-е годы. М., 1982.
К ГЛАВЕ 4
1. Цит. по: Можнягун С. Е. Кризис буржуазной «массовой культуры». Киев, 1981, с. 68.
2. См.: Дейвид Бауи — «покаяние» или поредна поза? — Лик, 1983, № 24, с. 27–28.
3. См.: Kneif Т. Rockmusik und Wissenschaft: Aspekte einer zeitgendssischen Trivialkunst. — Melos/NZfM, 1976, № 1, S. 21.
4. Cм.: Kayser D. Schlager — Das Lied als Ware: Untersuchungen zu einer Kategorie der Illusionsindustrie. Stuttgart, 1976, S. 122.
5. Cм.: Kayser D. Op. cit., S. 124.
6. Маркс К., Энгельс Ф. Собр соч., т. 42, с. 91.
7. Novalis. Schriften. Jena, 1907, Bd. Ill, S. 102.
8. Dahlhaus C. Musikalischer Kitsch. — Neue Zeitschrift fur Musik 1974, № 10, S. 602.
9. Статистические данные приводятся no: Kayser D. Op. cit., S. 151–153.
10. Top: Schlagertextheft. Hamburg, № 11, S. 7.
11. Dein Schonstes Lied. Arcadia Schlagertextheft. Hamburg, № 66, S. 5.
12. Рефрены из шлягеров разных лет цит. по: Kayser D. Op. cit., S. 72.
13. Deutschlands Liederschatz mit Sang und Klang. Berlin, o. J.
14. Рефрены из шлягеров разных лет цит. по: Kayser D. Op. cit., S. 105.
15. Dein Schonstes Lied, № 30, S. 28.
16. Можнягун С. E. Указ. соч., с. 9.
17. Цит. по: Kayser D. Op. cit., S. 75.
18. Top, № 10, S. 8.
19. Цит. пo: Kayser D. Op. cit., S. 66, 80.
20. Top, № 10, S. 10.
21. Цит. по: Сущенко М. В. Некоторые проблемы социологического изучения популярной музыки в США — В кн.: Критика современной буржуазной социологии искусства. М., 1978, с. 258.
22. Цит. по: Соболев Р. В стиле «диско» (Заметки о кино категории «Б») — В сб.: Мифы и реальность: Зарубежное кино сегодня, вып. 8. М., 1983, с. 227.
23. Там же, с. 230.
24. Там же, с. 231.
25. См. там же, с. 231.
26. Там же, с. 228.
27. См.: Bohlander С., Holler К-Н. Jazz Fuhrer: Sachteil. Leipzig, 1980, S. 128–129.
28. Цит. по: Мельвиль А. Ю., Разлогов К. Э. Контркультура и «новый» консерватизм. М., 1981, с. 152.
29. Там же.
30. Peellaert G., Cohn N. Rock Dreams. N.-Y., 1973 (без нумерации страниц).
31. Ibid.
32. Cohn N. Pop from the beginning. London, 1969, p. 142.
33. Sm.: Kaiser R. U. Op. cit., S. 65.
34. Kaiser R. U. Op. cit., S. 64.
35. Musikmarkt, 1970, 16 November, S. 46.
36. Kaiser R. U. Op. cit., S. 65.
37. Цит. пo: Kaiser R. U. Op. cit., S. 72.
38. Los Angeles Free Press, 1970, 10 Apr., p. 10.
39. Цит. пo: Kaiser R. U. Op. cit., S. 72.
40. Melody Maker, 1970, 14 March, p. 14.
41. Kaiser R. U. Op. cit., S. 72.
42. См. описание концертов «Grateful Dead»: Kaiser R. U. Op. cit., S. 88.
43. Цит. пo: Kaiser R. U. Op. cit., S. 88.
44. Kaiser R. U. Op. cit., S. 89.
45. Cм.: Kaiser R. U. Op. cit., S. 85–86.
46. Цит. пo: Kaiser R. U. Op. cit., S. 90.
47. Цит. пo: Hopkins J. The Rock-Story. N. Y., 1970, p. 20.
48. Цит. пo: Kaiser R: U. Op. cit., S. 119.
49. Цит. пo: Hopkins J. Op. cit., p. 20.
50. Цит. пo: Kaiser R. U. Op. cit., S. 121.
51. Цит. пo: Kaiser R. U. Op. cit., S. 122.
52. Kaiser R. U. Op. cit., S. 122.
53. Цит. пo: Downing D. Future Rock. St. Albans, 1976, p. 41.
54. Цит. пo: Downing D. Op. cit., p. 42.
55. Zigzag, 1967, N 4.
56. Цит. пo: Downing D. Op. cit., p. 41–43.
57. Цит. пo: Downing D. Op. cit., p. 45.
58. Цит. пo: Downing D. Op. cit., p. 45.
59. Цит. пo: Downing D. Op. cit., p. 47.
60. Cм.: Downing D. Op. cit., p. 46.
61. Цит. пo: Downing D. Op. cit., p. 52.
62. Цит. пo: Downing D. Op. cit., p. 53–54.
63. Цит. пo: Downing D. Op. cit., p. 52.
64. Цит. пo: Downing D. Op. cit., p. 53–54.
65. Cм.: Downing D. Op. cit., p. 56.
66. Цит. пo: Downing D. Op. cit., p. 56.
67. Цит. пo: Downing D. Op. cit., p. 58.
68. См.: Кемпфер П. Ребусите на рок-авангардизма. — Лик, 1983, № 5, с. 26–27.
69. См. там же.
70. См.: Лик, 1983, № 14, с. 39.
71. См.: Милр Дж. В ритъм джуджу. — Лик, 1983, № 13, с. 17.
72. Кемпфер П. Указ. соч., с. 28.
73. Цит. по конверту пластинки «Moondawn».
74 Там же
75. Цит. по: Лик, 1983, № 15, с. 38–39.
К ЗАКЛЮЧЕНИЮ
1. Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 40, с. 15.
2. См.: Терин В. «Массовая культура» и престижное потребление. — В кн.: «Массовая культура»: Иллюзии и действительность. М., 1975, с. 133.
3. Ленин В. И. О литературе и искусстве. М., 1979, с. 660.
4. Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. М., 1986, с. 169.
5. Теодоракис М. За искусство на службе прогресса. — Проблемы мира и социализма, 1984, № 1, с. 26.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Чередниченко Татьяна Васильевна — выпускница теоретико-композиторского факультета Московской консерватории (1976), кандидат философских наук (1979). Сферы научных интересов проблемы общей и музыкальной эстетики, методологии музыкознания, теории и истории музыки и музыкальной критики. Т. В. Чередниченко выступает также в качестве переводчика, литературного редактора и либреттиста. И. о. доцента Московской консерватории (кафедра марксизма-ленинизма).
Основные работы
• Песенная поэзия А. П. Сумарокова в русской музыке. — В сб.: Традиции русской музыкальной культуры XVIII века. М., 1975 (труды МГПИ им. Гнесиных, вып. XXI)
• А. П. Бородин как поэт. — Сов. музыка, 1978, № 8
• Терминологическая система Б. В. Асафьева (на примере исследования «Музыкальная форма как процесс»). — В сб.: Музыкальное искусство и наука, вып. 3. М., 1978
• К социологии китча. — Всесвит, 1978, № 3 (на укр. языке)
• Ценностный подход к искусству и музыкальная критика. — В сб.: Эстетические очерки, вып. 5. М., 1979
• Традиционная противоположность: мифы и реальность. — Сов. музыка, 1982, № 3
• Эстетика музыкальная. — В кн.: Музыкальная энциклопедия, т. 6. М., 1982
• К проблеме художественной ценности в музыке. — В сб.: Проблемы музыкальной науки, вып. 5. М., 1983
• Эстетика консерватизма. — Сов. музыка, 1984, № 2
• Общая теория искусства и музыковедческие исследования. — Сов. музыка, 1985, № 12
• Исследования по марксистско-ленинской эстетике в 1981–1985 гг. (обзор). — Вопр. философии, 1986, № 1 (в соавторстве с В. П. Крутоусом)
• Интерпретация традиции в искусстве И. С. Баха. — В сб.: К 300-летию И. С. Баха и Г. Ф. Генделя. М., 1986
* * *
Редактор Н. Соловьева
Художник А. Бобров
Худож. редактор Ю. Зеленков
Техн. редактор С. Буданова
Корректор Л. Герасимова
* * *
Примечания
1
Приведем один из выводов, в котором фиксировался параллелизм художественного текста и идеологической доктрины: «Как для Рудольфа все люди стоят либо на точке зрения добра, либо на точке зрения зла и оцениваются сообразно этим неизменным категориям, так для г-на Бауэра и компании одни исходят из точки зрения критики, другие — из точки зрения массы. Но оба они превращают действительных людей в абстрактные точки зрения»22.
(обратно)2
Если музыку, тем более «новую», слушают не все, то комментарий, например К. Штокхаузена, помещенный в клерикальном журнале "Christ und Welt“ (1968, № 23) или в "Die Zeit" (1967, № 49), может случайно прочесть и человек, далекий от музыки.
(обратно)3
Если иметь в виду не жанровые показатели, а музыкальный язык, то футуристические пьесы в массе своей тоже продолжали достаточно устоявшиеся традиции. Не случайно Ц. Кюи в пародийном «Гимне футуризму» (1917) фразу «футуризму, модернизму сладость восхищения» озвучивает последовательностью уменьшенных септаккордов, увеличенных трезвучий и целотоновой гаммы — гармоническими средствами, известными из сказочных эпизодов русских опер, из гармонии Листа13.
(обратно)4
Подобные «революционные» программы, как указывал В. И. Ленин, способны «быстро превращаться в покорность, апатию, фантастику, даже в "бешеное" увлечение тем или иным буржуазным "модным" течением» 81.
(обратно)5
Следует обратить внимание на то, как подан «смысл» притчи. «Каждый, кто знаком со мной, знает эту историю. Я рассказываю ее беспрестанно», — подчеркивает Кейдж значительность того, что последует дальше. Создается состояние «зачарованности» той историей, которую еще только предстоит узнать неофиту. Ждешь некоего откровения — и вот все откровение сводится к тому, что у человека есть нервная система и система кровообращения, и что они «слышны», если только перестать слушать все остальное. Если бы Кейдж не сделал такого рекламного (и заодно само рекламного) акцента, то, пожалуй, никакой новой «истины» рассказанный им случай не открывал бы. Кейдж, подчеркивая «репетитивное» существование этой истории («я рассказываю ее беспрестанно»), в скрытом виде осуществляет «шаманское» внушение, когда простейшая формула заклинания, повторяемая много раз, наконец обретает значение последней истины. Одновременно он, благодаря рекламной «врезку», «добирает» необходимое количество материала, чтобы заполнить «минуту» и чтобы эта минута оказалась псевдоструктурированной по схеме: основная информация — неосновная информация — кульминационная основная информация.
(обратно)6
В литературе многократно отмечалось, что на слух сериальная композиция не воспринимается как «тотально упорядоченная»; напротив — невозможность уследить за всеми соотношениями «рационализированного» целого превращает его в некий набор звуков, интригующий скорее неожиданностью сочетаний инструментов и в целом оставляющий в памяти лишь смутное звуковое пятно.
(обратно)7
В. Фробениус, анализирующий музыкальный язык лидера «новой простоты» В. Рима, подмечает влияние Штокхаузена («форму можно рассматривать как моменты в смысле Штокхаузена» — это о композиции Рима "Sub Kontur"), а также Малера, Чайковского, Берга. Выводы Фробениуса сводятся к тому, что на деле у Рима имеется сложная форма, и при этом ни в коем случае не новая2. «Конкретные композиторские методы не свидетельствуют ни о простоте, ни о новом», — делает сходный вывод И. Стоянова3.
(обратно)8
Послевоенные авангардисты резко отделяют себя от композиторов, которых называли «модернистами» в первой половине века. По их воззрениям, Шёнберг и Хиндемит, Берг и Онеггер — это «консервативный старый авангард»5. Так именуют они музыку, в которой новация сопрягается с традицией.
(обратно)9
Аналогично обстоит дело в западной литературной критике: «…литературы почти всех капиталистических стран Запада с начала или с середины 60-х годов вступили в стадию угрожающего давления неоавангардизма. Дело здесь не в количественном преобладании, а скорее в громкости и безапелляционности теоретических претензий. Неоавангардизм царил на поверхности литературной жизни, он диктовал моду дня, он привлекал литературную молодежь, он навязывал оценки, формулы и терминологию»7.
(обратно)10
Музыковеды отмечают (в частности, в связи с хэппенингом), что идеалы «авангарда» выступают как «социальный симптом отражения средних веков в современности»28.
(обратно)11
Советский исследователь И. Д. Лаптев подчеркивает: «…ухудшение окружающей среды постепенно и в довольно широких масштабах превращается в новую форму прямого расхищения здоровья трудящихся. Более высокое качество окружающей среды, в которой осуществляют свою жизнедеятельность представители имущих слоев населения (имеются в виду загородные дома, поместья и т. п. — Т.Ч.), оказываются истоком их беззаботности по отношению к экологическим характеристикам условий труда, быта, отдыха масс»30
(обратно)12
Напомним слова Маркса: «Религиозное убожество есть в одно и то же время выражение действительного убожества и протест против этого действительного убожества. Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира…»31.
(обратно)13
Подзаголовок — «Три движения», то есть три поезда, шедшие из Болоньи в Равенну, Римини и Поретто.
(обратно)14
Общее правило здесь таково: «Фирмы менеджмента берут талантливых артистов по договору, платят им недельное содержание, соединяя их с другими талантливыми музыкантами в оркестр. Им развивают "звучание", находят имя, заставляют оркестр несколько месяцев ежедневно упорно работать, ловко пускают в прессе молву о будущем супероркестре… Потом оркестр отправляется в студию, записывает первую пластинку, становящуюся оправданием имени и "звучанию". Многие ретортные оркестры вовсе не выходят на публику…»5.
(обратно)15
В трактате Г. Матцке3, например, вводятся такие понятия, как «обмен», «потребление», «конъюнктура»; музыка рассматривается как «продаваемое благо» — товар. Правда, у Матцке дано лишь спекулятивное представление о «музыкальном хозяйстве»; какая музыка, в каких случаях, каким образом и почему фигурирует как «товар» — об этом ученый не пишет.
(обратно)16
Этот метод симптоматичным образом упрощается. На фонографически-издательские корпорации типа GEMA работали в начале века так называемые «насвистывающие композиторы», не умевшие играть на рояле и не знавшие нотной грамоты. Профессиональные аранжировки облекали их «насвистывания», в которых эксперты фирмы находили счастливую мелодическую «изюминку», в плоть шлягера. Тексты, как правило, теперь сочинялись на готовый напев24.
(обратно)17
Эта ее тенденция даже заставляет некоторых теоретиков определять поп-музыку через понятие театра. И. Штроб пишет: поп это «коллаж мультисенсорных событий… формирующихся в тотальный театр»69.
(обратно)18
В ней, по замечанию 3. Борриса, «видят знак современного сознания»71.
(обратно)19
Роль современной демократической культуры буржуазного общества в борьбе социальных сил — особая и важная тема, которая здесь не может получить объемного освещения. Советские исследователи немало делают для изучения современной прогрессивной культуры на Западе82.
(обратно)20
Дж. Кери пишет, что в поп-музыке 60-х годов на месте пассивного ожидания любви появляется «активное ухаживание»21. Однако лучше назвать этот более активный поиск «любви» не «ухаживанием», а «навязыванием» себя партнеру. Ведь «Ты» никак не обозначено для «Я», оно просто предмет потребности.
(обратно)21
Один из «королей» диско-клубов, Ален Паради пишет: «В 80-х годах голова будет утрачивать свое значение — потому что думать значит регрессировать — в угоду телу, которое реализует себя в танце, в необдуманном повторении одного и того же элегантного или, наоборот, безобразного движения в течение шести часов подряд»23
(обратно)



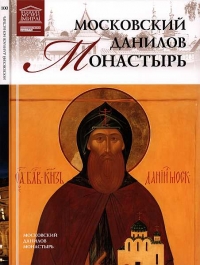
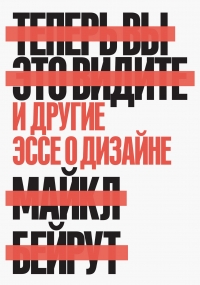

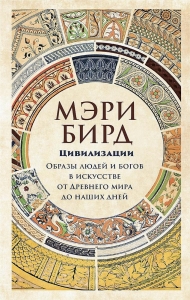
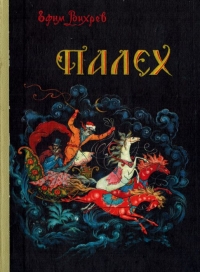
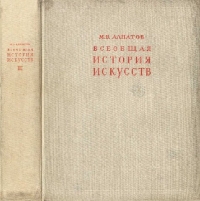
Комментарии к книге «Кризис общества-кризис искусства. Музыкальный "авангард" и поп-музыка в системе буржуазной идеологии», Татьяна Чередниченко
Всего 0 комментариев