Чудесные превращения
Издательство «Аврора» Ленинград, 1973Чудесные превращения
Глина. Камень. Песок
Авторы: М.В.Андреева, Л.В.Антонова, О.Б.ДмитриеваВязкая, липкая желтая глина — и тонкая, хрупкая белоснежная ваза…
Сыпучий песок — и искрящееся прозрачное стекло…
Тусклый серый камень — и играющие яркими красками бусы, перстни или причудливые узоры мозаик…
Что общего между такими различными вещами?
А между тем комок глины превращается в фарфоровую вазу, груда песка — в сверкающее стекло, а камень, отполированный или ограненный, переливается всеми цветами радуги.
Мастера-волшебники, начиная с глубокой древности, создавали из камня, глины и песка вещи изумительной красоты. Ими любуешься в залах музеев, останавливаешься в восхищении перед зданиями, стены которых украшены яркими разноцветными глиняными плитками, цветным стеклом, мозаикой.
Об искусстве чудесных превращений, о прекрасных вещах и их создателях-художниках рассказывает эта книга.
1 Глава
Глина
Не боги горшки обжигают
Теплый летний вечер спустился над поселком, раскинувшимся на берегу широкой полноводной реки. В покрытых дерном землянках, похожих на глубокие норы, откинуты шкуры животных, заменяющие двери.
В центре жилища, в очаге, день и ночь горит огонь. Дым, пробиваясь из груды сырого валежника, длинными темными прядями расползается по землянке и медленно выходит наружу через дверной проем и отверстие вверху.
Рядом с очагом — лежанки, покрытые оленьими шкурами. Вдоль стен стоят плетеные корзины, громадные глиняные сосуды с хозяйственными запасами. Здесь же каменные топоры, кремневые ножи, костяные шилья. На земляном полу — уголь, зола, смешанные с остатками пищи.
Так выглядело жилище человека много тысячелетий назад. В поселке жил отдельный род. Мужчины по целым дням, а иногда и неделям охотились. Людей постоянно преследовал голод: человеку, вооруженному только копьем и луком, нелегко было приблизиться к осторожному животному или пугливой птице.
По вечерам никто в поселке не сидит без дела. Рыболовы сушат на траве мокрый невод, женщины в жилищах у очагов готовят пищу: выгребают палкой горячие угли и бросают на них куски мяса. А в больших остродонных горшках, поставленных в золу, варится рыба.
Немного в стороне от жилищ горит большой костер. Вокруг него собрались старухи и молодые женщины. Они делают из глины посуду.
Сначала скатывают шар, затем расплющивают его в круглую лепешку, углубляют середину, поднимают края — и дно горшка готово. Старуха с распущенными седыми волосами, сделав из глины длинный жгут, прилепляет его ко дну будущего сосуда. Один жгут наращивают на другой, пока не получится толстостенный яйцевидный сосуд с острым дном. В местах соединения жгутов швы заглаживают каменной пластинкой, а затем всю поверхность горшка ровняют мокрым куском кожи.
Некоторые из женщин по наружной поверхности горшка выдавливают небольшими палочками ямки, а плоской галькой с зазубринками по краям оттискивают фестоны, зигзаги, треугольнички.
Рисунками в виде ямок и «гребешков» украшали глиняные горшки уже в давние времена. Люди заметили, что в посуде, покрытой такими углублениями, быстрее варится пища, хотя, конечно, не могли понять, что ямки увеличивают площадь нагрева.
Готовую посуду ставят на костер и обжигают на раскаленных углях. Как только она станет твердой, ее вынимают из огня и охлаждают. Глиняные сосуды готовы — в них будут держать воду, варить пищу, хранить запасы на зиму, переносить горячие угли.
Первыми гончарами были женщины. Они открыли необычайную пластичность глины, пропитанной водой, и научились лепить и обжигать все время нужную в хозяйстве посуду.
Произошло это случайно. Давным-давно умел первобытный человек выдалбливать посуду из дерева, шить кожаные мешки нитками из сухожилий животных. Но посуда эта пропускала воду, и ее нельзя было ставить на огонь. Поэтому человек древнекаменного века ел пищу в сыром виде.
Первобытные люди были очень наблюдательны. Они заметили, что после дождя на глинистой почве в следах от копыт животных скапливается влага — значит глина не пропускает воду; обратили они внимание и на то, что влажному куску глины можно придать любую форму, а попав на огонь, глина делается прочной, огнеупорной.
Сейчас трудно сказать, когда это произошло, но уже в новокаменном веке плетеную посуду обмазывали глиной.
Сосуд с ямочным орнаментомПонадобились столетия, прежде чем люди стали делать горшки из того материала, который находился вокруг них в большом количестве. Прошли еще века — и к глине начали добавлять долбленые раковины речных моллюсков и мелко нарезанную крапиву: примеси не давали сосудам при обжиге трескаться, расползаться, менять форму.
Так родилась глиняная посуда. Первобытные люди научились ее украшать. Они лепили из глины и обжигали на кострах фигурки зверей, птиц, людей. Это были первые шаги в использовании глиняной массы для создания произведений искусства.
Глиняные тетради и книги
Косые лучи утреннего солнца залили город и озарили плоские кровли домов, на которых спали их жители, спасаясь от духоты и жары.
Смуглый черноглазый мальчик, вскочив с матраца, быстро сбежал вниз по крутой деревянной лестнице.
— Не забудь свой завтрак — лепешки и финики! А то опять просидишь в школе до вечера голодным, — сказала ему мать.
Отец, важный, низенький и толстый храмовый писец, уже собирался выходить из дома и застегивал длинный широкий плащ.
— Спеши в школу, Игмилсин, — сказал он сыну, — а то как бы тебе не быть битым за опоздание.
Это происходило около четырех тысяч лет назад в столице шумеров (одного из самых древних на земле народов) — городе Уре, расположенном на холмах недалеко от реки Евфрат.
Игмилсин бежал в школу. Его сандалии весело стучали по утрамбованной глинистой дорожке. Хорошо, что стояла сухая погода: в дождь пришлось бы выйти из дома заранее — по вязкой, липкой грязи быстро не побежишь.
Город был весь из глины: в выжженном солнцем междуречье Тигра и Евфрата дерева мало, камня тоже почти нет. Даже храм бога Луны — гордость и украшение Ура — выстроен из необожженного кирпича. Над морем плоских крыш возвышалась его трехъярусная башня. Каждый следующий ярус был меньше предыдущего, в самом верхнем помещалась статуя бога Луны. Яркими красками играли стены башни: нижний ярус — черный, средний — красный, верхний — белый. На площадках второго и третьего этажей посажены деревья, зелеными поясами поднимающиеся над глиняным серо-коричневым городом.
Запыхавшись, Игмилсин вбежал в школу храмовых писцов.
В классе на глиняных скамейках сидят уже почти все мальчики. Около каждой скамейки в глинобитный пол вделан сосуд с водой. У всех учеников «тетради» — небольшие, умещающиеся в руке круглые глиняные таблички. Одна их сторона, на которой пишут, — плоская, другая — округлая, по форме ладони. Эти «тетради» вылеплены самими учениками.
Глиняная табличка с клинописным текстомЕдва Игмилсин успевает добраться до места и вынуть из сумки свою табличку, как входит «старший брат» (так называли учителя). Мальчики (по-шумерски «сыновья школы»), вскочив со скамеек, низко и почтительно склоняются перед ним.
Учитель обходит учеников и просматривает вчерашние работы. Ошибки он перечеркивает тростниковой палочкой, а некоторым приказывает написать все заново, предварительно смыв написанное. Для этого-то и служат сосуды с водой у каждой скамейки.
Проверив работы, он раздает ученикам таблички, с которых они должны переписать новое задание.
В классе мертвая тишина. Небольшими веревочками ученики проводят сначала линейки по влажной поверхности дощечки; затем, крепко нажимая на мягкую глину тростниковой палочкой и легким движением оттягивая ее, выдавливают клинышки — черточки с широкими углублениями на концах. Из нескольких таких клинышков, по-разному расположенных, и получается буква.
После письменного урока в класс приходит «отец школы», пожилой, важный жрец. Он редко присутствует на уроках, у него много других дел. Он — ученый, знает все созвездия и умеет предсказывать по ним судьбу, изучает свойства растений, жизнь животных и рыб.
— Игмилсин! — говорит «старший брат». — Прочти «отцу школы» сказание о потопе.
Мальчик вспыхивает от удовольствия. Ведь это — его любимая поэма о подвигах героя Гильгамеша, который боролся со страшными чудовищами и хотел добыть для людей бессмертие. А рассказ о потопе — самая интересная часть поэмы.
Что было светлым, во тьму обратилось, Земля, как чаша, черпает воду, Первый день бушует буря, Быстро налетела, водой заливая, Словно война людей постигла…
Игмилсин читает нараспев, а «отец школы» с удовлетворением в такт покачивает головой.
Особенно много глиняных книг собрал грозный и могущественный правитель Ассирии Ашшурбанипал. Он жил в VII веке до нашей эры и оставил о себе память не только походами, завоеваниями новых стран и жестокой расправой с побежденными, но и как страстный книголюб. Получив широкое для того времени образование под руководством жрецов, царь говорил на нескольких языках, очень хорошо знал математику и писал стихи.
Ашшурбанипал посылал своих чиновников по городам Междуречья и поручал им собирать старинные таблички или снимать с них копии. Из этих книг, похожих на кирпичи, составилась огромная по тому времени библиотека. Тяжелые глиняные таблички-книги лежали в больших деревянных ящиках на втором этаже царского дворца в Ниневии, столице Ассирии. Внизу держать их было нельзя — могли отсыреть. Здесь хранились самые древние поэмы, самый древний в мире свод законов, медицинские рецепты, сборник шумерских пословиц.
Писцы составили каталог всех книг, и на каждой табличке был выдавлен штамп: «Дворец Ашшурбанипала, царя вселенной, царя Ассирии».
Глиняная библиотека Ашшурбанипала — не единственная в Междуречье. Подобные хранилища имелись и в других дворцах, но ни одно из них не было так богато. Книги очень ценились уже тогда и нередко их охрану «поручали» божеству: например, на одной из них была такая надпись: «Тот, кто боится бога Набу, да не повредит и да не унесет ее». Английский ученый Лейярд в середине прошлого века раскопал Ниневию и нашел самую древнюю в мире библиотеку.
На полу полуметровым слоем громоздились груды разбитых табличек, засыпанных землей и обломками рухнувшие стен дворца. Вперемешку с ними лежали куски обгорелого дерева, остатки ящиков, в которых хранилась когда-то библиотека.
Это — следы страшного разгрома, постигшего Ниневию в 612 году до нашей эры. Соседи Ассирии, вавилоняне и мидяне, разрушили и сожгли город. Погиб в пламени царский дворец, была погребена под развалинами знаменитая библиотека, рухнувшая со второго этажа. Но ведь глиняные книги не горят в огне, наоборот, от него глина становится тверже и прочнее.
Больше тридцати тысяч табличек привез Лейярд в Лондон, в Британский музей. Ученые стремились правильно подобрать обломки, восстановить текст, расшифровать и прочесть древние книги. Это была невероятно кропотливая, медленная, трудная работа.
На двенадцати глиняных таблицах, большей частью разбитых, была записана поэма о Гильгамеше. А от рассказа о потопе уцелела только половина таблицы. И как ни бились, перебирая все обломки и разыскивая вторую половину, ее так и не удалось найти. Тогда английский ученый Смит сделал почти безнадежную попытку: он поехал на место раскопок дворца Ашшурбанипала и стал перерывать груды мусора, отыскивая заветный обломок. И… нашел его.
Мастера древней Эллады
По одной из улиц Афин шел человек в шляпе с широкими полями, явно приезжий: древние греки носили головной убор только за городом. Действительно, Тимарх был здесь всего второй день. Он прибыл издалека — с юга Италии, из греческих колоний, — и вчера высадился в Пирее — городской гавани. Давнишней его мечтой было побывать в Афинах, о которых поэт Пиндар сказал: …блестящий, Венком из фиалок увенчанный, Песнью прославленный, Славный город Афины, Твердыня Эллады могучая.
Чернофигурная вазаТимарх медленно проходил мимо небольших скромных домиков. Приезжий уже побывал на древнем холме Акрополя, где со сказочной быстротой восстанавливались храмы богов после страшного разгрома, учиненного персами.
Целью приезда Тимарха было не только знакомство с городом. Он хотел попасть в гончарную знаменитого мастера Евфрония[1].
В VI веке до нашей эры афинские гончары затмили своим мастерством соперников из других греческих городов — их искусство было широко известно на рынках тогдашнего мира. Лучшую в Греции глину добывали недалеко от Афин в карьерах под открытым небом.
Краснофигурная вазаПрежде чем попасть в руки гончара, она специально обрабатывалась. Сначала ее размалывали двумя барабанами, которые вращали рабы. Затем мочили в глубоких ящиках, составлявших как бы ступенчатую лестницу, и промывали чистой бурлящей водой, стекавшей из ящика в ящик. Промытая глина осаждалась в последнем ящике, воду спускали, а осадку, оставшемуся на дне, давали сгуститься и вылежаться. Только после этого глина поступала в руки гончаров, заселявших целый квартал древних Афин — «керамик»[2].
Наконец, путешественник увидел длинное здание с маленькой дверью и, нагнувшись, вошел внутрь.
Несколько покупателей выбирали глиняные изделия. Молодая женщина любовалась пиксидой — изящной расписной коробочкой с крышкой для хранения украшений.
Мужчины рассматривали большой нарядный кратер — сосуд, в котором смешивали вино с водой. Внимание привлекали также килики — употреблявшиеся для питья плоские чаши со стройной ножкой и чуть изогнутыми ручками. Здесь же находился небольшой арибалл — шарообразный сосудик для хранения оливкового масла, которым обычно натирали тело перед борьбой.
Много было в мастерской покрытых росписью глиняных изделий самых разнообразных размеров и форм; каждый из них имел свое название и назначение.
Выбрав нужные вещи, покупатели начали торговаться с хозяином мастерской — пожилым красивым мужчиной с вьющейся черной бородой. Им казалось, что он слишком дорого запрашивает за свои изделия.
Тимарх тем временем осматривал мастерскую. Недалеко от двери чернокожий курчавый раб, сидя на земле, вращал гончарный круг, а гончар формовал сосуд. Сначала нажимая большим пальцем на середину комка глины, а потом всеми пальцами обеих рук, он все больше расширял углубление в центре комка. Постепенно выводились стенки сосуда, пластичной глине придавался нужный изгиб. Наружную поверхность мастер выравнивал тонкой дощечкой с вырезанным профилем сосуда, снимал неровности с кружившегося на станке изделия. Ручки и донышко формовались отдельно и соединялись полосками из влажной глины, которые потом заглаживались. Рабы выносили готовые изделия во двор для просушки на солнце.
В самом светлом конце мастерской два художника расписывали готовые изделия. Уверенными движениями набрасывали они контуры фигур на еще не вполне высушенные сосуды. Потом кистью обрисовывали намеченные силуэты, а фон покрывали черным лаком. И только после этого приступали к самой сложной части работы — тонкой кисточкой или птичьим пером прорисовывали лицо, складки одежды, мускулы обнаженных тел. В заключение мастера-вазописцы подписывали на сосудах свои имена или имя владельца гончарной мастерской.
«Какой тщательностью рисунка, точностью исполнения, мастерством и зоркостью глаза должен обладать живописец!» — подумал посетитель и вспомнил одну из ранних работ самого Евфрония, которая восхищала не только его, но и многих ценителей и знатоков греческого искусства — «Вазу с ласточкой». Несколько лет назад ее вывезли из Афин и продали знатному этруску.
Сюжет росписи прост и ясен — прилет первой ласточки. Ее приветствует отец с двумя сыновьями. Сидящий на низком табурете мужчина всем телом повернулся назад и, запрокинув голову, указывает пальцем на небо. Возбужденно размахивая руками, туда же смотрит его старший сын, а младший поднял руку вверх и, кажется, радостно кричит.
Да ведь и слова, которыми обменивается отец с сыновьями, художник написал на вазе.
— Смотри — ласточка! — говорит юноша.
— Правда, клянусь Гераклом, — подтверждает отец.
— Вот она, — восклицает мальчик. — Уже весна!
Евфроний изобразил обычную сценку, увиденную на улице Афин.
«А раньше рисунки были совсем иными», — подумал Тимарх. У него самого хранились вазы, созданные еще лет сорок назад, с изображениями неподвижных фигур богов и богинь или фантастических чудовищ.
Сценок из жизни, подобных «прилету ласточки», художники тогда почти не изображали. Однако и те рисунки имели свою прелесть. Сколько изящества в линиях бесчисленных складок пышных одеяний, тонко процарапанных по черному лаку! А с каким вкусом слегка оживлены белой и пурпурной красками черные силуэты!
Евфроний тоже когда-то работал в старой манере, но он стремился уже к новому изображению окружающей его жизни, к передаче разнообразных сложных движений[3].
Хозяин мастерской вышел во двор. За ним направился и приезжий.
Посередине двора стояла большая сложенная из кирпича гончарная печь с двумя отделениями: нижним для топки, верхним для обжигаемой посуды.
Вокруг печи суетились полуобнаженные рабы. Один тащил в громадной корзине уголь, другой подбрасывал топливо в огонь, третий мешал угли длинным металлическим стержнем. Температура достигала почти тысячи градусов.
Обжиг глиняных изделий требовал большого опыта и искусства. Малейшая неосторожность губила работу — недаром древнегреческие гончары обращались с молитвой к покровительнице ремесла, богине Афине: Внемли молитвам Афина! Десницею печь охраняя, Дай, чтобы вышли на славу горшки, и бутылки, и миски, Чтоб обожглись хорошенько и прибыли дали довольно.
Осматривая вынутую из печи посуду, приезжий увидел большой килик, поразивший его своим рисунком. В медальоне внутри чаши изображен охмелевший мужчина, опирающийся на трость. Его поддерживает юноша. На наружных стенках чаши — драка: двое бьют третьего, упавшего на землю, один действует палкой, другой — снятой с ноги сандалией; четвертый гуляка пытается разнять дерущихся, а пятый убегает, оглядываясь назад. В драку ввязался и мальчик, оказавшийся на улице.
— Как свободно размещены фигуры людей, в каких движениях они даны! Кто расписал эту чашу? Я хочу ее купить! — воскликнул Тимарх.
Ему ответили, что расписывал один из рисовальщиков мастерской Евфрония. Его работы отличаются новизной и смелостью рисунка.
Заплатив нужную сумму и оставив килик за собой, приезжий пошел по гончарной слободке к центру города. Проходя мимо мастерской гончара Евфимида, он весело усмехнулся, вспомнив, как Евфимид, соперник Евфрония, стараясь отбить у противника покупателей, на одной из своих ваз сделал надпись: «Расписал Евфимид, как Евфроний никогда бы не мог!», а на другой написал: «Действительно, очень хорошо!»[4].
Улыбаясь, путешественник повторил про себя слова из поэмы греческого поэта Гесиода «Труды и дни»: Зависть питает гончар к гончару и к плотнику плотник…
Солнце уже заходило, когда усталый путник подошел к гавани Пирей, где остановился в гостинице. Пирей — средоточие деловой жизни города. Здесь расположены гостиницы для моряков и купцов, лавки, мастерские, слышится шумный говор на разных языках.
Приближаясь к порту, Тимарх не мог удержаться, чтобы не остановиться и не взглянуть еще раз издали на город. Над морем черепичных крыш гордо высился холм Акрополя, и к вечернему небу возносились стройные мраморные колонны полуразрушенных храмов, озаренные розовым светом заходящего солнца.
— Как прекрасно ваше искусство! — невольно воскликнул Тимарх, повернувшись к шедшему позади него афинскому аристократу. — И как жаль, что персы погубили эту красоту!
Афинянин остановился и, улыбаясь, сказал:
— Приятно слушать похвалу нашему искусству из уст приезжего. Но вспомни мои слова, чужеземец. Если ты приедешь в наш город через десять — пятнадцать лет, он будет еще прекраснее, чем был до войны с проклятыми персами. Знаешь, как говорят у нас: «Ты чурбан, если не видел Афин! Если же видел и не восторгался — осел; а если добровольно покинул Афины, то ты — верблюд!»
Оба собеседника рассмеялись.
— Что же, — сказал Тимарх, — я доказал, что я не чурбан и не осел, но верблюду придется уподобиться — дела зовут меня на родину. На память о вашем чудесном городе я увезу удивительный килик, который только что купил в мастерской Евфрония.
— Ну, значит тебе повезло! — откликнулся афинянин. — Ведь наша керамика известна даже за далеким Понтом Эвксинским[5]. Посмотри, — и он показал в сторону Пирейской гавани, где стояли корабли из Сицилии, Италии, Египта, Сирии, Финикии. — Купцы повезут на этих кораблях не только вино, оливковое масло, ткани, бронзу. Они вывезут из Афин наши расписные глиняные сосуды, которым нет равных в мире. Да, — задумчиво продолжал он, — мне кажется, что наше искусство будет вдохновлять и людей будущих поколений.
Столица Тимура
Короли Европы с волнением наблюдали за военными успехами «железного хромца»[6], войско которого разлилось, как бушующее море, от Инда до Итиля[7], от Сирии до границ Китая.
Слова, сказанные Тимуром: «Все пространство, населенное людьми, не стоит того, чтобы иметь двух царей», — облетели многие страны.
Слухи, один другого ужаснее, распространялись в народе: говорили, что черная туча монгольских полчищ окутывает землю пеплом и дымом горящих городов; что завоеватели сохраняют жизнь только талантливым ремесленникам, мудрейшим ученым и сильным, молодым рабочим, угоняя их в рабство…
Король Испании решил направить к Тимуру посольство. Долгий путь проделали послы на корабле, пока добрались до государства «обладателя счастливой звезды». Они двигались с караваном верблюдов, которые медленной мягкой поступью шли по покоренной земле. Перед глазами путников проходили страшные картины: разрушенные города, бесчисленные черепа и кости мертвых, башни из человеческих голов…
Но вдруг все изменилось. Появились селения, окруженные садами, рощами, квадратами залитых водой зеленеющих полей, на которых работали рабы.
Караван приближался к столице государства Тимура — Самарканду, и вскоре посол и его свита вошли в город через ворота в высокой каменной стене с башнями.
Яркая картина открылась глазам европейских гостей. Самарканд весь утопал в зелени. В густой листве укрывались глиняные домики с плоскими крышами, кирпичные дома богатых вельмож, дворцы. Над деревьями возвышались островерхие минареты, а рядом переливались разноцветными изразцами купола величественных мечетей. Их украшали различные орнаменты и надписи: «Царство принадлежит Аллаху», «Султан — тень Аллаха на земле». Все это ослепительно блестело под палящими лучами солнца.
Испанцы были поражены. «Какая красота! Какой необычный город, совсем не похожий на европейский, — восклицали они. — Самарканд — жемчужина в ожерелье восточных городов».
Посол Клавихо вел подробный дневник своего путешествия ко двору Тимура. В него он заносил все, что видел, слышал, чем был удивлен. Клавихо осматривал город, беседовал с приближенными Тимура, присутствовал на торжествах во дворце.
В день приема членов посольства повезли в небольшой, утопавший в зелени городок, недалеко от Самарканда. Назывался он Шахрисябз, что в переводе означает «зеленый город». Там находился дворец Ак-Сарай, знаменитый разноцветной керамикой, над которой долгие годы трудились арабские, китайские и иранские мастера.
Взору гостей открылись бесконечные парадные помещения; комнаты для свиты, громадные приемные, обширные и роскошные палаты для пиров, арки, галереи… «В нем было столько покоев, что было бы долго рассказывать», — записал Клавихо в дневнике. И всюду золото, резьба, изразцы… Ими были облицованы стены, потолки. Цветная керамическая мозаика, как ковер, покрывала пол, украшала двери[8].
Испанцы с восхищением осматривали дворец восточного деспота. Клавихо думал: «Даже в Париже, где есть искусные мастера, эта работа считалась бы очень красивой!»
Что же было необычного в облике восточной столицы?
В Самарканде дома богатых и знатных людей возводились из кирпича, обыкновенного кирпича, который умели делать уже шумеры четыре тысячи лет назад, создавая свои глиняные города. Но пленники из Индии и Китая принесли в новую столицу Тимура свое искусство: многоцветными поливными глиняными кирпичиками они украшали фасады домов и внутренние помещения.
Узор наносился ножом на поверхность еще влажной глины. Это было сложное переплетение геометрических фигур, изображений животных и растений, а также надписи на арабском и иранском языках.
Стена Ак-сараяОсобенно нарядно выглядели резные изразцы, покрытые блестящей цветной глазурью. Чаще всего резной орнамент имел бирюзовую поливу, а надписи — белую, фоном служила обожженная глина. Рисунки изразцов напоминали пестрый восточный ковер.
Глазурь, или, иначе, полива — стекловидная масса, по густоте напоминающая сливки. Полива защищает керамические изделия от влияний атмосферы, а также придает краске глубину тона и блеск. Украшали здания керамической мозаикой, которую набирали из цветных глазурованных плиток.
Чтобы дать наилучшую яркость тона, каждая керамическая краска требовала при обжиге определенной температуры. Поэтому большие глазурованные одноцветные плиты обжигались порознь. Затем из них выпиливали нужные части по образцу, данному художником, и вкладывали их в цементную основу стены. Буквы, на красоту линий которых обращалось большое внимание, также вырезали из заранее обожженных и глазурованных плит.
Так создавалась замечательная восточная мозаика. Сказочной яркостью и блеском вечно свежих красок она придавала восточным городам своеобразный облик и очаровывала приезжих европейцев.
Шел 1398 год. «Железный хромец» возвращался из индийского похода. За победоносным войском везли богатые трофеи, гнали тысячи пленников. Тимуру нужно было много сильных здоровых работников и квалифицированных ремесленников, чтобы осуществить давно задуманную мечту — построить такую мечеть, которая размерами и великолепием убранства затмила бы все до нее существовавшее.
Пять лет строили восточную жемчужину — мечеть Биби-Ханым — искусные зодчие и «проворнорукие» мастера: кирпичники, кладчики, глазуровщики, художники, «каждый из которых был лучшим в стране и единственным в государстве». Двести каменотесов работали в самой мечети, пятьсот — в горах. Около сотни «гороподобных» слонов и множество телег, запряженных волами, тащили огромные камни с гор на постройку. Чернорабочие тысячами гибли на изнурительных работах. На место умерших пригоняли новых, и мечеть росла и украшалась, утверждая могущество Тимура — «обладателя счастливой звезды» — и великого Аллаха.
Тимур торопил строителей. Он был уже старым, больным, но требовал, чтобы его каждый день приносили на носилках к мечети.
Наступил 1404 год. Работы подходили к концу. Но еще не везде можно было снимать леса. Люди торопливо передавали наверх глазурованные изразцы для облицовки стен, размешивали известь для скрепления кирпичей, выкладывали стрельчатую арку. В один из таких напряженных дней показалась процессия во главе с Тимуром. Взглянув на мечеть, правитель нашел, что главная арка недостаточно высока и, разъяренный, приказал казнить вельможу, наблюдавшего за строительством.
Его тащили по земле лицом вниз, пока тело не оказалось растерзанным на части… Даже посол Клавихо, который привык у себя на родине к жестокости, был поражен зверством восточного деспота. «Тимур был нравом пантера, темпераментом лев!» — говорили о нем современники.
Наконец леса сняли, и собравшимся у мечети открылся величественный архитектурный ансамбль, весь сияющий разноцветными изразцами под ослепительными лучами солнца.
Мечеть Биби-ХанымВ глубине двора, окруженного колоннами, высилось главное здание с высокими арочными порталами и синим изразцовым куполом. По углам двора были выстроены еще две, меньшие, мечети, и к небу возносились четыре стройных минарета.
Гигантскую арку главного здания украшала крупная мозаика из синих, белых, голубых плиток. В синевато-белой рамке геометрического орнамента бирюзовыми буквами шли надписи с именами Аллаха, пророка и четырех первых халифов.
«Если ты ищешь сравнение для арки, ничего нельзя сказать, кроме как — млечный путь и небесный свод, — восторженно восклицает придворный историк Тимура. — Купол был бы единственным, если бы небо не было повторением его и единственной была бы арка, если бы млечный путь не оказался ей парой».
Биби-Ханым вызывала у европейцев не меньший восторг, чем дворец Ак-Сарай. Прелестью сияющих изразцов она действительно затмила все существующие мечети.
Даже в наши дни, полуразрушенная, она производит неизгладимое впечатление на путешественников.
Там над городом Биби-Ханым наклонила руины, О, царица мечетей, ты скоро поникнешь в пыли! На громадах твоих вижу трещин широких морщины Начертанье неспешное круговращений земли…
Ваза Фортуни
В Риме в 1874 году большую известность приобрело ателье художника, гравера и любителя старины Мариано Фортуни, где были выставлены разнообразные вещи, собранные им во время неоднократных поездок с Испанию. Здесь находились пестрые восточные ткани, старинное оружие, рукописные книги, фаянсы с золотым отблеском и тысяча других интересных предметов.
Ателье привлекало не только художников, но всех, кто интересовался искусством и диковинными вещами.
Всеобщий восторг вызывала великолепная, высотой больше метра, фаянсовая ваза яйцевидной формы, со стройной, слегка расширяющейся шейкой и двумя плоскими массивными ручками. Она была расписана по белому фону коричневой краской и покрыта поливой, отливающей перламутром. Тулово украшал растительный орнамент.
Ваза стояла на бронзовой подставке, специально исполненной в Риме по рисунку Фортуни.
Всех интересовал вопрос — как эта ваза попала в ателье художника. Вот что рассказывал об этом сам Фортуни.
В один из летних дней 1871 года, гуляя в окрестностях Гранады, он зашел в маленькую церквушку в местечке Салар, где обратил внимание на чашу со святой водой, подставкой которой служила фаянсовая, отливающая золотистым металлом ваза. Она поразила художника. Осмотрев ее, Фортуни понял, что перед ним замечательное произведение искусства XIV века — времени расцвета керамики Испании.
Давно увлекаясь предметами старины и собирая их, художник решил приобрести эту вещь. Он сразу же повел со священником разговор о покупке. Фортуни писал друзьям: «Если мне удастся, у меня будет редчайшая фаянсовая вещь в мире… Ее орнамент лучшего мавританского стиля…»
Долго пришлось уговаривать священника продать вазу, и наконец она попала в ателье художника.
Для чего же была сделана эта ваза?
В юго-восточной части Гранады, столицы мавританского государства, на холме высилась Альгамбра — дворец-крепость мавританских государей. Арка в башне вводила внутрь здания. На арке шла надпись: «Крепость ничто без Аллаха». Снаружи Альгамбра строга и сурова. Но за высокой зубчатой стеной крепости, во дворце, царили тишина, безмятежность и роскошь. Дворец имел два внутренних двора: в центре первого из них был сооружен бассейн, во втором — фонтан, украшенный скульптурой.
Вокруг внутренних дворов группировались комнаты с балконами. Потолки покоев покрывала роспись, похожая на ковер с узорами на золотом фоне. Стены выложены мозаикой из крохотных поливных изразцов.
Ниши в стене украшены стихами, обращенными к входящему: …Кто в полдневный зной придет Сюда искать целения от жажды, Моих пусть сладких, чистых, ясных вод Отведает, и возликует каждый.
Ваза ФортуниИли: Я пышно убранное место, Где пира брачного часы Проводит юная невеста, Свет совершенства и красы; Чтоб знать, что правдою цветут Мои слова, — глянь на сосуд.
Вода для жителей жарких стран была почти священным напитком.
В этих нишах и стояли сосуды со свежей ключевой водой. Одним из них была ваза, которую через несколько веков увидел Фортуни. А всего до наших дней в собраниях мира их сохранилось двенадцать.
Особенность альгамбрских ваз — их своеобразный золотистый отблеск. Окрашивающими веществами служили медь, железо и серебро. Краски накладывались на обожженную, прозрачную или непрозрачную глазурь, и после вторичного легкого обжига и полировки фаянсовые изделия приобретали своеобразный металлический отблеск. Это так называемая техника люстрирования. Она изобретена, по всей вероятности, в IX веке в Месопотамии и оттуда распространилась на Восток — в Персию — и на Запад — в Испанию. В XII веке глиняные изделия с люстром изготовлялись во всех мусульманских странах, так как по учению Мухаммеда, употребление посуды из золота и серебра являлось наградой достойным людям, достигшим вечного блаженства; при жизни же мусульманин в знак смирения должен был пользоваться деревянной или глиняной посудой. Однако характерная для народов Востока любовь к роскоши заставила их создавать глиняную утварь, хотя бы блеском своим напоминающую посуду из драгоценного металла.
В 1874 году Фортуни неожиданно умер. Его коллекцию купил собиратель старинных вещей А. П. Базилевский, а двенадцать лет спустя, в 1886 году, это собрание, в том числе и альгамбрскую вазу, приобрел Эрмитаж. Сейчас она известна под названием вазы Фортуни.
Лука делла Роббиа
Был душный вечер. Изредка налетал вихрь, сгибая деревья и поднимая белую пыль на улицах Флоренции. Слышались глухие раскаты далекого грома, временами заглушавшего звуки лютни и песен подвыпивших гуляк, возвращавшихся из кабачка.
Вспыхнувшая молния осветила фигуру старого человека, который стоял в дверях капеллы Пацци. На нем был камзол и длинный плащ старинного флорентийского покроя. Белая повязка — головной убор в виде тюрбана — подчеркивала энергичное лицо с крупным носом и полными плотно сжатыми губами. Это был Лука делла Роббиа, мастер, известный далеко за пределами Флоренции своими рельефами из обожженной, покрытой глазурью глины.
Пережидая надвигавшуюся грозу, старик любовался родным городом, который казался сейчас фантастическим. Вспышки молний освещали огромное здание собора Сайта Мария дель Фьоре, увенчанного гигантским куполом.
Андреа делла Роббиа. Медальоны с изображениями младенцевМастер, глубоко задумавшись, смотрел на свои большие жилистые, натруженные руки. Как много связано с этим городом, с собором, с капеллой Пацци!
Лука родился в 1399 году во Флоренции в скромной семье ремесленника, в доме, что под церковью Санта Барнаба. По обычаю большинства флорентийских семей мальчика учили дома чтению, счету и письму. Подростком отец отдал его в обучение к лучшему ювелиру города. Там он постиг искусство рисования и лепки из воска.
Вскоре юношу заинтересовала скульптура. Он оставил ювелирное дело и с увлечением взялся высекать из камня человеческие фигуры. Отличаясь исключительным трудолюбием и старанием, Лука засиживался с резцом или над рисунком до глубокой ночи. В зимние и осенние дни, когда в нетопленной мастерской застывали ноги, он, чтобы не отходить от работы, согревал их в корзине со стружками.
Часто бывая в церквах, Лука рассматривал в разноцветном полумраке витражей[9] тонкие, вытянутые, какие-то неживые и плоские фигуры, созданные средневековыми скульпторами. Такое изображение людей было чуждо ему, мастера привлекало искусство древних римлян. Подолгу всматриваясь в античные статуи, внимательно вглядываясь в лица, скульптор постигал правильную передачу пропорций тела, учился анатомически верно изображать человека.
Одну из первых больших работ в мраморе Лука выполнил в возрасте около тридцати лет. Это были рельефы кафедры для певчих собора Санта Мария дель Фьоре. Скульптор изобразил юных певцов и музыкантов. Сколько труда и искусства вложил он в эту работу! Несмотря на то, что композиции расположены на большой высоте, хорошо видны не только фигуры, но и выражения лиц детей. Эти поющие мальчики словно только что прибежали в собор с улиц Флоренции.
Лука стал известным ваятелем. Однако не мрамор и бронза прославили его на века.
Гуляя по узеньким улицам Флоренции, он нередко заходил в лавки, где продавались глиняные изделия. Там он любовался вазами, тарелками, чашами и другими предметами, пышно украшенными цветами, плодами, сверкавшими яркими красками. Он беседовал с потомственными керамистами, с интересом рассматривая испанскую глиняную посуду, привезенную купцами во Флоренцию.
Все чаще и чаще скульптору хотелось использовать глину в архитектуре. Но в решении этого вопроса возникли большие трудности. Как сохранить от разрушения глиняную скульптуру и рельеф? Какой глазурью покрывать монументальные глиняные изделия, чтобы получалась гладкая, ровная и блестящая поверхность? Как раскрашивать эти изделия, как сделать их яркими, нарядными, жизнерадостными?
Людям давно была известна глазурь. Еще древние египтяне покрывали ею сосуды. Персидские ремесленники, взятые в плен Тимуром, украшали глазурованными плитками мечети и дворцы Самарканда.
В эпоху раннего средневековья искусство керамики с Востока попало в Испанию, а затем в Италию. На острове Майорка (отсюда и произошло название майолики) техника глазурования достигла расцвета. Ведь и слово «фаянс» произошло от названия города Фаэнца, прославившегося своими изделиями из глины.
Однако глазурь применялась в те времена главным образом при изготовлении небольших предметов быта, посуды. А как быть с монументальными изделиями, предназначенными для фасадов зданий? Каким должен быть состав глазури, чтобы она не портилась от холода и влаги? Ведь никто в Европе не знал секрета восточной керамики. Лука проводил опыт за опытом, пока не нашел нужного рецепта. Он оказался первым, применившим изобретенную на Востоке глазурь для крупных декоративных рельефов и скульптур, употреблявшихся в архитектуре.
Джованни делла Роббиа. АлтарьЗаказы посыпались со всех сторон. Слава о Луке распространилась не только в Италии, но и в Европе. Флорентийские купцы наперебой заваливали мастера заказами.
Богатый флорентийский купец Андреа Пацци дал заказ прославленному архитектору Брунеллески построить на монастырском дворе при церкви Санта-Кроче во Флоренции семейную молельню (капеллу); внутренняя отделка ее была поручена Луке. Сравнительно небольшая, высотой с двухэтажный дом, молельня поражала радостью и праздничностью во всем ее облике. Как она была непохожа на огромные сумрачные, таинственные средневековые соборы! Вместо узких острых стрельчатых арок — плавные полукруглые, напоминающие древнеримские, вместо вонзающихся в небо башен — круглая чаша купола.
С этими мягкими очертаниями великолепно гармонировали медальоны из майолики, сверкающие красками и блестящей глазурью, которыми Лука украсил стены капеллы. В медальонах он изобразил учеников Христа — апостолов. Но это не безжизненные фигуры святых средневековых храмов: Иоанн сидит в естественной позе, свободно падают широкие складки его одежды; он склонился над книгой и что-то записывает гусиным пером. Апостол Варфоломей о чем-то глубоко задумался, опершись локтем на толстую книгу. Яркими зелеными, фиолетовыми, голубыми тонами сияют их одежды.
Только в таком нарядном, жизнерадостном здании, как капелла Пацци, можно было себе представить купол, по которому Лука разбросал разноцветные медальоны, похожие на «тарелочки», обрамленные пестрыми венками. Большая гирлянда цветов опоясывала его.
Искусству ваяния известный художник обучил и племянника Андреа, которого усыновил после смерти брата. Андреа умножил славу семейства делла Роббиа.
Тем же чувством любви к жизни и человеку проникнуты его очаровательные майоликовые медальоны с изображениями младенцев, помещенные над легкой, стройной аркадой Воспитательного дома во Флоренции. Как живы и естественны фигурки спеленутых и обнаженных ребятишек! Как трогательны их личики, то задумчивые, то лукавые, улыбающиеся и серьезные! Это Лука подал своему племяннику мысль украсить фасад Воспитательного дома детскими фигурками.
За свою длинную, полную творческого труда жизнь старый мастер успел многое сделать. Он обогатил архитектуру глиняными рельефами, возродил забытую технику глазурования, учил молодежь, передавая ей секреты жизнерадостного искусства[10].
Бернар Палисси
На юге Франции в небогатой семье Палисси в 1510 году родился сын Бернар. Мальчик оказался способным, рано научился рисовать и, отличаясь пытливым умом, интересовался всем, что его окружало. Однако родители не смогли дать ему широкого образования и обучили ремеслу: юноша зарабатывал на жизнь росписью стекла и скреплением витражей.
Но стремление учиться заставило его покинуть свой край. Как странствующий художник он побывал в разных областях Франции, жил на берегах Рейна, познакомился с Фландрией, Нидерландами, был также и в Пиренеях.
Никто не знает, когда и где этот увлекающийся человек увидел редкой красоты фаянс, по всей вероятности итальянский, покрытый сияющей поливой. И Бернар загорелся мыслью найти белую глазурь и ее живые, блестящие переливы, не известные французским гончарам. О работах семейства делла Роббиа Палисси знал, но средств поехать в Италию учиться у него не было, и он решил сам начать поиски. Страсть исследования поглощает его всецело. Все время Бернар проводит в маленькой, бедной, им самим оборудованной лаборатории.
Середину небольшой комнаты, напоминавшей чулан, занимала неуклюжая печь с несколькими отделениями. В углу валялись куски глины. Ближе к окну стоял грубо сколоченный рабочий стол, загроможденный ступками, колбами, глиняными горшками и черепками.
За столом сидел Бернар. Его узкое бледное лицо с острой бородкой, крупным носом и небольшими живыми глазами выражало напряженное внимание. Подперев голову руками, он внимательно рассматривал глиняный горшочек, только что вынутый из печи. Затем, откинувшись на спинку стула, задумался. Как он устал от бесконечных опытов, неудач! Опять глазурь не расплавилась. Сколько лет поисков секрета белой непрозрачной поливы, сколько испробовано комбинаций веществ в различных пропорциях, которые предположительно должны были дать глазурь! А может быть, температура огня недостаточна? Или еще раз переложить печь?
Дверь заскрипела, и в лабораторию вошла женщина.
— Я так и знала, что ты здесь! День и ночь толчешь, взвешиваешь, смешиваешь какие-то порошки, а толку никакого. Ты совсем забыл семью, детей, меня. Соседи смеются — все живут как люди, а ты не только ничего не приносишь в дом, но разоряешь нас. Опять сжег в этой проклятой печи кресло — ведь оно последнее. Неужели разрубишь и кровать, наше приданое? Я проклинаю тот час, когда ты увидел этот блестящий сосуд! Он принес только нищету и горе!
Молодой человек вскочил со стула и, обнимая женщину, горячо воскликнул:
— Удивительный сосуд действительно не дает мне покоя, эту глазурь необходимо найти. Сейчас я напоминаю человека, который идет ощупью. Потерпи, дорогая! Я верю, что раздобуду секрет.
Палисси мужественно продолжал свои опыты. Но эмаль не плавилась. Голод и отчаяние, поиски и неудачи длятся долгие шестнадцать лет…
Но однажды в один из весенних дней счастье заглянуло в бедную лабораторию исследователя. После очередного неудачного опыта мастер на последние гроши покупает горшки, покрывает их новой глазурованной массой, только что составленной, ставит в печь. Со страхом следит за плавкой. Еще несколько минут, и глазурь должна наконец расплавиться. И вдруг, — о ужас! — не хватает топлива. Покрытый потом, измученный, полный отчаяния, он хватает все, что попадается под руки: табурет, стул, несколько досок от пола — и бросает в огонь. Полнейшее разорение! Жена плачет. А Бернар смотрит в печь и смеется — глазурь расплавилась! Секрет найден! Палисси спасен!
Бернар Палисси. БлюдоС этого момента мастер стал создавать глиняные изделия, покрытые блестящей яркой поливой.
Любовь к природе, увлечение естественными науками, богатейшая фантазия натолкнули Бернара на мысль украшать свои изделия фигурками зверюшек, жизнь которых он всегда с интересом наблюдал. И вот появляются большие, неглубокие блюда и тарелки с широкими краями.
На их поверхности художник изображает картины из жизни животного и растительного мира: в реке плавают рыбы, на берегу — лягушки, среди разбросанных веток, ракушек и камешков ползают раки, скользят ящерицы, сияя яркими красками. Глиняную вазу мастер обвивает снаружи веткой плюща с насекомыми на листьях. На крышку миски помещает рака. Лягушка служит горлышком сосуда…
Таких глиняных изделий до Палисси никто не создавал.
Процесс изготовления необычной посуды был тоже необычен. На оловянное блюдо наклеивались листья, ракушки, окаменелости. Между ними тонкими нитями, продетыми сквозь маленькие дырочки в самом блюде, прикреплялись различные пресмыкающиеся. Все это покрывалось тончайшим слоем гипса. Затем зверюшек осторожно освобождали из гипса и использовали для другой композиции.
Сколько разговоров вызывала эта посуда! Она служила исключительно для украшений открытых буфетов в богатых домах, а также ставилась на стол, чтобы подшутить над гостями. И действительно, все эти пресмыкающиеся производили сильнейшее впечатление.
Слава Палисси росла, у него появились покровители — важные господа, аристократы, государственные деятели и даже короли Франции: Генрих II и Екатерина Медичи. Изобретенные им фаянсы, украшенные фигурками животных, мастер назвал «сельскими глинами», указывая тем самым, что все декоративные элементы заимствованы из природы[11].
Шли годы. Бернар уже жил в Париже. Его работы раскупались в огромном количестве, и это были не только «сельские глины».
Однажды у герцога Монморанси в Экуанском замке собрались гости. Знатные дамы и кавалеры восхищались роскошной отделкой кабинетов, любовались живописными стеклами в окнах и чудесными изразцами, покрывавшими полы и стены. На вопросы о том, кто мастер, Монморанси, улыбаясь, отвечал: «Бернар Палисси».
После ужина хозяин пригласил гостей в сад. Там, в глубине, они увидели необычные гроты в искусственных скалах, покрытых мхом и растениями. Из расщелин струились родники. По мху скользили, извиваясь и блестя на солнце, змеи, ящерицы, ужи и другие пресмыкающиеся. Посередине грота — бассейн, по краям которого лягушки, раки, черепахи. И скалы, и растения, и пресмыкающиеся были исполнены из блестящей глазурованной глины.
Мода на гроты пришла из Италии. Создателем их во Франции был Палисси, использовавший и здесь свою выдумку. «Мои зверюшки должны походить на живых, и естественные ящерицы и змеи должны принимать их за настоящих, — писал Палисси. — У меня есть собака из глины, и она так напоминает настоящую, что живые собаки на нее рычат».
Устройством гротов, быстро вошедших в моду, знаменитый мастер прославил себя как садовый архитектор.
Не забывая своей работы по глине, Палисси увлекался и науками.
С 1575 по 1584 год он с успехом прочел в Париже двенадцать публичных лекций, на которых присутствовали врачи, духовенство, юристы и вельможи. Лекции Бернар иллюстрировал естественно-научными коллекциями, собранными в продолжение всей жизни. Он издавал также книги, в которых рассказывал о своих наблюдениях и опытах.
— Наука дается тому, кто ее ищет, — говорил Палисси, ставший знатоком в различных областях науки и искусства: геологии, физике, химии, агрономии, садовой архитектуре.
Большая часть жизни Палисси прошла в годы ожесточенной войны между католиками и гугенотами. Чудом уцелел он в страшную Варфоломеевскую ночь. Много раз уговаривали Бернара отречься от его взглядов и перейти в католичество, но он с негодованием отвергал подобные предложения.
Наступил 1588 год. На французском престоле Генрих III. Изнеженный, развращенный, бесхарактерный, ленивый и суеверный, он не смог противостоять требованиям окружающей его католической знати и приказал арестовать и бросить в Бастилию восьмидесятилетнего ученого.
При последней встрече с ним король сказал:
— Я принужден посадить Вас в тюрьму. Ваши сообщники ведут себя очень активно. Если Вы не откажетесь от своих убеждений, то будете отправлены на костер.
— Государь, «я принужден» — так не говорят короли, — ответил ему мужественный старик. — Ни Вы, ни те, которые Вас принуждают, ничего не смогут сделать со мной. Я не отрекусь от своих убеждений.
Но до костра дело не дошло. Однажды утром тюремный сторож, войдя в камеру заключенного, увидел старика мертвым.
«Сияющий, как озеро в солнечный день»
Много чудесных превращений претерпела глина — от горшка новокаменного века, украшенного ямочками и гребешками, до стройных греческих ваз и сверкающих разноцветной глазурью восточных изразцов, итальянской майолики, «сельских глин» Палисси… Но это был еще фаянс.
Фаянсовую посуду, так же как и глазурь, китайцы знали несколько тысяч лет назад. Но для того, чтобы создать самый совершенный вид керамики — фарфор, — понадобились века упорной, кропотливой работы и поисков.
Центром производства фарфора в Китае стал город Цзиндэчжэнь. В нем стояли сотни печей с высокими трубами, и сам город казался огромной печью, из которой вырывались клубы дыма и огня.
В центре, в тесно лепившихся друг к другу домиках, жили купцы, торговцы, владельцы судов, парусных лодок, в домах побогаче — мандарины — чиновники, наблюдавшие за производством фарфора.
На окраинах в жалких лачугах ютились рабочие. Целые семьи, от старика до подростка, даже инвалиды и слепые, трудились над изготовлением посуды — гордости Китая. Фарфор должен быть «голубой, как небо после дождя, блестящий, как зеркало, тонкий, как бумага, звонкий, как гонг, гладкий и сияющий, как озеро в солнечный день», — говорили китайские мастера.
Какой же путь проделала глина, прежде чем превратиться в посуду, «сияющую, как озеро в солнечный день…»?
Фарфор родился около тысячи трехсот лет тому назад. Этому в большой степени помогли природные условия страны.
Китай богат пластичной белой глиной — каолином — и минералом, состоящим из полевого шпата и кварца, который в более позднее время получил название «фарфорового камня». При соединении того и другого получалась фарфоровая масса.
Огромные глыбы минерала дробили, толкли в порошок, промывали водой, смешивали с небольшим количеством извести и прессовали в белые кирпичики. Высушив на солнце, их везли к месту производства. Каолин, также размолотый на куски, разбалтывали в воде в больших чанах. Осевшую на дно глину прессовали, давали вылежаться. Затем смешивали каолин с размельченными белыми кирпичиками, тесто раскатывали, заворачивали в полотно, снова прессовали и отбивали о каменные плиты до тех пор, пока масса не делалась еще более пластичной.
После этого к работе приступали мастера фарфоровых изделий.
В мастерской на гончарном круге мягкий комок фарфорового теста принимал форму вазы, чаши, блюда. Кругом лежали отдельно вылепленные ручки, шейки, ножки, которые потом соединяли с туловом ваз.
Работали молча, быстрыми четкими движениями. Аккуратно затянуты волосы на макушке. Если хоть один волосок попадет на влажный фарфор, вся работа будет испорчена, гончару придется начинать ее сначала.
В другом помещении мастера окунали в чан с глазурью маленькие предметы и обдували глазурным порошком, смешанным с водой, большие.
После обжига поверхность сосуда становилась блестящей.
В светлой чистой мастерской работали живописцы. Старики и дети в больших ступках растирали особые краски для росписи по фарфору. Около каждого художника стояла чашка с красками, лежали кисточки. Чаще всего большую вазу расписывали несколько человек — у каждого была своя специальность: кто очерчивал контуры предметов, кто писал пейзажи, кто фигуры людей.
Драконы, рыбки, лебеди среди водорослей были любимыми сюжетами китайских живописцев. Порой мастер наносил на вазу узоры из ветвей, цветов, взятые из жизни с удивительной наблюдательностью.
Иногда предмет расписывался до покрытия глазурью, иногда после.
Подготовленные для обжига маленькие изделия рабочие относили к печам на длинных досках, а большие — на коромыслах в корзинах.
У огромных печей лежали капсюли — коробки из огнеупорной массы, способной выдержать сильный жар. В них ставили изделия, иногда по нескольку штук. Загрузив печь до самого верха, рабочие замуровывали все отверстия, оставляя только одно для наблюдения за обжигом. В топку, находившуюся в самом низу, бросали дрова. На третий день печь открывали и ждали, пока раскаленные докрасна капсюли немного остынут. На четвертый день рабочие в мокрой одежде и перчатках из нескольких слоев сырой ваты входили в печь за готовыми изделиями.
Глина превратилась в твердый, тонкий, звонкий, блестящий, сияющий красками фарфор.
Вазы китайского фарфораТалантливые руки китайских мастеров поистине творили чудеса: до нас дошли фигуры фантастических птиц, животных, рыб, даже садовые скамейки и фонари, расписанные цветами и драконами.
А в городе Нанкине искусные мастера построили девятиярусную фарфоровую башню высотою в тридцать метров. На углах каждого этажа висели фарфоровые колокольчики (всего восемьдесят), звеневшие от дуновения ветра.
Замечательные изделия попадали в императорские покои или вывозились за границу и украшали дворцы европейских королей.
Китайские императоры посылали своих чиновников в Цзиндэчжэнь следить за сохранением секрета производства фарфора. Вечерами улицы города закрывали загородками и караульные пропускали лишь тех, кто знал «тайное слово». Всю ночь по городу ходили отряды полицейских. Они следили, не затаился ли где-нибудь иностранный шпион, не выкрадет ли Европа тайну фарфора.
«Китайский секрет» открыт
Иоганн Бетгер, ученик берлинского аптекаря Цорна, склонившись над колбой, кипятил ртуть, свинец, олово, помешивая смесь медной палочкой. Почти целые ночи юноша просиживал над химическими опытами.
В начале XVIII века важнейшей «наукой» считалась алхимия, которая пыталась доказать возможность получения «философского камня», превращающего все металлы в золото. Этой «наукой» увлекалась не только молодежь, но и старики, считавшие себя учеными. Настоящая наука химия еще только зарождалась. Девятнадцатилетнему Иоганну случайно попалась рукопись о философском камне, и он решил попытать счастья: открыть секрет приготовления драгоценного металла.
Поссорившись с хозяином-аптекарем, Бетгер покинул Берлин и переехал из прусского королевства в Саксонию. Один из министров саксонского короля Августа Сильного, прослышав о молодом алхимике, привез его в Дрезден, поселил в своем дворце и устроил для него лабораторию.
Начались мучительные для Иоганна годы. Его окружала роскошь, но отсутствовало главное — свобода. Бетгер не мог выйти из дворца, за ним следили, от него требовали золота.
Известный ученый того времени, математик Чирнхауз, обратив внимание на талантливого Бетгера, понял, что из этого человека мог бы получиться изобретатель, если бы не его увлечение философским камнем. Он стал понемногу направлять юношу в область настоящей науки — химии, — помогал в опытах и даже пробовал, хотя и безуспешно, отговорить короля от затеи с золотом.
Бетгер с головой ушел в изучение горных пород. Опять он просиживал дни и ночи над опытами не только в лаборатории, но и в специально построенном здании, где в раскаленных печах обжигали различные глины, чтобы найти ту массу, из которой можно создать тигли для варки золота на самом большом огне.
Прошло около шести лет. Однажды из печи вынули тигли из красной нюрнбергской глины, выдержавшей самый сильный жар, и два друга — старый ученый и молодой изобретатель — с изумлением увидели, что они стали крепкими, звонкими, похожими на фарфор, только не белого, а красивого красного цвета.
Да ведь из этой глины можно делать фарфоровую посуду!
И. Бетгер. ЧайникКоролю не пришлось долго доказывать, что отечественный фарфор — то же золото, что оно потечет в государство из всех стран Европы. В 1710 году Август приказал строить фарфоровый завод в Мейсене, и сам приехал на первый обжиг. Печь топили пять дней, затем она остывала трое суток, и когда Бетгер вместе с рабочими вынул остывшие капсюли, в них стояли прелестные красные чашечки, чайники, вазочки[12].
Эти изделия, каких еще не изготовляли нигде в Европе, стали оправлять в серебро, золото, украшать драгоценными камнями. Для работы привлекались серебряных и золотых дел мастера, гранильщики драгоценных камней, граверы по стеклу. Среди многочисленных художественных вещей из фарфора, хранящихся в музеях мира, можно узнать красные чашечки, тарелки, кувшины, чайники и фигурки из так называемой «бетгеровской каменной массы».
Но мейсенские изделия не были белыми, и два друга стали думать над тем, как сделать саксонский фарфор похожим на китайский. Помог случай.
Однажды король вызвал изобретателя во дворец. Готовясь к приему, Иоганн рассеянно следил за парикмахером, припудривавшим его высокий завитой парик, какие носили в те годы знатные люди. Пудра сыпалась на колени, и Бетгер машинально мял ее пальцами, скатывая в липкие белые шарики. Вдруг лицо его изменилось, покраснело, напряглось. Схватив пригоршню пудры, Иоганн вскочил с кресла и стал внимательно рассматривать ее, перетирать, даже лизнул языком. Она была липкая, как глина, и тяжелее обычной пудры:
— Откуда это у тебя? — закричал Бетгер.
Перепуганный парикмахер ответил, что не только он, но и другие пудрят своих господ «шнорровской землей», так как она дешевле французской пудры, и рассказал, что землю эту находят недалеко от Дрездена, а называют по имени купца Шнорра, обратившего внимание на ее цвет. Предприимчивый купец, собрав целый мешок мягкой белой земли, просеял ее и стал с успехом продавать как пудру.
Забыв о том, что его ждут, Иоганн закрылся в своей лаборатории.
Шнорровская земля оказалась белой каолиновой глиной и, смешанная с алебастром, состоящим из полевого шпата и кварца (фарфоровый камень), давала массу, из которой в Китае делали звонкий белый фарфор.
И. Бетгер. КружкаУченые советники Августа, рассматривая первые белые чашечки, велели секретарю Королевского совета записать: «Иоганн Бетгер показал нам сделанный им фарфор, полупрозрачный, молочно-белый, подобный цветку нарцисса».
Бетгера осыпали подарками, его имя стало известно всей Германии, но свободу изобретатель не получил. Завод принадлежал королю, изготовление фарфора было тайной государства.
Рабочие и мастера при поступлении на завод давали клятву, что никому не выдадут секрета. А мастерские были устроены так, чтобы рабочие одной не знали, что делается в другой. Секрет был известен только Бетгеру и его двум помощникам.
Короли многих государств засылали в Саксонию шпионов, чтобы узнать тайну. Они пытались подкупить и самого Бетгера, но за каждым его шагом следили и люди Августа. Однажды королю донесли, что Иоганн за большие деньги обещал открыть секрет агентам прусского государства.
Взбешенный Август, не пытаясь даже проверить донесение, приказал бросить Иоганна в тюрьму. Там в темной и сырой камере, не дождавшись суда, умер от горячки человек, первый в Европе раскрывший «китайский секрет».
Изобретатель русского фарфора
По пыльной дороге быстро ехал тарантас, запряженный парой лошадей. В нем сидел хмурый худой старик и дремал. Когда от толчков на ухабах он просыпался, глазам открывалась однообразная картина: поля, среди которых кое-где виднелись убогие деревушки, крестьянские лошаденки с поклажей, тощий скот и леса — леса то хвойные, то с осенней осыпающейся листвой.
Тарантас остановился у почтовой станции, и старик вышел размять затекшие ноги. Он увидел тот же осенний скучный пейзаж. Губы его искривила брезгливая гримаса.
Вот оно, огромное полудикое русское государство. Говорят, по улицам столицы бегают волки и задирают людей. Но, видно, богата царица Елизавета — и, самодовольно улыбнувшись, он вспомнил, о «подарке» в тысячу рублей, полученном от русского правительства, уплате долгов, сделанных в Швеции. Ему обещали чин директора будущей фарфоровой фабрики, бесплатную квартиру, дрова, свет, экипаж с лошадьми и проезд семьи и работников в Россию. Единственно, что тревожило старика, — как бы не обнаружили слишком скоро, что он не знает секрета производства фарфора.
То был алхимик Конрад Гунгер, саксонский уроженец, приятель Бетгера. Он выдавал себя за специалиста по фарфору. В 1744 году русское правительство заключило с ним контракт, обязалось тайно привезти в Россию для создания в Петербурге первой порцелиновой фабрики.
Еще Петр I мечтал наладить в России производство фарфора, «порцелина», как его тогда называли. Перед русскими мастерами поставили задачу узнать китайский секрет. При Елизавете интерес к фарфору возрос. Объяснялось это не просто прихотью императрицы и не только коммерческими целями, но и патриотическим стремлением «умножить славу Российскую».
От Гунгера ждали многого. Неизвестно, кто указал представителю русского двора на такого «специалиста», но доверие к нему было велико.
Стоял теплый летний день. По Неве скользили лодки, звучали песни и смех катающихся. Облокотившись на деревянные перила, Димитрий Иванович Виноградов любовался городом и широкой полноводной рекой.
Радостная улыбка озаряла его молодое лицо. Итак, дни учения остались позади, впереди — интересная работа на пользу Родине. В голове юноши пронеслись воспоминания: детство в Суздале, славяно-греко-латинская академия в Москве (туда он был принят как сын священника), слушание лекций в Петербургской академии наук, поездка за границу для усовершенствования в знаниях, занятия в Марбургском университете, напряженная работа в рудниках и шахтах Фрейберга, где он знакомился с практикой металлургического и горного дела. И наконец, — возвращение домой, в Россию.
Несколько дней назад Виноградова экзаменовал президент берг-коллегии Академии наук. Димитрий Иванович вспомнил свои волнения. Ему хотелось подробнее и обстоятельнее рассказать о добыче руды, поисках полезных ископаемых и глин, о плавильных печах… Успокоился только тогда, когда увидел, как внимательно ученый слушал его ответы, утвердительно кивая головой в пышном, туго завитом пудреном парике.
Предметы «Собственного сервиза»А сегодня он узнал, что на заседании берг-коллегии президент заявил: «Я от всех доселе выписанных иностранных мастеров ни одного не знаю, который бы его, Виноградова, во всех частях горной науки чем перешел, но многие ему в равенстве не пришли».
Димитрий Иванович получил чин горного инженера и должен был работать по горному ведомству. Между тем судьба его сложилась совершенно иначе.
В десяти верстах от Петербурга на топком болотистом берегу Невы, среди перелеска, где еще при Петре I стояли кирпичные заводы, в 1744 году начали строить «порцелиновую» мануфактуру[13]. Директором был Гунгер. Всеми делами нового производства ведал барон Черкасов — секретарь кабинета императрицы.
Однажды Черкасов вызвал к себе Виноградова.
— Русскому правительству надобно не токмо иностранцев приглашать, но и своих мастеров иметь. Ты назначаешься помощником Гунгеру. Учись, наблюдай, перенимай от него все, — заявил елизаветинский вельможа, и даже не взглянул на молодого человека, торопясь на очередной дворцовый бал.
С этого момента у колыбели русского фарфора встали трое: Гунгер — авантюрист, боявшийся своего разоблачения, Черкасов — вельможа, стремившийся только угодить императрице, и Виноградов — единственный из троих, владевший научными знаниями своего времени и имевший все данные, чтобы стать крупнейшим русским ученым.
Строительство порцелиновой фабрики шло медленно, правительство отпускало мало денег. Наконец, настало время приступить к непосредственному производству фарфора. Гунгер, никого не пуская в свою лабораторию, проводил опыт за опытом над отобранной им гжельской подмосковной глиной.
Его непрерывно постигали неудачи. Посуда, вынутая из печи, выходила неправильной формы, грязновато-желтая, непрозрачная.
Виноградов, приглядываясь к алхимику, понял, что перед ним невежда, не знающий секрета фарфора, и сам начал опыты. Однако Гунгер не разрешал ему самостоятельно работать, следил за каждым шагом, писал доносы, требовал убрать с фабрики. Отношения между ними перешли в открытую вражду.
Барону Черкасову, мало понимавшему в производственном процессе, все же стала очевидной беспомощность алхимика; и, когда Гунгер предложил выпускать на фабрике не фарфор, а фаянс, взбешенный Черкасов уволил его.
Трехлетнее пребывание авантюриста Гунгера в России стоило государству более семи тысяч рублей — по тем временам это были огромные деньги. Создать русский фарфор поручили Виноградову, положив ему оклад сто восемьдесят рублей в год.
Полутемная изба, покосившаяся дверь, небольшое оконце, заткнутое тряпьем, чтобы не дуло, лужи на полу от протекавшей крыши, «дух дурной нестерпимый» от сырости. На грубо сколоченном деревянном столе мигал огарок. Тонкая струйка копоти поднималась вверх. Отсвет огненного языка скользнул по строкам, выписанным четким почерком Виноградова: «Делание порцелина, по мнению моему, химию за основание и за главнейшего своего предводителя имеет».
Эта изба была и лабораторией и домом молодого ученого. Здесь он проводил дни и ночи, читая, делая опыты, записывая результаты, изучая лежащие перед ним куски различных глин и кварцевых камней.
В отличие от Гунгера и его предшественников, работавших вслепую, Виноградов, знавший химические и физические свойства фарфора, самостоятельно разрабатывал состав массы, соотношение входящих в нее частей, искал нужное сырье и продумывал весь процесс обработки: измельчение, очистку, замешивание, формовку, состав глазури, краски, температуру обжига. Краски и позолоту Виноградов приготовлял сам.
Настоящий ученый, он подробно записывал свои опыты и наблюдения. Однако упорная работа сначала не давала хороших результатов — посуда при обжиге все еще сильно деформировалась.
Временами Димитрий Иванович впадал в отчаяние. Неужели он ничего не сделает, не найдет нужной массы?
Как он был одинок в эти дни! Не с кем посоветоваться, позаимствовать опыт. Ведь во всех странах фарфоровое дело было засекречено. Как нужен был ему сейчас его друг Михайло Ломоносов, с которым прошли все годы учения. С Ломоносовым сближало многое: общность научных взглядов, неутомимая энергия исследователя, высокая страсть к открытиям. Ученый следил за опытами Виноградова и помогал ему советами.
Но добраться до Ломоносова, поговорить, поспорить, подумать вместе было трудно. Десять верст до Петербурга, особенно в осеннюю распутицу или ранней весной, когда вокруг непролазная грязь, — расстояние огромное. Нанять лошадей невозможно — ведь он не получал жалованья уже несколько месяцев и дошел до нищеты.
Вокруг себя Виноградов видел нищету и горе. Как больно смотреть на изнурительный, порой нечеловеческий труд рабочих! Мельница для размола материалов приводилась в движение людьми, «ходившими в колесе», и смалывала всего две-три чашки глазури в день. Рабочих били плетьми, заковывали в кандалы, сажали на цепь.
А тут еще барон Черкасов требовал, чтобы фарфор был изготовлен как можно скорее. Он обвинял Виноградова в недобросовестном отношении к делу и оскорблял его. Черкасов хотел преподнести ко дню рождения императрицы первые изделия из русского фарфора и придумал даже надпись: «Разьве не имеет власти гончар над глиной?».
Похудевший, с воспаленными от бессонных ночей глазами, Виноградов проводил опыт за опытом. Наблюдая за обжигом, он обратил внимание на то, что капсюли с изделиями не выдерживали высокой температуры печи и давали трещины. Виноградов приказал заменить гжельскую глину другой, найденной в Олонецком уезде.
Так шли недели, месяцы. Однажды из печи вынули капсюли с остывшими изделиями, и, взглянув на них, Виноградов едва поверил своим глазам: чайная посуда, табакерки, черенки для ножей и вилок были белые, тонкие, блестящие, ничем не уступавшие саксонским.
Наконец-то найден в России состав фарфоровой массы! Веками хранившийся «китайский секрет» разгадан совершенно самостоятельно на основании многочисленных научно поставленных опытов. «Не было такого человека, который бы мне что лучшее показать или присоветовать мог», — писал позже Виноградов в своем дневнике.
Через окна дворца, открытые в сад, неслись звуки музыки. Бесчисленными огоньками горели свечи в золоченых люстрах. Порой доносился смех и веселые голоса. В окнах мелькали пудреные прически дам и парики мужчин, разноцветные, блестевшие серебряным и золотым шитьем платья и кафтаны.
Бал подходил к концу.
В одном из залов все приготовлено для ужина. На столе сверкал белизной сервиз отечественного фарфора. Сбылась мечта Елизаветы — похвастаться своим «собственным» сервизом.
Гости стали рассаживаться вокруг стола. Многие были уже предупреждены о сюрпризе и, желая угодить царице, громко выражали свой восторг, рассматривая тарелки, усеянные мелкими рельефными лиловыми цветочками, такие же ложки, солонки, соусницы, обвитые лепными гирляндочками роз.
Гул одобрения и восхищения долетал до ушей императрицы. Улыбаясь приветливо, но с легким лукавством, она веером подозвала к себе саксонского посла.
— Садитесь рядом со мной, граф! Ну, что вы скажете о моем русском порцелине? Вы такой знаток. Может быть, он еще уступает вашему прославленному мейсенскому, но ведь мы делаем только первые шаги!
Саксонский посол приложил к глазам лорнет. Еще совсем недавно его повелитель король Август прислал в подарок Елизавете нарядный обеденный сервиз, украшенный лепными плодами, овощами, дичью. Тогда это была редкость, роскошный дар. И вот русская царица уже хвалится своим фарфором, который, надо признаться, не уступает саксонскому.
В. И. Виноградов. Табакерка с мопсамиНо посол сумел скрыть под льстивой улыбкой оттенок недовольства.
А Елизавета, будто невзначай, достала из кармана своей широкой юбки фарфоровую табакерку в золотой оправе и небрежно вертела ее в унизанных кольцами пальцах. Посол понял, что и это делается для него.
— Я вижу в руках Вашего величества еще одну удивительную вещицу и не могу прийти в себя от восхищения. Какое искусство!
Елизавета открыла табакерку. На внутренней стороне крышки были нарисованы фигурки трех мопсов. Два из них держали зеркало, а третий любовался своим отражением.
— Неправда ли, мило, граф? Эта забавная картинка мне очень понравилась, и я хочу, чтобы мне сделали еще такую же.
— Прелестный рисунок! Но кто тот чудодей, государыня, который создал все это? Кто творец русского порцелина?
Барон Черкасов внимательно прислушивался к разговору императрицы с послом. При последней фразе он привстал с места, чтобы взгляд Елизаветы сразу упал на него.
— Вот, граф, тот чудодей, о котором Вы спрашиваете, — указала она на Черкасова. — Это его неусыпными трудами мы имеем теперь свой порцелин, и, мне кажется, он будет столь же хорош и прославлен, как ваш, саксонский[14].
А в это время в десяти верстах от Петербурга в своей лаборатории, прикованный цепью к стене, сидел, склонившись над придвинутым к нему столом, Виноградов. Дрожащими руками заканчивал он «Обстоятельное описание чистого порцелина» — наблюдения и результаты своих работ, чтобы не пришлось повторять того, что было уже раз сделано. Одинокий, оторванный от друзей, видя вокруг себя несправедливость, жестокость, нищету, сознавая собственное бессилие, ученый запил.
Понимая, что Виноградов представляет большую ценность для государства, Черкасов проявил о нем своеобразную «заботу». Ученого никуда не выпускали без караула, запирали в избе, а вскоре и вовсе отстранили от управления производством, перестали выплачивать жалованье, но требовали выпуска все новых и новых изделий. На порцелиновую фабрику прислали двух офицеров, приказав следить за делами и доносить обо всем кабинету ее величества. Черкасов потребовал «во время обжигу держать Виноградова под караулом у печи во все то время, сколько тот обжиг продолжаться будет, чтоб он и спал там». Рабочие любили и жалели Виноградова, но чем они могли ему помочь?
21 августа 1758 года поручик Тархов рапортовал кабинету ее величества, что Виноградов «тяжко болен», а 25 августа «волею божею умер».
Так, не дожив до 40 лет, ни разу не получив благодарности, в полной безвестности умер талантливый русский ученый и изобретатель. За его гробом понуро шагали живописец Андрей Черный, крепостной графа Шереметева, тот самый, чьей росписью табакерки восхищалась Елизавета, его ученик Иван Богданов и небольшая группа сумрачных оборванных людей — рабочих порцелиновой мануфактуры.
Дворцовый сервиз и ваза «Россия»
Унылым рядом вытянулись вдоль низкого болотистого берега Невы ветхие покосившиеся избы. На грязной деревенской улице стояли телеги. Вокруг них толпились ребята, одетые в отцовские кафтаны и картузы, с узелками в руках. Самых младших отцы с трудом отрывали от плачущих матерей и сажали на подводы. Ребята постарше молча, хмуро усаживались сами, деловито подминая под себя сено.
Ваза «Россия»Лошади тронулись — и вскоре в сыром утреннем тумане исчезли люди, избы и грязная улица.
Так мастеровые Императорского фарфорового завода провожали своих пяти-девятилетних ребятишек в основанное в Петербурге при Академии художеств училище. Оттуда через несколько лет они должны были возвратиться на завод, где работали их отцы.
Завод быстро рос и в конце XVIII века, в царствование Екатерины II, уже ничем не напоминал той избы, в которой совершал свои опыты изобретатель русского фарфора Д. И. Виноградов. Посуда теперь изготовлялась не только для царского двора, но и на продажу, правда, стоила она очень дорого.
Для императрицы Екатерины и ее приближенных создавались огромные сервизы, расписанные лучшими художниками, украшенные целыми скульптурными группами по моделям известных мастеров.
Ребята-подростки, пришедшие из художественного училища на завод, со страхом поглядывали на представительного человека в пудреном парике, расхаживающего по модельной мастерской. Это был профессор Академии художеств — француз Жан-Доменик Рашетт. Под его наблюдением выполнялся обеденный сервиз с непонятным названием «Арабесковый»[15]. В нем, рассчитанном на шестьдесят человек, было более девятисот предметов.
Главным украшением сервиза были фигуры, предназначенные для середины парадного стола. Они уже вышли из рук формовщиков и теперь покрывались глазурью и расписывались золотом. В центре — сама царица, а вокруг — чего только нет! Одна женщина в шлеме, другая с книгой, третья протягивает яблоко ребенку, четвертая держит рог, наполненный фруктами, и еще женщины в коронах, а по краям фарфоровые «трофеи» — связки оружия, знамена, панцири, шлемы — и все белое с золотом. Старый мастер объяснил ребятам:
— Эта фигура изображает Крым, а эта — Грузию — страны, которые нашей Российской державе подвластны.
Статуэтки Императорского фарфорового завода— А женщина книгу зачем держит?
— Это Справедливость — книга с законами.
— А которая ребенку яблоко дает?
— Это Человеколюбие. Фигуры показывать должны, что подданные нашей царицы в благоденствии, счастье, богатстве живут.
Тут мастер качнул головой, горько усмехнулся и, вздохнув про себя, уже ворчливо закончил:
— Выучитесь, всю правду поймете, что к чему. А сейчас хватит глазеть, работать надо.
Создавалась не только роскошная посуда. Рашетт, крупный скульптор и начальник модельной мастерской завода, задумал серию фарфоровых статуэток, изображавших народы России. Незадолго до того вызвала интерес читателей книга путешественника И. Георги «Описание всех в Российском государстве обитающих народов». В ней на множестве рисунков изображались мужчины и женщины в национальных одеждах.
Эти рисунки ожили в фарфоре: девушки в ярких русских сарафанах, жители далекого Севера в мехах, люди в пестрых восточных костюмах[16].
Царица могла быть довольна. Фигуры «Арабескового» сервиза прославляли ее мудрость, справедливость, военные победы, а фарфоровые фигурки «счастливых рабов» должны были показать благополучную жизнь подвластных ей народов.
Шли годы. Отгремела Отечественная война 1812 года. Сооружались памятники в честь одержанных побед. Один из таких памятников был создан в самом Зимнем дворце.
25 декабря 1826 года по главной лестнице поднимались один за другим генералы. Со стороны Дворцовой площади входили офицеры во главе своих команд. Стройными рядами солдаты, гвардейцы — участники войны — выстраивались в больших, залитых светом, дворцовых залах.
Грянула музыка на хорах. Медленно распахнулись тяжелые двери, и гости вслед за царем вошли в только что отделанную по проекту знаменитого архитектора К. И. Росси «Галерею Отечественной войны 1812 года». На стенах сверху донизу висели портреты генералов — героев военных событий. Под звуки торжественного марша под портретами своих военачальников прошли строем солдаты.
Через два года после открытия галереи в Зимнем дворце появилась неслыханных размеров фарфоровая ваза, как ее назвали позже, ваза «Россия» — еще один памятник в честь победы 1812 года[17].
Высотой почти в два с половиной метра, она ослепительно сверкала белизной глазури и позолотой, в изобилии украшавшей ручки и горловину. Изделия таких сложных форм и подобных размеров не создавались не только на заводе, но и во всем мире. Это была вершина мастерства, достигнутая в производстве фарфора. Но вершина — это конец подъема, это и начало спуска, начало упадка.
Кроме посуды и ваз, из фарфора стали делать подсвечники-торшеры, табуретки, камины, рамы зеркал. Везде била в глаза показная роскошь. Не спасало и мастерство исполнения. Изделия, чрезмерно вызолоченные, становились аляповатыми, грубыми. В огромных, пышно отделанных вещах терялась нежная, хрупкая и благородная красота фарфора, которую так ценили мастера предшествующих эпох.
2 Глава
Камень
В незапамятные времена
Это было много тысяч лет назад. Человек шел по берегу реки. Он выслеживал зверя, скрывавшегося где-то в прибрежных зарослях. Шел тихо, стараясь, чтобы не шуршали песок и мелкие камешки. Они пересыпались под ногами, и невольно взгляд охотника задерживался на некоторых обкатанных водой красивых гальках, желтых, розоватых, голубых, коричневых.
Он остановился, поднял и стал рассматривать особенно поразивший его своей расцветкой камень. Жизнь древнего охотника — это борьба за существование, трудная и упорная, добывание пищи чаще всего связано с риском и опасностью. Камень тогда был только материалом, из которого делали тяжелые неуклюжие орудия труда.
Но обнаруженная в простой гальке красота, которую вдруг заметил человек, поразила его…
Он стал искать камешки разных цветов, похожие на тот, который держал в руке, и пересыпал их с ладони на ладонь. А потом приложил один, другой, третий к груди, к плечам, покрытым грубой звериной шкурой и радостно засмеялся.
Люди научились просверливать в камне отверстие. Это нужно было прежде всего при изготовлении орудий труда. По опыту, накопленному за тысячи лет, они знали, что если насыпать немного песку под острое каменное сверло, то песчинки, постепенно втираясь в камень, скорее углубят в нем ямку и в конце концов получится сквозное отверстие.
Но если умеешь просверливать отверстие в каменном топоре, то почему бы не сделать то же самое с разноцветными камешками? В сквозные дырочки можно продеть тонкое сухожилие зверя и повесить длинный ряд камешков себе на шею, на грудь. Они будут блестеть, переливаться разными цветами. Ведь некоторые прозрачны и так удивительно светятся, точно в них зажгла огонек какая-то чудесная сила! И человек, которому вся природа казалась населенной то добрыми, то грозными духами, представлял себе, что эти прекрасные предметы посланы ему каким-то могущественным существом и одарены волшебной силой. Кто знает, если надеть на себя вот этот необыкновенной красоты камень, может быть, он поможет легче и быстрее одолеть зверя или принесет в сеть богатый улов? А, может быть, чтобы стать еще сильнее, чтобы вылечиться от болезни, надо никогда не расставаться с тем светящимся камнем? И камень стал амулетом — средством, которое будто бы может предохранить от опасности или помочь в чем-то.
Удивительные находки
Около трех с половиной тысяч лет назад умер в Египте молодой фараон Тутанхамон. Всего несколько лет был он царем и ничего замечательного не успел совершить: ни прославить свое имя походами, ни построить новых городов или огромных красивых храмов. Египтяне, вероятно, даже мало знали своего царя, и вряд ли многих опечалила его ранняя смерть. Может быть искренне оплакивала его только жена, юная царица Анхесенамон. Ей вспоминались прогулки в дворцовых садах, на лодке по Нилу, охота на диких гусей в зарослях папируса.
В жаркий день фараон садился после прогулки отдохнуть, а царица плела для него венки из голубого лотоса и васильков или приносила сосудик с драгоценными духами, только что привезенными из Азии, и шутливо обрызгивала душистым маслом его плечи, покрытые широким воротником из разноцветных бус.
Для хранения восточных благовоний, которые любила царица, Тутанхамон приказал искуснейшим камнерезам делать сосуды самых причудливых форм из желтовато-белого, чуть просвечивающего алебастра, любимого камня египтян. Алебастр часто встречался в горах недалеко от долины Нила. Сравнительно мягкий, он легко поддавался обработке: его можно было резать, сверлить бронзовыми сверлами, полировать поверхность. Из поколения в поколение, совершенствуя свое искусство, египетские камнерезы создавали сказочно прекрасные изделия. Сосудики для благовоний они вытачивали с таким мастерством и неисчерпаемой фантазией, что юная царица, привыкшая с детства к этим удивительным вещам, поражалась гениальной выдумке и ювелирной работе камнерезов. Она смеялась, как ребенок, когда фараон подарил ей сосудик-игрушку в виде гнезда, где из кучки алебастровых яиц вылезал утенок, сделанный из черного дерева. А однажды вечером Тутанхамон принес каменную лампу в виде цветка лотоса, зажег в ней огонь, и на стенках сосуда проступили тончайшие линии лепестков.
Теперь все это стало ненужным юной царице: для Анхесенамон навсегда угасла радость жизни. Шли спешные приготовления к торжественным похоронам фараона. Пока под наблюдением жрецов делали мумию, в скалах «Долины царей» на западном берегу Нила высекали гробницу, а в царских мастерских срочно готовили множество вещей, необходимых, по верованиям египтян, в загробной жизни. Золотых дел мастера и ювелиры работали над изготовлением нескольких великолепных гробов, которые затем вставят один в другой, и золотой маски, которую наложат на лицо мумии. Но, кроме предметов, сделанных специально для погребения, в царскую гробницу поместят многое из того, чем Тутанхамон пользовался при жизни. Царица велела отнести в гробницу и те чудесные, вырезанные из камня вазы для благовоний и светильники, которые когда-то дарил ей фараон.
Постепенно изгладилась память о безвременно угасшем юноше, никто не вспоминал о гробнице ничем не замечательного фараона.
Прошло более трех тысяч лет.
— Что вы там видите? — раздался нетерпеливый вопрос.
— Вижу удивительные вещи! — ответил задыхающийся от волнения голос. Этот разговор происходил 26 ноября 1922 года между археологом- любителем англичанином лордом Карнарвоном и его помощником американцем Картером.
Лампа в виде цветов лотосаСтатуэтка богини с чертами царицы АнхесенамонПосле нескольких лет раскопок в Египте они почти случайно открыли лестницу, которая вела вниз к входу в гробницу, запечатанному печатью с именем фараона Тутанхамона.
В небольшое отверстие, проделанное в двери, Картер просунул руку с электрическим фонариком и замер, не в силах произнести ни слова от изумления. Из темноты выступили золоченые царские ложа, статуи, сундуки, ларцы…
Невозможно рассказать обо всех изумительных находках в гробнице Тутанхамона. Всему миру стали известны трон, саркофаг из литого золота и золотая маска с юношеского лица. А изделия из камня? Их там было множество, одних алебастровых — семьдесят шесть. От некоторых прекрасных сосудов приходили в восторг даже бывалые археологи, видевшие много замечательных вещей при раскопках в Египте. Те, что нашли в гробнице Тутанхамона, не были похожи ни на что известное ранее. Это было каменное кружево, каменная сказка…
Сосуд «Львенок»Стройный флакончик для благовоний с длинным узким горлом обвит стеблями лотоса и папируса — двух растений, олицетворявших Верхний и Нижний Египет, две части страны (папирус растет в устье Нила, а лотос — в его верхнем течении). Две фигурки бога Хапи[18] поддерживают эти стебли, а позади них взвились священные змеи. Золотом сверкают короны на головах змей и статуэтках бога Хапи.
Когда с другого алебастрового сосуда, цилиндрической формы, сняли крышку в виде лежащего львенка, распространился сильный аромат. Находившееся в нем душистое вещество сохранилось! Весь сосуд был покрыт резным раскрашенным рисунком: в пустыне львы терзали быков, собаки нападали на газелей.
А для чего служила широкогорлая ваза, обрамленная каменным узором из стеблей и цветов лотоса? Рассмотрев эту вазу внимательнее, ученые увидели на ее дне фитилек и даже следы масла. Да ведь это лампа! И, видимо, она горела, когда ее внесли в гробницу. А если попробовать зажечь? И произошло чудо. Прозрачные стенки лампы засветились, и изнутри выступил рисунок: фараон сидит в кресле, а перед ним стоит царица.
В чем же секрет египетских камнерезов? Откуда появился рисунок? Оказывается, одна в другую были плотно вставлены две вазы, и рисунок, вырезанный на внутренней, проступил сквозь прозрачные алебастровые стенки наружной. А само изображение показалось археологам хорошо знакомым. Оно в миниатюре передавало сюжет, выложенный из золота, серебра, фаянса, на спинке трона Тутанхамона: сидящий фараон, а перед ним хрупкая, тоненькая девочка-царица с маленьким сосудиком в руке. Нежным движением она чуть касается плеча супруга, обрызгивая его драгоценными духами.
Одной из самых удивительных вещей был алебастровый ящик, по форме похожий на шкаф. В нем хранились небольшие сосуды с внутренними органами, вынутыми из мумии и залитыми смолистыми веществами. Крышка каждого сосуда представляла собой голову юноши с чертами лица Тутанхамона. Ящик, покрытый золотом, опоясывал снаружи карниз в виде священных змей, а у каждого из четырех углов стояли миниатюрные деревянные золоченые женские фигурки. Как живые, протянули они руки, охватывая ящик, как бы защищая его. Две из них, те, что стояли спиной к входу в погребальный покой, таким естественным движением повернули головы через плечо, будто смотрели на двери, на дерзких пришельцев. Их лица выражали жалость и печаль. Маленькие хрупкие фигурки показались археологам странно знакомыми. Да ведь это четыре раза повторенное лицо юной царицы Анхесенамон! Оно уже не раз встречалось — и на спинке трона, и на стенках ларцов, где был изображен фараон с женой на прогулке и на охоте. Это она охраняет покой любимого, застыв в вечной скорби. И ученым даже стало не по себе, будто они нарушили ее безмолвное горе.
Сосуд-игрушка «Утенок»Так благодаря таланту безыменных мастеров через тысячи лет узнали люди о юном фараоне, его девочке-жене и их коротком счастье.
Рисунки на камнях
В Эгейском море есть остров Наксос. Древние греки обнаружили там залежи некрасивого темно-серого или почти черного минерала, очень хрупкого, который при ударе раскалывался на мелкие, острые кусочки. Если растолочь его, получится порошок из острых, царапающих зернышек. Этот минерал по названию острова в древности именовали «наксиумом», а мы зовем наждаком[19].
Все знают «шкурку» — толстую бумагу со слоем серого царапающего порошка, — которой так хорошо очищать металлические предметы от ржавчины и грязи. Древнегреческие мастера покрывали порошком наждака, смешанного с маслом, поверхность красивого цветного камня, а затем металлическим резцом наносили на нее рисунок. Наждачные зернышки впивались в камень, и под давлением резца медленно и постепенно образовывались углубления. Так возникла глиптика[20] — искусство резьбы по камню.
Резцом с помощью наждачного порошка вырезалось имя владельца, изготовлялась печать. Изображение оттискивалось на воске или глине, так запечатывались письма, ларцы, где хранились ценности, кладовые с запасами. Значение печати было очень велико во времена, когда люди не знали ключей. Но и с появлением ключей в Древней Греции и Древнем Риме продолжали пользоваться печатями. Если же на камне вырезалось изображение бога, камень считался надежным амулетом.
Среди островов Эгейского моря есть остров Самос, на котором в VI веке до нашей эры жили два замечательных мастера Ройк и Феодор — архитекторы, скульпторы, ювелиры и изобретатели. Они отливали статуи из бронзы, изготовляли тончайшие украшения из золота, изобрели станок для резьбы на твердых камнях.
С тех пор уже не нужно было вырезать тонкий и сложный рисунок вручную, как это делалось раньше при помощи ножа и буравчика. Но работа и на станке требовала большого внимания, тщательности, осторожности. Резчик нажимал ногой на педаль, педаль вращала колесо, соединявшееся со стержнем, на котором укреплялся медный резец. Резцов у мастера полный набор в зависимости от того, что он вырезает — тонкие прямые линии или углубления. Перед резчиком — восковая модель. В одной руке — прикрепленный мастикой к деревянной палочке камень, который он осторожно подносит к вращающемуся резцу. Другой рукой мастер все время поливает камень маслом, смешанным с наждачной пылью. Сначала в общих чертах вырезает самые углубленные части, затем, при помощи всего набора резцов, отделывает рисунок, то придавая разные формы углублениям, то вырезая тонкие, как нити, линии. Человек работает почти вслепую — камень покрыт закрывающей рисунок жирной массой. Время от времени ее приходится осторожно счищать и проверять по модели каждую линию. Одно неправильное движение может погубить всю работу. Такие резные камни с углубленным рисунком в более поздние времена стали называть интальями[21].
В XVIII веке любители древности собирали коллекции резных камней, восхищаясь тонкостью работы древнегреческих резчиков, и платили за них большие деньги.
Покупала такие камни и Екатерина II. Она хранила их в своем «пустынном уголке» — маленьком музее, никому не доступном, кроме гостей императрицы. Из этого дворцового собрания вырос впоследствии один из величайших музеев мира — Эрмитаж, название которого и означает в переводе с французского «пустынный уголок», или «место уединения».
В одной коллекции, купленной Екатериной, оказался маленький оранжево-красный камень сердолик. Внимательно рассматривая его, можно различить крошечное изображение странного змея с большой бородой и извивающимся хвостом. Он несет человека с поднятыми вверх руками. Никто не знал, что означает это изображение. Понять его помог попавший в Эрмитаж свиток папируса, на котором древнеегипетский писец записал сказку.
Вот, что в ней рассказывалось.
Сто двадцать смелых моряков плыли на большом корабле из Египта на Восток. Но не суждено было египетскому кораблю достигнуть богатых восточных стран: налетела буря, и он пошел ко дну. Из всех моряков уцелел только один; волны выбросили его на берег незнакомого острова, где раскинулись рощи тенистых деревьев с душистыми плодами, порхали птицы, зрел прозрачный виноград, а у берегов плескалась рыба.
Моряк бродил по острову, удивляясь его богатствам, как вдруг раздался шум, похожий на рокот волн. Закачались деревья, затряслась земля. В ужасе упал египтянин, а когда решился поднять голову, увидел хозяина чудесного острова — громадного змея, ростом в тридцать локтей[22]. Тело его сверкало золотом, а борода и брови были из синего камня лазурита. Однако египтянин испугался напрасно: змей оказался не страшным и не злобным. Он осторожно взял перепуганного человека в огромную пасть и перенес в свое жилище. Там стал расспрашивать о его приключениях и утешил тем, что скоро придет другой египетский корабль и увезет его на родину. Так все и случилось. Через несколько месяцев моряк отплыл от берегов острова, нагрузив корабль подарками необыкновенного хозяина. А остров скрылся под волнами.
Гипсовый оттиск с интальи. «Египтянин в пасти змея»Кольцо «Летящая цапля»Эту сказку знатоки египетской письменности, несмотря на большие трудности, сумели прочесть. А уже в советское время Мария Ивановна Максимова, специалист по древним резным камням, заинтересовалась маленьким сердоликом. Она долго и внимательно рассматривала рисунок на красном камешке: на человеке, которого схватило чудовище — египетский головной убор, а у змея — борода, как у хозяина острова из древней сказки. Поднятые кверху руки человека — это, конечно, жест удивления, испуга. Так было расшифровано изображение на древнегреческом резном камне.
Многие резные камни найдены на территории нашей страны. Больше двух с половиной тысяч лет назад на берегах Черного моря появились греческие купцы, которые увозили хлеб, рыбу, кожи, а в обмен оставляли свои товары: вино, оливковое масло, расписные глиняные вазы, серебряные чаши для пиров, браслеты, ожерелья, перстни. Многие из этих вещей клали в могилы вместе с умершими. В одном из таких захоронений нашли золотое кольцо с большим бледно-голубым камнем[23]. Этот твердый, полупрозрачный, чудесного оттенка халцедон, напоминающий по цвету редкий драгоценный камень сапфир, называют халцедоном-сапфирином. С V века до нашей эры такие камни стали привозить в Грецию из Малой Азии.
На камне тончайшими врезанными линиями изображена летящая цапля. Голова на длинной тонкой шее вытянута вперед, крылья развернуты в широком взмахе. Чувствуется легкость и стремительность полета. А под изображением мелкими, но четкими буквами надпись: «Дексамен хиосец сделал». Так дошло до нас имя замечательного греческого мастера, жившего около двух с половиной тысяч лет назад на острове Хиос.
Красота рисунка, вырезанного на камне, не бросается сразу в глаза, как красота картины или статуи. Надо внимательно всмотреться, и тогда становятся понятными изумительная тонкость работы, мельчайшие подробности, нанесенные легкими, чуть заметными штрихами, изящество формы, умение согласовать рисунок с круглой или овальной поверхностью. Резчики иногда изображали те статуи или сюжеты картин, которые славились в их время, но давно погибли и известны нам только по восторженным описаниям древних путешественников.
Лежат в развалинах храмы античной Греции, погибла почти вся живопись и множество статуй, а маленькие камешки живут, и в чудесных созданиях греческих резчиков воскресает ушедший мир прекрасного.
Сокровища Востока
История знает много трудных походов и славных побед. Но все они бледнеют перед походами и завоеваниями Александра Македонского. Александр, юноша, которому был всего двадцать один год, завоевал всю Грецию, а год спустя начал неслыханную по дерзости войну с Персией, исконным могущественным врагом греков. С маленьким войском он переправился через Геллеспонт[24] и в первом же сражении одержал победу. А дальше — стремительный поход через Малую Азию, междуречье Тигра и Евфрата в самое сердце персидской державы. Казалось, сама крылатая богиня победы Ника неслась впереди войска Александра. После труднейшего похода через пески пустынь у его ног лежал Египет, и жрецы бога солнца Амона признали победителя, как некогда египетских фараонов, сыном бога. Он основывал в покоренных странах города, носившие его имя и самым богатым и прекрасным из них была Александрия Египетская.
Слава влекла молодого полководца все дальше и дальше. Он мечтал стать повелителем мировой державы. Поступь его тяжеловооруженных воинов, топот и ржание коней уже оглашали цветущую долину Инда. Казалось, еще немного, и сказочная страна Индия падет к ногам победителя. Однако, измученные бесконечной войной, почти десять лет не видевшие родины, воины возмутились. Войска отказались идти дальше, и Александр вынужден был остановиться.
А через несколько месяцев болезнь сломила надорванный беспрерывным напряжением организм. В жаркий летний день плачущие ветераны в молчании проходили мимо ложа умиравшего в древнем Вавилоне тридцатидвухлетнего героя. После его смерти огромная держава распалась на несколько частей. Царями в этих новых государствах стали полководцы Александра.
Эллины[25] внесли новую, свежую струю в древние культуры Египта, Вавилонии, Персии. Поэтому и называют это время эпохой эллинизма. Одним из самых крупных центров нового мира стала египетская Александрия. Много искусных мастеров работало здесь.
Сказочной роскошью, непривычной для греков, отличалась жизнь при дворе Птолемеев, потомков первого Птолемея — полководца Александра.
Греческая культура причудливо переплеталась с восточной.
Несметные богатства — золото, серебро из сокровищниц персидских царей, драгоценные камни Индии — потоком текли в Александрию. Лиловые аметисты, алые гиацинты, вишневые гранаты, золотистые топазы, аквамарины цвета морской волны — всех этих камней не знали древнегреческие резчики. Был привезен из Индии и самый твердый камень — алмаз. Знакомство с его свойствами подсказало мастерам глиптики, что, превращенный в мельчайший порошок, он будет обрабатывать камни быстрее и лучше, чем наждак, что острой алмазной иглой можно наносить рисунок на самых твердых породах.
Совершенно новые возможности открыло для резчиков знакомство с удивительным индийским камнем сардониксом, в котором чередуются слои двух пород — темно-коричневого сардера и молочно-белого, чуть с голубизной, оникса.
При дворе Птолемеев возродилось древнее искусство глиптики. Там стали изготовлять камеи. Выпуклый рисунок выступает в них над фоном. Мастер сперва вчерне вырезал рельефное изображение, углубляя его до фона, а затем уже обрабатывал все детали. Для такой, еще более сложной, чем интальи, резьбы, использовали многослойный камень сардоникс, на котором изображение получали одного цвета, а фон другого.
Камеи, не имея никакого практического назначения, были предметами роскоши.
Жители Александрии привыкли видеть во время торжеств рядом с царем Птолемеем II его жену Арсиною. Говорили, что царица — и это было необычным для греческих женщин, — принимает участие в решении всех важных государственных дел, и царь не начинает войны и не заключает мира без ее советов.
Необычный заказ получил придворный резчик: на огромном сардониксе[26] приказали вырезать двойной портрет — профили царя и царицы. Оба должны быть увенчаны лавровыми венками, как боги, а царя к тому же надо было изобразить в панцире и шлеме.
На камне такой величины мастеру еще не приходилось резать.
Сардоникс сложный и капризный материал. Слои сардера и оникса располагаются не параллельно. Они образуют неожиданные утолщения, извивы, на коричневый слой заходят белые пятна и наоборот. От фантазии и художественного чутья мастера зависит, как использовать эти извивы и пятна, как включить их в рисунок. Ошибешься, неправильно рассчитаешь толщину слоя или его прихотливый изгиб — и можешь погубить всю работу. Тем более, что резать приходится вслепую — под слоем масла и алмазной пыли легко упустить какую-нибудь неожиданность в строении камня.
Сначала резчик наметил контуры рисунка, затем стал освобождать их от прилегающих слоев, вглядываясь во все их изменения. Оказалось, что белый слой, оникс, неоднороден: ближе к поверхности белоснежный, даже голубоватый, глубже — темный, с проступающим белым пятном.
Камея ГонзагаМастер долго внимательно смотрел на камень и думал. Ну что ж, может получиться неплохо: лица царя и царицы не совсем одинакового цвета, зато они будут лучше отделяться одно от другого. А белое пятно станет кончиком покрывала на шее царицы.
Но как быть со светлым пятном на верхнем слое, коричневом сардере. Как раз на том месте должна находиться эгида — чешуйчатый панцирь на груди царя. И опять раздумье, опять полет фантазии: ведь царь — это бог, а на эгиде божества древнегреческие мастера изображали Горгону — женщину-чудовище со змеями вместо волос. Вот и решение задачи — превратить светлое пятно в голову Горгоны. А второе? И снова творческие поиски… Так создавалась камея. Долго ли работал над ней мастер, мы не знаем. И как звали мастера, тоже неизвестно.
Прошли тысячелетия, а камея все так же поражает своей красотой. На коричневом фоне выступают два профиля молочно-голубоватого цвета: более выпукло, рельефно — мужской, а более плоско, как будто немного позади, в глубине — женский. Головы обвиты лавровыми венками. Чуть курчавятся тонкие пряди волос. Четко вырисовываются линии лба, носа — с легкой горбинкой у царя и идеально правильной формы у царицы; мягко очерчены сомкнутые губы и подбородок — у Птолемея слегка выдающийся, у Арсинои — более округлый. Переливами шоколадно-коричневого цвета играют чешуйки царского панциря. А среди чешуек выступают более светлыми пятнами изображения голов: женской — Горгоны — и мужской — гения ужаса Фобоса.
Когда, кем и куда была вывезена камея из Египта — неизвестно.
В XVI веке она оказалась в коллекции итальянских герцогов Гонзага и отсюда получила свое название «Камея Гонзага». Она еще несколько раз переходила из рук в руки, была увезена из Италии Наполеоном, а в 1814 году его женой Жозефиной была подарена Александру I, который приказал хранить камею в Эрмитаже.
Вечная живопись
Разве может живопись быть вечной? Тускнеют краски, темнеет лак, трескается деревянная доска, на которой писали картины в старину, не вечен и холст, употребляемый художниками теперь. О картинах, созданных тысячелетия назад, мы иногда узнаем только по описаниям современников. Но есть материал, не боящийся времени. Он может существовать десятки веков.
Люди носили на себе камни как украшения и амулеты, вытачивали из них сосуды, резали на них печати, а из красивых разноцветных камешков выкладывали узоры и украшали ими полы и стены, казавшиеся покрытыми пестрыми коврами. Сначала это была необработанная речная и морская галька, обточенная волной, подобная той, которая когда-то привлекла внимание первобытного охотника. С этого и началось искусство мозаики. Мозаичный пол был сделан в V веке до нашей эры в храме, посвященном богу Зевсу, в древнегреческом городе спорта — Олимпии.
Но из камешков неправильной формы трудно выложить сложный рисунок. Они неплотно прилегают один к другому и не создают впечатления сплошного ковра; поэтому позднее — в последние века до нашей эры — александрийские мозаичисты стали распиливать камень на правильные кубики и подбирать их ровными рядами. Однако из квадратиков можно выложить только прямолинейный геометрический рисунок. Чтобы создать сложное по очертаниям изображение человека, животного, птицы или растения, мастера стали выпиливать из камня кусочки разных размеров и форм: то крупные, то мелкие, то прямоугольные, то закругленные, в зависимости от задуманного рисунка. Они, точно мазки кисти художника, обрисовывали контуры, передавали оперение, шерсть, пряди волос, зрачок глаза, изгиб рта…
Начав с черного и белого мрамора, мастера все больше увлекались подбором многоцветных пород камня. В мозаичных картинах засверкал мрамор разных цветов, ярко-синий лазурит, красноватый и лиловатый порфир, полупрозрачные белые, серые, желтые, коричневые агаты. В поисках богатства цветов и оттенков мозаичисты стали использовать стекло-смальту.
В I веке до нашей эры царство Птолемеев завоевали римляне. В Риме оказались многие александрийские мозаичисты, они-то и научили римлян своему искусству, которое получило развитие в Италии в эпоху Возрождения.
«Вечная живопись — это мозаика», — говорил флорентийский художник XV века Доменико Гирландайо. Он расписал стены многих зданий своего родного города, но находил, что только мозаика дает свежесть, яркость, неувядаемость красок. В сравнении с ними краски палитры живописца стали казаться ему серыми и блеклыми. В конце жизни Гирландайо принялся за большую мозаичную картину, которую не успел окончить.
Флоренции суждено было стать родиной особого вида техники, той, которая известна под названием «флорентийской мозаики». Мастера распиливали камень маленькими пилками на тонкие пластинки, иногда большие, иногда совсем маленькие, и выкладывали из них рисунок. Пластинки подбирали по цвету и оттенкам, благодаря чему так же, как красками, передавали игру света и тени. Цветы и плоды казались объемными, на листьях из зеленых яшм разного тона то играли солнечные лучи, то лежала густая тень.
Столешница «Морское дно»Мозаичист должен был почувствовать, как можно использовать в «картине» каждый камень, не только его природный цвет, но и неожиданные, иногда причудливые пятна, прожилки, включения других минералов.
В необработанном камне не сразу можно разгадать все его возможности: поверхность выглядит тусклой, темной и некрасивой и только после полировки, точно сбрызнутая водой, начинает сиять яркими красками. Поэтому мастер вначале смачивает поверхность камня и лишь тогда видит рисунок, заложенный в него природой. Флорентийская мозаика стала подлинной каменной живописью.
Посетитель Эрмитажа, переходя из зала в зал, не раз с восхищением остановится перед удивительными столиками: их столешницы, выполненные в технике флорентийской мозаики, — настоящие картины — фрукты, цветы, бабочки, птицы, выложенные из каменных пластинок разных оттенков, заставляют поражаться мастерству и художественному вкусу их создателей.
Столик «Птица на ветке»В Италии около двухсот лет назад был сделан столик «Морское дно». Фон столешницы густо-синий, как цвет южного моря в яркий солнечный день. Едва различимы границы плотно пригнанных друг к другу пластинок редкого восточного камня лазурита. На этом ослепительном фоне вьется гирлянда из белых, серых, желтых, коричневатых, пестрых морских раковин, перевитых нитью жемчуга. Раковины сделаны из яшм разных оттенков, а жемчужины — из небольших круглых пластинок перламутра. Кое-где изгибаются ярко-красные веточки кораллов.
В технике «флорентийской мозаики» работали и русские мастера. На Петергофской гранильной фабрике[27] в первой половине XIX века работал Иван Васильевич Соколов. Особенно интересовала его «вечная живопись». Мастер видел, что мозаики, сделанные в России, получаются хуже по качеству, проще по рисунку, чем итальянские. С радостью узнал Соколов, что его посылают во Флоренцию. Там он пробыл три года, изучал технику итальянских мозаичистов, привез множество образцов их работ. Трудясь упорно и с большим увлечением, И. В. Соколов создал одно из чудеснейших своих произведений — столик с птицей. На фоне из черного мрамора изображены яркая пестрая птичка на ветке и свешивающаяся кисть винограда. Бледно-зеленые ягоды из оникса кажутся почти прозрачными. По краю столешницы — венок из ярко-синих цветов. Его листья как будто озарены солнечными лучами, тени загнувшихся краев совсем темные, а освещенные места светло-зеленые. Тонкими ниточками изгибаются прожилки. Неразличимы отдельные каменные пластинки, кажется, что столик расписан кистью живописца.
На выставке в Лондоне
Шел 1851 год. Иван Васильевич Соколов снова собирался в далекий путь: его столик с птицей на ветке посылали на Международную выставку в Лондон как образец русского искусства обработки цветного камня. Для этой же цели с далекого Алтая должны были доставить в Петербург несколько ваз работы алтайских камнерезов[28]. В сопровождении одного из мастеров их везли уже много месяцев; сперва лошадьми, затем на барже, которую против течения тащили бурлаки по рекам Чусовой, Каме, Волге. Из столицы тщательно упакованные в огромные ящики вазы и столик морским путем отправили в Англию.
В лондонской гостинице вечером накануне открытия выставки сидели Соколов и алтайский мастер. Они только что вернулись из зала, где находились их изделия: две вазы из алтайской «зелено-волнистой» яшмы и одна из гладкого порфира серо-фиолетового тона, украшенная по верхнему краю тончайшей резьбой в виде листьев. Теперь, когда вазы уже стояли на выставке, даже не верилось, что столько труда и времени было потрачено на них: сперва на добычу камня и доставку его на шлифовальную фабрику, а затем на долгую кропотливую работу.
Сначала глыбе камня придали вчерне форму ленточными и дисковыми пилами. Лишний материал постепенно снимали, обрабатывая все профили вазы. Затем миниатюрными дисковыми пилками с алмазным порошком выпиливали рельефные украшения; наконец, поверхность ваз шлифовали и полировали терками со все более мелким наждаком.
— Нелегко дается человеку камень, — сказал колыванский мастер Соколову, прихлебывая чай с сахаром вприкуску. — Знаешь ли ты, откуда камень порфир берем, из которого ваза с листьями сделана? С берегов реки Коргон, что в ста пятидесяти верстах от нашего колыванского завода. До каменоломни с трудом верхом на лошади доберешься. Горы к реке спускаются крутыми уступами, а через реку, вместо моста, толстые лиственницы с берега на берег переброшены. Самый красивый лиловый порфир гребнем ущелье пересекает. Летом его добывают, спускают к реке, а зимой везут по льду.
— Как же его спускают, если берега такие крутые?
— А вот, что наши работники придумали: срубят побольше лиственницу, сучья наполовину уберут, привяжут за вершину к каменной глыбе и спускают с горы. Дерево сползает медленно, за все выступы цепляется, не дает камню быстро катиться.
— А ваша яшма зеленая как хороша! — сказал Соколов. — Чудеса создает природа. Точно волны по ней разбегаются, точно море волнуется. Жаль, что на выставке нельзя показать вашу чашу весом в тысячу двести пудов, которую в Петербург лет восемь назад привезли. Наверно, во всем мире такой нет. Правда ли, что при перевозке сто двадцать лошадей запрягали?
— Где — сто двадцать, а где дорога потруднее — и более, до ста шестидесяти, — отозвался алтайский мастер. — Да, эта чаша тоже народу много трудов стоила. У нас ведь как большая работа случится, не только фабричные заняты, а со всех окрестных деревень крестьян сгоняют.
Ну, так вот, как нашли эту громадную глыбу у горы Ревнюхи, полгода ее сначала на месте обрабатывали, форму придавали, а потом дорогу в пихтовом лесу прорубили и два месяца тащили до завода сорок пять верст. Тысяча человек понадобилась. Четырнадцать лет мы на заводе над чашей работали, а потом в Петербург привезли. Одна полировка сколько времени заняла. Камень-то твердый, сам знаешь. Помнишь ее, небось? Как зеркало сияет! И внутри такая же, хоть никто туда не заглянет, больно высока.
Ваза из порфираКолыванская вазаОн помолчал немного, допил чай и сказал:
— Любовался я твоей птицей. Куда как хороша. Будто живая. Во всем мире теперь наш русский камень и наши работы прославятся.
Алтайский мастер усмехнулся какому-то воспоминанию.
— А знаешь, что у нас в Колывани рассказывают? Возили, вот как мы с тобой сюда в Англию, одну нашу вазу во Францию в подарок Наполеону от царя Александра Павловича. Приехал с ней наш мастер Протопопов. Нарядили его во французский фрак, а ему непривычно, медведь-медведем. Вот Наполеон смотрит на вазу, в восторг приходит, а потом и спрашивает: «Кто такую вазу делал?» К нему Протопопова подводят. А Наполеон взглянул на него и говорит: «Неужели этот медведь такую красоту мог сделать?» Оба мастера посмеялись, потом колыванец задумался и с оттенком грусти произнес:
— Да, Протопопова имя случайно запомнили, потому что с ним такое смешное дело приключилось. А вообще-то, работы наши века проживут, а наших имен никто и не вспомнит. Мы — работные люди, подневольные, сызмальства над камнем трудимся, как отцы и деды трудились. Любим свое дело не ради почестей, а все же жалко, что о нас и знать ничего не будут.
По залам выставки прохаживалась чопорная, разодетая публика. Русские мастера посматривали на свои изделия, стараясь уловить то впечатление, которое они производили. Посетители группами останавливались перед вазами, любовались красотой и отделкой камня, стройностью, изяществом форм. В лорнеты рассматривали рисунок мозаики, одобрительно покачивали головами, оценивая тонкость работы. Слышались восторженные восклицания.
А когда было прочитано решение жюри, присудившего премии русским каменным изделиям, всеобщее внимание обратили на себя не совсем обычные слова: «Мы не думаем, чтобы столь трудные и так хорошо отделанные произведения были когда-либо исполнены со времен греков и римлян»[29].
Лазурный камень
Чудесные дары приносит природа человеку, но не всегда легко даются они ему в руки: прежде, чем создать из камня художественное изделие, люди тратили много энергии, а иногда прилагали героические усилия, чтобы найти и добыть ценную породу, скрытую в далеких и, казалось бы, совсем недоступных местах.
Так было с алтайским лиловым порфиром, так было и с чудесным синим лазуритом. Он бывает то однотонным, то усеянным белыми, а иногда золотистыми пятнышками, образующими причудливый узор, и тогда он кажется похожим на ночное звездное небо. Лазурит был известен еще древним египтянам. Они везли его долгим трудным путем через аравийские пустыни с далекого Востока, где в горах издавна добывается этот чудесный камень. У египтян он считался священным: из него делали амулеты, маленькие фигурки богини правды Маат, изображения священного жука — скарабея. Им украшали самые ценные золотые изделия.
Малодоступным, редким и чрезвычайно дорогим был этот камень во все времена. Итальянские мастера XV—XVI веков использовали его в небольших ювелирных изделиях, при отделке мебели и для вставок в мозаичные наборы.
К XVIII веку в России уже были открыты месторождения многих цветных камней на Урале, Алтае, в Сибири, но лазурита среди них не было. Когда в начале 1780-х годов он потребовался Екатерине II для отделки одного из залов ее дворца в Царском Селе[30], царица распорядилась купить редкий синий камень за огромные деньги в Афганистане. Но в это время из далекой Сибири, из Забайкалья, в Академию наук пришло письмо: лазурный камень найден в России!
Эрика Лаксмана считали чудаком. По мнению его почтенных рассудительных знакомых, и петербургских и сибирских, он всю жизнь совершал нелепые поступки. Молодой финн, получивший духовное образование, сделался пастором и мог бы спокойно и безбедно жить в Петербурге. Однако он мало думал о церковных делах, а больше занимался коллекционированием растений. Его гербариями заинтересовались в Академии наук, но и научная карьера, видимо, не прельстила Эрика.
В двадцать семь лет, женившись, он бросил Петербург и отправился с молодой женой в далекий алтайский город Барнаул, там нужен был пастор: на горных заводах и рудниках работало много немцев. То верхом, то на лодке беспрерывно странствовал Лаксман по Алтаю. Полный неукротимой энергии, он меньше всего интересовался обязанностями священника. Зато какие новые, редкие растения пополнили гербарий Лаксмана, какой интересный питомник он устроил около своего дома в Барнауле! Путешествуя по Сибири, Лаксман увлекается метеорологией, делает барометры и термометры, изучает горное дело. И тут зарождается его настоящее страстное увлечение: «Я до безумия, до мученичества влюблен в камни», — скажет он впоследствии.
Проходят годы. Снова Петербург. Академия наук, научная работа, переписка с крупными европейскими учеными. Но кабинетные занятия не прельщают Лаксмана. Он дышит свободно только на просторах Сибири. И снова — «славное море» Байкал, и Иркутск — крупный по тому времени город, который со своими двадцатью тысячами жителей, несколькими училищами, кабинетом редкостей и даже театром, слыл «сибирским Петербургом». В Иркутске Эрик увлекается устройством оранжерей, где растет не только не известный в Сибири картофель, но даже персики. Однако чаще он странствует вдоль берегов Байкала и могучей Ангары, в тех местах, где не ступала нога исследователя. Лаксман добирается до горных цепей, более красивых и величественных, чем Альпы, Кавказ и Кордильеры. Непроходимые леса, бесчисленные потоки с водопадами, дикие скалы, поросшие мхом, издали похожие на развалины древних замков. Что же ищет здесь неутомимый путешественник?
Недавно в Иркутске пришел к Лаксману смелый охотник, мастер Лапшин, и показал кусок сине-голубого камня, более светлого, чем знаменитый афганский лазурит. И все же это был он! Ничем другим, никакой другой породой этот камень быть не мог. Но точного места охотник не запомнил.
И снова — на лодке по бурным волнам озера, верхом, пешком, а кое-где и ползком по скалам. Наконец, в долине бурной реки Слюдянки, с грохотом несущей огромные камни, клад открылся упорному искателю: среди белых мраморных утесов притаились каменные глыбы то густого синего цвета, то светло-голубого, то с фиолетовым оттенком.
Посланные Лаксманом образцы сибирского камня привели в восторг царицу и ее двор. Срочно отправленный курьер повез Лаксману деньги, а губернскому начальству — приказ помочь в дальнейших поисках. Потянулся с далеких берегов Байкала в Петербург обоз с синими камнями. Нежно-голубой сибирский лазурит украсил один из залов царскосельского дворца.
Прошли годы. Лаксман умер. Добыча камня на Слюдянке прекратилась. Самое место стали постепенно забывать. И хотя многие пытались снова найти синий камень Забайкалья, он никому не хотел даваться в руки.
И вот, в том самом 1851 году, когда русские мастера везли каменные вазы и мозаичный столик на Лондонскую выставку, пустился в далекий путь, в Забайкалье, новый смелый искатель Григорий Пермикин. Красота камня влекла его с детства. Молодой, энергичный, он с увлечением взялся за порученные поиски цветных камней в Сибири. Путь его лежал на ту же Слюдянку, где когда-то энтузиаст и чудак Эрик Лаксман с опасностью для жизни искал небесный камень среди скалистых обрывов. Пермикину пришлось повторить подвиг Лаксмана. Однако он уже не искал вслепую, зная, что высокие температуры, возникавшие в глубоких слоях земли под влиянием вулканических процессов, придали синий цвет породам известняка и мрамора. Значит, где-то поблизости от мраморных скал и должен залегать лазоревый камень.
Ваза из лазуритаТак же с грохотом и шумом несла свои воды своенравная Слюдянка, так же в поисках ценной породы приходилось часами карабкаться по почти отвесным скалам. Наконец, на реках Слюдянке и Малой Быстрой был снова найден голубой лазурит Забайкалья. Тонны чудесного камня отправил Пермикин в Петербург.
Однако русских царей уже не удовлетворяла миниатюрность вещиц из этого редкого синего камня — хотелось украсить дворцовые залы огромными синими вазами, но такие крупные глыбы лазурита редки, да и слишком дороги. И вот то, что не дала природа, восполнило мастерство русских умельцев.
Распиливать камни на тонкие пластинки и покрывать ими плоскую поверхность умели уже в древние времена. Уральские камнерезы научились оклеивать пластинками лазурита округлую поверхность предметов, сделанных из мрамора или другого материала. Этот способ назвали русской наборной мозаикой. Вазы уральских умельцев ничем не отличались от изделий, высеченных из целого куска. «Русские мастера перехитрили природу», — сказал исследователь истории камня А. Е. Ферсман.
В 1852 году в Петербурге заканчивалось строительство нового здания для «Публичного музеума». Богатые коллекции живописи, скульптуры, монет, медалей, перстней, печатей, приобретенные почти за сто лет со времени царствования Екатерины II, требовали новых помещений. «Новый Эрмитаж» с его великолепным подъездом со стороны Миллионной улицы[31], украшенным огромными гранитными фигурами атлантов, отделывался со всей пышностью, необходимой для залов, которые служили продолжением царского дворца и ожидали первых посетителей — столичную знать. Цветной камень — вот, что должно в первую очередь украсить помещения, где будут висеть полотна великих мастеров европейской живописи.
За несколько лет до окончания строительства «Музеума» и его торжественного открытия в Петербург приехал с далекого Урала мастер Гаврило Налимов[32]. Он привез огромную вазу, над которой шесть лет работали под его руководством несколько мастеров. Был отобран «камень лучших цветов». Ослепительно сияющая при ярком дневном свете, при вечернем — темная, как ночное небо, ваза казалась монолитной, высеченной из одной колоссальной глыбы. И только пристально вглядываясь, можно было различить чуть заметные швы между пластинками знаменитого афганского лазурита, так точно пригнанными, что тончайшие прожилки узора камня переходили одна в другую.
В зале итальянской живописи в Эрмитаже гордо высятся две огромные вазы: та, которую привез Гаврило Налимов в Петербург в 1845 году, и другая, парная, сделанная семью годами позже. Густо-синий камень, цветом напоминающий бездонную синеву вечернего неба с россыпью звезд, кажется еще ярче от соседства с масками из золоченой бронзы, как будто вырастающими из стенок вазы и переходящими в пышные завитки ручек. С изумлением останавливаются перед вазами посетители, но не многие знают, что перед ними не громадные монолиты синего камня, а удивительная по тонкости и мастерству работа замечательного русского мозаичиста. На ножке скромно, маленькими буквами вырезана надпись «мастер Г. Налимов».
Зеленая палата
— Слышала я, будто в царском дворце есть палата, малахитом тятиной добычи отделанная, — говорит Танюша, одна из героинь «Малахитовой шкатулки» П. П. Бажова.
— Вот если ты в этой палате царицу мне покажешь, тогда выйду за тебя замуж, — обещает она влюбившемуся в нее заводчику. А дальше все читавшие «Малахитовую шкатулку» помнят, как дочь уральского мастера приехала в Петербург, попала во дворец, нашла зеленую палату, «прислонилась к стенке малахитовой и растаяла»[33].
В 1838 году в Зимнем дворце кипела работа. Восстанавливались парадные залы после сильнейшего пожара, уничтожившего в декабре 1837 года почти все здание.
Царь Николай I поручил известным архитекторам Василию Петровичу Стасову и Александру Павловичу Брюллову восстановить дворец в его прежнем виде в кратчайший срок.
В натопленных для просушки комнатах работали, изнемогая от жары и усталости, лепщики, паркетчики, позолотчики. Многие залы архитекторам приходилось создавать заново.
В большой гостиной, выходящей окнами на Неву, во время пожара рассыпались на куски колонны, пилястры и камины из серо-фиолетовой яшмы. Брюллов задумал заменить яшму совсем новым материалом. Уже тысячи лет назад древние жители Урала, добывая медную руду, заметили узорчатый зеленый минерал — малахит. Он образовался в незапамятные времена в верхних слоях руды, через которые проходила вода, насыщенная углекислотой и создавшая причудливые узоры. Красоту малахита знали давно и делали из него мелкие украшения. Но отделать малахитом целый зал — такого еще нигде и никогда не бывало.
Малахитовый залНезадолго до пожара Зимнего дворца в Меднорудянске близ Нижнего Тагила, принадлежавшем богатым уральским заводчикам Демидовым, нашли огромные залежи малахита разных оттенков — от темно-зеленого до голубоватого. Оттуда на отделку нового зала повезли больше двух тонн камня.
Удивителен камень малахит и талантливы мастера, сумевшие почувствовать его красоту и показать ее людям. Иногда прожилки в бледно-зеленом голубоватом малахите образуют «кудрявистый» узор, иногда поверхность его играет темными густо-зелеными переливами. «Камень, а на глаз как шелк, хоть рукой погладить», — говорили уральцы.
В зале, который уже получил название «Малахитового», работа в полном разгаре. Тридцать лучших мастеров распиленным на тонкие пластинки камнем оклеивали восемь медных колонн, столько же пилястр[34] и два камина. По мере того как пластинка примыкала к пластинке, извилистые прожилки сливались в задуманный мастером рисунок: колонна казалась покрытой травой, волнующейся при порыве ветра. Местами узор прерывался и разнообразился «глазками» — большими и маленькими кольцами, похожими на круги, расходящиеся от брошенного в воду камня. В самой природе подсматривали мастера эти узоры.
«Я из окошечка на ту вон полянку гляжу. Она мне цвет и узор кажет. Под солнышком одно видишь, под дождиком другое. Весной так, летом иначе, осенью по-своему, а все красота», — так рассказывает о своей работе уральский малахитчик Евлампий в одном из сказов П. Бажова.
«Зеленая палата» оделась в фантастический убор. Колонны, пилястры, камины кажутся высеченными из огромных глыб чудесного, переливающегося разными оттенками камня. Верхушки колонн в виде пышных пучков листьев, узоры потолка, двери ослепительно сверкают позолотой, оттеняющей изумрудно-зеленые тона малахита. Поверхность колонн покрыта причудливым рисунком, точно платье сказочной хозяйки Медной горы: «То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает, потом опять шелком зеленым отливает».
Памятником удивительного мастерства русских мозаичистов стал Малахитовый зал Зимнего дворца.
Радуга в камне
В давние времена многие люди считали, что самоцветы наделены чудодейственной силой. Особенно много волшебных свойств приписывалось самому прозрачному, самому сверкающему камню — алмазу.
Бургундский герцог Карл Смелый, живший в XV столетии, вделав крупный алмаз в свой шлем, считал, что теперь может не бояться смерти на войне. Но алмаз не помог, герцог был убит, а камень из его шлема вынул вражеский солдат и продал за бесценок.
Камни зачаровывали своим блеском, прозрачностью, чистотой цвета. Чтобы овладеть ими, люди шли на преступление. Особенно много таких историй связано с алмазами.
Месторождений этого удивительного камня не так уж много, и там, где удавалось его обнаружить, начиналась «алмазная лихорадка»[35]. Так случилось в Южной Африке.
В 1867 году охотник Джон О’Рейли проезжал через поселок голландских колонистов на берегу реки Вааль. Он остановился в доме фермера Никерка. Пока хозяйка хлопотала с ужином, О’Рейли отдыхал у огня и от нечего делать смотрел, как ребятишки фермера играют камешками на земляном полу хижины. Потом стал вглядываться внимательнее: один камешек показался ему уж очень красивым, блестящим, прозрачным, чистым, как вода. Он подошел к детям, поднял камешек с земли, рассмотрел при свете очага, повертел в руках.
— Послушай, хозяин, — обратился он к подошедшему фермеру. — Да ведь твои дети, кажется, нашли алмаз.
— Этот-то, что у тебя в руке? Придумаешь тоже! — рассмеялся фермер. — Да у нас на берегу таких камней сколько хочешь. Пожалуйста, бери себе, если он тебе так нравится.
— Ладно, возьму. Ну, а если это действительно алмаз?
Хозяин пренебрежительно отмахнулся.
О’Рейли завернул камень в клочок бумаги и положил в карман.
— Если все же алмаз, обещаю тебе половину того, что за него выручу.
Предположение охотника подтвердилось, он продал камень за большие деньги и честно выплатил обещанную половину фермеру. Тогда Никерк вспомнил, что видел такой же камень, но гораздо крупнее, у чернокожего знахаря и разыскал его. Это оказался алмаз весом в 83,5 карата[36].
Началась «алмазная лихорадка». Через южноафриканские степи потянулись тяжелые фургоны, запряженные волами. В них ехали целые семьи переселенцев. При слиянии рек Оранжевой и Вааль раскинулись сотни палаток. Появились лавки, гостиницы, кабачки. Тысячи людей рылись в кучах камешков, выброшенных волнами. По рекам сновали лодки. Ночью горели костры, озаряя фантастическим светом странный город, куда можно было приехать бедняком, а уехать богатым. Заманчивая перспектива кружила людям головы.
Около самого крупного месторождения алмазов вырос большой город Кимберли. Здесь камни добывались уже не из россыпей. Из глубоких пластов земной коры выходили на поверхность как бы гигантские трубки, заполненные породой, которая по имени города получила название кимберлита. Она-то и содержала алмазы, образовавшиеся в эпоху молодости нашей планеты в ее недрах от взрывов чудовищной силы. Такие месторождения алмазов называются коренными.
В окрестностях Кимберли появилось много шахт, приносивших сказочные доходы владельцам. И сейчас, в XX веке, там добывают алмазы.
Порода доставляется на поверхность земли подъемниками. При первой сортировке на конвейере отделяют куски породы, содержащей алмазы, отсюда она поступает в гигантские промывочные цеха, а затем снова сортируется на качающемся наклонном железном столе, смазанном жиром, к которому прилипают алмазы. Остальную породу уносит вода. Затем алмазы промывают в горячей ванне и, наконец, в кислотах и щелочах. После всех операций, даже при современной технике, из ста тысяч тонн породы удается получить около пяти килограммов алмазов. Природа придала алмазу геометрическую форму кристалла — многогранника. Но эта форма не всегда идеально правильна, граней может быть больше или меньше, их ребра и углы часто стерты, сглажены временем или водой, и кристалл иногда выглядит бесформенным, сероватым.
Задача человека — усовершенствовать первоначально созданное самой природой, придать камню четкую форму многогранника, иногда увеличить число граней, а самое главное расположить их так, чтобы усилить блеск, радужные переливы света. Повернешь такой камень в руке, ударит в него луч и точно огоньки зажгутся: красные, желтые, голубоватые, зеленые… В чем же тут дело? Почему из бесцветного кристалла как будто брызжут разноцветные искры?
Это удивительное свойство кристаллов прозрачного камня-самоцвета основано на физическом явлении: луч света, попадая на гладкую прозрачную поверхность воды, стекла, камня, частично отражается от нее, частично проникает внутрь и преломляется. Так, преломляясь и отражаясь от всех граней, он выходит наружу, и мы видим: алмаз сверкает.
В XVII веке великий английский физик Исаак Ньютон открыл удивительный закон дисперсии — разложения луча белого света на семь основных цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. На этом законе и основана «игра» ограненного камня.
В алмазе особенно сильно явление дисперсии. Бесцветный камень горный хрусталь чистотой и прозрачностью не уступает алмазу, но не имеет его «игры», так как различные тела по-разному преломляют лучи света. У горного хрусталя и у алмаза, как говорят, разные «показатели преломления».
Огранка «розой» и «бриллиантом»Огранка камня — целая наука. При помощи несложного станка, главную часть которого составляет вращающийся чугунный диск, натертый алмазным порошком, мастер придает камню разнообразные формы огранки. Самые известные из них — роза и бриллиант. «Роза» напоминает бутон цветка. От плоского основания поднимаются двадцать четыре грани, сходящиеся вверху в одну точку. При огранке «бриллиантом»[37] граней гораздо больше — до шестидесяти четырех — и по расположению они напоминают две сложенные основаниями пирамиды со срезанными вершинами. Благодаря этому алмаз сияет бесчисленными разноцветными огоньками.
При дворе Елизаветы Петровны — любительницы нарядов, балов, шумных веселых охот — все украшалось с безудержной роскошью драгоценными камнями. Пришла царице фантазия устроить выезд на охоту в Красное Село — и придворные начинают готовить специально для этой поездки костюмы, расшитые самоцветами. Затевается большой бал — и знатные дамы Петербурга с ума сходят, стараясь перещеголять друг друга в богатстве и оригинальности украшений.
Е. П. Позье. Букет из драгоценных камнейНе было отбоя от заказов ювелиру Позье, швейцарцу, еще в юности переселившемуся в Россию. Он только что отвез Елизавете на выбор два букета из драгоценных камней. Недавно появилась такая мода — носить их на поясе бального платья. Позье думал, что императрица выберет изящную веточку лилий из алмазов и жемчуга, но ей больше понравился букет из крупных камней разных пород и цвета. Здесь были бледно-золотистые топазы, и зеленые хризолиты, и темно-красные альмандины, и голубая бирюза. На цветке сидела бабочка из полупрозрачного полосатого агата. Позье казалось, что этот букет слишком пестр, но именно им он угодил императрице. Как и всех модниц того времени, Елизавету привлекали камни ярких цветов и крупных размеров. Недаром она приобрела сразу трое часов: у одних крышечка и цепочка были усыпаны алмазами и алыми рубинами, у других — алмазами и темно-голубыми сапфирами, у третьих — алмазами и ярко-зелеными изумрудами. А с каким восторгом она приняла от Позье привезенный им из поездки в Париж перстень с вделанными в него миниатюрными часиками, циферблат которых был обрамлен алмазами!
Беда только, что знатные заказчики далеко не всегда аккуратно расплачивались с ювелиром, — ждать деньги приходилось подолгу.
Украшались драгоценными камнями театральные золотые зрительные трубки и записные книжки, в которые была вплетена не бумага, нет, — а тонкие листочки из слоновой кости! Книжки, куда записываются чувствительные стишки, да пометки — какой танец какому кавалеру обещан на балу! Над ними также потрудился придворный ювелир: ведь их переплеты золотые и сверкают алмазами, рубинами, изумрудами.
Увлечение камнями, стремление к разнообразию, к ярким краскам привели к тому, что даже алмаз стал казаться бледным, неинтересным.
Цветные алмазы в природе встречаются чрезвычайно редко. Ювелиры XVIII века стали подкладывать под камень цветную фольгу. Она просвечивала сквозь алмаз, и он казался розовым, зеленым, красным.
А табакерки! Сколько их пришлось сделать для одной царицы — то усыпанную сапфирами или рубинами, то с алмазным вензелем[38].
А. К. Фаберже. Царские регалииПосле смерти Елизаветы и короткого — всего несколько месяцев — царствования ее племянника Петра III, у власти — свергнувшая своего мужа Екатерина II.
С самого начала ей хотелось блеснуть необыкновенной пышностью празднеств по случаю вступления на престол и церемонии коронации. Позье получил заказ сделать новую корону. В мастерской придворного ювелира закипела работа. В кладовой царских драгоценностей ему было разрешено из любого предмета вынуть камни, подходящие для короны.
«Я отобрал все самые большие, отчасти бриллиантовые, отчасти цветные, что составило богатейшую вещь, какая только имеется в Европе», — рассказывает в своих воспоминаниях Позье. Лучшие индийские алмазы вставлены в тонкую оправу из серебра, чтобы не увеличивать веса короны. Двумя рядами жемчужин украшена она сверху, и увенчана огромным рубином в четыреста карат. Несмотря на старания Позье сделать корону как можно легче, пять тысяч камней весили много, около двух килограммов.
Царица подержала корону в руках, любуясь игрой камней.
— Да, тяжела, — и подошла к туалету. В зеркале отразились ослепительно сиявшая корона и длинное лицо с острым подбородком и тонкими губами. Сейчас они самодовольно усмехались: ни у одного короля Европы еще не было такой короны.
Говорили, что этот огромный, почти в двести карат, чуть голубоватый алмаз-роза был когда-то глазом статуи индийского божества. Говорили, что его называли тогда «Дерианур» — «море света». Потом он же был вставлен в трон персидского шаха. Ведь обо всех знаменитых алмазах сложено много историй, в которых трудно отделить правду от выдумки.
Как алмаз был похищен из Персии? Как попал в Россию? Рассказывали, будто один кавказский житель врезал алмаз себе в ногу и таким способом привез в Петербург. Григорий Орлов, фаворит Екатерины II, несметно богатый, решил в свою очередь поразить повелительницу. За огромную сумму купил он для нее этот алмаз у ювелира Лазарева (говорили, что именно по его поручению камень был таким необычным способом доставлен в Россию). Через одиннадцать лет после того, как Позье сделал для Екатерины корону, знаменитый алмаз, получивший впоследствии имя дарителя, засверкал в царском скипетре. Излучая голубоватый свет и искрясь всеми цветами радуги, сияет в нем огромная «роза», прославленный «Дерианур» — «Орлов»[39].
3 Глава
Песок
Рожденное пламенем
Средиземное море так разбушевалось, что финикийским купцам пришлось ввести свой корабль, груженный содой, в небольшую бухту и высадиться на пустынный африканский берег.
Сильный ветер гнал тучи песка, озябшие и усталые путники мечтали развести костер, чтобы согреться и поесть.
Не найдя на берегу камней, матросы принесли с корабля большие куски соды, на них поставили котел, положили топливо и разожгли огонь. Ветер рвал языки пламени, вода быстро закипела. Путешественники были довольны. А наутро, собираясь в путь, они разбросали тлеющие угли и вдруг обнаружили в золе чудесный, сверкающий слиток, похожий на драгоценный камень.
Так, по рассказу римского ученого Плиния Старшего, родилось стекло — от союза огня, песка и соды.
Насколько точен этот рассказ, сейчас сказать трудно. Но из песка, того самого песка, который лежит у нас под ногами, действительно получается, благодаря волшебным превращениям, замечательное прозрачное гладкое стекло.
Можно сварить стекло из одного песка, не прибавляя к нему никаких других веществ, но для этого нужна температура выше тысячи семисот градусов. В настоящее время такое стекло варят. Если бросить его раскаленным в ледяную воду, оно не треснет; не боится оно скачков температуры. Но для варки такого стекла нужны специальные электрические печи.
А вот если к песку добавить соды, как это, по преданию, получилось у финикийских купцов, тогда можно расплавить его и при более низкой температуре. Правда, оно будет непрочным и со временем растворится в воде, так что, пожалуй, стакан из него делать не стоит. Но если к песку с содой добавить еще известь или мел, получится то самое стекло, которым мы пользуемся.
А стекло — вещь чрезвычайно нужная. Трудно обходиться без этого волшебного материала, прозрачного и химически устойчивого. Не хуже глиняных и каменных сохраняются стеклянные вещи, и археологи часто находят их при раскопках. Через тысячелетия доносят до нас дыхание прошлого эти свидетели ушедших культур.
Погребенный город
Сухой знойный ветер хамсин несет с юга раскаленный песок. Заволакивается солнце, тускнеет небо. Песок повсюду. Дюны напоминают огромные волны, и только кое-где, словно затопленные, поднимаются древние стены.
Около трех с половиной тысяч лет назад там, где Нил делает изгиб и береговые скалы вдруг прерываются, отступая и образуя долину, по повелению фараона Эхнатона вырос город Ахетатон[40] с храмами и дворцами, роскошными домами знати, складами, колодцами и садами. Огромные каменные плиты обозначали его границы.
Странная была судьба у этого города. Возникший по воле одного царя, ставший ненадолго столицей Египта, он просуществовал всего двадцать пять лет. После смерти фараона столица вновь была перенесена в древние Фивы, а покинутый царским двором и знатью город постепенно пустел и пески пустыни в конце концов занесли его. Но многое сохранилось от жизни, кипевшей здесь тридцать четыре века назад.
В глубокой низине, отделенной холмами от города, теснилось около семидесяти жилищ ремесленников: каменотесов, гончаров, стеклоделов, художников, переселенных из Фив — прежней столицы.
Маленькие домики ремесленников служили не только жильем, но и мастерскими. Над поселком подымались клубы дыма, полыхали отсветы огня зажженных печей. Издали казалось, что горит огромный костер, освещая фигурки движущихся людей. Палящее солнце нагревало крышу и стены с прорезанными под самым потолком щелями-окнами, а пылавшие во дворе и никогда не потухавшие печи усиливали жару. Это мастера обжигали в печах изделия из глины или варили стекло. Ведь они строили новый город, украшали дворцы и дома знати, создавая удивительной красоты вещи. Археологи раскопали этот засыпанный песками город и по обнаруженным предметам узнали многое о его печальной судьбе.
Стеклоделие возникло в Египте около пяти-шести тысяч лет назад. Навыки передавались из поколения в поколение. Основным материалом был песок.
Мастер и его помощники были настоящими волшебниками. Они знали, сколько взять песка, сколько в него добавить соды и как окрасить стекло в синий, зеленый или желтый цвет. Песок просеивали через решето, сплетенное из стеблей папируса. Камешки и крупные песчинки выбирали, добавляли соду, известь, все перемешивали и начинали варить. А так как печи тогда не умели нагревать до температуры, нужной для полной плавки, то варить смесь приходилось по нескольку раз. Искусный и опытный мастер мог определить момент готовности стекла на глаз, но иногда приходилось брать небольшое количество массы для пробы, проверять и снова варить, а затем окрашивать. Примесь окиси железа давала желтый цвет, кобальта — синий, напоминающий цвет лазурита, а окиси меди — зеленый.
Египетские мастера создавали великолепные изделия, и спрос на них непрерывно возрастал из года в год.
По египетской моде знатные мужчины и женщины носили на плечах широкие пестрые воротники из бус. И эти воротники заиграли еще более яркими красками, когда среди бусин из фаянса и цветных камней засверкали новые — из зеленого, синего и желтого стекла.
В одной из мастерских Ахетатона нашли кусочки проволоки с сохранившимися на ней зелеными бусинками. Стало понятно, как их делали. Стеклянную нить наматывали на горячую медную проволоку, которую затем вынимали, а стеклянную трубочку разрезали на отдельные бусинки. Их нанизывали на нити, чередуя стеклянные с каменными и глиняными. Много таких ожерелий было найдено в Ахетатоне, но собрать их не так-то просто: нити истлели и бусы рассыпались, а археологу надо подбирать бусины не по своему усмотрению, а так, как они были нанизаны когда-то египетскими мастерами с большим искусством и вкусом.
С изобретением стекла в домах знати Ахетатона появились новые, невиданные раньше сосуды для благовоний. Они были черными и цветными и покрывались нарядными узорами из тонких разноцветных нитей. Такие сосуды формовали на болванке из глины, смешанной с песком и насаженной на медный прут. Болванку опускали в расплавленное стекло, быстро вращая для равномерного распределения стеклянной массы. Снаружи сосуд обвивали тонкими нитями из желтого, белого, голубого стекла и прокатывали на каменной плите, вдавливая нити и одновременно выравнивая поверхность сосуда. Стекло было толстое и непрозрачное. Отдельно лепили ручки, бортик, ножку и сплавляли их с сосудом, который снова разогревали. Оставалось только вынуть прут и выкрошить болванку. Для создания таких стеклянных сосудов требовались огромный труд и мастерство[41].
Стеклянный сосуд для благовоний с узором из цветной нитиВ город из разных мест везли ценный камень — почти прозрачный алебастр, пеструю брекчию, сине-голубой лазурит, зеленый малахит, золото, редкие породы дерева — строился дворец фараона. Мастерам хотелось в отделке дворцовых залов использовать новый материал — стекло, оно красиво блестело и иногда даже могло заменить цветные камни.
Не раз замечали художники, как голубая полоса реки, освещенная солнцем, просвечивает сквозь густые заросли тростника, отражая папирус и небо. Вода казалась то серебристой, то слегка зеленоватой, то ярко-голубой. Внимание привлекали также лодки с квадратными парусами: они огибали скалистый мыс, почти уходивший в воду, и казались издали цветами, разбросанными по воде. Неисчерпаемое богатство и красоту природы художники воплотили в отделке залов нового дворца.
В некоторых из них пол выложили плитками золотисто-белого алебастра, покрыли их росписью, изобразив нежно-зеленые заросли тростника, цветы белого и голубого лотоса, блестевшую в канале воду, плывущую лодочку. А колонны в виде стройных пальм и папирусов устремились вверх и распустились пышными кронами. Художники использовали не только краски, но и вставки голубого, золотистого, красного стекла: казалось, прозрачные капли покрыли листья пальм и папирусов. Это сочетание стекла с цветным камнем внесло много нового в «вечную живопись» — мозаику.
В столице Птолемеев
Корабль приближался к Александрии. Он шел в полосе света Фаросского маяка, под куполом которого пылал огромный костер. Пламя, отраженное в металлических зеркалах, указывало морякам безопасный путь в город.
Корабль вез не совсем обычный груз. На палубе и в трюмах стояли клетки. Уже не в первый раз везли из Азии и даже из далекой Индии леопардов, барсов, пантер, диких кошек и огромных змей для царского зоологического сада. Часто около клеток можно было видеть молодого человека, не похожего на моряка. Он часами наблюдал за повадками животных. Это был молодой ученый грек Агафокл; уже давно покинувший родные Афины, он побывал на Востоке и направлялся в Александрию — признанный центр науки и искусства.
С моря дул свежий ветерок, и набегавшие волны плескались о борт корабля и защитную насыпь у стен маяка. Вдали виднелся город.
На рассвете корабль снялся с якоря — и вошел в царскую бухту, чтобы разгрузить клетки недалеко от дворца, рядом с которым располагался зверинец.
Агафокл не стал ожидать разгрузки и направился осматривать город.
Главная улица, обсаженная деревьями и украшенная колоннадой, перерезала Александрию с востока на запад. В нишах между колоннами стояли статуи из мрамора и золоченой бронзы. Улица вела к дворцу, а к нему примыкало еще какое-то большое здание с пышной колоннадой.
— Что это за здание? — обратился Агафокл к прохожему, тоже слегка замедлившему шаг, чтобы полюбоваться красотой входа.
— Это Мусейон — обитель муз и Аполлона, — ответил тот. — В нем библиотека, обсерватория, анатомическая школа, научные лаборатории. Рядом ботанический сад и зверинец. В Мусейоне живут и работают ученые.
Затем Агафокл осмотрел храм бога Сераписа[42]. К нему вела широкая лестница в сто ступеней. В глубине храма возвышалась статуя бога с глазами из драгоценных камней и кусочков стекла. Слоновая кость, золото, серебро, разноцветное стекло украшали внутренность храма. Удивительным был его мозаичный пол — целые картины, горевшие яркими красками: гирлянды цветов, фруктов, колосьев.
Храм стоял почти у городской стены, а за ней тянулись кварталы жалких лачуг. В них жили и работали те, кто создавал все это великолепие.
Агафокл направился к мастерским стеклоделов. В Александрии их было много, но с течением времени они мало изменялись: так же было душно и жарко, так же круглые сутки горел огонь в печах и иногда потомки древних египетских стеклоделов, как и столетия назад, катали на каменной доске сосуд, покрытый цветными нитями.
Однако в некоторых мастерских уже стояли сложенные из камня печи, значительно больших размеров, чем прежде.
Стеклянной массы изготавливалось гораздо больше. Но все же стеклоделие развивалось медленно. Постепенно обнаруживались новые свойства стекла, и каждое открытие казалось волшебством. Однако изнуренные тяжелым трудом мастера-стеклоделы, подмастерья и их помощники-рабы отнюдь не были похожи на волшебников. Полуголые невольники, некоторые с клеймом на лбу, покрытые синяками и ссадинами, полуослепшие от жары и дыма, подносили топливо, поддерживали огонь в печах и раздували его с помощью тростниковых трубок, обмазанных глиной. С каждым дуновением огонь разгорался сильнее, температура повышалась, лучше варилось стекло. А повысить температуру в печах было очень важно — тогда в стекле уничтожились бы непроваренные кусочки и стеклянное тесто превратилось в жидкую, ослепительно сияющую массу. Это был путь к получению прозрачного и бесцветного стекла.
Чаша, выполненная в технике «мильфиори»Возможно, все произошло так. Засвистела в воздухе плеть, надсмотрщик ударил раба: после вдоха он должен был опустить трубку в огонь, но по ошибке попал в печь со стеклянной массой. В испуге выхватив трубку и боясь нового удара, раб начал дуть в огонь и в этот самый миг превратился в волшебника: на конце трубки из капельки стекла стал выдуваться пузырь. Он рос на глазах, стенки становились все тоньше и тоньше, на прозрачном пузыре блестели и переливались отсветы огня, делая его похожим на сияющий алмаз. Выдувальщик напоминал мальчика, пускающего мыльные пузыри.
Горячее стекло, не подчинявшееся человеческой руке, покорилось дыханию человека. Может быть, впервые стеклянный пузырь выдул и не раб, а сам главный мастер. Известно только, что произошло это в мастерских Александрии в I веке до нашей эры.
С тех пор стеклоделы, казалось, состязались в выдувании все новых и новых вещей, показывая свое мастерство и богатство фантазии. Теперь это стало доступно рядовому стеклодуву, в руках которого была волшебная железная палочка, полая внутри. Она кончалась на одном конце небольшим расширением, а на другом — деревянным наконечником, защищавшим рот от ожога. Такой волшебной трубочкой на протяжении более двух тысяч лет и были созданы почти все полые стеклянные вещи.
Агафокл с интересом наблюдал за варкой стекла, за окраской его в разные цвета. Ему хотелось понять, как делаются те прекрасные изделия, которые попадают во дворцы и храмы Александрии, или за баснословные деньги продаются в другие страны. Он приблизился к мастеру. В его руках были стеклянные нити разных цветов, похожие на те, которые еще в древнем Египте покрывали сосуды. Мастер складывал нити друг с другом, желтую — в середину, а белые — вокруг. Затем макал все в другое стекло, чтобы спаять нити вместе, и добавлял ободок иного цвета. Получались палочки, сечение которых напоминало цветок лотоса или ромашки с желтой сердцевинкой и белыми лепестками. Каждую палочку мастер нарезал на кусочки. Это были уже пластинки в виде пестрых цветков.
Мозаика «Кошка»Ту форму, по которой выдувалась ваза (в большинстве случаев форма была деревянной), мастер изнутри выкладывал множеством этих пластинок (отсюда итальянское название такой техники — «мильфиори», то есть «тысяча цветков»). Затем через «волшебную» палочку стекло осторожно вдувалось в форму. Пузырь, увеличиваясь, доходил до стенок, и к нему прилипали пластинки-цветы. Еще сильнее раздувались щеки мастера, пузырь вплотную спаивался с кусочками, а кусочки сливались вместе и теперь узор из лотосов оказывался расположенным не только на поверхности стекла, но и в самих стенках сосуда. В лучах света стенки вазы казались мозаичными, отличаясь неповторимым очарованием[43].
— А кто делал те прекрасные мозаики, которые украшают ваши дворцы и храмы? — спросил Агафокл.
— Если хочешь об этом узнать, тебе придется побывать не только здесь в мастерской, но и там, где набирают мозаику, — ответил мастер. — Тебе повезло: во дворце начали делать такие полы… Да, ты, как будто, прибыл на корабле, на котором везли животных. Нашим мастерам разрешили их посмотреть, они уже пошли.
— А при чем здесь звери? Сейчас меня интересует стекло и мозаика, а не дикая кошка или пантера.
— Ты любовался вазой с цветами лотоса? А ведь если бы я не видел цветов в заводях Нила, я не мог бы их сделать из стекла. Теперь наши мастера решили изобразить животных, которых привезли для царского зверинца — как раз пантеру и дикую кошку. Они будут рассматривать их, наверное, еще внимательнее, чем ты! Ведь надо запомнить все цвета и оттенки шерсти, все повадки, чтобы из разноцветных кусочков сделать зверя как живого.
В одном из дворцовых помещений переделывали пол. Рано утром пришли мастера. В корзинах и ящиках несли уже нарезанные и рассортированные по цвету и размерам кусочки разноцветного стекла — смальту. Захватили и небольшие лепешки застывшей смальты, которую в мастерской заранее вылили горячей на чугунные доски и раскатали. Во время работы, если понадобится, мастер уменьшит их, разрезав специальными резцами. Здесь же куски разноцветных мраморов. Их распиливали подмастерья-рабы на кубики. Принесены и длинные тонкие палочки растянутого цветного стекла.
Мастера небольшими лопаточками тщательно выровняли грунт пола. Рабы замешивали раствор извести, который должен был скрепить кусочки мозаики.
Если в наше время живописец пишет картину кистью, то мастер мозаики «набирает» изображение. Он складывает, подгоняет друг к другу и скрепляет цементом тысячи маленьких разноцветных кусочков камня, перемежая их с кусочками разноцветного стекла. Стекло разнообразнее по краскам, легче в обработке, да и дешевле, чем лазурит, малахит, яшма, оникс. Постепенно стекло стало вытеснять дорогие камни.
Сюжет мозаичного пола дворцовой комнаты должен был изображать дикую кошку, поймавшую птицу. Художник выкладывал шерсть из черных, коричневых и белых кусочков, расположенных в разных направлениях: от головы к хвосту и от верхней части лап книзу, подобно тому как лежит шерсть у живой кошки. Черный цвет выделял глаза. Внутри зрачков он поместил два крошечных штифтика непрозрачного стекла — смальты. Эти блики оживили глаза, они заблестели. Кажется, слышно грозное урчание хищницы. Перья пойманной птицы сделаны из зеленой смальты. Фон набран ровными рядами, однако и здесь умело передан постепенный переход коричневого цвета в более светлый, чем достигнуто впечатление глубины пространства.
Засыпанные пеплом
Пожилой человек и юноша, оба в длинных белых тогах — одежде римских граждан, — ехали на колеснице из Мизена в Помпеи. Это было в конце знойного августа 79 года. В Мизене стоял флот, которым командовал Плиний, знаменитый ученый, уже написавший тридцать семь книг «Естественной истории». В отличие от племянника, тоже Плиния, его называли Старшим. Плинии были приглашены в богатый дом, принадлежавший старинному и знатному роду Сатриев. Возможно, Плиний Старший и не предпринял бы этой поездки, но он хотел еще раз увидеть в этом доме чудесные мозаики. Кроме того, ему обещали показать новый образец, недавно привезенный из Александрии! Плиний изучал процессы варки стекла и особенно — смальт — непрозрачных стекол, нужных для мозаик.
Мозаика «Берегись собаки»Колесница подъехала к городским воротам, выходившим к морю, здесь ее пришлось оставить. По улицам Помпеи днем езда на лошадях не разрешалась.
Город утопал в зелени. Его жителей не страшила близость уснувшего вулкана Везувия, величественно вздымавшегося вдалеке.
Плинии пересекли форум — главную площадь с храмом Юпитера — и, пройдя мимо терм — городских бань, у которых толпились люди, — подошли к большому дому, занимавшему целый квартал. В доме Сатриев было около сорока помещений. Гостей уже ждали. Раб-слуга стоял на пороге и, еще издали увидев Плиниев, сообщил об этом хозяину, который вышел гостям навстречу.
Атриум — главное помещение римского дома — освещался через отверстие в потолке. К нему вел небольшой коридор. Обычно на полу в таких коридорах набиралось мозаичное изображение сторожевого пса с надписью «Cave canem» — «Берегись собаки». В доме же Сатриев все свидетельствовало о художественных вкусах и интересах владельца: пол украшала прекрасная мозаика, набранная из цветного стекла. Среди плодов, цветов и листьев мастер изобразил две театральные трагические маски (хозяин дома был любителем и знатоком театра). В атриуме стояла великолепной работы статуя пляшущего Фавна, спутника Диониса — бога вина и веселья. В этом доме многое напоминало о божестве, научившем людей виноделию. Ведь хозяин был крупным виноторговцем.
Он недавно вернулся из Александрии, где восхищался прославившими город мозаиками. С самого детства он был знаком с работами александрийских мастеров.
В помпеянском доме Сатриев многие помещения давно были украшены мозаиками. Хозяева не жалели средств на их приобретение, но перевозить целые мозаичные картины, сделанные в Александрии, было очень сложно. Однако мастера со временем придумали плоский разъемный ящик, в котором на каменной плите, служившей дном, стали набирать мозаику. Так была повторена «Дикая кошка» из дворца в Александрии, получившая мировую известность. Недавно доставленная в дом Сатриев, она была вделана в пол столовой.
Плиниев ждали.
Гости из местной знати почтительно приветствовали ученого.
— Прости мою торопливость, — сказал Плиний, — но не пойдем ли мы сразу полюбоваться твоими сокровищами? Я ведь не забыл мозаику «Битва Александра с Дарием». Да и кто может забыть ее? Она сделала бы честь любому дворцу.
Все направились во внутренний садик — перистиль, окруженный колоннадой. Посередине мраморного бассейна бил фонтан. Яркие живые цветы красиво сочетались с фиолетово-красными колоннами, отделявшими от садика широкую комнату, за которой виднелся второй сад. В пол этой комнаты и была вделана большая мозаика «Битва Александра Македонского с персидским царем Дарием», скопированная с картины греческого художника Филоксена, современника походов великого завоевателя.
В центре картины — Дарий на колеснице. В его широко раскрытых глазах застыл ужас, весь он подался вперед, протянув руки к человеку, пронзенному копьем Александра. Молодой полководец верхом на коне врезался в гущу врагов: еще момент — и он настигнет Дария. В пылу боя с головы Александра свалился шлем, развеваются волосы, на исхудалом, обросшем курчавой бородой лице горят глаза.
Эта громадная картина была набрана из желтых, красно-коричневых, серых и черных камней разных пород.
Молча стояли гости, любуясь мозаикой. Плиний обратил внимание племянника на то, как искусно подобраны камни, как удачно сочетаются они в цветовом единстве. Отметил он и фигуру Александра, развернутую в профиль, наподобие барельефа, строгую и торжественную.
Мозаика «Битва Александра Македонского с персидским царем Дарием». Фрагмент «Дарий»Плиний Младший опустился на колено, чтобы лучше рассмотреть мозаичный набор. Фон состоял из ровных рядов. Фигуры же мозаичист выложил то по кругу, то волнистой линией, повторяя очертания лица, складок одежды, ног. Все, даже блики света и блеск металла, было передано при помощи кусочков камней, которых пошло на всю картину около полутора миллионов. Такие мозаики были большой редкостью и стоили огромного труда.
— Это напоминает знаменитые сцены из «Илиады», выложенные из мозаики на роскошном корабле Птолемеев, — сказал Плиний Старший. — Знаете ли вы, что там работало триста шестьдесят человек в течение целого года.
— Я слышал об этом, — ответил хозяин, помолчав, добавил: — Не хочешь ли ты посмотреть новые мозаики в столовой? В прошлый раз ты восторгался моими «Голубями, пьющими из чаши» и даже написал о них в одной из своих книг. Почему только не упомянул, что это копия известной мозаики из Пергама, выполненной непревзойденным Созием, тем самым, который набирал полы во дворце пергамских царей.
— И среди них — его знаменитый «неметеный пол» — сказал один из гостей. Все стали смеяться и задавать Плинию вопросы.
— Изображение пола с разбросанными объедками выглядит настолько реально, что каждому хотелось взять метлу и подмести его, — рассказывал ученый.
— Пойдем, покажу, как рядом с голубями теперь поселилась привезенная из Александрии дикая кошка, поймавшая птицу. Здесь, на полу, они живут мирно, — сказал хозяин.
После осмотра мозаик гости были приглашены на ужин. В самый разгар пира вбежал сын хозяина и испуганно сообщил:
— В городе творится непонятное: вода в реках и колодцах пересохла, земля трескается от какого-то внутреннего жара.
— Старик Везувий с утра ведет себя очень неспокойно, — подтвердил один из гостей. — Из кратера еще днем вырывался дым.
— Да, действительно, что-то происходит в природе, — откликнулся хозяин.
— Замечаете, как неожиданно стемнело?
— Все это очень любопытно, — оживился Плиний. — Выйдем на улицу, посмотрим.
Было почти темно, хотя еще недавно светило солнце. Оно скрылось в густом тумане. Раздавался грозный непонятный гул — не то раскаты грома, не то далекое землетрясение. Земля слегка содрогалась. На улице толпился народ, слышались испуганные голоса.
— Поедем, — сказал Плиний племяннику, — я хочу поближе посмотреть на Везувий. Ведь это, несомненно, извержение! Нам представляется редкий случай наблюдать такое явление вблизи. Я опишу его в моей «Естественной истории».
Извержение началось 24 августа 79 года и длилось трое суток. Из кратера летели тучи пепла, камни, лились огненные потоки. Когда Везувий затих и озаренное солнцем небо снова засинело, на месте зеленых садов и виноградников, на месте Помпеи, соседнего города Геркуланума и небольшого селения Стабий вздымались волны застывшей лавы.
Тихо ласкала вода берег залива, замолкли веселые цикады. Помпеи исчезли с лица земли, скрылся под пеплом дом с мозаиками и танцующим Фавном. Жители Помпеи задохнулись от серных паров, вырывавшихся из вулкана. Погиб и Плиний Старший. Его племянник чудом остался жив и описал гибель города. «Поверят ли грядущие поколения, когда пустыня вновь зазеленеет, что под ней скрываются города и люди?» — спрашивал Стаций, римский поэт I века. И вот пустыня вновь зазеленела, выросли новые сады и виноградники, а под ними лежали города.
30 марта 1798 года началась вторая жизнь города. В этот день приступили к раскопкам Помпеи. Появились дома, улицы, целые городские кварталы. Все выглядело почти так же, как 24 августа 79 года.
В печах лежали окаменевшие хлебы, под прессом — виноград, в лавке — уложенные в ящики и завернутые в солому двести пятнадцать стеклянных кубков и чаш. Этот ценный и хрупкий товар, наверно, был привезен из Рима или Александрии. Раскопали и здание на углу улицы, идущей мимо терм, от Форума и по найденной в нем статуе назвали «Домом Фавна», называют его также «Домом мозаик».
Сквозь цветное стекло
Над морем городских крыш, устремив ввысь свои башни, как маяк, возвышается готический собор. Без него невозможно представить средневековый город. Не только молиться приходят сюда горожане. На площади у входа они устраивают собрания, ученые читают лекции, даже разыгрываются театральные представления.
Гигантские готические соборы высотой с пятнадцати-двадцатиэтажное современное здание не кажутся грузными, массивными. Они похожи на тончайшее каменное кружево. Тысячи статуй у входов, на колоннах, на карнизах, арки, заостренные, как стрелы, — все точно в каком-то вихре устремляется вверх.
Стрельчатая форма арки повторяется в очертаниях сводов, окон, дверей, в архитектурных украшениях. Ей вторят удлиненные формы человеческих фигур. Собор кажется легким, воздушным. Почти все пространство стен заполняют окна с огромными плоскостями разноцветных стекол, которые заменили собой живопись на стенах. Над входом распускается огромная «роза». Иногда их несколько — это круглые окна с цветными стеклами диаметром в десять-пятнадцать метров. Легким силуэтом выделяются на фоне неба ажурные башни, венчающие собор.
«Огромной каменной симфонией, колоссальным творением и человека и народа» назвал готический собор Виктор Гюго.
При первых лучах солнца громада храма словно оживает, преображается. Луч скользнул по верху башен, они стали светлее, легче, но весь собор еще окутан темнотой. Солнце поднимается выше, постепенно заливая светом фасад. В тени остались входы — глубокие порталы. Еще заполнены мраком ниши, а статуи в них уже освещены и кажутся более объемными. Архитектурные украшения стали четче оттенять отдельные части собора. Игра света и тени придала зданию легкость. Через витражи в собор вливается причудливый свет. Загорелись, переливаясь тысячами огней, узоры на огромных окнах-витражах, напоминая цветущую весеннюю поляну с ярким ковром цветов. Лучи, преломляясь в цветных стеклах, играют разными оттенками золотистого, алого, синего. Каменные плиты пола окрашиваются всеми цветами радуги. Разноцветные отблески — на колоннах, потолке, статуях. Привычный облик вещей изменился, окрашенный свет, струящийся из окон, придал всему сказочное великолепие.
Человек приходил сюда из своего убогого жилища. Чудесным, волшебным дворцом, где обитает бог, представлялся ему сотканный из каменного кружева, огромный, наполненный причудливым светом собор.
Под высокими сводами разносилась торжественная музыка. Прихожанину казалось, что он находится в прекрасном небесном мире.
Искусство витража развилось не сразу. Вначале это была прозрачная мозаика, в которой кусочки цветных стекол соединялись рядами. Затем их стали выкладывать узорами, и на окнах получались большие прозрачные ковры. Но стеклоделы-художники на этом не остановились: они начали создавать большие многофигурные картины из стекла. Когда возникли витражи с фигурами, точно не известно, но уже в XII веке они украшали многие соборы Европы.
Витраж средневекового собораВитраж набирают так же, как и мозаику, только кусочки скрепляют не известковым раствором, а свинцовыми ободками, которые служат опорами и одновременно очерчивают контуры рисунка. На лице, на руках и одеждах фигур художник-витражист дополняет рисунок из свинцовых ободков черными линиями, нанесенными кистью на поверхность стекла. На цветных стеклах появляется живопись, выполненная специальными красками, в состав которых входит и стекло.
Расписанное стекло обжигают, и рисунок прочно закрепляется. Работая над витражом, художник учитывает не только цвет, но и прозрачность и изменчивость красок при прохождении света через стекло. Свет и цвет в этом виде искусства неразрывно связаны между собой. Витраж меняется на протяжении суток и в разное время года. С восходом солнца он «пробуждается», а с наступлением темноты «гаснет». Краски бесследно исчезают, и их не может воскресить никакое освещение изнутри, только темное каменное кружево собора по-прежнему выступает над морем городских крыш.
Секреты венецианских мастеров
Приближался вечер. Солнце садилось в море. Оно последними лучами золотило края облаков и дым над островом Мурано. Быстро темнело, наступала южная ночь. На небе, еще недавно полном красок, появились первые звезды. Город, как будто возникший из глубин водного сказочного царства, погружался во тьму. Поблескивали огнями сине-голубые ленты каналов, омывающие сто восемнадцать островов, на которых раскинулась «царица морей» — Венеция.
Исчезли контуры Альп, стеной отделяющие это водное царство от остального мира. Потухли отражения зданий в воде. Воцарилась тишина.
Послышался всплеск весла. В длинной черной гондоле плыли двое: один, стоя, греб, другой сидел на скамейке. Это были прославленные потомственные стеклоделы из семей Санти и Барбини. Они торопились из Венеции к себе, на остров стеклоделов Мурано. Лодка, отойдя от набережной, затерялась в темноте.
— Кажется, здесь можно говорить спокойно, никто не услышит, — сказал Санти, с шумом опуская весло в воду. — Как вам нравится новый закон: «Если какой-нибудь рабочий или мастер перенесет свое искусство из Венеции в другие места к ущербу Республики, ему будет послан приказ вернуться. Если он не повинуется, будут заключены в тюрьму лица, наиболее ему близкие. Если же мастер будет упорствовать в желании остаться на чужбине, за ним вслед отправят человека с приказом убить его».
— Да! В таком бесправном положении стеклоделы еще никогда не находились, — ответил Барбини. Мы уже и так, как птицы в клетке: привыкли более чем за сто лет жить безвыездно на нашем острове под наблюдением полиции. Многие уже и не вспоминают то страшное время, когда в 1291 году всех взяли и переселили из Венеции на Мурано. И объяснение придумали! Якобы, ради спасения города от пожаров.
Джузеппе Барбини помрачнел.
— Правители республики думают, мы не понимаем, что переселение было вызвано желанием все производство стекла, крупнейшего источника доходов, сосредоточить в руках Венеции. Санти, посмотри вдаль. Видишь, сколько огоньков отражается в воде от кораблей в порту. Почти все они пришли за венецианским стеклом.
Венеция — «царица Адриатики», как ее называли, была в XV—XVI веках важнейшим портом на Средиземном море и узлом сухопутных и морских дорог. Сюда везли товары из центральной Европы через Альпы, а затем на кораблях в страны Азии и Африки. «Царицей» Венеция стала после четвертого крестового похода 1204 года, когда был разгромлен Константинополь. Огромная добыча обогатила Венецианскую республику. Из Константинополя вывезли и спрятали в сокровищнице собора святого Марка огромную коллекцию образцов византийского художественного стекла. От бесчинств крестоносцев в Венецию бежали искусные византийские мастера-стеклоделы.
Мурано — пригород Венеции, расположенный на пяти островах, — во всем напоминает Венецию. Здесь также вместо улиц — каналы, через которые переброшены небольшие мостики; и кажется, что дома вырастают прямо из воды. Остров населен стеклоделами и рыбаками. Каждое утро во время отлива десятки рыбачьих лодок под красными, голубыми, зелеными парусами спешат к отмелям, чтобы собрать плоды моря — маленьких осьминогов, моллюсков и креветок.
— Посмотри, Барбини, там на берегу нас кто-то поджидает.
— Сразу не узна́ешь. Кому это мы понадобились в такой поздний час? Лодку привязали к столбу и вышли на берег.
— Что говорят в городе о новом законе? — послышался в темноте тревожный шепот поджидавшего их старого мастера-стеклодела.
— Хорошего мало. Правители боятся, что наши секреты станут известны другим странам.
Стеклоделы отошли в сторону, туда, где с берега в воду спускалась небольшая каменная лестница. Три мастера долго сидели на ее источенных временем ступенях и вполголоса обсуждали судьбу недавно бежавшего товарища. Он собирался направиться во Францию, где с распростертыми объятиями встречали венецианских стеклоделов.
Удастся ли ему скрыться под чужим именем? В таком случае он навеки станет изгнанником. И в Германии, и во Франции, и в городах Италии — Падуе и Равенне — уже возникали стеклодельные мастерские, где работали венецианские перебежчики. Они принесли с собой секреты филигранного, рубинового, мозаичного стекла.
Свадебный кубокСосуд, выполненный в технике «кракле»Небо посветлело. Рыбаки уже уходили в море, когда мастера медленно направились в сторону одноэтажных закопченных зданий, в которых находились мастерские, большие и совсем маленькие — с одной печью.
Чаще всего около небольшой печи работали три человека — главный мастер — «прима», — знающий все секреты производства, его помощник и мальчик-ученик. Мастер-прима сам придумывал рисунок из разноцветных стеклянных нитей. Целые семьи были потомственными стеклоделами: на острове Мурано все знали Барбини, Санти, Тоза и других.
— Бригелла, Бригелла, подожди, куда ты так спешишь, нам, наверное, по пути! — кричала Каролина, немолодая женщина, с бледным лицом, которое сразу же выдавало человека, работающего в стекольной мастерской. — Я слышала, ты выдаешь свою Катарину замуж?
Венецианское стекло филигранной техники— Да, — ответила Бригелла, — на днях свадьба. Он аристократ, дворянин. Не всегда найдешь такого жениха. Ведь по закону их дети теперь будут дворянами, и дочка вырвется из этой тюрьмы, куда нас загнали. Дочерей иметь лучше, а вот мой Беппе уже четырнадцать лет стоит около печи и, как отец, варит стекло.
— Мы сейчас работаем почти круглые сутки, — продолжала она. — Делаем в приданое дочери свадебные кубки. Они готовы, оба из синего стекла и, как полагается, с портретом жениха и невесты. Нельзя было нарушать старый обычай. Ведь из них молодые пьют за свое счастье на свадебном пиру. Я сама их расписывала эмалевой краской и добавляла еще немного золота.
— А отец что подарит? — спросила Каролина.
— Он уже сделал несколько вещей и такой красоты, что трудно вообразить. Недаром мой хозяин давно мастер-прима.
А одну вазу он выполнил совсем по-новому. Раздул стеклянную заготовку и быстро опустил в холодную воду. Все затрещало, из-за пара нельзя было ничего рассмотреть. Думала, Джузеппе ошибся, а он нарочно сделал так, чтобы верхний слой растрескался, а внутренний, еще горячий, продолжал раздувать. Трещинки увеличились, и вся ваза покрылась красивым сетчатым узором, так и кажется, паутинкой[44]. А недавно мы с ним поссорились: вдруг решил нашей Катарине сделать еще одну вазу, но старомодную. Я ему и говорю: Катарина молода, все у нее должно быть самое современное. А Джузеппе отвечает: «Хочу вспомнить наших предков — римских мастеров, многое у нас от них ведется». Я ему помогала делать эту мозаичную вазу «мильфиори». Говорят, в Древнем Риме такие вазы высоко ценились: какой-то император за одну из них заплатил стоимость трехсот рабов.
— А еще Джузеппе сделал бокалы в виде цветов, птиц, слонов. У нас сейчас целый зверинец из стекла. Но, пожалуй, красивее всего вышел небольшой сосуд для духов. Он кажется кружевным с белыми и розовыми тонкими стеклянными нитями[45]. Такой же сделаем в подарок жениху.
— Ой, как я с тобой заболталась, — спохватилась Бригелла. — Скорее побегу к рыбакам за уловом.
Храм над Днепром
Ночную тишину лесной недавно проторенной дороги нарушил топот скачущих коней. Из-за могучих дубов и лип выехал отряд воинов. На многих были кольчуги, на головах тускло поблескивали шлемы. Это Ярослав-князь со своей дружиной спешно возвращался в Киев из Новгорода, где он собрал войско новгородцев и наемников-варягов: под стенами родного города стояли полчища ненавистных печенегов.
Всадники погоняли усталых коней. Они торопились. Из-за поворота как-то сразу выступил заблестевший серебром Днепр. На фоне клочковатых осенних облаков и кое-где мерцающих в просветах звезд высилась на круче Десятинная церковь, как воин, стоящий на страже. Ее двадцать пять глав были похожи на боевые шлемы. Величественный силуэт церкви сразу напомнил Ярославу детство, прошедшее здесь, в Киеве, и отца, князя Владимира, при котором окрепла Русь; тогда тоже воевали и с греками и с ордами кочующих пришельцев.
Первый на Руси каменный храм построили в Киеве на месте «требища», где приносились когда-то жертвы древним славянским богам и князь Игорь после победы дарил богу Перуну оружие и золото.
Но появились на Руси новые боги и святые — и как символ новой христианской веры воздвиг Владимир в конце X столетия храм в честь богородицы, которая должна была заступаться за людей. Владимир пожертвовал на содержание церкви десятую часть своих княжеских доходов и поэтому назвали ее Десятинной.
В чистом поле, у самых стен Киева, шумел ковыль, парили птицы, и, казалось, повсюду разлито спокойствие. Но тишина была обманчивой. Вражеские лазутчики, прячась в высокой траве, подкрадывались к городским стенам, высматривая Ярославово войско.
Здесь и разгорелся бой. Летописец записал: «И бысть сеча зла, и одва одоле к вечеру Ярослав».
Печенеги были самыми страшными степными врагами, и победа Ярослава принесла спокойствие на южные границы.
В год этой победы, 1037-й, началось грандиозное строительство в Киеве. По желанию Ярослава, заново рубили крепостные стены со стороны «злой сечи» с печенегами, горододельцы строили ворота с аркой и церковью наверху, по золоченой маковке которой их назвали Золотыми. В 1037 году заложили и собор святой Софии[46] — памятник новой вере, доблести и славе русского народа. По замыслу Ярослава, собор должен был своим великолепием и богатством напоминать главный константинопольский, тоже называвшийся Софией.
Из Мармора, что под Константинополем, с великими трудностями по Черному морю и порожистому Днепру везли на ладьях белоснежный камень: уж очень красив он в отделке и легко из него резать. У себя на месте ломали простой камень и доставляли на возах, запряженных волами. Дубы и липы рубили за Днепром.
Из разных княжеств были созваны лучшие мастера — кузнецы, каменщики и особенно много скудельщиков — мастеров по глине — и варщиков стекла. Скудельщики добывали глину, формовали и обжигали «плинфу» (кирпичи), готовили изразцы и глиняные кувшины, предназначенные для закладки в стены. Кувшины усиливали звук внутри храма и облегчали стены.
Шумно и многолюдно около строящегося собора. Снуют стеклоделы, деревщики, камнерезы, златокузнецы, медники, скудельщики, сошедшиеся сюда из Ростова, Новгорода, Переяславля. Кое-где слышен греческий язык. Еще при Владимире, после его победы над греками, многие из них ушли сюда, в Киев, с берегов Черного моря, некоторые помогали строить Десятинную церковь. Прибыли мастера из Византии — сбившиеся в артели константинопольские мозаичисты и варщики смальты. Среди них особенно ценились мастера, умевшие выкладывать из мозаики на большой высоте не только крупные фигуры, но и картины; они знали, как выложить золотой фон и разные орнаменты.
Храм решили ставить на высоком месте, чтобы путник видел его издали, а уезжающий мог, в последний раз обернувшись, попрощаться с городом — таково было желание Ярослава. Он не забыл свое возвращение в Киев и увиденную в ночи Десятинную церковь.
Недалеко от Софии были сложены печи: там варили смальту; готовили ее также и на Подоле, где жили киевские ремесленники. Печи дымили около полуземлянок, крытых дерном, в которых жили мастеровые.
Приезжие греки, их помощники и местные русские мастера старались получить в одном цвете разные оттенки: только в золоте им удалось создать их более двадцати пяти. Казалось, они излучали свет. В зеленом цвете было тридцать четыре оттенка, в голубом — двадцать один.
В небольшие печи ставилось по нескольку горшков со стеклянной массой. Свинец или известь, добавленные в песок и соду, усиливали яркость окраски, а костяная мука «глушила» стекло, делала его непрозрачным. Стеклоделы передавали друг другу свой опыт и чисто практические знания, но каких-либо общих правил не существовало. Когда стекло получалось лучше и окрашивалось ярче, даже самые опытные мастера не знали, что произошло с его химическим составом.
Труднее всего было получить золотую смальту со всеми ее оттенками. Вначале кусочек золота ковали деревянными молотками и расплющивали в тоненькие листочки — фольгу. Затем ее накладывали на пластинки стекла, помещали в печь. Золото сваривалось со стеклом, после чего пластинки сверху снова заливали стеклом. Золотая фольга оказывалась между двумя стеклянными слоями. Нужен был большой опыт, чтобы, слегка меняя цвет стекла, придавать золоту то розовый, то зеленоватый оттенок и, кроме того, знать, как оно будет выглядеть на большой высоте. Так же делали смальту с серебряной фольгой.
Богоматерь Оранта в киевском Софийском собореСтроительство Софии подходило к концу. Кругом еще лежали разбросанные камни, плинфа, кувшины. Завершали главный купол, похожий на пчелиные соты, от большого количества вложенных в плинфу и камень кувшинов. Чем выше становилось здание, тем больше их закладывали, чтобы облегчить вес верхней части собора. Потоки света лились через двадцать окон, и купол казался парящим в воздухе.
— Василь, посмотри, внизу люди шевелятся, как муравьи, а мы — как на облаках. А какая ширь, красота! — так говорил мастер-мозаичист, обращаясь к одному из своих товарищей, который наносил уже второй слой грунта на внутреннюю поверхность купола, выравнивая ее. Шла подготовка грунта для набора смальтой огромной полуфигуры Христа. Работала одна из лучших артелей — надо было рассчитать пропорции фигуры с учетом того, как она будет смотреться на большой высоте[47]. Важно было продумать и основные цвета. Мозаичисты решили сделать хитон[48] Христа пурпурно-красным с золотой отделкой и смягчить его яркость наброшенным сверху голубым плащом. Складки выкладывали тщательно, то более светлыми, то более темными кусочками смальты. Часть кубиков мастер вдавливал не прямо, а под определенным углом, с наклоном вперед. Это давало возможность повысить звучность отдельных тонов или слегка приглушить их. Одновременно такая кладка служила средством передачи объема. На складках плаща кубики смальты то слегка выступают, то углублены по сравнению с остальной поверхностью набора. Выполненный так же переплет книги в руках у Христа горел, будто был из настоящего золота и драгоценных камней.
Самое сложное — лицо. Его набирали из более мелких кусочков, помня, что снизу должны быть хорошо видны и нос, и рот, и глаза.
Мастера обвели их рядом мелких квадратиков красного цвета. Вблизи такое изображение казалось бы очень резким, но художник, работавший под куполом, вел весь набор с расчетом на расстояние и на потоки света, льющиеся из окон.
Другая артель уже почти заканчивала фигуру богоматери Оранты[49]. Это изображение набирать еще сложнее: нужно сохранить пропорции фигуры, несмотря на ее огромный размер[50] и расположение на вогнутой плоскости алтарной части собора.
Мастера решили наложить грунт под мозаику не плоско, а в виде трех «волн»: первую на линии плеч, вторую на уровне пояса, а нижнюю на высоте колен. Благодаря этому положенная сверху смальта должна была играть и переливаться, а фигура казаться выступающей из стены.
Нимб[51] выложили золотой смальтой под разными углами, что создавало эффект мерцания света. Кроме того, мастера углубили его около головы и вогнутая поверхность, как линза, собирала самые скудные лучи и светилась даже в вечернем полумраке. Необычна и кладка глаз: зрачки не симметричны, а несколько смещены, поэтому вблизи мозаичное лицо косоглазо. Издали же, снизу, это незаметно, и взгляд кажется живым.
Только очень опытные, талантливые мастера могли так разнообразить приемы кладки и применять такое богатство цветовых оттенков[52].
Наконец, строительство и украшение собора было окончено.
При полной тишине входил в храм великий князь Ярослав с заморскими гостями, а вслед валил народ. В мерцании множества горящих свечей все сверкало, блестело, переливалось. Казалось, богоматерь и святые излучают какой-то таинственный свет. Ноги ступали по огромному желто-зелено-красному ковру, выложенному тоже из смальты. Воздух был напоен ароматом ладана, звучало торжественное пение.
Много раз бывал здесь Ярослав, и каждый раз его охватывала гордость — так прекрасен был собор святой Софии.
«Ко стеклу весь свой труд приложу»
В Петербурге, на Васильевском острове, недалеко от берега Невы, в небольшом одноэтажном домике размещалась лаборатория Михаила Васильевича Ломоносова.
Дымя, горели печи. На простых столах — весы, ступки для растирания и смешивания красителей, в ящиках — полученные образцы разноцветных стекол. На видном месте — лабораторный журнал, где Михаил Васильевич записывал вес употребленного песка, количество добавленной соды, название окрашивающего минерала, а затем точно указывал результат проведенного опыта. Так, с утра, еще при свечах и отсветах огня горящих печей, Ломоносов начинал свою работу. Он экспериментировал, изобретал, возрождал сложное искусство мозаики и цветного стекла. Не зная секретов старых мастеров, он шел своим путем.
Спустя семь веков после постройки Киевской Софии Ломоносов стремился заново воссоздать то, чем гордилась когда-то Русь. Ведь сведений, идущих от отцов и дедов, не сохранилось; за время татарского ига многое было совершенно забыто.
Около четырех тысяч опытов произвел ученый самостоятельно, без помощников: добиться в Академии в то время «лаборатора» Ломоносов не мог. Никто не понимал его методов исследования и того, что здесь, в лаборатории, впервые в России разрешались вопросы стеклоделия как науки. «Ко стеклу весь свой труд приложу», — писал Ломоносов в своем стихотворении «Письмо о пользе стекла».
По-летнему пригревало солнце, подсушив лесную болотистую дорогу, идущую недалеко от берега Финского залива. Поскрипывали колеса. В коляске сидел грузный, уже не молодой человек. Это был Ломоносов. Он проезжал здесь не в первый раз. Сейчас за поворотом появятся постройки Ораниенбаума, летней царской резиденции. В пути многие узнавали его, ученого и владельца Усть-Рудицкой фабрики, куда он и держал путь. Вспоминались Ломоносову хлопоты, связанные со строительством фабрики[53], обращение к императрице Елизавете, в котором он писал: «Желаю я, к пользе и славе Российской империи завести фабрику делания изобретенных мною разноцветных стекол и из них бисеру, пронизок, и стеклярусу и всяких других галантерейных вещей и уборов, чего еще поныне в России не делают, но привозят из-за моря великое количество ценою на многие тысячи». Вместе с прошением Елизавете Петровне была преподнесена первая мозаичная работа — икона богоматери. Это было в 1752 году. После длительных хлопот отвели землю и «пожаловали» двести двадцать шесть крестьян для обучения. Край был глухой. Куда ни глянешь, везде леса да болота, а среди них, как островки, разбросаны удобные земли.
Ковер, шитый бисеромСколько раз у себя в лаборатории на Васильевском острове Михаил Васильевич обдумывал устройство фабрики. Он решил создать впервые в стране «вододействующее» стекольное производство с механизмами, которые приводились бы в действие водой. Ученый сам выбрал для нее место там, где быстрая речка Рудица сливалась со спокойной Ковашей.
Плотину сложили из больших крепких корзин, набитых глиной и камнями. Быстрые воды Рудицы вертели колеса трех мельниц. Одна пилила бревна на доски, вторая молола зерно на муку для хлеба фабричным людям, третья, особенно важная для фабрики, была новшеством, придуманным Ломоносовым. Колесо заставляло работать машины, изобретенные ученым. Они мололи, толкли, мешали материалы, нужные для изготовления стекла, а одна шлифовала поверхность смальты.
Я зрю, здесь в радости довольствий общий вид, Где Рудица, вьючись сквозь каменья, журчит, Где действует вода, где действует и пламень, Чтобы составить мне, или превысить камень Для сохранения геройских, славных дел, Что долг к Отечеству изобразить велел.
Коляска, за которой бежали мальчишки, издали завидевшие Ломоносова, подъехала к двухэтажному строению — «дому для приезду».
С двух сторон разместились бревенчатые постройки: лаборатория с печами для варки смальты, бисера, стекляруса и стеклянной посуды, мастерские мозаичистов и граверов по стеклу, кузница, конюшни, кладовые для материалов и готовых изделий.
За фабрикой на берегу Рудицы раскинулись пашни. Ближе к лесу стояли небольшие домики фабричных людей. Дальше сплошной стеной высился лес, где старые могучие сосны и ели перемежались с молодой порослью. Деревья рубили на топливо и пережигали на золу, из которой делали поташ, нужный для стекловарения. Верстах в семи, недалеко от деревни Шишкино, находился нужный для варки стекла песок, славившийся своей чистотой и отсутствием примесей.
Михаила Васильевича ждали. Все, кто мог отойти от печей, выбежали его встречать. Выйдя из коляски и разминая затекшие ноги, Ломоносов с приветливой улыбкой направился к стоявшим впереди своим ближайшим помощникам Матвею Васильеву и Ефиму Мельникову.
Оба, как и сам Михаил Васильевич, были незнатного рода: Мельников — сын мастерового, Васильев — сын матроса. Попали к Ломоносову учениками из рисовальной палаты Академии наук, когда им не было и двадцати лет. На Усть-Рудицкой фабрике — они уже опытные художники-мозаичисты, самостоятельно набравшие к тому времени портрет Петра I и изображение апостола Петра по «римскому примеру».
Здесь же толпились крепостные крестьяне — жители соседних деревень, пожалованных императрицей Ломоносову. У некоторых за кушаками торчали топоры: они валили лес и работали углежогами. Многих крестьян Ломоносов знал в лицо.
— Вначале пройду в лабораторию, — сказал Михаил Васильевич, обращаясь к Михаиле Филиппову, лучшему бисеринку фабрики.
— Пойди посмотри, чем дальше, тем лучше бисер получается — говорил Филиппов.
Беседуя, они вошли в помещение, где стояли печи и варилась смальта.
Но сегодня Ломоносова особенно интересовали бисер и стеклярус, уже запроданные в Петербург и Москву. Раньше их делали в Чехии и Венеции. Для России это было новое производство и до всего приходилось доходить самим.
Мастер и помощник постепенно растягивали стеклянные заготовки, которые превращались в трубочки. Когда они остывали, подросток, обученный Ломоносовым, раскалывал их. Работа требовала большой ловкости и сноровки. Он брал пучок трубочек, клал его на резец, затем молниеносно почти неуловимым движением ударял по резцу — и ровно отбитые кусочки падали в ящик. Михаил Васильевич залюбовался работой мальчика, подошел и стал рассматривать стеклярус, пересыпая его из одной руки в другую. Казалось, не стекло, а капли вишневого сока искрились в ладонях. Рядом лежал стеклярус, переливающийся, как перламутр или плотный блестящий атлас. Этот блеск получали, сильно взбалтывая в горшке стеклянную массу — в стекло попадал воздух и образовывал множество пузырьков, которые прихотливо преломляли свет.
Мастер-бисерник Андрей Никитин только что отошел от специальной печи, держа в руках медную раскаленную сковороду. Слегка встряхивая ее, он обкатывал, «круглил» кусочки трубочек — получался бисер[54].
Так в бисере стекло подобяся жемчугу, Любимо по всему земному ходит кругу, Им красится наряд в полуночных степях, Им красится арап на южных берегах, — промелькнули в памяти Ломоносова стихотворные строки, посвященные его любимому детищу — стеклу.
Было далеко за полночь. В железном светце, стоявшем в корыте с водой, горели длинные тонкие лучинки. Догорая, они потрескивали, и в воду падали угольки: приходилось вставлять новые. Ненадолго становилось светлее, слегка пахло дымом. Крепостные вышивальщицы торопились выполнить заданную им работу.
Новой и необычной она была — вышивали настенный ковер, но не шерстью или шелком, а разноцветным бисером, стеклярусом, пронизками. И узор на ковре необычный! Крепостной художник нарисовал на холсте не «травные» узоры, цветы или диковинных птиц, а вид помещичьей усадьбы.
В глубине двора, обнесенного забором, барский дом с колоннами. За ним разбит парк с деревьями, подстриженными по моде того времени, прудами, беседками и статуями. Среди полей петляет проселочная дорога, идущая к усадьбе. По сторонам дороги крестьянские избы, а ближе к усадьбе барские скотные дворы, птичник. Стадо возвращается домой. Женщина с серпом идет с поля. Девушка с ведрами на коромысле спускается к пруду. Старик ловит рыбу.
Руки мастериц быстро и ловко набирают на нитки разноцветный бисер. Он подбирался по тончайшим оттенкам: нежно переливалась зелень, ярко цвели в лесу цветы. На холст ложились как будто мазки красок.
Ты убей, убей, калена стрела Лебедь белую на взлете, Гуся серого на озере, — пели девичьи голоса.
— Лебедь я перламутровым стеклом сделаю, и пойдет она по саду.
— А я из самого мелкого черного бисера, что на зернышки мака похож, индюка в траву пущу — это, вроде, наш гордый барин ходить будет.
Так, смеясь и перебивая друг друга, говорили мастерицы.
М. В. Ломоносов. Портрет Петра I— Давайте побольше своих людей нашьем, — предложила черноглазая певунья, — и к заданному рисунку добавили от себя жницу с серпом, крестьянина с сохой, девушку с ведрами и человека, который под уздцы ведет запряженную лошадь.
Вода в пруде заблестела, по всему ковру на темно-зеленом фоне мастерицы разбросали красные, синие, желтые, бирюзовые бусины. Он стал нарядным, ярким, подлинным произведением искусства.
По набережной реки Мойки, свернув с Невского, шел высокий молодой человек. Это был Федот Шубной[55]. Он шел к своему земляку профессору Михаилу Васильевичу Ломоносову, которому здесь принадлежал двухэтажный дом. По бокам стояли небольшие флигеля, замыкавшие усадьбу. В одном жили мозаичисты, в другом помещалась мастерская. В этот дом на Мойке часто приходили земляки-поморы, кто с просьбой, а кто и с северным гостинцем: сушеной морошкой, соленой семгой, замороженной селедкой.
Несколько лет назад, идя первый раз этой самой дорогой, Федот волновался. Когда-то его отец Иван Шубной обучал Ломоносова грамоте. Теперь Михаил Васильевич важный человек и большой ученый, и, войдя в дом, Федот смущенно мял шапку в руках.
— Я Федот Шубной, Ивана Шубного сын…
Ломоносов, не дав договорить, обнял его и расцеловал. От радушного приема прошла застенчивость и робость. Долго шел разговор. Федот показывал вырезанные из кости кресты, ножи, украшенные резьбой.
— Отменная работа, — хвалил Ломоносов юного резчика по кости и перламутру, пришедшего в Петербург учиться, как когда-то он сам. Михаил Васильевич помог Шубному поступить в Академию художеств.
Сегодня Федот шел смотреть набор новой мозаики «Полтавская баталия», предназначенной для Петропавловского собора, который восстанавливался после пожара от удара молнии[56]. Личность Петра всегда привлекала Ломоносова. Ученый преклонялся перед ним, говоря: «Везде Петра Великого вижу в поте, в пыли, в дыму, в пламени».
Ломоносов и Шубной направились в мастерскую. Помещение было большое, двусветное. Вдоль стен стояли эскизы будущей картины, портреты Петра и его сподвижников.
Середину мастерской занимал деревянный станок, придуманный Михаилом Васильевичем. Его можно было поднимать, опускать, поворачивать, как было удобнее для набора, который производился на огромной медной «сковороде» в несколько тонн весом, специально заказанной Ломоносовым. Сама мозаика была задумана очень большой — в ширину девять аршин, в высоту — шесть[57]. Матвей Васильев и Ефим Мельников, переведенные с Усть-Рудицкой фабрики, вели набор и обучали начинающих мозаичистов. Многое уже было готово: Петр Великий на коне, а за ним — Шереметев, Меншиков, Голицын.
Мозаики делались с портретов, написанных еще при жизни Петра и его современников, и отличались удивительным сходством.
В ящиках стояла смальта разных цветов и оттенков, недавно привезенная с Усть-Рудицкой фабрики. Одновременно у станка работало восемьдесят человек, делая набор из четырех- и треугольных крупных смальт. Вблизи это были контрастные пятна, издали цвета сливались и изображение получалось яркое, красочное, фигуры казались объемными.
— Посмотри, Михаил Васильевич, как набираем лицо Петра Великого, — сказал, вытирая руки о фартук, Матвей Васильев. — Я вспоминаю тот его мозаичный портрет, который ты сам делал. В нем сразу видишь, что это был за человек: сумел ты показать силу его характера[58]. А вот я, сколько ни тружусь над лицом царя в Полтавской баталии, не могу достичь той жизни и правды, как у тебя получились. По многу раз я по твоему рисунку, по твоим краскам перекладываю смальту.
— Не все сразу получается, Матвей, — успокаивал Ломоносов. — Ведь лицо — самое трудное дело, надо чтобы сходство получилось. Не зря тебе, искусному мастеру, поручено. Это не фон, не траву набирать.
Ломоносов подвел Шубного поближе к мозаичному набору.
— Хотелось мне показать поединок русского народа со шведами. Вглядись-ка, Федот, вот в этих двух солдат: шведский опрокинут наземь, а русский гренадер над ним штык занес. Вот тут, на свободном месте, будет Карл XII. Бой еще идет, но на чьей стороне победа, уже ясно.
М. В. Ломоносов. Мозаика «Полтавская баталия»— А вот там, вдали, в клубах дыма, что? — спросил Федот.
— Там Полтава виднеется.
Оживившись, Ломоносов стал рассказывать о своих замыслах.
— Над полем боя нависли темные клубы дыма, а вдалеке голубое небо проступит и кое-где трава зазеленеет. Краски будут радостные, светлые и напомнят о мирной жизни, которую война прервала. Да, чуть не забыл, — спохватился Ломоносов. — Скажи всем, Матвей: если картина будет готова к дню празднования победы под Полтавой, я выдам сверх жалования квадратные деньги[59]. Смотри, вот здесь примерные расценки. — И Ломоносов вынул из кармана документ: воздух, дым, крупные места на платье, на лошадях, где мало перемен в тени и свете — 50 копеек. У платья, где фалды, обшлага, пуговицы, шляпы, лошадиные головы, хвосты, седла — 1 рубль. Крупное ружье, знамена — 2 рубля. Голова, руки и волосы простые — 3 рубля. Лагерь, Полтава, дерево — 4 рубля. Мелкие фигуры, полки — 5 рублей. Лицо самой главной особы особливо по рассмотрению». Ну, а теперь пойдем, Федот, помоги мне, что-то ноги разболелись. Вот ты и увидел мои мозаики со знаменитой Полтавской баталией.
— Такой большой мозаики и со столь многими фигурами ни разу не бывало еще на Руси, — с восхищением подумал Шубной.
Стекло во дворце
Не любил Михаил Васильевич Ломоносов приглашений во дворец: приходилось отрываться от работы в лаборатории, напяливать пудреный французский парик, парадный кафтан, кружевное жабо[60].
Но сегодня приглашение особое: «обер-архитектор ее величества» Варфоломей Варфоломеевич Растрелли ждет Ломоносова в Царском Селе, чтобы показать ему вновь отделанные залы в почти готовом загородном дворце до того, как их увидят императрица, придворные и иностранные послы. В отделке этих комнат Растрелли впервые применил стекло и интересовался мнением Ломоносова.
Пара породистых сильных лошадей, запряженных в экипаж, быстро домчала ученого до загородной царской резиденции.
Ломоносов не верил своим глазам: вместо небольшого и сравнительно скромного дворца, принадлежавшего когда-то Екатерине I, матери императрицы Елизаветы, выросло огромное здание сказочной красоты. На фоне небесно-голубых стен сверкала причудливая золоченая лепка, группами теснились белоснежные колонны с золочеными капителями[61], сверкавшую позолотой крышу украшало больше сотни статуй и ваз.
Такого удивительного дворца еще не было среди многих блестящих творений «обер-архитектора».
Растрелли, встретивший Ломоносова у подъезда, увидел на его лице нескрываемое восхищение и, стараясь сдержать невольную улыбку удовлетворенной гордости, повел Михаила Васильевича внутрь дворца.
Во втором этаже располагался длинный ряд залов, предназначенных для парадных приемов. В многочисленных канделябрах горели свечи, зажженные по распоряжению архитектора, чтобы усилить впечатление, подчеркнуть пышность отделки. Стены украшали мастерски вырезанные из дерева и покрытые позолотой причудливые завитки, напоминающие то цветы, то раковины, то птичьи крылья, то языки пламени. Обрамленные этими фантастическими узорами зеркала располагались рядами вдоль стен, одно против другого. Они отражали огоньки свечей, которые, казалось, уходили вдаль. Стены как будто раздвигались — создавалась иллюзия бесконечных галерей.
Давно ли было время, когда зеркало, то есть то же стекло, но покрытое с обратной стороны амальгамой[62], считалось редкостью даже во дворце. А еще раньше зеркала работы венецианских мастеров ценились дороже золота, и почти два века вся Европа покупала их в Венеции, ревниво оберегавшей секрет изготовления. Только в конце XVII столетия во Франции стали выливать стеклянную массу на металлический стол, раскатывать как тесто, сглаживая затем все неровности и покрывая обратную сторону амальгамой. Большие зеркала требовались для убранства дворцов. Их стали делать и в России.
Улыбаясь похвалам Ломоносова, Растрелли вел его дальше, в Малиновую столовую. Такое название она получила оттого, что стены украшали плоские столбы из листового стекла, положенного на малиновую фольгу. Их цвет и прозрачность великолепно гармонировали с богатым золотым обрамлением из гирлянд и раковин.
Михаил Васильевич понял и оценил мастерство Растрелли. И когда он, Ломоносов, ехал обратно, полный впечатлений от дворца, восхищение рождало рифмы, которые он тут же набрасывал на бумагу: Не разрушая царств, в России строишь Рим, Пример в том — Сарский дом; кто видит, всяк чудится, Сказав, что скоро Рим пред нами постыдится.
Прошло больше двадцати лет. В один из осенних дней 1779 года на большой площади перед царскосельским дворцом стоял человек лет пятидесяти, в котором по типу продолговатого лица с орлиным носом можно было узнать иностранца. Слегка прищурившись от осеннего солнца, он внимательно всматривался в творение Растрелли. Это был недавно приехавший из Англии архитектор шотландец Чарльз Камерон.
Ему было поручено, не разрушая старого, не споря с работами предшествующих мастеров, создать во дворце новые покои.
За прошедшие годы изменились вкусы, влияние на появление новых строгих форм в архитектуре оказали раскопки Помпеи и Геркуланума. Туда, в Италию, для изучения античности приезжали художники, архитекторы, скульпторы многих стран. Побывал там и Камерон.
При русском дворе Камерон был хорошо принят и получил должность «архитектора ее величества» Екатерины II. Это означало, что он был обязан руководить строительством только царских резиденций и не имел права получать заказы от кого-либо другого без ведома царицы.
Камерон долго ходил по залам дворца, отделанным Растрелли, удивляясь богатому убранству. Ничего подобного он еще не встречал. Увидев отделку Малиновой столовой, архитектор в полной мере оценил качество русского стекла, его блеск, размеры зеркал (он знал, что производство цветного стекла в России налажено благодаря работам Ломоносова и его ученика Петра Дружинина).
Этот красивый, необычный в архитектуре материал, Камерон, как и Растрелли, решил применить для отделки новых комнат дворца — спальни и кабинета царицы. «Архитектору ее величества» были предоставлены почти неограниченные возможности: разрешалось использовать в отделке даже дорогие русские самоцветы. И вот двинулись в столицу обозы, везя с Урала яшму, с берегов Байкала — лазурит, горный хрусталь и разноцветные мраморы.
Одновременно с доставкой самоцветов поступил большой заказ на стекольный завод, незадолго до того подаренный Екатериной Потемкину.
Все лучшие мастера приступили к варке синего и лилового стекла, к изготовлению белых и синих плиток из глушеного стекла, напоминавшего фарфор. Побочным размерам, установленным архитектором, вытягивали стеклянные полые с почти прозрачными стенками цилиндры. Это были части будущих колонн для покоев Екатерины.
Работы велись днем и ночью. Царица торопила Потемкина — ей хотелось скорее увидеть свои новые комнаты. Заказ был выполнен быстро, и стеклянные украшения, созданные безымянными крепостными мастерами, доставлены в Царское Село. Камерон, изучив в Италии древне-помпеянские росписи, воссоздал их при отделке спальни и кабинета.
Но на стенах помпеянских залов красками были даны картины с изображением античных богов и красками же создавалась иллюзия настоящих колонн или развешенных гирлянд. В помещениях же Екатерининского дворца стены покрывались стеклянными плитками, в облицовку вставлялись фарфоровые пластинки с изображением сцен жизни на Олимпе, а стройные колонны были собраны из синих и лиловых стеклянных цилиндров с положенной внутрь серебряной парчой. С потолка спустились люстры, напоминающие светящиеся фонтаны: под стеклянным колоколом-колпаком горели свечи, по краям рассыпались гирлянды подвесок, листьев; сноп слезок и дождя взметнулся вверх. Все это переливалось, горело и ослепительно сверкало. Зеркала, также вставленные в облицовку, усиливали блеск отраженного в них стекла. Одновременно для комнат царицы по рисунку Камерона была сделана невиданная новинка — стеклянный стол. Ножки в виде трубок, немного расширенных кверху, напоминали колонны, а синие и белые плитки украсили боковые стенки.
Спальня Екатерины II. Акварель В. И. ГауТак замечательные архитекторы Растрелли и Камерон, каждый в своем духе, создали волшебную звенящую сказку — гимн в честь стекла.
Хрустальное диво
На Императорском (купленном у Потемкина) стекольном заводе в Петербурге выполняли необыкновенный заказ.
В цехе, который мастера называли «хрустальным шатром», стоял не умолкавший ни на минуту звон — то ли это невидимый гигант ходит по стеклянной посуде, разбивая ее вдребезги, то ли бьют в огромный колокол.
Здесь варили стекло особого состава — хрусталь. Его отливали в формах большими плоскими плитами, а затем шлифовали быстро вращавшимися травяными щетками с растертой в порошок пемзой. Здесь же выдувались огромные вазы и еще какие-то предметы, похожие на бутоны колоссальных цветов.
В то же время в одной из комнат завода, в тишине, куда не долетал шум из цеха, сидел, склонившись над чертежами инвентор[63] Иван Алексеевич Иванов. Перед ним лежал проект, утвержденный самим царем, в котором ничего нельзя было изменить. Иван Алексеевич ломал голову над тем, как придать этому громоздкому сооружению хоть немного изящества.
Заказ был необычен: в подарок персидскому шаху из хрустального стекла делали… кровать. Недавно ему отослали хрустальный бассейн, и шаху вздумалось пожелать, чтобы в этом бассейне стояла кровать, а вокруг нее били фонтаны, освежая воздух в летний зной.
Кровать из хрусталяВот и приходилось изощряться, выполняя затею восточного владыки по вычурному рисунку, понравившемуся царю, но совсем не восхищавшему талантливого инвентора — мастера с тонким вкусом.
Что же такое хрусталь? Чем он отличается от простого стекла?
Еще в XVII веке, впервые в Англии, а затем в Чехии в стеклянную массу стали добавлять свинец или барий. Стекло получалось тяжелым, чистым, как горный воздух, похожим на минерал — горный хрусталь. Отсюда произошло его название, а в XVIII веке мастера-художники стали гранить его точно так же, как прозрачные драгоценные камни, — «алмазной» гранью. Поэтому и назвали гранильщиков «алмазниками». В их искусных руках хрусталь заискрился всеми цветами радуги.
Вначале мастеров, умевших варить свинцовое стекло, было так мало, что их в шутку называли волшебниками, которым известно «петушиное слово». Они знали, какой должна быть температура и сколько надо положить свинца. Не прошли даром опыты Ломоносова. «Волшебство» теперь было научно обосновано.
Дальнейшая обработка и огранка хрусталя также потребовала своих умельцев. Одни работали над «крупниной», то есть большими изделиями, другие набивали руку на «мелочах». Но только того называли «заветным мастером», кто «по-душевному творил».
Алмазнику приходилось наносить узоры, рисовать на стекле, ведя изделия по режущему вращающемуся колесу так, как если бы рисовальщик водил бумагой по концу закрепленного карандаша.
И вот теперь надо проявить все свое искусство в отделке невиданной хрустальной кровати. Она должна быть словно из прозрачного льда, стоять на ступенях из бледно-голубого хрусталя. Боковые стенки покрываются алмазной гранью, которая очерчивает контур словно нитями драгоценных камней.
На изголовье будто разбросаны мерцающие узкими гранями звезды или хороводы снежинок.
Наконец, хрустальная кровать была готова. Нигде во всем мире еще не делали из стекла столь грандиозного сооружения.
Ранним февральским утром 1826 года по заснеженным улицам Петербурга медленно двигался обоз. В первых санях ехал молодой офицер Носков со слугой, за ним мастера стекольного завода, сопровождавшие подарок в Тегеран, а дальше на нескольких розвальнях везли части хрустальной кровати. Дорога была долгой и трудной. Подарок пришлось перегружать с розвальней на телеги, потом на корабль, наконец на арбы. В Петербурге еще стояла зима с ветрами и метелями, а на юге цвели абрикосы, сливы, яблони.
«Чрезвычайный жар днем, простиравшийся до тридцати пяти градусов и сильная сырость в ночное время, соединяясь с гнилыми заразительными испарениями от болотистых мест, расстроили здоровье наше и повергли в болезненные лихорадочные припадки», — писал Носков, — «в течение двух недель я лишился обоих казенных мастеров и собственного моего слуги, скончавшихся от усилившейся лихорадки…»
Носков остался один. Не стало людей, знавших, как собрать части сделанной ими кровати. Но с Носковым были чертежи, и ему пришлось самому начать сборку во дворце шаха с помощью местных мастеров.
В хрустальных вазах забили струи воды. Лучи солнца, преломляясь и отражаясь в узорчатых гранях кровати, окрасили ее в разные цвета.
Увидя подарок, шах был поражен причудливостью форм и отделки. Зал, в котором установили кровать, он велел назвать «Храмом хрустального престола», а Носкова наградил орденом Льва и Солнца. Только не вспомнили о тех, чьими руками был сделан этот подарок. Носков, оставивший записки о путешествии, не назвал ни имен, ни фамилии тех, кто был с ним в трудном пути.
Чудесные превращения продолжаются
Наступил XX век. На одной шестой части земного шара, в Советской стране, перед искусством впервые встала задача — служить народу.
В небольшой тесной комнате топилась печурка. Вдоль стен стояли полки, шкафы. На них — маленькие статуэтки: матрос, красногвардеец, милиционер и другие. На подоконниках белая блестящая посуда, сияющая яркими красками. Над столами склонились художники. Это мастерская бывшего императорского, а после 1917 года Государственного фарфорового завода. Холод заставил живописцев перебраться в нее из большого светлого помещения.
Один из художников, устало потянувшись, сказал: «Ну, кажется, пора завтракать!» Его дружно поддержали остальные: в мастерской начались разговоры, смех. Уборщица разливала кипяток по кружкам и раскладывала скудный полуфунтовый хлебный паек, полученный ею по карточкам художников. Вобла и конина считались лакомством. Суровое время гражданской войны!
Государственный фарфоровый завод вместе со всей страной переживал тяжелый период. Помещения стояли нетопленные. Часто не было света. Жизнь на заводе еле теплилась, но сохранились основные кадры рабочих, имелись запасы сырья, красок, и предприятие не останавливалось ни на один день.
В марте 1918 года заводу предложили производить агитационный фарфор высокого революционного содержания, совершенных форм и безупречного технического качества. С тех пор политическая тема зазвучала в его произведениях с такой силой, с какой она никогда не звучала за всю историю русского фарфора. Многие художественные изделия были похожи на плакаты.
Художественной мастерской руководил С. Чехонин, талантливый художник-график и прекрасный организатор. Созданное им блюдо с монограммой РСФСР — первое произведение из фарфора с советской эмблематикой — сразу же завоевало всеобщее одобрение. Даже в оформлении тарелок, сервизов (авторы А. Щекатихина, 3. Кобылецкая и другие) с искусно написанными лозунгами были отражены задачи того времени.
Получила совершенно новое содержание и скульптура. Характерна в этом смысле фарфоровая статуэтка «Красногвардеец» работы В. Кузнецова: молодой рабочий полон воли и решимости защищать первую в мире республику трудящихся. В произведениях Н. Данько изображены типы, характерные для России первых лет революции, отрицательные и положительные, какими увидел их художник.
С. В. Чехонин. Юбилейное блюдо с надписью «РСФСР»По пустынному Невскому, скупо освещенному фонарями, бегали редкие вагончики трамваев. Усталые пешеходы, ежась от осеннего ветра, торопились домой. Но многие с интересом останавливались перед витриной с фарфором (в доме № 64 по Невскому проспекту, где и сейчас находится магазин художественного стекла и фарфора): на белых блестящих блюдцах горели красные звезды, серп и молот мерцали золотом, сказочные цветы сплетались в вензель «РСФСР», большие блюда были окаймлены венками и надписями «Долой помещиков и капиталистов», «Мы превратим весь мир в цветущий сад»; веселыми красками сияли белые и красные (!) фарфоровые шахматы, где королем «красных» был рабочий с молотом, королевой — крестьянка со снопом, пешками — женские фигуры с красными плащами на плечах с золотыми серпами.
Однажды в январе 1920 года дверь в художественную мастерскую распахнулась, и в комнату стремительной походкой вошел человек средних лет в сопровождении директора завода и художественного руководителя. Это был народный комиссар просвещения Анатолий Васильевич Луначарский. Живым, пытливым взором окинув помещение, он внимательно осмотрел каждую фарфоровую вещицу и, потирая застывшие руки, весело сказал:
— Вот это то, что нам надо! Какие яркие, жизнерадостные краски! Совсем не похожи на тусклую живопись царского фарфора последних лет! А фигурки! Кажется, что они ворвались сюда с улиц Петрограда! Молодцы!
По заводу быстро разнесся слух о приезде наркома. После работы все собрались на митинг в большом холодном цехе.
Горячо и взволнованно говорил Анатолий Васильевич о том, что рабоче-крестьянское государство нуждается не только в хлебе и боевых припасах, но также в освоении старой культуры и создании новой, советской. Он с удовлетворением отметил, что коллектив завода, несмотря на жесточайшую борьбу с врагами, голод, разруху, создает агитационный фарфор, выполняя ответственное задание страны.
Статуэтки из серии «Петроградские типы»В том же 1920 году произошло еще одно важное для завода событие. В один из солнечных майских дней по светлым цехам шел человек. Высокая сутуловатая фигура, крупные черты лица, длинные густые усы. Окающий говорок выдавал в нем волжанина. При виде его люди оживлялись и шепотом говорили:
— Да ведь это Горький! Алексей Максимович! Ну, конечно, он!
Писатель добродушно улыбался, останавливался, заговаривал с рабочими, приглядывался к процессу производства. Особенно долго задержался Алексей Максимович в живописной мастерской. Здесь его окружили художники, показывая новые образцы. Некоторые вещи Горький брал в руки, осматривал со всех сторон, ставил в сторону. Потом вдруг сказал:
— А почему бы заводу не работать для заграничных выставок? Ведь наш фарфор о многом может рассказать. За рубежом у нас не только враги, но и друзья, а они о нас мало знают. Я недавно вернулся из Европы, лечился. Встречался с людьми, которых интересует все новое, что делается в нашей стране. А ведь ваш завод, можно сказать, центр фарфоровой культуры в стране, его изделия в столицах Европы будут играть большую агитационную роль.
И Горький тут же отобрал несколько интересных образцов для международных выставок.
С этого времени советский фарфор стал хорошо известен за границей. Изделия государственного завода побывали в Лондоне, Берлине, Париже, Брюсселе, Милане, Венеции. Многочисленные медали и дипломы, присужденные заводу на международных выставках, подтверждали это признание. Советский фарфор перед лицом всего мира разоблачил лживую версию о гибели искусства в Советской России.
В 1925 году заводу присвоили имя М. В. Ломоносова. Большой коллектив его художников работает сейчас над новыми образцами.
Ваза «Кристалл» В. Л. Семенова на выставке в Брюсселе в 1958 году была удостоена «Гран-при».
Широко известно творчество заслуженного художника Э. М. Криммера. Его тонкостенный сервиз «Волна» (1958) поражает изяществом форм и умением художника показать красоту самого фарфора. На выставке в Брюсселе он удостоен золотой медали.
Многих художников привлекает патриотическая тема. Так, Л. В. Воробьевский на вазе «Слово о полку Игореве» изобразил сцены из этого выдающегося произведения древнерусской литературы.
В 1960 году Л. В. Протасовой был создан интересный сервиз «Север», посвященный жизни и быту северных народов нашей страны.
Многочисленные фарфоровые сервизы и вазы А. А. Лепорской неизменно привлекают внимание зрителей. Прекрасный сервиз «Ленинград» был удостоен золотой медали на Международной выставке керамики в Праге в 1961 году.
Характерной чертой творчества советских художников являются непрерывные поиски нового, использование лучших традиций прошлого.
Л. В. Воробьевский. ВазаГосударственный фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова, некогда выполнявший заказы царского двора и знати, превратился в крупнейшее предприятие, впервые в истории удовлетворяющее широкие потребности всей страны.
На тысячи километров раскинулась дремучая тайга: ни дорог, ни человеческого шилья… Глухо шумели от холодного осеннего ветра ели и пихты. Землю ночами покрывал иней, по реке плыли льдинки.
Шел август 1954 года. За короткой якутской осенью надвигалась студеная зима. По берегу медленно шли двое: молодая женщина-геолог и ее помощник-рабочий. Местами они продвигались ползком, через каждый метр рыли ямки, и женщина, припав к земле, что-то внимательно рассматривала в лупу. За день продвигались не больше, чем на два километра. Что же искали двое отважных в дебрях якутской тайги?
Ларису Попугаеву и Федора Беликова доставили самолетом за много километров от города и проезжих дорог. Это была одна из групп геологической экспедиции, перед которой стояла задача огромной государственной важности: найти в нашей стране самый ценный и редкий камень — алмаз.
Советских людей он интересовал не только как материал для украшений. Прошло время господства царей и вельмож, тративших баснословные деньги на драгоценности.
Алмаз — самый твердый камень, и почти ни одна отрасль современной промышленности не может без него обойтись. Алмазные «коронки» нужны для бурения горных пород, алмазные резцы и сверла — для обработки металла, камня, резки стекла, алмазные порошки — для огранки, шлифовки, полировки самых твердых материалов. Все это требует огромного количества редкого камня. Между тем в нашей стране его почти не обнаруживали, если не считать случайных находок отдельных кристалликов на Урале. Приходилось ввозить алмаз из-за границы.
В прошлые века считали, что алмаз можно найти только в странах жаркого юга, хотя с этим не соглашался Ломоносов, говоря: «Станем искать металлов, золота, серебра и прочих, станем добираться даже до изумрудов, яхонтов и алмазов. По многим доказательствам заключаю, что и в северных земных недрах пространно и богато царствует натура».
Но взяться за поиски алмаза стало возможным только в наше время, когда не энтузиасты-одиночки на свой страх и риск пускаются на поиски скрытых сокровищ, а само государство ставит эту задачу, и план поисков разрабатывается на научной основе.
Советские исследователи прежде всего заинтересовались, есть ли где-нибудь в Советском Союзе район, похожий по расположению слоев горных пород и их составу на знаменитый алмазоносный район Южной Африки. После долгого и тщательного изучения специальной литературы и карт, ученые пришли к выводу — да, такой район существует: это огромное плоскогорье «Сибирская платформа» в Якутии между реками Енисеем и Леной. Одна из первых экспедиций, отправившихся в Якутию, привезла в Ленинград красные камешки, пиропы, похожие на капли крови. Это была находка первостепенной важности: геологи знали, что пиропы — спутники алмазов.
И снова несколько отрядов геологов двинулись в якутскую тайгу.
Стоя на коленях на мерзлой земле, Лариса Попугаева дрожащими от нетерпения руками отдирала толстый слой мха, под которым сверкнули красные зернышки пиропов.
А дальше, вглубь, шел слой голубовато-зеленой породы, долгожданный кимберлит, содержащий алмазы. Это было первое коренное месторождение, открытое в советской стране. К концу 1955 года стал известен уже десяток таких кимберлитовых месторождений.
Открытие якутских алмазов не могло не произвести большого впечатления на весь мир. Ведь оно означало, что у СССР теперь отпала необходимость ввозить их из-за границы. Но в иностранных газетах звучал оттенок недоброжелательства. Они писали, что от находки алмазов в дебрях тайги, в местах почти необитаемых, до их широкого использования, пройдет много лет и что за границей увидят советские алмазы не раньше XXI века. Между тем, до XXI века еще далеко, а в глухой тайге уже проложили дороги, появились строители, туда доставлены мощные механизмы. У главного рудника вырос большой город «Мирный», город молодежи.
В предельно короткие сроки созданы фабрики для обработки алмазов. Смоленская фабрика существует меньше десяти лет, а уже стала одним из самых мощных предприятий мира, производящих не только инструменты для промышленности, но и сверкающие россыпью огней бриллианты. Советские алмазы завоевывают достойное место в мире.
Изделия советских ювелирных фабрикУченые нашей страны поставили перед собой и другую, еще более сложную задачу: нельзя ли сделать искусственный алмаз? Дело в том, что удивительный по красоте камень состоит… из самого обыкновенного углерода. При температуре в восемьсот пятьдесят — тысячу градусов алмаз может сгореть, бесследно исчезнуть. А если нагревать его до двух — трех тысяч градусов без доступа кислорода, произойдет удивительное явление: алмаз постепенно потемнеет, покроется черной корочкой и станет… графитом, тем самым мягким, черным, пачкающим руки и бумагу минералом, который вставляется в карандаши. Твердый прозрачный алмаз и мягкий черный графит — родные братья, потому что состоят из одного и того же углерода. Только атомы расположены в них по-разному. В зависимости от различных процессов, происходивших в недрах нашей планеты, из углерода образовывался то твердый алмаз, то мягкий графит.
Но если можно алмаз превратить в графит, то нельзя ли сделать и наоборот? Мысль эта занимала ученых разных стран с давних пор. Они упорно бились над созданием искусственных алмазов. Но все попытки были безрезультатны, так как техника не давала возможности достичь ни той высокой температуры, ни того огромного давления, которые нужны для превращения графита в алмаз. Для решения этой проблемы объединили свои усилия и советские физики, химики, математики, инженеры-конструкторы. Было произведено бесчисленное число опытов, и, наконец, появились первые искусственные алмазы — такие же твердые, как естественные и с таким же строением атома.
Из чудесных превращений камня это было самым удивительным.
Постукивали колеса поезда, быстро мчавшегося из Москвы в Ленинград. В купе на столике у окна горела лампа, освещая лицо уже немолодой женщины, склонившейся над листом бумаги. Несмотря на позднее время и необычность обстановки, она работала. Карандаш набрасывал контуры цветка лотоса, женщина вглядывалась в свой рисунок, задумывалась, и карандаш снова скользил по бумаге. Очертания цветка менялись, то вытягиваясь, то становясь более широкими и приземистыми. Скульптор Вера Игнатьевна Мухина, народный художник Советского Союза, создавала эскиз новой вазы, которая должна была родиться в Ленинграде на Заводе художественного стекла.
В. И. Мухина. Ваза «Лотос»На заводе Мухину давно ждали мастера, умеющие подчинять себе все причуды стекла и выдувать по эскизу художника произведения искусства. Это были известные всей стране Михаил Сергеевич Вертузаев, потомственный стеклодув, и его племянник Борис Алексеевич Еремин. Они претворяли в жизнь замыслы Мухиной. По эскизу, созданному под стук колес, у плавильных печей рождался лотос из стекла.
Вера Игнатьевна стояла рядом со стеклоделом и тут же корректировала, улучшала свой эскиз. Волшебная трубка вдувала жизнь в горячее стекло и на глазах зацветал яркими красками ее «Лотос».
Творчество В. И. Мухиной чрезвычайно разнообразно. Она — новатор во всем. Вера Игнатьевна считала, что новый материал рождает и новые формы, пробуждает и новые мысли. «Жить — это гореть, истинный художник не может творить хладнокровно», — так не раз говорила она.
И как бы в подтверждение этих слов в 1937 году для Парижской выставки, где все должно было говорить о достижениях Советского Союза, из нового материала, который казался несовместимым с объемными формами скульптуры, родились гигантские фигуры колхозницы и рабочего.
Так начали свой победный путь юноша и девушка, высоко поднявшие серп и молот и ставшие символом Страны Советов. Никогда и никто не делал еще скульптур из нержавеющей стали.
Новой жизнью заставила Мухина жить и стекло.
Древнегреческий миф рассказывает, что богиня красоты Афродита родилась из пены морской. Многие скульпторы и художники изображали ее выходящей из волн.
В молодые годы Вера Игнатьевна, увлекаясь искусством Древней Греции, мечтала изваять обнаженную статую такой, чтобы она была прозрачна, как вода, чтобы линии тела были плавными, текучими и действительно казалось бы, что она рождается из воды, составляет одно целое с водной стихией. Прозрачная статуя должна стоять в красивом парке, среди зелени и цветов, меняя оттенки при разном освещении, становясь нежно-розовой ранним утром и золотисто-красной на закате солнца.
Изучив чудесные свойства стекла, Мухина решила создать из него статую. Начались бесконечные опыты — навыков в отливке из стекла произведений больших размеров не было. Долго бились мастера и после многих неудач из формы вынули, наконец, чудесную скульптуру. Это была фигурка девушки. Она как будто вышла из воды: казалось, капли стекают с поверхности нежного тела. Каждый новый поворот порождал необычный и богатый эффект игры света и теней, идущих из глубины и видных на просвет, создающих впечатление объема и движения.
Из стекла рождалась не только скульптура: этот прозрачный искрящийся материал по-новому стали использовать для отделки зданий и помещений.
Так, в Ленинграде стеклянные колонны украсили хрустальный дворец на станции метрополитена «Автово» (архитекторы Е. А. Левинсон и А. А. Грушке). Стеклянные рельефы по спирали покрыли колонны, и лучи света придали им массивность и неувядаемую свежесть.
Со всего мира приезжают люди в Москву, чудесный город, символ солнечного будущего человечества, в котором удивительно сочетается старое и новое. Шпиль Московского университета блестит без червонного золота: оранжевое стекло, покрытое алюминием, превратилось в своеобразное зеркало, отражающее лучи света. Здесь металл взят под защиту стекла — долговечность его беспредельна.
Башня Московского КремляПо-новому прекрасным стал и Кремль, над древними башнями которого зажглись осенью 1937 года яркие алые звезды. Вделанные в огромный каркас из нержавеющей стали весом в полторы тонны, с размахом лучей до четырех метров, они отлиты из двух слоев стекла — белого и рубиново-красного — и освещены изнутри мощными лампами. Укрепленные подвижно, звезды поворачиваются от малейшего ветерка и потоки воздуха охлаждают нагретое стекло.
Невозможно представить себе сейчас Кремль, Москву без рубиновых звезд, созданных трудом и талантом человека, творца новой жизни, строителя новой Москвы XX века.
Зацвели рубинами пять огней Кремля, Пять огней пылающих, пять огромных звезд, Светом озаряющих наш батырский рост. Джамбул
Многие века и тысячелетия совершались чудесные превращения глины, камня и песка — от первобытного горшка до фарфора, от грубо обточенного камня до искусственных алмазов, от египетского стекла до кремлевских звезд. Люди создавали красоту, передавая мастерство из поколения в поколение. Сменялись века, появлялись новые находки и открытия.
[1] Евфроний работал в Афинах в конце VI — начале V века до нашей эры.
[2] Керамос — по-гречески горшечная глина.
[3] В Эрмитаже хранится большое собрание греческих ваз, в том числе и «Ваза с ласточкой».
[4] Евфимид — известный афинский мастер, современник Евфрония. Такие надписи на вазах действительно существуют.
[5] «Понт Эвксинский» в переводе с греческого — гостеприимное море. Так называли древние греки Черное море.
[6] Прозвище Тимура.
[7] Инд — река в Индии, Итиль — Волга.
[8] Многие из самаркандских изразцов хранятся в Эрмитаже.
[9] О витражах см. в главе «Песок».
[10] Из семьи делла Роббиа вышел еще один скульптор — Джованни, несколько работ которого хранится в Эрмитаже.
[11] Замечательная коллекция «сельских глин» Палисси хранится в Эрмитаже.
[12] Некоторые из первых изделий Бетгера хранятся в Эрмитаже.
[13] На этом месте в настоящее время находится Государственный фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова.
[14] В Эрмитаже хранится около 70 предметов, сделанных при жизни Виноградова.
[15] Арабесками называли рисунки, в которых стебли и цветы растений причудливо переплетались с фигурами животных, птиц, фантастических существ. С подобными рисунками познакомились при раскопках древнеримских зданий, где они украшали стены.
[16] Предметы «Арабескового» сервиза и статуэтки народов России хранятся в Русском музее и Эрмитаже.
[17] Находится в Эрмитаже.
[18] Хапи — египетское название Нила.
[19] В СССР его добывают на Урале и в Средней Азии.
[20] От греческого слова γλυπτω̃ (глюпто) — вырезаю.
[21] От итальянского слова intaglio (инталио) — резьба.
[22] Локоть — древняя египетская мера длины, около 0,5 метра.
[23] Хранится в Эрмитаже.
[24] Дарданеллы.
[25] Так называли себя древние греки.
[26] Более 15 см длиной и более 11 см шириной.
[27] Начало ей было положено в 1725 году Петром I, а спустя пятьдесят лет Екатерина II с гордостью заявляла, что петергофские камнерезы работают лучше римских.
[28] Колыванская шлифовальная фабрика у подножия Алтая, южнее города Барнаула, обрабатывала местные породы камня — яшму и порфир (основана в 1802 г.).
[29] Все упомянутые здесь каменные вазы находятся в залах Эрмитажа.
[30] Ныне город Пушкин.
[31] Ныне улица Халтурина.
[32] Работал на Екатеринбургской шлифовальной и гранильной фабрике, основанной в 1755 году (Екатеринбург — ныне Свердловск).
[33] П. Бажов. «Малахитовая шкатулка». Л., 1950, стр. 212—214.
[34] Пилястры — декоративные полуколонны.
[35] До открытия месторождения алмазов в Якутии они добывались в Южной Африке, Индии и Австралии.
[36] Карат — 0,2 грамма. Каратами измеряется вес драгоценных камней.
[37] От французского слова briller — блестеть.
[38] Ювелирные изделия Позье находятся в Эрмитаже и в Алмазном фонде СССР (Москва).
[39] Корона и скипетр с алмазом «Орлов» находятся в Алмазном фонде СССР (Москва). В Эрмитаже хранятся их уменьшенные в десять раз копии из настоящих драгоценных камней, выполненные ювелиром Фаберже для Всемирной парижской выставки 1900 года.
[40] Сейчас на этом месте находится селение Тель-Амарна.
[41] Подобный сосуд хранится в Эрмитаже.
[42] Египтяне отождествляли Сераписа с Осирисом, а греки с владыкой царства умерших Аидом. Греческая культура, распространяясь на Востоке, сама изменялась под влиянием Египта и других стран.
[43] Подобные сосуды хранятся в Эрмитаже.
[44] Позже такую отделку сосудов стали называть «кракелажем», от французского слова craquelé — потрескавшийся.
[45] В Эрмитаже хранится большая коллекция венецианского стекла.
[46] София — по-гречески, мудрость.
[47] Площадь Софийского собора 1345 квадратных метров. Высота до верха центрального купола 30 метров.
[48] Длинное платье прямого покроя. Хитоны носили древние греки.
[49] Орантой называют фигуру молящейся богоматери с поднятыми руками.
[50] Высота фигуры 5,5 метра.
[51] Сияние вокруг головы.
[52] В мозаиках Софии 177 оттенков смальты.
[53] Фабрика основана в 1753 году.
[54] В XIX веке бисер стали круглить в железных барабанах.
[55] Впоследствии прославленный скульптор Федот Шубин.
[56] Мозаика «Полтавская баталия» находится в настоящее время в здании Академии наук в Ленинграде.
[57] Аршин равен 71 см. Размер мозаики, примерно, 6,5×4 м.
[58] Мозаичный портрет Петра I работы М. В. Ломоносова находится в Эрмитаже.
[59] Расценки за квадратный фут мозаичного набора.
[60] Кружевное нагрудное украшение мужского костюма. От жабо впоследствии произошел галстук.
[61] Капитель — верхняя, венчающая, часть колонны.
[62] Амальгама — сплав, составной частью которого является ртуть.
[63] В переводе с французского «выдумщик», «изобретатель» — так называли главного художника завода.
Оглавление
Марина Викторовна Андреева, Любовь Владимировна Антонова, Ольга Борисовна Дмитриева
Чудесные превращения
Научно-популярные очерки
Фотографии М. Вахромеевой Оформление М. Яблочникова Художественный редактор В. Левченко Технический редактор Н. Соколова Корректор Э. Неуструева
Сдано в набор 14/IV 1972 г. М-17952. Подп. в печ. 21/XII 1972 г. Изд. № 4513. Формат бумаги 70×90 1/16, мелированная. Печ. л. 10. Усл. печ. л. 11,7. Уч.-изд. л. 8,42. Заказ № 6224. Тираж 30 000. Цена 1 р. 48 коп.
Издательство «Аврора». Ленинград, Д-65, Невский пр., 7/9. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 3 имени Ивана Федорова «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, 196126, Звенигородская ул., 11.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


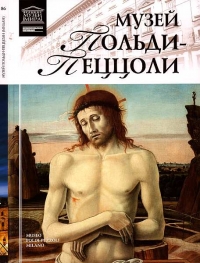


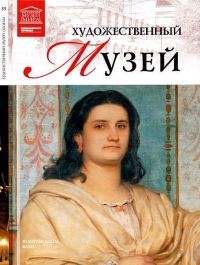

Комментарии к книге «Чудесные превращения», Марина Викторовна Андреева
Всего 0 комментариев