Тэн Ипполит Философия искусства
Подготовка к изданию, общая редакция, составление именного указателя и послесловие —
А. М. Микиша
Вступительная статья —
П. С. Гуревич
В составлении именного указателя принимала участие
О. И. Шульман
М. Республика, 1996.
Силуэты культурных эпох
О мировом искусстве, его жанрах и этапах развития написано множество книг. Однако вряд ли может считать себя сведущим в этой области тот, кто незнаком с произведениями выдающегося французского философа и историка Ипполита Тэна. Его сочинения, изданные на русском языке несколько десятилетий назад, давно стали библиографической редкостью. Между тем в наши дни, когда особенно возрос интерес к познанию сущности, природы, закономерностей создания произведений культуры, ее развитию, настало время для пытливого и внимательного чтения работ Тэна. Наряду с трудами датского ученого Георга Брандеса и российского Александра Веселовского предлагаемая вниманию читателя книга составляет классику культурфилософской и искусствоведческой мысли.
Что можно сказать в предваряющем книгу слове? Тэн создал произведения, не имеющие аналогов по универсальности и богатству материала, исследовательскому кругозору и строгой фактологии. Исследовательская добросовестность философа не нуждается в рекомендациях. Идет ли речь о средневековой цивилизации и готической архитектуре, великих художниках Возрождения или духовном родстве греков и латинян, сравнении лирической поэзии греков с поэзией современных ему народов, типах реалистической или комической литературы, в работе Тэна нет приблизительных или неточных деталей, поверхностных оценок.
Обратимся к щедрой мозаике фактов, проницательных наблюдений и выводов, которые позволяют воссоздать силуэты эпох развития культуры. Когда Тэн сравнивает периоды расцвета или упадка, он не ограничивается двумя-тремя иллюстрациями. Исследователь говорит о литературе, музыке, скульптуре, живописи. Он вводит нас в мир культурных феноменов разного ранга и разного смысла.
В соответствии с установками классического позитивизма Тэн отдает предпочтение факту. Конечно, у кого-то, привыкшего к иной методологии, это может вызвать психологическую дискомфортность. Зачем это почти естественно-научное перечисление конкретных событий, деталей? Но вот по здравому размышлению улавливаем: за минувшие десятилетия преобразовались оценки, сменились пристрастия. Что же осталось нетронутым? Верховенство его величества Факта. Да, такими были, можно полагать, древние живописцы Помпеи и Равенны. Тождествен классический стиль при Людовике XIV. Узнаваемы статуи на гробнице Медичи. Самодовлеет живое тело, запечатленное на полотне художника. Живописцы-реалисты в Италии схожи с анатомами. Конкретны и выразительны символические и мистические итальянские школы.
Факт предельно значим, когда речь идет о культурно-исторической школе, поскольку именно разносторонней фактуры не хватает многим ’’всеобщим историям искусств”. Но примеры вовсе не представлены Тэном обособленно. Они выражают стремление воскресить образ культурной эпохи, передают ее аромат и неповторимость. Произведение искусства, по мысли французского искусствоведа, не есть нечто единичное, отдельное. Картина, трагедия, статуя — непременная часть целого. Речь идет не только о творчестве художника, которое выражает единство стиля. Воссоздается акустика времени. Рельефной, исторически конкретной оказывается общественная обстановка.
Однако как оценить философско-искусствоведческую концепцию автора? Одно дело, когда Тэн рассказывает о гимнастике во времена Гомера или о малых фламандцах. Другое — когда он рассуждает о типологии искусств. Третье — когда заявляет, что буквальное подражание не является целью искусства. Фактограф, аналитик, теоретик, эксперт. Чему же довериться? Ведь кроме описания явлений, регистрации фактов в книге немало теоретических рассуждений, обобщающих соображений. Неужели нет иной путеводной нити, кроме позитивистской?
Время расставляет собственные акценты. Наивно сегодня кроить философию по меркам точной науки. Да и сама наука все чаще рассматривается лишь как специфическая форма организации духовного опыта. Бурное развитие гуманитарного, антропологического знания лишает привлекательности идею строгого естественно-научного мышления. Не стоит отождествлять философию со своеобразной ботаникой; у нее совсем иное предназначение. И хотя позитивизм во многом выглядит сегодня уязвимым, однако идеал строгой рациональности сохраняет свое значение и в наши дни, в том числе и в культурфилософии. Если говорить об общей направленности тэновского анализа, то он ближе всего по своему духу к современным попыткам раскрыть коллективную ментальность, то есть передать исходные типы мышления, господствующие в конкретном обществе, особенности душевного склада людей, психологические черты эпохи.
Раскрывая собственный вариант философии истории и искусства, Тэн выдвигал понятие ’’основной характер” (предвестие последующих формул в философии — ’’национальный характер”, ’’социальный характер”). Имелся в виду главенствующий тип человека, который появляется в конкретном обществе и затем воспроизводится в искусстве. Стало быть, исследователя интересовал не общий план истории, не анонимные социальные структуры, а именно всечеловеческое, как оно проявляется в разное историческое время.
На содержание антропологически трактуемого характера, по Тэну, оказывают воздействие три фактора: раса, то есть наследственные свойства, среда и момент, проще говоря, историческая эпоха.
Мысль Тэна не исключает того, что многие процессы в культуре возникают вообще на уровне коллективного бессознательного. Мы не знаем, например, кто является автором тех или иных традиций, идущих из глубины веков. Культурные феномены нередко восходят к глубинам психики. Национальные, расовые компоненты чрезвычайно важны в той же мере, как и общесоциологические факторы. Кроме расовой принадлежности и существующих исторических условий Тэн весьма большое значение придавал понятию среды, то есть психического, духовного, культурного, социального окружения. Весьма значимыми оказывались ’’моральная температура” или ’’состояние умов и нравов” (мы, возможно, сказали бы сегодня: ценностные предпочтения людей).
Разумеется, психологические процессы не следует сводить к физиологическим реакциям. Однако целесообразно ли естественную органику изгонять из ’’наук о духе”? Создавая типологию искусств, Тэн опирается на теорию аналогий, усматривая определенные прототипы собственных классификаций в тех усилиях, с помощью которых французский зоолог Жоффруа Сент-Илер объяснил строение животных, а И. В. Гете — морфологию растений. Означает ли это, что французский исследователь не видит различия между биологическим и социальным? Такой вывод был бы поспешным и тенденциозным. Изучая социум, важно, конечно, видеть его специфику. Но разве не разумно прослеживать в обществе те же закономерности, которые обнаруживаются в природе?
После неокантианцев ’’науки о природе” традиционно противопоставляли ’’наукам о духе”. Величие естественных наук, как подчеркивал немецкий философ-феноменолог Э. Гуссерль, состоит в том, что они не довольствуются эмпиризмом. Что касается человеческой духовности, то она опирается и на человеческую природу. Духовная жизнь человека укоренена не только в социальных связях, но и в его телесности, а каждая человеческая общность — в телесности конкретных людей, которые являются членами этой общности. Феноменолог прав: историк не может рассматривать историю Древней Греции, не принимая во внимание физической географии Древней Греции, не может изучать ее архитектуру без учета строительных материалов. Тэну было это предельно ясно.
П. С. Гуревич
ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА
Отдел первый. О сущности художественных произведений
От автора
Милостивые Государи!
Приступая к этому курсу, я хотел просить вас о выполнении двух условий, крайне для меня необходимых: хотел просить, прежде всего, вашего внимания и, затем, в особенности, вашего снисхождения. Прием, какой вам угодно было мне сделать, убеждает меня, что вы не откажете мне ни в том, ни в другом. Позвольте изъявить вам за это заранее самую живейшую, самую искреннейшую благодарность.
Предметом наших чтений в этом году будет история искусства, и преимущественно — живописи в Италии. Прежде чем приступить к самому курсу, мне бы хотелось указать вам метод и общий его дух.
I
1. Предмет сочинения. — Метод, употребленный автором. — Отыскание тех неразрывных целых (des ensembles), с которыми связано художественное произведение. Первое целое — общая совокупность произведений художника. Второе целое — школа, к которой он принадлежит. Примеры: Шекспир и Рубенс. Третье целое — его сограждане и его современники. Примеры: Древняя Греция и Испания в XVI столетии.
2. Эти три целые определяют появление и характеристические черты художественных произведений. — Примеры: греческая трагедия, готическая архитектура, голландская живопись и французская трагедия. — Сравнение физических температур и произведений с температурами и произведениями моральными. — Применение этого метода к истории итальянского искусства.
3. Цель и метод эстетики. — Противопоставление догматического метода и метода исторического. — Устранение правил и отыскание законов. — Сочувствие ко всем школам. — Аналогия между эстетикой и ботаникой; аналогия между науками нравственными и естественными.
Исходная точка этого метода заключается в признании того, что художественное произведение не есть одинокое, особняком стоящее явление, и в отыскании поэтому того целого, которым оно обусловливается и объясняется.
Первый шаг нетруден. Прежде всего, очевидно, художественное произведение, картина, трагедия, статуя составляют часть целого — именно часть всей деятельности художника, творца их. Это понятие элементарное. Всякому известно, что различные произведения одного художника все родственны друг другу, как дети одного и того же отца, т. е. все имеют между собою заметное сходство. Вы знаете, что у каждого художника есть свой стиль, встречаемый во всех его произведениях. Если это живописец, у него есть свой колорит, роскошный или тусклый, свои любимые типы, благородные или площадные, свои позы, свой образ сочинения, даже своя манера писать, своя грунтовка, своя лепка, своя накладка красок, своя отделка. Если это писатель, у него свои герои, пылкие или нежные, свои завязки, запутанные или простые, свои развязки, трагические или комические, своя особенность в стиле, свои периоды и даже свои любимые слова и выражения. Это до того справедливо, что, если вы, не объявляя имени мастера, представите произведение одного из сколько-нибудь известных художников знатоку, он почти несомненно откроет, чье оно; даже более, если знаток обладает достаточной опытностью и достаточно тонким пониманием, он может определить, к какому именно времени из жизни художника и к какому периоду его развития относится предъявленное ему вами художественное произведение.
Вот первое целое, с которым связано художественное создание. Второе заключается в следующем.
Этот же самый художник, рассматриваемой в связи со всем тем, что произвел он, не есть что-либо одинокое. Здесь также есть целое, в котором совмещается и он; это целое, более обширное, чем вся собственная его деятельность, есть школа или семья художников той страны и того времени, к которым он принадлежит. Например, вокруг Шекспира, который с первого взгляда кажется каким-то чудом, свалившимся к нам с неба, метеоритом, упавшим из пределов другого мира, мы находим дюжину отличных драматических писателей: Вебстера, Форда, Мэссинджера, Марло, Бен Джонсона, Флетчера и Бомонта, которые писали таким же стилем и в том же духе, как он. Их драматические произведения носят на себе те же характерные черты; вы найдете там те же дикие и ужасные лица, те же кровавые и неожиданные развязки, те же быстрые и необузданные страсти, тот же беспорядочный, причудливый, резкий и вместе с тем роскошный стиль, то же превосходное и поэтическое чутье сельской природы и пейзажа, те же нежные и глубоко любящие типы женщин. Равным образом, Рубенс кажется лицом одиноким, без предшественников и без последователей. Но стоит лишь отправиться в Бельгию и зайти там в церкви в Генте, Брюсселе, Брюгге и Антверпене, чтобы увидеть целую группу живописцев, сходных с ним по таланту: во-первых, Крейер, считавшийся, в его время, соперником его, Сегерс, Ван Оост, Эвердинген, Ван Тульден, Квеллин, Гондтгорст и другие, наконец, известные вам Йорданс, Ван Дейк, которые все понимали живопись в его духе и все, помимо иных личных особенностей, представляют явное между собою сродство. Подобно Рубенсу, они предпочли изображение цветущего, здорового тела, роскошного, кипящего жизнью движения, резкого кровавого румянца — этого признака жизни, предпочли изображение действительных, часто грубых типов, порыва и увлечения прихотливой страсти, пышных, лоснящихся и пестреющих тканей, блеска пурпура и шелка, волнующейся и свивающейся драпировки. Теперь, славою их великого современника, они как будто совершенно уничтожены; но все-таки не менее достоверно то, что для понимания Рубенса необходимо собрать вокруг него этот сноп талантов, в котором он высится лишь самым видным стеблем, — этот кружок художников, в котором он является самым знаменитым представителем.
Вот второй шаг. Остается ступить третий. Эта же самая семья художников совмещается в более обширном целом — в окружающем их мире, вкус которого сходен с их вкусом. Ибо нравственное и умственное состояния одни и те же как для общества, так и для художников; они не стоят же ведь совершенно особняком. Один лишь их голос слышим теперь мы, отдаленные от них целыми веками; но в звуках этого гремящего голоса, дрожания которого достигают нашего слуха, мы распознаем сложный гул и как бы необъятное, глухое жужжание — распознаем великий, бесконечный, сложный говор народа, вторившего им вокруг. Они и великими-то сделались только вследствие этой гармонии. Да иначе и не могло быть. Фидий, Иктин, люди, создавшие Парфенон и Юпитера-Олимпийца, были, подобно другим афинянам, свободные граждане и язычники, воспитанные в палестре, которые боролись и упражнялись в гимнастике раздевшись донага, были знатоки в решении дел и голосовании на общественной площади, имели одни и те же привычки, интересы, идеи, верования — люди одного и того же племени, одинакового воспитания, говорившие одним языком, так что во всех главнейших частях своей жизни они были совершенно схожи со своими зрителями.
Это соотношение становится еще осязательнее, если мы обратимся к более близкому нам времени; вспомним, например, великую испанскую эпоху, начинающуюся с XVI века и идущую вплоть до половины XVII столетия; эпоху великих поэтов: Лопе де Веги, Кальдерона, Сервантеса, Тирсо де Молины, дон Луиса де Леона и многих других; эпоху великих живописцев: Веласкеса, Мурильо, Сурбарана, Франсиско де Герреры, Алонсо Кано, Моралеса. Вы знаете, что Испания в то время была государством всецело монархическим и католическим, побеждала турок при Лепанто, попирала ногою Африку и вводила там свои учреждения; сражалась с протестантами в Германии, преследовала их во Франции и нападала на них в Англии; обращала и покоряла идолопоклонников Нового Света, изгоняла из своих пределов евреев и мавров, очищала свою собственную веру с помощью аутодафе и гонений, тратила очертя голову флот, армию, золото и серебро своей Америки — самого дорогого из ее детищ, живую кровь ее собственного сердца — в частых, чересчур смелых крестовых походах, тратила с таким упорством и с таким фанатизмом, что, по прошествии полутора столетия, должна была наконец изнеможенная пасть к ногам Европы. Но и в самом падении своем она отличалась таким энтузиазмом, окружена была таким ореолом славы и такою привязанностью ко всему родному, что подданные ее, в своем увлечении к единодержавию, с которым сопрягались их силы, и к делу, ради которого они жертвовали своею жизнью, все были проникнуты единым желанием — возвеличить своим повиновением церковь и короля и образовать вокруг алтаря и трона тесный кружок верных защитников и поклонников. В этой стране инквизиторов и крестоносцев, которые свято хранят рыцарские чувства, мрачные страсти, алчность, нетерпимость и мистицизм средних веков, величайшими художниками были люди, обладавшие в высшей степени способностями, чувствами и страстями окружавшего их общества. Знаменитейшие из поэтов Лопе де Вега и Кальдерон были солдатами-авантюристами, волонтерами армады, дуэлянтами и любовниками, столь же экзальтированными и столь же таинственными в любви, как поэты и донкихоты феодальных времен, страстными, до того пламенными католиками, что к концу жизни один из них сделался приспешником инквизиции, другие приняли сан священника, а величайший между ними, славный Лопе де Вега, совершая мессу, упал в обморок при мысли о жертве и страданиях Иисуса Христа. Всюду, впрочем, мы найдем примеры подобной связи и внутренней гармонии, установившихся между художником и его современниками; и можно сказать с уверенностью, что если кто хочет понять вкус и талант артиста, причины, побудившие его избрать тот или другой род живописи или поэзии, предпочесть тот или другой тип или колорит, изобразить те или другие чувства, то объяснения тому следует искать в общем состоянии нравов и в духе общества.
Итак, мы дошли до установления следующего правила: чтобы понять какое-нибудь художественное произведение, художника или школу художников, необходимо в точности представить себе общее состояние умственного и нравственного развития того времени, к которому они принадлежат. В этом заключается последнее объяснение; здесь таится первичная причина, определяющая все остальное. Истина эта, милостивые государи, подтверждается опытом. В самом деле, если мы пробежим главнейшие эпохи в истории искусства, то найдем, что искусства появляются и исчезают одновременно с появлением и исчезновением известных умственных и нравственных состояний, с которыми они связаны. Например, греческая трагедия, трагедия Эсхила, Софокла и Еврипида, появляется во время торжества греков над персами, в героическую эпоху небольших республиканских городов, в момент величайших усилий, благодаря которым они завоевали себе независимость и утвердили свое господство в образованном мире; трагедии эти исчезают с уничтожением этой независимости и этой энергии, в то время, когда ослабление характеров и победа македонян повергают Грецию во власть чужеземцев. Точно так же готическая архитектура развивается с окончательным утверждением феодальных порядков в полувозрожденном XI столетии, в то время, когда общество, освободившись от норманнов и разбойников, начинает устраиваться; и она исчезает, когда это военное владычество маленьких независимых баронов, с порожденным им состоянием нравов, рушится к концу XV века вследствие появления новейших монархий. Равным образом голландская живопись достигает высшей точки своего развития в ту славную пору, когда Голландия, силою своей стойкости и храбрости, окончательно освобождается из-под владычества испанцев, сражается с Англией совершенно равным оружием, становится самым богатым, самым свободным, самым промышленным, самым счастливым государством в Европе; и мы видим ее упадок в начале XVIII столетия, когда, снизойдя до второстепенной роли,, этот край уступает первенствующее место Англии и становится лишь простым банкирским и коммерческим домом, хорошо устроенным, хорошо управляемым, уютным, где человеку можно привольно жить в качестве благоразумного гражданина, без всяких честолюбивых стремлений и особенно — сильных душевных тревог. Подобно этому, наконец, французская трагедия появляется в то время, когда чинная и благородная монархия при Людовике XIV учреждает господство приличий, придворную жизнь, великолепные представления, изящную аристократическую обстановку; и она исчезает с того времени, как дворянство и придворные нравы падают под ударами революции.
Мне бы хотелось с помощью сравнения представить для нас осязательнее то влияние, какое нравственный и умственный быт оказывают на художественное произведение. Пускаясь из какой-либо южной страны по направлению к северу, вы замечаете, что, по мере того как вступаете в известный пояс, начинается особого рода культура и особого рода растительность, сперва алоэ и померанцевое дерево, несколько далее — маслина или виноград, затем дуб и овес, дальше ель и, наконец, мхи и лишайники. Каждый пояс имеет свою культуру и свою собственную растительность; и та и другая начинаются с началом пояса и оканчиваются его пределами; и та и другая связаны с ним неразрывно. Он-то и составляет условие их существования: своим отсутствием или присутствием он определяет исчезновение или появление их. Следовательно, что же такое и самый пояс, если не своего рода температура, т. е. известное состояние теплоты и влажности, — короче, определенное число преобладающих обстоятельств, подобных, в своем роде, тому, что мы назвали недавно общим состоянием нравов и умственного развития. Как есть физическая температура, своими изменениями определяющая появление того или другого рода растений, точно так же есть и температура нравственная, определяющая своими изменениями появление того или другого рода искусства. И подобно тому как изучают физическую температуру, чтобы объяснить себе появление того или другого рода растений: кукурузы или овса, алоэ или ели, — точно так же необходимо изучить температуру нравственную, чтобы понять появление различных родов искусства: языческую скульптуру или реалистическую живопись, мистическую архитектуру или классическую словесность, полную страсти музыку или идеальную поэзию. Произведения человеческого ума, как и произведения живой природы, объясняются лишь своими средами.
Вот таким-то путем я намерен исследовать, в этом году, перед вами историю итальянской живописи. Я постараюсь раскрыть перед вашими глазами ту таинственную среду, из которой вышли Джотто и Беато Анджелико; с этой целью я прочту вам отрывки произведений поэтов и легендарных писателей, из которых будет видно, как люди того времени понимали счастье, бедствие, любовь, веру, рай, ад — все великие интересы человеческой жизни. Эти свидетельства мы найдем в творениях Данте, Гвидо Кавальканти, религиозных францисканцев, в ’’Золотой легенде”, в ’’Подражании Иисусу Христу”, в ’’Фиоретти” — сказаниях о Франциске Ассизском, у историков, подобных Дино Компаньи, в коллекции хроникеров, собранных Муратори, которые так простосердечно изображают крамолы и буйства своих маленьких республик. Затем я постараюсь таким же образом раскрыть перед вашими глазами и ту языческую среду, из которой, спустя полтора столетия, явились: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Тициан; с этой целью я прочту вам или из мемуаров современников, например из Бенвенуто Челлини, или из различных хроник, которые велись ежедневно в Риме и в главнейших местностях Италии, или из депеш посланников, или, наконец, из описаний празднеств, маскарадов и городских процессий — прочту отрывки многознаменательные, которые покажут вам грубость, чувственность, энергичность окружающих нравов и в то же время живое поэтическое чутье, изящный вкус, великий литературный такт, декоративный инстинкт, потребность в наружном блеске, которая тогда встречалась в одинаковой степени и среди народа, в невежественной толпе, и среди вельмож и ученых.
Предположите теперь, милостивые государи, что мы успешно поведем наше исследование, что мы с совершенной точностью определим себе различные умственные состояния, из которых возникли первые зачатки итальянской живописи, ее развитие, ее процветание, ее видоизменения и ее упадок. Представьте, что такое исследование удастся и по отношению к другим векам, другим странам, в сфере различных родов искусства, архитектуры, живописи, скульптуры, поэзии и музыки. Предположите, что, вследствие всех этих открытий достаточно определится сущность и обозначатся условия процветания каждого искусства. Мы получим тогда полное объяснение художеств и искусства вообще, т. е. получим философию искусства, а это-то и называется эстетикой. К такой, а не к какой-либо иной эстетике стремимся мы, милостивые государи. Наша эстетика наука новая и отличается от старой своим историческим, а не догматическим характером, т. е. тем, что она не предписывает правил, а только выясняет законы. Старая эстетика давала, прежде всего, определение прекрасного и говорила, например, что прекрасное есть выражение нравственного идеала, или что оно есть выражение невидимого, или же что оно есть выражение человеческих страстей; затем, опираясь на это как на статью из уложения, она оправдывала, осуждала, предостерегала и руководила. Я счастлив, что мне не предстоит такой громадной работы; я не берусь руководить вами — это было бы для меня не по силам. К тому же относительно правил я скажу вам по секрету, что и открыто-то их доселе, в сущности, всего лишь два: первое советует родиться гением — это дело ваших родителей, а не мое; второе советует много трудиться, чтобы вполне овладеть своим искусством, — это опять-таки не мое, а ваше дело. Мое дело изложить вам факты и показать, каким образом произошли они. Новый метод, которому я стараюсь следовать и который начинает входить во все нравственные науки, заключается в том, чтобы смотреть на человеческие произведения, и в частности на произведения художественные, как на факты и явления, характерные черты которых должно обозначить и отыскать причины, — и более ничего. Наука, понимаемая таким образом, не осуждает и не прощает; она только указывает и объясняет. Она не говорит вам: ’’Презирайте голландское искусство — оно слишком грубо, восхищайтесь лишь итальянским искусством”. Равным образом не скажет она вам: ’’Презирайте готическое искусство — оно болезненно, восхищайтесь лишь греческим”. Она предоставляет каждому полную свободу следовать собственным своим симпатиям, предпочитать то, что согласно с его темпераментом, и изучать с более глубоким вниманием то, что более соответствует развитию собственного его духа. Что касается до нее самой, то она относится сочувственно ко всем формам искусства и ко всем школам, даже к тем, которые кажутся наиболее противоположными: их она считает различными проявлениями человеческого духа; она полагает, что, чем многочисленнее они, тем лучше раскрывают дух человеческий со многих новых сторон; она поступает, подобно ботанике, которая с одинаковым интересом изучает то апельсиновое дерево и лавр, то ель и березу; сама она нечто вроде ботаники, исследующей только не растения, а человеческие произведения. Вот почему она следует общему движению, которое, в настоящее время, сближает нравственные науки с науками естественными и, сообщая первым принципы, благоразумие и направление последних, придает им ту же прочность и обеспечивает за ними такой же успех.
II
В чем заключается предмет искусства. — Опытные и неидеальные исследования. — Относительно художественных произведений достаточно сравнений и ограничений (eliminations). Разделение искусств на две группы: с одной стороны, живопись, скульптура, поэзия; с другой — архитектура и музыка. — Первая группа. — Предмет искусства, по-видимому, подражание. Факты, выведенные из обыкновенного наблюдения. — Факты, заимствованные из истории великих людей. Микеланджело и Корнель. — Факты, заимствованные из истории искусств и литературы. — Древняя живопись Помпеи и Равенны. — Классический стиль времен Людовика XIV и академический стиль при Людовике XV.
Я бы хотел тотчас же применить этот метод к первому и главному вопросу, которым открывается курс эстетики, — к вопросу об определении искусства. Что такое искусство и в чем заключается сущность его? Вместо того чтобы навязать вам какую-нибудь формулу, я постараюсь представить вам факты. А здесь, как и в других случаях, есть факты положительные, доступные наблюдению — я разумею художественные произведения, размещенные по семействам в музеях и библиотеках, подобно растениям в гербарии и животным в музее. Анализ может быть применен как к тем, так и к другим; можно постараться уяснить себе, что такое художественное произведение вообще, как можно постараться открыть, что такое растение или животное вообще. Как в том, так и в другом случае нет надобности идти дальше опыта, и все дело заключается в том, чтобы посредством многочисленных сравнений и постепенных ограничений открыть общие черты, принадлежащие всем произведениям искусства, и в то же время те отличительные особенности, которые выделяют произведения искусства из других произведений человеческого ума.
С этой целью из числа пяти великих искусств: поэзии, скульптуры, живописи, архитектуры и музыки — оставим пока два последних, объяснение которых труднее, мы возвратимся к ним впоследствии, и рассмотрим сначала лишь первых три. Все они имеют, как видите, один общий характер — все они более или менее искусства подражательные.
С первого взгляда кажется, что это-то и есть их существенный характер и что цель их заключается в возможно более точном подражании. Ибо ясно, что статуя имеет предметом своим самое близкое подражание действительно живому человеку; картина имеет целью изображение настоящих лиц в действительных позах, изображение внутренности дома, пейзажа в том виде, в каком они являются в природе. Не менее очевидно и то, что драма, роман пытаются точным образом воспроизвести действительные характеры, поступки, слова и облечь их в возможно более точную и возможно более верную форму. В самом деле, если изображение не довольно точно или неверно, мы говорим скульптору: ”Не такова должна быть грудь или не так делаются ноги”. Мы говорим живописцу: "Лица второго плана вашей картины слишком велики, колорит ваших деревьев неверен”. Писателю мы говорим: ’’Никогда не чувствовал и не думал человек так, как вы предполагаете”.
Но есть и другие, более сильные доказательства: прежде всего — ежедневный опыт. Если мы взглянем на то, что происходит в жизни художника, то заметим, что она делится обыкновенно на две части. В течение первой половины, в пору юности и зрелости его таланта, он всматривается в самые предметы, тщательно и кропотливо изучает их; держит их всегда перед глазами, мучится и томится, чтобы только воспроизвести их, и воспроизводит даже чересчур уж с боязливой верностью. Достигнув известного момента в жизни, он думает, что теперь достаточно их знает, он не открывает более в них ничего нового; тогда, оставляя в стороне живой образец, — по рецептам, добытым своей опытностью, — мастерит он драму или роман, картину или статую. Первая эпоха — период истинного чувства, вторая — период манерности и упадка. Если мы взглянем на жизнь даже самых величайших людей, мы почти всегда откроем в ней и ту и другую эпоху. Первая у Микеланджело длилась очень долго — не менее шестидесяти лет: во всех произведениях, наполнивших ее, вы видите присутствие силы и героического величия. Художник пропитан ими: он и не думает ни о чем другом. Его многочисленные диссекции,[1] его несметные наброски, его постоянный анализ собственного своего сердца, его изучение трагических страстей и их телесного выражения — все это составляет для него лишь средства обнаружить внешним образом охватившую его бурную энергию. Вот мысль, какая нисходит на вас из каждого угла, с каждого свода Сикстинской капеллы. Войдите тут же, рядом, в Павловскую капеллу и взгляните на произведения его старости: ’’Обращение Св. Павла”, ’’Распятие Св. Петра”, взгляните даже на ’’Страшный суд”, написанный им на шестьдесят седьмом году жизни. И знатоки и незнатоки сейчас же заметят, что обе фрески написаны по рецепту, что художник обладает известным количеством форм и наудачу навязывает их своим изображениям, что он, как нарочно, плодит изысканные позы, причудливые ракурсы, что живое творчество, естественность, горячий порыв сердца, чудная правда, которыми преисполнены его первые творения, исчезли, по крайней мере отчасти, под злоупотреблением внешней манеры писания и обращением искусства в ремесло и что если он и тут еще выше других, то во всяком случае неизмеримо ниже самого себя.
Подобное же замечание можно сделать и относительно другой жизни — жизни нашего французского Микеланджело. В первые свои годы Корнель точно так же был охвачен чувством силы и нравственного героизма. Чувство это он находил вокруг себя в могучих страстях, завещанных новой монархии религиозными войнами, в отважных похождениях дуэлянтов, в гордом сознании чести, которым были преисполнены души, еще преданные феодализму, в кровавых трагедиях, которые, благодаря заговорам вельмож и расправам Ришелье, давались на потеху двора; и он создал типы, подобные Химене и Сиду, Полиевкту и Паулине, Корнелии, Серторию, Эмилии и Горациям. Впоследствии он писал ”Пертарита”, ”Аттилу” и множество других жалких пьес, в которых положения натянуты до чудовищного, а величие духа теряется в раздутости. В эту минуту живые образцы, в которые он прежде всматривался, не существовали более на житейской сцене, по крайней мере он не искал их, не подновлял ими своего вдохновения. Он составлял себе рецепты, припоминая те приемы, какие открыты были им некогда в пылу энтузиазма, припоминая литературные теории, рассуждения и разборы по поводу театральных перипетий и драматических вольностей. Он повторял и пересиливал самого себя; наука, расчет и рутина заменили для него прямое и личное созерцание великих душевных движений и доблестных подвигов. Он не создавал уже более — он мастерил.
Но не одна лишь история того или другого великого человека подтверждает нам необходимость подражать живому образцу и постоянно всматриваться в природу; это мы можем видеть и из истории каждой великой школы. Все школы (не думаю, чтобы тут могли быть исключения) вырождаются и погибают именно потому, что предают забвению точное подражание и оставляют в стороне живой образец.
Это случилось и в живописи с последователями Микеланджело, рисовавшими мускулы и неестественные позы, с любителями театральных декораций и мясистых округлостей, которые наследовали великим венецианцам, с живописцами будуара и алькова, которыми закончилась французская живопись XVIII столетия. Это было в литературе с версификаторами и риторами времен упадка Рима, с полными чувственности и декламации драматургами, которыми закончилась английская драма, с изготовителями сонетов, острот и напыщенных фраз времен упадка в Италии. Из всех этих примеров я выберу лишь два особенно разительных случая. Первый — упадок скульптуры и живописи в древности. Для того, чтобы получить живое впечатление этого упадка, достаточно посетить одну за другою Помпею и Равенну. В Помпее живопись и скульптура относятся к первому веку; в Равенне мозаики — шестого века и восходят ко временам императора Юстиниана. В промежуток этих пятисот лет искусство безвозвратно исказилось, и весь этот упадок произошел единственно от забвения живого образца. В первом веке существовали еще нравы палестры и языческие вкусы. Люди носили одежду просторную, охотно снимали ее, ходили в купальни, боролись обнаженные, присутствовали при битвах в цирке, рассматривали еще с любовью и вниманием вольные движения живого тела; их скульпторы, их живописцы, их художники, окруженные нагими или полунагими образцами, легко могли воспроизводить их. Вот почему вы видите в Помпее — на стенах, в маленьких молельнях, во внутренних дворах — прекрасных танцующих женщин, молодых, ловких и горделивых героев, сильные груди, легкие ноги, все жесты и все формы тела переданными с такой правдой и так свободно, как не сумеют передать в настоящее время при самом тщательном изучении. Мало-помалу, в течение следующих пяти веков, все изменяется. Языческие нравы, обычаи палестры, вкус к совершенной наготе исчезают. Тело не выставляется уже более наружу; оно скрыто под сложными одеждами, разряжено в шитье, пурпур и восточные драгоценности. Борец и отрок-юноша не ценятся уже более; их заменили евнух, книжник, женщина, монах; водворяется аскетизм и вместе с ним вкус к туманной мечтательности, бессодержательному спору, бумагомаранию и словопрениям. Поблеклые болтуны восточной империи заменяют собой мощных атлетов греческих и стойких воинов римских. Знание и изучение живого образца постепенно воспрещаются. На них перестали смотреть; перед глазами нет уже более творений древних мастеров, а их между тем копируют. Скоро начинают копировать лишь копии с копий и так далее и с каждым поколением все больше удаляются от оригинала. У художника нет уже своей собственной мысли и своего собственного чувства; это машина для калькировки. Св. отцы прямо говорят, что художник ничего от себя не измышляет, а только списывает черты, указанные преданием и принятые авторитетом. Это разъединение художника с образцом приводит искусство к тому состоянию, какое вы видите в Равенне. По прошествии пяти столетий человека умеют изображать только в сидячем или стоячем положении; другие позы слишком трудны, художник не в силах уже более передать их. Руки, ноги как будто переломаны, изгибы слишком резки, складки одежд как будто деревянные — точно манекены; глаза занимают чуть не всю голову. Искусство подобно больному в страшном, смертельном истощении сил; ему предстоит агония и потом смерть.
В другом искусстве, у нас и в более близкое к нам время, мы встречаем подобный же упадок, порожденный подобными же причинами. В век Людовика XIV литературный слог достиг совершенства, чистоты, правильности и простоты решительно беспримерных; особенно сценическое искусство выработало себе язык и стих, показавшиеся целой Европе образцовыми созданиями ума человеческого. Это произошло оттого, что писатели имели вокруг себя живые образцы и не переставали в них всматриваться. Людовик XIV говорил великолепно, с чисто царственным достоинством, красноречием и важностью. Нам известно из писем, депеш и мемуаров придворных, что аристократический тон, выдержанное изящество, отборность выражений, благородство манер, дар слова встречались у царедворцев так же, как у короля; жившему с ними писателю оставалось лишь обратиться к своей памяти и к своей опытности, чтобы отыскать в окружающем его мире лучшие материалы для своего искусства.
Через сто лет, между Расином и Делилем, совершилась громадная перемена. Эти речи и эти стихи вызвали в свое время такой восторг, что, вместо того чтобы продолжать смотреть на живые лица, все занялись изучением трагедий, в которых они изображались. За образцы приняты были не люди, а писатели. Отсюда явились: условный язык, академический стиль, щегольство мифологией, искусственная версификация, проверенный и опробованный словарь, извлеченный из лучших писателей. Вот тогда-то воцарился тот отвратительный стиль, державшийся с конца прошлого и до начала настоящего века, нечто вроде жаргона, на котором одна рифма приклеивалась к другой, неизбежно предвиденной; никто не смел назвать предмет его именем — пушка выражалась каким-то перифразом, море называлось Амфитритою; скованная мысль не имела ни выразительности, ни правды, ни жизни, стиль казался созданием целой академии буквоедов, достойных заправлять фабрикой латинских виршей.
Итак, мы, по-видимому, пришли к заключению, что следует не спускать глаз с природы, чтобы возможно ближе подражать ей, и что цель искусства — полнейшее и точнейшее подражание.
III
Безусловно точное подражание не составляет цели искусства. — Подтверждение этого на слепках со статуй, на фотографии и стенографии. — Сравнение портретов Деннера и Ван Дейка. — Некоторые искусства неточны в подражании принятым образцам. — Сравнение античных статуй с разодетыми фигурами в Неаполе и в Испании. — Сравнение прозы со стихами. — Две ’’Ифигении” Гёте.
Верно ли это во всех отношениях и следует ли заключить отсюда, что совершенно точное подражание есть цель искусства?
Если бы это было так, милостивые государи, самое точное подражание создавало бы самые прекрасные произведения. Но на деле оно выходит иначе. Так, например, в скульптуре слепок доставляет самую верную и самую точную копию с образца, однако же, без сомнения, и самый превосходный слепок не стоит хорошо изваянной статуи. С другой стороны и в другой области, фотография есть искусство, воспроизводящее на плоскости, посредством линий и теней, самым совершенным образом и без возможной ошибки, контур и форму передаваемого ею предмета. Конечно, фотография весьма полезное для живописи подспорье; ею мастерски владеют иногда люди, опытные в ней и способные, но при всем том она и не помышляет сравняться с живописью. Наконец, вот последний пример: если бы было справедливо, что точное подражание составляет высшую цель искусства, то знаете ли, что было бы лучшей трагедией, лучшей комедией, лучшей драмой? Стенографированные процессы в уголовной палате — там ведь воспроизведены решительно все слова. Ясно, однако же, что если вы и встретите здесь иной раз что-нибудь естественное, какой-нибудь порыв душевный, то это будет только зерно хорошего металла в мутной и грубой оболочке руды. Стенография может только доставить материалы писателю; но она вовсе не может быть названа произведением искусства.
Иные, быть может, скажут, что фотография, съемка форм, стенография — механические процессы, что следует оставить в стороне машины и сравнивать произведение человека с человеческим же произведением. Поищем возможно более точных и верных созданий художников. В Лувре есть одна картина Деннера. Он работал с увеличительным стеклом и тратил по четыре года на один портрет: ничто не забыто в его лицах: ни мельчайшие складки кожи, ни едва заметные крапинки скул, ни черные точки, разбросанные по носу, ни голубоватые нити микроскопических жилок, чуть пробивающиеся сквозь верхнюю кожицу, ни блеск глаза, в котором так и отражаются окружающие предметы. Изумленный зритель невольно остановится перед такой картиной: голова как будто хочет выскочить из рамы; едва ли кто видел что-нибудь совершеннее, едва ли может быть другой подобный пример терпения. Но, в общем, какой-нибудь размашистый эскиз Ван Дейка во сто раз могущественнее. Обман зрения, отвод глаз, не имеет особенного значения ни в живописи, ни в других искусствах.
Другое более сильное доказательство тому, что точное подражание не есть цель искусства, заключается в соображении, что некоторые из искусств неточны даже с умыслом. Прежде всего — скульптура. Обыкновенно статуи бывают одного цвета, бронзового или мраморного; кроме того, глаза у них без зрачков. И именно это однообразие цвета, это смягчение внутреннего душевного выражения завершают их красоту. Между тем взгляните на соответственные произведения, в которых подражание доведено до последней крайности. В церквах Неаполя и Испании есть раскрашенные и одетые статуи, изваяния святых в настоящем монашеском платье, с желтоватым землистым цветом кожи, как оно и следует у людей, проводивших аскетическую жизнь, с окровавленными руками и прободенным бедром, как подобает мученикам. А рядом с ними поставлены мадонны в царственных одеждах и праздничных уборах, разряженные в разноцветные шелка, чудные диадемы, драгоценные ожерелья, самые свежие ленты и великолепные кружева, мадонны с розовым цветом кожи, с блестящими глазами, со зрачками из цельного карбункула. Таким избытком чересчур уж точного подражания художник вселяет не удовольствие, но какое-то отталкивающее чувство, часто отвращение, а иногда прямо ужас.
То же бывает и в литературе. Большая часть драматической поэзии, весь греческий и французский классический театр, большая часть испанских и английских драм не только не представляют точной передачи обыкновенного разговора, но нарочно изменяют человеческую речь. Каждый из этих драматургов заставляет говорить своих действующих лиц стихами, вкладывает в слова их ритм, а часто и рифму. Вредит ли искусству эта неестественность выражения? Нисколько. Это всего поразительнее доказано было на одном из величайших произведений нашего времени — ”Ифигении” Гёте, написанной сперва прозою и затем стихами. Она прекрасна в прозе, но какая разница в стихах! Здесь, видимо, это изменение обыкновенного языка, это введение ритма и метра придают пьесе какой-то необыкновенный отпечаток, ясную возвышенность, широкое и выдержанное трагическое пение, при звуках которого дух подымается над пошлостями обыденной жизни и видит перед своими глазами героев древних дней, забытое племя первобытных атлетов, и между ними царственную деву, истолковательницу воли богов, хранительницу законов, благодетельницу человечества, в которой сосредоточиваются вся доброта и все благородство человеческой натуры, чтобы прославить ими человечество и возвысить наше сердце.
IV
Художественное произведение подражает лишь взаимным соотношениям и зависимости частей в предметах. — Примеры на произведениях живописи. — Примеры из литератур.
Итак, в избранном предмете необходимо весьма близко подражать кое-чему, но не всему. Остается открыть эту именно частицу, за которой должно гоняться подражание. Я заранее отвечаю: ’’Это — взаимные соотношения и взаимная зависимость частей”. Извините мне абстрактное определение, оно уяснится вам вскоре.
Перед вами живой образец, мужчина или женщина, и чтобы срисовать его, у вас есть карандаш и лоскуток бумаги величиною в две ладони. Конечно, нельзя требовать от вас, чтобы вы воспроизвели его величину, — бумага ваша слишком для того мала; нельзя равным образом требовать от вас, чтобы вы передали краски, — в вашем распоряжении только два цвета: черный и белый. Вы должны лишь передать соотношения, и прежде всего пропорции, т. е. соотношения размеров. Если голова имеет такую-то длину, надо, чтобы и тело было во столько-то раз длиннее головы, рука имела бы длину, тоже зависящую от первой, нога и все остальное — равным образом. От вас требуют еще передать формы или соотношения положения: известный изгиб, овал, угол в образце должны повториться в копии соответствующей линии. Короче, дело заключается в воспроизведении совокупности тех отношений, посредством которых связаны части предмета, — и только. Вы должны передать не простую внешность тела, а его, так сказать, логику.
Подобно этому, вообразите себя перед действительным характером, перед сценой из жизни реальной, простонародной или светской; вас просят описать ее. Для этого у вас есть глаза, уши, память, быть может, карандаш, которым вы можете набросать пять-шесть заметок; этого немного, но совершенно достаточно, потому что вас просят передать не все слова, не все жесты, не все действия лица или пятнадцати-двадцати лиц, вам представших. Здесь, как и там, вас просят обозначить пропорции, связь, соотношения, т. е., прежде всего, точно сохранить пропорциональность действий лица или, иначе сказать, придать первенство в своем описании тщеславным поступкам, если лицо тщеславно, скупости, если это скупой, жестокости, если оно жестоко; затем сохранить взаимную связь между этими самыми действиями, т. е. чтобы каждое, например, возражение вызывалось чем-нибудь подобным, каждое чувство, идея, решение мотивировались бы предшествующим решением, идеей, чувством и сверх того настоящим положением лица, даже еще общим характером, какой вы ему приписали. Короче, в литературном произведении, как и в произведении живописном, должно обрисовать не осязаемую внешность лиц и событий, но совокупность отношений их и взаимную зависимость, т. е. их логику. Итак, говоря вообще, все, что интересует нас в существе реальном и что мы просим художника извлечь и передать нам, — это внутренняя или внешняя логика этого существа или, другими словами, его склад, состав, соотношение частей.
Вы видите, в чем мы исправили первое найденное нами определение; мы не уничтожили его, но лишь очистили. Мы открыли более возвышенный характер искусства, по которому оно становится теперь уже делом духа, ума, а не одних рук.
V
Художественное создание не ограничивается воспроизведением отношений между частями предмета. — Произвольные изменения этих отношений в величайших даже школах. — Принцип этого изменения у Микеланджело и у Рубенса. Статуи на гробнице Медичи. — Кермесса. — Художник видоизменяет отношения между частями таким образом, чтобы выставить осязательнее существенный характер. Определение существенного характера. — Примеры: лев — животное хищное; Нидерланды — страна наносов.
Значение существенного характера. — Он недостаточно выражается в природе, отчего и возникает искусство, имеющее целью пополнять недостающее в природе. — Примеры такой недостаточности выражения во Фландрии во времена Рубенса и в Италии во времена Рафаэля.
Согласие между художественным воображением и таким определением искусства. — Два отличительных характера в таланте художника: живая самобытная восприимчивость и влияние этой восприимчивости на преобразование ближайших впечатлений.
Взгляд на пройденный путь. — Последовательное развитие метода. — Определение художественного произведения.
Достаточно ли этого и неужели художественные создания ограничиваются только воспроизведением отношений между частями предмета? Вовсе нет, потому что величайшие школы именно те и есть, которые всего более изменяют действительные отношения.
Обратите, например, внимание на итальянскую школу в ее величайшем художнике Микеланджело и, чтобы точнее определить ваши воззрения, припомните лучшее из его произведений: четыре мраморные статуи, поставленные во Флоренции над гробницей Медичи. Тем из вас, которые не видали оригинала, известны по крайней, мере копии. Конечно, у этих людей, в особенности у этих спящих или пробуждающихся женщин, пропорциональность частей вовсе не такова, как у действительных личностей.
Подобных им не найдете нигде, даже в Италии. Вы увидите там хорошо одетых молодых красавцев, крестьян с блестящими глазами и диким выражением, увидите академические модели с крепкими мышцами и гордыми движениями; но ни в деревне, ни на празднике, ни в мастерских — в Италии ли или в каком бы то ни было другом крае, в настоящее время или в XVI веке — ни один действительный мужчина и ни одна действительная женщина отнюдь никогда не походили на негодующих героев, на колоссальных, отчаивающихся дев, которых великий человек выставил в погребальной капелле. Эти типы Микеланджело открыл в собственном своем гении и в собственном своем сердце. Чтобы создать их, нужна была душа отшельника, созерцателя, правдолюбца, душа пылкая и благородная, затерявшаяся посреди изнеженных и развращенных душ, посреди измен и гнета, перед неотвратимым торжеством тирании и несправедливости, под развалинами свободы и отечества; самому художнику надлежало стоять под угрозой смерти, чувствовать, что если дарована жизнь, то лишь из милости, да и то, пожалуй, не надолго, быть неспособным гнуться и подчиняться, а, напротив, отдаться всецело искусству, которое одно еще, посреди рабского молчания, давало возможность высказаться его великому сердцу и его отчаянию. Он написал на пьедестале своей спящей статуи: ’’Сладко спать, а еще слаще окаменеть в час бедствий и позора. Не видеть ничего, не чувствовать — вот мое блаженство; так не буди же меня. Ах, говори тише!” Вот чувство, открывшее ему подобные формы. Чтобы выразить его, он нарушил обыкновенные размеры, удлинил туловище и члены, свернул торс на бедре, глубоко прорыл глазные впадины, избороздил лоб морщинами, подобно сжатым бровям льва, поднял на плече целую гору мускулов, выдвинул на хребте сухие жилы и так крепко сомкнутые позвонки, что они похожи на туго натянутую железную цепь, готовую лопнуть.
Так же точно рассмотрим теперь фламандскую школу и в этой школе обратим внимание на великого фламандца Рубенса, а из творений Рубенса возьмем одну из поразительнейших картин — Кермессу. Вы не встретите и в ней, точно так же, как у Микеланджело, подражания обыкновенным размерам. Ступайте во Фландрию, взгляните на местные типы, даже в минуты веселья и кутежа на праздниках Геяна[2] в Антверпене или другом каком-нибудь месте; вы увидите добрых людей, готовых плотно поесть, еще скорее выпить, покуривающих с полнейшей невозмутимостью свою трубочку, флегматиков и рассудительных, какое-то тусклое выражение в лицах, большие, неправильные черты, довольно схожие с фигурами Тенирса; что же касается роскошно-животных типов Кермессы, то вы не встретите ничего подобного. И нет сомнения, что Рубенс взял их откуда-нибудь со стороны. После ужасных религиозных войн эта жирная Фландрия, так долго опустошаемая, достигла, наконец, мира и гражданской безопасности. Земля там так хороша, а люди до того благоразумны, что благоденствие и благосостояние явились вслед за тем как раз. Каждому чувствовалось это новое изобилие, эта полнота всего; и контраст между настоящим и прошедшим приводит в восторг грубые физические инстинкты, выпущенные, после долгого поста, подобно лошадям и быкам, на зеленый луг, на массу подножного корма. Рубенс чувствовал эти инстинкты внутри себя, и поэзия грубой, изобильной жизни, пресыщенной и расходившейся плоти, скотского, гигантски распущенного упоения отразилась у него-в чувственном разгуле, в сладострастно раскрасневшихся лицах, в белизне и свежести везде выставленной им наготы. Чтобы выразить это чувство в своей Кермессе, он расширил туловища, утолстил бедра, изогнул станы, разрумянил щеки, растрепал волосы, зажег в глазах дикий огонь необузданного, алчного желания, пустил в ход весь содом кабацких пирушек: разбитые жбаны, перевернутые столы, взвизги, поцелуи, оргию и самое изумительное торжество человеческого скотства, какое когда-либо изображено было кистью художника.
Эти два примера показывают вам, что художник, изменяя отношения между частями, изменяет их в одном и том же смысле с целью передать осязательнее известный существенный характер предмета и затем главную идею, какую он получил о нем. Заметим это, милостивые государи. Этот характер и есть именно то, что философы называют сущностью вещей; вот почему они говорят, что искусство имеет целью обнаружить эту сущность. Мы оставим в стороне это слово, сделавшееся техническим, и скажем просто, что искусство имеет целью обнаружить главный характер, какое-нибудь важное и выдающееся качество, преобладающую точку зрения, существенный образ проявления предмета.
Мы близимся здесь к истинному определению искусства, и потому нам нужна полная ясность; необходимо, стало быть, обстоятельно и точно обозначить, что такое этот существенный характер. Я сейчас же отвечу, что это — качество, из которого, путем неизменной зависимости, проистекают все или, по крайней мере, многие другие качества. Прошу извинить меня за это отвлеченное опять объяснение — оно станет вам понятно из примеров.
Существенный характер льва, дающий ему место в общей естественно-исторической классификации, заключается в том, что он большое хищное животное. Вы сейчас увидите, что почти все как физические, так и нравственные его черты вытекают из этого характера как из источника. Прежде всего, с физической стороны, зубы наподобие резцов, пасть, как бы нарочно устроенная для того, чтобы разрывать и разжевывать добычу, — органы, необходимые для хищника, питающегося живым мясом. Чтобы приводить в движение две громадные челюсти, ему необходимы страшные мышцы; и для помещения этих мышц нужны соразмерной величины височные впадины. Прибавьте к этому другие еще орудия: на ногах страшные клещи — ужасные выпускные когти, быстрая на цыпках походка, страшная упругость бедер, подбрасывающая его как пружиною, глаза, ясно видящие и ночью, потому что ночь — лучшее время для добычи. Натуралист, показывавший мне его скелет, говорил: ’’Это пасть, поднявшаяся на четыре лапы”. Кроме того, все внутренние свойства как нельзя более гармонируют одно с другим: прежде всего, инстинкт кровожадности, потребность свежего мяса, отвращение ко всякой другой пище; затем сила и какая-то нервная горячность, благодаря которым он сосредоточивает громадную массу сил в короткий момент нападения или защиты, и, как бы в противоположность этому, сонливые привычки, спокойное и угрюмое бездействие в минуты роздыха, долгие зевки после рьяных увлечений охоты. Все эти черты проистекают из его хищнического характера, и вот потому-то мы и называем это последнее свойство его существенным характером.
Рассмотрим теперь другой, более трудный пример — целую страну, с ее бесчисленными частностями строя, наружного вида, культуры, с ее растениями, животными, с ее обитателями, ее городами, например хоть Нидерланды. Существенный характер этой страны заключается в том, что она образовалась посредством намывов, или наносов, т. е. больших осадков земли, которые уносятся реками и скопляются близ их устьев. Из этого одного слова проистекает бесконечное множество частностей, составляющих весь жизненный быт страны, не только ее физический наружный вид и то, что она есть сама по себе, но также общий склад ума, нравственные и физические качества жителей и их произведения. Во-первых, в неодушевленной природе — сырые и плодоносные равнины. Это необходимо по причине множества и ширины рек и огромного осадка растительной земли. Эти равнины постоянно зелены, потому что большие, спокойные, лениво катящиеся реки, бесчисленные каналы, удобно расположенные в низкой и влажной почве, поддерживают постоянную свежесть. Вы угадаете теперь, силою одного лишь соображения, наружный вид этой страны, это бледное, дождливое небо, беспрестанно полосуемое ливнями и даже в хорошие дни покрытое легкими, как газ, испарениями, которые поднимаются с мокрой почвы и образуют прозрачный свод, воздушную ткань, словно из тоненьких хлопьев снега, над зеленой, закругленной до самого горизонта корзиной. В одушевленной природе это множество и это богатство пастбищ привлекают многочисленные мирные стада, которые, лежа в траве или пощипывая ее, испещряют желтоватыми, белыми и черными пятнами бесконечную плоскую поверхность луга. Отсюда это обилие молока и говядины, которые вместе с зернами и овощами, доставляемыми плодоносной землей, снабжают жителей обильной и дешевой пищей. Можно сказать, что в этой стране вода производит траву, трава — скот, скот — сыр, масло и говядину, а последние, вместе с пивом, производят жителя. В самом деле, из жирной жизни и пропитанной влажным воздухом физической организации рождается фламандский темперамент, флегматический характер, правильные привычки, спокойствие ума и нервов, способность понимать жизнь рассудительно и благоразумно, постоянное довольство всем, вкус к этакому благосостоянию, а отсюда господство опрятности и совершенство жизненных удобств. Влияние это идет так далеко, что оно обнаруживается даже на внешности городов. В стране наносов нет песчаниковых кряжей; вместо камня употребляют обожженную глину, кирпичи или черепицу; так как дожди обильны и часты, то крыши делаются очень покатыми; так как сырость постоянна, то фасады домов кроются поливой или глазурью. Оттого фламандский город представляется вам сетью красноватых или темных строений, всегда опрятных, часто блестящих, с остроконечными крышами; там и сям высится старая церковь, построенная из валуна или мелких камней, крепленных цементом; улицы, тщательно содержимые, тянутся между двумя нитями тротуаров безукоризненной чистоты. В Голландии они делаются из кирпича и часто вперемежку с фаянсом; в пять часов утра служанки, ползая на коленях, моют их тряпками. Бросьте взгляд сквозь эти блестящие стекла; войдите в какой-нибудь клуб, убранный зелеными деревьями, где паркет усыпан постоянно переменяемым песком; посетите эти таверны, расписанные яркими и мягкими красками, где тянутся ряды темных толстопузых бочек, где желтоватое вино пенится в вычурно обделанных стаканах. Во всех этих мелочах обыденной жизни, во всех этих проявлениях домашнего довольства и неизменного благосостояния вы увидите следы основного характера, выразившегося в климате и почве, в царстве растительном и животном, в человеке и его делах, в обществе и в отдельной личности.
По этим бесчисленным действиям вы можете судить о его значении. Его-то именно искусство и хочет выставить в полном свете, и если искусство принимает на себя это дело, то потому только, что природа оказывается для того недостаточной, ибо в природе характер составляет только общую всему основу, искусству же предстоит сделать его преобладающим, господствующим над всем. Характер этот, конечно, видоизменяет действительные предметы, но видоизменяет не вполне. Он стеснен в своем действии, спутан вмешательством других причин. Он не мог достаточно углубиться в предметы, носящие печать его, не мог отразиться в них со всей ясностью. Человек чувствует этот недостаток, и чтобы восполнить его, он изобретает искусство.
Действительно, обратимся снова к Кермессе Рубенса. Эти цветущие кумушки, эти великолепные пьяницы, все эти груди и все эти скотские расплывшиеся и красные рожи, быть может, имели в обжорах того времени несколько подобных себе лиц. Преизобильная и раскормленная природа пыталась произвести нравы и телосложения столь же грубые и крупные, но достигала этого лишь вполовину. Являлись другие причины, чтобы ослабить силу разгульной, плотской энергии, и прежде всего бедность. В лучшие времена и в лучших странах у бездны людей нет в достаточном количестве пищи, и если не голод, то, по крайней мере, проголодь, нищета, дурной воздух — все, чем сопровождается бедность, ослабляет развитие и порывы врожденной грубости, и человек, перенесший лишения, всегда менее силен и более сдержан. Религия, закон, полиция, привычки, укореняемые правильным трудом, производят такое же влияние; ко всему этому присоединяется еще воспитание. На сто человек, которые, при соответственных условиях, доставили бы Рубенсу натурщиков, оказалось не более пяти-шести, которые годились ему для этой цели. Теперь вспомните, что эти пять или шесть человек, на действительных праздниках, которые он мог видеть, терялись в массе лиц более или менее умеренных, более или менее обыкновенных; заметьте также еще, что в то время, когда он смотрел на них, они не имели позы, выражения, жеста, живости, костюма, разгильдяйства, необходимых для того, чтобы яснее обнаружить преобладание грубого веселья. Для пополнения всех таких недостатков природа зовет на помощь себе искусство; она не могла с достаточной ясностью выделить характер; и вот наверстать этот пробел в природе предстоит художнику.
То же самое мы можем видеть и на каждом произведении высшего искусства. Работая свою Галатею, Рафаэль писал, что так как красивые женщины очень редки, то он следует известной, возникшей у него идее. Это значит, что, смотря, со своей точки зрения, на человеческую природу, на ее спокойствие, ее счастье, ее гордую, изящную кротость, он не находил живого образца, в котором достаточно выразилось бы все это. У поселянки или работницы, с которой он писал, были руки, обезображенные трудом, ноги, испорченные обувью, взгляд, искаженный стыдом или униженный ремеслом. Даже у его Форнарины[3] плечи слишком опущенные, локти исхудалые, вид довольно грубый и тупой; если он написал ее снова в Фарнезине, то здесь уже совершенно преобразил; в нарисованной им фигуре он развил тог характер, которого в живой действительности представлялись одни только намеки и клочки.
Итак, все дело художественного произведения — передать как можно рельефнее и осязательнее существенный характер или по крайней мере характер, преобладающий в предмете. А для этого художник устраняет все черты, закрывающие этот характер, избирает между остальными те, которые лучше обнаруживают его, выправляет те, в которых характер этот извращен, и восстанавливает те, в которых он почти уничтожен.
Рассмотрим теперь уже не художественные произведения, а самих художников, т. е. их образ чувства, склад их изобретательности и творчества; вы найдете их соответствующими этому определению художественного произведения. Есть дар, существенно для них необходимый; никакое изучение, никакое терпение не заменят его; если его у них нет, они становятся просто копиистами, работниками. По отношению к изображаемым предметам у них должна быть самобытная восприимчивость; известный характер в предмете поразил их, и следствием такого толчка является сильное и ясное впечатление. Другими словами: когда у человека есть врожденный талант, его впечатлительность, по крайней мере к известного рода вещам, отличается тонкостью и быстротой; с чутким и верным тактом естественно распознает и схватывает он оттенки и отношения — то жалобное или героическое значение целого ряда звуков, то величавость или негу известного положения, то богатство или сдержанность двух взаимно пополняющихся или смежных тонов; силой этой способности он проникает в глубь предмета и кажется прозорливее всех других людей. И эта столь живая, столь личная восприимчивость не остается в бездействии; весь механизм мысли, вся нервная система получают от нее сильный толчок. Невольно выражает человек свое внутреннее ощущение: его тело производит известное движение — является мимика; он чувствует потребность внешним образом воссоздать предмет в том виде, в каком он его себе представляет, — голос ищет подражательной интонации; речь ловит цветистые выражения, быстрые обороты, фигурный, искусственный, гиперболический стиль. Очевидно, что силой первого толчка деятельный мозг передумал и преобразовал предмет — то для того, чтобы украсить его и возвеличить, то чтобы исказить и забавным образом свернуть его в одну какую-нибудь сторону; в смелом эскизе, в злой карикатуре вы сейчас же откроете у поэтических темпераментов это влияние невольного впечатления. Постарайтесь же теперь войти в мелочь частной жизни великих художников и великих писателей, вам современных, изучите первые наброски, проекты, задушевный дневник, переписку старых мастеров — вы везде найдете ту же самую, как бы врожденную им череду приемов. Пусть величают ее разными прекрасными именами, пусть называют ее вдохновением, гением — это и хорошо и справедливо; но если мы захотим определить ее в точности, необходимо всегда смотреть на нее как на живую самобытную восприимчивость, которая группирует вокруг себя целый рой придаточных идей, переделывает их по-своему, преобразует и пользуется ими для того, чтобы обнаружить самое себя.
Таким образом, мы дошли до определения художественного создания. Остановимся, милостивые государи, здесь на одну минуту и бросим беглый взгляд на пройденный нами путь. Мы постепенно вырабатывали себе все более и более возвышенное и вместе с тем — более и более точное понятие об искусстве. Мы полагали сперва, что цель его заключается в подражании ощутимой внешности предмета. Затем, отделяя материальное подражание от подражания умственного, духовного, мы открыли, что искусство стремится воспроизвести в ощутимой внешности предметов лишь соотношения между их частями. Наконец, заметив, что соотношения могут и должны быть изменяемы, с тем чтобы довести искусство до высшей степени совершенства, мы дошли до решения, что если и изучаются отношения между частями, то для того лишь, чтобы выдвинуть на первый план существенный характер. Ни одно из этих определений не уничтожает собою предыдущего, но каждое из них исправляет его и придает ему более точности, и мы можем, соединив их все и подчинив менее важные более важным, резюмировать весь труд наш до сих пор таким образом: ’’Художественное произведение имеет целью обнаружить какой-либо существенный или наиболее выдающийся характер, стало быть, какую-нибудь преобладающую идею яснее и полнее, чем она проявляется в действительных предметах. Искусство достигает этого, употребляя в дело общую совокупность соединенных частей, которых отношения изменяются им систематически. В трех подражательных искусствах: скульптуре, живописи и поэзии — эта совокупность частей всегда отвечает действительным предметам”.
VI
Две разные части в этом определении. — Каким образом сюда может быть введена музыка и архитектура. — Противопоставление первой группы искусств второй группе. — Первая копирует органические и нравственные соотношения; вторая копирует отношения математические.
Математические отношения, доступные зрению. — Различные разряды этих отношений. — Принцип архитектуры.
Математические отношения, доступные слуху. — Различные разряды этих отношений. — Принцип музыки. Второй принцип музыки — аналогия между звуком и криком. — С этой стороны музыка может быть отнесена к первой группе искусств. Данное определение применимо ко всем искусствам.
Рассматривая различные части этого определения, мы видим, милостивые государи, что первая часть существенна, а последняя — второстепенна. В каждом искусстве необходима совокупность слитых воедино частей, которую художник видоизменяет настолько, чтобы обнаружить какой- будь существенный характер; но не во всяком искусстве надобно, чтобы эта совокупность соответствовала действительным предметам; довольно того, что она существует. Итак, если можно встретить совокупность слитых воедино частей, не заимствованную у действительных предметов, то найдутся, конечно, и искусства, не имеющие точкой отправления своего подражание. Это. иногда бывает, и отсюда-то возникают архитектура и музыка. В самом деле, помимо отношений, пропорций и зависимостей органических и нравственных, которые копируются тремя подражательными искусствами, есть еще математические отношения, комбинируемые двумя другими искусствами, не подражающими ничему.
Рассмотрим сперва математические отношения, доступные зрению. Различные ощутимые для глаза величины могут образовать между собой совокупности частей, соединенных по законам математики. Ведь какой-нибудь кусок дерева или камня может же иметь геометрическую форму куба, конуса, цилиндра или шара, что и устанавливает правильные отношения расстояний между различными точками его контура. Кроме того, размеры его могут быть количествами, соединенными между собой в простых пропорциях, очень доступных глазу; высота может быть в два, три, четыре раза больше ширины или толщины, что составляет второй уже ряд математических отношений. Наконец, многие из этих кусков камня или дерева могут быть наложены один на другой или помещены один против другого, симметрически, в расстояниях и под углами, поставленными в зависимость от математических соображений. На этой совокупности сопряженных между собой частей основывается архитектура. Архитектор, наперед задумав известный преобладающий характер, например ясность, простоту, силу, изящество, как некогда в Греции и Риме, или же причудливость, разнообразие, колоссальность и фантастичность, как во времена господства готического стиля, может избирать и комбинировать связи, пропорции, размеры, формы, положения — короче, все отношения между материалами, т. е. известными видимыми величинами, таким образом, чтобы обнаружить задуманный им характер.
Наряду с величинами, доступными зрению, есть величины, доступные слуху, — я разумею различные скорости звуковых колебаний; эти колебания, будучи, в свою очередь, тоже известными величинами, могут образовать также совокупности частей, соединенных по законам математики. Во-первых, как вам известно, музыкальный звук состоит из беспрерывных, одинаковой скорости колебаний, и эта одинаковость устанавливает уже между ними математическое отношение. Во-вторых, если вам даны два звука, то второй может быть составлен из колебаний в два, три и четыре раза более быстрых, чем первый. Следовательно, оба звука имеют между собой математическое отношение, что и изображается в нотной системе размещением их на известном расстоянии друг от друга. А потому если вместо двух звуков мы возьмем известное число их, расположенных на равных расстояниях, то у нас образуется шкала последовательных звуков; шкала эта есть гамма, и, таким образом, все звуки будут между собой в связи, смотря по месту их в гамме. Вы можете теперь установить эту связь как между последовательными звуками, так и между звуками, издаваемыми одновременно. Первый род связи составляет мелодию, второй — гармонию. Таким образом, и музыка, с ее двумя существенными частями, основывается, подобно архитектуре, на математических соотношениях, которые художник может комбинировать и видоизменять.
Но в музыке есть другой еще принцип, и этот новый элемент сообщает ей совсем особенную, и чрезвычайную притом, силу. Помимо своих математических свойств звук подобен ведь крику, и вследствие этого он прямо выражает с неподражаемой точностью, нежностью и силой страдание, радость, гнев, негодование — все движения, все волнения живого и чувствующего существа с их мельчайшими оттенками и неизведанными тайнами. С этой стороны он похож на поэтическую декламацию и образовал целую музыку, музыку экспрессии, музыку Глюка и немцев, названную так в отличие от . певучей музыки Россини и итальянцев. Но какова бы ни была точка зрения, предпочитаемая композитором, оба элемента действуют в музыке заодно, сообща и звуки образуют всегда совокупности частей, соединяющихся между собою вследствие математических их отношений и вместе с тем силой того соответствия, какое имеют они со страстями и различными внутренними состояниями нравственного существа, так что музыкант, задумав выразить известный преобладающий или выдающийся характер, печаль или радость, нежную любовь или сильный гнев, ту или другую мысль, то или другое чувство, каковы бы они ни были, может избрать и комбинировать по своему произволу, в этих математических отношениях и в этих отношениях нравственных, каким образом лучше обнаружить задуманный им характер[4].
Итак, все искусства подходят под наше определение: в архитектуре и музыке, так же как в скульптуре, живописи и поэзии, художественное произведение имеет целью обнаружить какой-нибудь существенный характер и для этого употребляет совокупность собранных воедино частей, отношения которых художник комбинирует или видоизменяет по своему произволу.
VII
Значение искусства в жизни человеческой. — Эгоистические действия, имеющие предметом сохранение особи. — Социальные действия, имеющие предметом, сохранение группы и вида. — Бескорыстные действия, имеющие предметом созерцание причин и сущности вещей. — Два пути, ведущие к этому созерцанию: наука и искусство. — Преимущества искусства.
Теперь, ознакомившись с сущностью искусства, мы можем понять его важность. Прежде мы только чувствовали его, это было делом инстинкта, а не разума; мы ощущали уважение или благоговение к искусству, но не могли объяснить себе своего уважения и своего благоговения. Теперь мы в состоянии оправдать наши восторги и обозначить место искусства в жизни человеческой. Во многих отношениях человек есть животное, старающееся защитить себя от влияния природы или от других людей. Ему нужно заботиться о пище себе, об одежде, о жилище, нужно защитить себя от ненастной погоды, неурожая и болезней. Для этого он обрабатывает землю, занимается мореплаванием, различными родами промыслов и торговли. Кроме того, он должен заботиться о продолжении своего рода и предохранить себя от насилия других людей. С этой целью он образует семьи и государства; заводит суды, чиновников, учреждения, законы и войско. После стольких изобретений и трудов он все-таки не вышел из своей первичной сферы, он все-таки еще животное, только лучше снабженное пищею и лучше защищенное от других; но он все еще думает лишь о себе да о подобных себе. Тут-то раскрывается для него жизнь более высокая, жизнь созерцания; его интересуют вечные, изначальные причины, от которых зависит жизнь его и ему подобных, интересуют преобладающие, существенные характеры, управляющие каждой совокупностью вещей и оставляющие свой отпечаток на мельчайших подробностях. Для постижения их перед ним открыты два пути: первый — путь науки, с помощью которой он открывает эти причины и эти основные законы и выражает их точными формулами или абстрактными терминами; второй — путь искусства, с помощью которого эти причины и эти основные законы он выражает уже не в сухих определениях, недоступных толпе и понятных лишь для нескольких специалистов, а в форме осязательной, обращаясь не только к уму, но и к чувствам, к сердцу самого простого человека. Искусство имеет ту особенность, что оно одновременно возвышенно и общенародно: оно изображает самое высокое, делая его доступным для всех.
Отдел второй. Возникновение художественных произведений
Рассмотрев перед вами сущность художественного произведения, я должен теперь исследовать закон его возникновения. Закон этот на первых порах можно выразить так: художественное произведение определяется совокупностью двух элементов — общим состоянием умов и нравов окружающей среды; об этом я упоминал в последний раз; теперь надобно установить это окончательно.
Приведенный закон опирается на доказательства двоякого рода: опытные и умозрительные. Первые состоят в перечислении многочисленных случаев, подтверждающих закон; некоторые из этих случаев были уже приведены мною, на другие я укажу вам сейчас. Кроме того, можно положительно сказать, что не известно ни одного случая, к которому бы закон этот не применялся; во всех доныне исследованных он оказывается верен не только в общем, но и в частностях, не только относительно возникновения и исчезновения великих школ, но и во всех видоизменениях и колебаниях искусства. Второе доказательство состоит в выяснении того, что подобная зависимость не только строго состоятельна на самом деле, но что это и не может быть иначе. Для этого необходимо анализировать то, что мы назвали общим состоянием умов и нравов; необходимо открыть, на основании обыкновенных законов человеческой природы, те влияния, какие производит подобное состояние на общество и на художников, а следовательно, и на художественное произведение. Отсюда мы легко дойдем до заключения о неизбежной связи и постоянном соответствии, и то, что прежде казалось нам случайной встречей, мы должны будем признать существенно необходимой гармонией. Второе доказательство окончательно подтверждает то, что установлено было первым.
I
Общий закон возникновения художественного произведения. - Первое определение. — Два рода доказательств: одни — умозрительные, другие — опытные.
Чтобы осязательнее представить эту гармонию, обратимся еще раз к сравнению, которым мы пользовались прежде, и, сравнив художественное произведение с растением, посмотрим, при каких обстоятельствах растение вообще или какой-нибудь один вид его, например, апельсинное дерево, может развиваться и плодиться на известной почве. Допустим, что различного рода зерна и семена занесены ветром и разбросаны там и сям по воле случая; при каких условиях зерна апельсинного дерева могут приняться, разрастись в дерево, зацвести, дать от себя плоды, побеги, целый лес деревьев и покрыть собою грунт?
Для этого необходимо много благоприятных обстоятельств: нужно, прежде всего, чтобы почва была ни слишком рыхлой, ни слишком тощей, иначе корни не в состоянии будут пройти глубоко и достаточно укрепиться, так что дерево свалится при первом дуновении ветра. Следует затем, чтобы почва была не слишком суха, в противном случае, при недостатке освежительной влаги от текучей воды, дерево зачахнет на корню. Климат должен быть тепел, не то нежное растение замерзнет или, по крайней мере, захиреет и не в состоянии будет пустить ростки. Нужно также довольно продолжительное лето, чтобы поздние плоды этого дерева успевали дозреть. Зима должна быть умеренная, чтобы январские морозы не уничтожили запоздавших на ветках апельсинов. Почва, наконец, не должна быть очень благоприятна для других растений; иначе дерево, предоставленное своим собственным силам, погибнет в борьбе с напором более сильной растительности. При соединении всех этих условий маленькое апельсинное дерево вырастет, достигнет полной зрелости и произведет другие деревья, которые, со своей стороны окажутся столь же производительными. Конечно, могут случиться бури, падения камней, козы могут общипать несколько насаждений, но в общем итоге, помимо пагубных для особей случайностей, порода будет распространяться, покроет собой почву, и, по истечении достаточного числа лет, мы увидим целую рощу цветущих померанцев. Так и бывает в хорошо защищенных ущельях южной Италии, в окрестностях Сорренто и Амальфи, по берегам заливов, в маленьких теплых долинах, освежаемых бегущей с горы водою и ласкаемых благодетельным морским ветерком. Необходимо было стечение всех этих обстоятельств, чтобы собрать вместе такую массу красивых шариков, эти золотистые своды густой и пышной зелени, это несметное количество золотых яблок, эту благоухающую, драгоценную растительность, которая посреди зимы превращает этот берег в богатейший роскошнейший сад.
Поразмышляем теперь, каким образом все это так произошло в нашем примере. Вы видели результаты влияния, порожденного обстоятельствами и физической температурой. Собственно говоря, не они же ведь произвели апельсинное дерево. Для этого даны были зерна, и в одних зернах заключается вся жизненная сила. Но перечисленные обстоятельства необходимы для того, чтобы растение могло приняться и разрастись; без них не могло бы существовать и самое растение.
Отсюда следует, что при другой температуре и порода растений была бы другая. В самом деле, допустим условия, прямо противоположные только что описанным нами: вершину горы, открытую для самых сильных ветров, тонкий и ненадежный слой растительной земли, холодный климат, короткое лето, снег в течение всей зимы; при таких условиях не только померанцевое дерево не могло бы там расти, но и большая часть других деревьев погибла бы. Из всех семян, занесенных туда случайно, одно лишь может приняться и одна лишь порода удержится и распространится — та именно, которая сживется с этими тяжелыми обстоятельствами: сосна и ель покроет пустынную верхушку, длинные скалистые хребты и крутые скаты своими строгими колоннадами и широким плащом мрачной зелени; и там, как в Вогезах, в Шотландии и Норвегии, вы будете проезжать целые мили под этими безмолвными сводами, по ковру иссохших игл, между корнями, упорно вросшими в скалы, по области энергического и терпеливого растения, которое одно выдерживает беспрестанный напор ветра и сильные морозы долгих зим.
Итак, общую совокупность обстоятельств и физическую температуру можно представить себе так, что они как бы делают отбор между различными породами деревьев, допуская выживать и размножаться одной лишь известной породе, с более или менее полным устранением всех других пород. Физическая температура действует посредством выдела, уничтожения и естественного подбора. Таков великий закон, которым объясняются теперь происхождение и строй различных живых организмов. Он одинаково применим в нравственной, как и в физической сфере, в истории точно так же, как в ботанике и зоологии, относительно талантов и характеров, как и относительно растений и животных.
II
Общее влияние среды. Сравнение физической температуры и температуры нравственной. Обе действуют посредством выдела и естественного подбора.
Действительно, есть нравственная температура, заключающаяся в общем умственном и нравственном состоянии и действующая точно так же, как и другая. Собственно говоря, не она производит художников; гении и таланты даются так же, как и семена, т. е. в одной и той же стране в различные эпохи, по всей вероятности, бывает одинаковое число даровитых людей и посредственностей. В самом деле, из статистики известно, что в двух последовательных поколениях находится почти одно и то же число людей, годных для рекрутского набора и не годных за малоросл остью. По всем вероятиям, относительно умов происходит то же, что и относительно тела, и природа, эта сеятельница людей, черпая постоянно одной и той же рукой из одного и того же вместилища, разбрасывает зерна почти в одинаковом количестве, одного и того же качества и в одинаковом размере в различные почвы, правильно и попеременно ею засеваемые. Но из этих пригоршней зерен, которые она разбрасывает вокруг себя, отмежевывая время и пространство, далеко не все принимаются. Необходима известная нравственная температура, чтобы некоторые таланты достигли своего развития: при отсутствии ее они гибнут. Следовательно, с переменой температуры изменяется и природа талантов; при несоответственности ее порода эта принимает другие, сообразные тому формы. Вообще нравственная температура как бы выбирает между различными породами, благоприятствуя развитию одной и исключая вполне или же отчасти другие. Вот вследствие подобного-то рода механизма вы замечаете, что в известные эпохи и в известных странах, в различных школах искусства достигает преобладающего развития то стремление к идеалам, то более реальное направление, господство рисунка или господство красок. В каждом столетии является какое-нибудь господствующее направление; таланты, стремящиеся в иную сторону, не находят себе исхода, и сила общественного мнения и окружающих нравов затирает их или сворачивает на другой путь, навязывая им определенный характер цветения.
III
Подробное изложение влияний среды.
Упрощенный случай — состояние бедствия и общего горя. — Художник опечален своей долей участия в общем бедствии грустными мыслями своих соотечественников, своей способностью проникаться преобладающим в предмете характером, которым в настоящем случае является горе. — Им руководят, его вдохновляют одни лишь меланхолические сюжеты. Публике понятны одни меланхолические произведения.
Случай противоположный — состояние благоденствия и общего счастья.
Случаи, занимающие середину между этими двумя крайностями.
Сравнение это может служить нам общим указанием. Войдем теперь в некоторые подробности и рассмотрим, каким образом нравственная температура влияет на художественные произведения.
Для большей ясности мы возьмем самый простой, даже нарочно упрощенный случай нравственного состояния, в котором, например, преобладает горе. Предположение это вовсе не произвольно: подобное состояние не раз встречается в жизни людей и, чтобы произвести его, достаточно бывает пяти-шести столетий упадка, уменьшения населения, достаточно нескольких чужеземных вторжений, голода, эпидемий, увеличивающейся нищеты. Это было в Азии в VI веке до Р. X., в Европе с I по X столетие нашей эры. В такое время люди совершенно теряют бодрость и надежду и самую жизнь считают злом.
Рассмотрим, как влияет подобное нравственное состояние, в соединении с порождаемыми им обстоятельствами, на художников такой эпохи. Допустим, что тогда встречается почти то же, что и во всякое другое время, число людей с темпераментами меланхолическим, веселым и средним между обоими темпераментами. Каким образом и в каком отношении преобладающее настроение изменит их?
Сперва должно заметить, что несчастья, гнетущие общество, отражаются некоторым гнетом и на художнике. Находясь одной из голов в стаде, он подвергается всем постигающим его бедам. Например, в случае нашествия варваров, эпидемии, голода, разного рода бедствий, продолжающихся в течение веков и обрушивающихся над всей страной, надо предположить чудо или даже целую сотню чудес, чтобы общее несчастье пронеслось, не затронув художника. Напротив, весьма вероятно и даже, можно сказать, несомненно, что и он будет иметь свою долю участия в общественном бедствии, что и он будет разорен, избит, изранен, уведен в плен точно так же, как и другие, как его жена, его дети, родные, друзья, которые разделят общую участь, что он будет бояться и страдать за них, как и за самого себя. Под этим беспрерывным потоком личных несчастий он сделается менее обыкновенного весел и более обыкновенного грустен. Вот первое влияние среды.
С другой стороны, художник вырос между меланхолическими современниками; впечатления, полученные им в детстве, и те, которые выносит он каждый день, одинаково грустны. Господствующая религия, применяясь к мрачному течению жизни, говорит ему, что земля есть место изгнания, весь мир — темница, жизнь — бедствие и что вся наша забота должна состоять в том, чтобы поскорее заслужить из нее выход. Философия, настраивая свои нравоучения по грустному зрелищу человеческого упадка, убеждает его, что лучше было бы вовсе не родиться. Из обыденного разговора долетают к нему лишь самые мрачные происшествия — опустошения целой области, разорения зданий, угнетение слабых, усобица между сильными. Ежегодно он видит лишь унылые и траурные лица, нищих, голодных, провалившийся и неисправляемый мост, покинутое обрушенное предместье, невспаханные поля, черные стены обгорелого дома. Все впечатления эти накапливаются в нем с первого года его жизни до последнего и постепенно увеличивают в нем грусть, происходящую от его собственных страданий.
Они увеличивают грусть в нем тем более, чем глубже и чем более он художник. Ибо потому он и художник, что привык воспроизводить существенный характер и отличительные черты предметов; другие видят только части, а он подмечает и ловит целое и общий дух его. И так как тут характерная черта есть печаль, то печаль же и видит он во всем окружающем. Мало того: вследствие избытка воображения и свойственного ему инстинкта преувеличивать он расширяет эту печаль, доводит ее до крайних пределов, весь проникается ею, и каждое произведение его как будто дышит грустью, так что обыкновенно он видит и изображает предметы в еще более черном цвете, чем видится это современникам.
Надо, однако же, сказать, что тут он находит себе и у них поддержку. Известно, что пишущий или рисующий человек не остается же наедине со своей чернильницей или со своей картиной. Напротив, он выходит со двора, разговаривает, смотрит, получает указания от своих друзей, своих соперников, ищет поучения в книгах и в созданиях окружающего искусства. Мысль подобна семени; если семени, чтобы пустить ростки, достигнуть развития и расцвесть, необходима пища, доставляемая ему водой, воздухом, солнцем и землей, то мысль, чтобы приобрести известную степень законченности, чтобы найти себе выражение, нуждается в пополнениях и приращениях, доставляемых ей окружающими умами. А в такие тяжелые времена что могут навеять окружающие умы? Самые грустные намеки, потому что и деятельность-то проявляется тут именно с одной стороны. Так как они сами испытывают только тягостные ощущения и чувства, то и все открытия их, естественно, ограничиваются одною сферою страдания, постоянно наблюдают они свое сердце, и если оно преисполнено все горем да горем, то и изучать им остается одно горе. Итак, они глубокие знатоки в деле страдания, горя, отчаяния, гибели, и только в этом одном. Если художник потребует от них каких-либо наставлений, они могут дать ему одно это; искать у них какой-либо идеи или разъяснения относительно разных родов или различных выражений радости было бы напрасным трудом; они могут доставить только то, чем богаты сами. Вот потому-то, если художник предается тогда изображению счастья, довольства или веселья, он будет одинок, лишен всякой помощи, предоставлен собственным своим силам; а сила одного человека всегда невелика, следовательно, и произведение его будет слабо. Напротив, выбрав сюжетом изображение меланхолических чувств, он получает опору во всем своем веке, найдет материалы, подготовленные предшествующими школами, совершенно законченное искусство, известные уже приемы, вполне проторенный путь. Какое-нибудь церковное торжество, меблировка комнаты, разговоры внушат ему форму, цвет, фразу или личность, то именно, чего ему недоставало. Творение его, в котором таинственно участвовали миллионы неведомых сотрудников, будет тем прекраснее, что в нем помимо труда и гения самого художника совместится гений и труд окружающего его народа и предшествовавших ему поколений.
Есть еще одна более сильная причина, влекущая его к выбору грустных сюжетов, именно произведение его, выставленное напоказ всему обществу, понравится ведь лишь в том случае, если оно выражает грусть. В самом деле, люди понимают только чувства, схожие с теми, какие сами они испытывают. Другие чувства, как бы ни были прекрасно они выражены, не производят на них никакого влияния: глаза глядят, но сердце не чувствует ничего, и тотчас же отвертываются и глаза. Представьте себе человека, который потерял состояние, отечество, детей, здоровье, свободу, который двадцать лет провел в цепях тюрьмы, как Пеллико или Адриан, характер которого постепенно искажался и наконец совершенно надломился, который сделался меланхоликом и мистиком и безвозвратно утратил бодрость, — он с ужасом отвернется от плясовой музыки и едва ли захочет читать Рабле; если вы поведете его к вакхически-веселым лицам Рубенса, он отвернется от них и станет охотно глядеть только на картины Рембрандта; ему приятна будет лишь музыка Шопена, он станет слушать лишь стихотворения Ламартина или Гейне. То же происходит с обществом и с отдельными лицами; вкус индивидуума зависит от его положения; горе располагает его к грустным произведениям, следовательно, он отбросит прочь все веселые и станет порицать их или не обратит внимания на их автора. Но вы знаете, что каждый художник сочиняет для того лишь, чтобы его оценили и похвалили, — в этом первое его желание. Следовательно, помимо многих других влияний, главная цель художника в соединении со всей тяжестью общественного мнения склоняет и направляет его беспрестанно к изображению грустного, преграждая ему все пути, которые могли бы привести его к воспроизведению беззаботности и счастья.
Этим рядом препятствий замыкается всякий путь художественным созданиям, в которых изображалась бы радость. Если художник перешагнет первое препятствие, он будет остановлен вторым, третьим и так далее. Если и встретятся иногда веселые натуры, то и они будут омрачены своими собственными несчастьями. Воспитание и ежедневные разговоры преисполнят их грустных мыслей. Таланты художников, благодаря которым они схватывают и восполняют характеристические черты предметов, будут изощряться только на печальных характерах. Опыт и труд других наставят и окажут им содействие только лишь по отношению к грустным сюжетам. Наконец, решительное и громкое требование публики не дозволит им никаких иных. Поэтому тот род художников и те произведения, которые готовы изображать веселье и радость, исчезнут или будут незаметны.
Рассмотрим теперь обратный случай — время, общим нравственным состоянием в котором является веселье. Это бывает в пору возрождения, с увеличением безопасности, богатства населения, благосостояния, благоденствия, прекрасных и полезных изобретений. Изменив собственно наши предыдущие выражения, мы увидим, что все сказанное нами прежде слово в слово может быть применено к настоящему случаю, и, путем такого же рассуждения, мы придем к выводу, что все художественные создания этого времени выразят, в большей или меньшей степени, веселое и радостное настроение.
Теперь обратите внимание на случай, занимающий середину между тем и другим состоянием, т. е. на такое смешение горя и радости, какое представляется обыкновенным, не исключительным состоянием людей. Изменяя соответственно выражения, мы можем с совершенной точностью применить наше исследование и тут. То же самое рассуждение убедит нас, что художественные создания выразят соответственную, по количеству и качеству, смесь радости и горя.
Итак, выведем отсюда заключение, что в каждом сложном или простом случае среда, т. е. общее состояние умов и нравов, определяет род художественных произведений, допуская лишь те из них, которые ему соответствуют, и выделяя или исключая другие роды и виды их путем целого ряда препятствий и нападок, возобновляющихся при каждом шаге их к развитию.
IV
Действительные и исторические случаи. — Четыре эпохи и четыре главных искусства.
Оставим теперь случаи предполагаемые и упрощенные для ясности изложения и обратимся к действительным случаям. Пробегая главнейшие моменты исторической жизни народов, вы увидите полное подтверждение этого закона. Я выберу между ними четыре главнейших момента в европейской цивилизации: древние времена Греции и Рима, феодальную и христианскую эпоху средних веков, дворянские и стройные монархии XVII столетия и руководимую науками промышленную демократию нашего времени. Каждый из этих периодов имеет свое искусство или свой род искусства, ему свойственные, скульптуру, архитектуру, театр, музыку, по крайней мере какой-нибудь определенный вид каждого из этих великих искусств, во всяком случае — особую растительность, необыкновенно обильную и полную, в главных своих чертах отражающую главные черты искусства и народа. Рассмотрим одну за другой различные почвы и увидим на каждой из них по очереди разнообразные цветы.
V
Греческая цивилизация и античная скульптура.
Греческие нравы в сравнении с нравами других современных народов. — Город. — Человек ведет праздную жизнь в качестве гражданина или воина. — Военное время и военное право в древности. — Необходимость образовать атлета. — Спартанская система людских заводов и детских артелей или дружин. — Гимнастика в остальной Греции.
Соответствие между идеями и нравами. — Нагота не кажется неприличной. — Олимпийские игры. — Оркестрика. — Боги — полное совершенство тела. Зарождение скульптуры. — Статуи атлетов. — Статуи богов. — Как греки раскрывают и изображают совершенство тела. — Почему ваяние оказывается достаточным для них. — Тело не подчиняется у них голове. — Громадное число статуй.
Около трех тысяч лет тому назад по берегам и на островах Эгейского моря появилось чрезвычайно красивое и богато одаренное племя с совершенно новым взглядом на жизнь. Оно не дало поглотить себя ни великой религиозной идее, подобно индусам и египтянам, ни обширной социальной организации, как ассирийцы и персы, ни, наконец, громадной промышленной и торговой деятельности, как финикияне и карфагенцы. Вместо теократии и иерархии каст, вместо монархии и иерархии сановников, вместо обширных торговых и промышленных учреждений люди этого племени устроились по-своему: они завели у себя город, от каждого такого города плодились другие, и каждый отпрыск, отделившись подобным же образом от своего источника, порождал опять новые отпрыски. Один из этих городов, Милет, произвел до трехсот других и заселил ими весь сплошь берег Черного моря. Другие делали то же, и от Кирены до Марселя, вдоль заливов и мысов Испании, Италии, Греции, Малой Азии и Африки, они сплелись вокруг Средиземного моря целым венком цветущих городов.
Какую же жизнь вели в этом городе?[5] Гражданин своими руками работал там мало; все необходимое обыкновенно доставлялось ему подвластными и данниками, а прислуживали ему рабы. Самый бедный гражданин имел по крайности хоть одного раба для домашнего обихода. В Афинах считалось по четыре раба на одного гражданина, а обыкновенные города — Эгина, Коринф имели от четырехсот до пятисот тысяч рабов; Таким образом, в прислуге не было недостатка. Впрочем, гражданин и не имел в ней особенной надобности. Он был умерен, как все деликатные, южные племена, довольствовался тремя оливками, головкой чесноку и одной сардинкой[6]; вместо всякой одежды он ограничивался сандалиями, полурубашкой и большим, на манер пастушьего, плащом. Дом его представлял тесную, дурно сложенную и непрочную постройку; воры влезали туда, проламывая стену избы[7]; главное употребление этих хижин состояло в том, что там спали; кровать, две-три красивые амфоры — вот главная мебель. Гражданин не имел особенных потребностей и проводил весь день на открытом воздухе.
Чем занимался он на досуге? Не неся никакой службы ни царю, ни первосвященнику, он был свободен и сам себе владыка в своем городе. Он выбирал себе судей и жрецов; мог также и сам быть выбран в жрецы или в сановники; кожевник ли, кузнец ли, он наравне с другими гражданами решал в трибуналах самые крупные политические дела и обсуждал в собраниях важнейшие государственные вопросы. Короче, общественные дела и война — вот вся его обязанность. Он призван быть политиком и солдатом, все остальное в его глазах не имеет особого значения; по его убеждению, все внимание свободного человека должно быть устремлено на эти два занятия. И он прав, потому что в то время человеческая жизнь не была в такой безопасности, как теперь, и человеческие общества не обладали еще той прочностью, какой они достигли в настоящее время. Большая часть этих городов, разбросанных по берегам Средиземного моря, была окружена варварами, которые охотно разграбили бы их; гражданин вынужден постоянно быть наготове, с оружием в руках, точно так же, как и теперь европеец живет в Новой Зеландии или в Японии, не то галлы, ливийцы, самниты, вифинцы тотчас же раскинут лагерь на развалинах разоренного города и обращенных в пепел храмов. Впрочем, города враждуют друг с другом, а военное право отличается такой жестокостью, что чаще всего побежденный город является вместе с тем и разоренным в прах; какой-нибудь богатый и значительный человек может завтра же увидать свой дом сожженным, имущество разграбленным, а жену и дочь проданными для пополнения домов разврата; сам он и сыновья сделаются рабами, будут зарыты в рудники или станут под ударами плетей ворочать мельничный жернов. Когда опасность так велика, естественно, что граждане заботятся об интересах государства и всегда готовы драться: каждый заинтересован политикой под страхом смерти. Политиками делаются также из честолюбия, из жажды славы. Каждый город старается покорить или унизить другие, приобрести себе данников, завоевать или эксплуатировать чужих[8]. Гражданин проводит жизнь на общественной площади, обсуждает лучшие средства к охранению и возвеличению своего города, условия союзов и договоров, состав учреждений и законов, слушает ораторов, сам говорит — вплоть до той минуты, когда настанет пора сесть на корабль, чтобы биться с Фракией или Египтом, с греками, с варварами или с великим царем Персии.
Для достижения этой цели у них была придумана особенного рода дисциплина. В то время, за недостатком промышленности, боевые машины не были известны, а сражались врукопашную; поэтому главное условие успеха в войне заключалось не в том, чтобы превратить солдат, как теперь, в точно движущихся автоматов, но чтобы сделать из каждого солдата возможно более стойкого, сильного и ловкого бойца — короче, гладиатора самого лучшего закала, способного выдерживать битву как можно долее. С этой целью Спарта, около VIII столетия подавшая собою пример и расшевелившая всю Грецию, ввела у себя чрезвычайно сложное и не менее сильное устройство. Сама она была открытым лагерем, на манер французских военных постов в Кабилии, расположенным посреди побежденных и неприятелей, вся проникнутая воинским духом и вся целиком направленная к обороне или битве. Чтобы иметь годных воинов, старались сперва усовершенствовать породу людей и для этого поступали, как на конских заводах. Дурно сложенных детей просто умерщвляли. Кроме того, закон определял не только брачный возраст, но даже минуту и обстоятельства, особенно благоприятствующие удачному зарождению. Старик, у которого была молодая жена, обязан был свести ее с юношей, чтобы от нее родились здоровые дети. Человек средних лет, если бы у него был приятель, отличавшийся сильным характером и красотой, мог также уступить ему свою жену[9]. За выработкой породы принимались меры к улучшению особей. Подростков собирали в отряды, приучали к телесным упражнениям и к жизни сообща как солдатских детей. Они были разделены на две соперничавшие между собой дружины, взаимно наблюдавшие друг за другом и бившиеся на кулачки и ногами. Спали они на открытом воздухе, купались в холодных волнах Эврота, ходили на мелкий грабеж, ели мало, на скорую руку и плохо, покоились на тростниковых подстилках, пили одну воду и переносили все непогоды; молодых девочек приучали к таким же упражнениям, а взрослых обязывали к ним, хотя и не вполне. Конечно, в других городах эта строгость древней дисциплины была смягчаема или требовалась в меньшей степени. Тем не менее все они, с различными уклонениями, стремились к одной и той же цели почти одним и тем же путем. Молодые люди проводили большую часть дня в гимназиях, где боролись, прыгали, бились на кулачки, бегали, бросали диск, укрепляли и развивали свои обнаженные мышцы. Требовалось придать телу возможно большую крепость, легкость и красоту, и никакое другое воспитание не привело бы лучше к подобной цели[10].
Эти свойственные грекам нравы породили и особенные понятия. Идеальной личностью в их глазах был не полный мысли ум, не глубоко чувствующая душа, а обнаженное тело, породистое и рослое, с полной соразмерностью частей, подвижное и ловкое на все упражнения. Такой взгляд обнаруживается у них во множестве подробностей. Во-первых, между тем как вокруг греков карийцы, лидийцы и вообще все их соседи-варвары стыдились показываться нагими, они охотно покидали одежду, чтобы сражаться и бегать[11]. Даже молодые девушки упражнялись в Спарте почти обнаженные. Вы видите, что гимнастические обычаи совершенно уничтожили или изменили общие понятия о стыдливости. Во-вторых, их большие народные празднества, олимпийские, пифийские и немейские игры, служили выставкой и торжеством для красы нагого тела. Молодые люди лучших семейств стекались туда со всех концов Греции, из самых отдаленных греческих колоний; они приготовлялись к этому задолго особенного рода выдержкой и неустанной работой, и там, перед лицом всего народа и при громких рукоплесканиях его, раздевшись донага, они боролись, бились на кулачки, бросали диск и бегали или скакали в колесницах. Победы на этих играх, в наше время предоставленные уже только ярмарочным геркулесам, казались также выше всех других. Атлет, победитель в каком-нибудь беге, давал олимпиаде свое имя в прозвище. Величайшие поэты воспевали его; знаменитейший из древних лириков, Пиндар, славил лишь бега на колесницах. При возвращении атлета-победителя домой сограждане встречали его с особенным торжеством, его сила и ловкость становились славой всего города. Один из таких атлетов, Милон Кротонский, непобедимый в борьбе, был избран военачальником и водил своих сограждан на битву, одетый в львиную шкуру и вооруженный палицею, как Геркулес, которому его уподобляли. Рассказывают, что некто Диагор, видевший, как в один и тот же день двое его сыновей были увенчаны на играх, торжественно был перенесен ими перед всем сборищем и народ, находя такое счастье слишком великим для смертного, кричал ему: ’’Умри, Диагор, ведь не сделаться же тебе богом!” В самом деле, Диагор не вынес столь сильного волнения и умер на руках своих детей; в его собственных глазах и по мнению всех греков убедиться, что у детей его самые сильные кулаки и самые проворные ноги, было верхом земного благополучия. Истинное ли это сказание или легендарное, во всяком случае, подобный взгляд показывает, до какой крайности доходило поклонение совершенству тела.
Вот почему греки не боялись выставлять наготу своего тела и перед богами на торжественных праздниках. У них была целая наука различных положений тела и телодвижений, называвшаяся оркестрикой и учившая изящным позам в священных танцах. После битвы при Саламине трагик Софокл, в то время пятнадцатилетний юноша, известный своей красотой, сбросил с себя одежду, чтобы поплясать и воспеть пеан перед трофеем. Спустя полтора столетия Александр, проходя Малую Азию на войну с Дарием, разделся со своими товарищами донага, чтобы упражнениями в беге почтить гробницу Ахилла. Но поклонение телу в то время шло еще далее: совершенство телесных форм считалось прямо принадлежностью богов. В одном из сицилийских городов молодой человек необыкновенной красоты был боготворим за одно это, и по смерти ему воздвигли жертвенники[12]. У Гомера, которого можно назвать библией греков, вы везде найдете, что боги имеют человеческое тело, которое можно ранить копьем, алую струящуюся кровь, желания, гнев, наслаждения, совершенно подобные нашим, до того, что некоторые герои становятся любовниками богинь, а, боги имеют детей от смертных любовниц. Олимп и земля не разделены непроходимой бездною: боги спускаются к нам, а мы подымаемся к ним; превосходят они нас лишь тем, что они сильнее, красивее и счастливее нас. Затем, как и мы, они так же едят, пьют, дерутся, наслаждаются всеми телесными способностями. Греция из изящного плотского человека сделала себе до того совершенный образец, что он стал идолом ее, прославляемым ею на земле и обожаемым на небе.
Результатом такого взгляда является ваяние, и мы можем проследить все моменты в его развитии. Начать с того, что один раз увенчанный атлет имеет уже право на статую; если же он трижды остался победителем, то ему ставят иконическую статую, т. е. портретное его изваяние. С другой стороны, так как боги тоже обладают человеческим телом, только более светлым и совершенным, то весьма естественно изображать статуями и их. К тому же этим нисколько не нарушается общий догмат верования. Мраморное или бронзовое изваяние не есть ведь аллегория, но совершенно точный образ; оно не навязывает богу мускулов, костей, тяжелой оболочки, которых у него нет; оно передает наружные очертания его тела и живую форму, составляющую собой его сущность. Чтобы стать вполне верным изображением, фигуре достаточно быть красивее всех других и представлять то бессмертное спокойствие, которым бог превосходит нас, смертных.
Вот статуя уже в деле; сумеет ли скульптор довершить ее? Всмотритесь в его подготовку. Люди того времени наблюдали движения нагого тела в купальнях, в гимназиях, во время священных плясок, на общественных играх. Они подметили и уловили те из форм и движений этого тела, которые обнаруживают энергию, здоровье и живость. Все силы труда употреблены были ими на то, чтобы передать своим изваяниям эти формы и усвоить им эти положения. В течение трехсот или четырехсот лет они исправляли таким образом, очищали и развивали свои понятия о телесной красоте. Ничего нет удивительного, если они, наконец, открыли идеальный образец человеческого тела. Что касается до нас, знающих теперь его, мы должны откровенно сказать, что он перешел к нам от греков. Когда, под конец готического вкуса, Николай Пизанец и другие лучшие скульпторы покинули сухие костлявые и некрасивые формы церковных преданий, ими взяты были за образец сохранившиеся или найденные в земле греческие барельефы; и если, в настоящее время, усиливаясь забыть невзрачные тeлa наших плебеев или мыслителей, мы захотим воссоздать несколько очерков более совершенной формы, то указаний для нашей цели нам придется искать в этих статуях, памятниках жизни гимнастической, праздной и благородной.
Тут мы найдем не только совершенство формы, но и то единственное в своем роде явление, что форма эта вполне удовлетворяет мысли художника. Греки, приписав телу исключительно ему одному присущее достоинство, не пытаются, подобно новейшим народам, подчинить его голове. Им нужны вольно дышащая грудь, туловище, устойчивое на бедрах, упругость мышц, быстро двигающих телом; они не заинтересованы исключительно, как мы, возвышенностью задумчивого чела, гневным движением бровей, насмешливою складкой губ; они могут довольствоваться условиями совершенной скульптуры тела, оставляющей глаза без зрачков и голову без выражения, предпочитающей спокойные или занятые каким-нибудь неважным делом лица, употребляющей обыкновенно однообразный цвет бронзы или мрамора, представляющей живописи разноцветные украшения и литературе драматический интерес, — скульптуры, которая, будучи стеснена, но зато и облагорожена свойством ее материалов и узкостью ее рамки, избегает воспроизведения частностей, физиономии, случайных перемен, человеческих треволнений, а восстанавливает только одну отвлеченную, чистую форму; в святилищах ее блестит лишь неподвижная белизна мирных и величественных изображений, в которых род человеческий узнает своих героев и своих богов. Вот поэтому-то ваяние и есть центральное, верховное искусство в Греции, все остальные более или менее связаны с ним, сопровождают его или ему подражают; ни одно из них не выразило так прекрасно народной жизни, ни одно не достигало столь тщательной обработки и столь громадной популярности. Вокруг Дельф, в сотне небольших храмов, хранивших городские сокровища, ’’целое народонаселение из мрамора, золота, серебра, меди, бронзы, из двадцати различных и разноцветных бронз, тысячи славных граждан в беспорядочных группах, и сидя, и стоя, — лучезарно сияли, как истые подданные светоносного бога”[13]. Когда позднее греческий мир был ограблен Римом, громадный этот город также наполнился целым народом статуй, почти равночисленных живому его населению. В настоящее время, после стольких веков разрушения, насчитывают, что из Рима и его окрестностей добыто более шестидесяти тысяч статуй. Никогда не видно было впоследствии такого процветания скульптуры, такого изобильного богатства цветов, и цветов столь совершенных, развития столь легкого, постоянного и разнообразного. Вы только что открыли причину этого, тщательно исследовав почву по слоям, и не могли притом не заметить, что все слои этой человеческой почвы — учреждения, нравы, идеи — способствовали столь невиданному процветанию.
VI
Средневековая цивилизация и готическая архитектура.
Упадок древнего мира, принижение греческих городов. — Римская империя. — Частые нашествия варваров. — Феодальный грабеж, голод и эпидемии. — Всеобщее бедствие.
Влияние на умы. — Грусть и отвращение к жизни. — Экзальтированная чувствительность и рыцарская любовь. — Могущество христианской религии. Зарождение готической архитектуры. — Громадность здания. — Внутренний полумрак и измененное освещение сквозь стекла. — Символизм форм. — Стрельчатые своды. — Искание чего-то гигантского и фантастического. — Повсеместность этой архитектуры.
Военная организация, свойственная всем древним городам, принесла, с течением времени, свой плод — плод печальный. Так как война была обычным, естественным состоянием, то, разумеется, сильные покорили слабейших; значительные государства слагались не раз под управлением или тиранией какого-нибудь могущественнейшего или победоносного города. Наконец явился город Рим, одаренный большей энергией, терпением и ловкостью, более других способный подчиняться и повелевать, обладающий большей последовательностью в своих целях и большей практической сообразительностью. После семисотлетних усилий он успел покорить своей власти весь бассейн Средиземного моря и многие обширные страны вокруг него. Чтобы достигнуть этого, он подчинился военному управлению и, как плод является из зерна, из него возник военный деспотизм. Так образовалась империя; и к концу первого столетия нашей эры мир, организованный в одну правильную монархию, как будто бы нашел наконец порядок и спокойствие. Его ожидал, однако же, только упадок. В страшном погроме завоевания гибли сотни городов и миллионы людей. Сами победители истребляли друг друга в течение целого столетия, и цивилизованный мир, лишенный свободных людей, был наполовину обезлюден[14]. Граждане, став подвластными и не руководясь уже никакой целью, предались апатии или уклонялись от брака и не производили детей. Так как машины в то время не были известны, а все делалось посредством ручной работы, то рабы, обязанные трудами рук своих служить утонченным наслаждениям, увеселениям и роскоши целого общества, изнемогали под тяжестью непосильного труда. По прошествии четырех веков ослабленная и опустошенная империя не имела ни достаточного количества людей, ни настолько энергии, чтобы отбить варваров. Волны этих орд, прорвав плотину, вторгались одни за другими беспрерывно в течение пятисот лет. Зло, причиненное ими, было неисчислимо: истреблены целые народы, разрушены здания, опустошены поля, выжжены города, промышленность, искусства, науки — все было погублено, изувечено, забыто; страх, невежество и грубость распространились и утвердились повсюду; то были дикари, вроде гуронов или ирокезов, внезапно явившиеся посреди образованных и мыслящих, как мы, людей. Вообразите себе стадо быков, ворвавшееся во внутренность какого-нибудь дворца, между мебелью и комнатными украшениями; вслед за этим стадом является другое, так что обломки, оставленные первым, исчезают под копытами вторых, и не успеет эта ватага животных расположиться здесь как попало, ей уж надо опять вскочить на ноги и противопоставить рога свои разъяренному стаду новых ненасытных пришельцев. Когда же наконец в X веке последняя орда водворилась кое-как и завела на свой лад становище, условия людской жизни едва ли оттого улучшились. Предводители варваров, сделавшиеся феодальными владельцами замков, вели постоянные драки между собой, разоряли крестьян, жгли жатвы, грабили купцов, обирали сколько душе угодно своих несчастных холопов. Земли оставались невспаханными, чувствовался недостаток жизненных припасов. В XI столетии на какие-нибудь семьдесят лет насчитывается сорок лет голода. Монах Рауль Глабер рассказывает, что в то время вошло в обыкновение есть человеческое мясо; одного мясника сожгли живьем за то, что он выставил его в своей лавке. Прибавьте к этому, что, при повсеместной нищете и неопрятности, при полном забвении самых обыкновенных правил гигиены, моровые язвы, проказа, разные эпидемии акклиматизировались, как у себя дома. Нравы дошли до дикости антропофагов Новой Зеландии, до скотского огрубения каледонцев и папуасов, а воспоминание прошлого только увеличивало горечь настоящих бедствий, и те немногие мыслящие головы, которые не забыли еще читать на древнем языке, смутно чувствовали всю громадность падения и всю глубину той пропасти, в которую род людской погружался в течение целого тысячелетия.
Вы угадываете чувства, какие поселило в этих людях подобное положение дел, столь продолжительное и ужасное. То были — уныние, отвращение к жизни, мрачная тоска. ’’Мир, — говорит один писатель того времени, — есть не что иное, как пучина зла и бесстыдства”. Жизнь казалась преждевременным адом. Многие покидали ее, и не только бедные, слабые, больные, но и владетельные вельможи, даже короли. Те, у кого душа была хоть несколько благороднее и выше, предпочитали однообразное спокойствие монастырей. С приближением тысячного года все ожидали конца мира, и многие, объятые ужасом, спешили раздать свое имущество церквам и монастырям. С другой стороны, вместе с ужасом и отчаянием, появляется нервная экзальтация. Когда люди слишком несчастны, они становятся раздражительны, как больные и узники; их чувствительность постепенно усиливается и доходит до женственной изнеженности. Им свойственны прихоти, вспышки, упадок духа, крайности и невольные сердечные излияния, каких у них не было в здоровом состоянии. Они выходят из пределов обыкновенных чувств, которые одни могут поддерживать постоянную и мужественную деятельность; они мечтают, плачут, бросаются на колени, становятся неспособными удовлетворять самих себя, воображают себе какие-то блаженства, восторги, бесконечные нежности, стремятся излить всю утонченность и весь энтузиазм своего крайне возбужденного воображения — одним словом, они расположены любить. В самом деле, в то время до чрезмерности развилась страсть, не известная спокойно-мужественной древности, — я говорю о рыцарской и мистической любви. Спокойная и рассудительная любовь, приличная браку, была подчинена восторженной и беспорядочной любви, встречаемой только вне его. Все тонкости ее подмечали и заносились в протокол особенными судами под председательством женщин. На женщину перестали смотреть как на существо такое же телесное, как и мужчина. Из нее сделали обожаемого идола. В праве обожать ее и служить ей находили лучшую награду мужчине. На человеческую любовь смотрели как на какое-то небесное чувство, ведущее к божественной любви и сливающееся с ней воедино. Поэты преобразили своих возлюбленных в какую-то сверхъестественную Добродетель и молили их быть руководительницами своими по пути в эмпиреи. Вы легко можете представить себе, какую силу почерпала христианская религия из подобного настроения. Отвращение ко всему земному и склонность к экстазу, обычное отчаяние и бесконечная потребность высшей неги, естественно, склоняют человека к учению, представляющему землю юдолью слез, настоящую жизнь — тяжелым испытанием, религиозный восторг — величайшим благом, любовь к небу — первой обязанностью. Болезненная или трепетная чувствительность находит пищу себе в бесконечности ужаса и в бесконечности надежды, в изображении бездн пламени и вечного ада, в представлении лучезарного рая и неизреченных блаженств. Опираясь на это, католицизм овладевает умами, вдохновляет искусства, распоряжается художниками. ”Мир, — говорит один современник, — сбрасывает свои старые лохмотья и облекает свои храмы в белое одеяние”. И вот является готическая архитектура.
Взглянем на воздвигающееся вновь здание храма. В противоположность древним религиям, которые все отличались местным характером и были принадлежностью известных каст или семейств, христианство выступило мировой религией, обращающейся к толпе и призывающей всех людей к спасению. Следовательно, необходимо, чтобы здание было очень обширно, чтобы оно могло вместить под своими сводами все население округа или города, женщин, детей, рабов, ремесленников и нищих точно так же, как благородных и вельмож. Маленькая целла, ютившая в себе статую греческого бога, портик, где развертывалось торжественное шествие свободных граждан, оказались недостаточны для такой толпы. Ей необходимы громадная храмина, широкие, удвоенные галереи, пересекаемые другими накрест; бесконечные своды, колоссальные столпы — и целые поколения работников, которые толпами стекались в продолжение веков, чтобы работать для спасения души, изводя целые горы камня, прежде чем довершить сооружение памятника.
Люди входят сюда с печалью в душе и выносят отсюда самые безотрадные мысли. Они думают об этой презренной жизни, полной треволнений и стоящей на краю бездны, об аде и его безмерных и бесконечных муках, о страданиях Иисуса Христа, умирающего на кресте, о святых мучениках, истязаемых гонителями. Под такими религиозными впечатлениями и под тяжестью своих собственных страхов им не живется с весельем и простою красотой дня; они не пропускают к себе ясного, здорового света. Внутренность здания погружена в суровый и холодный полумрак; дневной свет доходит сюда лишь сквозь расписные стекла, с кроваво-пурпурным колоритом, в блеске аметистов и топазов, в таинственном сиянии драгоценных камней, в причудливой игре, как бы раскрывающей райскую обитель.
Изнеженное и распаленное воображение этих людей не довольствуется обыкновенными формами. Да и форма сама по себе недостаточна, чтобы заинтересовать их: она должна быть символом, должна обозначать собой какое-нибудь высшее таинство. Здание, своими перекрещивающимися частями, изображает крест, на котором был распят Христос; розетки с их алмазными лепестками представляют вечную розу, а листья ее — души искупленных; размеры всех частей храма соответствуют разным священным числам. С другой стороны, формы, по своему богатству, своей странности, смелости, нежности, громадности, как нельзя более гармонируют с непомерностью и пытливостью болезненной фантазии. Таким душам нужны ощущения живые, обильные, изменчивые, крайние и причудливые. Им не по нраву колонна, горизонтальная поперечина и простая дуга — короче, простая устойчивость, строгая соразмерность, изящная нагота древней архитектуры. Они не сочувствуют этим могучим существам, родившимся, по-видимому, без труда и живущим без особых усилий, которые получают красоту вместе с жизнью и основное превосходство которых не нуждается ни в дополнениях, ни в прикрасах.
Они избирают типом не простой овал арки или не простой квадрат, образуемый колонною и архитравом, но сложное соединение двух взаимно пересекающихся дуг, составляющих так называемую стрелку. Они стремятся к гигантскому, покрывают четверть мили своими каменными громадами, громоздят колонны в чудовищные столпы, строят воздушные галереи, возводят своды чуть не до небес и наносят колокольню на колокольню, так что вершины их теряются в облаках. Они преувеличивают нежность форм, пускают вокруг порталов несколько фигур, украшают выкладку стен фестонами из трилистника, шпицами и чудовищными образами, перевивают изгибы оконных середников пестрым пурпуром розеток, убирают узорами клирос, как кружево, гробницы, алтари, переходы, башни опутывают вереницей миниатюрных колонн, многосложных свитков, листвы и статуй. Казалось, они хотят достигнуть, в одно и то же время, бесконечно великого и бесконечно малого, поразить умы с двух сторон вместе — и громадностью массы, и неистощимым обилием мелочей. Очевидно, они поставили себе целью произвести необыкновенное впечатление — изумить и тут же ослепить зрителя.
Зато по мере развития своего эта архитектура становится все более и более парадоксальной. В XIV и XV столетиях, в эпоху так называемой ’’яркой” готики, в Страсбурге, Милане, Йорке, Нюрнберге, в церкви города Броу архитектура эта, казалось, пренебрегает прочностью построек и всецело отдается наружным украшениям. Вы видите то множество колоколен, нагроможденных одна на другую, то кружева резьбы, которыми убран весь фасад. Наружные стены почти целиком сквозят окнами; настоящей опоры, собственно, нет: без контрфорсов, которыми подперты стены, здание бы рухнуло; оно непрерывно крошится, и целые колонии камнетесов, поселенные у его подножия, постоянно исправляют его постоянное разрушение. Эта каменная резьба насквозь, которая, все более утончаясь, доходит до самой стрелки, не в состоянии держаться сама собою; ее нужно было прикрепить к прочной железной оправе, а ржавеющее железо требует опять руки работника, чтобы поддерживать хрупкость этого мнимого великолепия. Мелкая отделка внутренних украшений до того усложнилась, стрелки свода так роскошно убрались своей хвойной и вьющейся растительностью, церковные скамьи, кафедра и решетки пестреют таким богатством арабесков, фантастически перепутывающихся и расходящихся, что вся церковь представляется не зданием, но какой-то чудной вещицей ювелирного искусства. Это — разноцветный фонарь, гигантская филигранная работа, праздничный убор, отделанный с такой же тщательностью, как убор царицы или невесты. Но это наряд нервной, прихотливой женщины, подобный причудливым костюмам того времени: изнеженная и нездоровая поэзия его своею крайностью указывает на странность чувства, на беспокойное вдохновение, на пылкие и бессильные порывы, свойственные эпохе монахов и рыцарей.
Эта архитектура, господствовавшая четыре столетия, не ограничивалась одной какой-нибудь страной или одним каким-либо родом зданий; она распространилась по всей Европе, от Шотландии до Сицилии, и строила всякого рода здания: гражданские и религиозные, частные и общественные; характерные черты ее вы встретите не только в соборах и часовнях, но также в крепостях и дворцах, в одежде и домах мещан, в мебели и других принадлежностях обиходной жизни. Таким образом, своей повсеместностью она громко свидетельствует о великом нравственном переломе, болезненном и вместе высоком, который в течение всех средних веков волновал и сбивал с пути людской дух.
VII
Французская цивилизация XVI столетия и классическая трагедия. Образование стройных монархий. — Феодальные бароны становятся придворными. — Значение придворных того времени. — Центр придворной жизни сосредоточивается при Людовике XIV во Франции.
Образцовым человеком считается знатный придворный, вельможа. — Характеристика его. — Надменность, храбрость, верность. — Вежливость, светский обычай, ловкость.
Эти характеристические черты соответствуют господствующим в то время вкусам. — Повсеместное стремление к правильности и благородству. — Живопись. — Стиль писателей. — Трагедия. — Смягчение грубой истины. — Правильность сочинения. — Витиеватость слога. — Все действующие лица — люди придворные. — Аристократические чувства и поклонение приличиям света. — Значение французской трагедии для всей Европы.
Человеческие учреждения, точно так же, как и живые тела, являются и исчезают вследствие собственной своей силы, и болезненное состояние, равно как и выздоровление их, бывает единственно результатом их природы и их положения. Между феодальными владельцами, управлявшими и эксплуатировавшими человечество в средние века, в каждой стране нашелся один, оказавшийся более сильным, в лучшем положении и лучшим политиком, чем другие, и ставший защитником общественного спокойствия. Поддерживаемый всеобщим одобрением, он ослабил, собрал воедино, покорил или подчинил себе постепенно всех остальных, учредил правильную и послушную ему администрацию и, под именем короля, сделался главой народа. К концу XV столетия бароны, некогда равные ему, стали только его сановниками; к концу XVII века они были уже лишь его придворные.
Взвесьте хорошенько значение этого слова. Царедворец — это человек, состоящий при дворе, т. е. человек, исполняющий какую-нибудь службу или домашнюю должность во дворце, главный конюший, камергер, обер-егермейстер, получающий за это деньги и говорящий со своим властелином в самом льстиво-почтительном тоне, со всевозможными униженными поклонами, подобающими его званию. Но он далеко не такой простой слуга, как это бывает в восточных монархиях. Прапрадед его прапрадеда был ровней, сотоварищем, пэром, т. е. четою королю; вследствие этого сам он принадлежит к привилегированному классу, к классу дворян; поэтому и государям своим он служит не ради одних лишь интересов; преданность им ставит он себе в особенную честь. Со своей стороны государи не забывают относиться к нему с полным уважением. Людовик XIV выбросил свою трость за окно, чтобы только не ударить ею провинившегося перед ним Лозена. Царедворец в почете у своих владык; они обходятся с ним как с человеком своего круга; живет он с ними на короткой ноге, танцует на их балах, обедает у них за столом, имеет место в их экипаже, садится в их кресла, составляет их общество. На таких основаниях возникает придворная жизнь сперва в Италии и Испании, затем во Франции и, наконец, в Англии, Германии и на севере Европы. Средоточием этой жизни является Франция, а самым блестящим ее временем — эпоха Людовика XIV.
Проследим влияния этого нового порядка вещей на характеры, умы и нравы. Гостиная короля является первой в стране; поэтому в ней собирается самое избранное общество; и понятно, что все восхищаются здесь, как человеком в полном значении этого слова, как образцом для всего общества, тем знатным вельможей, который стоит на короткой ноге с королем. Вельможа этот отличается великодушием. Он считает себя принадлежащим к высшей породе людей и убежден, что дворянство налагает на него известные обязанности — noblesse oblige[15]. Он чрезвычайно щекотлив в вопросах чести и, не думая долго, готов пожертвовать жизнью из-за малейшего оскорбления; в царствование Людовика XIII насчитывали четыре тысячи дворян, убитых на дуэли. В глазах дворянина презрение к опасности составляет первый долг благородного человека. Этот щеголь, этот великосветский господин, так тщательно оглядывающий свои ленты, столь заботливый к своему парику, с полной готовностью предается лагерной жизни где-нибудь в болотах Фландрии, по десяти часов кряду неподвижно стоит под ядрами при Неэрвиндене; когда маршал Люксембург возвещает близость битвы, Версаль мгновенно пустеет, и все разряженные франты спешат на войну, как на бал. Наконец, в силу остатков прежнего феодального духа наш вельможа считает монарха своим естественным и законным главой; ему известно, что он подчинен королю, как некогда вассал своему властелину; в случае надобности он пожертвует для него своим имуществом, кровью и жизнью; при Людовике XVI дворяне охотно шли в волонтеры к королю и многие из них пали за него 10 августа.
Но, с другой стороны, они — придворные, т. е. люди светские, и поэтому отличаются необыкновенной вежливостью. Сам король служит для них в этом примером. Людовик XIV снимал шляпу даже перед горничной, а в Записках Сен-Симона приводится один герцог, который, имея привычку вечно раскланиваться, принужден был проходить внутренние дворы в Версале не иначе как со шляпою в руке. По той же самой причине наш царедворец оказывается большим знатоком в деле приличий, умеет красно говорить и ловко выпутываться в затруднительных обстоятельствах; он — дипломат, всегда владеет собой, неподражаем в искусстве притворяться, всегда готов, где нужно, смягчить, а где — взять лестью и обходительностью, с тем чтобы никому не быть в тягость и вообще больше нравиться. Все эти качества и все эти чувства являются произведением аристократизма, утонченного светским обычаем; они достигли полного совершенства при этом дворе и в этот именно век, и, если в настоящее время мы захотели бы полюбоваться этими растениями со столь тонким запахом и со столь забытой ныне формой, нам должно покинуть наше уравнивающее, суровое и смешанное общество и взглянуть на них в том вытянутом в струнку монументальном саду, где они цвели.
Вы угадываете, что люди такого склада должны были выбирать себе и удовольствия по характеру. В самом деле, вкус их соответствует самой личности — благородный, потому что они благородны не только по рождению, но и по чувствам, пристойный, потому что они росли и воспитывались в глубоком уважении к приличиям. Этот-то именно вкус в XVII столетии изменил по-своему все роды художественных произведений: трезвую, возвышенную и строгую живопись Пуссена и Лесюэра, спокойно-пышную изученную архитектуру Мансара и Перро, монархические и строгомерные сады Ленотра. Отпечаток этого вкуса вы найдете в мебели, костюмах, убранстве комнат, экипажах у Перелля, Себастьяна Леклерка, Риго, Нантеля и многих других. Со своими группами благообразных богов, со своими симметрическими аллеями, со своими мифологическими водометами, со своими широкими, искусственными бассейнами, со своими деревьями, остриженными и расположенными на манер архитектурных декораций, Версаль — совершенство в своем роде: здания и цветники — все там устроено для людей, преисполненных чувством собственного достоинства и строго соблюдающих приличия. Связь эта еще очевиднее на литературе: никогда ни во Франции, ни в Европе не писали так изящно; вы знаете, что величайшие французские писатели принадлежат именно этому времени: Боссюэ, Паскаль, Лафонтен, Мольер, Корнель, Расин, Ларошфуко, госпожа де Севинье, Буало, Лабрюйер, Бурдалу. Впрочем, не одни великие люди писали в то время хорошо, но все. Курье говорит, что тогда какая-нибудь горничная знала в этом больше толку, чем любая современная академия. Действительно, изящный стиль был тогда в воздухе, им дышали, не сознавая этого; он распространялся разговором, перепиской; двор учил ему; он входил в кровь и плоть светского человека.
Гоняясь за благородством и правильностью во всех внешностях, человек достигал их в той внешности, которая зовется речью и письмом. Между различными родами литературных произведений трагедия выработалась до особенного совершенства, и в ней-то по преимуществу открывается тогда самый блестящий пример тесной связи, соединяющей людей и художественные произведения, нравы и искусства.
Отметим сперва главные черты трагедии: все они рассчитаны на то, чтобы нравиться вельможам и придворным. Поэт никогда не забывает смягчать истину, которая по самой природе своей часто грубовата; он не выводит на сцену убийств, удаляет неистовства и насилия, драку, смерть, крики и вопли — все, способное возмутить чувство зрителя, привыкшего к сдержанности и изяществу гостиной. По той же причине он устраняет всякий беспорядок, не отдается капризам воображения и фантазии, как делал это Шекспир; рамка его строго правильна: он не допускает в нее никакого непредвиденного обстоятельства, не допускает романтической поэзии. Он рассчитывает сцены, объясняет выходы, постепенно усиливает интерес, подготавливает перипетии, заранее и издали подводит развязку. Наконец, весь сплошь разговор кроется у него, как блестящим лаком, мастерской версификацией, со словами на подбор и с гармоническими рифмами. Если мы рассмотрим, в гравюрах того времени, его театральные костюмы, мы найдем героев его и принцесс в фалбалах, в шитье, в ботинках, перьях и вообще в одежде, греческой лишь по названию, но французской по вкусу и формам, — одежде, в какую облекались король, дофин и принцессы, сами фигурируя под звуки скрипок в придворных балетах.
Заметьте к тому же, что все его лица — придворные, цари, царицы, принцы и принцессы крови, посланники, министры, капитаны гвардии, пестуны, наперсники и наперсницы. Приближенные государей здесь не кормилицы, не домашние рабы, рожденные под господской же кровлей, как и в древней греческой трагедии, но фрейлины, обер-шталмейстеры, дворяне, исправляющие какую-нибудь службу при дворе; это видно по их уменью говорить, по их привычке к лести, по превосходству их воспитания, по их мастерству держать себя, по их монархическим чувствам, как подданных и вассалов. Повелители их, так же как и они сами, — французские вельможи XVII столетия, чрезвычайно надменные и чрезвычайно учтивые, героические у Корнеля и благородные у Расина, внимательные к дамам, преданные своему имени и роду, для поддержания своего достоинства готовые пожертвовать важнейшими своими интересами и самыми дорогими привязанностями, неспособные дозволить себе слово или жест, которые не одобрялись бы уставом самых строгих приличий. Ифигения у Расина, преданная отцом в руки жрецов, не проливает о своей жизни горячих слез юной девушки, как у Еврипида; она считает своим долгом безропотно покориться воле отца-государя, и умереть, не проронив ни одной слезинки, потому что она дочь царя. Ахилл, наступая у Гомера ногой на тело умирающего Гектора, чувствует себя далеко еще недовольным и, подобно льву или волку, готов бы ’’пожрать кровавое мясо” побежденного; этот самый Ахилл у Расина является в лице какого-нибудь принца Конде, обворожительно блестящим придворным, страстно дорожащим своей честью, поклонником дам, горячим, конечно, и пылким, но все это в соединении с размеренной живостью молодого офицера, умеющего, и при самом гневе, удержаться в пределах приличия и никогда не дозволить себе грубости. Все эти лица говорят с необыкновенной вежливостью и с непогрешительным знанием обычаев света. Прочтите у Расина первый разговор Ореста с Пирром, всю роль Акомата, Улисса — нигде вы не найдете столько такта и ораторской ловкости, таких остроумных комплиментов и лести, таких находчивых приступов, такой быстрой сообразительности, такого уменья приноровиться к положению, такого тонкого намека на идущие к делу побудительные причины. Самые пламенные или самые дикие любовники, Ипполит, Британник, Пирр, Орест, Ксифарес, — истые кавалеры, мастера при случае сложить мадригал и расшаркаться по всем правилам салона. Как бы ни была пламенна любовь Гермионы, Андромахи, Роксаны, Береники, они всегда умеют сохранить в обращении приемы лучшего общества. Митридат, Федра, Гофолия, испуская дух, произносят правильные периоды; царь до самого конца должен быть представителен и умирать с подобающим достоинством. Этот театр можно бы назвать превосходным изображением тогдашнего великосветского общества. Подобно готической архитектуре, он воспроизводит решительную, законченную форму человеческого ума; вот почему он и достиг, наравне с нею, такого повсеместного распространения. Он был целиком или в подражании перенесен вместе с сопровождавшими его литературой, вкусом и нравами во все европейские дворы — в Англию после реставрации Стюартов, в Испанию по воцарении Бурбонов, затем в Италию и Германию, а в XVIII столетии и в Россию. Можно сказать, что в то время Франция дала образование Европе; она была источником изящества, удовольствий, прекрасного стиля, утонченных понятий, уменья жить; и когда русский дикарь, тяжеловесный немец, неповоротливый англичанин, варвар или полуварвар севера покидали свою водку, свою трубку, свои меха, свой феодальный образ жизни охотника и невежи, искусству расшаркиваться, улыбаться и разговаривать обучались они в наших гостиных и из наших книг.
VIII
Современная цивилизация и музыка.
Французская революция. — Плебей достигает наконец гражданского равенства. — Машины, хорошая полиция, мягкость нравов увеличивают благосостояние. — Освобождение и тяжелые брожения умов.
Влияние такого порядка вещей на умы. — Господствующей личностью является мечтательно-грустный честолюбец. — Болезнь века.
Влияние такого настроения умов на художественные произведения. — Новые литературные формы. — Лирическая и философская поэзия. — Изменения и нововведения в пластических искусствах. — Развитие музыки.
Начало музыки в Германии и Италии. — Процветание ее совпадает с великим обновлением идей нашего века. — Почему она всего лучше выражает современное чувство. — Причины, основывающиеся на способности ее подражать крику. — Причины, основывающиеся на неспособности ее воспроизводить формы. — Повсеместное распространение музыки.
Это блестящее общество держалось недолго, и самое развитие его было причиной его падения. Абсолютизм правительства стал под конец небрежным и, однако, тираническим; притом король раздавал лучшие места и все милости придворным вельможам, бывшим запросто в его гостиной. Это показалось несправедливым мещанству и простонародию, которые, значительно разбогатев, значительно просветившись и размножившись, становились, по мере возрастания своего недовольства, все сильнее и сильнее. Они произвели французскую революцию и, после десятилетних смут, учредили демократический порядок, основанный на всеобщем равенстве, при котором все служебные места стали доступны каждому обыкновенно после известных испытаний и экзаменов и в силу наперед определенных правил. Мало-помалу имперские войны и заразительность примера вообще перенесли эти порядки за пределы Франции, и в настоящее время можно с уверенностью сказать, что помимо некоторых местных отличий и временных отсрочек вся Европа стремится подражать им. Этот новый строй общества, вместе с изобретением фабричных машин и значительным смягчением нравов, совершенно изменил условия жизни, а с ними и характер людей. Теперь они избавлены от произвола и безопасность их охраняется хорошею полицией. Какого ни будь они происхождения, все пути открыты перед ними; громадное скопление всевозможных полезных предметов делает доступными для самых бедных ту роскошь и те удобства, которые за какие-нибудь два столетия не были известны даже богачам. С другой стороны, грубость обхождения много смягчилась против прежнего и в обществе, и в семействе; отец сделался товарищем своих детей, в то же время как мещанин стал равен дворянину; короче, во всех видимых сферах человеческой жизни тяжесть бедствия и гнета облегчилась.
Но зато честолюбие и алчность развернули свои крылья. Человек, вкушающий благоденствие и предвидящий счастье впереди, привык смотреть на счастье и на благоденствие как на вещи, следующие ему по праву. Получив больше, он стал более взыскательным, и требования его превзошли его приобретения. В то же время положительные науки достигли громадного роста, образование значительно распространилось, и свободная мысль отдалась самым смелым полетам; отсюда вышло то, что люди, оставив предания, которые прежде руководили их верованиями, сочли себя в силах, путем собственного своего ума, достигнуть разрешения наивысших истин. Нравственность, религия, политика — все подверглось их пересуду; ощупью стали они искать истины по всем дорогам, и вот, в течение пятидесяти лет, мы видим странную толкотню систем и сект, которые сменяются одни другими, чтобы дать нам новое учение и наделить нас полнейшим счастьем.
Подобное положение вещей сильно влияет на понятия, на умы и души. Господствующей личностью, т. е. главным действующим лицом, к которому зрители относятся с наибольшим интересом и симпатией, является грустно-задумчивый честолюбец, Рене, Фауст, Вертер, Манфред, вечно жаждущее смутно-тревожное и неизлечимо несчастное сердце. Несчастен он по двум причинам. Во-первых, он слишком чувствителен, чересчур принимает к сердцу мелкие невзгоды, слишком нуждается в сладких и отрадных ощущениях, слишком приучен к благоденствию или избалован. Он не получил воспитания наших предков — полуфеодального и полусельского; он не испытал суровости отца, не изведал розог в школе, не был выдержан в молчаливом почтении перед старшими, не обуздывался в своем развитии домашней дисциплиной; ему не было надобности, как в старину, прибегать к помощи своих рук и своей шпаги, странствовать по белу свету верхом, проводить ночи на дурном ночлеге. В тепличной атмосфере современного ему благосостояния и домоседного образа жизни он сделался изнеженным, нервным, раздражительным, менее способным применяться к жизни, требующей постоянного труда и постоянного усилия. С другой стороны, он скептик. Среди этого потрясения религии и общества, в этом смешении различных доктрин, при таком наплыве нововведений скороспелость слишком скоро просвещенного и слишком рано произнесенного суждения повергает юношу в пучину всевозможных приключений, сбивает его с торной дороги, которою отцы шли по привычке, руководимые преданием и влиятельным авторитетом. Все преграды, служившие для ума перилами, понемногу рушились, и он кидается в обширное безвестное поле, открывшееся его глазам. Пытливость и честолюбие его, став выше всякой меры, стремятся к абсолютной истине и бесконечному счастью. Ни любовь, ни слава, ни наука, ни власть в том виде, в каком существуют они на земле, не могут удовлетворить его, и безграничность его желаний, разжигаемая скудостью приобретений и ничтожностью утех, повергает его, изнемогшего, на собственные развалины, а надорванное, одряхлевшее, бессильное воображение не способно представить ему ни тех запредельных благ, которых он жаждет, ни того неведомого, которого ему недостает. Зло это названо болезнью века; сорок лет назад существовало оно в полной силе и, под личиною мнимой холодности или угрюмого равнодушия положительного ума, продолжается еще и доныне.
У меня недостанет времени, чтобы показать вам несчетные влияния подобного состояния умов на все роды художественных произведений. Следы его вы увидели бы в обширном развитии философской, лирической и грустной поэзии в Англии, во Франции, в Германии, в изменении и обогащении языка, в изобретении новых родов и новых характеров, в стиле и чувствах всех великих новейших писателей — от Шатобриана до Бальзака, от Гете до Гейне, от Купера до Байрона, от Альфьери до Леопарди. Подобные же симптомы вы найдете и в пластических искусствах, если обратите внимание на их лихорадочно-тревожный, или томительно-археологический стиль, на их стремление к драматическому эффекту, психологической выразительности и местной точности, если подметите сбивчивость, спутавшую все школы и испортившую художественные приемы, если не оставите без внимания обилие талантов, которые, будучи потрясены новыми впечатлениями, открыли новые пути, если распознаете глубокое чутье сельской природы, породившее своеобразную и многообъемлющую живопись пейзажа. Но вдруг развилось еще другое искусство, музыка, и развилось необыкновенно; развитие это составляет одну из самых характерных черт нашего времени, и я постараюсь указать вам зависимость его от общего направления современной мысли.
Музыкальное искусство зародилось, как и следует, в тех двух странах, где люди — певцы по природе, именно в Италии и в Германии. В течение полутора столетий, от Палестрины до Перголезе, назревало оно в Италии, как некогда живопись в эпоху от Джотто до Мазаччо, открывая приемы и отыскивая почти ощупью новые живительные для себя силы. Затем, в начале XVIII столетия, оно вдруг поднялось в лице Скарлатти, Марчелло, Генделя. Момент этот особенно замечателен. То было время упадка живописи в Италии, пора, когда, при полнейшем политическом бездействии, расцвели во всей силе изнеженность и сладострастие нравов, доставшие сентиментальничанью и оперным руладам целый сонм чичисбеев, Линдоров и влюбленных красавиц. Тогда-то именно важная и тяжелая Германия, позднее других придя к самосознанию, раскрыла наконец все величие, всю строгость своего религиозного чувства, всю глубину своей науки, всю смутную грусть своих инстинктов в церковной музыке Иоганна Себастьяна Баха, не достигнув еще до евангельской эпопеи своего Клопштока. В ветхой нации и в нации юной начинается господство и выражение чувства. Стоя между той и другой, полугерманская, полуитальянская Австрия, примиряя оба духа, производит Гайдна, Глюка, Моцарта, и перед приближением того великого потрясения душ, которое слывет французской революцией, музыка становится космополитической и мировой, как некогда живопись преобразилась от толчка, данного ей великим обновлением умов, которое зовут Возрождением. Нет ничего удивительного в появлении этого нового искусства, потому что оно соответствует появлению нового гения, т. е. господствующего характера, того тревожнопламенного больного, которого я старался описать вам; к нему-то и обратились Бетховен, Мендельсон, Вебер; к нему-то в настоящее время пытаются обращаться Мейербер, Берлиоз и Верди: к его крайней и утонченной чувствительности, к его неопределенным и беспредельным вдохновениям обращается музыка. Вся она как будто нарочно для того существует, и никакое другое искусство не в состоянии так успешно удовлетворить этому назначению потому, во-первых, что музыка состоит в более или менее точном подражании крику, который является прямым, естественным и полным выражением страсти и, действуя посредством физического сотрясения, мгновенно возбуждает в нас невольную симпатию, так что трепетная чуткость всего нервного существа находит в ней и свое возбуждение, и свое эхо, и возможность излить самое себя. С другой стороны, основываясь на соотношении звуков, не подражающих никакой живой форме и представляющихся, особенно в инструментальной музыке, как бы мечтами какой-то бестелесной души, она, лучше всякого другого искусства, способна выразить перелетные мысли, бесформенные сновидения, беспредметные и беспредельные желания, болезненную и грандиозную сумятицу возмущенного сердца, которое стремится ко всему и ни на чем не может остановиться. Вот почему, вместе с треволнениями, недовольством и надеждами новейшей демократии, она вышла из родных ей мест и распространилась по всей Европе. В настоящее же время самые сложные ее симфонии привлекают к себе толпы слушателей в той именно Франции, где национальная музыка не выходила до сих пор из пределов водевиля и легкой песни.
IX
Закон возникновения художественных произведений. — Второе определение. — Четыре члена в ряду первоначальных основ искусства. — Общее состояние, склонности и потребности, им развиваемые; господствующая личность; искусство, которое обнаруживает ее или к ней обращается. — Связь между этими четырьмя членами. — Практическое применение закона к историческим исследованиям.
Это — важные примеры, милостивые государи, и, по моему мнению, ими вполне устанавливается закон, управляющий возникновением и характером художественных произведений. Они не только устанавливают его, но и в точности определяют. В начале этой части моих чтений я говорил вам, что художественное произведение обусловливается совокупностью данных элементов, которую должно назвать общим состоянием умов и нравов окружающей среды. Мы можем теперь ступить еще один шаг далее и обозначить с точностью все звенья той цепи, которая соединяет первоначальную причину с ее конечным следствием.
В различных случаях, которые мы с вами рассматривали, вы прежде всего замечали то либо другое общее положение, т. е. повсеместное присутствие известных благ и известных зол, жизнь рабства или свободы, бедность или богатство, известную форму общественного строя, известную религию; свободный, воинственный и рабообильный город Греции; угнетение, набеги и грабеж в феодальные времена; средневековую экзальтацию католицизма; придворную жизнь XVII века; демократию промышленных и ученых классов XIX столетия — короче, совокупность обстоятельств, связывающих и подчиняющих себе людской род.
Положение это развивает в людях соответственные потребности, отличительные наклонности, особые чувства, например: физическую деятельность или склонность к мечтательности, суровую грубость здесь и мягкость там, то воинственный инстинкт, то необыкновенный дар слова, то жажду наслаждения; сотни иных бесконечно разнообразных и сложных расположений; в Греции — совершенство тела и равновесие способностей, не нарушаемое избытком ни умственной, ни чересчур рукодельной жизни; в средние века — невоздержанность распаленного воображения и тонкую женственную чувствительность; в XVII веке — знание светских приличий и достоинство аристократических салонов; в новейшее время — массу необузданного честолюбия и тоску от неудовлетворенных желаний.
Эта группа чувств, потребностей и склонностей, обнаруживаясь всецело и блистательно в одном и том же лице, составляет господствующий, преобладающий характер, т. е. образец, вызывающий восторг и симпатию современников. В Греции такой личностью является породистый обнаженный юноша, достигший совершенства во всех телесных упражнениях; в средние века — восторженный монах и влюбленный рыцарь; в XVII веке — лучший царедворец; в наше время — вечно пытливый и грустный Вертер или Фауст.
Но так как лицо это интереснее, важнее и виднее всех других, то его-то именно и воспроизводят художники обществу — то сосредоточенного в одной живой фигуре, если искусство их подражательно, как живопись, скульптура, роман, эпопея и театр, то разделенного на свои составные элементы, если искусство их, как архитектура и музыка, вызывает впечатления, не создавая лиц. Стало быть, всю работу художников можно выразить, сказав, что они или воспроизводят господствующий характер, или сами к нему обращаются; они обращаются к нему в симфониях Бетховена и в розетках соборов; воспроизводят его в Мелеагре и в античных Ниобидах, в Агамемноне и в Ахилле Расина. Так что от него зависит все искусство, ибо все искусство направлено к тому, чтобы с ним соображаться или чтобы передать его.
Общее положение, вызывающее наклонности и способности особого рода, — господствующий характер, составляемый преобладанием в одном лице этих наклонностей и способностей, — звуки, формы, краски или слова, служащие для осязательного выражения этого лица или гармонирующие с наклонностями и способностями, которые его составляют, — таковы четыре члена в ряду первоначальных основ искусства. Первый влечет за собой другой, другой обусловливается третьим, а третий — четвертым, так что малейшее уклонение в одном из этих основных членов, производя соответственно уклонение в последующих и раскрывая таковое же в предыдущих, позволяет, путем чистого умозрения, нисходить или восходить от одного к другому[16]. Насколько я могу судить, формулированное мной определение обнимает все возможные случаи. Если теперь, между разными членами этой формулы, мы введем побочные причины, своим вторжением изменяющие результат; если, в видах уяснения себе чувств известного времени, к исследованию среды мы присоединим еще исследование людской породы; если, в видах уяснения себе художественных произведений того или другого века, сверх господствующих наклонностей того времени мы исследуем частный момент искусства и личные чувства каждого художника, то, на основании этого закона, можем получить выводы не только относительно великих переворотов и общих человеческому воображению форм, но и о национальных различиях между школами, о беспрерывных колебаниях разных стилей, даже до своеобразных особенностей в работе каждого великого мастера. Выведенное таким образом объяснение будет полно, потому что оно вместе определит и общие черты, в совокупности своей образующие целые школы, и те отличительные признаки, которыми характеризуются особи. Впоследствии мы предпримем подобный труд относительно итальянской живописи. Путь предстоит нам долгий и нелегкий, а потому я нуждаюсь в вашем внимании, чтобы довести его до конца.
X
Применение к настоящему времени. — С обновлением среды обновляется и искусство. — Обновление современной среды. — Заключение и надежды относительно будущего.
Но наперед, милостивые государи, мы теперь же можем вывести из наших исследований одно практическое и личное заключение. Вы видели, что каждое положение порождает известное состояние умов, а вследствие того и целую группу соответствующих ему художественных созданий. Поэтому каждое новое положение должно породить новое опять состояние, а отсюда и новую группу произведений. Вот почему, наконец, среда, только еще лишь слагающаяся в настоящее время, должна также породить свои результаты, подобно предшествовавшим ей средам. Это далеко не одно простое предположение, основанное на порыве наших желаний и надежд; это прямое следствие из правила, опирающегося на авторитет опыта и на свидетельство истории. Если закон установлен, он столько же верен для завтра, как и для вчера, и связь между сопровождающими друг друга вещами точно та же в будущем, что и в настоящем. Следовательно, не должно говорить, что искусство теперь извелось. Справедливо, что некоторые школы умерли и не могут уже возродиться, что некоторые искусства хиреют и что близкое будущее не обещает необходимых для их жизни питательных средств. Но само искусство, которое не что иное, как способность подмечать и выражать господствующий характер предметов, так же прочно, как цивилизация, которой первенцем и лучшим порождением оно недаром искони слывет. Каковы будут его формы и которое именно из пяти великих искусств представит формовой тип, подходящий к чувствам будущих времен, мы не считаем себя обязанными вдаваться теперь в исследование этого вопроса. Но мы вправе утверждать, что новые формы найдутся, что отыщется и формовой тип. Стоит нам лишь открыть глаза, чтобы увидеть в условиях жизни, а следовательно, и в общем направлении умов до того глубокую, повсеместную и быструю перемену, что подобной никогда еще не видано. Три великие причины, образовавшие новейший ум, продолжают действовать с возрастающей силой. Каждый из вас знает, что открытия положительных наук ежедневно размножаются, что геология, органическая химия, история целых отделов зоологии и физики — произведения современные; что успехи опытного исследования бесконечны, применения открытий неисчерпаемы, что перевозка, пути сообщения, земледелие, промышленность, торговля, все ветви человеческого могущества крепнут и расширяются с каждым годом, превосходя всякие ожидания. Каждому из вас также известно, что политический механизм улучшается в том же смысле, что общества, став рассудительнее и гуманнее, тщательно блюдут внутренний мир, покровительствуют талантам, помогают слабым и бедным — короче сказать, человек изощряет свой ум и улучшает жизнь со всех решительно сторон и во всех отношениях. Стало быть, невозможно отрицать преобразования в быте, нравах и понятиях людей, а также и неизбежного отсюда вывода, что такое умственное и вещественное обновление должно повлечь за собой и обновление искусства. Первый период этого развития вызвал славную французскую школу 1830 года; нам предстоит увидеть второй. Вот поприще, открытое вашему честолюбию и вашему труду. Вступая на него, вы имеете право ожидать многого и от вашего времени, и от себя самих. Продолжительное наше исследование показало вам, что для создания изящных произведений существует единственное, указанное еще великим Гете условие: наполняйте ваш ум и сердце, как они ни были обширны, идеями и чувствами вашего времени и художественное произведение не замедлит явиться.
ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА В ИТАЛИИ
(посвящается Эдуарду Бертену)
От автора
Милостивые государи!
В прошлом году, в начале курса, я изложил вам тот закон, по которому во все вообще времена возникают художественные произведения, т. е. точное и неизбежное соответствие, какое мы всегда найдем между произведением и его средой. В этом году, следя историю живописи в Италии, я нахожу особенно удачный случай применить и проверить перед вами этот закон.
I
Объем и пределы классической эпохи. — Характер предшествовавшей поры. — Характер последующего времени. — Кажущиеся исключения. — Как они объясняются.
Характерные черты классической живописи. — Чем она разнится от фламандской. — Чем отличается от первобытной живописи. — Чем от современной. — Главный предмет ее — идеальное человеческое тело.
Мы приступаем к той славной эпохе, которую единогласно признают самой прекрасной порой итальянского творчества и которая, вместе с последней четвертью XV века, обнимает тридцать или сорок первых лет XVI века. В этом тесном, небольшом кругу блистают имена превосходных художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Андреа дель Сарто, Фра Бартоломмео, Джорджоне, Тициана, Себастьяно дель Пьомбо, Корреджо; и круг этот резко ограничен; переступите его в ту или другую сторону — вы встретите или незаконченное еще искусство, или искусство уже испорченное, по эту сторону грани — невыработавшиеся еще искатели, сухие и малогибкие, Паоло Учелло, Антонио Поллайоло, Фра Филиппо Липпи, Доменико Гирландайо, Андреа Верроккьо, Мантенья, Перуджино, Джованни Беллини; по ту сторону — преувеличивающие ученики или плохие восстановители, Джулио Романо, Россо, Приматиччо, Пармиджанино, Пальма Младший, Карраччи и их школа. Сперва искусство только еще прозябало, после оно стало увядать; полный цвет его пришелся в промежутке и длился около пятидесяти лет. Если в предшествовавшую эпоху и встречается какой-нибудь почти совершенный живописец, Мазаччо например, то это выскочивший в гении мыслитель-художник, одиночный изобретатель, вдруг глянувший далее своего времени, непризнанный предтеча, за которым никто и не следует, чья даже могила осталась без надписи, который жил беден и одинок и чье преждевременное величие будет понято лишь спустя полвека. Если в последующую эпоху и найдется цветущая, здоровая еще школа, то единственно лишь в Венеции, в этом привилегированном городе, для которого упадок настал позднее, чем для всех других, и который отстаивал свою независимость, терпимость и славу долго еще спустя после того, как завоевание, гнет и окончательное развращение унизили души и извратили умы во всей остальной Италии. Эту эпоху прекрасной и совершенной изобретательности вы можете сравнить с полосой, где на горном скате разводят виноград: внизу он еще нехорош, вверху он перестал быть хорошим. В низине воздух слишком тяжел, на верху он слишком холоден — такова причина и таков общий закон; если бывают исключения, они незначительны, и притом всегда объяснимы. И внизу может встретиться какая-нибудь одиночная лоза, которая, благодаря превосходным сокам, даст отличные гроздья наперекор окружающей среде. Но лоза эта так и будет одинока, она не произведет себе подобных и останется одной из тех странностей, какими напор смутно действующих сил всегда случайно прерывает правильное течение законов. На самом верху, в каком-нибудь закоулке, попадутся, может быть, несколько отборных лоз; но вы найдете их в одном этом уголке, где особенного рода обстоятельства, качество почвы, вполне обеспеченное затишье, действие просачивающегося там ключа доставят растению такую именно пищу и защиту, каких нет налицо в других местах. Таким образом, закон останется неприкосновенным, и мы выведем отсюда заключение, что успешный рост виноградных лоз связан с особенным родом почвы и температуры. Так же точно непоколебим и закон, управляющий возникновением великой живописи, и мы смело можем искать умственное и нравственное состояние, от которого она зависит.
Прежде всего, надо определить ее самое, ибо, называя живопись общепринятым именем изящной или классической, мы не обозначаем этим ее характеристических признаков — мы указываем лишь иерархическое ее место. Но, если она занимает определенное место, то у нее должны быть и отличительные признаки, т. е. свойственная ей область, из пределов которой она никогда не выступает. Она презирает или пренебрегает пейзажем; великая жизнь неодушевленных предметов найдет для себя живописцев только во Фландрии; итальянский живописец избирает сюжетом своим человека; деревья, сельский вид, фабрики составляют для него только второстепенные принадлежности, аксессуары; Микеланджело, бесспорный глава всей этой школы, объявляет, по словам Вазари, что их, как забаву, как мелкое вознаграждение, следует предоставить меньшим талантам и что истинный предмет искусства есть человеческое тело. Если позже художники обращаются к пейзажам, то это только в эпоху последних венецианцев, в особенности при Карраччах, когда великая живопись уже падает; да и употребляют они их только в качестве декораций, вроде какой-нибудь архитектурной виллы, сада Армиды, театра для пасторалей и торжественных празднеств, благородно-сдержанного аксессуара мифологических галантерейностей и барских развлечений; там вымышленные деревья не принадлежат ни к какой известной породе; горы располагаются для привлекательности зрелища; храмы, развалины, дворцы группируются в идеальных очертаниях; природа теряет свою врожденную независимость и свои собственные инстинкты, с тем чтобы подчиниться человеку, служить украшением его празднеств и расширить его хоромы.
С другой стороны, они предоставляют еще фламандцам подражание действительной жизни, предоставляют им современного человека в обычном его костюме, среди повседневных его привычек, среди его домашней утвари, на гулянье, на рынке, за столом, в городской думе, в кабаке, такого, каким видишь его сплошь своими глазами, — дворянина, мещанина, крестьянина, с бесчисленными и резкими особенностями его характера, его ремесла и звания. Они устраняют все эти черты как нечто пошлое; по мере совершенствования своей живописи они все более и более избегают буквальной точности и положительного сходства; перед самым именно началом великой эпохи они перестают допускать в свои картины портретные изображения; Филиппо Липпи, Поллайоло, Андреа дель Кастаньо, Верроккьо, Джованни Беллини, Гирландайо, даже сам Мазаччо, не говоря уж о предшествовавших живописцах, испещряли свои фрески лицами современников; великий шаг, отделяющий окончательное искусство от искусства первоначального, и есть именно изобретение тех совершенных форм, которые открываются только душевному зрению и которых никогда не встретишь плотским глазом. Отмежеванное таким образом поле классической живописи должно еще более ограничить. Если в идеальной личности, которую она избирает своим центром, мы отделим мысленно дух от тела, то заметим сей же час, что не духу предоставляет она первое место. Она не отличается ни мистицизмом, ни драматизмом, ни спиритуализмом. Она не думает изобразить для света бестелесный и выспренний мир, восторженные и чистые души, богословские и церковные догматы, которые со времен Джотто и Симоне Мемми вплоть до Беато Анджелико занимали собой дивное, но не совершенное искусство предшествовавшей эпохи; она покинула христианский и монашеский период и вступила в период светский и языческий. Она не думает развернуть на полотне жестокую или прискорбную сцену, способную вызвать ужас и сострадание, как делает Делакруа в Убийстве Люттихского епископа, как Декан в Покойнице или в Битве кимвров, наконец, как Ари Шеффер в своем Плаксе. Она не думает выразить глубокие, чрезмерные, многосложные чувства, подобно Делакруа в его Гамлете или в его Тассе. За сильно оттененными или могущественными эффектами погонится она только в позднейшую эпоху очевидного упадка — в чарующих и мечтательных Магдалинах, в задумчивых и нежных мадоннах, в трагических и надрывающих душу мученичествах Болонской школы. Патетическое искусство, стремящееся поразить и потрясти болезненно-возбужденную чувствительность, противно дорогому ей равновесию. Нравственная жизнь не захватывает ее в ущербе физической; она не представляет человека каким-то высшим существом, которого предают на жертву чувственные его органы; один только живописец, преждевременный изобретатель всех идей и всех особенностей, интересующих новейшее время, только Леонардо да Винчи, всеобъемлющий и утонченный гений, одинокий и ненасытный искатель новизны, заходит в своих прозрениях за пределы той эпохи и идет иногда навстречу нашей. Но для других артистов, да часто и для него самого, форма составляет цель, а не средство; она не подчинена физиономии, выразительности, жестам, положению, действию: задача этих художников чисто живописная, а не литературная и не поэтическая. ’’Для пластического искусства, — говорит Челлини, — главное дело отлично изобразить нагого мужчину и нагую женщину”. В самом деле, почти все тогдашние мастера берут исходной своей точкой ювелирное искусство и скульптуру; они выщупали руками весь многоразличный рельеф мышц, проследили изгиб всех линий, осязали суставы и связки всех костей: прежде всего хотят они представить глазам естественное человеческое тело, я разумею — здоровое, деятельное, энергическое, наделенное всеми атлетическими и животными способностями; притом это должно быть идеальное человеческое тело, близко подходящее к типу греков, до того соразмерное и уравновешенное во всех своих частях, схваченное и установленное в столь счастливой позе, драпированное и окруженное другими телами в такой удачной группировке, чтобы совокупность всего вместе составляла гармонию и чтобы целое произведение напоминало собой телесный мир, подобный древнему Олимпу, т. е. божественный или героический, во всяком случае, высший и совершенный. Таковая была собственная изобретательность этих художников. Другие умели, пожалуй, лучше выразить кто сельскую природу и быт, кто правду действительной жизни, кто трагические и глубокие движения души, кто нравственные уроки, исторические открытия или философские замыслы; у Беато Анджелико, Альбрехта Дюрера, Рембрандта, Метсю и Паулюса Поттера, у Хогарта, Делакруа и Декана вы найдете больше назидательного, больше педагогии или больше внутреннего и домашнего затишья, больше напряженных грез, величавой метафизики или душевных волнений. Но художники первой поры Возрождения создали единственную в мире породу рослых, благородных тел, благородно же и живущих; они дают нам угадывать человечество более гордое, светлое, деятельное — одним словом, лучшее, нежели наше. От этой породы, в соединении с ее старшей сестрой, дочерью греческих ваятелей, произошли в других странах, во Франции, в Испании, во Фландрии, те идеальные фигуры, которыми человек словно поучает природу, каким она должна была создать его и каким не создала.
II
1. Обстоятельства, при которых возникает классическая живопись. — Порода. — Отличительная черта итальянского воображения. — Разность латинского от германского воображения. — Разность итальянского от французского воображения.
2. Соответствие между врожденной способностью и исторической средой. — Доказательства. — Великие художники Возрождения не стоят в одиночку. — Состояние искусства отвечает известному умственному состоянию.
Таково было художественное произведение, теперь, согласно нашему методу, нам остается исследовать его среду.
Рассмотрим сперва породу людей, его создавшую. Если в пластических искусствах они избрали тот, а не иной путь, то это произошло в силу народных и постоянных инстинктов. Воображение итальянца отличается классическим характером, т. е. латинским, подобным характеру древних греков и римлян: в доказательство этого мы имеем не только произведения времен Возрождения, скульптуру, здания и живопись, но и средневековую архитектуру и новейшую музыку. В средние века готическая архитектура, распространившаяся по всей Европе, проникла в Италию медленно, и то лишь в форме слабых подражаний; встречаемые в ней две вполне готические церкви — одна в Милане, а другая в Ассизском монастыре — построены иностранными архитекторами; даже в эпоху германского нашествия, при самом сильном увлечении христианством, итальянцы строили все в древнем еще стиле; возобновив этот стиль, они сохранили вкус к прочным формам, к сплошным стенам, к умеренному украшению, к естественному и ясному освещению; и здания их, по своему виду силы, веселости, ясности и легкого изящества, составляют контраст с грандиозной сложностью, обилием мелких украшений, скорбным величием и мрачным сильно измененным освещением зданий по ту сторону Альпийских гор. Точно так же и в наше время их певучая, отчетливо ритмованная музыка, приятная даже и в выражении трагических чувств, противополагает свою симметричность, свою округленность, свой ритм, свой театральный гений, горделивый, блестящий, ясный и вместе ограниченный, немецкой инструментальной музыке, столь грандиозной и свободной, подчас столь неопределенной, способной с таким совершенством выразить самые легкие, воздушные грезы, самые заветные, сердечные движения и те недоступные тайны мечтательной души, которыми она в своих гаданиях и своих уединенных волнениях прозревает бесконечное и всю прелесть запредельного, заманчивого dahin[17]. Если мы обратим внимание на то, как итальянцы и вообще народы латинского племени понимают любовь, нравственность и религию, если рассмотрим их литературу, нравы и их взгляд на жизнь, мы в бесчисленных глубоких чертах подметим тот же самый род или склад воображения. Отличительная черта его — талант и вкус к порядку, стало быть, к правильности, к гармонической и строгой форме; оно не так гибко и проницательно, как германское воображение, оно более держится внешности, нежели идет в глубину; наружное украшение предпочитает оно внутренней правде; оно более расположено к идолопоклонству, чем к религиозности, более живописно и менее умозрительно, более определенно и изящно. Оно лучше понимает человека, нежели природу, лучше понимает человека в обществе, нежели человека варвара. С трудом подается оно на то, чтобы, подобно первому, изобразить дикость, загрубелость, странность, чистую случайность, беспорядок, неожиданный взрыв своевольных сил, бесчисленные и неуловимые частности какой-нибудь особи, каких-нибудь низших или невзрачных тварей, глухую и темную для нас жизнь, распространенную во всех слоях и сферах существования; оно не может назваться всемирным зеркалом; его симпатии ограниченны. Нов своем царстве, в царстве формы — оно всемогуще; умы других племен кажутся пред ним грубыми и дикими; одно оно открыло и передало нам естественный порядок идей и образов. Из двух великих народов, у которых воображение это выразилось самым полным образом, один, французы, — более северный, более прозаический и более общественный народ — избрал своим делом порядок чистых идей, т. е. метод рассуждения и искусство беседы; другой, итальянцы, — более южный, художественный и более склонный к образам народ — избрал своим делом порядок чувственных форм, я хочу сказать: музыку и пластические искусства. Этот-то врожденный талант, очевидный с самого его начала, проглядывающий во всей его истории, оставивший отпечаток свой на каждой его мысли и на каждом действии, встретив в конце XV столетия благоприятные для себя обстоятельства, произвел обильную жатву в высшей степени художественных произведений. В самом деле, Италия в то время вдруг или почти вдруг имела не только пять или шесть великих живописцев необыкновенного таланта и выше всех тех, какие появились впоследствии: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Джорджоне, Тициана, Веронезе, Корреджо, — но еще и целую массу знаменитых и превосходных живописцев: Андреа дель Сарто, Фра Бартоломмео, Понтормо, Альбертинелли, Россо, Джулио Романо, Полидоро Караваджо, Приматиччо, Себастьяно дель Пьомбо, Пальма Веккио (Старшего), Бонифацио, Париса Бордоне, Тинторетто, Луини и бесчисленное множество других менее известных художников, воспитанных в том же вкусе, обладателей того же стиля, образующих все вместе целое полчище, которого те являются лишь главными вождями; сверх того тут вы встретите почти столько же отличных ваятелей и зодчих; некоторые из них явились несколько ранее, большинство же может быть названо современниками: Гиберти, Донателло, Якопо делла Кверча, Баччо Бандинелли, Бамбайа, Лука делла Роббиа, Бенвенуто Челлини, Брунеллески, Браманте, Антонио да Сангалло, Палладио, Сансовино; наконец, вокруг этих групп художников, столь разнообразных и столь богатых, теснится толпа знатоков, покровителей, покупателей, а за ними многочисленное общество не только из дворян и ученых, но и из мещан, ремесленников, монахов, простолюдинов.
Отсюда понятно, почему преобладавший в то время изящный вкус был естествен, самобытен и всеобъемлющ, — произведения, отмеченные именами великих художников, возникали под непосредственным влиянием симпатий и понимания всего окружающего общества. Итак, на искусство эпохи Возрождения нельзя смотреть как на результат счастливой случайности; тут не может быть и речи об удачной игре судьбы, выведшей на мировую сцену несколько более талантливых голов, случайно произведшей какой-то необычайный урожай гениев живописцев; едва ли можно отрицать, что причина такого чудного процветания искусства крылась в общем расположении к нему умов, в изумительной к нему способности, распространенной во всех слоях народа. Способность эта была мгновенная, и само искусство было таково же. Началась она и окончилась в определенные эпохи. Способность эта развилась в известном, определенном направлении; искусство развилось в том же направлении. Она тело, а искусство — тень; оно неотступно следует за ее рождением, ее возрастанием, упадком и направлением. Она. приводит и уводит его с собой и заставляет изменяться, согласно тем переменам, какие испытывает сама; во всех своих частях и в целом своем развитии искусство вполне от нее зависит. Она достаточное и необходимое его условие; поэтому ее-то и надо изучить во всей подробности, чтобы понять и уяснить себе искусство.
III
1. Условия, необходимые для появления великой живописи. — Умственная культура.
2. Раннее развитие новейшей культуры в Италии. — Причины его. — Быстрая сметливость народа. — В Италии менее германских элементов, чем в остальной Европе.
3. Сравнение Италии в XV веке с Англией, Германией и Францией XV столетия. — Уважение к талантам и умственные развлечения. — Гуманисты. — Их открытия. — Их сочинения. — Их кредит. — Новые итальянские поэты. — Их превосходство. — Их многочисленность. — Их успехи.
4. II Cortegiano[18] Бальдассарре Кастильоне. — Действующие лица. — Дворец. — Салон. — Забавы. — Беседы. — Изображения отличных кавалеров и совершеннейших дам.
Необходимы три условия, чтобы человек мог не только наслаждаться великой живописью, но и породить ее. Прежде всего надо ему быть образованным. Бедный, огрубелый люд, весь день не разгибающий спины над своим полем, вожди военных дружин, страстные к охоте, обжоры и пьяницы, круглый год занятые походами и битвами, до того еще погружены в животную жизнь, что им не понять изящества форм и гармонии красок. Картина — настоящее украшение храма или дворца; чтобы смотреть на нее со смыслом и удовольствием, необходимо, чтобы зритель хоть вполовину освободился от грубых забот, чтобы, например, какой-нибудь кутеж или только что полученная затрещина не были единственной его мыслью, необходимо, чтобы он вышел из варварства, из-под первобытного гнета, чтобы кроме упражнения мускулов, развития боевых инстинктов и утоления животных потребностей у него явилось желание более тонких и благородных наслаждений. Прежде он был груб, а теперь стал вдумчив, созерцателен. Прежде он только потреблял и уничтожал, а теперь он украшает и наслаждается. Прежде он только жил, теперь он хочет скрасить жизнь свою. Такова громадная перемена, совершившаяся в XV веке в Италии. Человек переходит тут от феодальных нравов к духу нового времени, и этот великий поворот совершается в Италии ранее, чем во всех остальных краях Европы.
Есть много этому причин. Первая та, что итальянцы одарены необыкновенной тонкостью и быстротой понимания. Цивилизация как будто врождена им; по крайней мере, они достигают ее почти без усилий и без сторонней помощи. Даже в грубых, необразованных классах понимание отличается живостью и свободой. Сравните их с людьми того же звания на севере Франции, в Германии, в Англии: разница выйдет бесконечная. В Италии любой трактирный слуга, любой поселянин -или простой носильщик — фоккино, которых вы встретите на улице, умеют разговаривать, понимать, судить; они высказывают свое мнение, обладают знанием людей, готовы препираться о политике; мыслями, точно так же, как и словом, владеют они инстинктивно, подчас блистательно, всегда легко и почти всегда хорошо; в особенности у них есть природное, и к тому же страстное, чувство красоты. Только в одной этой стране вы услышите простолюдина, невольно вскрикивающего перед какой-нибудь картиной: О Dio, com’e bello! Боже, что за прелесть! И для выражения этого искреннего, задушевного порыва итальянский язык, как нарочно, обладает такой звучностью, восторженностью и таким акцентом, которых впечатления и не передать сухими французскими словами.
Этому столь смышленому народу далось в удел преимущество избегнуть германизации, т. е. он не был раздавлен и преображен вторжением северных племен наравне с другими странами Европы. Варвары оседали здесь только временно или слегка. Вестготы, франки, герулы, остготы — все или сами покинули этот край, или были из него выгнаны очень скоро. Если же ломбарды и остались в Италии, то скоро были поглощены латинской культурой; в XII веке германцы Фридриха Барбароссы, думая встретить в них своих единоплеменников, были просто изумлены, найдя их до такой степени латинизированными, ’’утратившими следы дикого варварства и принявшими, под влиянием воздуха и почвы, нечто, напоминающее собой утонченность и мягкость древних римлян, сохранившими изящность древнего языка и благородство древних нравов, перенявшими даже в устройстве своих городов и в управлении своими общественными делами умелость древних римлян”. В Италии, до XIII столетия, продолжают говорить по-латыни; святой Антоний Падуанский поучает на латинском языке; народ, говорящий между собой на жаргоне зарождающегося итальянского, понимает все-таки язык литературный. Слой германизации, облекший нацию, слишком тонок или заранее прорван возрождением латинской цивилизации. Италия знает лишь по переводам героические песни (chansons de geste), рыцарские и феодальные поэмы, наводнившие всю Европу. Я говорил вам перед этим, что готическая архитектура проникла сюда поздно и не вполне; принявшись опять с XI века за постройки, итальянцы держатся форм или, по крайней мере, духа латинской архитектуры. В учреждениях, в нравах, в языке, в искусствах мы видим, при самом глубоком и самом темном мраке средневековой жизни, постепенное освобождение и возрождение древней цивилизации, на почве которой варвары только прошли и затем растаяли, подобно вешнему снегу.
Поэтому-то, если вы сравните Италию в XV веке с другими народами Европы, вы найдете ее гораздо более ученой, гораздо более богатой, гораздо более образованной, гораздо более способной украсить себе жизнь, т. е. наслаждаться и производить художественные создания.
В это время Англия, покончив с одной вековой борьбой, вовлекается в новую ужаснейшую резню, известную под названием войн Алой и Белой Розы, где люди хладнокровно губили друг друга и вдобавок, после сражения, избивали еще безоружных детей. До самого 1550 года она остается страной варваров, охотников, мызников и солдатских шаек. В каком-нибудь городе, внутри края, насчитывалось всего не более двух или трех порядочных печей; дома самих сельских дворян были жалкие, крытые соломой избушки, обмазанные самой грубой глиной и освещаемые простым в стене отверстием. Средний люд спал на соломе, ”с добрым кругляком под головой”. ’’Подушки предназначались, по-видимому, только для родильниц”; посуда была даже не оловянная, а просто деревянная. В Германии свирепствует жестокая и непримиримая война гуситов; император немощен; дворянство невежественно и нагло; вплоть до времен Максимилиана господствует кулачное право, т. е. разрешение всех споров силой и привычка к самоуправству; из застольных речей Лютера и из записок Ганса Швейнихена можно видеть, до какой степени безобразия доходили в то время у дворян и ученых пьянство и грубость нравов. Что до Франции, то это был самый плачевный период в ее истории: страна порабощена и опустошена англичанами; при Карле VII волки заходят в предместья Парижа; по изгнании англичан кожедеры, предводители бродячих шаек, живут прямо за счет крестьянина, грабят и разоряют его сколько душе угодно; один из этих воровских разбойничьих атаманов, Жиль де Ретц, послужил героем одной народной легенды про Синюю Бороду. До самого конца этого столетия цвет народа, дворянство, остается крайне грубо и дико. Венецианские послы говорят, что у французских вельмож ноги изогнуты и искривлены, потому что они всю жизнь проводят на коне. Рабле покажет вам, в середине XVI столетия, грязную огрубелость и изумительное зверство готических нравов. Граф Бальдассарре Кастильоне около 1525 г. писал: ’’Французы и не знают другой заслуги, кроме воинской, а все прочее не ставят ни во что; они не только не уважают науки, но даже гнушаются ею и считают всех ученых самыми ничтожными из людей; по их мнению, назвать кого-нибудь клерком, грамотеем — значит нанести ему величайшее оскорбление”.
Короче, по всей Европе феодальные порядки держатся еще в полной силе, и люди, подобно свирепым и сильным животным, только и делают, что пьют, едят, дерутся и всячески упражняют члены своего тела. Напротив, Италия — страна почти новой культуры. Под верховенством Медичей во Флоренции водворился мир; граждане царят в ней, и царят спокойно; подобно главам своим, Медичам, они создают фабрики, занимаются торговлей, банковскими операциями и наживают деньги, с тем чтобы издерживать их, как подобает умным людям. Заботы войны не тревожат их более, как прежде, опасностями суровых и трагических катастроф. Они ведут ее наемными руками кондотьеров, а те, как сметливые торгаши, обращают войну в ряд кавалерийских разъездов; если они и убивают друг друга, то лишь чисто невзначай; повествуется о некоторых сражениях, где на поле битвы оставалось каких-нибудь три солдата, даже иногда всего один. Дипломатия заступает место силы. ’’Итальянские правители, — говорит Макиавелли, — думают, что достоинство государя состоит в умении оценить любую остроумную отповедь в писателе, сочинить отличное письмо, обнаруживать в своих речах живость и утонченность, хитро провести какой-нибудь обман, украшаться дорогими камнями и золотом, спать и есть великолепнее, чем все остальные люди, и окружать себя всякого рода чувственными утехами”. Они становятся знатоками, начитанными, любителями ученых бесед. Впервые после падения древней цивилизации мы встречаем общество, дающее первое место умственным наслаждениям. Видными, передовыми людьми этого времени были гуманисты, страстные восстановители литературы греческой и латинской: Поджио, Филельфо, Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола, Халкондил, Эрмолао Барбаро, Лоренцо Валла, Полициано. Они роются в библиотеках Европы, с тем чтобы открывать и издавать рукописи; они не только разбирают и изучают найденное, но сами вдохновляются им; сами становятся древними умом и сердцем, пишут почти так же чисто по-латыни, как современники Цицерона и Вергилия. Слог сразу делается отличным, и ум сразу созревает. Когда от тяжеловесных гекзаметров и надуто-высокопарных посланий Петрарки перейдешь к изящным двустишиям Полициано или к красноречивой прозе Валла, то проникаешься чуть не физическим даже удовольствием. И пальцы, и ухо невольно скандируют легкое движение поэтических дактилей и полное, широкое развитие ораторских периодов. Сделавшись ясным, язык стал в то же время благороден, а ученость, перейдя из монастырских стен во дворцы, перестала быть какой-то машиной словопрения и изменилась в орудие удовольствий.
В самом деле, эти ученые не составляют уже маленькой, безвестной кучки, замкнутой в библиотеках, удаленной от общественной благосклонности. Напротив, имя гуманиста достаточно теперь для того, чтобы вызвать к человеку внимание и благодеяние государей. Герцог Лодовико Сфорца в Милане приглашает в свой университет Мерулу и Димитрия Халкондила, а министром к себе берет ученого Симонетту. Леонардо Аретино, Поджио, Макиавелли становятся поочередно секретарями флорентийской республики. Антонио Бекаделли был секретарем при неаполитанском дворе. Папа Николай V является величайшим покровителем итальянских ученых. Один из них посылает неаполитанскому королю древнюю рукопись, и король благодарит его за подарок, как за истинную почесть. Козимо Медичи основал философскую академию, а Лоренцо возобновил платоновские пиры. Друг его Ландино сочиняет разговоры, в которых действующие лица, отправившись на прогулку в монастырь камальдулов[19], спорят в течение нескольких дней о том, какая жизнь выше: деятельная или созерцательная. Петр, сын Лоренцо, учреждает в Санта-Мария-дель-Фиоре диспуты об истинной дружбе и в награду победителю назначает серебряный венок. Князья торговли и владетельные особы окружают себя философами, художниками и учеными; здесь вы встретите Пико делла Мирандолу, Марсилио Фичино, Полициано, Леонардо да Винчи, Мерулу, Лет Помпония; собирают они их для того, чтобы в зале, украшенном дорогими бюстами, перед рукописями, которые начертала древняя мудрость, беседовать с ними отборным и изящным языком, без этикета и чинопочитаний, с тем приветливым и благородным любопытством, которое, расширяя и украшая науку, преобразует удушливую замкнутость схоластических прений в широкое празднество мыслящих людей.
Ничего нет удивительного, если и народный язык, почти совершенно забытый со времен Петрарки, доставляет теперь, со своей стороны, новую литературу. Лоренцо Медичи, главный банкир и первый сановник в городе, является и первым из новых итальянских поэтов. Наряду с ним Пульчи, Боярдо, Берни, несколько позднее Бембо, Макиавелли, Ариосто представляют решительные образцы законченного стиля, серьезной поэзии, шаловливой фантазии, тонкого веселья, язвительной сатиры и глубокой мысли. Ниже их — множество рассказчиков, забавников и гуляк; Мольца, Биббиена, потом Аретино, Франко, Банделло стараются заслужить благоволение государей и привлечь общественное внимание своим шутовством, выдумками и остротами. Сонет — орудие похвалы или сатиры — так и переходит из рук в руки. Художники взаимно обмениваются им; Челлини говорит, что, когда появился его Персей, в тот же день вышло на него до двадцати сонетов. В то время без поэзии не обходилось ни полного праздника, ни хорошего обеда; однажды папа Лев X дал 500 червонцев поэту Тебалдео за эпиграмму, которая ему понравилась. В Риме другой поэт, Бернардо Аккольти, до того был любим всеми, что, когда у него назначалось публичное чтение, все лавки затворялись и все стекалось слушать его; он читал в большой зале, при свете факелов; тут бывали и прелаты, окруженные стражей из швейцарцев; его называли единственным. Чрезвычайно искусные стихи его блистали тонкими concetti и различными литературными прикрасами, вроде тех фиоритур, которыми итальянские певцы испещряют даже и самые трагические свои арии; все это так хорошо понималось публикой, что дружные рукоплескания раздавались со всех сторон.
Итак, вот умственная культура, утонченная и всеобщая, вновь появляющаяся в Италии одновременно с новым искусством. Я бы хотел поближе ознакомить вас с ней, но не в общих фразах, а раскрыв перед вами полную ее картину: обстоятельный пример один может дать точное понятие о вещи. Есть книга этого времени, заключающая в себе изображение примерных кавалера и дамы, т. е. двух таких лиц, которых современники могли считать для себя образцом; вокруг этих идеальных фигур, на различном расстоянии, вращаются действительные фигуры; перед вашими глазами — салон 1500 года, с его посетителями, его разговорами, убранством, танцами, музыкой, остротами, прениями, — салон, правда, более скромный, более рыцарский и более умный, чем салоны Рима и Флоренции; но, впрочем, он представлен верно и в облагороженных своих привычках показывает как нельзя лучше самую светлую и самую благородную группу образованных и высшего разбора лиц. Чтобы увидеть этот салон, достаточно пробежать II Cortegiano графа Бальдассарре Кастильоне.
Граф Кастильоне состоял на службе у Гвидо Убальдо, герцога Урбинского, потом у наследника его Франческо-Марии-делла-Ровере и написал эту книгу в воспоминание тех бесед, которые слыхал у своего первого господина. Так как герцог Гвидо был слаб и весь одержим ревматизмом, то каждый вечер небольшой двор собирался у его супруги, герцогини Елизаветы, женщины добродетельной и очень умной. Вокруг нее и ее ближайшего друга, госпожи Эмилии Пиа, стекались разного рода замечательные люди, приезжавшие со всех сторон Италии: сам Кастильоне, Бернардо Аккольти д’Ареццо, знаменитый поэт, Бембо, сделавшийся впоследствии секретарем папы и кардиналом, синьор Оттавиано Фрегозо, Джульано Медичи и многие другие; папа Юлий II останавливался там на некоторое время в одно из своих путешествий. Место и обстановка беседы были достойны таких лиц. Они собирались в великолепном дворце, построенном отцом герцога; здание это, ”по отзыву многих”, было самое прекрасное в Италии. Комнаты были роскошно убраны серебряными вазами, золотыми и шелковыми обоями, античными статуями и бюстами из мрамора и бронзы, картинами Пьеро делла Франческа и Джованни Санти, отца Рафаэля. Со всей Европы там собрано было множество латинских, греческих и еврейских книг, покрытых, из уважения к их содержанию, золотыми и серебряными окладами. Двор был один из самых блестящих в Италии. Праздники, танцы, единоборства, турниры и беседы продолжались беспрерывно. ’’Приятные разговоры и благородные развлечения этого дома, — говорит Кастильоне, — делали из него истинный приют веселья”. Обыкновенно, поужинав и натанцевавшись, гости забавлялись разного рода шарадами; удовольствия эти сменялись дружеской беседой, серьезной и вместе веселой, в которой принимала участие герцогиня. Все шло без церемонии; места занимались, где кому угодно; каждый усаживался возле дамы, и начиналась беседа, не стесненная никакими формальностями; изобретательности и оригинальности был тут полный простор. На одном вечере Бернардо Аккольти, по просьбе своей дамы, импровизирует премилый сонет в честь герцогини; потом герцогиня велит госпоже Маргарите и госпоже Констанце Фрегозе протанцевать; обе дамы берутся за руки, и, когда любимый музыкант Барлета настроил свой инструмент, они танцуют под звуки музыки сперва медленно, а потом несколько живее. К концу четвертых суток, проведя в изящных разговорах целую ночь, они заметили появление рассвета.
”Со стороны дворца, обращенной к вершине горы Катари, отворены были окна, и тогда увидели, что на востоке показывается уже прелестная Аврора цвета роз. Все звезды исчезли, кроме одной нежной вестницы Венеры, которая занимает грань между ночью и днем; от нее, казалось, исходило какое-то отрадное веяние, своей резкой свежестью наполнявшее небо и начинавшее пробуждать сладостный концерт прелестных птичек в глуби шепчущих лесов, раскинутых по соседним холмам”.
По этому отрывку вы можете уже судить, как приятен, изящен, даже цветист этот стиль; один из собеседников здесь Бембо, самый образцовый, цицероновски благозвучный из итальянских прозаиков. Общий тон бесед таков же. Там вы найдете множество выражений вежливости, комплименты дамам за их красоту, их грацию, их добродетель, комплименты кавалерам за их храбрость, ум, знания. Все оказывают уважение и стараются взаимно угождать друг другу, что составляет главный закон уменья жить в свете и самую утонченную прелесть хорошего общества. Но вежливость не исключает собой веселья. В качестве некоторого рода приправы вы встретите там подчас легкие ссоры и перестрелки, да тут же и разные остроты, шутки, анекдоты, небольшие веселые и живые рассказы. Зашел разговор о том, что такое истинная вежливость, и одна дама рассказывает, в виде образчика, про недавно бывшего у нее с визитом какого-то старосветского кавалера, человека военного и несколько огрубевшего в деревне; повествуя, сколько он убил неприятелей, он довел наглядность изложения до того, что захотел непременно показать ей, как именно колют и рубят шпагой. Улыбаясь, она прибавляет, что это ее немножко испугало и она с беспокойством поглядывала на дверь, боясь каждую минуту, чтобы он не убил ее. Подобные черты поминутно сменяют серьезность беседы. Но говорится тем не менее и много дельного. Вы видите, что мужчины хорошо знакомы с греческой и латинской литературой, знают историю, многое читали по философии, даже и по той, которая составляет принадлежность школе. Дамы иногда вмешиваются в разговоры, журят мужчин и приглашают их обратиться к более доступным предметам; они не слишком долюбливают появление в разговоре Аристотеля, Платона и их скучных комментаторов, рассуждение о теориях тепла и холода, о форме и субстанции. Собеседники тотчас же возвращаются к текущим вопросам светского разговора и приятными, изысканно-вежливыми речами заставляют извинить свои книжные и метафизические выходки. Прибавьте ко всему этому, что, как бы ни был труден предмет разговора и как бы ни был оживлен спор, они всегда говорят изящно и прекрасно. Они очень осторожны в выборе слов, рассуждают о качествах выражений; они пуристы, подобно изящным ораторам отеля Рамбулье, современникам Вожеласа и основателям французской классической литературы. Но взгляд у них поэтичнее, да и язык их более музыкален. Богатством своих ритмов и звучных окончаний итальянский язык придает красоту и гармонию самым обыкновенным вещам и обрамляет благородным и роскошным украшением предметы, сами по себе уже прекрасные. Описывает ли итальянец хоть, например, гибельные действия старости, — слог его, как небо Италии, проливает золотящий свет даже на развалины и мрачное зрелище превращает в прекрасную картину.
”В это время увядают и опадают в нашем сердце сладкие цветы радости, как осенью древесные листья. Вместо светлых и ясных мыслей, подобно мрачной туче, надвигается печаль, сопровождаемая тысячами бедствий, так что не только тело, но и ум изнывает в болезни и от всех прошлых радостей сохраняет лишь упорное воспоминание и образ той драгоценной поры, того нежного возраста, когда (если мы вернемся к нему мысленно), кажется, небо, земля и все окружавшее нас улыбалось в наших глазах по-праздничному, а в душе нашей, как в чудном, прелестном саду, распускалась и цвела упоительная весна веселья. Вот почему, когда холодной зимой солнце наших дней склоняется к своему закату и лишает нас всех радостей, было бы, пожалуй, хорошо утратить вместе с ними память о них и найти такое искусство, которое научило бы нас забвению”.
Предмет разговора никогда не в ущерб последнему. Каждый, по просьбе герцогини, принимается объяснять некоторые из качеств, необходимых кавалеру или даме для полного совершенства; доискиваются, какое именно воспитание может лучше всего образовать душу и тело не только по отношению к гражданским обязанностям, но и к приятностям светской жизни. Посмотрите-ка, что требовалось тогда от человека хорошо воспитанного, — какая утонченность, какой такт, какое разнообразие знаний! Мы считаем себя очень цивилизованными, и, однако ж, после трехсот лет воспитания и культуры многое для нас могло бы послужить здесь еще примером и наставлением.
”Я хочу, чтобы наш придворный был более чем посредственно знаком с литературой; по крайней мере с той, которая называется изящной, и чтобы он знал не только латинский язык, но еще и греческий, ради множества и разнообразия божественных творений, писанных на этом языке... чтобы он хорошо знал поэтов, а равно ораторов и историков и, что важнее всего, умел бы сам хорошо писать стихами и прозой, главным образом на нашем простонародном наречии; ибо, кроме удовольствия, какое он найдет в этом для себя лично, у него не будет никогда недостатка в приятных выражениях с дамами, которые обыкновенно любят такого рода вещи.
Я не буду доволен нашим кавалером, если он притом еще не музыкант и если, кроме уменья и привычки читать ноты, он не умеет играть на различных инструментах... Ибо, кроме развлечения после забот, какое музыка доставляет каждому, она часто служит средством потешить дам, которых нежные сердца легко воспринимают гармонию и наполняются отрадой”. Здесь не требуется быть виртуозом и щеголять каким-нибудь исключительным дарованием. Таланты созданы лишь для света; их должно приобретать не из педантства, а для любезности; обнаруживать их должно не с целью заслужить себе удивление от других, но чтобы им доставить удовольствие. Вот почему не следует чуждаться ни одного из приятных искусств.
’’Есть еще одна вещь, которой я придаю большую важность, и наш кавалер отнюдь не должен оставлять ее без внимания: это именно уменье рисовать и знание живописи”. Живопись — одно из украшений высшей, культурной жизни, и потому образованный ум должен высоко ценить ее, как ценит он все изящное. Но тут, как и во всем прочем, не должно быть крайностей. Истинный талант, искусство, которому подчиняются все другие, — это такт, известная осторожность, рассудительность, ’’верный выбор, знание излишка и недостатка в любой вещи, того, чем она преувеличится и чем умалится, уменье все сделать вовремя и кстати. Например, хотя бы наш кавалер и знал, что расточаемые ему похвалы справедливы, ему не следует открыто соглашаться с этим... а лучше скромно от них уклоняться, всегда выдавая и действительно считая за главное свое дело военное искусство, а другие таланты допуская лишь в виде прикрасы к этому. Когда он танцует в присутствии многих лиц, в месте, полном народа, мне кажется, что он должен соблюдать известного рода достоинство, умеряемое однако ж вольною приятностью и грациозностью движений. Если он садится за музыку, пусть это будет для времяпрепровождения и только как бы поневоле... и будь он даже вполне мастером своего дела, мне хотелось бы, чтоб он не обнаруживал при этом того усиленного труда, какой, разумеется, необходим для приобретения полного знания в любой вещи; пусть он показывает всегда вид, что не придает особенного значения такого рода деятельности, хотя и исполняя ее очень хорошо, так, чтобы все относились к ней с великим уважением”. Ему не след открыто гнаться за ловкостью, приличной только людям, занимающимся этим по ремеслу. Он должен внушить уважение к себе другим, сам себя уважая, и потому никогда не забываться, а, напротив, сдерживаться и владеть собой. Лицо его должно быть покойно, как у испанца. Он должен быть опрятен и тщателен в одежде;
вкус его в этом должен быть мужской, а не женский, он должен предпочитать черный цвет, как признак более серьезного и положительного характера. Равным образом не должен он допускать себя до увлечений в веселости ли или в задоре, в порыве гнева или себялюбия. Ему следует избегать грубых выходок, грязных выражений, слов, которые могут ввести в краску дам. Он должен быть учтив и преисполнен уступчивости и вежливости ко всякому. Желательно, чтобы он умел при случае и пошутить, рассказать какую-нибудь забавную историю, но не выходя из границ приличий. Лучшее правило, какое можно ему дать, состоит в том, чтобы он всегда управлял своими поступками, ’’имея в виду понравиться благовоспитанной даме”. Вследствие такого ловкого перехода портрет кавалера приближается к портрету дамы, и тонкие черты, употребленные в первой картине, становятся еще нежнее во второй.
’’Так как нет на свете двора, как бы ни был он велик, который мог бы отличаться весельем, блеском или красотой помимо женщин, и так как нет кавалера, который мог бы обладать грацией, приятностью, отвагой, совершить блестящий, кавалерский подвиг, не посещая дам и не пользуясь их любовью и благосклонностью, то наше изображение кавалера осталось бы далеко не полным без вмешательства дам, которые сообщают ему частицу той грации, которой они украшают и довершают удовольствия придворной жизни.
Я говорю, что дама, живущая при дворе, прежде всего, должна обладать известного рода приветливой любезностью, благодаря которой она умела бы грациозно беседовать с каждым в выражениях приятных, вполне приличных и соответственных времени, месту и званию лица, с кем говорит. Она должна быть спокойна и скромна в своих приемах, должна соразмерять все свои поступки с приличием; но иметь при том также известную живость ума, которая бы удаляла ее от всего тяжелого, и вместе с этим ту особенную доброту, которая заставляла бы уважать в ней женщину, столько же осторожную, стыдливую и кроткую, сколько любезную, рассудительную и тонкую. Поэтому она должна держаться очень трудной середины, составленной как бы нарочно из противоположностей, и доходить только до известных пределов, не переступая за них никогда.
Итак, для того чтоб слыть достойной и добродетельной женщиной, дама эта не должна быть чересчур недоступна и совсем уж чуждаться общества и выражений даже сколько-нибудь вольных, удаляясь от них всякий раз, как случится ей их заслышать: не то могут, пожалуй, подумать, что она только на вид так строга и хочет прикрыть этим такие вещи, которые могли сведать о ней другие; к тому же манеры застенчивой дикарки вообще противны на взгляд. Но так же точно, для того чтоб выказать себя свободной и любезной, не должна она произносить неприличных слов и вдаваться в известного рода неудержную и беспорядочную фамильярность; иначе она заставит подумать о себе то, чего на деле, пожалуй, и не бывало. Но если случится ей попасть на нескромные речи, она должна выслушивать их стыдливо и с легкой краской в лице”. Если эта женщина ловкая, она тотчас может свернуть разговор на предметы более приличные и благородные. Ведь образованием стоит она немногим ниже мужчин. Она должна знать литературу, музыку, живопись, уметь хорошо танцевать и вести беседу. Дамы, участницы общего разговора, присоединяют личный пример к излагаемому правилу; их изящный вкус и ум обнаруживаются тут всегда в меру; они в восторге от энтузиазма Бембо и его благородных платонических теорий всеобъемлющей и чистой любви. Вы встретите в ту пору в Италии женщин, у которых, как у Вигтории Колонны, Вероники Гамбары, Костанцы д’Амальфи, Туллии д’Арагоны и герцогини Феррарской, высокие таланты соединяются с высоким образованием. Если теперь вы припомните портреты того времени, находящиеся в Лувре, — бледных и задумчивых венецианцев, одетых во все черное, пламенного и, однако ж, неподвижного Молодого человека, писанного Франчией, нежную Иоанну Неаполитанскую с ее лебединой шеей, Юношу со статуэткой кисти Бронзино, все эти умные и вместе спокойные лица, все эти богатые и строгие при этом одеяния, — вы, быть может, составите себе некоторое понятие об изысканной утонченности, обильных дарованиях и превосходной культуре общества, которое, за три столетия до нас, ворочало идеями, понимало красоту и знало правила светской жизни не хуже, а, пожалуй, и лучше нашего.
IV
1. Другое условие, необходимое для появления великой живописи. — Самородные образы.
2. Сравнение Италии XV века с народами нового времени. — Германия. — Вкус к отвлеченной философии. — Влияние спекулятивных привычек на немецкую живопись. — Преобладание делового характера. — Влияние практических занятий на английскую живопись. — Франция. — Сопоставление литературной живописи с живописью настоящей. — Чем дух XIX века отличается от духа XV века. — Труд, соревнование и возбужденность в централизованных и промышленных демократиях.
3. Италия в XV веке. — Умеренное величие городов. — Умеренная потребность роскоши. — Дорога менее открыта честолюбивым стремлениям. — Равновесие образов и идей.
4. Равновесие образов и идей нарушается цивилизацией. — Современное воображение скудно или болезненно. — Воображение в Италии XV столетия отличается богатством и здоровьем.
5. Подтверждение на костюмах и нравах. — Маскарады, выходы, кавалькады и великолепие обстановки вообще. — Торжества во Флоренции.
6. Искание приятного для глаз и вообще для чувств. — Эпикуреизм и неверие. — Мнение Лютера и Савонаролы. — Домашний быт и нравы Медичей. — Язычество римского двора. — Охоты и празднества Льва X. — Среднее умственное состояние между культурой недостаточной и слишком развитой.
Это наводит нас на другую черту в итальянской цивилизации и на другое условие великой живописи вообще. В иные времена умственная культура была столько же утонченна, но живопись не отличалась таким блеском. В наше время, например, люди, имея за собой, сверх знаний XVI века, еще три столетия новой опытности и открытий, несравненно ученее и более чем когда-либо обладают обилием мысли; однако же нельзя сказать, чтобы пластические искусства современной Европы производили столь же прекрасные создания, какие мы видим в Италии в эпоху Возрождения. Следовательно, чтобы объяснить себе великие художественные произведения 1500 года, недостаточно иметь в виду живость понимания и богатство культуры современников Рафаэля, а следует определить самый род этого понимания и культуры и, сравнив Италию с остальной Европой XV века, сравнить ее затем с той Европой, в которой мы живем теперь.
Пойдем сперва в страну, конечно, ныне самую ученую в Европе — в Германию. Там, особенно в северной ее половине, все поголовно умеют читать; сверх того, молодые люди проводят по пяти или шести лет в университетах, и делают так не только богатые или с достатком, но даже почти все из среднего класса, да некоторые и из низшего, завоевывая себе это ценой долгой нищеты и страшных лишений. Наука там в такой великой чести, что доходит подчас до аффектации — и нередко до педантства. Многие молодые люди, имея очень хорошие глаза, носят очки только для того, чтобы придать себе более ученую наружность. В голове двадцатилетнего немца господствует не страстишка пофигурировать на каком-нибудь танцевальном вечере или в кофейной, как это мы видим во Франции, но стремление усвоить себе какие-нибудь обобщающие взгляды на человечество, на мир, на сверхъестественные силы, на природу и на многое другое — короче, составить себе полную философию. Нет другой страны, где вы встретили бы такую наклонность, такой обычный интерес и такую врожденную понятливость к высоким отвлеченным теориям. Это отечество метафизики и систем. Но такое преобладание высшей мыслительности вредно отразилось на пластических искусствах. Немецкие живописцы силятся передать на полотне или в своих фресках гуманитарные или религиозные идеи. Краску и форму подчиняют они мысли; произведение их какой-то символ; они рисуют на стенах курс философии и истории, и если вы отправитесь в Мюнхен, то увидите, что величайшие из них — просто философы, случайно заблудившиеся в живописи, более способные говорить уму, чем глазам, и держать в руках перо, чем кисть и палитру.
Перейдем теперь в Англию. Там человек среднего класса еще очень молодым поступает в магазин или в какую-нибудь контору; он работает по десяти часов в день, берет к себе работу еще на дом и устремляет все силы своего ума и тела на то, чтобы достаточно заработать денег. Он женится и наживает много детей; трудиться ему надо еще более: конкуренция велика, климат тяжел, а потребностей очень много. Джентльмен, богач, аристократ — пользуется также ограниченным досугом. Он занят делами и озабочен важными обязанностями. Политика поглощает всеобщее внимание. Митинги, комитеты, клубы, газеты вроде Times, доставляющие каждое утро целый том разнообразного чтения, цифры, статистические данные, тяжелую массу неудобоваримых фактов, которые приходится все проглотить и усвоить; кроме того, трудные религиозные задачи, разные учреждения, предприятия, беспрерывные заботы об улучшении хода общественных и частных дел, финансовые вопросы, борьба за преобладание, за свободу совести, утилитарные или нравственные соображения — такова пища, даваемая здесь уму. Следовательно, живопись и другие искусства, обращающиеся больше к чувству, оттесняются или сами собой становятся на задний план. Некогда заниматься ими, мысли заняты более важными и спешными делами; на искусстве останавливаются только ради моды или приличия; оно предмет простого любопытства и может возбудить интерес к изучению разве в нескольких любителях. Конечно, и тут найдутся покровители, готовые дать денег на музеи, на покупку оригинальных картин, на учреждение школ; но они пожертвовали бы точно так же и на всякое иное благотворительное дело, на распространение Евангелия, на содержание покинутых детей, на больницу для эпилептиков. К тому же эти покровители более имеют в виду общественные и специальные интересы; они полагают, что музыка смягчает нравы черни и уменьшает пьянство по праздникам, а пластические искусства подготовляют хороших работников для мануфактурных фабрик и для золотых дел мастерских. Вкуса, собственно, нет; чувство красивых форм и изящных цветов является здесь лишь плодом воспитания, каким-то тепличным апельсином, с трудом выращенным дорогой ценой в жаркой оранжерее, и чаще всего кислым или прогорклым. Современные живописцы в этой стране — работники с точным, но притом и узким талантом; они изобразят вам кучу сена, складку одежды, какой-нибудь вереск с сухостью и мелочностью истинно противными; долгое усилие и беспрерывная напряженность всего их физического и нравственного механизма нарушили у них равновесие ощущений и образов; они стали нечувствительны к гармонии красок; они выливают горшками на полотно яркую, попугайную зелень, деревья делают из цинка или листового железа, тела пишут красными, как бычья кровь; помимо изучения физиономий и нравственных характеров живопись их вообще поражает неприятно, и их национальные выставки представляют глазам иностранцев собрание красок столь же резких и нескладных, как любой кошачий концерт.
Мне скажут, что это немцы и англичане — народ серьезный, протестанты, люди ученые или деловые, но что в Париже, по крайней мере, обладают же ведь вкусом и ищут же удовольствия. Правда, Париж в настоящее время является городом, где более чем где-либо любят поговорить, почитать, побеседовать об искусствах, подметить различные оттенки прекрасного и в котором иностранцы находят самую разнообразную, самую веселую жизнь. И, однако же, французская живопись, превосходя живопись других стран, не может, даже и по отзыву самих французов, сравниться с итальянской живописью времен Возрождения. Во всяком случае, она совсем иная; произведения ее указывают на другой дух, да и обращаются они к другому духу. Она заключает в себе гораздо более поэтических, исторических или драматических элементов, чем собственно живописных. Уступая в чувстве красоты нагого тела и прекрасной простой жизни, она старалась всеми силами передавать действительные сцены и точный наряд самых отдаленных стран и веков, трагические волнения души, увлекательные пейзажи. Она сделалась соперницей литературы; она работала и рылась на том же поле; она также обратилась к ненасытной пытливости, к археологическому вкусу, к потребности сильных ощущений, к утонченной и болезненной чувствительности. Она преобразилась, чтобы заговорить языком горожан, истомленных трудом, замкнутых в сфере сидячей жизни, изнемогающих под бременем многосложных мыслей, жадных до новостей, до интересных документов, до ощущений, но также и до полного спокойствия. В промежутке от XV до XIX века совершился громадный переворот; весь скарб, весь домашний обиход головы человеческой усложнились до невероятной степени. В Париже и во Франции приходится чересчур ломать голову по двум причинам. Во-первых, жизнь сделалась дорога. Бездна маленьких удобств стала теперь насущной потребностью. Ковры, занавесы, кресла необходимы даже человеку скромному и одинокому; после женитьбы ему сверх того понадобятся этажерки, установленные безделушками, красивое и недешевое помещение; бесконечное множество домашних мелочей, на которые нужны деньги, так как вещей этих нельзя ни украсть на большой дороге, ни добыть насильно, как в XV столетии, а деньги приобретаются тяжелым трудом. Таким образом, огромная часть жизни расходуется на трудовые усилия. Кроме того, хочешь выбиться на лучшую дорогу; мы ведь огромная демократия, где места выдаются по конкурсу, добываются постоянством, ловкостью, и потому каждый из нас смутно надеется быть министром или миллионером, а это общее соревнование усугубляет наши занятия, наши заботы и тревоги.
С другой стороны, в Париже более полутора миллионов человек — это много, и даже слишком уж много. Так как в столице скорее всего можно добиться своей цели, то все люди с умом, честолюбием и энергией стекаются сюда, толкутся и теснятся. Таким образом, столица эта становится общей сходкой для всех лучших людей страны; они складывают тут все свои поиски и изобретения; они взаимно подстрекают друг друга; чтение, театр, разного рода беседы доводят их до лихорадочного состояния, мозг парижан не может быть в правильном, здоровом состоянии: он слишком разгорячен, надорван, возбужден, и создания его, в живописи или в литературе, носят на себе отпечаток этого иногда к своей выгоде, но чаще в явный ущерб себе.
Не так было в Италии. Там вы не увидите миллиона людей, скученных в одном месте, но множество городов в пятьдесят, сто или двести тысяч душ; там нет такой громадной толкотни честолюбий, такого брожения неустанной пытливости, такого сосредоточения усилий, такой непомерной человеческой деятельности и суетни. Городское население было тогда поистине чем-то отборным, а не такой смешанной толпой, как теперь у нас. Да и потребность житейских удобств вовсе не простиралась так далеко: тела были еще грубоваты, путешествия совершались верхом и люди преспокойно жили себе под открытым небом. Большие дворцы или палаты того времени, правда, великолепны, но я не знаю, согласился ли бы какой-нибудь мелкий гражданин нашего времени поселиться в них на житье; они неудобны и холодны; сиденья, испещренные резными головками львов и пляшущих сатиров, превосходны в художественном отношении, но вам они показались бы очень жестки, и самая маленькая квартира, дворницкая в любом богатом доме со своей теплой печью, право, комфортабельнее дворцов Льва X и Юлия II. Им не нужны были все те мелкие удобства, без которых мы не можем нынче обойтись: для них вся роскошь заключалась в обладании красой, а не пользами и удобствами жизни; они мечтали об изящной сопостановке колонн и фигур, а не о хозяйственном приобретении китайского фарфора, диванов и экранов. Наконец, так как видные места открывались только благодаря военному счастью или милости государя для нескольких знаменитых разбойников, для пяти-шести верховодных убийц, для немногих льстивых нахлебников, то и в обществе не видно было такого рьяного соревнования, такой муравьиной суетливости, такого настойчивого рвения, с каким каждый из нас силится опередить другого.
Значит, человеческий дух вообще находился тогда в большем равновесии, нежели в той Европе и в том Париже, где мы теперь живем. По крайней мере, он был лучше уравновешен для живописи. Начертательные искусства требуют для своего произведения такой почвы, которая не лежала бы, конечно, в пару, да и не была бы, однако ж, слишком обработана. В феодальной Европе почва эта была массивна и тверда, теперь она чересчур разрыхлилась; прежде цивилизация еще недостаточно избороздила ее плугом, теперь борозды умножились до бесконечности, до крайности. Для того чтобы величаво-простые формы улеглись на полотно под рукой какого-нибудь Тициана и Рафаэля, необходимо, чтобы формы эти естественно и порождались вокруг них в душах людей вообще; а чтобы они естественно возникали в уме человеческом, необходимо, чтобы образы не заглушались и не искажались в нем идеями.
Позвольте мне приостановиться на этом слове, потому что оно очень важно. Свойство чрезмерной культуры состоит в том, что она все более и более сглаживает образы в угоду идеям. Под непрерывным напором воспитания, разговора, размышления и науки первичное представление теряет форму, разлагается и исчезает, уступая место голым, нагим идеям, хорошо расположенным словам, некоторого рода алгебре. С того самого времени ход ума принимает уже чисто рассудочное направление. Если он и возвращается иногда к образам, то разве лишь благодаря особенному усилию, болезненному, напряженному скачку, путем какой-то беспорядочной и опасной галлюцинации. Мозг наш наполнен бездной смешанных, разнородных и перекрестных идей; всевозможные цивилизации и нашего отечества, и других народов, прошлые и настоящие, хлынули в него своими волнами и оставили в нем каждая свои обломки. Произнесите, например, перед каким-нибудь человеком нового времени слово дерево, — он смекнет, что речь идет не о собаке, не о баране, не о мебели; он поместит этот знак в своей голове в особый ящичек с особенным ярлыком: вот ведь что в нашу пору зовется пониманием. Наше чтение и знание начинили наш ум бездной отвлеченных знаков, наша привычка к распорядку правильно и логично приводит нас от одного к другому. Мы только урывками ловим на миг цветистые, живые формы; они в нас вовсе не держатся — смутно мелькнут на внутреннем полотне и тотчас же опять исчезнут. Если мы иногда успеем задержать и точно определить их, то разве только особенной силой воли, после долгого упражнения и перевоспитания, идущего наперекор нашему обыкновенному воспитанию; это крайнее усилие оканчивается страданием и лихорадкой; наши величайшие колористы, литераторы ли они или живописцы, — не более как надсадившиеся или же сбитые с пути мечтатели[20]. Напротив, художники Возрождения были прямо ясновидцы. То же слово дерево, услышанное людьми еще здоровыми и простыми, тотчас же представит им целое дерево, как оно есть, с круглой и подвижной массой его лоснящейся листвы, с теми черными изломами, какие его сучья и ветви рисуют на синеве неба, с его морщинистым стволом, изборожденным толстыми жилами, с его ногами, глубоко ушедшими в землю для обороны от ветра и бурь, — так что то, что для нас составляет лишь известный значок и цифру, то самое для них будет одушевленным и целостным зрелищем. Без усилий остановятся они на нем и без усилий к нему возвратятся; они выберут в нем для себя самое существенное — не станут с какой-то болезненной и упрямой щепетильностью гнаться за мелочами; они будут прямо наслаждаться своим прекрасным образом, не вырывая и не выбрасывая его судорожно из себя, как клочок бьющейся одной с ними жизнью. Вольно и без раздумья изображают они, как бежит лошадь, как летит птица; колоритные формы являются тогда естественным языком души: любуясь ими в какой-нибудь фреске или на полотне, зрители уже видели их наперед и в себе самих — они узнают их; для них это не чуждые образы, искусственно выведенные на сцену при помощи какой-нибудь археологической комбинации, усилия воли или условного школьного предания; образы эти до того близки им, что они вносят их и в свою домашнюю жизнь, и в свои общественные церемонии. Они окружают себя ими, составляя живые картины рядом с картинами рисованными.
В самом деле, взгляните на костюм: какая разница между нашими панталонами, сюртуками, нашим мрачным, черным фраком и их выложенной галунами симаррой (род длинной поддевки или ферязи), их бархатными и шелковыми спенсерами или куртками, их кружевными воротниками, их кинжалами и шпагами с насечкой из арабесков, их золотым шитьем, бриллиантами, их токами в густых перьях. Все это великолепие, предоставленное теперь женщинам, блестело тогда и в одежде благородного звания мужчин. Заметьте еще дававшиеся во всех городах живописные праздники, торжественные входы и выходы, маскарады, кавалькады, которыми равно тешились и государи, и народ. Например: герцог Миланский, Галеаццо Сфорца, посещает в 1471 году Флоренцию; его сопровождают сто драбантов, пятьсот человек пехоты, пятьдесят человек пеших лакеев, одетых в бархат и шелка, свита в две тысячи дворян с прислугой, пятьсот свор собак и бесчисленное множество соколов. Прогулка эта обошлась ему в 200 тыс. червонцев. Пьетро Риарио, кардинал ди-Сан-Систо, истрачивает 20 тыс. червонцев на один праздник в честь герцогини Феррарской; затем он предпринимает путешествие по Италии с такой многочисленной свитой и с таким великолепием, что его можно было принять за папу, его брата. Лоренцо Медичи затевает во Флоренции маскарад, изображающий торжество Камилла. Множество кардиналов съезжается на него посмотреть. Лоренцо просит на этот случай у папы слона, и тот вместо слона, занятого в ту пору в другом месте, посылает ему двух леопардов и барса; папа сожалеет, что его сан не дозволяет ему всенародно явиться на такое великолепное зрелище. Герцогиня Лукреция Борджиа вступает в Рим в сопровождении двухсот роскошно разодетых наездниц, и при каждой свой кавалер. Величавость, представительность, нарядные костюмы, целая выставка владетельных князей и вельмож, — разве все это не дает понятия о каком-либо чудесном параде, исполняемом участниками его серьезно, не шутя. Заглянув в хроники и памятные записки, вы тотчас увидите, что итальянцам хочется превратить всю сплошь жизнь в блестящее празднество. Другие заботы казались им перед этой просто вздором. Наслаждаться, и наслаждаться благородно, величественно, наслаждаться умом, чувствами и в особенности глазами — вот чего им желалось. Да другого-то им и делать нечего. Им неизвестны наши политические и гуманитарные заботы, у них нет парламентов, митингов, огромных газет и журналов; людям передовым или могущественным не приходится руководить судящею и рядящею толпой, соображаться, советоваться с общественным мнением, вести сухие препирательства и споры, предъявлять целые массы статистических данных, трудиться над постройкой нравственных или социальных выводов. Италией управляют мелкие тираны, захватившие власть силой и сохраняющие ее силой. В свободные свои часы они заказывают постройки и картины. Богачи и знать, подобно им, думают только о забавах, о том, как добыть хорошеньких любовниц, накупить статуй, картин, нарядов, завести при дворе своих поверенных, которые предваряли бы их в случае какого-нибудь доноса или замысла на их жизнь.
Их не волнуют и не занимают также и религиозные идеи; друзья Лоренцо Медичи, Александра VI или Лодовико Моро не думают ни о миссиях, ни о мерах к обращению язычников, ни о подписках на образование и на поднятие нравственного уровня в народе; Италия была в то время так далека от набожности, как дальше быть нельзя. Лютер, приехав туда полным веры и страхов совести, был вскоре совершенно возмущен и говорил по возвращении: ’’Итальянцы — нечестивейшие из людей; они насмехаются над истинной религией и подшучивают над нами, христианами, за то, что мы верим всему в Писании... Собираясь в церковь, они обыкновенно говорят: ’’Пойдем поблажать народному заблуждению...” ’’Будь мы вынуждены, — говорят они еще, — всему верить в слове Божьем, мы были бы что ни на есть несчастными и не знали бы ни минуты веселья. Надобно казать приличный вид, а верить всему отнюдь не следует”...” Действительно, народ здесь — язычник по природе, по темпераменту, а образованные люди — без веры по воспитанию. ’’Итальянцы, — с ужасом продолжает Лютер, — или эпикурейцы, или уж суеверны до крайности. Народ более боится Св. Антония и Св. Себастьяна, нежели Иисуса Христа, потому-де, что святые эти насылают язвы. Вот отчего, чтоб помешать прохожим мочиться где не следует, на том месте пишут св. Антония с огненным его копьем. Так-то живут они в крайнем суеверии, не зная Слова Господня, не веря ни в воскресение плоти, ни в вечную жизнь и боясь лишь кар и язв сего мира”. Многие философы тайно или почти явно не признают там ни Откровения, ни бессмертия души. Христианский аскетизм и догмат об умерщвлении плоти всем здесь не по нраву. Вы найдете у поэтов Ариосто, у венецианца Лудовичи, у Пульчи жесточайшие выходки против монахов и самые вольные, насмешливые намеки относительно догматов...
Против этого чувственного разгула и безбожия проповедники того времени, Бруно и Савонарола, вооружаются всеми силами. Савонарола говорит флорентинцам, которых ему довелось потом обратить всего на три или на четыре года: ’’Ваша жизнь — жизнь свинская, вся она проходит у вас на постели, в сплетнях, в прогулках, в оргиях и разврате”. Откинем из этого малую толику, как оно и необходимо в тех случаях, где о подобных вещах говорит проповедник или моралист, нарочно возвышающий голос, чтобы его услышали; но сколько мы ни откинь, все еще останется довольно. Биографии вельмож того времени, цинические и пересоленные потехи герцогов Феррарского и Миланского, тонкий эпикуреизм или открыто вольное поведение Медичей во Флоренции, показывают, до чего доходило там искание всякого рода удовольствий. Эти Медичи были банкиры, люди капитальные, которые, отчасти силой, а больше ловкостью, сделались первыми сановниками и настоящими владыками республики. Они держали при себе поэтов, живописцев, скульпторов, ученых; они давали в своем дворце представления, изображавшие охоту и любовные шашни мифологических богов, в картинах они предпочитали открытую наготу Делло и Поллайоло и к величавому, благородному язычеству охотно подбавляли сладострастной чувственности для приправы. Вот почему они были так снисходительны к шалостям и проказам своих живописцев. Вы знаете историю Фра Филиппо Липпи, который увез монахиню; родители ее жалуются, а Медичей невольно разбирает смех. Тот же Фра Филиппо, работая у них, до того увлекался любовными связишками, что, когда, для окончания срочного дела, его запирали на замок, он вил веревку из своих простынь и спускался по ней в окошко. Наконец Козимо Медичи решил: ’’Оставить его на свободе; люди с талантом — существа небесные, а не какой-нибудь рабочий скот: не следует ни запирать их, ни неволить”. В Риме было еще хуже этого: не стану рассказывать вам потех папы Александра VI — их надо прочесть в дневнике его капеллана Бурхарда; такие грязные сцены и вакханалии можно передавать только по-латыни. Что до Льва X, то это человек со вкусом, любит хорошую латынь, охотник до ловких эпиграмм; но это не мешает ему свободно предаваться удовольствиям и полному физическому веселью. Вокруг него Бембо, Мольца, Аретино, Барабалло, Кверно, множество поэтов, музыкантов, нахлебников ведут далеко уж не назидательную жизнь, и стихи их обыкновенно более чем вольны; кардинал Биббиена велит дать перед ним комедию Каландра, которую теперь не дерзнул бы поставить у себя ни один театр. Сам он забавляется, потчуя своих гостей блюдами в виде какой-нибудь мартышки или вороны. В шутах он держит при себе монаха Мариано, страшного обжору, который глотает в один прием целого голубя, вареного или жареного — все равно, и может, говорят, съесть зараз сорок яиц и два десятка цыплят. Грубое веселье, фантастические и шутовские выдумки этому папе по душе; природная энергия и жизненные соки бурлят в нем, как и у его современников; в сапогах со шпорами страстно гоняется он за оленем и вепрем по диким холмам Чивита Веккии, и задаваемые им праздники так же мало носят на себе духовный характер, как и его нравы. Очевидец, секретарь герцога Феррарского, так описывает нам один из его дней. Сравните эти забавы с забавами нашего времени, и тогда вы увидите, насколько усилилось теперь господство приличий, насколько ограничены своевольные и неудержные инстинкты природы, насколько живость воображения подчинена чистому рассудку и какое расстояние отделяет нас от этих полуязыческих времен, всецело чувственных, но и всецело живописных, где умственная жизнь не первенствовала еще над плотской.
”В воскресенье вечером я был на комедии, — пишет секретарь[21], — высокопреосвященнейший Рангони[22] ввел меня туда, где находился папа со своими юными и досточтимыми кардиналами, именно в одну из приемных Чибо[23]. Его святейшество прохаживался, дозволяя впуск то тем, то другим, кто был ему по нраву; а когда их набралось столько, сколько он определил, все направились в комедийную залу; святой отец наш поместился у дверей и, без шуму, давая свое благословение, разрешал вход, кому было ему угодно. Допущенные в зал находили с одной стороны сцену, а с другой — возвышенную площадку со ступенями, на которой поставлено было кресло папы; когда миряне все вошли, он сел на свое место, поднятое на пять ступеней от полу, а вокруг расположились по чину все прелаты и посланники. Едва только собралась толпа зрителей, доходившая, быть может, до двух тысяч человек, как при звуке флейт спустили занавес, на котором был написан брат Мариано[24] с целым роем бесов, заигравших с ним по обеим сторонам занавеса, среди которого красовалась надпись: ’’Вот затеи брата Мариано”. Заиграла музыка, и папа, сквозь свои очки, любовался сценой, которая была прекрасна и вся написана рукой Рафаэля; действительно, великолепный вид переходов и перспектив был осыпан похвалами. Его святейшество удивлялся также чудесно изображенному небу; канделябры составлены были из букв, каждая буква поддерживала пять свечей, а все вместе выражали: Leo X, Pontifex Maximus (т. е. папа Лев X). На сцене появился нунций и сказал пролог. Он осмеял в нем заглавие комедии ’’Suppositi”[25] до того, что папа расхохотался от всего сердца взапуски с присутствующими (зрителями), и, судя по тому, что дошло до моих ушей, французы были несколько возмущены сюжетом ’’Suppositi”. Началась комедия, которую сказывали (играли) хорошо, и вслед за каждым актом давалась музыкальная интермедия на дудках, волынках, двух рожках, нескольких виолах, лютнях и на маленьком органе с чрезвычайно разнообразными звуками, подаренном папе светлейшим герцогом, — вечная ему память; тут же была одна флейта и один голос, которые всем понравились; был еще и концерт певчих, но, по-моему, не столь удачный, как другие музыкальные произведения. Последней интермедией была Мавританка (род балета), изображавшая басню о Горгоне; она очень хороша, шла, однако, не в том совершенстве, как я видел это во дворце Вашей Светлости. Тем и окончился праздник. Слушатели начали расходиться там поспешно и такой страшной толпой, что злая судьба натолкнула меня на какую-то скамеечку и я чуть не сломал себе при этом ноги. Бондельмонте получил ужаснейший толчок от одного испанца, и, пока начал отсчитывать ему за это кулаки, мне удалось кое-как выбраться из залы; несомненно, что нога моя подверглась большой опасности; впрочем, меня несколько вознаградили за эту беду великое благословение и приветливая улыбка, каких удостоил меня Святой отец.
За день до этого вечера происходили конские скачки, где мы видели отряд испанских наездников с монсиньором Лорнеро во главе, одетый разнообразно по-мавритански, и затем другой отряд, наряженный испанцами в александрийский атлас с двуличневой шелковой подкладкой, с капюшоном и подлатником; во главе у них был Серапика, со своей ливрейной прислугой. Последняя состояла из двадцати верховых; папа пожаловал по сорока червонцев на каждого всадника; и поистине то была прекрасная свита, с гайдуками и трубачами, одетыми в шелк одних и тех же цветов. Прибыв на площадь, они пустились попарно прямо к дверям дворца, где стоял у окна папа; а когда окончилась скачка, отряд Серапики собрался на одной стороне площади, а отряд Корнера — около св. Петра; первый, взяв в руки трости, напал вдруг на второй, который поджидал его также с палками; компания Серапики швырнула палками в компанию Корнера, а последняя в нее, и обе они ринулись потом друг на друга, так что было любо смотреть на них, да к тому же и не опасно. У наездников выдавалось несколько отличных испанских кобыл и жеребцов. На другой день происходил бой быков; я был там с синьором Антонио, как писал уже и прежде; три человека убито, и ранено пять лошадей, две насмерть, и из них одна, бывшая под Серапикой, великолепный испанский жеребец, сбросивший его наземь и подвергший большой опасности: бык стоял уже над ним, и, если б зверя не успели подкольнуть пиками, он не оставил бы своей добычи без того, чтоб ее не убить. Уверяют, что папа вскричал: ’’Бедный Серапика!” и крепко о нем сокрушался. Слышу, что вечером играли какую-то комедию одного монаха... и так как она не слишком понравилась, то папа, взамен обычной мавританки, приказал качать монаха, завернутого в одеяло, и потом вдруг опустить его так, чтобы он плотно хлопнулся брюхом об пол; потом он велел разрезать ему подвязки и стащить с пяток чулки, но тут монах принялся кусать троих или четверых папских конюхов (которые над ним возились). Наконец его-таки принудили сесть на лошадь и хлопали его руками по заду столько раз, что, как слышно, ему пришлось потом ставить банки; он слег в постель и заболел. Говорят, папа поступил так для того, чтобы отвадить монахов от мысли представлять свои глупости. Эта мавританка очень его насмешила. Сегодня пришла очередь играть в кольцо перед дворцом, и папа смотрел на это из своих окон; награды были уже заранее означены на вазах. Настали затем бега буйволов — смешно видеть, как бегают эти неуклюжие животные, то подаваясь, то пятясь; чтобы достичь цели, им нужно много времени; они ступят один шаг вперед и четыре назад, так что выиграть приз — для них всегда трудная задача. Последним из пришедших к цели оказался тот, который был впереди всех; ему и присуждена награда; их всего было там десять, и, право, это вышла презабавная история. Затем я пошел к Бембо, а от него ходил с визитом к его святейшеству, где встретил французского епископа из Бейе. Только и разговору было, что о масках да о веселых предметах.
Из Рима, сего 8 марта MDXVIII г., в четвертом часу ночи.
Вашей Высокоименитой Светлости
нижайший слуга Альфонс Паулуцо”.
Таковы масляничные забавы при дворе, которому бы, кажется, следовало быть самым степенным и приличным в целой Италии; там бывали также бега ’’нагих людей’’, как на древних играх в Греции; бывали и чисто срамные уж сцены (приапеи), какие представлялись только в цирках Древней Римской империи. С воображением, так пристально обращенным к физическим зрелищам, с цивилизацией, видящей в удовольствии единственную цель жизни человеческой, при столь полном освобождении себя от всяких политических забот, от всех промышленных дрязг и от всяких нравственных усилий, привязывающих теперь умы и к интересам положительным, и к отвлеченным идеям, — при таких условиях неудивительно, что племя, от природы способное к искусствам и сильно подготовленное к тому бытораз-витием, постигло, создало и довело до совершенства искусство передавать чувственные формы. Возрождение — единственный в своем роде момент, занимающий переход от средневекового к новому времени, от культуры недостаточной к культуре, можно сказать, чрезмерной, от царства голых совсем инстинктов к царству вполне вызревших идей. В то время человек уже перестает быть грубым, драчливым, плотоядным животным, только и знающим, что упражнять свои члены в борьбе; но это еще и не чисто салонный или кабинетный ум, только и знающий, что упражнять свой язык и свою голову. Он причастен пока к двум разным натурам. У него есть напряженные, продолжительные грезы, как у варвара; есть у него и изощренно-тонкая пытливость, как у человека цивилизованного. Подобно первому, он думает в образах; подобно второму, он умеет найти в них стройность и порядок. Подобно первому, он ищет чувственного наслаждения; подобно второму, он стремится к чему-то повыше одних грубых утех. У него есть животные влечения, но есть и разборчивая утонченность. Он интересуется внешностью вещей, наружной обстановкой, но он требует от всего совершенства, и прекрасные формы, созерцаемые им в произведениях великих его художников, только выясняют для него те смутные образы, какими и без того полна его голова, и удовлетворяют тем глухим инстинктам, какими насквозь пропитано его сердце.
V
1. Третье условие живописи. — Обстоятельства, которые привели искусство к изображению человеческого тела.
2. Характеры в Италии в эпоху Возрождения. — Нравы, образовавшие их. — Недостаток суда и полиции. — Обращение к силе и к самоуправству. — Убийство и насилие. — Оливеротто да Фермо и Цезарь Борджиа. — Теория убийства и вероломства. — Государь Макиавелли. — Последствия этих нравов на характерах. — Развитие энергии, привычка к трагическим страстям.
3. Бенвенуто Челлини. — Сила темперамента. — Богатство способностей. — Широкий пыл и восторги радости. — Живопись воображения. — Резкая неудержимость в действиях.
4. Каким образом нравы и характеры эти подготовляют людей к пониманию передачи человеческого тела. — Знакомство с телом из личного и обиходного опыта. — Способность понимать энергичные и простые формы. — Чувствительность к прекрасному. — Жизнь и вкусы современного человека сравнительно с жизнью и вкусами итальянца времен Возрождения.
Остается узнать, почему этот великий талант живописи избрал главным своим предметом тело человека, какого рода опытами, какими привычками, какими страстями подготовлен был в людях интерес к мускулам, отчего на этом обширном поле искусства глаза их предпочтительно обратились к тем здоровым, сильным, деятельным фигурам, на которые или совсем не умели попасть последующие века, или ограничились одной копировкой их по преданию.
Для этого, изложив вам общее состояние умов, я постараюсь указать преобладающий склад характеров. Под состоянием умов понимают род, количество и качество мыслей, заключающихся у человека в голове, составляющих как бы ее меблировку. Но меблировка головы, как и меблировка дворца, меняется без особого затруднения; не трогая стен, можно обтянуть их другими обоями, поставить во дворце другие буфеты, другую бронзу и разостлать другие ковры; равным образом, не касаясь внутреннего строя души, можно вложить в нее другие мысли; достаточно для этого перемены в условиях жизни или в воспитании; у человека невежественного и просвещенного, у плебея и аристократа мысли далеко не одинаковы. Следовательно, в человеке есть нечто более важное, чем идеи, — этот самый строй его, т. е. характер, — другими словами, его природные инстинкты, его первичные страсти, степень его чувствительности, энергии — короче, сила и направление всего внутреннего его механизма. Чтобы показать вам этот глубокий склад итальянских душ, я раскрою перед вами обстоятельства, привычки и потребности его произведения: история этого склада уяснит вам его лучше, нежели какое бы то ни было отвлеченное определение.
Первая черта, замечаемая тогда в Италии, — это недостаток упрочившегося и постоянного мира, строгого правосудия и бдительной полиции, вроде той, к какой мы у себя привыкли. Мы с трудом можем вообразить себе такую крайнюю степень тревоги, беспорядков и насилий. Слишком давно находимся мы в противоположном состоянии. У нас столько жандармов и городовых, что мы склонны считать их скорее неудобными, чем полезными. У нас, если человек пятнадцать соберется на улице поглазеть на собаку, переломившую себе ногу, тотчас же является какой-нибудь усатый господин и говорит: ’’Господа, сборища запрещены, расходитесь”. Это кажется нам излишним, стеснительным, мы посылаем дозорцев к черту и забываем обратить внимание на то, что эти же усачи доставляют и самому богатому, и самому слабому возможность безопасно ходить одному и без оружия в полночь по глухим даже улицам. Мысленно уничтожим этих усачей и представим себе страну, в которой полиция бессильна или бездеятельна. Подобные места вы найдете в Австралии, в Америке, например, хоть на россыпях, куда толпою стекаются искатели золота и живут там наудачу, не образуя еще никакой государственной организации. Там, если вы опасаетесь удара или оскорбления или же получите их в самом деле, вы разряжаете на сопернике или противнике свой револьвер. Тот отвечает тем же, а подчас в дело вмешиваются и соседи. Ежеминутно приходится оборонять свое имущество или жизнь, и нежданная-негаданная опасность теснит и подавляет человека со всех сторон.
Таково было около 1500 года положение дел в Италии, там совершенно не знали еще ничего подобного той великой общественной организации, которая в наше время, усовершенствовавшись после четырех столетий опыта, считает первой своей обязанностью обеспечить за каждым не только его имущество и жизнь, но также спокойствие и безопасность. Государи Италии были маленькие тираны, обыкновенно захватывавшие власть путем убийств, отравлений или, по крайней мере, насилий и вероломства. Конечно, первой заботой их было удержать за собой эту власть подоле. А о безопасности граждан не пеклись они нимало. Частные лица должны были сами защищать себя, сами за все расправляться; ввиду какого-нибудь слишком упорного должника, повстречавшись на улице с каким-нибудь грубияном, считая кого-либо для себя опасным или враждебным, граждане находили совершенно естественным освободиться от него как можно скорее.
За примерами ходить недалеко: стоит пробежать несколько памятных записок того времени, чтобы увидеть, как глубоко укоренена была тогда привычка к насилию и самоуправству.
’’Двадцатого сентября, — говорит Стефано Инфессура, — произошло великое смятение в городе Риме и все купцы заперли свои лавки. Бывшие на полях или в виноградниках поспешно воротились домой, и все, как местные граждане, так и иногородцы, взялись за оружие, потому что в городе стали положительно утверждать, что папа Иннокентий III умер”.
Слабые узы, чуть соединяющие общество, вдруг порывались, и все возвращалось опять снова к дикому состоянию; каждый пользовался минутой, чтобы отделаться от своих врагов. Заметьте, что и в обыкновенное время насилия, хотя встречались не так часто, были, однако же, не менее жестоки. Частые войны между фамилиями Колонна и Орсини велись вокруг Рима по всем окрестностям; эти вельможи имели своих драбантов и созывали своих крестьян; каждая шайка разоряла неприятельские земли; едва заключенное перемирие тотчас же опять нарушалось, и каждый предводитель, застегивая свою кольчугу, посылал доложить папе, что противник первый на него напал.
”В самом городе, днем и ночью, совершалось много убийств, и не проходило ни одного дня, чтобы кого-нибудь не умертвили... В третий день сентября некто Сальвадор напал на своего неприятеля, синьора Бенеаккадуто, с которым у него, однако же, был заключен мир, обеспеченный залогом в 500 червонцев”.
Это значит, что оба они представили по 500 червонцев, которые должны быть потеряны для того из них, кто первый нарушит перемирие. Гарантировать таким образом данную клятву было тогда в обычае по неимению других средств поддержать хоть несколько общественное спокойствие. В расходной книге Челлини собственноручно записана им следующая заметка: ’’Отмечаю для памяти, что сегодня, 26 октября 1556 г., я, Бенвенуто Челлини, вышел из тюрьмы и заключил с моим неприятелем перемирие на год. Каждый из нас представил залогу по 300 скуд”. Но денежная гарантия слишком ничтожна против силы темперамента и свирепости нравов. Поэтому Сальвадор и не мог удержаться, чтобы не напасть на Бенеаккадуто. ”Он нанес ему два удара шпагой и смертельно его ранил, так что тот испустил дух”.
Тут наконец вмешиваются слишком оскорбленные власти и принимает в деле участие народ почти так же, как это бывает и теперь в Сан-Франциско, когда закон Линча приводится в исполнение. В Сан-Франциско, при сильном учащении смертоубийств, купцы, все более важные и почтенные лица в городе, в сопровождении толпы добровольно вызвавшихся соучастников отправляются за виновными в тюрьму и вешают их тут же на месте. Подобно этому, ”на четвертый день, папа послал своего вице-камерария с консерваторами и всем народом разорить дом Сальвадора. Разорив его, они, того же четвертого сентября, повесили Иеронима, брата сказанного Сальвадора”, вероятно, потому, что сам Сальвадор ускользнул от них. При этих шумных народных экзекуциях каждый отвечает за своих.
Есть до пятидесяти подобных примеров; люди того времени привыкли к насилию, и я говорю не только о черни, но и о лицах, которые, по своему высокому положению или образованию, казалось, должны были бы несколько владеть собой. Гвиччардини рассказывает, что однажды Тривульцио, губернатор Милана, поставленный французским королем, собственноручно убил на рынке нескольких мясников, ’’которые, с обычной такого рода людям дерзостью, воспротивились сбору податей, от которых они не были освобождены”. Вы привыкли, в настоящее время, смотреть на художников как на светских людей, мирных граждан, которым совершенно уместно надеть вечером черную пару и белый галстук. В записках Челлини вы встретите одного ювелира, именем Пилото, ’’человека храброго”, но предводителя разбойничьей шайки. В другом месте ученики Рафаэля собираются убить Россо, потому что Россо, человек, очень невоздержный на язык, сказал что-то дурное про Рафаэля; Россо благоразумно покидает Рим: после таких угроз путешествие было, разумеется, необходимо. Самой ничтожной причины казалось достаточно, чтобы укокошить человека. Челлини рассказывает еще, что Вазари имел обыкновение отращивать очень длинные ногти и что ’’однажды, ночуя на одной постели со своим учеником Манно, он думал почесаться сам и нечаянно оцарапал ногу Манно, а тот непременно хотел его за это убить”. Повод, кажется, невелик. Но в то время человек был до того запальчив, до того привык к кулачной расправе, что кровь мгновенно бросалась ему в глаза и он готов был ринуться, как разъяренный бык, чтобы пырнуть кинжалом, если не рогами.
Зрелища, разыгрывавшиеся тогда в Риме и его окрестностях, поистине ужасны. Наказания достойны какой-нибудь восточной монархии. Считайте, если можете, все убийства этого прекрасного и остроумного Цезаря Борджии, сына папы, герцога Валентинуа, чей портрет вы увидите в Риме, в галерее Боргезе. Это человек со вкусом, великий политик, любитель праздников и остроумных бесед; тонкий стан его обхвачен курткой из черного бархата; руки у него прелестны, взгляд покоен, как у знатного вельможи. Но он умеет заставить уважать себя и собственными своими руками пускает в ход шпагу и кинжал.
”Во второе воскресенье, — говорит Бурхард, папский камерарий, — какой-то замаскированный человек, в Борго, произнес несколько оскорбительных выражений против герцога Валентинуа. Герцог, узнав об этом, велел схватить его; ему отрубили руку и конец языка, который и был прикреплен к мизинцу отрубленной руки”. Без сомнения, в пример прочим. В другой раз, подобно кочегарам 1799 года, ’’слуги того же герцога повесили за руки двух стариков и восемь старух, предварительно разведши под их ногами огонь, чтобы вынудить у них признание, где спрятаны деньги, те, не зная этого или не желая открыть, умерли в жестокой пытке”.
В другой раз герцог приказал привести на внутреннюю дворцовую площадь осужденных gladiandi (кинжальщиков) и, разряженный в самом изящном костюме, перед многочисленным и избранным кружком зрителей, собственноручно перестрелял их из лука. ”Он убил также, под плащом самого папы, любимца его, Перотто, так что кровь брызнула в лицо его святейшеству”. В семействе этом резались то и дело. Он приказал убийцам напасть со шпагами на его зятя; тот был только ранен, и папа велел охранять его; ’’тогда герцог сказал: что не успелось к обеду, то сделается к ужину. И однажды, 17 августа, он вошел в его комнату, когда молодой человек уже вставал; он выслал вон его жену вместе с сестрой; потом, позвав трех убийц, приказал задушить названного юношу”. Кроме того, он умертвил своего родного брата, герцога ди-Гандия, и тело его велел бросить в Тибр. После многих розысков открыли, что один рыбак был на берегу при совершении преступления. Когда его спросили, почему он не донес о случившемся губернатору, ”он отвечал, что, по его мнению, на это не стоит обращать внимание, так как в жизни своей ему доводилось по ночам видеть более ста трупов, выброшенных в том же месте, и никто никогда об них не заботился”.
Правда, что все Борджии, эта привилегированная фамилия, обладали, по-видимому, каким-то особенным вкусом и талантом ко всякого рода отравлениям и убийствам; но в мелких итальянских государствах вы найдете множество частных лиц, принцев и принцесс, достойных быть современниками Борджий. Князь Фаэнцкий подал повод к ревности своей жене; она прячет под кроватью четырех убийц, с тем чтобы они напали на него, когда он придет ложиться; князь храбро защищается, тогда она соскакивает с постели, хватает кинжал, висевший у изголовья, и сама, зайдя с тылу, убивает своего мужа. За это ее отлучили от церкви; но отец ее просит Лоренцо Медичи, пользующегося большим весом у папы, ходатайствовать об избавлении ее от церковного покаяния, приводя в основание своей просьбы, между прочим, то, что он ’’намеревается снабдить ее другим мужем”. В Милане герцог Галеаццо был зарезан тремя молодыми людьми, имевшими привычку читать Плутарха; один из них погиб на месте преступления, и труп его выбросили свиньям; другие, перед четвертованием, объявили, что они затеяли убийство потому, что ’’герцог не только соблазнял женщин, но и разглашал потом их позор; не только убивал людей просто, но еще подвергал их наперед самым неслыханным истязаниям”. В Риме папа Лев X едва не был убит своими кардиналами: его хирург, подкупленный ими, должен был отравить его при перевязке фистулы; кардинал Петруччи, главный зачинщик, был за это умерщвлен. Теперь если взять дом Малатеста в Римини или дом Эсте в Ферраре, то найдешь и там подобные же наследственные привычки к убийству и отравлению. Если, наконец, вы обратитесь к стране, управление которой представляется, по-видимому, более правильным, к Флоренции, глава которой один из Медичей — человек умный, либеральный, честный, то и здесь вы встретите ту же дикую расправу, как и те, о которых сейчас говорено. Например, Пацци, раздраженные тем, что вся власть в руках у Медичей, составляют с архиепископом пизанским заговор умертвить обоих Медичей, Юлиана и Лоренцо; папа Сикст IV является соучастником. Они избирают для этого убийства обедню в церкви Санта-Репарата, и сигналом должно послужить поднятие святых даров. Один из заговорщиков, Бандини, пронзил кинжалом Юлиана Медичи, а Франческо-деи-Пацци с такой яростью устремился на труп, что сам себя поранил в ногу; он убил затем одного из друзей дома Медичи. Лоренцо был тоже ранен, но не сробел; он успел выхватить шпагу и обернуть вокруг руки свой плащ вместо щита, все друзья обступили его и, кто своей шпагой, кто телом, защитили так удачно, что он успел скрыться в ризнице. Между тем остальные заговорщики, с архиепископом во главе, в числе тридцати, овладели городской ратушей, чтобы захватить в руки бразды правления. Но губернатор, еще при самом вступлении своем в должность, позаботился устроить двери таким образом, чтобы, раз запертые, они уже не могли быть отворены изнутри. Заговорщики попались, как в мышеловку. Вооруженный народ сбегался со всех сторон. Схватили архиепископа и повесили его в полном облачении рядом с главным зачинщиком, Франческо-деи-Пацци; вне себя от ярости, умирая на виселице, прелат вцепился зубами в тело своего соучастника и искусал его. ’’Около двадцати лиц из семейства Пацци были тогда изрублены в куски, столько же пострадало и из дома архиепископа, а перед окнами дворца повешено было до шестидесяти человек”. Один живописец, про которого я вам рассказывал, Андреа дель Кастаньо, убийца своего друга с целью украсть у него изобретение масляной живописи, приглашен был написать эту висельную расправу, отчего и прозвали его потом — Андреа Висельничий.
Я не кончил бы никогда, если б стал передавать вам все тогдашние истории, отличающиеся подобными чертами; вот, однако же, вам еще одна, которую я избираю потому, что действующее в ней лицо должно сейчас же опять предстать на сцену, и потому, что рассказчиком тут является Макиавелли: ’’Оливеротто да Фермо, оставшись в малолетстве сиротой, был воспитан одним из дядей своих по матери, именем Джованни Фольяни. Потом он обучился военному делу у его братьев. Обладая от природы умом и будучи ловок и силен телом и душой, он в короткое время сделался одним из первых людей в его шайке. Но, рассудив, что унизительно быть затертым в толпе, он решился, при помощи нескольких граждан из Фермо, овладеть городом и написал своему дяде, что, пробыв несколько лет вдали от своего отечества, он желал бы возвратиться, чтобы увидеть его и город, да и взглянуть кстати на свое наследие. Он прибавлял, что если вынес столько трудов, то единственно из-за славы, а чтобы сограждане не упрекнули его в напрасной потере времени, он намеревался приехать в сопровождении ста всадников, его друзей и слуг и просил дать приказ, чтобы в Фермо встретили его с почетом, что принесет честь не только ему, Оливеротто, но и самому Джованни, который ребенком взял его к себе на воспитание. Джованни сделал все, о чем его просили; он велел жителям Фермо с почетом принять его и поместил его у себя в доме... Оливеротто, распорядившись в несколько дней всем, необходимым для злодейства, задал торжественный праздник, на который пригласил Джованни и всех первостатейных граждан Фермо. Под конец... нарочно сведши разговор на важные предметы, на величие папы Александра и его сына, на разные их замыслы, он вдруг поднялся с кресла и сказал, что для беседы о подобных вещах нужно место поукромнее. Он пошел в одну комнату, куда последовали за ним Джованни и все другие. Но едва уселись они там, как из тайников, устроенных в этой комнате, вышли вдруг солдаты и умертвили Джованни и всех остальных. После этого душегубства Оливеротто сел на лошадь, проехал по городу и осадил главного сановника в городской думе, так что перепуганные жители вынуждены были повиноваться ему и учредить правительство, главой которого он себя поставил. Он предал смерти всех недовольных, которые могли вредить ему... и в один год успел сделаться грозой для своих соседей”.
Предприятия подобного рода встречаются сплошь и рядом; жизнь Цезаря Борджиа изобильна ими, и подчинение Романьи святому престолу было непрерывным рядом измен и смертоубийств. Таков настоящий феодальный быт, где каждый человек, предоставленный самому себе, нападает на другого или обороняется, доводя свое честолюбие свое злодейство или свою месть до последних крайностей и не боясь ни правительственного вмешательства, ни грозы закона.
Но между Италией XV века и средневековой Европой есть то громадное различие, что итальянцы обладали тогда значительной культурой. Вы только сейчас видели многочисленные доказательства этой дикой культуры. В силу какого-то необыкновенного контраста, несмотря на то что приемы сделались изящны и вкусы много утончились, характеры и сердца оставались свирепыми. Люди эти — ученые, знатоки в искусстве, краснобаи, самые вежливые представители светскости, и в то же время они драбанты, разбойники, душегубцы. Они поступают, как дикари, а судят, как цивилизованные люди; это смышленые волки, не более. Теперь вообразите, что волк рассуждает о своей породе; по всей вероятности, он составит целый кодекс убийств. То именно и случилось в Италии: философы возвели в теорию ужасные проделки, которых они насмотрелись, и кончили тем, что думали или по крайней мере говорили, будто для существования и для успехов на этом свете необходимо злодейски поступать. Самым глубоким из таких теоретиков был Макиавелли, великий, даже можно сказать, честный человек, патриот, гений высшего разряда, написавший книгу ’’Государь”[26] с целью оправдать или по крайней мере управомочить предательство и убийство. Или, скорее, он не оправдывает и не управомочивает ничего; он перешел за грань негодования и оставил в стороне совесть; он анализирует, он объясняет, как ученый, как полнейший знаток людей; он сообщает документы со своим собственным на них толкованием; он посылает флоре-нтинским властям руководящие и положительные мемуары, писанные таким спокойным слогом, как рассказ о какой-нибудь удачной хирургической операции. Донесение свое он озаглавливает так:
Описание того, как распорядился герцог Валентинуа, чтобы умертвить Вителоццо Вителли, Оливеротто да Фермо, сеньора Паголо и герцога Гравину Орсини
’’Высокостепенные синьоры, так как Ваша Милость не получили всех моих писем, в которых заключалась большая часть синигальского события, то я счел уместным описать его в подробности и полагаю, что это будет приятно Вам по самому свойству дела, во всех отношениях редкого и достопамятного”.
Герцог был разбит этими вельможами, и бороться с ними оказалось ему не под силу. Он заключил мир, наобещал им много, кое-что и действительно дал, рассыпался в самых дружеских уверениях, сделался их союзником и, наконец, предложил им совещание по одному общему делу. Некоторые опасения заставили их долго колебаться. Но обещания его были так соблазнительны, он так ловко умел подстрекнуть их надежды и корыстолюбие, прикинулся таким кротким и прямодушным, что они явились, правда с войсками, но допустили заманить себя, под предлогом изящного гостеприимства, во дворец, занимаемый герцогом в Синигальи. Они въезжают верхом на лошадях, и герцог приветствует их как нельзя вежливее, но ’’едва слезли они с лошадей у жилья герцога и вошли с ним в потайную комнату, как тотчас же стали его пленниками”.
’’Герцог немедленно сел на коня и велел грабить людей Оливеротто и Орсини. А солдаты его, не удовольствовавшись этим грабежом, принялись опустошать Синигалью, и, не сдержи герцог наглости их тем, что многих из них положил на месте, они разорили бы ее, пожалуй, всю”.
Мелкота привыкла разбойничать точно так же, как и старшие; то было всеобщее господство силы.
’’Когда настала ночь и смятение утихло, герцог признал удобным порешить с Вителоццо и Оливеротто; он велел отвести их в одно место и там удавить. Вителоццо молил только об одном — чтобы ему испросили у папы полное разрешение от грехов. Оливеротто плакал, сваливая на Вителоццо все зло, какое причинили они герцогу. Наголо и герцог Гравина были оставлены в живых до тех пор, пока герцог не узнал, что папа овладел кардиналом Орсини, архиепископом Флорентинским и мессиром Джакопо да-Санта-Кроче. По получении этой вести, 18 января, в замке Пиэве, они были удавлены таким же образом”.
Это один только рассказ; в других местах Макиавелли не ограничивается сообщением фактов, а выводит свои заключения. По примеру Киропедии Ксенофонта он пишет полуправдивую и полувымышленную книгу ’’Жизнь Каструччо Кастракани”, которого предлагает итальянцам за образец совершеннейшего государя. Этот Каструччо Кастракани был найденыш; за двести перед тем лет он сделался правителем Лукки и Пизы и достиг такого могущества, что смело угрожал Флоренции. Он совершил ’’много таких дел, которые, по своей доблести и удаче, могут служить прекрасными образцами, и оставил по себе столь добрую память, что друзья его сожалели о нем более, чем о каком бы то ни было государе и в какие бы то ни было времена”. Вот один из прекрасных поступков этого столь любимого и достойного вечной хвалы героя.
Когда семья Поджио возмутилась против него в Лукке, Стефано Поджио, ’’человек преклонных лет и миролюбивый”, остановил мятежников и обещал им свое посредничество. ’’Они сложили тогда оружие так же неосторожно, как и подняли”. Каструччо возвращается; ’’Стефано, полагая, что Каструччо должен быть ему обязан, отправился к нему и, считая излишним просить его за себя лично, стал ходатайствовать за других членов своего дома, умоляя его многое простить молодости, попомнить старую его дружбу и те одолжения, какими он, Каструччо, был обязан их семье. Каструччо отозвался на это радушно и обнадежил старика во всех отношениях, говоря, что его больше радует прекращение бунта, нежели сердит то, что он был поднят. Он ободрил Стефано, уговорил привести к нему всех виновных, прибавив, что благодарит Бога за ниспослание ему случая оказать великодушие и милость. Веря слову Стефано и Каструччо, они явились и были все до единого, в том числе и сам Стефано, захвачены в плен и умерщвлены”.
Другой герой Макиавелли — Цезарь Борджиа, величайший душегубец и самый ловкий предатель своего времени, человек совершенный в своем роде, всегда смотревший на мир точно так, как гуроны и ирокезы смотрели на войну, т. е. как на положение, в котором притворство, обман, измена, подсиживание составляют право, долг и подвиг. Он пускал их в ход относительно всех, даже своих односемейных и приверженцев. Однажды, чтобы унять слухи, ходившие о его жестокости, он велел схватить своего губернатора в Романье, Ремиро д’Орко, оказавшего ему большие услуги, которому Борджиа обязан был усмирением всей той страны. На другой день граждане с удовлетворением и ужасом увидели Ремиро д’Орко на площади, располосованным надвое, с окровавленным ножом невдалеке. Герцог велел оповестить, что наказал его за чрезмерную строгость, и этим он приобрел славу доброго владыки, покровителя и защитника народа. Макиавелли рассуждает по этому поводу так:
’’Каждый знает, как похвально со стороны государя держать данное слово и жить правдой, а не коварством. Тем не менее мы видим, в наше время, по опыту, что именно те из государей ознаменовали себя великими делами, которые мало дорожили своим словом, а умели с помощью коварства свертывать людям головы и в конце концов губили тех, кто полагался на их совесть... Благоразумный властитель не может или не должен держать своего слова, когда это ему вредит и когда причин, вынудивших у него обещание, более не существует. К тому же у государя никогда не может быть недостатка в законных поводах, чтобы скрасить свое вероломство. Но необходимо скрашивать получше и быть большим плутом и притворщиком.. . А люди так просты и так легко подчиняются наличной необходимости, что обманщик всегда еще найдет кого-нибудь, кто даст себя надуть”.
Ясно, что подобные нравы и подобные правила должны сильно влиять на характеры. Во-первых, это совершенное отсутствие правосудия и полиции, этот полный разгул посягательств и убийств, эта необходимость мстить без милосердия и бысть страшным только для того, чтобы существовать, этот постоянный вызов к силе — разве не закаляли они дух? Человек тут невольно привыкает к крайним и внезапным решениям; ему необходимо уметь самому убить или распорядиться убийством в один миг.
Притом, живя под страхом беспрерывной и крайней опасности, он полон великих тревог и страстей, самых трагических; ему не до тонкого разбора оттенков в своих чувствах, ему не до любознательной и спокойной критики. Охватывающие его волнения велики и, однако ж, просты. Дело идет не о какой-нибудь подробности следующего ему почета или не о какой-нибудь частице его достояния; тут на карте вся жизнь его и жизнь его близких. С самой высоты он вдруг может пасть как нельзя ниже и, подобно Ремиро, Поджио, Гравине, Оливеротто, проснуться под ножом или петлей палача. Жизнь полна бурь, и воля напряжена до крайности. Душа зато сильнее и всегда готова развернуться вполне.
Мне хотелось бы собрать все эти черты воедино и представить вам не отвлеченную идею, а живое лицо. Есть одно такое лицо, оставившее нам собственноручные свои записки; они изложены самым простым языком и тем более поучительны, что лучше всякой другой книги покажут вам, как чувствовали, мыслили и жили их современники. Бенвенуто Челлини можно считать как бы рельефным собранием тех яростных страстей, тех отчаянных жизней, тех самородных и могучих гениев, тех богатых и опасных способностей, которые произвели в Италии Возрождение и, разгромив общество, породили искусство.
Первое, что поражает в нем, это — сила внутренней упругости, энергичный, мужественный характер, могучий почин, навык к самым внезапным и крутым решениям, великая способность действовать и переносить страдания — короче, неукротимая сила цельного еще темперамента. Таково было чудное животное, всегда готовое к нападению и к обороне, которое вскормили нравы средних веков, которое смягчено у нас продолжительностью мира и полицией. Ему было шестнадцать лет, а брату его, Джованни, — четырнадцать. Раз Джованни, будучи оскорблен другим юношей, вызвал его на дуэль. Они пошли к городским воротам и сразились на шпагах; Джованни обезоружил противника, ранил его и все еще продолжал бой, как вдруг являются родные раненого и осыпают победителя градом шпажных ударов и каменьев, так что бедное дитя падает наземь без чувств. Случайно подходит Челлини, подымает шпагу и бросается на противников, уклоняясь по мере возможности от каменьев и не покидая брата ни на шаг; смерть была уже от него близко, но несколько прохожих солдат, придя в восхищение от его храбрости, вмешались в дело и помогли ему отбиться. Тогда он взял брата на плечи и отнес его в родительский дом. Вы найдете сотни случаев, обнаруживающих в нем подобную же энергию. Если он не был двадцать раз убит, так это чудо; в руках у него всегда шпага, мушкет или кинжал — на улице, по дорогам, против личных врагов, против беглых солдат, против разбойников, против соперников всякого рода; он обороняется, а чаще нападает. Самое удивительное его похождение — бегство из замка Св. Ангела, куда его заперли после одного убийства. Он спустился с этой громадной вышины по веревкам, свитым из простынь; повстречал часового, который, испугавшись его страшной решимости, притворился, что его не замечает; с помощью какого-то бревна перелез он через вторую ограду, привязал последнюю свою веревку и начал по ней спускаться, но веревка оказалась слишком короткой; он упал и переломил ногу под самым коленом; он бинтует себе ногу и, истекая кровью, ползет до городских ворот, они заперты; прорыв землю кинжалом, он прошмыгнул под воротами; тут напали на него собаки; он распарывает брюхо одной из них и, повстречав носильщика, приказывает нести себя к одному посланнику, его приятелю. Он считал себя вне опасности и заручился словом папы, но вдруг его хватают опять и сажают в гнилое подземелье, куда свет заходит лишь часа на два в день. Явился палач и, тронутый жалостью, еще пощадил его на этот раз. Затем наказание ему ограничили одной тюрьмой; вода сочится по стенам, солома под ним гниет, раны его не закрываются. Так провел он несколько месяцев; его крепкое здоровье выдерживает все. Тело и душа такого склада как будто построены из гранита и мрамора, тогда как наши нынешние просто из мела и штукатурки.
Но богатство духовных сил в нем так же велико, как и крепость телосложения. Ничего не может быть гибче и многограннее этих новых, свежих и здоровых душ. Пример для себя он находил в своем семействе. Отец его был архитектор, хороший рисовальщик, страстный музыкант, игравший на виоле и певший про себя, один, для своего собственного удовольствия; он делал превосходные деревянные органы, клавикорды, виолы, лютни, арфы; хорошо резал на кости, был весьма искусен в постройке машин, играл на флейте в оркестре синьории, понимал по-латыни и писал стихи. Люди того времени были решительно на все руки. Не говоря о Леонардо да Винчи, Пико делла Мирандоло, Лоренцо Медичи, Леоне Баттисте Альберти и вообще высших гениях, даже такие личности, как просто деловой и торговый люд, монахи, ремесленники, по своим вкусам и привычкам подымались тогда до уровня тех занятий и удовольствий, которые кажутся теперь исключительным достоянием самых образованных людей и натур самых утонченных. Челлини был из их числа. Он стал превосходно играть на флейте и рожке—заметьте, против воли, чувствуя к этим инструментам отвращение и занимаясь ими только в угоду отцу. Притом с весьма ранних пор он сделался отличным рисовальщиком, ювелиром, черневщиком, финифтщиком, ваятелем и литейщиком. Он в то же время инженер и оружейник, строитель машин, крепостей, мастер заряжать, направлять и прицеливать орудия лучше артиллеристов. При осаде Рима коннетаблем Бурбоном Челлини своими бомбардами производит страшные опустошения в неприятельском войске. Чудный стрелок из мушкета, он убил коннетабля своей рукой; он сам изготовлял оружие и порох и попадал в птицу пулей в каких-нибудь двухстах шагах. Ум его был так изобретателен, что в любом искусстве и в любом промысле он открывал особенные приемы, которые содержал в тайне и которые вызывали всеобщий восторг. Это век дивной изобретательности, творчества; все здесь самородно, рутины нет и следа, а умы плодотворны до такой степени, что, к чему бы они ни прикоснулись, тотчас оплодотворят собой все.
Когда духовная природа столь сильна, одарена так богато, так производительна, когда способности действуют так бойко и верно, так постоянно и грандиозно, тогда обычным тоном души является избыток радости, могучее вдохновение и веселье. Мы видим, например, что после трагических и ужасных похождений Челлини тотчас же отправляется в путь. ’’Всю дорогу, — говорит он сам, — я не переставал петь и смеяться”. Такое быстрое душевное обновление зачастую встретишь в Италии, особенно в тот век, когда души еще так просты. ’’Сестра моя Липерота, — говорит он, — поплакав со мной немножко об отце, сестре, муже и маленьком ребенке, которых она лишилась, озаботилась приготовить ужин. Весь вечер о смерти не было уж и помина, а говорили о тысяче веселых и забавных вещей, так что ужин вышел один из самых приятных”. Внезапные нападения, разгромы лавок, беспрерывная опасность быть убитым или отравленным, среди которых он живет в Риме, то и дело перемешиваются с ужинами, маскарадами, смехотворными затеями, любовными шашнями, до того явными, без-околичными, лишенными всякой бережности и тайны, что они напоминают широкую наготу венецианских и флорентинских картин того времени. Вы прочтете их в его книге; это до такой степени голо, что не может показываться в обществе; но оно, впрочем, только голо; его нигде не портит утонченная грязь или площадная шутка; человек поддается тут смеху и свободному удовольствию, как вода течет по скату; здоровье души и нетронутых еще молодых чувств, избыток животного пыла обнаруживаются у него в сладострастии, точно так же как в его произведениях и во всех его поступках.
Такой нравственный и физический склад естественно ведет к тому живому воображению, которое я вам сейчас только что описал. Человек этого склада не подмечает предметов клочками, урывками и лишь при посредстве слов, как делаем мы; он, напротив, схватывает их целиком и при помощи одних образов. Мысли его не розняты по суставам, не классифицированы, не замкнуты в отвлеченные формулы, как наши; они бьют у него ключом, цельные, колоритные и живые. Мы судим и рядим, а он видит. Оттого ему часто случается видеть небывальщину. Эти головы, столь полные живописных образов, они вечно бушуют и бурлят. У Бенвенуто есть ребяческие верования, он суеверен не лучше простолюдина. Некто Пиэрино, понося его и все его семейство, в порыве гнева закричал: ’’Если я говорю неправду, пусть обрушится на меня мой дом!” Через некоторое время дом в самом деле повалился, и хозяину перешибло ногу. Бенвенуто уж конечно признал в этом перст Провидения, хотевшего наказать Пиэрино за ложь. Он пресерьезно рассказывает, что, будучи в Риме, познакомился с одним магом, который, заведя его ночью в Колизей, бросил какого-то порошку на уголья и при этом произнес свои заклинания; тотчас же все здание как будто наполнилось чертями. Очевидно, в этот день у него была галлюцинация. В тюрьме голова его горит; если он переносит и боль от ран, и испорченный воздух, то единственно благодаря обращению своему к Богу. У него идут долгие беседы с его ангелом-хранителем; ему хочется увидеть опять солнце во сне или наяву, и вот однажды он перенесен и поставлен пред великолепным солнцем, из которого выходят Иисус Христос и потом Богородица; они показывают ему знаки своего милосердия, и он видит отверстое небо с сонмом ангельских чинов. Подобные видения бывали в то время сплошь и рядом в Италии. После разгульной и бесшабашной жизни, часто в минуты самого крайнего разврата, с человеком вдруг совершается переворот. Герцог Феррарский, ’’заболев весьма тяжким недугом, от которого не мог мочиться в течение сорока восьми часов, прибегнул к Господу Богу и велел немедленно уплатить все выслуженные оклады”. Эрколе д’Эсте, прямо из какой-нибудь шумной оргии, шел петь обедню с хором своих французских музыкантов; перед распродажей своих пленных он приказал выколоть по одному глазу и отсечь по одной руке у двухсот "восьмидесяти человек, а в великий четверг отправлялся собственноручно мыть ноги бедным. Так же точно папа Александр, известись об умерщвлении своего сына, бил себя кулаками в грудь и исповедовал свои грехи перед собравшимися кардиналами. Воображение, вместо того чтобы работать в смысле удовольствия, работает здесь в смысле страха, и, благодаря подобному же повороту внутренней механики, ум этих людей поражается вдруг религиозными образами, не уступающими в живости тем чувственным, какие одолевали их прежде.
Из этого пыла, из этой лихорадки ума, из этой внутренней дрожи, какой захватывающие и ослепляющие образы потрясают и душу и весь телесный механизм, выходит тот особый род поступков, который свойственен людям этого времени. Это — неудержимый, непреодолимый порыв, прямо и мгновенно идущий на всякие крайности, т. е. на схватку, на убийства и на кровь. В жизни Бенвенуто есть сто примеров таких бурь, таких внезапных вспышек молнии. Он повздорил раз с двумя ювелирами-соперниками, которые вздумали его бесславить.
”Но так как я не знаю, какого цвета страх, то я и не слишком заботился об их угрозах... Между тем, пока я говорил, один из двоюродных их братьев, именно Герардо Гвасконти, по их же, может быть, наущению, уловив минуту, когда мимо нас проходил навьюченный кирпичом осел, пихнул его на меня так сильно, что причинил мне немалую боль. Я тотчас же к нему обернулся и, видя, что он смеется, дал ему такого тумака в висок, что он повалился без чувств, как мертвый. Вот, — закричал я его братьям, — как разделываются с подлецами вашего сорта! Затем, так как они намеревались на меня броситься, а их было много, то я обозлился, выхватил маленький нож и сказал им наотрез: ’’Только сунься который-нибудь из вас за порог лавки[27], пусть другой так прямо и бежит за священником — лекарю тут нечего уже будет делать”. Слова эти навели на них такой страх, что никто из них и не шевельнулся на помощь брату”.
После этого он был позван в трибунал Восьми, заведовавший правосудием во Флоренции, и приговорен к пене в четыре меры муки.
”В негодовании, дрожа от бешенства, я стал, словно аспид, и решился на самое отчаянное дело... Я выждал, пока Восемь пойдут обедать; тогда, оставшись один и видя, что ни один сбир не присматривает за мной, я вышел из судейской палаты и побежал к себе в лавку запастись кинжалом. Потом полетел к дому моих противников. Я застал их за столом. Первый зачинщик ссоры, молодой Герардо, тотчас же на меня бросился. Я хватил его в грудь кинжалом, но пробил только поддевку, куртку и рубаху, не оцарапав даже кожи и не причинив ему никакого вреда. По легкости, с какой вонзилось мое оружие, и по треску платья, разорванного железом, я полагал, что мне удалось опасно ранить своего врага, который со страха упал наземь. ’’Подлецы! — вскричал я, — сегодня я всех вас перережу!” Отец, мать, сестры, полагая, что для них настал час последнего суда, бросились на колени, умоляя с криком о помиловании. Видя, что они не смеют защищаться, а Герардо валяется на полу как труп, я счел за позор их тронуть, но, все еще вне себя от гнева, спрыгнул с лестницы вниз. На улице я нашел остальную часть семейства, состоявшую человек из двенадцати по крайней мере. У одного был в руках железный заступ, у другого — большая железная труба, у тех — молотки или наковальни, у других — палки. Как разъяренный бык бросился я в середину и с одного удара свалил четырех или пять человек и сам упал вслед за ними, продолжая играть кинжалом вправо и влево”.
Всегда у него движение и удар моментально следуют за мыслью, как выстрел вслед за искрой. Слишком сильная внутренняя буря подавляет рассудок, боязнь, чувство справедливости, всякое участие расчета и соображения, которые в цивилизованной голове или у человека с флегматическим темпераментом всегда создадут промежуток и как бы задержку между первым порывом гнева и окончательным решением. В какой-то гостинице подозрительный (и, конечно, имевший на то свои основания) хозяин потребовал с него денег прежде, чем доставил ему все нужное. ”Я не мог сомкнуть глаз ни на одно мгновенье, — говорит он, — всю ночь проискивал я средства отомстить. Сперва я думал поджечь дом, потом прирезать добрых коней, стоявших у хозяина в конюшне. Все это казалось удобоисполнимым, но я боялся, что мне и моему товарищу нелегко потом будет улизнуть”. Он удовлетворился тем, что порубил и искромсал ножом четыре постели. Другой раз, когда во Флоренции он занимался отливкой своего Персея, с ним случилась лихорадка; чрезмерный жар и бессонные ночи, проведенные им в наблюдении за плавкой металла, изнурили его до того, что окружавшие отчаивались за его жизнь. Один из слуг вдруг прибегает и кричит, что сплавка идет неудачно. ”Я испустил такой ужасный крик, что его услыхали бы на седьмом небе. Соскочил с кровати, схватил платье и начал одеваться, руками и ногами сыплю град ударов моим служанкам, мальчикам и всем, кто ни подходил помогать мне”. Однажды он был болен, и доктор запретил давать ему пить; служанка из жалости поднесла ему воды. ’’Мне после рассказывали, что, узнав об этом, мой бедный Феличе едва не упал навзничь. Он схватил потом трость и принялся усердно колотить служанку, крича: ”А, мошенница, ты его убила!” Слуги были так же скоры на руку, как и господа, и тотчас расправлялись не только палкой, но и шпагой. Когда Бенвенуто был заключен в замке Св. Ангела, ученик его Асканио повстречался с каким-то Микеле, который, подтрунивая над ним, сказал, что Бенвенуто, должно быть, умер. ”Он-то жив, — возразил Асканио, — но ты, ты умрешь!” И тотчас же влепил ему два удара саблей по голове. ’’Первый поверг его на землю, а последний, соскользнув, отсек у него три пальца на правой руке”. Подобных вещей бесконечное множество. Бенвенуто ранит или убивает своего ученика Луиджи, куртизанку Пентесилею, врага своего Помпейо, разных харчевников, вельмож, разбойников во Франции, в Италии — повсюду. Возьмем одно из этих происшествий и тщательно рассмотрим те мелкие подробности, которые обрисовывают характер чувств.
Разносится слух, что Бертино Альдобранди, ученик брата Бенвенуто, убит наповал.
’’Бедный брат мой испустил тогда такой страшный, бешеный крик, что он, верно, был слышен за десять миль оттуда. Потом он говорит Джованни: ”По крайней мере, можешь ли ты указать мне того, кто его убил?” Джованни отвечал утвердительно и объяснил, что это один из вооруженных мечом и что у него голубое перо на шапке. Бедный брат мой тотчас же выступил вперед; узнав по этим приметам убийцу, он со свойственной ему дивной быстротой и неустрашимостью бросился на него в самую середину дозора и, прежде чем успели его остановить, нанес виновнику сильный удар шпагой в живот, проткнул его насквозь и эфесом шпаги свалил наземь. Он напал затем на остальной дозор с такой смелостью, что один обратил бы его в бегство, если бы какой-то мушкетер, обороняясь, не выстрелил и не задел храброго и несчастного юношу пулей повыше правого колена. Тут он упал, а дозор торопливо улепетнул, боясь, чтобы не подоспел десяток таких же грозных бойцов”.
Бедного молодого человека приносят к Челлини; сделанная ему операция не удалась; хирурги в то время были невежественны, и он умер от раны. Тогда бешенство овладевает Челлини; в голове у него кипит хаос идей.
’’Единственной отрадой моей было высматривать, как любовницу, того мушкетера, от которого погиб мой брат. Заметив, что страсть видеть его как можно чаще отнимает у меня сон и аппетит, да и вообще не может повести ни к чему доброму, я решился избавиться от такой муки, не разбирая того, как непохвально подобное намерение”.
”Я ловко подобрался к нему с большим кинжалом, похожим на охотничий нож. Я рассчитывал наотмашь снести ему голову, но он так быстро обернулся, что мое оружие задело его только по левому плечу и перебило кость. Он поднялся, уронил свою шпагу и, изнемогая от боли, кинулся бежать. Я за ним, настиг его в четырех шагах и занес кинжал ему над головой, а он нагнул ее очень низко, отчего оружие мое завязло у него между шейной костью и затылком до того глубоко, что при всех усилиях я не мог его вытащить”.
За это пожаловались на него папе, но, прежде чем идти во дворец, он запасся прелестными ювелирными вещами своей работы. ’’Когда я предстал перед папой, он бросил на меня грозный взгляд, от которого я задрожал; но, как только он увидел мое изделие, лицо его стало проясняться”. В другой раз, и притом после еще гораздо менее извинительного убийства, папа так отвечал друзьям челлиниевой жертвы: ’’Знайте, что люди, единственные в своем искусстве, каков Челлини, не должны быть подчинены законам, а он менее всякого другого, потому что я знаю, насколько он прав”. Из этого видно, до какой степени привычка к убийству укоренилась тогда в Италии. Глава государства, наместник Божий на земле, находит самоуправство естественным и покрывает убийцу равнодушием или милостивым прощением.
Такое нравственное и умственное состояние порождает много разных последствий и для живописи. Во-первых, люди того времени вынуждены интересоваться предметом, которого мы уже теперь не знаем, потому что не видим его и не обращаем на него внимания, — я разумею тело, мышцы и различные положения, какие человеческая фигура принимает в движении. В то время человек, как бы ни был он велик, все-таки обязан был быть бойцом, хорошо владеть шпагой и кинжалом для своей защиты; поэтому, сам того не зная, он запечатлевает в своей памяти все формы и все положения действующего или бьющегося тела. Граф Бальдассарре де Кастильоне, описывая нам тогдашнее светское общество, перечисляет упражнения, в каких должен быть искусен благовоспитанный человек. Вы увидите, что дворянство того времени получает воспитание, а следовательно, и круг понятий не то что уж только какого-нибудь фехтмейстера, а тореадора (быкоборца), гимнаста, конюха и богатыря.
”Я хочу, чтобы наш придворный был превосходным ездоком на всех возможных лошадях и седлах, и так как итальянцы особенно отличаются уменьем хорошо держать лошадь на узде, правильно маневрировать преимущественно упрямыми конями, биться с наскоку на копьях, то во всех этих вещах он должен быть одним из лучших между итальянцами.
Что касается до турниров, фехтования, скачек между барьерами, то пусть он будет в этом хорошим из лучших французов... Что до игры в трости, до гонки за быком, до метанья дротиками и копьями, то пусть он отличится этим даже между испанцами... Следует ему также уметь прыгать и бегать. Благородное упражнение составляет еще игра в мяч, и не менее ценю я искусную на коне вольтижировку”.
Это не прописные только правила, принятые в разговоре и в книгах; они исполняются на самом деле; с ними сообразны были нравы самых высокопоставленных особ. Джулиано Медичи, умерщвленный семейством Пацци, восхваляется своим биографом не только за талант поэта и такт истинного знаток^, но и за ловкость в управлении лошадью, в борьбе и копьеметанье. Цезарь Борджиа, этот великий душегубец и политик, обладал такой же силой в руках, как в уме и воле. Его портрет представляет в нем щеголя, а его история — дипломата; но интимная биография изображает его одним из тех храбрецов, каких немало в Испании, откуда он был родом. ’’Ему двадцать семь лет, — говорит один современник, — он очень красив собой, и папа, его отец, очень боится своего сына. Он уложил шесть диких быков, сражаясь на лошади пикой, а одному из них сразу раскроил голову”.
Смотрите на воспитанных таким образом людей как на привычных и склонных ко всем телесным упражнениям, они вполне подготовлены знать толк в надлежащей передаче тела, т. е. подготовлены к живописи и ваянию: вынос туловища, изгиб бедер, подъем руки, выступ любого сухожилия, все движения и все формы человеческого тела пробуждают в них внутренние, наперед знакомые образы. Их действительно могут интересовать члены тела, и по инстинкту, сами того не подозревая, они в этом отношении истинные знатоки.
С другой стороны, недостаток правосудия и полиции, ратоборческая жизнь, постоянное присутствие крайней опасности наполняют душу энергическими страстями, простыми и великими. Душа, стало быть, заранее настроена наслаждаться, в положениях и фигурах, энергией, простотой и величием; так как источник вкуса всегда ведь симпатия, то, чтобы нам нравился какой-нибудь выразительный предмет, необходимо полное соответствие между его выражением и нашим нравственным состоянием.
Наконец, и в силу тех же самых причин, чувствительность у этих людей живее, потому что вся она оттеснена внутрь страшным напором угрожающих жизни опасностей. Чем более человек настрадался, запуган и огорчен, тем охотнее он готов отдаться разгулу. Чем более душа его истомилась от тяжких тревог, мрачных дум и опасений, тем больше испытывает он удовольствия перед гармонической и благородной красотой. Чем более он напрягал или обуздывал свои силы, то с целью их выказать, то, напротив, для того, чтобы их скрыть, тем более он наслаждается, когда может наконец весь раскрыться и развернуться свободно. Спокойная и цветущая Мадонна в своем алькове, бодрое тело юноши на полировальной доске ювелира предстают еще отраднее его глазам после трагических забот и самых томительных, мрачных сновидений. Легкой, свободной, всегда новой и разнообразной беседы там ведь нет — беседы, где мог бы он часто изливать накипевшие в нем чувства; замыкаясь в безмолвной тиши, он зато внутренне беседует с красками и формами; обычная серьезность его жизни, бездна окружающих его опасностей и затруднительность всяких душевных излияний только усиливают живость, утончают свойство каждого впечатления, производимого на него искусством.
Постараемся соединить эти разнообразные черты характера и рассмотрим, с одной стороны, человека нашего времени, богатого и хорошо воспитанного, с другой — знатного вельможу 1500 года, взяв обоих из того класса, в котором вы обыкновенно ищете судей. Наш современник встает в восемь часов утра, облекается в халат, выпивает порцию шоколаду, идет потом в свою библиотеку, перерывает там несколько картонок с бумагами, если он деловой человек, или перелистывает несколько новых книг, если он человек светский; после чего, с совершенно спокойным, бестревожным духом, пройдясь несколько раз по мягкому ковру и позавтракав в хорошенькой, нагретой теплопроводами комнате, отправляется погулять на бульвар, покуривает сигару, заходит в клуб пробежать газеты, толкует о литературе, о биржевых делах, о политике или о железных дорогах. Возвращаясь к себе, хотя бы то было пешком и поздно, в час пополуночи, он знает очень хорошо, что бульвар охраняется городовыми и что с ним не приключится никакой беды. У него душа покойна, и он засыпает с мыслью, что завтра будет опять то же. Такова теперь наша жизнь. Что, скажите, мог видеть этот человек по части тела? Положим, он заходил в купальню и созерцал эту смешную лужицу, где барахтаются всевозможные человеческие уродства; быть может, если он любопытен, смотрел он три или четыре раза в жизни на ярмарочных атлетов; все, что он мог видеть самого резкого по части наготы, — это затянутые в трико балетные плясуньи. Какого рода испытаниям подвергался он по части крупных страстей? Быть может, уколам самолюбия или денежным тревогам: он не успел в какой-нибудь спекуляции на бирже, не получил места, на которое рассчитывал; приятели распустили по свету, что он глуповат; жена у него немножко мотает, сын немножко кутит. Но ему неизвестны те сильные страсти, которые ставят на карту всю жизнь его и его семьи, могут положить на плаху его голову или затянуть петлю ему на шею, могут ввергнуть его в заточение или повести к пытке и смертной казни. Он слишком, слишком обеспечен, слишком разбился на мелкие, тонкие и приятные ощущения; за исключением столь редкой случайности, как дуэль, сопровождаемой притом церемониями и обменом вежливостей, он ровно ничего не знает о внутреннем состоянии человека, готового убить или быть убитым. Взгляните, напротив, на одного из тех вельмож, о которых я только что говорил вам, на Оливеротто да Фермо, на Альфонса д’Эсте, на Цезаря Борджиа, на Лоренцо Медичи, на их придворных и на всех, кто стоит во главе дел. Для дворянина или кавалера времен Возрождения первой заботой было — утром раздеться со своим фехтовальным учителем донага и стать против него: кинжал в одной руке, шпага в другой — так изображают их нам тогдашние эстампы. Чем займет он свою жизнь и в чем главное его удовольствие? Это — кавалькады, маскарады, торжественные выезды, мифологические празднества, приемы государей, где он отличается верхом на лошади, великолепно одетый, выставляя напоказ свое кружево, свое бархатное полукафтанье, свое золотое шитье, гордясь красотой своей осанки и мощным видом, которыми он и его товарищи поддерживают достоинство своего государя. Выезжая куда-нибудь днем, он почти всегда носит под курткой полную кольчугу: надо же ему предохранить себя от кинжальных или шпажных ударов, которые могут постичь его внезапно на углу любой улицы. Даже в своем собственном палаццо он неспокоен; громадные каменные наугольники, окна, загражденные толстой железной решеткой, военная прочность всей постройки показывают, что и дом, как тот же панцирь, должен охранить своего господина от нежданных гроз. Подобный человек, когда он накрепко замкнется у себя в доме и случайно станет перед прекрасной фигурой куртизанки или перед изображением чистейшей из дев, перед Геркулесом или перед Вечным Отцом, величаво драпированным или одетым мощной мускулатурой, — такой человек гораздо способнее нового понять всю их красоту и все телесное их совершенство. Без всякой технической подготовки, силой одной невольной симпатии, он почувствует героическую наготу и страшную мускулатуру Микеланджело, здоровье, кроткую приветливость и чистый, простой взгляд Рафаэлевой Мадонны, смелую и естественную жизненность какой-нибудь бронзы Донателло, странно-увлекательное положение какой-нибудь давинчиевской фигуры, великолепное сладострастие, бурный порыв, силу и атлетическое веселье действующих лиц Джорджоне и Тициана.
VI
1. Перечень указанных обстоятельств. — Самородное и повсеместное возникновение пластических или начертательных искусств. — Живопись составляет лишь отрывочную часть общей декорации. — Живые картины на улицах. — Триумф золотого века. — Карнавальные(масляничные) канты. — Триумф Вакха и Ариадны.
2. Общие условия, необходимые для создания великих произведений. — Личная своеобразность. — Сочувственное товарищество, или симпатическая ассоциация. — Примеры. — Пуритане, основатели Соединенных Штатов. — Французские войска в эпоху революции.
3. Мастерская художника времен Возрождения в Италии. — Художник. — Ученик и товарищ. — Товарищества или артели мастеров. — Ужины в артели Котла. — Маскарады в товариществе Лопатки. — Муниципальный дух. — Праздник во Флоренции по случаю въезда Льва X. — Праздники, заказы и соперничество разных частей города и корпораций.
4. Проверка указанного закона. — Соответственные всегда видоизменения среды и искусства. — Мистическая школа. — Натуралистическая школа и точное подражание. — Натуралистическая школа и создание идеальной формы. — Венецианская школа. — Школа Карраччей. — Древняя Греция. — Перенос искусства в чужие края. — Указанная связь не случайна, а необходима.
Живописное настроение, т. е. такое состояние души, которое лежит как бы между чистыми идеями и чистыми образами, да притом еще энергические характеры и крутые, рьяные нравы, способные ознакомить с красотой телесных форм и развить в ней вкусы, — таковы временные обстоятельства, которые, вместе с природной способностью племени, произвели в Италии великую и совершенную живопись человеческого тела. Нам остается теперь только пойти на улицы или заглянуть в мастерские; мы увидим, как она родится сама собой. Она не является, как теперь у нас, делом школы, занятием критиков, времяпрепровождением любопытных, манией (напускной страстью) любителей; не является искусственным растением, взлелеянным ценой больших трат, чахнущим, несмотря на всевозможные удобрения, чуждым и едва держащимся на такой почве и в таком воздухе, которым сродно растить у себя науки, литературу, промышленность, жандармов и черный фрак. Она — часть в нераздельном целом. Города, покрывающие свои ратуши и церкви ее лицевыми изображениями, обставляют ее сотнями живых картин более преходящих, но зато и более пышных; она, собственно, только их перечень, сокращенное их извлечение. Люди в то время были любителями не на один час, не в один какой-нибудь момент своей жизни, но во всю решительно жизнь — ив своих религиозных процессиях, и в своих народных празднествах, в общественных приемах, в делах и забавах.
Взглянем на них за работой, застанем их, так сказать, врасплох; здесь мы можем затрудниться разве только выбором: сословия, городские общины, государи, святители всю славу и утеху полагают в пышных процессиях и в живописных кавалькадах. Я беру одно из двадцати. Судите сами, каков должен быть общий вид улиц и площадей, наполняющихся несколько раз в год такими торжествами.
’’Лоренцо Медичи пожелал, чтобы артель Бронконе, которой он был старшиной, превзошла в великолепии артель Алмаза. Он прибегнул для этого к содействию благородного и ученого флорентийского дворянина Джакопо Нарди, который и устроил ему шесть колесниц.
Первая колесница, везомая парой быков, покрытых листвой, представляла век Сатурна и Януса. На верху колесницы находились Сатурн с косой и Янус с ключами от храма мира. У подножия этих богов Понтормо написал закованную в цепи Ярость и несколько сюжетов сатурнического содержания. Колесница сопровождалась двенадцатью пастухами, одетыми в куньи и горностаевые меха, обутыми в античные полусапожки, увенчанными зеленью и с котомками в руках. Лошади, на которых сидели эти пастухи, были, вместо седел, в львиных, тигровых и рысьих шкурах, с золочеными когтями на концах; хвосты у них были убраны золотым шнуром; стременам придана форма голов бараньей, собачьей или других животных; уздечки состояли из серебряной тесьмы пополам с листвой. За каждым пастухом следовало четыре подпаска, не так богато одетых и держащих в руке факелы, похожие на сосновые ветви.
Четыре вола, покрытые роскошными тканями, везли вторую колесницу. С их позлащенных рогов висели гирлянды цветов и связки четок. На колеснице сидел второй царь Рима, Нума Помпилий, окруженный богослужебными книгами, всеми жреческими атрибутами и орудиями, нужными для жертвоприношения. Затем следовали шесть жрецов верхом на великолепных мулах. Покрывала, украшенные листьями плюща, шитыми золотом и серебром, осеняли их головы. Их ризы античного покроя были оторочены золотой бахромой. Кто из них держал в руке курильницу, полную благовоний, кто золотой сосуд или что-нибудь другое в этом роде. По бокам шли низшие храмослужители с античными канделябрами в руках.
На третьей колеснице, запряженной прекраснейшими лошадьми, находился Тит Манлий Торкват, бывший консулом после первой войны с кар-фагенцами и своим мудрым управлением содействовавший процветанию Рима. Колеснице этой предшествовали верхом на конях, покрытых парчовыми чепраками, двенадцать сенаторов, а за ними шла толпа ликторов, неся в руках официальные пуки розог, секиры и другие знаки правосудия.
Четыре буйвола, наряженные слонами, везли четвертую колесницу, на которой помещался Юлий Цезарь. Понтормо написал на ней славнейшие подвиги этого завоевателя, а за ней ехало двенадцать всадников с блестящим в золоте оружием. Каждый из них держал опертое на бедро копье. Оруженосцы несли за ними факелы с изображением трофеев.
На пятой колеснице, везомой крылатыми конями в виде грифов, сидел Цезарь Август. Двенадцать поэтов верхом и в лавровых венках сопровождали императора, бессмертию которого содействовали они своими произведениями. На каждом из них был шарф с именем поэта.
На шестой колеснице, расписанной Понтормо и запряженной восемью телицами в богатой сбруе, восседал император Траян. Перед ним ехали верхом двенадцать законоведов в длинных тогах. Письмоводители, переписчики, нотарии несли в одной руке по факелу, в другой — книги.
Вслед за этими шестью колесницами ехала еще одна — триумф Золотого Века, писанный Понтормо и украшенный множеством рельефных изображений работы Баччо Бандинелли, в том числе фигурами четырех главных добродетелей. Среди колесницы помещался громадный золотой шар, на котором был распростерт труп в ржавом железном вооружении. Из бока этого трупа выходило нагое дитя, все вызолоченное, — символ возрождения золотого века и конца железного, чем мир обязан вступлению Льва X на первосвященнический престол. Засохшая лавровая ветвь, которой листья снова опять зеленеют, выражала ту же мысль, хотя многие предполагали тут намек на Лоренцо Медичи, герцога Урбинского. Я должен сказать, что дитя, которое нарочно для того позолотили, вскоре потом умерло от этой операции, вытерпев ее всего из-за десяти скудо”.
Смерть ребенка — это здесь маленькая, комическая и вместе мрачная пьеса, которая идет вслед за главной, большой. Как ни сух приведенный мной перечень, он может дать вам понятие о живописных вкусах той эпохи. Они не были исключительным достоянием одной знати и богачей: народ точно так же разделял эти вкусы. Лоренцо давал эти празднества, с тем чтобы удержать за собой влияние на массы. Бывали и иные зрелища, называвшиеся масляничными кантами или триумфами. Лоренцо распространил и разнообразил их, он сам принимал в них участие, часто певал там свои стихи и красовался в первых рядах пышной церемонии. Обратите внимание, господа, что Лоренцо Медичи был в ту пору самым крупным банкиром, самым щедрым покровителем искусств, первым промышленником в городе и в то же время первым его сановником. В одном своем лице он соединял те качества, которые вы встретите теперь в розницу у герцога де-Люин, у Ротшильда, у префекта Сены, у президентов Академии художеств, Академии надписей, Академии нравственных и политических наук и французской Академии. И подобный-то человек не думал уронить своего достоинства шествием по улицам во главе маскарадов. Вкус времени был до того решителен и жив в этом смысле, что такое усердие вовсе не подвергало Лоренцо насмешкам, а, напротив, приносило ему честь. Под вечер триста всадников и триста пехотинцев выступали из его дворца с факелами в руках и до трех-четырех часов утра объезжали и обходили все улицы Флоренции. Между ними появлялись и хоры певчих в десять, двенадцать, пятнадцать голосов; небольшие стихотворения, распевавшиеся на этих маскарадах, напечатаны и составляют два толстых тома. Я приведу одно из них, под заглавием Вакх и Ариадна, сочиненное им самим. По чувству прекрасного и по своей распущенной морали оно совершенно языческое. В самом деле, тогда ведь вторично расцветает древнее язычество с его духом и искусствами.
’’Как прекрасна юность! — Но вот она уж бежит. — Кто хочет быть счастлив, пусть будет им тотчас же. — Нет ничего верного назавтра.
Вот Вакх и Ариадна — прекрасные и влюбленные друг в друга. — Так как время бежит и обманывает нас, — то они всегда счастливы, как сойдутся вместе.
Эти нимфы и вон там другие, они покамест веселы. — Кто хочет быть счастлив, тот и будь. — Нет ничего верного назавтра.
Эти резвые маленькие сатиры, — они влюблены в нимф и наставили им тьму ловушек в лесах и пещерах; разгоряченные теперь Вакхом, они покамест пляшут и скачут. — Кто хочет быть счастлив, тот и будь. — Нет ничего верного на завтра.
Дамы и молодые любовники, — да здравствует Вакх, да здравствует Амур! — Пусть каждый играет на инструментах, поет и пляшет; пусть каждое сердце воспламенится любовной усладой; печаль и горе должны тут прекратиться. — Кто хочет быть счастлив, тот и будь. — Нет ничего верного назавтра.
Как прекрасна юность! — Но вот она уж бежит!”
Кроме этого хора там было много и других; одни пелись пряхами золота, другие — нищими, молодицами, отшельниками, башмачниками, погонщиками мулов, барышниками, маслобоями, вафельщиками. Все городские корпорации участвовали в празднестве. Почти такое же зрелище явилось бы в наше время, если б несколько дней кряду и Большая, и Комическая оперы, и Шатле, и Олимпийский цирк (в Париже) давали свои представления открыто, на улицах, но с той все-таки разницей, что во Флоренции кортеж составляли не фигуранты-бедняки, которым платят за то, чтобы они нарядились в костюмы, им не принадлежащие; там город сам задавал себе праздник, сам был действующим лицом и сам распоряжался в этих представлениях, счастливый тем, что может вдоволь на себя насмотреться и налюбоваться, подобно какой-нибудь красавице-девушке, появляющейся во всем великолепии своих нарядов.
Такого рода общность идей, чувств и вкусов — самое действительное средство дать полный ход и разгул всем человеческим способностям. Замечено, что для произведения великих созданий необходимы два условия: первое — живость природного чувства, самобытного и личного, которое так и выражаешь, как его испытываешь, не стесняясь никаким контролем и не подчиняясь никакому направлению; второе условие — присутствие сочувственных нам душ, внешняя и беспрерывная поддержка со стороны близких человеку идей, которые лелеют, вскармливают, завершают, размножают и одобряют те смутные мысли, какие он носит в себе постоянно. Истина эта применима повсюду: в религиозных учреждениях и в военных предприятиях, в литературных созданиях и в светских развлечениях. Душа подобна тлеющей головне: чтобы действовать, ей нужно прежде всего сохранить огонь внутри самой себя, а затем повстречать вокруг другие горящие головни. Взаимное соприкосновение оживляет и усиливает их пламя, так что оно скоро разольется в повсеместный пожар. Взгляните на отвагу мелких протестантских сект, которые, покинув Англию, основали Соединенные Штаты; они состояли из людей, дерзавших веровать, чувствовать, думать глубоко, своеобразно и страстно, причем каждый руководился своим собственным сильным убеждением; соединяясь вместе, проникнутые одинаковым энтузиазмом, они успели заселить дикие края и основать образованные Штаты.
То же самое мы видим и на войсках. Когда, в конце прошлого столетия, французские армии, столь плохо организованные, столь малоопытные в военном деле, подчиненные офицерам почти столько же невежественным, как и солдаты, сошлись лицом к лицу со стройными полками остальной Европы, — что поддержало их тогда, что двигало вперед и что, наконец, доставило им победу, если не гордость и сила той внутренней уверенности, какой одушевлен был каждый солдат, считавший себя выше противника, чувствовавший в себе призвание, несмотря ни на какие преграды, разнести по всем народам начала истины, разума и справедливости? Не было ли это также следствием великодушного товарищества и братства, взаимного доверия, общности симпатий и надежд, в силу которых каждый, от первого до последнего, рядовой, офицер и генерал, чувствовал себя преданным одному общему делу. Каждый добровольно шел в охотники, каждый понимал положение, опасность, крайнюю нужду страны, каждый был готов исправить чужой промах, все слились в одну душу, в одну волю и своим самобытным вдохновением, своим непредумышленным согласием далеко определили тот совершенный механизм, какой предание, парадировка, палочные удары и прусское чиноначалие выработали перед тем за Рейном.
Как оно бывает в серьезных интересах и делах, так же точно и в сфере искусства и удовольствия. Умные люди всего умнее, когда действуют сообща. Для того чтобы иметь художественные произведения, нужны прежде всего художники, да необходимы также и мастерские. В то время существовали мастерские и сверх того художники составляли из себя корпорации. Все крепко держались друг за друга, и в пределах одного большого общества члены разных мелких обществ тесно и свободно сливались воедино. Дружеские отношения сближали их, а соперничество подстрекало. Мастерская была тогда просто лавкой, а не парадным салоном, как теперь, убранным с одной целью — вызвать побольше заказов. Ученики были тогда работниками, делившими труд и славу со своим мастером-хозяином, а не любителями, которые, расплатившись за урок, чувствуют себя потом вполне свободными. Мальчик обучался в школе читать, писать и немножко орфографии; затем тотчас же, двенадцати или тринадцати лет, он поступал к живописцу, ювелиру, архитектору, ваятелю; обыкновенно мастер-хозяин совмещал все это в себе, и юноша изучал под его руководством не один только клочок искусства, а все искусство целиком. Он работал за него и на него, исполняя, что полегче, — фоны картин, мелкие украшения, второстепенные, придаточные фигуры; он лично участвовал в художественном произведении и интересовался им, как своим собственным делом; он был сыном и вместе домочадцем-прислужником; его называли созданием, креатурой мастера. Ел он с ним за одним столом, бегал у него на посылках, спал под ним на нижних полатях, получал от него трепки и головомойки, а иногда пинки и от его жены[28].
«Я прожил, — говорит Рафаэлло ди Монтелупо, — с двенадцати до четырнадцати лет, то есть два года, у Микеланьоло Бандинелли, и по большей части только и делал, что раздувал меха для хозяйских работ; иногда садился я, впрочем, за рисование. Однажды хозяин велел мне прокалить, то есть снова положить в огонь, несколько золотых репейков, которые изготовлялись для Лоренцо Медичи, герцога Урбинского. Он бил их молотком по наковальне, и пока возился с одним, я прокаливал между тем другой. Приостановясь, чтоб сказать что-то потихоньку одному из своих приятелей, и не заметив, как я в это время принял холодную пуговицу и положил на ее место раскаленную, он взялся за нее и обжег себе два пальца, которыми ее хватил; крича и прыгая по всей лавке, он хотел исколотить меня; но я ловко увертывался от него туда и сюда и решительно не дался ему в руки. Когда, однако ж, настал обеденный час и я проходил мимо дверки, у которой сидел хозяин, он схватил меня за волосы и отвесил мне несколько ’’добрых пощечин”».
Это ведь нравы каких-нибудь слесарей или каменщиков, грубые, открытые, веселые и дружелюбные; ученики путешествуют вместе с хозяином и наряду с ним бьются кулаками и шпагой по большим дорогам. Они обороняют его и от нападений, и от ругани — вы уже видели, как ученики Рафаэля и Челлини обнажают за честь хозяйского дома саблю и кинжал.
Мастера, ко взаимной своей выгоде, живут между собой также коротко и дружно. Одна из их артелей во Флоренции называлась артелью Котла и могла состоять всего только из двенадцати членов; главными там были: Андреа дель Сарто, Джан Франческо Рустичи, Аристотель да Сангалло, Доменико Пулиго, Франческо ди Пеллегрино, гравер Робетта и музыкант Доменико Бачелли. Каждый из них имел право привести с собой на сходку троих или четверых гостей. Каждый приносил по кушанью своего изобретения, а кто случайно сходился в выдумке с другим, тот платил штраф. Взгляните, что за сила и что за соки бродили в этих взаимно оживляемых друг другом умах и каким образом пластические искусства находили себе у них место даже за ужином. Однажды Джан Франческо берет вместо стола громадную кадку и гостей помещает внутри ее; тогда из центра кадки поднимается вдруг дерево, и ветви предлагают каждому его блюдо, между тем как снизу слышится оркестр музыки. Поданное Джаном блюдо был огромных размеров пирог, в котором виднелся Улисс, приказывающий варить своего отца для того, чтобы возвратить ему молодость[29]; обе фигуры не что иное, как лишь вареные каплуны, обделанные в человеческую форму и гарнированные разного рода вкусными вещами. Андреа дель Сарто приносит восьмигранный храм, утвержденный на колоннах; место пола занимает большое блюдо студня, разделенного на клетки, изображающие мозаику; колоннами, которые казались из порфира, на деле были толстые сосиски или колбасы; базисы и капители были из пармезана, карнизы из сладкого печенья, а кафедра из марципанов. Посередине стоял аналой из холодной говядины с развернутым на нем служебником из вермишели, где буквы и музыкальные ноты обозначались перечными зернами; вокруг размещены были певчие — жареные дрозды, каждый с широко разинутым клювом, позади их два жирных голубя изображали собой басов, а шесть маленьких овсянок—дискантов. Доменико Пулиго принес поросенка, представляющего деревенскую пряху, которая, сидя за работой, в то же время стережет и только что выведшихся цыплят; Спилло доставляет слесаря, сделанного из большого гуся. Вы отсюда слышите громкую хохотню фантастической, неудержной веселости. Другая артель, артель каменщичьей Лопатки, к ужинам присовокупляет еще маскарады. Забавляясь, гости представляют то похищение Прозерпины Плутоном, то любовь Венеры и Марса, то ’’Мандрагору” Макиавелли, ’’Suppositi” Ариоста, ’’Каландру” кардинала Биббиены. В другой раз, так как эмблемой их товариществу служит каменщичья лопатка, председатель вменяет членам в обязанность явиться в одежде каменщиков, со всеми орудиями этого ремесла и велит им возвести постройку из мяса, хлеба, пирожков и сахару. Избыток воображения выливается в таких живописных проказах. Человек тут, по-видимому, настоящий ребенок, до того еще молода его душа; всюду он заносит любимые им телесные формы; он превращается в актера и мима, он играет своим искусством, до того он переполнен им.
Кроме таких ограниченных ассоциаций или товариществ существовали тогда и другие, более широкие, соединявшие всех сплошь художников в одном общем усилии, в одном общем порыве. Вы сейчас видели на их ужинах веселье, откровенность, товарищество, простоту отношений и неудержную шутливость, напоминающие рабочих; но у них также проявлялся и патриотизм рабочего люда. Они с гордостью говорят о своей ’’славной флорентийской школе”. По их мнению, и нет другой, где можно бы было научиться рисунку как следует. ’’Сюда, — говорит Вазари, — стекаются люди, совершенные во всех искусствах, и особенно в живописи, так как здесь подстрекают вас с трех разных сторон. Во-первых, сильная и настойчивая критика, потому что самый воздух края производит свободные от природы умы, которые не могут удовлетвориться посредственностями и ценят только хорошее и изящное, не обращая внимания на авторское имя. Во-вторых, необходимость трудиться, чтобы жить, т. е. тут надо беспрестанно работать и рассудком, и изобретательностью, быть сметливым и расторопным в любом начатом деле — короче, уметь нажить себе хлеб, ибо страна, не будучи ни богатой, ни обильной, не может, как другие прочие, дешево вас прокормить. В-третьих, — и это не менее важно, чем две предыдущие причины, — опять-таки самый воздух страны поселяет в людях всех профессий такую жажду славы и почестей, что они приходят в негодование от одной мысли стать, я уж не говорю — ниже, а даже и наравне только с теми, которых признают за мастеров, но считают такими же людьми, как и они сами. Честолюбие и соревнование дошли здесь до того, что люди, от природы рассудительные и добрые, становятся подчас неблагодарны и злословны”. Зайди речь о том, чтобы почтить чем-нибудь особенным свой город, — и всякий спешит отличиться самой лучшей работой, а соревнование, подстрекающее каждого превзойти других, ведет их постепенно к совершенствованию. Когда в 1515 году папа Лев X вздумал посетить свою родину, Флоренцию, город созвал всех своих художников, чтобы принять гостя как можно великолепнее. Соорудили двенадцать триумфальных арок, украшенных статуями и живописью; в промежутках высились разные монументы, обелиски, колонны и группы, подобные римским. ”На Пьяцца деи Синьори Антонио да Сангалло построил восьмифасный храм, а Баччо Бандинелли поместил на Лоджии статую гиганта. Между Бадиа и дворцом подесты Граначчио и Аристотель да Сангалло соорудили триумфальную арку, а на углу Бискери-де-Россо воздвиг другую со множеством различных, превосходно расположенных фигур. Но всего более понравился фасад Санта-Марии дель-Фиоре, возведенный из дерева, на котором Андреа дель Сарто написал светотенью несколько таких прекрасных историй в лицах, что лучше нельзя было и желать. Архитектор Якопо Сансовино украсил этот фасад многочисленными историческими барельефами и изящными скульптурами, по плану покойного Лоренцо Медичи, отца папы. Тот же Якопо поставил на площади Санта-Мария Новелла коня, подобного римскому, который показался очень изящным. Апартаменты для папы к улице делла-Скала были тоже убраны бесчисленным множеством орнаментов, а половина этой улицы — рядом превосходных лицевых историй, исполнен-ных разными художниками, но рисованных по большей части рукой Баччо Бандинелли”.
Вы видите, как многообъемен здесь сноп талантов и на какую высоту подняла его дружная ассоциация. Город старается себя приукрасить; нынче весь он занят этим для какого-нибудь кардинала или для въезда державного лица; завтра и в течение целого года он будет работать по кварталам, корпорациям, братствам или монастырям, и каждая небольшая группа, одушевляясь при этом своим рвением, ’’более богатая сердцем, нежели деньгами”[30] и столько же суеверная, сколько истинно народная, всю славу свою полагает в том, чтобы поизящнее украсить свою часовню или свою обитель, свой портик или место своего сборища, наряды и знамена своих турниров, свои колесницы и свои Ивановские (носимые в Иванов день) значки. Никогда взаимное возбуждение не достигало такой всеобщности и силы, никогда температура, порождающая пластические искусства, не была столь благоприятна, никогда не видано подобного момента и подобной среды. Стечение обстоятельств, в самом деле, было единственным в своем роде: племя, одаренное ритмическим и фигуративным (лицетворным) воображением, достигает высоты новейшей культуры, сохранив между тем нравы еще феодальные, примиряет энергические инстинкты с развитием утонченных идей, мыслит чувственными образами и заразительной силой самородного, симпатического порыва мелких свободных групп, составляющих это племя; оно уносится до крайних пределов своего гения и изобретает идеальный образец, телесное совершенство которого одно способно выразить прекрасный языческий характер, возрождаемый только на миг. От такой-то совокупности условий зависит всякое художество, изображающее формы тела. От такой-то совокупности зависит и великая живопись. Явись какой-нибудь недостаток, какая-нибудь порча в этих условиях — обнаружится недостаток или порча и в самой живописи. Она ведь не возникала до тех пор, пока совокупность условий не была полна, а едва последняя стала распадаться, как испортилась и живопись. По пятам шла она за образованием этой совокупности, за ее развитием, разложением и упадком. Она оставалась символической и мистической до конца XIV столетия, под влиянием христианско-богословских идей. Символическая и мистическая школа продержалась до половины XV столетия[31], во время долгой борьбы христианского духа с языческим. В середине XV века живопись нашла себе ангельского истолкователя в святой душе Беато Анджелико, предохранившего себя от соблазнов новоязычества в тиши монастырских стен. С первых же годов XV столетия и по следам скульптуры живопись заинтересовалась реальным и крепким телом, благодаря открытию перспективы, изучению анатомии, усовершенствованию лепки, применению портретной передачи и употреблению масляных красок; в то же время смягчение войн, укрощение городских смут, успехи промышленности, увеличение богатства и благосостояние возрождение античной литературы и античных идей обратили на вопросы текущей жизни глаза, устремленные дотоле к жизни будущей, и надежду на небесное блаженство заменили исканием человеческого счастья. От точного подражания живопись перешла к прекрасному изобретению или творчеству, когда в эпоху Леонардо да Винчи и Микеланджело, Лоренцо Медичи и Франческо делла Ровере окончательно сложившаяся (новая) культура, расширив умственный кругозор и завершив развитие мысли, породила наряду с возрождением классической древности народную литературу и, поверх легких сперва очерков эллинизма, водворила во всей полноте язычество. Целым полустолетием долее, чем где-либо, просуществовала она в Венеции, этом оазисе, укрытом от варваров, этом независимом городе, где веротерпимость поддерживалась на глазах у папы, патриотизм на глазах Испании и воинственные нравы перед лицом турок. Живопись изнежилась при Корреджо и охладела при наследниках Микеланджело, когда вторжение иноземцев и многие скопившиеся бедствия надломили пружину человеческой воли, когда светская монархия, церковная инквизиция и академический педантизм обузили и умалили струю народного творчества, когда нравы облеклись в приличную внешность, а умы приняли сентиментальный оборот, когда живописец, дотоле наивный ремесленник, превратился в вежливого кавалера, когда лавка и работники-ученики уступили место ’’Академии”, когда смелый, вольный художник, выкидывавший и ваявший свои шалости на ужинах каменщичей Лопатки[32], сделался дипломатом-царедворцем, убежденным в своей важности, блюстителем этикета, сторонником мелочных правил, тщеславным льстецом прелатов и вельмож. Такое точное и беспрерывное соответствие показывает нам, что одновременность великого искусства и его среды вовсе не случайное лишь совпадение; напротив того, среда зарождает, развивает, ведет к зрелости, порче и разложению самое искусство, несмотря ни на какие случайности громадной людской толкотни, ни на какие неожиданные выходки или скачки личного своеобразия. Среда приносит или уносит с собой искусства, как более или менее значительное охлаждение воздуха осаждает или уничтожает росу, как более или менее слабый свет солнца питает или сушит зеленые части растений. Подобные же нравы, и в своем роде еще более совершенные, произвели некогда подобное же и еще более совершенное искусство в маленьких воинственных городах и в благородных гимназиях Древней Греции. Подобные нравы, но в своем роде несколько менее совершенные, водворялись в Испании, во Фландрии, даже во Франции, порождают там подобное же искусство, хотя, конечно, с уклонениями и изменениями, зависящими от изначальных способностей тех племен, куда они переходят; и отсюда можно, наверное, заключить, что для появления на сцене мира подобного опять искусства необходимо, чтобы поток времен установил наперед подобную же и среду.
ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА В НИДЕРЛАНДАХ
(Посвящается Гюставу Флоберу)
Отдел первый. Постоянные причины
Две группы народов в европейской цивилизации. — Итальянцы среди латинских народов. — Фламандцы и голландцы среди народов германских. — Национальный характер фламандского и голландского искусства.
В трех предыдущих курсах я излагал вам историю живописи в Италии; в этом году мне предстоит ознакомить вас с историей живописи в Нидерландах. Две группы народов были и остаются до сих пор главными деятелями новейшей цивилизации: с одной стороны, латинские или облатиненные народы, итальянцы, французы, испанцы и португальцы; с другой — народы германские, бельгийцы или фламандцы, голландцы, немцы, датчане, шведы, норвежцы, англичане, шотландцы и американцы. В группе латинских народов итальянцы, бесспорно, лучшие художники; в группе народов германских такими, конечно, являются фламандцы и голландцы, так что, изучая историю искусства у этих двух народов[33], мы изучаем историю новейшего искусства у самых крупных и противоположных его представителей.
Дело столь обширное и разнообразное, живопись, державшаяся около четырехсот лет, искусство, насчитывающее столько великих произведений и запечатлевшее их всеобщим и своеобразным характером, — такое дело прямо уже национально; оно тесно связано со всею жизнью народа, корень его в самом народном характере. Это — цвет, подготовленный издалека и из глубины выработкою жизненных соков, сообразно приобретенному строю и первичный природе принесшего тот цвет растения. По усвоенному нами методу мы наперед изучим ту заветную и предварительную историю, которая объяснит нам историю внешнюю и окончательную. Я сперва покажу вам зерно, т. е. породу или племя, с их основными неизгладимыми свойствами, проявляющимися при всех возможных обстоятельствах и во всех климатах; затем — растение, т. е. самый народ, с его изначальными качествами, разросшимися или, напротив, суженными впоследствии и уж во всяком случае приложенными к делу и видоизмененными его историей или его средой; и наконец, цвет, т. е. искусство, и именно живопись, которою все это развитие завершилось.
I
Племя. — Противоположность германских племен латинским. — Тело. — Животные инстинкты и способности. — Недостатки германских племен. — Преимущества их. — Наклонность к труду и к свободной ассоциации. — Потребность истины.
Люди, населяющие Нидерланды, принадлежат, большею частью, к тому племени, которое наводнило Римскую империю в V веке и тогда же впервые наряду с латинскими народами потребовало себе места в божьем мире. В некоторых краях, например в Галлии, Испании и Италии, они доставили только предводителей и поддержку первобытному населению. В других странах, например в Англии и Нидерландах, они прогнали, истребили и совершенно заменили собою прежних обитателей, и их чистая или почти чистая кровь течет и теперь в жилах людей, занимающих поныне эту местность. В продолжение всех средних веков Нидерланды назывались Нижней Германией. Бельгийский и голландский языки только ведь наречия немецкого, и за исключением Валлонской стороны, где говорят испорченным французским языком, они составляют народный говор всего края.
Рассмотрим черты, общие всему этому германскому племени, и разности, противопоставляющие его народам латинским. В физическом отношении мы находим более белое и мягкое тело, глаза обыкновенно голубые, часто цвета фаянсовой лазури или светлые, и чем севернее, тем светлее, а в Голландии стекловатые; волосы бледно-льняного цвета, почти белые у маленьких детей; еще древние римляне удивлялись этому и говорили, что у германских детей стариковские волосы. Цвет лица у молодых девушек пленительно-розовый, чрезвычайно нежный; у юношей, а иногда и пожилых людей он оживлен румянцем, обыкновенно же среди рабочих классов и в зрелом возрасте я встречал его бледноватым, брюквенным, а в Голландии похожим на цвет сыра, и притом еще не свежего, а уже поиспортившегося. Тело чаще всего большое, но неотесанное или слишком приземистое, тяжелое и некрасивое. Равно и черты лица зачастую неправильны, особенно в Голландии; они как-то взбуровлены, скулы торчат наружу и челюсти выступают напоказ. Вообще недостает скульптурной обточки и благородства. Вы редко встретите здесь правильные черты лица, каких много попадается вам в Тулузе и Бордо, красивые и гордые головы, какими изобилуют окрестности Флоренции и Рима; гораздо чаще найдете слишком крупные черты, какое-то неладное соединение форм и тонов, странные одутлости, ходячие карикатуры. Будь это произведения искусства, живые фигуры эти выдавали бы на каждом шагу капризную руку художника своим неправильным и вялым вместе рисунком.
Если теперь мы взглянем на это тело в его действии, то найдем, что способности и животные потребности его грубее, чем у латинцев; вещество и масса как будто преобладают в нем над движением и душой; оно прожорливо и даже кровожадно. Сравните аппетит англичанина или голландца с аппетитом француза или итальянца; пусть те из вас, кто бывал в тех краях, вспомнят общие столы и число блюд, в особенности мяса, какое преспокойно и по нескольку раз в день проглатывает себе какой-нибудь обитатель Лондона, Роттердама или Антверпена; в английских романах завтракают то и дело, и под конец третьего тома вы видите, что самые чувствительные героини истребили бездну поджаренных в масле тартинок, чашек чаю, кусков дичи и бутербродов с мясом. Этому немало содействует сам климат; под густым северным туманом невозможно поддержать свои силы одной чашкой супа, или ломтем хлеба, натертого луком, или полутарелкой макарон, как делает мужик латинского племени. В силу тех же причин германец любит крепкие напитки. Это заметил еще Тацит, а Луиджи Гвиччардини, свидетель XVI столетия, на которого придется сослаться еще раз, говорит о бельгийцах и голландцах: ’’Почти все они наклонны к пьянству и до страсти предаются этому пороку; здесь наливаются по горло под вечер, а иногда и с раннего утра’’. И теперь в Америке и в Европе, в большей части германских земель неумеренность — национальный недостаток; половина самоубийств и душевных болезней положительно происходит от него. Даже у людей среднего состояния и, вообще говоря, благоразумных влечение к крепким напиткам очень сильно. В Германии и Англии и благовоспитанному человеку не в укор выйти из-за стола навеселе; а по временам он напивается до самозабвенья; у нас это уже пятно, в Италии оно просто слывет позором; в Испании за последнее еще столетие одно название пьяницы считалось таким оскорблением, которого не могла смыть дуэль: удар ножом был в таком случае единственным ответом. Ничего подобного не услышите ни в одной германской стране. Бесчисленное множество полупивных, всегда набитых посетителями, громадный сбыт крепких напитков и всевозможных сортов пива свидетельствуют там о вкусах публики в этом отношении. Войдите в Амстердаме в одну из этих лавочек, полных лоснящимися бочками, где стакан за стаканом дуют водку, белую, желтую, зеленую, темную, часто приправленную простым либо индейским еще перцем. Сядьте часов в десять вечера в какой-нибудь брюссельской полупивной за один из тех темных столов, вокруг которых ходят продавцы морских раков, соленых булок и печеных яиц; взгляните, как эти люди, спокойно усевшись, каждый про себя, иной раз попарно, но чаще всего в полнейшем безмолвии, покуривая трубки и закусывая, опорожняют громадные кружки пива и подогревают их стаканчиком крепкого ликера по временам. Вы инстинктивно поймете то грубое чувство теплоты и животного довольства, каким наслаждаются они в одиночку, не проронив ни единого словца, по мере того как плотная пища и чрезмерно обильное питье обновляют в них ткани тела, и как все оно постепенно принимает участие в раздолье сытого и переполненного желудка.
В их внешности остается указать еще одну, последнюю черту, особенно поражающую уроженцев юга, — это их медленные, тяжеловатые впечатления и движения. Какой-то тулузец, продавец зонтиков в Амстердаме, почти бросился мне на шею, узнав, что я говорю по-французски, и целые четверть часа я должен был выслушивать его сетования. Для его живого темперамента туземцы были просто невыносимы: ’’Это мертвецы, деревяшки, ни одного человеческого движения, ни одного чувства — безжизненные, вялые, просто репа, сударь, репа как есть!” И в самом деле, его искренность и болтовня представляли решительную им противоположность. Когда вы говорите с ними, кажется, как будто они не могут сразу понять вас или как будто механизму их выражения надо некоторое время, чтобы пораскачаться и поразойтись; какой-нибудь сторож при музее или слуга в гостинице сперва постоят с минуту, разинув рот, а потом уже соберутся отвечать вам. В кофейнях и в вагонах флегматичность и неподвижность лиц просто поразительны; у них нет, по-нашему, потребности беспрестанно суетиться, говорить; по целым часам могут они сидеть как оцепенелые наедине со своими мыслями или со своей трубкой. На вечере в Амстердаме женщины, разрядившись, как куклы, неподвижно сидят в креслах, будто статуи. В Бельгии, в Германии, в Англии фигуры крестьян кажутся нам безжизненными, мертвыми или застывшими; один из моих приятелей, воротясь из Берлина, говорил: ’’Все эти люди выглядят мертвецами”. Даже у молодых девушек у всех какой-то чересчур наивный и заспанный вид; часто останавливался я перед стеклами какого-нибудь магазина, любуясь розовым, спокойно-милым и простосердечным лицом, средневековою мадонной, занятой модным рукодельем; это совершенная противоположность нашему югу и Италии, где глаза любой гризетки готовы завести разговор хоть со стульями, если нет вблизи живого существа, где мысль едва успеет зародиться и тут же переходит в жест. В германских странах все каналы чувства и выражения как будто бы засорились; все мгновенно восприимчивое, нежное, живоподвижное кажется здесь невозможным: заезжий южанин так и вопиет против здешней неуклюжести и неловкости; таково было общее впечатление всех французов во время революционных и имперских войн. Костюм и походка могут быть лучшими показателями в этом отношении, особенно если взять их в среднем или низшем классе. Сравните гризеток Рима и Болоньи, Парижа и Тулузы с большими механическими куклами, каких вы увидите по воскресеньям в Гамтонкорте, взгляните на эти туго накрахмаленные юбки, на эти фиолетовые шарфы, яркие шелки, золотые пояса, на всю эту выставку надутой и безвкусной роскоши. Я как раз припоминаю себе теперь два праздника: один — в Амстердаме, тут собрались богатые поселянки из Фрисландии, у всех голова закутана в трубообразный чепец, над которым как-то судорожно торчит шляпка кабриолетом, между тем как на висках и на лбу красуются по две золотых бляхи, настоящий металлический фронтон, и золотые же скрученные локоны обрамляют бледные и невзрачные лица; другой праздник — во Фрейбурге, что в Брисгау, там деревенские девушки стояли рядами на благонадежных ногах, как-то смутно глядя перед собой, в национальном наряде: черные, красные, зеленые и фиолетовые юбки, с резкими складками, как на готических статуях, раздутые спереди и сзади корсажи; рукава, нарочно раздутые толстою подкладкой и массивные, точно задняя четверть барана; стан, перетянутый чуть не под мышку; желтые и тусклые волосы, круто зачесанные кверху, а косы или шиньоны упрятаны в какую-то шитую золотом и серебром кису; над ней возвышалось оранжевою трубой нечто вроде мужской шляпы — странное украшение тела, словно вырубленного топором, напоминающее общим своим видом деревянный столб, размалеванный пестрыми красками. Короче, в этом племени животная сторона человека медлительнее и грубее, чем в латинском; можно, пожалуй, даже прямо счесть его за низшее в сравнении с итальянцем или южным французом, столь трезвыми и столь быстрыми умом, от природы мастерами говорить, болтать, передавать мысль свою мимикой, наделенными притом вкусом, чувством внешнего изящества и потому вдруг достигшими без особенных усилий культуры и образования, как, например, провансальцы в XII веке и флорентийцы в XIV.
Но мы не остановимся на этом первом взгляде: он дает нам только одну сторону предмета, не более; есть еще другая, неразлучная с нею сторона, как теневая неразлучна со светлою. Тонкий ум и скороспелость, свойственные латинским народам, сопряжены со многими дурными последствиями; они поселяют в них потребность приятных ощущений, и от того народы эти чересчур требовательны относительно счастья; им необходимы многочисленные, разнообразные, сильные или утонченные удовольствия, развлечения, беседы, учтивая вежливость в обращении, удовлетворение суетности, чувственная сторона любви, наслаждение всегда чем-нибудь новым и неожиданным, гармонические симметрии форм и даже самых оборотов речи; они легко становятся риторами, дилетантами, эпикурейцами, сластолюбцами, вольнодумцами, волокитами и суетными до конца ногтей. В самом деле, эти именно пороки развращают и губят их цивилизацию; вы встретите те же недостатки в эпоху падения Древней Греции и Древнего Рима, в Провансе в XII столетии, в Италии в XVI, в Испании в XVII и во Франции в XVIII столетии. Их темперамент, быстрее достигающий утонченности, быстрее преутончает и их самих. Они непременно хотят отведать изысканных ощущений и не могут удовлетвориться вялыми, обыденными; это люди, которые, привыкнув к апельсинам, бросают подальше от себя репу и морковь; и, однако ж, будничная наша жизнь вся ведь составляется из моркови, репы и других не очень вкусных овощей. В Италии одна знатная дама, глотая великолепное мороженое, заметила: ”А как, однако, жаль, что есть его не-грех”. Во Франции один знатный вельможа, рассказывая про какого-то беспутного дипломата, промолвил: ’’Как не обожать его? Он ведь так порочен!” С другой стороны, живость впечатлений и крайняя быстрота на все делают их импровизаторами; они слишком скоро и слишком сильно приходят в возбуждение; при всяком столкновении с вещами они как раз готовы забыть долг и рассудок, хватаются за нож в Италии, за ружья во
Франции; стало быть, они мало способны выжидать, подчиняться чему бы то ни было, соблюдать заведенные порядки. А для успеха в жизни необходимо уметь потерпеть, поскучать, делать и переделывать, начинать сызнова и продолжать начатое так, чтобы порыв гнева или вспышка воображения не останавливали и не отвлекали вас от урочного занятия. Одним словом, сопоставив их наклонности с настоящим ходом света, мы найдем, что он слишком для них механичен, однообразен и суров, а наклонности их признаем для него слишком живыми, восприимчивыми и блестящими. По истечении нескольких столетий этот коренной разлад всегда снова обнаруживается в их цивилизации; они требуют от вещей слишком уже много и, не умея вести себя как следует, не достигают даже и того, что вещи могли бы действительно им доставить.
Теперь устраните эти счастливые дары, а с другой стороны, эти невыгодные наклонности; вообразите себе на неповоротливом и тяжелом теле германца хорошо образованную голову, полное разумение и посмотрите, что из этого выйдет. Обладая не столь живою впечатлительностью, человек такого склада будет более степенен и рассудителен. При меньшей потребности приятных ощущений он, не скучая, может выполнять довольно скучные дела. Так как чувства его вообще суровее, он предпочтет сущность форме и внутреннюю правду приглядной внешности; будучи менее быстр в первых, он менее подвержен безрассудным вспышкам и нетерпению; у него всегда есть довольно выдержки, и он может быть настойчив в тех предприятиях, для которых необходимо время. Короче, разум у него хозяин над всем, потому что соблазнов извне у него меньше, а внутренние вспышки несравненно реже. В самом деле, рассмотрите германские народы, каковы они теперь и в течение всей их истории. Во-первых, они величайшие в свете труженики, работяги; с этой стороны, в области умственной работы, никто, конечно, не сравнится с немцами; за ними ученость, философия, знание самых трудных языков, великолепные издания, словари, сборники, классификация, лабораторные исследования; во всех возможных науках им принадлежит все, что требовало скучного и неприятного, но необходимого, подготовительного труда; с удивительным терпением и самоотвержением обтесывают они все камни новейшего здания. В области вещественного труда англичане, американцы и голландцы делают то же самое. Мне хотелось бы показать вам какого-нибудь английского отделщика материй или ткача как есть, за его работой; это совершенный автомат, работающий целый день, ни на минуту не отвлекаясь от дела, в десятом часу работы точно так же, как и в первом, все равно. Если он в одной мастерской с французскими рабочими, последние представляют разительную противоположность: они отнюдь не способны усвоить себе этой машинной точности; они скорее становятся невнимательными, скорее устают; поэтому к концу дня оказывается, что они сработали гораздо меньше: вместо тысячи восьмисот шпулек они пропустят каких-нибудь тысячу двести. Чем далее на юг, тем способность к труду становится меньше; провансальцу, итальянцу непременно надо поболтать, попеть, поплясать; он готов слоняться без дела и жить чем Бог пошлет, хотя бы для этого пришлось щеголять в очень и очень потертом платье. Праздность там кажется чем-то естественным и даже почетным. Благородная жизнь, т. е. лень человека, который не работает из гордости, живя впроголодь и кое-как, была истинным бичом Испании и Италии за два последние века. Напротив, в то же самое время фламандец, голландец, англичанин, немец ставили себе в особенную честь добывать трудом все полезное и нужное; инстинктивное отвращение простолюдина от труда и ребяческое тщеславие, побуждающее образованного человека не становиться на одну ногу с простым рабочим, уступили — и то и другое — перед их здравомыслием и умом.
Тот же ум и то же здравомыслие основывают и поддерживают у них разнообразные виды общественных отношений, и прежде всего брачный союз. Вы знаете, что он не слишком уважается у латинских народов: в Италии, в Испании, во Франции главным сюжетом театра и романа всегда было нарушение супружеской верности; литература по меньшей мере берет героем своим страсть, сосредоточивает на ней все симпатии и предоставляет ей всевозможные права. Напротив, в Англии роман — картина любви честной, добросовестной и восхваление брака; пустое волокитство считается в Германии недостойным делом даже между студентами. В латинских землях оно извиняется, допускается, а подчас вызывает и одобрение. Зависимость брачной жизни и однообразие семейного очага кажутся тяжкими. Обаяние чувств там слишком сильно, воображение прихотливо через меру; ум создает себе какую-то грезу небывалых наслаждений и восторгов или, по крайней мере, целый роман, полный живой и разнообразной чувственности; затем, при первом же удобном случае, едва сдерживаемый поток выходит из берегов, разрушая на пути всякий оплот долга и закона. Взгляните на Испанию, Италию, Францию в XVI столетии; прочтите повести Банделло, комедии Лопе де Вега, рассказы Брантома и в то же время прислушайтесь к замечаниям очевидца этой поры, Гвиччардини, о нравах нидерландцев: ’’Они ужасаются перед супружеской неверностью... Их жены ведут себя очень хорошо, хотя им предоставлена полная свобода”. Они одни ходят в гости и даже отправляются путешествовать, не возбуждая о себе злых толков; они сами себя охраняют, не нуждаясь ни в чьем надзоре со стороны. К тому же они истинные хозяйки и любят свой домашний быт. Еще недавно один богатый голландский дворянин рассказывал мне про молодых своих родственниц, которые не пожелали взглянуть на всемирную выставку и оставались дома, в то время как мужья и братья их ездили в Париж. Столь спокойная и сидячая натура немало содействует семейному счастью; вдали от приманок любопытства й от разгара вожделений влияние чистых идей, разумеется, сильнее; если прискучивает всегда оставаться с одним и тем же лицом, то воспоминание о данном обете, чувство долга и самоуважение легко одерживают верх над соблазнами, которые торжествуют в других странах, потому что они сильнее там. То же можно сказать и о других общественных союзах, в особенности о свободной ассоциации. Осуществление ее очень нелегко: чтобы механизм действовал правильно и без зацепки, необходим состав людей, обладающих спокойными нервами и проникнутых одною идеей общей цели. На митинге надо непременно быть терпеливым, хладнокровно выслушав противоречия и даже оскорбления, дожидаться очереди для ответа, возражать сдержанно, по двадцать раз кряду выслушивать одно и то же рассуждение, обставленное цифрами и -положительными документами. Не следует бросать газеты, как скоро политика перестанет быть интересною, заниматься ею из одного лишь удовольствия вести прения и разглагольствовать, восставать против начальников и вожаков, чуть только они нам не по нраву; так оно водится в Испании, да и в других краях; вы знаете ведь одну страну, где правительство низвергли только потому, что оно было недовольно деятельно и что народу ’’стало скучно”. У германских племен люди вступают в союзы не для того, чтобы говорить, а для того, чтобы действовать; политика — такое дело, которое непременно надо вести хорошо, к ней дельно и относятся, слова тут — только средство, не более; последствия, хотя бы и отдаленные, — вот цель. Германцы вполне подчиняются этой цели и относятся весьма уважительно к лицам, ее представляющим. Единственная в своем роде вещь! — здесь управляемые чтут управляющих; если же последние дурны, им сопротивляются, но всегда только законным путем и терпеливо; если плохи учреждения, их мало-помалу исправляют, но никогда не ломают сразу, вдруг. Германские края — отечество свободного и парламентарного управления; вы видите его теперь в Швеции, Норвегии (Дании), Англии, Бельгии, Голландии, в Пруссии, даже в Австрии; поселенцы, обрабатывающие материк Австралии и запад Америки, пересаживают туда с собою и учреждения; и как ни грубы эти пришельцы, свободные порядки сразу у них принимаются и держатся без всякого труда; вы встретите их в первобытнейшую пору Бельгии и Голландии: старые нидерландские города все были республики и отстаивали себя в этом виде в течение всех средних веков, наперекор феодальным своим владыкам. Свободная ассоциация вводится и поддерживается там сразу и очень легко, мелкая точно так же, как и крупная, и мелкая притом в точных пределах крупной. В XVI столетии мы находим в каждом городе, в каждом даже местечке общества или артели стрелков, общества или артели риторов; всего их насчитывают более двухсот. Да и теперь еще в Бельгии процветает множество подобных ассоциаций: общества стрельбы из лука, общества пения, общества для развода голубей, певчих птиц и т. п. В Голландии частные лица добровольно вступают между собой в союзы для заведования всеми делами общественной благотворительности. Действовать сообща так, чтобы при этом ни один не теснил другого, — вот способность чисто уже германская; это тот же самый талант, который так сильно помогает им овладевать вещественными средствами, материей, — уменье терпеливо и рассудительно приноровляться к законам физической и человеческой природы и извлекать из них для себя пользу, вместо того чтобы очертя голову идти им наперекор.
Теперь, если от внешней деятельности мы перейдем к умозрительной, к образу понимания и представления себе ими окружающего мира, то увидим и тут печать той же прирожденной обдуманности и то же отсутствие чувственных увлечений. Латинские народы обладают необыкновенно живым вкусом к внешней обстановке, к декоративной стороне вещей, к стройному распорядку — короче, к форме. Напротив, германские народы более дорожат сущностью вещей, самой истиной, т. е. основным содержанием. Племенной инстинкт внушает нам не гнаться за наружным блеском, а всегда стараться приподнять завесу, схватить именно то, что за нею скрыто, как бы ни было оно горько и отвратительно, не исключая и не смягчая в нем ни одной черты, хотя бы даже пошлой и противной. Между многими порожденными этим инстинктом явлениями два в особенности выставляют его в полном свете, так как противоположность формы с сущностью нигде именно так не видна, как в них: я говорю о литературе и верованиях. Литературы латинских народов все сплошь классические и находятся в более или менее близкой связи с поэзией греков, с римским красноречием, с элементами итальянского возрождения и века Людовика XVI; они стараются очистить и облагородить свой сюжет, всячески его изукрасить, отсечь от него все лишнее, привести его в стройный порядок и соразмерность. Последним их созданием является театр Расина — этого живописца царственных приемов и придворных приличий, образованных светских людей, этого мастера ораторского слога, обдуманной композиции, литературного изящества. Напротив, литературные произведения германцев прямо романтические, и первый корень их мы находим в Эдде и древнесеверных былинах, или сагах; величайшим их созданием является театр Шекспира, т. е. нагое и полное изображение действительной жизни со всеми ужасными, гнусными и плоскими подробностями, со всеми высокими и грубыми инстинктами, со всеми крайностями человеческой природы, живописуемой слогом то простым до тривиальности, то поэтическим до лиризма, не зависящим ни от каких правил, бессвязным, преувеличенным, но необыкновенно могучим на передачу любой душе той еще горячей и животрепетной страсти, которая выливается тут из сердечной глубины. Возьмите также религию и рассмотрите ее в ту решительную минуту, когда европейские народы были призваны избрать для себя то либо другое верование, рассмотрите ее в XVI веке: кто читал подлинные документы, тот знает очень хорошо, в чем, собственно, заключалось тогда дело, какие сокровенные причины руководили одними в предпочтении старой колеи и другими в избрании новой. Латинские народы все до одного остались католиками: они не захотели выйти из своих умственных, духовных привычек, были верны преданию и подвластны авторитету; до того их увлекали обаяние внешней обстановки, пышность богослужения, стройный порядок духовной иерархии, величавая идея католического вековечного единства; они придали особенную важность обрядам, тем наружным и видимым для всех действиям, в каких проявляется набожность. Напротив, почти все германские народы сделались протестантами. Если Бельгия, наклонная к реформе, тем не менее отстала от нее, то это благодаря лишь силе, победам Фарнезе, смерти и бегству многйх протестантских семейств и тому особенному нравственному перелому, какой вы увидите в истории Рубенса. Прочие германские народы внешний культ подчинили внутреннему; спасение свое они видели в обращении сердца путем растроганных в нем религиозных чувств; официальный авторитет церкви преклонился у них перед личным убеждением каждой особи; в силу такого преобладания внутреннего содержания над формою последняя заняла второстепенное уже место, внешнее богослужение и обряд отодвинулись на задний план. Мы сейчас увидим, что в искусстве та же противоположность инстинктов произвела во вкусе и стиле соответственный этому контраст. Пока нам достаточно уловить основные черты, отличающие оба племени одно от другого. Если второе, в сравнении с первым, представляет форму менее скульптурную, более грубые наклонности и не столь подвижный темперамент, зато, благодаря спокойствию своих нервов и холодности своей крови, оно скорее поддается внушениям разума; его мысль, менее совращаемая с прямой дороги соблазном чувственного наслаждения, порывами неудержной импровизации, очарованием внешней красоты, лучше умеет приноровиться в действительности, как для того, чтобы понять ее, так и для того, чтобы направлять согласно своим целям.
II
Народ. — Влияние климата и почвы. — Физические свойства Нидерландов. — Образование положительного ума и спокойного характера. — Пределы философского и литературного духа. — Раннее усовершенствование полезных искусств. — Практические изобретения. — Внешняя обстановка, нравы и вкусы.
Племя, таким образом наделенное от природы, запечатлелось различными влияниями, смотря по различным средам, в каких приходилось ему жить. Посейте несколько зерен одного и того же растительного вида в разные почвы и под разными температурами; дайте им приняться, подрасти, принести плод, воспроизвестись бесконечное число раз каждому в своей местности; любое зерно приурочится к своей почве, и у вас выйдет несколько подвидов одного и того же вида, тем более различных, чем сильнее противоположности климатов. Такова история германского племени в Нидерландах; тысячелетнее жительство сделало там свое дело; к концу средневековья мы находим в этом племени, сверх врожденного характера, и характер приобретенный, нажитой.
Итак, нам следует начать свои наблюдения с почвы и с неба; за невозможностью побывать на местах взгляните, по крайней мере, хоть на карту. Кроме гористого юго-восточного круга, Нидерланды представляют равнину, чуть не всю затопленную водой: три большие реки, Маас, Рейн, Шельда, и множество маленьких образовали ее своими наносами. Прибавьте к этому притоки, пруды, многочисленные болота; страна служит вся стоком для огромного количества вод, которые, прибыв туда, замедляют свое течение или делаются стоячими за недостатком спуска. Прокопайте яму где хотите, оттуда покажется вода. Взглянув на пейзажи ван дер Неера, вы составите себе понятие об этих широких, лениво струящихся реках, которые, приближаясь к морю, разливаются в ширину версты на три или четыре; они дремлют в своем русле, как какая-нибудь громадная, плоская и клейкая рыба: бледные, тенистые, сверкают они по временам оттенками своей тусклой чешуи; равнина местами ниже их и ограждена от наводнения только земляными плотинами; так и чудится, что вот-вот они хлынут из берегов; от поверхности их беспрестанно идет пар, а ночью при свете месяца густой туман одевает всю окрестность синеватой влагой. Проследите их вплоть до моря; там другой, еще сильнейший приток воды, ежедневно поднимаемый приливами, довершает действие первого притока. Северный океан враждебен человеку. Припомните Свайные постройки (Estacade) Рейсдала и представьте себе те частые бури, которые бросают грязные волны и чудовищные гребни пены на этот клочок плоской земли, уже полузатопленной рекоразливом. Целый пояс островов, из которых иные в половину французского департамента, указывает по всему берегу на этот приток речных вод и на этот напор моря — Валкерен, северный и южный Бевланд, Толен, Шувен, Ворн, Бейерланд, Тексель, Влиланд и др. Подчас океан все-таки вторгается и образует внутренние моря, например Гарлемское озеро, или глубокие заливы, каков Зюдерзеэ. Если Бельгия — наносная земля, вся намытая реками, то Голландия не более как куча грязи среди вод. Добавьте к этой негостеприимной почве суровый климат — и вы, пожалуй, придете к заключению, что страна эта назначена не для людей, а скорее для бобров и для болотной птицы.
Когда первые германские племена водворились здесь, она, конечно, была еще хуже. Во время Цезаря и Страбона это был сплошной топкий лес; путешественники говорили, что всю Голландию можно пройти с дерева на дерево, вовсе и не касаясь земли. Вырванные с корнем дубы, падая в реки, сцеплялись в виде плотов, как теперь на Миссисипи, и немало затрудняли этим движение римских флотилий. Каждый год Ваал, Маас и Шельда выходили из берегов и заливали на далекое пространство плоскую равнину. Каждый год осенняя буря потопляла остров Батавов; в Голландии очертания берегов изменялись беспрестанно. Дождь шел без умолку, а туман стоял такой же непроницаемо-густой, как в бывшей русской Америке; день длился не более трех или четырех часов. Толстый слой льда покрывал Рейн ежегодно. Цивилизация, распахивая грунт, всегда смягчает и температуру воздуха; дикая Голландия по климату подходила тогда к Норвегии. Четыре века по вторжении германцев Фландрия слыла еще ’’бесконечным и непроходимым лесом”. В 1197 году округ Ваас (Waes), ныне сплошной цветущий огород, стоял совершенно необработанным, и водворившимся там монахам не было житья от волков. В XIV веке в лесах Голландии бродили еще табуны диких лошадей. Море беспрепятственно захватывало сушу: Гент был приморским портом в IX веке, Теруан, Сент-Омер и Брюгге — в XII, Дам — в XIII и Слёйс — в XIV в. Рассматривая Голландию на древних картах, вы просто ее не узнаете[34]. Поныне жители вынуждены ограждать землю от рек и моря. В Бельгии береговая линия ниже уровня прилива, и отвоеванные у моря ’’польдеры” простирают свои обширные глинистые луговины, свою вязкую с фиолетовым отливом почву между плотинами, которые даже и в наше время иногда прорывает напор вод. В Голландии опасности еще больше, и вся жизнь далеко не обеспечена. В течение тринадцати столетий там насчитывают средним числом на каждые семь лет по одному значительному наводнению, не говоря о мелких; 100 000 человек утонуло в 1230 году, 80 777 — в 1287-м, 20 000 — в 1470-м, 30 000 — в 1570-м, 12 000 — в 1717-м. В 1776, 1808, 1825 годах и еще позднее также бывали подобные несчастья. Бухта Доллард в 12 километров шириной и в 35 длиной, Зюдерзеэ в 44 (французских) квадратных мили пространства образовались вследствие моревторжений в XIII столетии. Чтобы оградить Фризию, понадобилось на 22 мили свай, в три ряда, по семи гульденов каждая свая. Чтобы защитить гарлемский берег, потребовался оплот из норвежского гранита длиною в 8 километров, вышиною в 40 футов и погруженный на 200 футов в море. Амстердам со своими 260 000 жителей весь построен на сваях, длина которых доходит иногда до 30 футов. Все места, на которых стоят города и села в Фризии — сплошь искусственные сооружения. Полагают, что все оборонительные постройки между Шельдой и Доллардом стоили до семи с половиной миллиардов. Вот во что обходится жизнь в Голландии; а иногда из Гарлема или Амстердама увидишь, как бурливо-громадный, грязно-желтый прилив подступает к ничтожной кромке грязи, противопоставленной ему на всем видимом протяжении; нельзя не согласиться, что, бросив чудовищу эту жертву, человек отделывается от него еще дешевою ценой.
Теперь представьте себе, как на этой зыбкой трясине, одетые в камлеи из тюленьих шкур, древние германские племена рыбачат и охотятся в своих кожаных байдарах, и сообразите, если можно, ту массу усилий, какую должны были употребить эти варвары, чтобы устроить себе наконец обитаемую почву и самим превратиться в образованный народ. Люди с иным характером никогда бы не дошли до этого — так страшно неблагоприятна была среда. При подобных же условиях низшие по природе племена в Канаде и в (прежней) русской Америке остались дикарями; другие, даровитые даже, народы, ирландские и горношотландские кельты например, успели выработать себе только рыцарские нравы и поэтические легенды, не более. Здесь же нужны были дельно мыслящие головы, способные подчинить ощущение идее, терпеливо переносить и скуку, и усталость, преодолевать всевозможные лишения и труды ввиду отдаленной еще цели — короче, здесь нужны были германцы: люди, созданные на то, чтобы смыкаться в дружные союзы, работать, вести борьбу, то и дело начинать сызнова и неустанно добиваться цели, обрамлять реки плотинами, сдерживать море, осушать почву, пользоваться ветром, водой, плоским грунтом, глинистой грязью, сооружать каналы, строить корабли, выделывать кирпич, заводить домашний скот, всяческие промыслы и мены. Ввиду величайшей трудности на преодоление ее были направлены все мысли; они всецело обращены были в эту сторону, а потому и должны были отвернуться от всего остального. Забота о существовании, об устройстве себе приюта, об одежде, прокормлении, об охране себя от холода и сырости, о заготовке впрок съестных припасов, о том, чтобы разбогатеть, — вот на что уходило все их время; ум принял безусловно положительное и практическое направление. В такой стране не до того, чтобы мечтать и философствовать на немецкий лад, блуждать в области химерических фантазий и метафизических систем. Окружающее тотчас же сведет вас с облаков на землю; призыв в деятельности слишком повсеместён, слишком настоятелен и беспрерывен; если кто здесь когда и думает, то для того лишь, чтобы действовать. Под этим вековечным гнетом слагается характер; привычки обращаются наконец в инстинкт; форма, добытая отцом, становится у сына уже наследственной; работник, мастеровой, торговец, делец, хозяин, здравомыслящий человек, да и только, — вот чем становится он от рождения и без труда, тогда как его предки добивались всего этого по необходимости и часто поневоле.
С другой стороны, этот положительный ум отличается спокойствием. Сравните нидерландца с другими одноплеменными ему народами, и вы найдете, что он как-то лучше уравновешен и более способен быть довольным. В нем не видно тех рьяных страстей, того боевого настроения, той напряженной воли, тех мордашечьих, бульдожьих инстинктов, той величаво-мрачной гордости, какими три прочные завоевания и вековое наследие политической борьбы наделили англичан. В нем не видно того тревожного чувства и той жажды деятельности, какие сухость воздуха, резкие переходы от тепла к холоду и обилие электричества укоренили в американцах Соединенных Штатов. Он живет в сыром и однообразном климате, ослабляющем или, точнее, распускающем нервы, развивающем лимфатический темперамент, умеряющем вспышки нетерпения, взрывы и пыль души, притупляющем рьяность страстей и обращающем характер больше к чувственности и к веселости. Вы встречались с подобным же климатическим влиянием, когда мы сравнивали гений и искусство венецианцев с гением и искусством флорентинцев. Здесь, впрочем, и события пришли на помощь климату, история действовала с физиологией заодно. Люди этих стран не испытали, как заморские их соседи, двух или трех нашествий, вторжений целого народа, саксов, датчан, нормандцев, водворившихся на земле тех. Они не унаследовали той ненависти, какую тяжкий гнет, сопротивление, раздражение, продолжительные усилия, борьба сперва открытая и жестокая, потом глухая и законная передают из рода в род. С древнейших пор мы уже видим их, как во времена Плиния, добывающими себе соль, ’’соединенными, по стародавнему обычаю, в товарищества или артели для обработки болотистой земли”[35], свободными в своих гильдиях, отстаивающими независимость, самосуд, древнейшие права свои, занятыми крупным рыболовством, торговлей и промышленностью, величающими города свои именем портов, короче — такими, какими Гвиччардини находит их в XVI столетии, ’’весьма падкими к наживе и зоркими ко всякому барышу”; но и в этом нет у них, однако же, ничего лихорадочного или безрассудного. ’’Они покойны и совершенно степенны характером. При случае благоразумно пользуются и богатством, и другими мирскими благами, но нелегко выходят из себя, что сейчас же видно по их речам и лицам. Они не слишком склонны ни к гневу, ни к гордости и живут между собой, как следует добрым людям, и особенно отличаются веселым и шутливым расположением”. По его мнению, у них вовсе нет искательного и непомерного честолюбия; многие из них рано покидают дела, занимаются постройками, развлечениями и живут в свое удовольствие. Все физические и нравственные обстоятельства, география и политика, настоящее и прошлое — все содействовало одному и тому же результату: развитию в них одной способности и одной наклонности в ущерб, конечно, остальным — умения вести себя и сердечного благоразумия, практического соображения и ограниченности желаний; они мастера улучшать действительный, реальный мир и не ищут затем ничего больше.
В самом деле, взгляните на их произведения: своим совершенством и своими недостатками они обнаруживают в одно и то же время и пределы, и могучие способности их ума. У них нет великой философии, которая так естественна в Германии, великой поэзии, которая так пышно расцвела в Англии. Они не умеют забыть чувственных вещей и положительных интересов, с тем чтобы отдаться чистому умозрению, последовать за смелым ходом логики, пуститься во все тонкости анализа, уйти в самую глубь отвлеченной мысли. Они не знают тех душевных волнений и той бури подавленных чувств, которые сообщают слогу трагический отпечаток; они не знают тех беспредельных фантазий, тех чудных или возвышенных грез, которые, поднявшись над пошлостями жизни, открывают новый мир перед мечтателем. У них нет ни одного философа крупного разбора; их Спиноза — еврей, ученик Декарта и раввинов, одинокий, разобщенный от сограждан и духом и племенем. Ни одна их книга не стала общеевропейской, как произведения Камоэнса, Бернса, которые, однако, произошли среди столь же небольших народов. Одного только из их писателей читали все люди его века, именно Эразма Роттердамского, утонченного литератора, но писавшего на латинском языке и по своему воспитанию, своим вкусам, слогу и идеям принадлежащего к семье гуманистов и ученых Италии. Старинные голландские поэты, например Якоб Кате, являются серьезными, рассудительными, немножко растянутыми моралистами, восхваляющими радости сердца и тихую семейную жизнь. Фламандские поэты XIII и XIV веков заранее объявляют своим слушателям, что они станут рассказывать им не рыцарские басни, а истинные происшествия, и перелагают в стихи практические изречения или случаи современной действительности. Их так называемые риторские школы напрасно обрабатывали и выводили на сцену поэзию: ни один талант не извлек из этого материала великого и прекрасного произведения. У них выдавались хроникеры, каков Шателен, и памфлетисты, как Марникс де Сент-Альдегонд; но вялый рассказ их всегда напыщен; их тяжелое, сыромятное и резкое красноречие напоминает грубоватый колорит и энергическую тяжеловесность национальной их живописи, хотя, конечно, и не может равняться с ней. В настоящее время литература их почти, можно сказать, ничтожна. Их единственный романист Консианс хотя и изрядный наблюдатель, однако же очень тяжел и пошловат, на наш вкус. Попавши в их сторону и взглянув в их газеты, по крайней мере в те, которые фабрикуются не в Париже, подумаешь, что заехал в провинцию или куда-то еще подальше; полемика в них груба, риторические прикрасы устарели, шутки дубоваты, все остроты притуплены; тут ничего нет, кроме плоской веселости или грубого озлобления; самые карикатуры кажутся нам аляповатыми. Захотите вы определить долю их участия в великом здании современной мысли, вы найдете, что кропотливо, методически, как подобает честным и добрым рабочим, они обтесали несколько камней, — вот и все. Они могут привести ученую филологическую школу в Лейдене, юрисконсультов, как Гуго Гроций, таких натуралистов и врачей, как Левенгук, Сваммердам и Бургаве, таких физиков, как Гюйгенс, таких космографов, как Ортелий и Меркатор, — короче, известный подбор специалистов полезностей, но не укажут вам творческих гениев, открывающих великие и самобытные воззрения на мир или оправляющих свои замыслы в прекрасные, для всех обаятельные формы. Соседним народам предоставили они ту роль, какую исполняла у ног Иисуса Христа созерцательная Мария, а для себя избрали роль Марфы домостроительной; в XVII столетии они доставили кафедры изгнанным из Франции протестантским ученым, дали у себя приют преследуемой во всей Европе свободной мысли, нашли издателей для всех научных и полемических книг; позже они печатали всю французскую философию XVIII века, выставили книгопродавцов, сводчиков и даже подпечатчиков для новейшей литературы вообще. Изо всего этого они извлекают себе пользу: они знают языки, читают и приобретают образование; а это такое богатство, которым никому не мешает запастись. Но далее этого они не идут; ни прежние, ни нынешние их произведения не обличают в них потребности созерцать мир отвлеченный за пределом мира чувственного и мир фантазии за пределом мира реального.
Напротив, они всегда преуспевали, да преуспевают и теперь, во всех искусствах, называемых полезными. ’’Первые по ту сторону Альпов, — говорит Гвиччардини, — они изобрели шерстяные ткани”. Вплоть до 1404 года они одни умели ткать и выделывать их; Англия снабжала их шерстью; англичане только и знали тогда, что разводить и стричь овец. К концу XVI века — единственный в тогдашней Европе пример — ’’почти все они, даже и крестьяне, умеют читать и писать; большая часть знает притом грамматические правила”. Оттого риторские школы, т. е. общества красноречия и театральной игры, распространились даже в местечках, что уже показывает, до какой степени совершенства довели они свою цивилизацию. ’’Они обладают, — говорит Гвиччардини, — особенным талантом и удачей в быстром изобретении всяких машин, остроумно приспособленных к облегчению, ускорению и выполнению всего, что они ни делают, даже и по части кухни”. Сказать правду, они первые наряду с итальянцами достигли в Европе благосостояния, богатства, безопасности, свободы, жизненных удобств и всех тех благ, которые теперь кажутся нам уделом новейшего только времени. В XIII веке какой-нибудь Брюгге стоил Венеции; в XVI — Антверпен был промышленной и торговой столицей Севера. Гвиччардини не нахвалится этим городом, а он видел его только уже ведь в полном упадке, снова завоеванным герцогом Пармою, после страшной осады 1585 года. В XVII веке Голландия, оставаясь свободной, в течение целого столетия занимает то место, какое в нашу пору принадлежит Англии; Фландрия сколько раз ни попадала в руки испанцев, сколько ни попиралась во всех войнах Людовика XIV, как часто ни отдавалась на жертву Австрии, как ни служила побоищем для французских революционных войн, никогда не опускалась до уровня с Италией или Испанией; то полублагоденствие, каким пользовалась она, несмотря на погромы частых нашествий и на неловкий деспотизм незваных владык, обнаруживает всю энергию ее живучего здравомыслия и всю плодотворность в ней прилежного труда.
Теперь из всех европейских стран Бельгия кормит на одинаковом пространстве самое большее число жителей; вдвое больше Франции, и самый населенный из наших департаментов, Северный, — это оторванный от Бельгии же Людовиком XIV клочок. Уже близ Лилля и Дуэ раскидывается бесконечным кругом до пределов горизонта сплошной обширный огород — плодоносный и толстый слой земли, испещренный бледноцветною лозой, полями мака и тяжелолистной свекловицы, — над которым наседкою налег низкий свод теплых небес, переполненный испарениями. Между Брюсселем и Мехеленом начинается необъятный луг, исполосованный рядами тополей, пересеченный мокрыми рвами и большими газонами, где круглый год пасется скот, — это неисчерпаемый источник кормовых трав, молока, сыра и говядины. В соседстве Гента и Брюгге округ Ваас — ’’классическая страна земледелия”, которое поддерживается удобрением, собираемым отовсюду черноземом, доставляемым даже из Зеландии. Равным образом Голландия — все сплошное пастбище, с такой естественной обработкой, которая не истощает, а только обновляет почву, доставляя владельцам дивное обилие произведений и приготовляя самое питательное продовольствие потребителям. В Голландии, в Вейкслоте, есть хозяева коровьих стад, разжившиеся на миллионы; Нидерланды во все времена казались заезжему иностранцу родиной изобилия и всякой пищи. Если от земледелия вы обратитесь к промышленности, то повсюду встретите уменье разработать и полезно употребить любую вещь. У них и препятствия-то обращаются во вспомогательные средства. Земля была плоска, затоплена водой; они воспользовались этим, чтобы покрыть ее каналами и железными дорогами; нигде в Европе нет такого множества путей сообщения и транспорта. Недоставало им дров, — они прорылись в глубь земли, и бельгийские каменноугольные копи так же богаты, как и английские. Реки затрудняли их своими разливами, а внутренние озера отнимали у них часть пахоты; они осушили озера и заперли реки в плотины, воспользовавшись тучными наносами, постепенными осадками ила, который воды разнесли по поверхности их страны. Каналы мерзнут у них зимою — они пробегают по ним на коньках до двадцати верст в час (по пять лье). Море угрожало им; смиривши его, они воспользовались им для торговли со всеми народами. Ветер неудержно бушевал по их плоской стране и по волнующейся равнине океана — они употребили его в дело, чтобы надувать паруса своих судов и приводить в движение крылья своих мельниц. В Голландии на каждом повороте пути вы увидите одну из тех громадных построек, во сто футов вышиной, с зубчатыми шестернями, машинами, насосами для выкачивания излишней воды, для пилки бревен, для бойки семенного масла. С палубы парохода перед Амстердамом, насколько обнимает глаз, вы видите бесконечную сеть паутины, сплошную тонкую, многосложную бахрому судовых мачт и мельничных крыльев, опоясывающих бесчисленными рядами весь горизонт. Побывав там, вы вынесете впечатление, что это — край, снизу до верху переделанный рукою и искусством человека, весь сработанный им вновь, как нарочно, для того, чтобы стать возможно удобным и производительным.
Пойдем далее, подступим к человеку и взглянем на первое из всей окружающей его обстановки — именно на его жилье. В крае нет ни одного камня; под рукой была только липкая земля, в которой вязли люди и лошади. Но им пришло в голову пережигать ее, и вот они добыли себе кирпич и черепицу — лучшую охрану против мокроты. Вы видите удобные и приятные на взгляд постройки, стены красные, коричневые, розовые, покрытые блестящей штукатуркой, белые и изразцовые фасады, иногда украшенные лепными цветами и животными, медальонами и колонками. В старых городах выходящий на улицу конек дома часто разукрашен аркадами, древесными ветвями и разной лепной работой, с изображением птицы, яблока или каким-нибудь бюстом на самом верху; дом этот не составляет, как в наших городах, только продолжения смежного с ним соседского, участок — одной общей сплошной казармы, но стоит особняком, отличаясь своим собственным характером, интересным и вместе живописным. Все это содержится как нельзя лучше и опрятнее; в Дуэ даже и беднейшие домовладельцы ежегодно белят свои дома снаружи и внутри и с рабочими для этого необходимо договариваться за полгода по крайней мере. В Антверпене, Генте, Брюгге, а особенно в мелких городах большая часть фасадов всегда кажутся как бы только что окрашенными или подновленными очень недавно. Везде то и дело моют и метут. Но, подъезжая к Голландии, вы видите, что заботы о чистоте еще удвоились и просто уж переходят в крайность. С пяти часов утра начинается мытье тротуаров служанками. В окрестностях Амстердама деревни точно декорации Комической оперы — до того они все нарядны и вычищены. Есть коровники, где пол настоящий паркет, куда и вас не пустят иначе, как в туфлях или деревянных башмаках, нарочно для того поставленных при входе; грязное пятно показалось бы там скандалом, а о навозе нечего и говорить; коровьи хвосты бережно приподняты на веревочке, чтобы предохранить их от малейшей нечистоты. Повозкам запрещен въезд в деревню; тротуары из кирпича и голубоватых изразцов безукоризненнее любой нашей передней. Осенью ребятишки собирают по улицам опавшие листья и прячут их в какую-нибудь нору. Везде в маленьких комнатках, похожих на корабельные каюты, порядок и расположение те же самые, что и на судах. В Брукке есть, говорят, в любом доме одна парадная горница, куда входят только раз в неделю, чтобы обмести пыль и обтереть мебель, а потом тотчас же и запирают ее опять наглухо: в таком влажном крае всякое пятно скоро превращается во вредную плесень; человек, вынужденный к боязливой опрятности, понемногу свыкается с ней, чувствует в ней потребность и, наконец, становится ее рабом. Но вы с удовольствием увидите во всяком переулке Амстердама, в самой скромной лавочке ее крашенные бочонки, ее чистую конторку, опрятные скамьи, каждую вещь на своем месте, так что ни малейший уголок не пропадает даром и все расположено с толком и как нельзя удобнее. Еще Гвиччардини замечал, что ”их дома и платья опрятны, красивы и хорошо убраны, что у них много мебели, хозяйственных орудий и домашнего скарба, содержимых в порядке и изумительной чистоте”, лучше, нежели в каком бы то ни было другом крае. Надо видеть удобство помещений, особенно в домах горожан: ковры, клеенки для паркетов, экономичные печи, железные или изразцовые, тройные занавесы у окон; чистые, блестящие стекла в черных лоснящихся рамах, вазы с цветущими розами и зеленью, пропасть безделушек, обличающих вкус к домоседной жизни и делающих ее приятною, зеркала, расположенные так, чтобы в них отражались прохожие и все, что ни делается на улице. Каждая подробность указывает на какое-нибудь устраненное неудобство, на какую-нибудь удовлетворенную надобность, на какую-нибудь заранее подготовленную приятность — короче, на повсеместное господство предусмотрительной заботы и благоустройства, доходящего до последних мелочей-
Да, человек там и действительно таков, каким он проявляется во всей своей обстановке. С таким характером и душевным расположением он наслаждается и умеет наслаждаться. Плодородная земля снабжает его обильной пищей, говядиной, рыбой, овощами, пивом, водкой; он ест и пьет много, и германский аппетит, значительно утончаясь, но отнюдь не уменьшаясь, в Бельгии превращается уже в гастрономическую сладострастность. Кухня там мастерская и превосходна даже в так называемых общих столовых; они едва ли не лучшие в Европе. В Монсе есть гостиницы, куда по субботам стекаются жители окрестных городов только для того, чтобы хорошенько пообедать. У них нет своего вина, но они вывозят его из Германии и Франции и хвастаются тем, что пьют самые лучшие сорта его; по их мнению, мы, французы, не довольно внимательны к своим винам; надо быть бельгийцем, чтобы беречь и держать их как следует. Нет ни одной значительной гостиницы, где не было бы разнообразного и отборного склада вин; склад этот — ее слава и лучшая приманка для публики; в вагоне зачастую ведутся оживленные споры насчет достоинства двух соперничающих между собою погребов. У иного расчетливого купца зарыто в песке подвала до двенадцати тысяч бутылок, расставленных в порядке по сортам, — это его ’’библиотека”. Иной голова маленького голландского городка обладает бочкою настоящего иоганнисбергера, припасенного в урожайный год, и эта бочка — новый повод к почету для ее хозяина. Там человек, задающий обед, умеет подобрать вина таким образом, чтобы не притупить вкуса своих гостей и заставить их выпить как можно побольше. По части приятного для уха и для глаза они столько же знают толк, как и в том, что относится до нёба и желудка. Они инстинктивно любят музыку, тогда как мы, французы, доходим до вкуса к ней разве что только путем воспитания. В XVI столетии они первенствовали в этом искусстве; Гвиччардини говорит, что их певцы и инструменталисты нарасхват забирались ко всем христианским дворам; за границей их профессора были записными учителями музыки, их композиции принимались за закон. И теперь еще главное музыкальное дарование, способность исполнять многоголосные партии, встречаются между ними даже у простолюдинов; углекопы составляют промеж себя хоровые общества, я слышал рабочих в Брюсселе и Антверпене, конопатчиков и простых матросов в Амстердаме, распевающих хором за работой или на улице при возвращении вечером домой. Нет ни одного значительного города в Бельгии, где устроенный на городской башне бой не забавлял бы каждые четверть часа ремесленника за его станком и торговца в его лавке странными гармониями своих металлических звуков (курантами). Их ратуши, фасады их домов, их старинные кубки своими затейливыми украшениями и перепутанными линиями, своим оригинальным и фантастическим подчас замыслом, очевидно, рассчитаны на приятное впечатление для глаз. Прибавьте к этому яркий или хорошо подобранный тон кирпичей, из которых выводятся стены, роскошные, темные и красные оттенки, вперемежку с белым, какими щеголяют кровли и фасады домов; несомненно, что нидерландские города столь же живописны в своем роде, как и итальянские. Там всегда любили храмовые базары или торги (кермессы), праздники Геяна, торжественные хоры корпораций, выставку нарядных тканей и одежд; я покажу вам (на тогдашних картинах) чисто итальянское великолепие въездов и церемониалов XV и XVI веков. Жители этого края, очевидно, не только обжоры, но еще и лакомки в стремлении хорошо пожить: степенно, правильно, покойно, без энтузиазма и лихорадки воспринимают они все отрадные гармонии вкуса, звуков, красок и форм, рождающиеся из среды их благоденствия и богатства, как роскошные тюльпаны возрастают из их рыхлых цветников. Все это отзывается, пожалуй, не очень далеким здравомыслием и счастьем, маленько грубоватым, на наш вкус; у француза все это скоро вызовет зевоту, но он был бы тут не совсем прав. Эта цивилизация, кажущаяся ему аляповатою и вульгарною, все-таки отличается тем единственным в своем роде достоинством, что она по крайней мере здорова; живущие здесь люди пользуются таким даром, которого преимущественно недостает нам, — именно благоразумием, и такою за него наградой, которой мы уж вовсе не заслужили, — довольством.
III
Искусство. — Низшая степень развития живописи у других германских племен. — Причины ее слабости в Германии и Англии. — Превосходство живописи в Нидерландах. — Причины такого превосходства. — Ее характерные черты. — В чем именно она германская. — В чем она народна. — Преобладание колорита. — Причина этого преобладания. — Сходство между климатом Венеции и климатом Нидерландов. — Различие между этими двумя климатами. — Соответствие тому сходства и разности у живописцев. — Рубенс и Рембрандт.
Таков в этом крае растение-человек; нам остается еще рассмотреть цвет его — искусство. Единственный из всех стеблей на общем корне украсился он таким полным цветом; живопись, столь успешно и естественно развившаяся в Нидерландах, не принялась у других германских племен, и причина этой противоположности заключается в национальном характере, который мы сейчас только что определили.
Чтобы понимать и любить живопись, нужен глаз, чуткий к формам и краскам, необходимо, чтобы помимо воспитания и навыка ему приятно было видеть один тон рядом с другим, чтобы он обладал известной тонкостью оптических ощущений; человек, из которого выйдет живописец, способен забыться перед богатым сочетанием известной красноты с известной зеленью, перед постепенным потуханием темнеющего и изменяющегося при этом света, перед оттенками шелка и атласа, который, смотря по своим изгибам, складкам, расстояниям, блестит опалом, отсвечивает зеркалом, незаметно отливает в синь. Глаз такой же лакомка, как и рот, а живопись изысканная — это подносимые ему яства. Вот почему никогда не было великой живописи у немцев и англичан. В Германии чрезмерное преобладание чистых идей не дало простора чувственности глаза. Первая там по времени школа, кельнская, писала вовсе не тела, а мистические, набожные и умиленные души. Великий немецкий художник XVI века Альбрехт Дюрер хотя и знал произведения итальянских мастеров, однако тем не менее остался при своих неграциозных формах, угловатых складках, безобразных наготах, при своем тусклом колорите, своих диких, грустных и как-то пасмурных фигурах; странная, причудливая фантазия, глубокое религиозное чувство, смутные философские гадания, проглядывающие в его произведениях, обличают ум, не способный удовлетвориться формою. Взгляните в Лувре на небольшое изображение Христа, работы учителя его, Вольгемута, и на Еву его современника Луки Кранаха — вы почувствуете, что люди, писавшие такие группы и такие тела, рождены для богословия, а не для живописи. И теперь еще ценят и любят они только внутреннюю сторону, а не внешнюю; Корнелиус и мюнхенские мастера считают за главное идею, а исполнение у них вещь второстепенная; мастер замышляет, создает общий план картины, пишет же ее ученик; произведения их, всецело символические и философские, силятся обратить мысль зрителя на какую-нибудь великую нравственную или социальную истину. Так же точно Овербек всегда имеет в виду назидание и проповедует сентиментальный аскетизм; точно так же и Кнаус — до того искусный психолог, что картины его просто идиллии, а не то комедии. Что касается англичан, то ведь вплоть до XVIII века они ограничивались только привозом к себе иностранных картин и вызовом иностранных живописцев. В этом крае темперамент до того настроен к борьбе, воля до того закалена, ум до того утилитарен, человек до того очерствлен, до того затянут в дело и надсажен, что ему уж не до наслаждения изящными и тонкими оттенками очертаний и красок. Их национальный живописец, Хогарт, только и писал что нравственные карикатуры. Другие, как, например, Уилки, употребляют свою кисть единственно лишь для того, чтобы ’’онаглядить” характеры и чувства; даже и в ландшафте они изображают душу; телесные предметы для них только указание и как бы косвенное внушение. Это очевидно даже в их двух великих пейзажистах, Констебле и Тёрнере, и в их двух великих портретистах, Гейнсборо и Рейнолдсе. Теперь же колорит у них отличается поразительной резкостью, а рисунок буквальной мелочностью. Из всех германских народов одни фламандцы и голландцы любили формы и краски ради их самих; чувство это держится у них и доныне; живописность их городов и их внутреннее домашнее убранство служат тому доказательством, и еще очень недавно, на Парижской всемирной выставке, вы могли видеть собственными глазами, что настоящее искусство, живопись, свободная от философских замыслов и литературных затей, способная владеть формою без рабства и красками без замашек варварства, существует только у них да у нас.
Благодаря этому народному дарованию, в XV, XVI и XVII веках при благоприятных исторических обстоятельствах они, стоя лицом к лицу с Италией, могли образовать великую живописную школу. Но так как они были германцы, то и школа их, естественно, пошла своим, германским путем. Племя это отличается, как вы видели, от классических племен тем, что предпочитает содержание форме, сущую правду — изящному украшению, все действительное, сложное, неправильное, естественное — всему подборному, подстриженному, очищенному и преобразованному. Этот инстинкт, влияние которого мы заметили уже в их религии и литературе, руководил также и их искусством, в особенности живописью. "Высокое значение фламандской школы, — прекрасно заметил Вааген[36], — происходит оттого, что школа эта, чуждая всякого иноземного влияния, раскрывает перед нами всю противоположность чувства у греков и германцев, этих двух племен, стоящих во главе цивилизации древнего и нового мира. Между тем как греки старались идеализировать не только замыслы мира собственно идеального, но даже и свои портреты, везде упрощая формы и яснее отчеканивая важнейшие черты, — первобытные фламандцы сводили, напротив, на портрет идеальные олицетворения св. Девы, апостолов, пророков, мучеников и силились передавать самым точным образом мельчайшие подробности природы. Тогда как греки выражали подробности пейзажа — реки, ключи, деревья — в отвлеченных (лицевых) формах, фламандцы старались изображать их так, как они их видели. В противоположность идеалу и стремлению греков к олицетворениям фламандцы создали реалистическую школу, школу ландшафта”. В этом отношении "сперва немцы, затем англичане пошли по их стопам”. Проследите в каком-нибудь музее гравюр все чисто германские произведения, начиная с Альбрехта Дюрера, Мартина Шонгауэра, ван Эйков, Гольбейна и Луки Лейденского до Рубенса, Рембрандта, Паулюса Поттера, Яна Стена и Хогарта: если воображение ваше полно благородных итальянских или изящных французских форм, глаза ваши будут оскорблены видом этих произведений, вам трудно будет стать на их точку зрения, вам часто покажется, что художник, как нарочно, метит на безобразие. Справедливо тут только одно, что его не возмущают пошлости и уродливости действительной жизни. Он по своей внутренней природе не понимает требований симметрии, спокойного и развязного вместе движения прекрасных соразмерностей, здоровья и бойкости наших членов. Когда в XVI веке фламандцы принялись учиться у итальянцев, они только испортили этим свой оригинальный стиль. В течение семи — десяти лет терпеливого подражания они производили на свет одни уродливые помеси, не больше. Этот длинный период неудач, находящийся между двумя длинными периодами превосходства, ясно указывает и пределы, и силу их врожденных способностей. Они не умели упрощать природы; им надо было воспроизводить ее всю целиком. Они не сосредоточивали ее в нагом теле; они придавали одинаковое значение всем вообще внешностям[37] — пейзажам, зданиям, костюмам, аксессуарам. Они не способны были понять и полюбить идеальное тело: они созданы для того, чтобы передать и еще усилить своей кистью тело действительное.
Установив это основание, мы легко распознаем, чем именно фламандцы отличаются от других одноплеменных с ними (т. е. германских же) мастеров. Я вам описал уже их народный гений, столь рассудительный и равномерный, свободный от всяких высших порывов, ограниченный настоящим и склонный пользоваться вещами такими, как они есть налицо. Подобные художники не изобретут грустных фигур, скорбно-мечтательных, подавленных тяготами жизни, покорных во что бы то ни стало своей судьбе, — фигур, какие видим у Альбрехта Дюрера. Они не станут, подобно мистическим живописцам Кельна или английским живописцам-нравоучителям, изображать души или характеры; в их произведениях вы не ощутите несоразмерности между духовной и телесной природой. В плодоносной и богатой стране, среди веселых нравов, перед целым населением спокойных, добродушных или цветущих фигур они отыщут себе образцы, соответственные их гению. Почти всегда они станут писать вам человека, благоденствующего и довольного своей судьбой. Если они и преувеличат его немного, то никогда не поднимут выше земной жизни. Фламандская школа XVII столетия только и сделает, что порасширит его инстинкты, его вожделения, его силу и веселье. Чаще всего она оставляет его таким, каков он есть: голландская школа ограничивается воспроизведением тишины мещанского жилья, удобств какой-нибудь лавочки или мызы, веселья гульбищ и харчевен, всех мелких наслаждений правильной и мирной жизни. Ничего не может быть сподручнее для живописи; избыток мысли и чувства вредит ей. Подобные сюжеты, задуманные таким именно умом, дают чрезвычайно гармонические произведения; образцы тому мы видим у одних греков да у нескольких первостепенных итальянских мастеров; ступенью ниже их нидерландские живописцы, в сущности, делают то же самое: они изображают нам тип совершенного в своем роде человека, сжившегося с своею обстановкой и потому счастливого без натяжки, без усилий.
Остается рассмотреть еще один пункт. Одна из главных заслуг этой живописи — превосходство и утонченность колорита. Это потому, что воспитание глаза во Фландрии и Голландии пользовалось особенно благоприятными условиями. Край — такая же влажная дельта, как дельта реки По, и города Гент, Брюгге, Антверпен, Амстердам, Роттердам, Гаага, Утрехт своими реками, каналами, морем и атмосферой похожи на Венецию. Здесь, как и в Венеции, природа сделала человека колористом. Заметьте, какой различный вид принимают предметы, смотря по тому, находитесь ли вы в сухой стране, каковы Прованс и окрестности Флоренции, или в такой мокрой низине, как Нидерланды. В сухом крае преобладает линия, и она-то прежде всего привлекает на себя ваше внимание; горы обозначаются на небе архитектурными громадами благородного и величественного стиля, и все предметы высятся в чистом воздухе, как бы вонзаясь в него острым ребром. Здесь, напротив, плоский, низкий небосклон не представляет интереса, а все очертания предметов смягчены, притуплены, отчасти застланы неприметным паром, вечно плавающим в воздухе; какое-нибудь видное пятно преобладает надо всем. Пасущаяся корова, крыша среди поляны, человек, облокотившийся на низкую ограду, являются как особенно яркий тон между многими другими тонами. Предмет как будто всплывает из среды их не сразу и не резко выделяется из окружающей его обстановки; тут вы невольно поражены его лепкою, т. е. различными постепенностями усиливающегося или умаляющегося света и многообразными видоизменениями переливчатых красок, которые общий колорит его превращают как бы в рельеф и дают глазам ощущение его толщи, массивности[38]. Вам следовало бы провести несколько дней в такой стране, чтобы ощутить это подчинение линии пятну или одному ярко выдававшемуся тону. Из каналов, из рек, с поверхности моря, с напоенной сыростью земли беспрестанно поднимается голубоватый или сизый пар, повсеместная туманность, окружающая предметы каким-то влажным газом даже и в ясные совершенно дни. Вечером и утром ползучие дымки, тонкие белые клочья так и носятся по луговой равнине. Я часто останавливался на набережных Шельды, глядя на громадную массу белесоватой, слегка зарябившейся воды, из-под которой чернеют погруженные в нее кили кораблей и барок.. Река блестит, и на ее плоской поверхности потухающий уже день отражается бродячими вспышками там и сям. По всему округу небосклона беспрерывно поднимаются облака, и их бледно-свинцовый цвет, их неподвижные ряды наводят на мысль о целом полчище привидений; это — привидения сырой страны, всегда возрождающиеся призраки, наносящие вечный дождик. Но они краснеют, и чреватая их масса, вся пронизанная золотом, напоминает багряные мантии, парчовые симарры, узорчатые щелки, в которые Йорданс и Рубенс облекают своих окровавленных мучеников, своих многоскорбных мадонн. В самом низу неба солнце кажется громадным раскаленным углем, теперь уже потухающим и дымящимся. Когда приедешь в Амстердам или в Остенде, впечатление это все усиливается; море и небо представляются там бесформенными, туман и страшный ливень, чередуясь с другим, только и оставляют в памяти что цвета. Вода каждые полчаса меняет свои оттенки: то похожа на палевый осадок вина, то совсем бела, как мел, то желтовата, как раствор гашеной извести, то черна, как разведенная сажа, подчас мрачнофиолетового цвета, испещренного широкими полосами зелени. Через несколько дней опыт ваш закончен и вы знаете, что подобная природа дает значение только оттенкам, контрастам, гармониям цветов — короче, цените одни тона (а не линии и очертания).
С другой стороны, надобно сказать, что тона эти полны и богаты. Сухой край отличается, напротив, тусклым вообще видом; юг Франции, вся гористая часть Италии оставляют в глазах только ощущение серожелтой шахматной доски. К тому же все тоны почвы и домов гаснут и слабеют перед преобладающей яркостью неба и повсеместным освещением воздуха. Говоря правду, любой южный город, любой провансальский или тосканский пейзаж не более как простой рисунок; с помощью белой бумаги, рашкуля и бледноватых всегда цветных карандашей его можно передать вполне точно. Напротив, в таком влажном крае, как Нидерланды, вся земля одета зеленью и множество ярких пятен разнообразят монотонность повсеместных сплошь лугов: то черноватый или темно-коричневый цвет смоченной дождем нивы, то ярко-красный цвет черепицы и кирпичей, то белая или розовая обмазка фасадов, то бурожелтое пятно от прилегших стад или, наконец, блестящая лазурь рек и каналов. И пятна эти не ослабляются чрезмерной ясностью неба. В прямую противоположность сухой стране здесь не небо, а земля имеет преобладающее значение. Особенно в Голландии несколько месяцев подряд ’’воздух совершенно непрозрачен; какая-то тусклая пелена, протянутая между небом и землею, не пропускает ни малейшего излучения... Зимою темнота словно так и падает на вас сверху”[39]. Поэтому богатые краски, какими облечены земные предметы, остаются без соперников. К их силе присоедините еще их оттенки и подвижность (переходчивость). В Италии известный какой-нибудь тон остается все один и тот же; неизменный цвет неба поддерживает его в течение нескольких часов: вчера точно так же, как и завтра. Воротясь к нему, вы найдете его точь-в-точь таким, каким положили, за месяц, на своей палитре. Во Фландрии он неизбежно меняется, смотря по переменам света и окружающих паров. Здесь снова хотелось бы мне привести вас в этот край, чтобы вы сами ощутили своеобразную красоту его городов и его пейзажей. Краснота кирпичей, лоснящаяся белизна фасадов приятны для глаз, потому что смягчаются в сероватом воздухе. По тусклому грунту неба тянутся длинными рядами островерхие чешуйчатые кровли, все очень темного цвета, местами проглянет какой-нибудь готический фиал, гигантская вечевая башня, убранная затейливыми колоколенками и разными геральдическими животными. Часто зубчатые края печных труб и кровельных верхушек ярко отражаются в канале или в рукаве реки. Вне городов, как и внутри, все может служить содержанием для картины: вам остается лишь копировать. Повсеместная зелень полей не резка и не однообразна; она оттеняется различными степенями зрелости листвы и трав, различной густотой и беспрерывными видоизменениями облаков и тумана. Чтобы дополнить или ярче выдвинуть эту зелень, есть чернота туч, мгновенно разрешающихся ливнями, есть сизый цвет разрывчатого или рассеивающегося тумана, голубоватая сеть, облекающая собой дали, мерцания света, мгновенно задерживаемого движением исчезающих паров, подчас ослепительный атласный блеск какого-нибудь застоявшегося облака или нежданный разрыв туч, из-за которых проглянет вдруг лазурь. Небо, столь полное и подвижное, до того способное соглашать, изменять и выдавать оттенки земли, — это прямо школа для колориста. Здесь, как и в Венеции, искусство последовало за природой и рука невольно водилась тем ощущением, какое получал глаз.
Но если сходства климата доставили глазу венецианца и нидерландца приблизительно сходное воспитание, то и климатические разности также ведь обнаружились разностями в воспитании того и другого. Нидерланды лежат на триста французских миль севернее Венеции. Воздух там холоднее, дожди обыкновеннее, солнце чаще подернуто облаками. Отсюда естественная гамма красок, вызвавшая соответственную гамму в живописи. Так как полное освещение там гораздо реже, то и предметы не носят на себе солнечного отпечатка. Вы не встретите там золотистых тонов, этих чудных загаров, сплошь и рядом видных на памятниках Италии. Море никогда не бывает сизо-зеленым, шелковистым, как в лагунах Венеции. Луга и деревья не имеют того прочного и сильного тона, каким отличается зелень Вероны или Падуи. Трава здесь как-то блекла и бледна, вода грязна или белесовата, белое вообще тело то слегка розовато, как цветок, выросший где-нибудь в тени, то уж совсем красно от влияния всяких непогод и слишком раскормлено от чрезмерной пищи, но зачастую желтовато, а в Голландии иногда совсем безжизненно и как будто воскового цвета. Ткани всякого живого существа, будь то человек, животное, растение, получают здесь слишком много воды, а солнечного припека у них мало. Вот почему, сравнивая обе школы живописи, мы найдем между ними различие в общем колорите. Проследите в каком-нибудь музее венецианскую школу, потом фламандскую; перейдите от Каналетто и Гварди к Рейсдалу, Паулюсу Поттеру, Гоббеме, Адриану ван де Вельде, Тенирсу, ван Остаде, от Тициана и Веронезе к Рубенсу, Ван Дейку и Рембрандту и проверьте ощущение ваших глаз. С переходом от первых ко вторым колорит теряет часть своего жара. Типы теневые, прокаленные, красно-желтые совершенно исчезают; доменный жар, исходящий от картин, изображающих венецианское успение, теперь потух; тело принимает белизну молочную или снежную, темный пурпур занавесок светлеет, побледневшие шелка отливают холоднее. Напряженно-густой оттенок, пропитывавший всю листву деревьев, могучий багрянец, золотивший освещенные солнцем дали, тоны пестрожильного мрамора, аметиста и сапфира, какими отсвечивала вода, слабеют, уступая место матовой белизне нависших испарений, синеватому свету влажных сумерек, аспидному отблеску моря, грязно-мутному цвету рек, побледневшей зелени полей, серому воздуху внутри самих комнат.
Между этими новыми тонами устанавливается и новая опять гармония. Иногда полный свет обдает предметы; они не привычны к нему, и зеленые поля, красные крыши, лоснящиеся фасады, атласное тело, в котором так и играет кровь, кажутся тогда необыкновенно блестящими. Они были созданы для полусвета северной и влажной везде страны; их не преобразил, как в Венеции, продолжительный припек солнца; под таким внезапным светоразливом тоны их становятся слишком живы, почти резки; они все голосят, как дружный хор рожков, и оставляют на душе и в чувствах впечатление энергического и шумного веселья. Таков колорит тех фламандских живописцев, которые любят полный свет; лучший образец его вы видите у Рубенса; если реставрированные картины этого мастера в Лувре представляют нам его создание в том виде, в каком оно вышло из рук своего творца, то можно положительно сказать, что он не щадил глаз; во всяком случае, колорит его не отличается полною и мягкою гармонией венецианцев; у него соединены вместе самые резкие крайности: снежная белизна тела, кровавая краснота драпировок, ослепительный лоск шелков — все остается в полной своей силе, не сближенное, не умеряемое, не облитое, как в Венеции, тем янтарным тоном, который не дает контрастам грубо сталкиваться и смягчает резкость эффектов. То, напротив, освещение тускло или почти совсем ничтожно; это бывает зачастую особенно в Голландии, предметы едва возникают из теней; они чуть не сливаются с тем, что их окружает; вечером в каком-нибудь подвале, освещенном лампою, или в комнатке, куда едва проскальзывает из окна умирающий луч, они почти совершенно стираются, являясь разве только более темными пятнами на черном вообще фоне. Глаз вынужден ловить и подмечать эти оттенки мрака, эти слабые просветы, исподволь сливающиеся с темнотой, эти последние остатки дня, играющие на лоснящихся выступах мебели, отблеск какого-нибудь зеленоватого стекла, какой-нибудь вышивки, бусинки или золотой пластинки, сверкнувшей в ожерелье. Выработав в себе чуткость к таким тонкостям, живописец, вместо того чтобы сближать крайности в гамме красок, берет только одни начальные цвета; вся картина его, за исключением одного лишь места, находится обыкновенно в тени; концерт, который он дает нам, — постоянная игра под сурдиной, с громким взрывом только изредка, по временам. Таким образом, он открывает неведомые гармонии, гармонии светотени, гармонии лепки, гармонии души, вкрадчивые, потрясающие и бесконечные; этой на первый взгляд пачкотней, смесью грязно-желтого с цветом винного отстоя, с сероватыми и черными оттенками, оживленной там и сям каким-нибудь ярким пятном, он успевает затронуть самые глубокие тайники нашей природы. В этом состоит последнее из великих изобретений живописи; при его-то именно посредстве живопись всего лучше говорит теперь современной душе, и таков-то именно колорит, каким природное освещение Голландии наделило гений Рембрандта.
Вы видели зерно, растение и цвет. Племя, совершенно противоположное по гению латинским народам, добывает себе, после них и рядом с ними, почетное место на земле. Между многочисленными народами этого племени есть один, у которого особенности его страны и климата развивают особенный характер, вырабатывающий в нем наклонность к искусству и к известному его роду предпочтительно. Живопись рождается здесь, принимается, достигает полноты, и окружающая ее физическая среда, равно как и основавший ее национальный гений, дают и, можно сказать, навязывают этой живописи ее сюжеты, ее типы, ее колорит. Таковы отдаленные подготовки, глубокие причины, общие условия, давшие пищу этим живым сокам, направившие эту растительность и произведшие окончательно ее расцвет. Теперь нам остается только изложить исторические обстоятельства, которых разнообразие и преемственность вызвали преемственные и разнообразные фазы столь великого процветания.
Отдел второй. Исторические эпохи
I
Первая эпоха. — Фландрия в XIV столетии. — Энергия характеров. — Благосостояние городов. — Упадок аскетического и клерикального духа. — Великолепие и чувственность. — Бургундский двор и праздники в Лилле. — Потребность живописного. — Сходство и разности между Фландрией и Италией. — Сохранение во Фландрии религиозного и мистического чувства. — Соответствие между характерами искусства и характерами среды. — Прославление настоящей жизни и христианской религии. — Типы, рельефная передача, пейзаж, костюм, сюжеты, экспрессии и чувство, начиная с Хуберта ван Эйка до Квентина Матсиса.
В нидерландской живописи мы находим четыре отдельных периода и, как нарочно, каждому из них отвечает особый исторический период. Здесь, как и везде, искусство переводит жизнь на свой язык; талант и вкус живописца изменяются в одно и то же время и в одном и том же направлении с нравами и чувствами общества. Подобно тому как всякий геологический переворот приносит с собою свою особую флору и фауну, так точно и каждое крупное общественное и умственное изменение приносит с собою свои идеальные фигуры. В этом отношении наши художественные музеи подобны естественно-историческим, потому что создания воображения, точно так же как и живые формы, являются и произведениями, и представителями своей среды.
Первый период в искусстве продолжается около полутора столетий (1400—1530), начиная с Хуберта ван Эйка и до Квентина Матсиса. Ближайшею его причиной было также, пожалуй, Возрождение, т. е. широкое развитие благосостояния, богатства и ума. Здесь, как и в Италии, города зацвели рано и рано сделались почти свободными. Я говорил вам, что в XIII веке крепостничество было уничтожено во Фландрии и что гильдии для добычи соли, ’’для обработки болотистых земель” восходят еще к римской эпохе. Уже с VII и IX столетий Брюгге, Антверпен и Гент были ’’портами” или привилегированными рынками; там ведется уже оптовая торговля; жители отправляются на китовый лов; это складское место для юга и севера. Люди богатые, хорошо снабженные оружием, продовольствием, своими товариществами и своей деятельностью наученные предусмотрительности и предприимчивости, конечно, более способны оборониться, чем какие-нибудь рабы, разбросанные по открытым деревушкам. Их большие людные города, их узкие улицы, их влажные, пересеченные глубокими канавами луга — слишком неудобное поле битвы для баронской конницы[40]. Вот отчего феодальная сеть, столь плотная и тяжелогнетущая во всей остальной Европе, должна была пораспустить свои петли во Фландрии. Напрасно туземный граф призывает к себе на помощь французского короля, верховного своего владыку, напрасно выводит против городов всю свою бургундскую конницу. Побежденные под Монс-ан-Певелем, под Касселем, под Розбеком, Отеем, Гавром, Брустемом, Люттихом, они подымаются всегда снова и, переходя от восстания к восстанию, удерживают за собой лучшую часть своих вольностей, вплоть до государей из Австрийского дома. XVI столетие — геройская и трагическая вместе эпоха для Фландрии. У нее есть тогда пивовары, вроде Артевельдов, которые в одно и то же время трибуны, диктаторы, полководцы и обыкновенно кончают жизнь на поле битвы или под ножом убийц; междоусобие присоединяется там к войне внешней: дерется город с городом, один ремесленный цех с другим, человек с человеком; в течение одного года насчитывают в Генте до тысячи четырехсот убийств; энергия здесь так живуча, что выносит все бедствия и оказывается достаточной для всех усилий. Люди валятся десятками тысяч и умирают целыми грудами, не уступая ни на шаг. ”И не рассчитывайте на возврат, если не вернетесь с честью, — говорили жители Гента пяти тысячам охотников, выступавших с Филиппом Артевельдом, — как скоро мы услышим, что вы избиты и понесли поражение, то немедленно зажжем город и сами себя погубим”[41]. В 1384 году в округах Четырех Ремесел пленные отказывались от жизни, утверждая, что и по смерти кости их поднимутся на французов (покорителей того края). Спустя пятьдесят лет крестьяне около восставшего тогда Гента ’’предпочитали умирать, лишь бы не просить пощады, говоря, что они лучше лягут в честном бою мучениками за правое свое дело”. В этих шумных муравейниках обилие пищи и привычка к самодеятельности поддерживают храбрость, буйство, отвагу, даже дерзость — все крайности силы громадной и необузданной; под этими ткачами спрятаны живые люди, а где найдем живых людей, там есть надежда скоро найти и искусства.
В такие времена бывает довольно одной минуты общего благоденствия; под этим солнечным лучом окончательно развертываются завязавшиеся прежде почки. В конце XIV столетия Фландрия была вместе с Италией самой промышленной, самой богатой, самой цветущей страной в Европе[42]. В 1378 году в Мехельне и его округе было уже 3200 станков для выделки шерстяных тканей. Один из тамошних купцов ведет обширнейшую торговлю с Дамаском и Александрией; другой валансьевский купец, будучи на ярмарке в Париже, чтобы только блеснуть своим богатством, закупает все привезенные туда съестные припасы. Гент в 1389 году насчитывает 189 000 человек, способных носить оружие; одни суконщики выставляют по случаю мятежа 18 000 человек; ткачи составляют из себя двадцать семь кварталов, и по звуку вечевого колокола на рыночную площадь сбегаются пятьдесят два цеха со знаменами. В 1380 году золотых дел мастеров в Брюгге такое множество, что в военное время они могут составить из себя целый отряд. Немного позже Эней Сильвий говорит, что Брюгге — один из трех красивейших городов в мире; канал в четыре с половиною французских мили соединяет его с морем непосредственно; ежедневно туда входит по сто кораблей; город этот тогда был тем же, чем ныне Лондон. В то самое время и политическое положение страны приобретает некоторую прочность. Герцог Бургундский в 1384 году становится по наследству властелином Фландрии; обширность его владений и междоусобные войны, участившиеся по причине малолетства и безумия Карла VI, вполне отрешают его от французской зависимости; он уже не то, что прежние графы, не подручник короля, не проживает постоянно в Париже и не канючит о помощи, чтобы как-нибудь справиться со своими фландрскими купцами и обложить их пошлиной. Его сила и несчастья Франции обеспечивают ему полную независимость. Будучи принцем, он тем не менее держит в Париже сторону народной партии, и мясники все там за него. Будучи французом, он следует, однако, фламандской политике и, по крайней мере, явно щадит англичан, если не идет с ними об руку. Конечно, из-за денег он не раз еще поссорится со своими фламандцами и будет вынужден многих перебить. Но для того, кто знает средневековые смуты и насилия, установившийся теперь порядок и согласие кажутся уже достаточны; во всяком случае, они лучше теперь, чем когда-нибудь были прежде. С этих пор, как около 1400-х годов во Флоренции, верховная власть признается большинством и общество упрочивается в своих основаниях; с этих пор, как около 1400-х годов в Италии человек покидает аскетические и клерикальные порядки, интересуется природой и наслаждается жизнью. Древний гнет значительно ослабел; всякий начинает любить силу, здоровье, красоту, веселье. Повсеместно падает и разлагается средневековый дух. Изящная, утонченная архитектура превращает камень в кружево и убирает свои церкви фиалами, крестоцветом, витыми и переплетными оконницами, так что прорезное разукрашенное и залитое золотом здание предстает как бы чудной, романтической драгоценною игрушкой, порождением скорее фантазии, чем веры, не так способным возбуждать набожность, как просто ослепить и озадачить. Так же точно и рыцарство становится уже просто парадом, щегольством. Дворяне стекаются ко двору Валуа, вполне отдаются забавам, ’’краснобайству”, и притом в особенности любовному. У Чосера и Фруассара вы можете видеть их великолепие, их турниры, церемониальные шествия и пиры, новое царство суетности и моды, все затеи их совсем обезумевшего и распущенного воображения, необычайные и ни с чем не сообразные наряды: мантии в двенадцать локтей длиной, узкие в обтяжку штаны и богемские куртки с рукавами до земли; обувь с когтями, рогами и хвостами скорпионов на носках; подлатники, шитые буквами, животными, музыкальными нотами, так что можно, пожалуй, читать или петь песню прямо со спины такого щеголя; шапочки, украшенные золотою листвой и животными, платья, унизанные сапфирами, рубинами, золотыми ласточками, держащими каждая в своем клюве по золотой чашке; таких чашек или тазиков насчитывается на одном костюме до тысячи четырехсот штук, а для вышивки какой-нибудь маленькой песни на платье употребляют иногда до девятисот шестидесяти жемчужин. Женщины в великолепных покрывалах, убранных целой бездною мелких прикрас, с обнаженной грудью, с головным убором из каких-то шишек и чудовищных полумесяцев, одетые в пестрые платья, на которых изображены единороги, львы и дикие люди, сидят в креслах, представляющих небольшие выточенные и раззолоченные соборы. Жизнь двора и государей — настоящая масленица. Когда Карл VI посвящался в рыцари в аббатстве Сен-Дени, там нарочно устроена была узкая в 32 туаза длины зала, обтянутая белым и зеленым, с высоким павильоном из шпалер; после трехдневных турниров и пиршеств по этому случаю ночной маскарад закончился сладострастною оргией. ’’Многие девицы дошли до самозабвения, многие мужья тут пострадали”, и благодаря контрасту, рисующему нравы времени, под конец всего отпраздновали похороны Дюгеклена. По счетам и хроникам той поры вы так и следите широкий поток золота, бегущий, сверкающий, растягивающийся безостановочно в длину; это — история домашней жизни короля, королевы, герцогов орлеанских и бургундских; вы только и видите, что торжественные въезды в города, пышные кавалькады, переодевания, танцы, сладострастные прихоти, всю непомерную расточительность новоиспеченных богачей. Бургундские и французские рыцари, пустившиеся биться с Баязетом под Никополь, вырядились так, как на любовное придворное празднество; их значки и чепраки были изукрашены серебром и золотом, посуда у них вся была серебряная, палатки из зеленого атласа; самые отборные вина следовали за ними на барках по Дунаю, и их лагерь был наполнен куртизанками. Этот разгул животной жизни, к которому во Франции все-таки примешивались еще болезненная пытливость, мрачные иногда фантазии, в Бургундии разыгрывается себе прямо широким и простодушным храмовым праздником, настоящею кермессой. У герцога Филиппа Доброго три законных жены, двадцать четыре наложницы, шестнадцать побочных детей; и на все это его хватает; он пирует, кутит напропалую, допускает ко двору мещанок и предстает вам одною из фигур Йорданса заранее. У графа Клевского шестьдесят три человека незаконных детей; в описаниях церемоний хроникеры то и дело очень серьезно высчитывают всех бывших тут побочных сыновей и дочерей; дело это представляется словно официальным каким-нибудь учреждением; глядя на подобную плодовитость, невольно припоминаешь себе роскошных кормилиц Рубенса и Гаргамель Рабле. ’’Прискорбно было видеть, — говорит один современник, — крайне сильное господство любострастного греха, особенно между царственными лицами и женатыми. Лучшим товарищем считался тогда тот, кто сумел обмануть не одну женщину, овладев ею сразу... и тот же самый грех любострастия господствовал между прелатами и всем церковным людом вообще”. Яков де Круай, архиепископ камбрейский, торжественно совершал службу с тридцатью шестью побочными детьми, да отложил про запас особую сумму денег для тех, которые могли бы еще родиться от него впоследствии. При третьем браке Филиппа Доброго празднество было точь-в-точь как на свадьбе Гамаша, снаряженной под руководством Гаргантма; улицы Брюгге были обтянуты шпалерами; в течение восьми суток каменный лев источал и день и ночь рейнское вино, а каменный олень — боннское; за обедом и за ужином единорог разливал то розовую воду, то мальвазию. При въезде в город дофина навстречу ему вышли восемьсот купцов разных наций в шелковом и бархатном одеянии. В другой церемонии герцог появляется на коне, у которого седло и надглавник были осыпаны драгоценными камнями; за ним следовали ’’девять пажей”, совсем затканных золотом, а один ”из них был облачен в шлем, стоивший, говорят, сто тысяч золотых крон”. В другой еще раз на герцоге было драгоценных камней на миллион, по словам очевидцев. Я желал бы показать вам хоть один из этих праздников; подобно современным им флорентским, они обличают те живописные и декоративные наклонности, которые и здесь, как во Флоренции, породили живопись. В Лилле при Филиппе Добром происходило так называемое ’’фазанье торжество”, которое можно приравнять к триумфам Лоренцо Медичи; в тысяче мелких подробностей вы заметите и сходство и различие обоих обществ, а следовательно, и разности в их культуре, в их вкусах и в их художестве.
Герцог Клевский задал в Лилле великолепный праздник, на котором присутствовал и герцог Бургундский в сопровождении всей знати, дам и девиц своего двора. На этом пиру виднелся на столе ’’междублюдник”, т. е. столовое украшение, изображавшее ’’корабль с поднятыми парусами, на котором находился рыцарь в полном вооружении... Перед ним серебряный лебедь с золотым ошейником и с длинною от него цепью, которою лебедь как будто бы тянул корабль, а на конце того корабля был устроен прекрасный крепостной замок”. По поводу этой аллегории герцог Клевский, рыцарь Лебедя и ’’покорный слуга дам”, велел провозгласить, что желающие найдут его готовым ”в полном вооружении и на боевом седле” и что ’’тот, кто победит, получит в награду богатого золотого лебедя с золотой же цепью, на конце которой укреплен великолепный рубин”.
Спустя десять дней граф д’Этамп дал второй акт этого волшебного празднества. Разумеется, второй акт, подобно первому и всем следующим, начался пиром. При этом дворе жизнь идет раздольная, и никто не прочь от даровых угощений. ’’Когда приняли со стола ’’междублюдники”, из соседней залы появилось вдруг множество факелов, потом выступил главный оруженосец в своем панцире, а за ним два рыцаря в бархатных мантиях, отороченных куницей, оба с обнаженной головой и неся каждый в руке по прелестной цветочной вязи. Вслед за вошедшими на иноходце в голубой шелковой попоне ехала прекрасная молоденькая, двенадцати лет, дама в платье фиолетового шелка с богатым золотым шитьем и такою же отделкой — то была царица веселья”. Три конюших, все в алом шелку, подвели ее к герцогу с песней на ее прибытие. Сойдя с лошади и преклонив колена на столе, она возложила на голову владыке свежий венок. В ту же минуту было провозглашено открытие боя; раздались звуки тамбуринов, появился боец с множеством лебедей на панцире, и вслед за тем глазам публики предстал рыцарь Лебедя герцог Клевский, богато вооруженный, на лошади, в попоне из белой объяри с золотой бахромой; он влек за собой на золотой цепи большого лебедя, сопровождаемого двумя стрельцами; за ним следовали верхом на конях отроки, стремянные, рыцари, вооруженные копьями, все, как и он сам, в белой же объяри с золотой опять бахромой. Герольд Туазон д’Ор (т. е. Золотое Руно)[43] представил их герцогине. Далее ехали мимо нее другие рыцари на конях, убранных серою с малиновым парчою, сукном, шитым золотыми колокольчиками, алым бархатом, подбитым куницей, фиолетовым бархатом с золотою и шелковою бахромою, черным бархатом с золотыми слезками. Представьте себе, что теперь знатнейшие особы в государстве вздумали бы вдруг нарядиться, как оперные актеры, и выкидывать перед публикой фокусы на манер акробатов; самая несообразность такого предположения покажет вам, насколько живописный инстинкт и потребность бросающейся в глаза декорации были сильны в то время и до чего ничтожны они теперь.
Между тем это были только еще цветочки. Через неделю после турнира герцог Бургундский задал от себя праздник, превзошедший все другие. Огромная зала, вся обитая шпалерами, представлявшими жизнь и подвиги Геркулеса, была о пяти дверях, охраняемых стражей в серых с черным суконных плащах. По бокам пять ступенчатых галерей были устроены для посторонних зрителей, благородных мужчин и дам, большею частью переряженных. Посреди галереи стоял ’’высокий буфет, уставленный золотою и серебряной посудой и хрустальными вазами, обделанными в золото и дорогие каменья. В центре залы виднелся большой столб, поддерживавший изображение женщины с распущенными по плечам волосами и в чрезвычайно богатой шляпе; во все продолжение ужина она выпускала из сосцов ипокрас” (пряный напиток, вроде глинтвейна). Вокруг накрыто было три гигантских стола, и каждый из них убран множеством затейливых ’’междублюдников”, огромных механических украшений, напоминающих, в большем только размере, сюрпризные игрушки, какие дарят теперь богатым детям в Новый год. В самом деле, люди того времени, по неудержимой пытливости и порывам своего воображения, — настоящие ведь дети; для них всего важнее потешить глаза свои; они играют жизнью, как волшебным фонарем. Два главных ’’междублюдника” были: чудовищный пирог, в котором двадцать восемь ’’живых” людей играли на разных инструментах, и крестовидная, вся из стекол церковь с четырьмя ’’певчими и звонящим на службу колоколом”. Но кроме этого тут было еще более двадцати других: целый замок со рвами, наполненными померанцевой водой, с феей Мелюзиной на одной из башен; ветряная мельница со стрельцами из лука и самострела, метящими в вороватых сорок; бочка в винограднике с двумя напитками — одним горьким, другим сладким; обширная пустыня, где лев сражается со змеей; дикарь верхом на верблюде; сумасшедший наездник, плутающий на медведе среди ледников и скал; окруженное городами и замками озеро; карака (португальское судно) совсем нагруженное и на якоре, с веревочными снастями, мачтами и экипажем; прелестный фонтан из глины и свинца, убранный небольшими стеклянными деревцами с листвою и цветом, а на нем св. Андрей со своим крестом; фонтан розовой воды, представляющий голого мальчика в положении известного брюссельского ’’Меннекенписа”. Настоящая игрушечная лавка под Новый год. Но мало было такой пестрой смеси неподвижных декораций; им нужен еще парад деятельный: поочередно проходят двенадцать интермедий, а в промежутках церковь и пирог угощают зрителей музыкой, чтобы занять в одно и то же время и уши и глаза гостей; колокол дубасит во всю мочь; пастух задувает на волынке; маленькие дети тут же поют свою песенку; раздаются звуки то органа, то волторны, то свирели, то церковного мотета, то флейты и лютни, сопровождаемой пением, то вдруг тамбуринов, охотничьих рогов и лая гончих. Но вот появляется задом наперед лошадь, богато убранная красной шелковой попоною; на ней два трубача ’’сидят без седла и спиной один к другому”; ведут ее шестнадцать рыцарей в длинных мантиях; за нею какое-то чудище, получеловек-полугриф, верхом на диком вепре и неся на себе человека движется с парою дротиков и выпуклым щитком в обеих руках; потом следует большой белый механический олень, убранный в шелка и золоторогий, а на нем маленькое дитя в алой бархатной мантийке; дитя поет, а олень вторит ему басом. Все эти фигуры обходят вокруг столов, причем последняя выдумка особенно увеселяет присутствующих. Летучий дракон летит по воздуху и своею огненною чешуей озаряет глубины готического свода. Спускают цаплю и двух соколов, и убитая цапля подносится герцогу. За занавесом вдруг трубят рожки, занавес подымается, и зрители видят, как Язон читает письмо Медеи, потом сражается с разъяренными быками, убивает змея, вспахивает землю, засевает ее зубами чудовища, и вот перед ним всходит целая жатва вооруженных с головы до ног людей. Тогда праздник принимает серьезный уже характер: перед зрителями выводится рыцарский роман, сцена из Амадиса, греза Дон-Кихота в полном действии; появляется великан в мантии из зеленой шелковой ткани, с пикою и в чалме; он ведет слона, покрытого шелковой попоной; на слоне замок, а в нем дама, одетая монахиней, изображает церковь; он велит остановиться, объявляет свое имя и зовет присутствующих в крестовый поход. После этого Туазон д’Ор с оруженосцами приносит живого фазана в золотом ожерелье, украшенном дорогими каменьями; герцог клянется над этим фазаном помогать христианству против турок, и все рыцари обязываются к тому же подпискою в стиле Галаора: это так называемый ’’фазаний обет”. Праздник заключается мистически-нравственным балом. Под звуки инструментов при свете факелов дама с головы до ног вся в белом, неся на плече свое название ’’Божия благодать”, выходит и произносит герцогу восьмистишие, а при уходе оставляет в дар ему двенадцать добродетелей: веру, милосердие, смирение, правосудие, разум, воздержание, силу, правду, щедрость, прилежание, надежду и храбрость; каждую из них ведет рыцарь в алом панцире с атласными рукавами, шитыми золотою листвой и дорогими каменьями. Добродетели пускаются со своими рыцарями в пляс, увенчивают победителя в бою на копьях графа Шароле, и по объявлении нового турнира бал оканчивается в три часа утра. Поистине всего этого уж слишком много; чувствам и воображению приходится невмоготу; в деле потешных развлечений люди эти — просто обжоры, а не лакомки. Этот шум и гам, это обилие самых странных, диковинных выдумок открывают перед нами какой-то тяжеловесный мир, обличают северное племя, еще только зарождающуюся варварскую, младенческую цивилизацию; этим современникам Медичей недостает простого и величавого вкуса итальянцев. И, однако же, основа нравов и воображения одна и та же; здесь точно так же, как в колесницах и торжественных шествиях флорентийской масленицы, легенда, история и философия средних веков облекаются в плоть и кровь; под чувственным образом скрываются нравственные отвлечения; добродетели превращаются в истых женщин, поэтому их так охотно пишут кистью и ваяют резцом; в самом деле, все украшения здесь сплошь рельефы или картины. Век символизма уступил место веку живописности; ум не довольствуется уже более отвлеченной схоластической сущностью, он хочет наглядно созерцать живую форму, и человеческая мысль для достижения окончательной полноты своей чувствует теперь потребность предстать глазам в виде художественного создания.
Но это художественное создание не похоже на то, какое произвела Италия, потому что культура и умственное направление здесь и там различны; легко заметить это при чтении наивных и плоских стихов, произносимых Добродетелями и Церковью: пустая устарелая поэзия, избитая болтовня труверов, нанизыванье рифмованных фраз, в которых ритм так же слаб и вял, как и мысли. Здесь не было Данте, Петрарки, Боккаччо, Виллани. Далеко не так скороспелый и более удаленный от латинских преданий ум оставался здесь дольше замкнутым в оковах средневековой дисциплины и косности. Тут не было скептических аверроэсистов и таких медиков, каких описывает нам Петрарка; не было гуманистов, восстановителей древней литературы и почти язычников, подобных окружавшим Лоренцо Медичи. Христианская вера и христианское чувство несравненно живее и прочнее здесь, чем в Венеции или во Флоренции. Они упорно держатся, несмотря на чувственную пышность бургундского двора. Если здесь и есть эпикурейцы по нравам, то нет их по теории; самые галантные господа служат Церкви, как и дамам, из одной чести. В 1396 году семьсот знатнейших особ из Бургундии и Франции отправились в крестовый поход; все они, за исключением двадцати семи, перебиты под Никополем, и Бусико называет их ’’благословеннейшими и преблаженными мучениками”. Вы видели, что и лилльский кутеж закончился торжественным обетом биться против неверных.Мелкие черты, рассеянные там и сям, подтверждают там существование первобытной еще набожности. В 1477 году живший в одном городке неподалеку от Нюрнберга паломник Мартин Кетцель нарочно сосчитал число шагов между Голгофой и жилищем Пилата, с тем чтобы по возвращении соорудить семь станций и подобие Голгофы (холм с крестом) между своим домом и городским кладбищем; потеряв мерку, он снова предпринимает путешествие к святым местам и труд свой на этот раз поручает уже ваятелю Адаму Крафту. В Нидерландах, как и в Германии, средний класс, люди степенные, тяжеловатые на подъем, замкнутые в телесный круг будничной жизни, привязанные к обычаям старины, сохраняют еще лучше придворных средневековые верования и глубокую ревность к церкви. Их литература служит тому подтверждением. Начиная с той поры, когда она впервые становится своеобразною, т. е. с конца XIII века, вы видите в ней только уже свидетельства практического, муниципального и среднесословного ума, да искренней притом набожности: с одной стороны, нравственные сентенции, изображения домашней жизни, исторические и политические поэмы по случаю недавних и действительных событий; с другой — лирические похвалы Пресвятой Богородице, мистические и нежные стихотворения, вроде Horae Belgicae. Короче, народный германский дух наклонен гораздо более к вере, чем к безверию. Через непрерывный ряд средневековых лоллардов и мистиков, через иконоборцев и бесчисленных мучеников XVI столетия он направляется к протестантским идеям. Предоставленный самому себе, он пришел бы не к возрождению язычества, как в Италии, а, напротив, к усиленному обновлению христианства, как в Германии. С другой стороны, искусство, лучше всех других заявляющее потребности народного воображения, архитектура остаются еще готическими и христианскими вплоть до середины XVI века; ее не касаются итальянские и классические нововведения; стиль ее, правда, усложнился и поизнежился, но не изменился в существе. Он царит не только в храмах, но и в светских зданиях; в Брюгге, Лувене, Брюсселе, Люттихе, Уденарде городские думы показывают нам, до какой степени он приходился по вкусу не только духовенству, но и целой нации; она оставалась верна ему до конца; оуденарская ратуша была ведь начата спустя семь лет по кончине Рафаэля. Под руками фламандки по рождению Маргариты Австрийской церковь в Броу (Вго) — этот последний и милейший цветок готики — окончательно распустился в 1536 году. Совокупите все эти указания и на портретах того времени вглядитесь в лица: деятелей, аббатов, бургомистров[44], горожан, матрон, столь серьезных и благочестивых, с их воскресным нарядом, с их безукоризненным бельем, с их как бы застывшим, неподвижным видом, с их выражением стойкой и глубокой веры, — вглядитесь в них хорошенько, и вы почувствуете, что Возрождение XVI века совершается здесь в пределах религии, что человек, украшая настоящую жизнь, не теряет из виду жизни будущей и что его живописная изобретательность проявит именно живучее христианство, а не выразит, как в Италии, обновленное язычество.
Фламандское Возрождение под влиянием христианских идей — таков в самом деле двойственный характер искусства времен Хуберта и Яна ван Эйков, Рогира ван дер Вейдена, Мемлинга, Квентина Матсиса, и этими двумя чертами его обусловлены все прочие. С одной стороны, художники интересуются действительной жизнью: лица их уже не символы, как у расписчиков древних псалтырей, и не чистые уже души, как у мадонн кельнской школы, а живые люди и тела. Анатомия соблюдена тут тщательно, перспектива отличается точностью, везде обозначены мельчайшие подробности тканей, архитектуры, аксессуаров и пейзажей; рельеф истинно поразителен, и вся сцена предстает глазу и уму с необыкновенной силою и определенностью; величайшие мастера будущих времен не пойдут далее этого, да едва ли и достигнуть им такого совершенства. Ясно, что в этот именно момент художники впервые открывают природу: пленка спадает у них с глаз; почти вдруг пришли они к пониманию всей доступной чувствам внешности, ее пропорций, ее склада, ее красок. Скажем более: ее теперь впервые полюбили; взгляните на великолепные, окаймленные золотом и усеянные алмазами мантии, на затканные золотом и серебряным шитьем шелки, на узорчатые ослепительные диадемы, которыми они украшают свои божественные и святые лица[45]; тут вы встретите всю роскошь бургундского двора: взгляните на эти прозрачные неподвижные воды, на иллюминовку зелени, на пестрящие ее красные и белые цветы, на распустившиеся деревья, на озаренную солнцем даль, на восхитительные пейзажи[46]. Заметьте этот невиданно мощный и роскошный колорит, эти чистые и полные тона, сопоставленные рядом, как на ином персидском ковре, и сливающиеся воедино своей гармонией чудные изгибы багрянца мантий, теневые углубления лазури длинных ниспадающих одежд, занавесы — зеленые, как летний луг на ярком солнце, золотые с черными полосами юбки, могучий свет, согревающий и бронзирующий всю сцену; это — концерт, в котором каждый инструмент издает полные свои звуки, тем более верные, чем они сильнее. Люди эти видят мир с прекрасной его стороны и делают из него настоящий праздник, подобный тем, какие делаются в то время, только богаче освещенный солнцем; но отнюдь не представляют его себе в образе небесного Иерусалима, проникнутого какою-то сверхъестественной ясностью, как пишет его Беато Анджелико. Они фламандцы и решительно останется на земле; с самой мелочной тщательностью копируют они все действительное, реальное, что ни попалось под руку: отделку какого-нибудь оружия, блеск чистых оконниц, цветные разводы на ковре, каждый волос какого-нибудь меха[47], нагие тела Адама и Евы, расплывшееся и обрюзглое лицо каноника, толстую спину, заостренный подбородок, орлиный нос какого-нибудь бургомистра или воина, сухопарые ноги палача, громадную голову и слишком тонкие члены маленького ребенка, костюмы и домашнюю утварь того времени. Во всем этом работы их являются прославлением настоящей жизни. Но, с другой стороны, они точно так же прославляют и веру христианскую. Не только почти все сюжеты их религиозные, но и сами они преисполнены религиозного чувства, которого именно и будет недоставать тем же сценам впоследствии. Их лучшие картины изображают не действительное какое-нибудь событие из священной истории, а ту или другую истину веры, то либо другое догматическое учение; Хуберт ван Эйк смотрит на живопись, подобно Симоне Мемми или Таддео Гадди, как на лицевое изложение высшего богословия; сколь ни реальны его лица и его аксессуары, все же они чисто символичны по характеру. Собор, в котором Рогир ван дер Вейден изображает семь таинств, есть вещественная церковь и церковь мистическая: там Иисус Христос истекает кровью на кресте в то самое время, когда священник совершает перед алтарем обедню. Комната или портик, в котором Ян ван Эйк и Мемлинг ставят своих коленопреклоненных святых, поразительны необыкновенно тщательною отделкой мелочей и своей законченностью; но Св. Дева на престоле и окружающие ее ангелы показывают верному, что он здесь тем не менее в сфере высшего мира. Иерархическая симметрия группирует лица и око-сняет позы. У Хуберта ван Эйка взгляд неподвижен и лицо бесстрастно; это вечная невозмутимость божественной жизни: на небе все завершено, закончено; время остановилось там в своем течении. В другой раз у Мемлинга вы видите ясное спокойствие безусловной веры, мир души, сохраняющийся в тиши монастырской обители, как в спящем, заколдованном лесу, непорочную чистоту, грустную кротость, бесконечное послушание истинной инокини, которая живет, погруженная в тихую область своих грез, и глядит во все глаза, ничего не видя! Короче, эта живопись вся сплошь картины для молельни и алтаря; они не обращаются, как картины последующих эпох, к знатным господам, которые заходят в церковь только по укоренившемуся навыку и ищут языческой пышности и торса борцов даже и в религиозных изображениях; они стоят там для верующих, чтобы напоминать им образы высшего мира или чувства искренней набожности, чтобы показать им безмятежную ясность прославленных святых и трогательное смирение душ, избранных свыше; Рейсбрук, Экхарт, Таулер, Генрих Сузский, мистики-богоеловы, предшествовавшие в Германии XV века Лютеру, могли бы подойти сюда по всем правам. Странное зрелище, по-видимому не мирящееся с чувственным великолепием придворной жизни и пышными вступлениями в города. Подобное же противоречие находим мы между глубоко религиозным чувством, о каком свидетельствует мадонна Альбрехта Дюрера, и тем светским великолепием, какое обличает его Дом Максимилиана. Это потому, что мы и тут опять у германцев; возрождение общего благосостояния и освобождение мысли, являющееся его следствием, обновили здесь христианство, вместо того чтобы разложить его, как это произошло у латинян.
II
Вторая эпоха. XVI столетие. — Освобождение умов и полемика с клерикалами. — Животные и чувственные нравы. — Праздники и ходы так называемых риторских палат. Постепенное преобразование живописи. — Преобладание сюжетов светских и человечных. — Надежды, подаваемые новым искусством. — Влияние итальянских образцов. — Несообразность итальянского искусства с духом фламандцев. — Двусмысленный и плохой вообще стиль новой школы. — Возрастающее влияние итальянских мастеров, начиная с Иоанна Мабуза до Оттона Вениуса. — Устойчивость туземного стиля и туземного духа в живописи жанра, пейзажей и портретов. — Революция 1572 года. — Раздвоение народа и искусства.
Когда совершается какая-нибудь важная перемена в человеческом быту, она постепенно вносит соответственное изменение и в общие человеческие понятия. После открытия Индии и Америки, после изобретения печати и распространения книг, после возрождения классической древности и реформы Лютера общее понятие людей о мире не могло долее оставаться монашеским и мистическим. Меланхолично умилительная греза души, вздыхающей по своей небесной родине и смиренно подчиняющей свои действия не оспариваемому никем авторитету церкви, уступала место свободному разбору ума, вскормленного на обильном запасе новых понятий, и стушевалась перед дивным зрелищем действительного мира, который человек начинал понимать и покорять. Палаты риторики, состоявшие сперва из одних духовных лиц, переходят теперь в руки мирян; они проповедовали неукоснительный взнос десятины и беспрекословную покорность церкви; теперь они подсмеиваются над духовенством и преследуют его злоупотребления. В 1533 году девять амстердамских горожан приговорены сходить на богомолье в Рим за представление одной из таких сатирических пьесок. В 1539 году в Генте на вопрос: кто глупее всех на свете? — одиннадцать палат из девятнадцати ответили: католические монахи. ’’Постоянно, — говорит один современник, — какие-нибудь бедные монахи или монашенки играют в комедии свою роль; казалось, нельзя потешиться без того, чтоб не поднять на смех Церковь и духовенство”. Филипп II определил смертную казнь сочинителям и актерам тех пьес, которые не были дозволены или заключали в себе что-либо нечестивое. Но, несмотря ни на что, их продолжали играть даже и по селам. ’’Благодаря именно комедиям, — говорит тот же писатель, — Слово Божие впервые проникло в те края; поэтому их и запрещали несравненно строже, нежели книги Мартина Лютера”[48]. Явно, что ум вышел из-под стародавней опеки и что народ, мещане, ремесленники, купцы — все начинают сами рассуждать о нравственных предметах и о спасении.
В то же время богатство и необыкновенное благосостояние края влекут волей и неволей к живописному и чувственному быту; здесь, как и в тогдашней Англии, под пышною обстановкой Возрождения кроется глухое протестантское брожение. Когда в 1520 году Карл V торжественно вступал в Антверпен, Альбрехт Дюрер видел там четыреста двухэтажных триумфальных арок длиною в сорок футов каждая, украшенных живописью и служивших сценой для аллегорических представлений. Фигурантками были молодые девушки из лучших городских семейств, прикрытые одним только легким газом, ’’почитай, нагие, — говорит честный немецкий художник. — Редко видал я таких красавиц; я смотрел на них очень пристально, даже до наглости, потому что я ведь живописец”. Праздники риторских палат становятся великолепными; город с городом и общество с обществом соперничают в роскоши и в мастерстве на аллегорические измышления. По вызову антверпенского общества Желтофиолей четырнадцать палат посылают туда в 1562 году свои триумфы, и палата Гирлянды Марии из Брюсселя получает награду, ’’потому, — говорит ван Меттерен, — что их в самом деле было триста сорок человек верховых, все в бархате и шелку ало-красного цвета, в длинных польских жупанах, отороченных серебряными позументами, в красных шапках, на манер древних шишаков; подлатники, плюмажи и полусапожки на них были белые, пояса из серебряного глазета с узором, затканным желтым, красным, голубым и белым. При них было семь колесниц, сделанных по-древнему, с различными ряжеными седоками, да семьдесят восемь обыкновенных телег с факелами, покрытых красным сукном с белой каймою. Все возницы были в красных плащах, а седоки изображали собой прекрасные античные фигуры, намекавшие на то, как приятно людям дружески собираться вместе, чтобы дружески потом и разойтись”. Палата Пиона из Мехельна является почти с таким же великолепием: триста двадцать человек верховых, все в алом этамине[49], шитом золотом, семь древних колесниц, везущих разные фигуры, шестнадцать телег, расписанных геральдическими знаками и светящихся разнообразными огнями. Присоедините к этому въезд двенадцати других процессий и перечтите все последовавшие затем комедии, пантомимы, потешные огни и угощения. ’’Там было много и других подобных игр, дававшихся в мирное время по разным городам края... Я счел нелишним распространиться об этом, — говорит ван Меттерен, — чтобы показать, каким добрым согласием и благоденствием пользовались в ту пору эти земли. По отбытии Филиппа II на место одного двора как будто их развелось полтораста”. Вельможи щеголяли друг перед другом роскошью, держали открытый стол и бросали деньги без счету; однажды принц Оранский, желая поуменьшить свой штат, рассчитал двадцать восемь старших поваров одним разом. Знатные дома кишели пажами, прислугой из дворян, великолепными ливреями; Возрождение в полном своем соку обнаруживалось здесь таким же безрассудством и такими же порывами крайнего увлечения, как и в Англии при Елизавете I: богатейшие одежды, кавалькады, игры, роскошные столы были нипочем. Граф Бредероде на одном святомартиновском пиру допился чуть не до смерти; брат рейнграфа так-таки и умер за столом жертвою чрезмерной любви своей к мальвазии. Никогда жизнь не казалась столь заманчивой и прекрасной. Подобно тому как во Флоренции за предшествующий век, при Мединах, она и здесь утратила свой трагический характер; угнетенный прежде человек мало-помалу распустился; убийственные мятежи, кровавые междоусобия городов и корпораций прекратились; мы находим только одно восстание в Генте в 1536 году, да и то легко подавленное без большого кровопролития, — последний слабый толчок, которого нельзя и сравнивать с грозными мятежами XV века. Три правительницы: Маргарита Австрийская, Мария Венгерская и Маргарита Пармская — все пользуются популярностью; Карл V — прямо национальный государь: говорит по-фламандски, хвалится, что он гентский уроженец, покровительствует своими установлениями промышленности и торговле страны. Он старается и уберечь ее, и обогатить; за то Фландрия одна дает ему чуть не половину всех его доходов[50]; в стаде подвластных ему государств это — жирная молочная корова, которую можно походя доить, не истощая. Таким образом, по мере раскрытия ума, смягчается окружающая его .температура; эти условия для всхода новой растительности; зачатки первого появления ее мы видим в празднествах риторских палат, в классических представлениях, совершенно похожих на карнавал флорентинцев и уже много разнящихся от причудливых выдумок на банкетах герцогов бургундских. Палаты Фиалки, Маслины и Гвоздики в Антверпене, говорит Гвиччардини, публично дают у себя ’’комедии, трагедии и другие истории в подражание грекам и римлянам”. Нравы, идеи и вкусы совсем, можно сказать, переродились, и новому искусству открыт теперь полный простор.
Уже и в предыдущую эпоху заметны были признаки готовящейся перемены. Ведь от Хуберта ван Эйка до Квентина Матсиса величие и важность религиозного замысла, видимо, уменьшились. Никто уж и не думает выразить в одной картине всю веру и все христианское богословие; теперь берут только отдельные евангельские и исторические сцены, благовещения, поклонения волхвов, страшные суды, мученичества, нравоучительные легенды. Эпическая в руках Хуберта ван Эйка живопись становится идиллической у Мемлинга и почти светскою у Квентина Матсиса. Она делается трогательною, интересною, грандиозною. Очаровательные святые, прекрасная Иродиада и статная Саломея Квентина Матсиса — уже разряженные, и светские притом, барыни; художнику приятен действительный мир сам по себе, и он уже не делает из него только представителя иного, сверхъестественного мира; действительность теперь уже не средство, а сама цель. Сцены светских нравов плодятся день ото дня; художник пишет горожан в их лавке, пишет весовщиков золота, пишет исхудалые лица и хитрые улыбки скряг, пишет влюбленные парочки. Современник его, Лука Лейденский, — прадед тех живописцев, которых мы зовем ’’мелкими фламандцами”; его Явление Христа народу и Танец Магдалины религиозны только по имени, евангельская личность теряется там в аксессуарах; действительно же картина представляет фламандский праздник в деревне или толпу фламандцев на площади. В то же время Хиеронимус Босх пишет забавную и комическую чертовщину. Ясно, что искусство упало с неба на землю и предметом своим избирает не божественное, а человеческое. Между тем все приемы, все подготовительные работы у них в руках; они понимают перспективу, знают употребление масла, мастера на лепку и рельеф; они изучили действительные типы, умеют писать платье, аксессуары, архитектурные предметы, пейзажи с изумительной точностью и законченность; ловкость руки их поразительна. Единственный недостаток задерживает их еще в области церковного искусства: неподвижность фигур и жесткие складки тканей. Им остается только изучить живую игру физиономии и вольное движение распущенной одежды; после этого возрождение совершится вполне; веяние времени так и гонится за ними и вздымает уже их паруса. Глядя на их портреты, на их внутренности домов, даже на священные их лица, например в Погребении Иисуса Квентина Матсиса, так и хотелось бы сказать им: ”Вы уж живы, еще одно усилие; ну, трогайтесь же и выходите совсем из средних веков. Изображайте нового человека, которого вы видите в себе самих и вне вас; пишите его сильным, здоровым, довольным жизнью; забудьте чахлое, аскетическое, задумчивое создание, мечтающее в капеллах Мемлинга; если сюжетом для картины вы берете религиозное сказание, сочиняйте ее, как итальянцы, из деятельных и здоровых фигур; но пусть фигуры эти будут создания вашего национального и личного вкуса; у вас ведь тоже есть своя душа; она фламандская, а не итальянская; да распустится ваш цветок; судя по завязям, он должен быть прекрасен”. И в самом деле, рассматривая изваяния того времени: камин в судебной палате и гробницу Карла Смелого в Брюгге, церковь и надгробные памятники в Броу, — вы находите многообещающее самобытное и полное искусство, правда, не так пластичное и чистое, как в Италии, но более разнообразное, выразительное, более отдавшееся природе, не так связанное правилом, более близкое к действительности, более способное проявить личность и душу, любую выходку, любой неожиданный порыв, разнообразие, высоту и низменность воспитания, житейских условий, темперамента, возраста, особи — короче, германское искусство, возвещающее поздних преемников ван Эйкам и ранних предшественников Рубенсу.
Они совсем не явились или, по крайней мере, плохо выполнили свое призвание. Это потому, что народ живет на свете не один; наряду с фламандским Возрождением стояло Возрождение итальянское, и большое дерево заглушило маленький кустик. Оно цвело и разрасталось целое столетие; литература, идеи, мастерские произведения скороспелой Италии закрепостили себе опоздавшую Европу, и города Фландрии, благодаря своей торговле, австрийская династия, благодаря своим владениям и делам в Италии, познакомили север со вкусами и образцами новой цивилизации. В 1520-х годах фламандские живописцы начинают брать пример с художников Флоренции и Рима. Иоанн Мабуз первый в 1513 году, возвратясь из Италии, ввел в прежний стиль приемы итальянского искусства, а другие последовали за ним. Оно ведь так естественно, вступив в неведомую страну, пойти по проторенной уже дороге! Но она проложена не для тех, кто пошел по ней, и длинная вереница фламандских колесниц сбивается и вязнет в чужой глубокой колее, прорезанной другими колесницами. Две черты свойственны итальянскому искусству, и обе они противны для фламандского воображения. С одной стороны, искусство это все сосредоточивается вокруг естественного человеческого тела, здорового, деятельного, сильного, одаренного всеми атлетическими подспорьями, т. е. нагого или полудрапированного, прямо языческого, свободно и благородно под открытым небом пользующегося своим телом, своими инстинктами и всеми своими животными способностями, как делал это какой-нибудь древний грек в своем городе и в своей палестре или как теперь еще делает какой-нибудь Челлини на улицах и по большим дорогам. Но фламандцу нелегко ужиться с таким воззрением. Он ведь из холодного и сырого климата, где нагого пронимает дрожь. Человек там не отличается прекрасной соразмерностью и теми вольными позами, каких требует классическое искусство; часто он приземист или слишком раскормлен; более мягкое, вялое, розоватое его тело требует прикрытия. Воротясь из Рима и желая продолжать работу в духе итальянского искусства, живописец во всем окружающем найдет противное тому, на чем он воспитан; он не в состоянии уже подновлять свое чувство сближением с живой природой, ему остаются для этого одни воспоминания. К тому же он германец или, иными словами, в основе его лежит нравственное благодушие и даже стыдливость; ему трудно сродниться с языческой идеей о нагой жизни; еще труднее ему понять роковую и горделивую мысль[51], руководящую цивилизацией и возбуждающую искусства по ту сторону Альп, мысль о человеческой особи, полной, самовластной, стоящей выше всякого закона, подчиняющей все: и человека, и мир вещественный — развитию своей собственной природы и росту своих способностей. Наш живописец приходится сродни, хотя и не совсем близко, Мартину Шонгауэру и Альбрехту Дюреру; он — довольно послушный и степенный гражданин, любитель удобств и приличий, склонный к семейной жизни и домашнему быту. Биограф его, Карел ван Мандер, в начале своей книги уснащает ее нравственными поучениями. Прочтите этот патриархальный трактат и сообразите расстояние, отделяющее какого-нибудь Россо, Джулио Романо, Тициана, Джорджоне от их лейденских или антверпенских учеников. ’’Всякий порок, — говорит нам честный фламандец, — влечет за собой свое наказание. Опровергните поговорку, гласящую, что лучший живописец всех беспутнее. Недостоин тот названия художника, кто ведет дурную жинь. Живописцы никогда не должны ссориться и драться. Плохое искусство — расточать свое добро. Избегайте в молодости волочиться за женским полом. Берегитесь легкомысленных женщин, от которых гибнет много живописцев. Подумайте хорошенько, прежде чем пускаться в Рим: там слишком много случаев тратить деньги, а наживать их нет возможности. Вечно благодарите Бога за щедрые его дары”. Следуют особые советы насчет гостиниц, одеял и клопов в Италии. Ясно, что подобные ученики, даже и много занимаясь, способны составить из себя разве только академии; уже по самой своей природе они не представляют себе человека иначе как лишь одетым; когда, по примеру своих итальянских учителей, они захотят изобразить нагое тело, то в работе их не будет ни свободы, ни порыва, ни живого творчества; да и в самом деле, во всех их картинах вы найдете только холодное, щепетильное подражание; добросовестность обращается у них в педантство; они дурно и рабски делают то, что за Альпами исполняется хорошо и естественно. С другой стороны, итальянское искусство, подобно греческому и вообще всякому классическому искусству, упрощает с целью украсить; оно исключает, скрадывает и умаляет подробности — таков прием его, чтобы дать более значения важнейшим, крупным чертам; Микеланджело и прекрасная флорентийская школа подчиняют им или совсем исключают аксессуары, пейзажи, здания, костюм; существенное для них — величавый и благородный тип, анатомическое и мышечное строение, нагое или полудрапированное тело, взятое само по себе, отвлеченно, с исключением всех частностей, составляющих данную особь и обозначающих ее профессию, воспитание и общественное положение; это человек вообще, а не именно тот, кого они изображают. Лица их принадлежат какому-то высшему миру, потому что они небывалые на земле явления; существеннейший характер изображаемых ими сцен — уничтожение времени и места. Ничего не может быть более перечащего германскому и фламандскому гению, который, напротив, видит вещи как они есть, во всей их полноте и сложности, который в человеке кроме человека вообще схватывает еще современника, горожанина, мужика, рабочего, да притом известного горожанина, известного рабочего, известного мужика, — который аксессуарам человека придает столько же значения, как и ему лично, который любит не человеческую только природу, но и всякую другую, одушевленную и неодушевленную, — скот, лошадей растения, пейзаж, небо, даже воздух, — который, по большей широте своих сочувствий, не пренебрежет решительно ничем, а по большей кропотливо сти своего взгляда захочет все это выразить. Понятно, что если он когда и подчинится другой, столь перечащей ему дисциплине, то через это только утратит действительно принадлежащие ему качества, не приобретя тех, которых у него нет; для того чтобы пробавляться кое-как в идеальном мире, он должен будет ослабить свой колорит, позабыть свое чувство воздуха и света, стушевать верные подробности своего жилья и наряда, отнять у своих фигур оригинальную неправильность, свойственную портрету и любой данной личности вообще, вынужден будет умерить слишком бойкий жест, которым невольно высказывается деятельная природа, но вместе и нарушается идеальная симметрия. Ему трудно будет принести все эти жертвы; инстинкт его уступит лишь наполовину воспитанию; в его попытках усвоить себе итальянский стиль легко будет распознавать фламандские воспоминания; то те, то другие элементы будут преобладать в одной и той же картине по очереди; они взаимно помешают друг другу произвести весь свой эффект, и эта живопись нерешительная, неполная, колеблющаяся между двумя стремлениями, поставит разве исторические документы, а уж отнюдь не прекрасные художественные произведения.
Таково зрелище, наполняющее во Фландрии три последние четверти XVI века. Подобно небольшой реке, в которую впадает сильный приток и в которой смешанные от того воды становятся мутными, пока не окра сится вполне притоком, — так же точно и национальный стиль, наводненный итальянским, сперва пестрится им беспорядочно и кое где, потом мало-помалу исчезает, изредка лишь блеснет на поверхности и, наконец, осядет в самую глубь, между тем как пришлый элемент выставится напоказ и привлечет на себя все взоры. Любопытно проследить в музеях эту борьбу двух течений и странные эффекты, производимые их помесью. Первая итальянская волна прихлынула с Иоанном Мабузом, Барентом ван Орлеем, Ламберто Ломбардо, Яном Мостартом, Яном Скорелем, Лини лотом Блонделем. Они вносят в свои картины классическую архи тектуру, пилястры из пестрого мрамора, медальоны, раковистые понизи, иногда триумфальные арки и кариатиды, а подчас благородные и мощные фигуры женщин, драпированные по-античному, нагое тело, дышащее здоровьем, хорошо сложенное, полное жизни, породистое и крепкое, как в языческие времена; к этому сводится все их подражание; во всем прочем они следуют национальному преданию. Их картины остаются небольшими, как и следует жанровым сюжетам; почти всегда они сохраняют сильный и богатый колорит предыдущей эпохи: гористую, синеватую даль Яна ван Эйка, ясные небеса, слегка оттененные изумрудом на горизонте, великолепные ткани, испещренные золотом и дорогими каменьями, могучий рельеф, кропотливо-точную отделку подробностей, степенные и честные головы горожан. Но, не сдерживаясь уже более церковной важностью, они при общем стремлении к эмансипации впадают в наивные неловкости и в несообразности, доходящие до смешного; дети Иова, придавленные развалинами своих хором, беснуются, гримасничают и коверкаются у них, как безумные; на другом створе триптиха дьявол, сильно смахивающий на маленькую летучую мышь, несется по воздуху прямо к маленькому Богу, изображению вроде тех, какие пишутся на католических требниках. Слишком длинные ноги, руки аскетические и сухопарые искажают даже и более удавшееся иногда тело. В Тайной вечери Ламберто Ломбардо к давинчиевскому расположению частей примешиваются тяжеловесности и плоскости чисто уж фламандские. Барент ван Орлей в своем Страшном суде вводит чертей Мартина Шонгауэра в среду академических фигур, писанных по Рафаэлю.
В следующее поколение растущий со дня на день прилив наводняет собою все. Микиель Кокси, Геэмскерк, Франс Флорис, Мартин де Вос, семья Франкен, Карел ван Мандер, Спрангер, Пурбус Старший, позже Гольциус и бездна других похожи на людей, которые объяснялись бы только по-итальянски, но с крайним затруднением, с отвратительным выговором, и притом далеко не без варваризмов. Полотно теперь заметно увеличивается и подходит к обычным размерам исторических картин; манера писать не так уже проста, как прежде; Карел ван Мандер укоряет своих современников за то, что они ’’дают кисти слишком набираться краскою”, чего прежде никогда не делалось, и чересчур уж замазывают картину. Колорит между тем гаснет; он все более и более становится белесоватым, меловым и бледным. Художники страстно бросаются на изучение анатомии, ракурсов и мускулатуры; рисунок у них выходит сух и жесток, напоминая ювелиров, современных Поллайоло, и преувеличивающих учеников Микеланджело; живописец тяжело или чересчур усиленно напирает на науку; он слишком явно стоит на желании доказать, что ему под силу справиться со скелетом и передать любое движение; вы найдете таких Адамов и Ев, таких св. Севастьянов, такие Избиения младенцев, таких Горациев Коклесов, которые походят на живых ободранных людей, причудливых до крайности; они так, кажется, и хотят выскочить из кожи. Если же фигуры эти иногда поумереннее, если живописец, подобно Франсу Флорису в его Падении ангелов, скромно подражает хорошим классическим образцам, то все же наготы его немногим от того лучше; чувство реального и причудливое германское воображение все-таки вторгаются в идеальные формы; демоны с головами кошки, вепря или рыбы, снабженные хоботами, когтями, гребнями и изрыгающие из пасти пламя, вводят в среду благородного Олимпа какую-то скотскую комедию и какой-то фантастический шабаш; это — шутовские выходки Тенирса, вставленные в поэму Рафаэля. Другие, как Мартин де Вое, лезут вон из сил, чтобы создать большую религиозную картину, написать фигуры, подобные античным, латы, драпировки и хламиды, отличиться расположением частей, бьющих на правильность, жестами, стремящимися к благородству, касками и головами оперного театра; но они по существу жанристы, любители реального и аксессуаров; ежеминутно впадают они опять в свои фламандские типы и хозяйственные подробности; картины их — ни дать ни взять раскрашенные и увеличенные эстампы; они были бы гораздо лучше, будь они маленькие. Вы чувствуете в артисте сбившийся с пути талант, изнасилованную природную способность, инстинкт, примененный совсем навыворот, прозаика, который рожден для того, чтобы рассказывать бытовые сцены, и которому общественный вкус заказывает эпопеи, писанные длинными александрийскими стихами[52]. Еще одна волна, и последние остатки национального гения затонут совершенно. Один живописец благородного происхождения, хорошо воспитанный, получивший образование от ученого, светский и придворный человек, любимец итальянских и испанских вельмож, заправляющих делами Нидерландов, Оттон Вениус, проведя семь лет в Италии, выносит оттуда благородные и чистые античные типы, прекрасный венецианский колорит, нечувствительно сливающиеся, постепенно слабеющие тоны, тени, пронизанные светом, легкий багрянец тел и иссохших листьев; кроме силы вдохновения, он во всем прочем итальянец; в нем нет уже ничего своенародного; разве только изредка какой-нибудь обрывок костюма, чистосердечная поза какого-нибудь присевшего на отдых старика еще связывают его с родиной. Живописцу только остается совершенно ее покинуть. Дионис Кальварт поселяется в Болонье, заводит там школу, соперничает с Карраччами и становится учителем Гвидо; так что фламандское искусство как бы добровольно стремится к самоуничтожению на пользу исключительно других.
И, однако, оно продолжает существовать даже и под чужим игом. Сколько бы ни поддался дух народа иноземному влиянию, он воспрянет снова: влияние это ведь временно, а дух народа вечен; он проник в плоть и кровь, в воздух и почву, в телостроение и в деятельность чувств и мозга; это — жгучие, непрестанно обновляемые, всюду присущие силы, которых мимолетная прелесть высшей цивилизации не может ни уничтожить, ни надломить. Вы видите это уже из того, что два рода художественных произведений остаются чистыми посреди возрастающей порчи всех прочих. Мабуз, Мостарт, ван Орлей, оба Пурбуса, Ян ван Клеве, Антонис Моор, оба Миревельта, Павел Мореэльс пишут удивительные портреты; на складнях фигуры жертвователей, расположенные все в один ряд по сторонам, своей чистосердечной правдой, невозмутимой серьезностью и простодушной глубиною выражения часто составляют решительный контраст с холодностью и искусственным расположением главной картины (т. е. образа в среднем поле складня); зритель, глядя на них, невольно одушевляется; вместо кукол, манекенов он встречает вдруг настоящих живых людей. С другой стороны, возникает живопись жанра, пейзажа и внутренности жилых покоев. После Квентина Матсиса, Луки Лейденского она идет дальше в работах Яна ван Гемессена, братьев Брейгель, Винкебоомса, троих Валькенбургов, Петера Нефса, Павла Бриля, особенно у целой массы граверов и иллюстраторов, которые в летучих листках или в книгах воспроизводят моральные сцены, бытовые сцены, разные процессии, сословия и события текущего дня. Конечно, живопись эта очень долго остается фантастическою и шутовскою; она путает природу по прихоти своего беспорядочного воображения; она не хочет еще знать ни постоянных форм, ни постоянного цвета гор и деревьев, лица ее в полнейшем между собой разладе, и посреди современных костюмов она вдруг бросит вам диковинных чудовищ, вроде тех, каких водят напоказ по базарам и в храмовые праздники. Но все эти промежуточные шаги вполне естественны и исподволь приводят ее к окончательному состоянию — к пониманию и любви действительной жизни, какою предстает она глазам. Здесь, как и в портретной живописи, цепь развития выходит полною, а металл всех звеньев ее — отечественный, национальный; через Брейгелей, Павла Бриля и Петера Нефса, через Антониса Моора, Пурбусов и Миревельтов она выходит в прямую связь с фламандскими и голландскими мастерами XVII века. Строгость прежних фигур теперь смягчилась, мистический пейзаж стал реальным, совершился переход от божественной эпохи к эпохе человеческой. Это самородное и правильное развитие доказывает, что национальные инстинкты выдерживают и господство модной иноземщины; только приподыми их какой-нибудь толчок, они тотчас оживают и искусство преобразовывается, подлаживаясь под общественный уже вкус. Толчком этим был великий мятеж, начавшийся в 1572 году, —долгая и страшная война за независимость, столь же величавая в своих событиях, столь же обильная последствиями, как и наша французская революция. Там, как и у нас, обновление нравственного мира обновило и мир идеальный; фламандское и голландское искусство XVII века, подобно французскому искусству и французской литературе XIX века, вышло обратным отражением громадной трагедии, разыгравшейся в течение тридцати лет и стоившей многих тысяч людских жизней. Но здесь эшафоты и битвы, разрезав нацию надвое, образовали из нее два народа: один — католический и легитимистский, Бельгия, другой — протестантский и республиканский, Голландия. Соединенные вместе, они жили одним общим духом; разделенные и противопоставленные друг другу, они выработали каждый для себя свой особый дух. Антверпен и Амстердам дошли до различных понятий о жизни, а оттого породили и две разные школы живописи: раздвоивший страну политический кризис раздвоил вместе и искусство.
III
Третья эпоха. — Образование Бельгии. — Как она становится католическою и подвластною. — Правление эрцгерцогов и восстановление страны. — Обновление воображения и чувственный взгляд на жизнь. — Школа XVII столетия. — Рубенс. — Сходства и разности между этим искусством и искусством итальянским. — Произведения его католические по названию, в сущности языческие. — В чем искусство это народно. — Идея живого тела. — Крейер, Йорданс и Ван Дейк. — Перемена в политическом положении и в нравственной среде. — Упадок живописи. — Конец живописной эпохи.
Чтобы понять рождение школы, носящей имя Рубенса, необходимо поближе взглянуть на образование Бельгии[53]. До войны за независимость южные области, по-видимому, столько же были склонны к реформе, как и северные. В 1566 году шайки иконоборцев опустошили соборы в Антверпене, Генте и Турне и повсюду, в церквах и аббатствах, уничтожили иконы и украшения, казавшиеся им идолопоклонством. В окрестностях Гента толпы вооруженных кальвинистов в десять и двадцать тысяч человек собирались слушать проповеди Германа Штриккера. Вокруг костров все присутствующие пели псалмы, иногда побивали камнями палачей и освобождали осужденных. Чтобы прекратить сатиры, выходившие из риторских палат, пришлось издать против них декрет о смертной казни, а когда герцог Альба начал свои душегубства, вся страна взялась за оружие. Но отпор на юге не был таким же, как на севере, потому что на юге германская кровь, независимое и протестантское племя были не совсем чисты: смешанное, говорящее по-французски население, валонцы, составляли половину обитателей. К тому же так как земля там богаче и жизнь привольнее, то и энергии было меньше, а чувственности более; человек был менее готов страдать и более склонен наслаждаться. Наконец, почти все валонцы, и притом знатнейших семейств, которых придворная жизнь привязывала к придворным понятиям, были католиками. Поэтому-то южные провинции бились не с тем неодолимым упрямством, как северные. Тут не было ничего подобного осадам Маастрихта, Алькмаара, Гарлема, Лейдена, где женщины, стоя в рядах солдат, умирали на проломах. После взятия Антверпена герцогом Пармским все десять провинций покорились и начали новую жизнь особняком. Самые непреклонные из граждан и самые ревностные кальвинисты погибли в битвах и на эшафоте или бежали на север в пределы семи свободных провинций. Палаты риторов все туда переселились. К концу административной деятельности герцога Альбы выходцев насчитывали до шестидесяти тысяч семейств; после взятия Гента ушло еще одиннадцать тысяч жителей; после капитуляции Антверпена четыре тысячи ткачей отправились в Лондон. Антверпен лишился половины своих жителей; Гент и Брюгге — двух третей; целые улицы там опустели; на главной из них, в Генте, лошади пощипывали травку. Большая хирургическая операция опорожнила народ от всего, что испанцы называли испорченной его кровью; по крайней мере, оставшаяся кровь была уже зато самою спокойною. У германских племен есть громадный запас покорности; вспомните немецкие полки, вывезенные в Америку в XVII веке и проданные на убой своими мелкими деспотами-правителями; здесь, как скоро государь раз принят народом, ему остаются верны до конца; если у него есть писаные права, он считается неоспоримо законным; все склонно чтить раз установившийся порядок. Да к тому же и постоянный гнет неотвратимой необходимости все-таки делает ведь свое дело: человек свыкается с известным строем вещей, когда видит, что изменить его невозможно; те части или стороны его характера, которые не могут при этом развиваться, глохнут, замирают, но другие расцветают зато в большой полноте. В истории народа есть моменты, когда он бывает похож на Иисуса Христа, искушаемого на вершине горы дьяволом: ему предстоит выбор между жизнью героической и обиходной. Тут искусителем был Филипп II со своими армиями и палачами; подвергнутые одинаковому испытанию, народ севера и народ юга решили различно, смотря по небольшим на вид разностям в своем составе и. характере. А по совершении выбора разности эти стали возрастать, преувеличиваемые действием вызванного им же в начале положения. Оба народа были сперва двумя почти неотличимыми разностями одного и того же вида; теперь они превратились в два вида, решительно уже разные. С нравственными типами вышло то же самое, что и с органическими: вначале они идут от одного корня, но в дальнейшем своем развитии все более и более расходятся; это оттого, что они слагались, пустившись уже врозь. Отныне южные провинции становятся Бельгией. Тут господствуют потребность мира и благосостояния, наклонность брать жизнь с ее приятной и веселой стороны — короче, дух Тенирса. В самом деле, ведь и в полуразвалившейся избушке или в совсем голой харчевне, на простой деревянной скамье можно себе смеяться, петь, покуривать трубочку, пропустить в себя добрую кружку; недурно также сходить к обедне, представляющей отличную церемонию, или рассказать свои грехи иезуиту, который вообще довольно сговорчив на этот счет. По взятии Антверпена Филипп II с удовольствием узнает, что причащаться стали гораздо больше. Монастыри основываются десятками. ’’Замечательно, — говорит один очевидец, — что со времени благодатного прибытия эрцгерцогов тут учреждено новых обителей гораздо больше, чем в двести предшествовавших лет”; строятся францисканцы, преобразованные кармелиты, монахи собственно ордена Благовещения и в особенности иезуиты; в самом деле, последние вносят сюда новую форму христианства, более соответственную положению страны и как нарочно сочиненную наперекор протестантской форме. Будьте только смиренны умом и сердцем, во всем остальном — терпимость и снисхождение; надо по этому поводу взглянуть на современные портреты, между прочим, на весельчака, бывшего духовником Рубенса. Тут возникает казуистика на случай затруднительных вопросов, и под ее владычеством куда как привольно всем ходячим, обиходным грешкам. К тому же сам культ теперь вовсе не суров, а под конец он просто сделался занимателен. В это-то время внутреннее убранство старинных и важных на вид соборов становится мирским и чувственным: множество затейливых прикрас, пламенеющие огни, лиры, помпоны, узорчатые росчерки, настилки пестрым мрамором, алтари, подобные оперным фасадам, странно и забавно изукрашенные кафедры, на которых нагроможден целый зверинец разных животных; что до новостроящихся церквей, то и внешность их вполне отвечает внутренности; в этом отношении особенно поучительна церковь иезуитов, построенная в Антверпене в начале XVII века: это гостиная, полная разных этажерок. Рубенс расписал там тридцать шесть плафонов, и любопытно видеть здесь, да и в других местах, как аскетическое и мистическое верование принимает в качестве назидательных сюжетов самые цветущие и, как нарочно, раскрытые наготы полных кровь с молоком Магдалин, мясистых св. Севастьянов, мадонн, в которых так и впился сладострастными глазами какой-нибудь черный, как арап, волхв, — одним словом, такую выставку тел и тканей, которая роскошью соблазнов и торжествующей чувственностью перещеголяла флорентийский карнавал.
Между тем преобразование политического быта содействует и преобразованию умов. Прежний деспотизм значительно поотпустил вожжи; суровость герцога Альбы сменилась снисходительностью герцога Пармского. После ампутации, когда у человека выпущено много крови, ему необходимы успокаивающие и крепительные средства; оттого, усмирив Гент, испанцы не дают уже хода своим страшным указам против ереси. Нет более смертных казней: последней мученицей была несчастная служанка, погребенная заживо в 1597 году. В следующем столетии Йорданс мог спокойно перейти в протестантизм с женою и со всем ее семейством, даже не рискуя растерять заказчиков. Эрцгерцоги предоставляют городам, корпорациям управляться по старому обычаю, самим облагаться податью и вести свои дела; когда им захочется освободить от сторожевой службы или от лишнего побора ’’Бархатного” Брейгеля, они ходатайствуют об этом у городской общины. Власть становится правильной, полулиберальной, почти народной; нет более вымогательств, набегов и насилий, как при испанцах. Наконец, чтобы удержать за собой край, Филипп II был вынужден оставить его фламандским, сделать особой державою. В 1599 году он отделяет его от Испании и предоставляет в собственность эрцгерцогской чете, Альбрехту и Изабелле. ’’Испанцы не могли лучше поступить, — пишет французский посол по этому случаю, — им не удержаться бы в стране, не дай они ей этой новой формы: ведь все уже готово было восстать”. В 1600 году собираются Генеральные Штаты (земские чины) и решают разные преобразования. Из показаний Гвиччардини и других путешественников видно, что древняя конституция вышла почти неприкосновенною из развалин, под которыми погребли ее военные насилия. ”В Брюгге, — пишет в 1653 году Монконис, — есть свой общественный дом у каждого ремесле-ного цеха; туда его члены сходятся по делам общины или для веселья; все цехи разделены на четыре части (чети), под управлением четырех бургомистров (или голов); у последних и ключи от города, а губернатор судит и рядит только над военным людом”. Эрцгерцоги ведут себя умно и заботятся об общем благе. В 1609 году они заключают мир с Голландией; в 1611-м их вековечный эдикт завершает восстановление края. Они уже популярны или по крайней мере становятся популярными; Изабелла собственноручно сбивает на Саблонской площади птицу в большом состязании самострельцев (arbaletries). Альбрехт слушает в Лувене курсы Юстуса Липсия. Они любят, радушно принимают и привязывают к себе знаменитых художников — Оттона Вениуса, Рубенса, Тенирса, ’’Бархатного” Брейгеля. Риторские палаты расцвели теперь опять; университеты пользуются покровительством; в самой среде католицизма, под рукой иезуитов, подчас даже и рядом с ними, совершается род умственного возрождения, являются богословы, контроверсисты, казуисты, ученые, географы, врачи, даже историки; Меркатор, Ортелий, ван Гельмонт, Янсений, Юстус Липсий — все фламандцы и все принадлежат к этому времени. ’’Описание Фландрии” Зандера — огромный труд, стоивший бесконечной работы, истинный памятник национального рвения и патриотической гордости. Короче, если вы хотите представить себе тогдашнее положение края, взгляните теперь на один из ее мирных и упавших городов, хоть, например, на Брюгге. Сэр Дедли Карльтон, проезжая в 1616 году через Антверпен, находит его прекрасным, хотя и совершенно почти пустым; он нигде не повстречал ’’сорока человек по всей длине улицы”, ни одной кареты, ни одного всадника, ни одного покупателя в лавке. Но дома содержатся хорошо; все чисто и тщательно прибрано. Крестьянин выстроил заново свою сожженную избу и уже работает в своем поле; хозяйка суетится за своим домашним делом; безопасность воротилась опять назад и не замедлит принести с собой достаток; есть уже и стрельба в цель, и процессии, и храмовые праздники, и пышные придворные выезды. Все возвращается к прежнему благосостоянию, и народ больше ничего не хочет; религию предоставляет он в руки церкви, а светскую власть — в руки правителей. Здесь, как и в Венеции, самый ход событий привел человека волей и неволей к погоне за наслаждением, и он отдается ему тем полнее, чем резче чувствует противоположность настоящего с недавним еще бедствием. Контраст в самом деле изумительный! Прочтите подробности войны, и только тогда вы будете способны его измерить. Пятьдесят тысяч мучеников погибли при Карле V; восемнадцать тысяч человек казнены герцогом Альбою; затем восставший край должен был выдержать войну еще целые тринадцать лет. Испанцы покоряли большие города только голодом, после продолжительной осады. В самом начале Антверпен был трое суток подвергнут беспощадному разорению; семь тысяч граждан тогда убито и пятьсот домов сожжено. Солдат жил совершенно на счет края, и на гравюрах того времени вы видите, как, своя рука — владыка, он обшаривает дома, истязает мужа, позорит жену и вывозит на тележке сундуки и домашнюю утварь. Если солдатам долго не давали жалованья, они становились в город постоем и учреждали там разбойничью республику; под начальством выборного вождя, eletto, они грабили окрестности сколько душе угодно. Историк живописцев Карел ван Мандер, воротившись однажды в свое село, нашел дом свой, как и все прочие, разграбленным; солдаты взяли даже матрац и постельное белье из-под больного старика, отца его. Самого Карела раздели донага и уже накинули веревку ему на шею, с тем чтобы повесить, когда его спас один кавалерист, с которым он познакомился еще в Италии. В другой раз, когда он был в дороге с женой и маленьким ребенком, у него отняли все деньги, всю поклажу, его собственное платье, одежду жены и даже детские пеленки; мать осталась в одной юбочке, дитя в какой-то дрянной сетке, а Карел в лоскуте старого истертого сукна, который он на себя накинул; в этом наряде добрались они кое-как до Брюгге. Под таким управлением, край погибал вконец; самим солдатам пришлось напоследок умирать с голоду, и герцог Пармский прямо пишет Филиппу II, что если он ничего не пришлет, то армию — поминай как звали, ’’потому что не евши не проживешь”. По выходе из такого бедствия мир кажется уже просто раем; тут не от добра веселится человек, а оттого, что ему все-таки стало лучше, здесь же притом лучше без сравнения. Наконец-то можно было спокойно уснуть в своей постели, собрать кое-какой запас, воспользоваться плодом трудов своих, ездить по дорогам, сходиться, разговаривать — все это без страха; у каждого есть теперь своя родина, свой дом, перед каждым есть опять будущность. Все действия житейского обихода приобретают особенную прелесть, небывалый интерес; народ возрождается, и ему кажется, что он тут только впервые зажил. Вот при таких-то обстоятельствах всегда возникают самородные литературы и искусства, вполне своебытные. Только что испытанное сильное потрясение сбило тот однообразный лоск, какой навели на все предание и привычка. Перед вами открывается весь человек; вы можете схватить существенные черты его обновленной и преобразованной природы; вам видна его основа, его суть, инстинкты его самые заветные, те преобладающие силы, которыми знаменуется его племенной тип и которые направят его историю; через какие-нибудь пятьдесят лет мы их больше не увидим, потому что видели в течение полустолетия; но пока все еще свежо; ум останавливается перед окружающими его предметами, как Адам при первом своем пробуждении; позже понимание станет утончаться, мельчать, ослабевать, но в этот миг оно еще широко и просто. Человек способен к нему именно оттого, что родился среди рухнувшего общества и вырос в среде истинных трагедий; подобно Виктору Гюго и Жорж Санд, малютка Рубенс в ссылке, подле заточенного отца, слышал от него, да и вокруг себя, отголоски бури и крушения. После деятельного поколения, бедствовавшего и создававшего потом заново, настает поколение, пишущее пером и кистью или ваяющее резцом. Оно выражает, еще дополняя их от себя, энергии и стремления мира, основанного его отцами. Вот почему фламандское искусство примется возводить в богатырский тип чувственные инстинкты, шумную и великую радость, мощную энергию окружающих его душ и найдет Олимп Рубенса в теньеровской харчевне.
Между этими живописцами есть один, который как будто заслоняет собой всех прочих: действительно, в истории искусства нет имени более великого, и найдется разве три-четыре столько же великие, как его. Но и Рубенс — не одинокий все-таки гений: количество и сходство с ним окружающих его талантов показывают, что растительность, которой он самый лучший цветок, есть произведение его народа и его времени. Ему предшествовал Адам ван Ноорт[54], учитель его и Йорданса, его окружали современники, воспитанные в других мастерских, но отличающиеся таким же, как и у него, самородным вымыслом, — Крейер, Герард Зегерс, Ромбаутс, Авраам Янсен, Ян ван Рооз; вслед за ним шли его ученики: Теодор ван Тульден, Дипенбек, Ян ван ден Гук, Корнелис Схут, Бойерманс, величайший из всех Ван Дейк, Якоб ван Оост брюггский; рядом с ним — великие живописцы животных, цветов и аксессуаров: Снейдерс, Ян Фейт, иезуит Сегерс и целая школа знаменитых граверов: Соутманн, Ворстерман, Больсверт, Понтиус, Фишер; один и тот же сок питает и растит эти ветви и веточки; присоедините сюда еще все окружающие их сочувствия и восхищения целого народа. Ясно, что подобное искусство порождено не частной какой-нибудь случайностью, а развитием, можно сказать, всеобщим; и мы убедимся в этом вполне, когда, вглядевшись в самые произведения, заметим близкое соответствие их с окружающей средой.
С одной стороны, они возвращаются здесь к итальянскому преданию или же вступают на его путь и становятся в одно и то же время католическими и языческими. Их заказывают для себя церкви и монастыри; они представляют библейские и евангельские сказания; сюжеты их назидательны, и гравер охотно помещает внизу эстампа набожные изречения или загадочные нравственные притчи. Между тем на самом деле христианского в них одно название: тут нет ни малейшего следа мистического или аскетического чувства; все их мадонны, мученики, исповедники не более как превосходные, пышущие здоровьем тела, явно ограниченные земною только жизнью; их рай — это Олимп сытых фламандских богов, с удовольствием потягивающихся и шевелящихся; все здесь крупно, сильно, мясисто и довольно; все красуется великолепно и весело, как на каком-нибудь народном празднике или на торжественном государевом въезде. Конечно, церковь освящает еще приличным этикетом этот последний цветок древней мифологии, но только наружно освящает, а часто нет даже и того. Аполлоны, Юпитеры, Касторы, Поллуксы, Венеры — все древние боги под своими настоящими именами оживают во дворцах государей и вельмож, украшая собой чертоги. Это оттого, что и здесь, как в Италии, вся религия свелась на обряды; Рубенс каждое утро отправляется к обедне и жертвует по картине, чтобы получить запасец грехоотпускных индульгенций; а потом он снова входит в свое поэтическое чувство естественной жизни и пишет в одном и том же стиле роскошную Магдалину и полнотелую сирену, все равно; под католической наводкой нравы, поступки, сердце, ум — все отзывается здесь язычеством. С другой стороны, искусство это подлинно фламандское; все в нем держится на одной основной мысли национальной и новой, все от нее исходит; оно гармонично, самородно и своеобразно; этим оно отличается от предыдущего, которое было лишь нескладною подделкой. От Греции до Флоренции и Венеции и от Венеции до Антверпена можно проследить все степени перехода. Взгляд на человека и на жизнь идет вперед, постоянно теряя в благородстве и выигрывая в широте. Рубенс по отношению к Тициану то же, что Тициан по отношению к Рафаэлю, а Рафаэль — к Фидию. Никогда еще симпатия художника не обнимала природы так чистосердечно и всецело. Старые преграды, отодвигаемые уже много раз, как будто снесены теперь совершенно, и поприще открылось этим бесконечное. Исчезала всякая уступка историческим соображениям: художник совмещает аллегорические фигуры с действительными, ставит каких-нибудь кардиналов рядом с нагим Меркурием. Исчезла всякая забота о соображениях нравственных: в идеальное небо мифологии и евангелия художник вводит лица грубые или плутовские, какую-нибудь Магдалину в виде настоящей кормилицы или Цереру, передающую на ухо соседке шутливое словцо. Нет никакой боязни оскорбить физическую чувствительность: художник доходит до последних пределов ужасного путем всевозможных мук истерзанного тела и судорог кричащей криком агонии. Нет ни малейшей боязни оскорбить чувство нравственное: художник из своей Минервы делает какую-то мегеру, готовую идти на кулаки, из своей Юдифи — какую-то мясничку, для которой проливать кровь — безделица, из своего Париса — пройдоху-зубоскала и отъявленного лакомку. Чтобы перевести на слова мысль, так громко выкрикиваемую его Сусаннами, Магдалинами, св. Севастьянами, его грациями, сиренами и всеми его празднествами, божескими и человеческими, идеальными и реальными, христианскими и языческими, необходим язык Рабле. Он первым вывел на сцену все животные инстинкты человеческой природы; их прежде исключали как явления слишком грубые, а он водворил их опять как истинные; у него, как и в самой природе, они встречаются вперемешку с прочими. У него нет недостатка ни в чем, кроме самого чистого и благородного; в его распоряжении вся человеческая природа, кроме лишь высочайших ее вершин. Поэтому вымысел его шире всех когда-либо виданных и совмещает в себе решительно все типы: итальянских кардиналов, римских императоров, современных бар, мещан, крестьян, пастухов, коровниц со всеми бесчисленными разнообразиями, какими игра природных сил запечатлевает создания, и более полутора тысяч картин не истощили творчества этого гиганта.
По той же самой причине в изображении тела он глубже всякого другого постиг существенный характер органической жизни; он превосходит в этом венецианцев, как последние превосходят флорентийцев; он чувствует еще больше их, что тело — это ведь текучее, постоянно обновляющееся вещество; а таково по преимуществу тело фламандское, лимфатическое, сангвинистическое, прожорливое, более других жидкое, быстрее слагающееся и разлагающееся, нежели те, в которых сухие волокна и природная умеренность поддерживают ткани все в одном и том же положении. Вот почему никто не передавал контрастов так рельефно, никто так наглядно не проявлял разрушения и полного цвета жизни, изображая то отяжелевшего, обрюзглого, обескровленного и обезжизненного мертвеца, бледного, посинелого, иссеченного от претерпенной муки, с запекшейся кровью на губах, с стекловидными глазами, с руками и ногами, почерневшими, как земля, распухшими и обезображенными, потому что смерть коснулась их прежде всего другого; то изображая, напротив, свежесть животрепетного тела прекрасного юного атлета, смеющегося и в полном цвете, нежную податливость гибкого торса, очевидно молодого и сытого, лоснящиеся и румяные щеки, милую наивность девочки, у которой ни одна мысль ни разу еще не взволновала крови и ни разу не отуманила глаз, целые гнезда полненьких херувимов и резвящихся амуров, нежность любой складочки, прелестную тающую розоватость детской кожи, похожую на листок цветка, увлажненный росой и облитый лучами утреннего солнца. Так же точно при передаче действия и души он вернее всякого другого уловил существенный характер животной и нравственной жизни, я хочу сказать — то мгновенное движение, которое пластические искусства обязаны схватывать прямо на лету. И в этом опять он превосходит венецианцев, как последние превосходят флорентийцев. Никто не придавал своим фигурам такого порыва, такого рьяного телодвижения, такого все забывающего, яростного бега, такого общего волнения, такой бури во всех мышцах, вздувшихся и скрученных для одного какого-нибудь усилия. Личности его просто говорят; сам отдых как будто бы повис у них на краю деятельности, ежеминутно готовый сорваться; чувствуешь, что они только сейчас вот сделали и что сделают сей же час опять. Настоящее запечатлено у них прошедшим и чревато будущим; не только все лицо их, но и вся их поза содействует обнаружению бегущего потока их мысли, их страсти, всего их существа; слышится внутренний крик их душевного потрясения; можно бы сказать, что именно они произносят; у Рубенса есть самые беглые и нежные оттенки и чувства; в этом отношении он — клад для романиста и для психолога; он отметил все мимолетные тонкости нравственного выражения так же хорошо, как и полную мякоть кровяного тела; никто не превзошел его в знании живой организации и животной стороны человека. Обладая таким чувством и таким знанием, он мог, согласно надеждам и потребностям своего обновленного народа, дополнять еще и от себя богатый запас тех сил, которые он встречал вокруг и которые таились в нем самом, тех сил, которыми зиждется, держится и проявляется полное раздолье и творчество жизни; с одной стороны, мы видим у него гигантские кости, геркулесовские широкоплечие туловища, красные и колоссальные мышцы, бородатые и свирепые головы, упитанные, брызжущие соками тела — роскошнейшая выставка наготы розовой и белой; с другой стороны, видим животные инстинкты, вызывающие в человеке потребность есть и пить, сражаться и наслаждаться, видим дикую ярость бойца, громадность какого-нибудь пузатого Силена, задорную похотливость Фавна, распущенность прекрасного, но бессовестного создания, ’’объевшегося грехом”, грубость, энергию, веселый разгул, врожденное добродушие, коренную ясность национального типа. Он еще увеличивает свои эффекты тем расположением, какое им дает, и той обстановкою, какою их окружает великолепие лоснящихся шелков, узорчатые и златопарчовые симарры, целое сборище нагих тел, новые наряды и античные драпировки, неисчерпаемый вымысел на всякого рода оружие, на знамена, колоннады, венецианские лестницы, храмы, балдахины, корабли, виды животных, не всегда новые и всегда величавые пейзажи, как будто бы за пределами обыкновенной природы у него был еще ключ от природы во сто тысяч раз богатейшей и он мог черпать оттуда своими волшебными руками без конца, а свободная игра его фантазии никогда не доходила до несообразностей; напротив, при всем обилии творческой струи и при всей столь естественной расточительности самые сложные из его созданий кажутся каким-то неудержимым наливом переполненной дарами головы. Словно какой-нибудь индийский бог на досуге, он облегчает свою плодовитость созданием все новых и новых миров; а между тем, начиная от бесподобного багрянца его смятых, оттененных складками симарр и до снежной белизны его тел, до палевой шелковистости его русых волос, вы не найдете ни в одной из его картин ни единого решительного тона, который не лег бы сам собой на полотно, к совершенному удовольствию художника.
Во Фландрии — один только Рубенс, как в Англии — один только Шекспир. Как бы ни были велики другие, им недостает какой-нибудь доли его гения; у Крейера нет ни его смелостей, ни его крайних увлечений; он пишет с удивительно дающимся ему свежим и мягким колоритом спокойную, радушную и счастливую красоту[55]. У Йорданса нет его царственного величия и его глубоко проникшей героической поэзии; с каким-то охмеляющим, спиритуозным колоритом пишет он своих приземистых колоссов, свои скученные толпы и свой шумливый простой народ. У Ван Дейка нет его любви к силе и жизни, взятым сами по себе; более утонченный, более рыцарственный, будучи от природы чувствительным и даже меланхоликом в душе, элегичный в своих церковных картинах, аристократический в своих портретах, он пишет не со столь блестящим, но зато более трогательным колоритом благородные, нежные, прелестные фигуры, которых высокая и тонкая вместе душа носит в себе такие оттенки красоты и печали, каких вовсе не знал его учитель (Рубенс)[56]. Произведения его — первый признак готовящейся уже перемены. После 1660 года она становится вполне заметной. Поколение, энергия и надежды которого вдохновили художников великою живописной грезой, мало-помалу вымирает; одни Крейер и Йорданс, переживши всех, поддерживают искусство еще лет на двадцать. Мгновенно приподнявшийся было народ падает опять; его возрождение не достигло конечной своей цели. Владетельных эрцгерцогов, благодаря которым край сделался независимой державой, не стало в 1633 году; он входит опять в число испанских областей и получает губернатора из Мадрида. Трактат 1648 года затворяет для него Шельду и разоряет торговлю его вконец. Людовик XIV дробит его на части и в три приема отрывает от него по лоскуту. Четыре войны, одна вслед за другой, громят Бельгию в течение тридцати лет; друзья и недруги, испанцы, французы, англичане, голландцы — все живут на ее счет; по трактатам 1715 года голландцы делаются ее поставщиками и занимают ее постоянным гарнизоном. В это время, ставши опять австрийской, она отказывается дать денежную помощь; но старейшины ее Штатов заточаются в тюрьму, а главный из них, Аннеэсен, умирает на эшафоте; то был последний слабый отклик великого голоса Артевельдов. С тех пор край делается чисто уж провинцией, где люди кое-как коротают свой век, заботясь только об одном: о средствах к жизни. Тогда же падает и народное воображение. Школа Рубенса вырождается; с Бойермансом, ван Герпом, Яном Эразмом Квеллином, ван Оостом Вторым, Дейстером и Яном ван Орлеем своеобразность и энергия исчезают; колорит слабеет и становится жеманным; измельчавшие типы обращаются к щеголеватой миловидности; выражения лиц сентиментальны или приторно-кротки; на больших полотнах люди не занимают уже всего фона картин, а разбросаны кое-где местами; пустоты заполняются архитектурами; творческая жила иссякла совсем; пишут уже только по навыку или подражают итальянским маньеристам. Некоторые выезжают за границу. Филипп де Шампень делается директором Парижской академии художеств, приобретает во Франции новую для себя родину, да и по духу становится французом, мало того — спиритуалистом, янсенистом, добросовестным и ученым живописцем серьезных и вдумчивых притом лиц; Герард де Лересс является учеником итальянцев, классиком, академиком, ученым живописцем костюма, бьющим на историческое и мифологическое правдоподобие. Резонерство берет теперь верх в искусствах, одержав его наперед в области нравов. Две картины в гентском музее обличают эту порчу живописи вместе с порчею среды. Обе изображают въезды государей: один в 1666, другой в 1717 году. Первая изящного красноватого тона представляет последних людей великой эпохи, их кавалерскую осанку, крепкое сложение, способность к телесной деятельности, их богатые нарядные костюмы, их длинногривых лошадей, здесь — дворян, сродни вандейковским вельможам, там — копейщиков в буйволовой коже и в броне, сродни солдатам Валленштейна, — короче, последние остатки богатырского и живописного вместе века. Вторая картина, холодного и бледноватого тона, представляет тоненьких, сладеньких, офранцуженных господ в париках, умеющих ловко раскланяться щеголей, беспрестанно охорашивающихся светских барынь — короче, наплыв салонных нравов и весь чин иноземного приличия. В течение пятидесяти лет, отделяющих первую картину от второй, национальный дух и национальное искусство совершенно уже исчезли.
IV
Четвертая эпоха. Образование Голландии. — Каким образом она становится республиканскою и протестантскою. — Развитие первичных инстинктов. — Героизм, торжество, благоденствие народа. — Обновление и свобода самобытного вымысла. — Характерные черты голландского искусства в противоположность искусству итальянскому и классическому. — Портретные картины. — Изображение действительной жизни. — Рембрандт. — Взгляд его на свет, человека и божество. — Начало упадка около 1667 года. — Война 1672 года. — Искусство держится еще до первых годов XVIII столетия. — Ослабление и унижение Голландии. — Уменьшение деятельной энергии. — Упадок национального искусства. — Мелкие жанры держатся еще долее других родов. — Общее соответствие между средой и искусством.
Между тем как южные провинции, став подвластными и католическими окончательно, следовали в искусстве направлению Италии и изображали на полотне мифологическую эпопею рослого богатырского и нагого тела, провинции Севера, сделавшись свободными гражданами и протестантами, развивали в ином смысле свою жизнь и свое искусство. Климат там дождливее и холоднее, и потому присутствие наготы встречается реже и менее нравится. Германская порода там чиста, потому в умах обнаруживает менее наклонности к классическому искусству в том смысле, в каком понимало его итальянское Возрождение. Жизнь там тяжелее, многотруднее и воздержаннее, а потому людям, привыкшим к постоянному усилию, к расчету, к методическому самообладанию, не так-то легко постичь прекрасную грезу жизни чувственной или свободной и раздольной. Представим себе голландца, возвращающегося домой после целодневной работы в своей конторе. У него все только маленькие комнатки, почти как корабельные каюты; трудно было бы развесить там по стенам большие картины, какими украшаются залы итальянских палаццо; все, что необходимо для хозяина, — это чистота и удобство; с этой стороны он удовлетворен, и ему больше ничего не нужно; за украшением он не гонится. По словам венецианских посланников, голландцы ”до того умеренны, что и у самых богатых вы не увидите ни особенной роскоши, ни пышности... Они не нуждаются в прислуге, в шелковом платье; серебра в домах очень мало, а обоев нет совсем; хозяйство вообще очень невелико и незатейливо... Все соблюдают и у себя, и при выходе со двора, в одежде и во всем прочем настоящую умеренность скромного достатка, и излишества не видно у них ни в чем”[57]. Когда граф Лейчестерский прибыл в Голландию наместником королевы Елизаветы, когда Спинола приехал заключить мир от имени испанского короля, то царственное их великолепие явилось резким контрастом всему окружающему и чуть не произвело скандала. Глава республики, герой века Вильгельм Оранский, прозванный Молчальником, ходил обыкновенно в старом плаще, который показался бы изношенным любому студенту, в таком же полукафтанье без пуговиц и в шерстяном жилете или безрукавке, как у судорабочих. В следующем столетии противник Людовика XIV, великий пенсионарий[58] Ян де Витт держал только одного слугу; всякий смело мог подойти к нему для объяснений; он подражал своему славному предшественнику, который жил запанибрата ”с пивоварами и мещанством”. И теперь еще мы находим в голландских нравах многие следы давней простоты. Очевидно, что у таких характеров нет вовсе места тем декоративным или сладострастным инстинктам, которые ввели повсюду в Европе барскую пышность и привили ей понимание языческой поэзии красивых тел.
Действительно, тут берут верх совсем противоположные инстинкты. Облегченная от противовеса, каким были для нее южные провинции, Голландия к концу XVI века вдруг с необыкновенной силой обращается в ту сторону, куда тянула ее заветная природа. Первичные способности и наклонности проявляются теперь в лучезарном блеске; они, конечно, не родятся вновь, а только вполне обнаруживаются. Полтораста лет тому назад их распознавали уже хорошие наблюдатели. ’’Фризия свободна, — говорит папа Эней Сильвий[59], — живет она по своим обычаям, не терпит чужевластия да не желает повелевать другими. Фриз не задумается положить за свободу свою жизнь. Этот гордый и привычный к оружию народ, рослый и сильный телом, покойный и неустрашимый душой, хвалится и дорожит свободой, хотя Филипп, герцог Бургундский, и слывет повелителем страны. Они ненавидят феодальную и солдатскую заносчивость и не терпят человека, который вздумает поднять голову выше других. Сановники избираются у них ими же самими погодно и обязаны вести общественные дела по справедливости... Они очень строго наказывают женщин за распутство... Неохотно допускают они холостого священника, боясь, чтоб он не соблазнил чужой жены, ибо считают строгое воздержание очень трудным делом, превышающим человеческое естество”. Все германские понятия о государстве, браке, религии находятся здесь в зародыше и служат провозвестниками конечных результатов — водворения протестантизма и республики. Подвергнутые искусу Филиппом II, они заранее решились пожертвовать ”и достатком, и жизнью”. Маленький народ купцов, заброшенный в кучу грязи, на краю империи, более обширной и страшной, чем наполеоновская, отстоял себя, удержался и возрос под тяжестью грозившего задавить его колосса. Все постигавшие их осады поистине удивительны: простые горожане, женщины, при содействии нескольких сот солдат, останавливают перед своими разрушенными стенами целую армию, лучшие в Европе войска, величайших полководцев, ученейших в мире инженеров; и последний остаток этих изморенных голодом людей, питавшихся в продолжение четырех, а иногда и шести месяцев крысами и вареным с кожей древесным листом, решает, скорее чем сдаться, выступить в каре, с больными и слабыми внутри, и погибнуть на неприятельских окопах. Надо прочесть подробности этой войны, чтобы узнать, до чего могут дойти терпение, хладнокровие и энергия человека[60]. На море голландский корабль скорее взрывался, чем спускал флаг перед врагом; путешествие голландцев для открытий, учреждения факторий и завоевания на Новой Земле, в Индии, в Бразилии, по Магелланову проливу столь же прекрасны, как и битвы их. Чем более требуется от человеческой природы, тем больше она дает; способности ее развиваются за самым делом, и тут нет уже границ ни творческой ее силе, ни ее выносливости. Наконец в 1609 году, после тридцати семи лет войны, тяжба была выиграна; Испания признает независимость Голландии, и в течение всего XVII века последняя играет в Европе одну из первых ролей. Никому уже не удастся согнуть ее: ни Испании в 27-летнюю вторичную войну, ни Кромвелю, ни Карлу II, ни Англии в союзе с Францией, ни новому грозному могуществу Людовика XIV; после трех войн посланники его явятся с униженными и тщетными мольбами в Гертрюйденберг, и великий пенсионарий ее Гейнзиус будет одним из трех владык, распоряжающихся тогда судьбами всей Европы. Внутреннее устройство так же хорошо, как высоко поднялось внешнее положение. В первый раз на свете является свобода совести и уважение к гражданину во всех его правах. Государство здесь — союз добровольно соединившихся провинций, и каждая из них с небывалым дотоле совершенством сама поддерживает у себя общественную безопасность и свободу личности. ’’Все они любят свободу, — говорит Париваль в 1660 году, — у них не позволено ни драться, ни браниться, и служанки настолько обеспечены в правах, что бить их не смеют и сами хозяева” (не говоря уже о сторонних людях). И, полный восторга, он несколько раз настойчиво указывает на это удивительное тогда уважение к человеческой личности. ”На свете нет теперь страны, которая пользовалась бы такой свободой, как Голландия; там такой во всем справедливый порядок (une si juste harmonie), что большие люди не могут теснить маленьких, богатые и знатные — обижать бедных... Крепостные или невольники, завезенные в этот край каким-нибудь вельможей, тотчас же становятся свободными, да и заплаченные за них деньги пропадают даром... Поселяне, уплатив все, что с них следует, так же свободны, как и городской люд... В особенности — каждый царь у себя дома, и причинить кому-нибудь насилие в его жилье считается весьма тяжким преступлением”. Всяк волен выехать из края по деланию и вывезти с собой сколько угодно денег. Дороги безопасны днем и ночью даже для одинокого путешественника. Хозяевам запрещено удерживать слуг против воли. Никто за веру не преследуется. Полная свобода говорить обо всем, ’’даже о начальстве”, и отзываться о нем хотя бы и с дурной стороны. В основе всего лежит равенство: ’’Занимающие какие-нибудь служебные места должны снискивать общую любовь своим откровенным обращением, а не важничать перед Другими горделивой спесью”. Подобный народ не может не пользоваться благоденствием; когда человек энергичен и при этом справедлив, все остальное дается ему тогда само собой. При начале войны за независимость в Амстердаме было всего 70 000 жителей, а в 1618 году их насчитывалось уже 300 000. Венецианские посланники говорят, что во всякую пору дня народ кишит, как на ярмарке; город увеличился на две трети в пространстве; платят по червонцу за клочок земли, на который только что наступить ногою. И деревня стоит города. Нигде крестьянин так не богат и нигде не изловчился он до такой степени пользоваться землей: одно село владеет иногда 4000 коров; вол весил до 2000 фунтов; один мызник сватает принцу Морицу свою дочь с приданым в 100 000 гульденов. Нигде промышленность и фабрики не развились до такого совершенства: полотна, зеркала, рафинировка сахара, фарфор, глиняная посуда, богатые атласные, шелковые и парчовые ткани, железные изделия и корабельные снасти; голландцы доставляют Европе половину ее роскоши и отбивают почти все ее перевозы. Тысячи судов отправляются в Балтийское море за сырьем; восемьсот заняты сельдяным уловом; большие компании пользуются исключительным правом торговли с Индией, Китаем, Японией; Батавия становится средоточием голландского господства; в эту пору (в 1609 г.) Голландия на морях и в целом свете была тем, чем Англия при Наполеоне. У нее до 100 000 матросов; в военное время она могла бы вооружить две тысячи кораблей; через пятьдесят лет она была бы в силах противостоять соединенным флотам Англии и Франции; поток ее благосостояния и успехов расширяется с каждым годом. Но еще прекраснее самого потока — его ключ, потому что он поддерживается избытком мужества, ума, самоотверженности, воли и гения. ’’Этот народ, — говорят венецианские посланники, — до того склонен к промыслам и работящ, что нет такого трудного дела, с которым бы он успешно не справился... Они созданы работать, отказывая себе во многом, и все сплошь так или иначе работают непременно”. Много производить и мало потреблять — таково главное условие возрастания общественного богатства. Самобеднейшие ”в своих скромных, маленьких жилищах” имеют здесь все необходимое. Богачи в своих обширных домах избегают всякого лишнего расхода и выказной пышности; никто не терпит недостатка, но никто и не сорит деньгами; каждый употребляет в дело свои руки, свой ум. ’’Здесь изо всего извлекают выгоду, — говорит Париваль, — даже и занимающиеся очисткой каналов от нечистот выручают не менее полугульдена в сутки... Дети, обучающиеся какому-нибудь мастерству, и те вырабатывают себе на хлеб почти с самого начала. — Они (т. е. голландцы) до того не терпят мотовства и праздношатанья, что есть места, куда начальство запирает лентяев и бродяг, а также и беспутных мотов, для чего довольно, если жены или родственники виновных принесут на них жалобу; а тут они обязаны работать и трудом добывать себе хлеб, даже против воли и желания”. Монастыри были преобразованы в больницы, приюты и сиротские дома, и прежние доходы праздных иноков пошли на пропитание инвалидам, старикам, а также вдовам и детям погибших на войне солдат и матросов. Войско до того у них хорошо, что любой жандарм годился бы в капитаны какой-нибудь итальянской армии, а итальянского капитана не приняли бы сюда и простым жандармом. По культуре и образованию, точно так же, как по организации и управлению, они опередили всю остальную Европу на два столетия. У них едва ли найдется хоть один человек — мужчина, женщина или отрок, — которые не умели бы читать и писать (1609 г.). В каждой деревне есть народная школа. В любом городском семействе все мальчики разумеют по-латыни, а девочки — по-французски. Очень многие пишут и говорят на нескольких новых языках. Это уже не одна только предусмотрительность, не одна привычка всем запасаться на случай, не один расчет на барыш: они чувствуют и самое достоинство науки. Когда Генеральные Штаты предложили Лейдену награду за геройскую оборону от неприятеля, он просил дать ему университет; они привлекают к себе величайших в Европе ученых, во что бы ни стало приглашение; Штаты пишут сами и просят ходатайства Генриха IV, чтобы склонить бедняка учителя, Скалигера, почтить город их своим присутствием; от него не требуют даже уроков, достаточен уже один его приезд; он побеседует с учеными, даст им известное направление и сделает народ участником авторской своей славы. При таких порядках Лейден становится знаменитейшею в Европе школой; там две тысячи студентов; изгнанная из Франции, философия находит себе там надежный приют; в течение всего XVII века Голландия — первая в ряду стран, живущих умственной жизнью. Положительные знания находят себе здесь родную почву или по крайней мере вторую родину. Скалигер, Юстус Липсий, Салмазий, Меурсий, оба Хейнзиуса, оба Дузы, Марникс де Сент-Альдегонд, Гуго Гроций, Снеллиус руководят там литературной ученостью, правом, физикой, математическими знаниями. Эльзевиры печатают книги. Линдсхотен и Меркатор поучают путешественников и создают географию. Хофт, Бор и Меттерен пишут историю своего народа. Якоб Кате дает ему его поэзию. Богословие, занимавшее в то время место философии, принимается с Арминием и Гомаром за разработку вопроса о благодати и волнует даже в самых ничтожных деревушках умы крестьян и мещан. Наконец, в 1619 году Дортрехтский синод является вселенским собором реформации. К такому превосходству умозрения присовокупите еще практическую гениальность; от Барневельта до де Виттов, от Вильгельма Молчальника до Вильгельма III, от адмирала Геэмскерка до Тромпа и Рёйтера — целый ряд замечательнейших людей верховодит их военными и гражданскими делами. Вот при каких обстоятельствах появляется национальное искусство. Все великие самобытные живописцы родились в первые тридцать лет XVII века, когда Голландия уже была основана, все важнейшие опасности устранены, окончательная победа обеспечена, когда человек, чувствуя великие совершенные им дела, указывает своим детям поприще, открытое его доблестным мужеством и мощными руками. Здесь, как и везде, художник был сыном героя. Силы, употребленные на создание действительного мира, теперь, когда дело это кончено, расходившись, пошли далее и принялись создавать мир вымыслов. Человек так много совершил, что ему уж не под силу снова идти в школу; перед ним и вокруг все открытое глазам пространство наполнено его деятельностью; она так многоплодна и славна, что ой долго может восхищаться и любоваться ею; он не подчиняет уже свою мысль чужой, он ищет теперь только своего собственного чувства — и находит; он дерзает довериться ему, следовать за ним до конца, оставить подражание, брать на себя из самого себя, изобретать без всякого иного руководителя, кроме смутных предпочтений, таящихся в его чувствах и в его сердце. Его заветные силы и могущество, его основные способности, его первичные и наследственные инстинкты, вызванные и укрепленные тяжелым искусом, продолжают действовать вслед за тем и, создав народ, создают его искусство.
Рассмотрим это искусство повнимательней; в своих красках и формах оно проявляет все те инстинкты, какие выказались в народной деятельности и ее созданиях. До тех пор пока семь северных провинций и десять южных составляли все один народ, у них была и одна школа. Энгельбрехт, Лука Лейденский, Ян Скорел, старик Геэмскерк, Корнелий Гаарлемский, Блумарт, Гольциус пишут в том же стиле, как и современники их в Брюгге и Антверпене. Нет еще особой голландской школы, потому что нет еще особой школы бельгийской. При начале войны за независимость северные живописцы силятся стать итальянцами, точно так же, как и южные. Но начиная с 1600-х годов все изменяется как в живописи, так и в остальном. Прилив народной струи дает, очевидно, перевес народным инстинктам. Нет уже больше наготы; идеальное тело, красота животной стороны человека, взлелеянная ярким солнцем, благородная симметрия членов и поз, великая аллегорическая или мифологическая картина — все это не соответствует вкусу германского племени. К тому же господствующий у голландцев кальвинизм изгоняет все это из их храмов, у народа бережливых и современных тружеников нет пышного барского представительства, щегольства величавым эпикуреизмом, которое вызывает чувственную языческую картину в чертогах у других при многочисленном серебре, богатых ливреях и роскошной мебели. Когда Амелия де Зольм задумала соорудить памятник в подобном стиле своему мужу, статхаудеру Фридриху-Генриху, ей пришлось выписать в Орангезааль фламандских живописцев: ван Тульдена и Йорданса. Для таких реалистических воображений и среди таких республиканских нравов в стране, где какой-нибудь сапожник-судоснарядчик может вдруг очутиться вице-адмиралом, интересующая всех личность — это гражданин, человек с костями и телом, не раздетый или не полунагой, как грек, а в своем обычном наряде и в своей обычной позе, какой-нибудь хорошо управляющий сановник, какой-нибудь храбро бившийся офицер. Героический стиль употреблен в одном только случае: им пишут большие портреты, украшающие городские ратуши и другие общественные учреждения в память оказанных услуг. И действительно, тут появляется новый род живописи: обширная картина, заключающая в себе пять, десять, двадцать, даже тридцать портретов во весь рост — портретов устроителей какой-нибудь больницы, пищальников, идущих на стрельбу в цель, синдиков, заседающих вокруг присутственного стола, офицеров, предлагающих какой-нибудь тост на банкете, профессоров, что-нибудь наглядно объясняющих слушателям в амфитеатре аудитории. Все здесь сгруппированы.вокруг одной известной деятельности, сообразной их общественному положению; каждый изображен в обычной своей одежде, с оружием, значком, принадлежностями и обстановкой своей действительной жизни; это подлинно историческая картина, в высшей степени поучительная и выразительная, где Франс Халс, Рембрандт, Говаарт Флинк, Фердинанд Боль, Теодор Кейзер и Ян Равештейн изобразили героический век своего народа, где умные, энергичные, честные головы дышат благородством силы и совести, где прекрасный костюм эпохи Возрождения, эти перевязи-подлатники из буйволовой кожи, эти брыжи, отложные шитые воротники, эти черные епанчи и плащи обрамляют своей важностью и своим блеском степенную осанку бодрых тел и открытое выражение физиономий, где художник, то мужественной простотою своих средств, то искренностью и силой своего убеждения, становится в уровень своим героям.
Такова общественная живопись; остается живопись частная, украшающая дома частных лиц и, как своими размерами, так и сюжетами, приноравливающаяся к состоянию и характеру своих покупателей. "Нет такого бедняка из простых горожан, — говорит Париваль, — который не пожелал бы обзавестись подобными картинами”. Иной булочник платит шестьсот гульденов за одну какую-нибудь фигуру кисти Вермера Делфтского. Вместе с чистотой и приглядностью внутреннего убранства вообще это составляет всю роскошь у голландцев; ’’они не щадят на нее денег и скорее готовы сократить издержки на еду”. Здесь проявляется опять тот же национальный инстинкт, каким обнаруживался он в первую эпоху у Ван Эйков, Квентина Матсиса и Луки Лейденского, и это инстинкт прямо национальный; он до того заветен и живуч, что даже в Бельгии наряду с мифологической и декоративной живописью бежит он у Брейгелей и Тенирса, подобно ручейку, бок о бок с широкой рекой. Все, чего он требует и на что именно вызывает, — это изображение действительного человека и действительной жизни так, как видят их глаза: мещан, поселян, скот, мелочные лавочки, харчевни, комнаты, улицы, пейзажи. Их не нужно изменять, с тем чтобы облагородить; одним уже своим существованием они возбуждают интерес. Природа сама по себе, какова бы она ни была, человеческая, животная, растительная, неодушевленная, со всеми ее неправильностями, пошлостями, изъянами, вправе быть такою, какова есть; коль скоро поймешь ее, непременно полюбишь и станешь находить приятным ее вид. Цель искусства не изменять ее, а лишь истолковать ее в передаче; силою симпатии оно сообщает ей красоту. Понимаемая так живопись вольна изображать хозяйку, сидящую в избе за пряжей, столяра, стругающего рубанком на верстаке, хирурга, перевязывающего руку какому-нибудь мужику, кухарку, вздевающую на вертел живность или дичь, богатую барыню, которой подают умываться, все домашнее житье-бытье, от каморки и до гостиной, все типы от побагровевшей хари какого-нибудь пьяницы до спокойной улыбки благовоспитанной барышни, все сцены щегольской или простонародной жизни, карточную игру в зале с золотыми узорчатыми обоями, мужицкую гульбу в какой-нибудь совсем голой харчевне, катанье по замерзшему каналу на коньках, коров на водопое, барки на море и все бесконечное разнообразие неба, земли, воды, дня и ночи. Терборх, Метсю, Герард Дау, Вермер Делфтский, Адриан Броувер, Схалькен, Франс ван Миерис, Ян Стен, Вуверманс, оба ван Остаде, Вей-нантс, Кейп, Аарт ван дер Неер, Рейсдал, Гоббема, Паулюс Поттер, Ба-кгейзены, оба ван де Вельде, Филипп де Кениг, ван дер Гейден, да и сколько еще других! Нет школы, в которой было бы такое множество самобытных талантов; когда искусство берет не одну только ограниченную высь, а захватывает все широкое поле жизни, тогда готов в нем особый участок любимому дарованию; идеальное ведь тесно и потому дает простор всего каким-нибудь двум-трем гениям; мир действительности необъятен, и таланты найдут в нем себе место многими десятками. От всех этих созданий веет какой-то мирной и счастливой гармонией; право, отдыхаешь, на них глядя; душа художника точно так же, как и душа его лиц, здесь в полном равновесии; чувствуешь, что тебе было бы привольно и хорошо на полотне его картины. Очевидно, что его воображение дальше этого и не идет; кажется, сам он, подобно своим фигурам, совершенно доволен этой жизнью; вся природа представляется ему такою, как ей должно быть; если он что и добавляет к ней, то разве лишь известный распорядок, накладку одного тона вслед за другим, какой-нибудь особенный эффект света, подбор известных положений или поз; художник перед природой — что счастливо женившийся голландец перед милой ему женой; он и не желает в ней ничего другого, любит ее по привычке сердца и по задушевному соответствию; много-много, что в какой-нибудь день праздничный он попросит ее надеть красное платье вместо голубого. Он не похож на наших живописцев, утонченных наблюдателей, набравшихся из книг и журналов философией и эстетикой по горло и пишущих крестьянина и работника ни дать ни взять, как турка и арапа, т. е. будто интересное какое-нибудь животное или редкостный в своем роде экземпляр; в пейзажи свои вносят они разные тонкости и нежности, изысканную чувствительность поэтов и завзятых горожан — вносят, с тем чтобы пахнуть на вас жизнью затишья и молчаливою, безмолвною мечтой. Он, напротив, гораздо простодушнее; избыток мозговой деятельности не сбил его с пути и не раздражил чрезмерно; в сравнении с нами он — ремесленник; в сфере живописцев только и гонится за живописным; его менее затрагивает какая-нибудь неожиданная и поразительная подробность, чем крупная, простые и общие черты. Оттого его более здоровое и не так едкое произведение обращается к душам, менее охваченным культурой, и доставляет удовольствие гораздо большему числу людей. Между всеми этими живописцами только двое — Рейсдал, благодаря утонченной душе своей и превосходству своего воспитания, а в особенности Рембрандт, благодаря необыкновенному строению глаза и крайней нелюдимости его гения, — выдвинулись из своего народа и из своего времени и достигли тех общих родовых инстинктов, которые связывают одно с другим различные германские племена и служат переходом к чувству новейшей уже эпохи. Рембрандт, отшельник, собиратель, увлекаемый развитием чудовищной способности, жил, подобно нашему Бальзаку, каким-то магом и грезовидцем в мире, созданном им самим, и в мире, к которому ключ был только у него. Превосходя всех живописцев прирожденной тонкостью и остротой своих оптических ощущений, он постиг и выдержал во всех ее последствиях ту истину, что для глаза вся сущность любой видимой вещи заключается в представляемом ею пятне, что самый простой цвет бесконечно многосложен, что всякое зрительное ощущение есть продукт не только естественных элементов этого цвета, но и всего окружающего, что всякий предмет в поле зрения является только пятном, видоизменяемым (в своем цвете) другими пятнами, и что поэтому главным лицом в картине выходит колоритный, трепетный и все перемежающий собою воздух, в который живописные фигуры все погружены, как рыбы в пучину моря. Он сумел передать этот живой воздух осязательно и показал всю кишащую, затаенную в нем жизнь; он ввел в него освещение своего родного края, этот немощный, желтоватый свет, подобный свету лампады в погребе; он прочувствовал всю мучительную борьбу его с тенью, постепенное угасание редеющих лучей, которые наконец замирают во тьме углублений, дрожания слабых отблесков, напрасно пристающих к лоснящимся стенам, и всю эту смутную ватагу полумраков, которая, будучи невидимой для простого глаза, на его картинах и эстампах предстает каким-то подводным миром, чуть мерцающим сквозь бездну вод. По выходе из такого мрака полный свет явился глазам его ослепительным уже потоком; он произвел на него впечатление сверкающей молнии, какого-то волшебного озарения или целого снопа огневых стрел. Таким образом, в неодушевленном мире открыл он самую полную, самую выразительную драму, все контрасты и все столкновения, все, что есть подавляющего и смертельно мрачного в ночной тьме, все, что есть самого неуловимого и самого меланхолического в полутени, все, что есть самого рьяного и неудержного во вторжении внезапно врывающегося дня. Затем ему оставалось одно — на эту естественную драму нанести драму человеческую; построенный таким образом театр сам определяет для себя актеров. Греки и итальянцы знали в человеке и в жизни только одни самые прямые и самые высокие поросли, здоровый только цвет, какой может развернуться при сильном солнечном свете; он же видит, напротив, корневой комель всей этой растительности, все, что пресмыкается и плесневеет в тени, видит безобразные и чахлые недоростки, темный бедствующий люд, какое-нибудь амстердамское жидовство, грязное и страждущее население большого города и в дурном еще климате, кривоножку нищего, старую раздувшуюся идиотку, лысую голову истертого ремесленника, бледное лицо больного, весь гомозящийся рой тех дурных страстишек и гадостей, которые, как черви в гнилом дереве, кишат внутри наших цивилизаций. Ступив раз на этот путь, он мог постичь религию страдания, истинное христианство, мог наглядно истолковывать Библию, как любой лоллард, мог обрести вечного Христа, присущего вам и теперь, как прежде живущего в каком-нибудь подвале или в какой-нибудь харчевне Голландии, точно так же, как и под лучами иерусалимского солнца, утешителя и целителя скорбных и бедствующих, единственного им Спасителя, ибо Он был так же, как они, беден, а скорбен, конечно, еще больше их. Сам Рембрандт проникся оттого состраданием; стоя вместе с другими мастерами, которые кажутся живописцами аристократии, он перед ними истый народ; по крайней мере, он гораздо человечнее всех прочих; его широкие сочувствия обнимают природу до последней глубины, до дна; ему не противно никакое безобразие, никакая потребность благородства или веселости не скроют от него тайных отмелей сущей правды. Вот почему свободный от всяких пут и руководимый необыкновенной чувствительностью своих органов, он смог изобразить в человеке не только один общий строй и отвлеченный тип, которыми удовлетворяется классическое искусство, но вместе и все частности, все глубины особи, бесконечную и неуловимую многосложность нравственной личности, весь тот подвижной отпечаток, который на одном лице сосредоточивает вдруг целую историю души и сердца и который с такой изумительной ясностью умел прозревать один только Шекспир. В этом отношении Рембрандт самый своеобразный из художников нового времени; он выковывает конец той цепи, которой греки отлили начальное звено; все прочие художники — флорентинцы, венецианцы, фламандцы — стоят на перепутье, и если бы теперь наша болезненно-возбужденная чувствительность, наша гоняющаяся за оттенками пытливость, наше неотступное искание истины, наши гадания насчет сокрытых от нас далей и прошлого человеческой природы стали доискиваться своих предшественников и учителей, то какой-нибудь Бальзак и Делакруа могли бы найти их в Рембрандте и Шекспире.
Подобный расцвет искусства обыкновенно мимолетен, ибо создавшие его соки изводятся на него вполне. Около 1667 года после морских поражений Англии есть уже легкие признаки, свидетельствующие о начавшейся порче тех нравов и тех чувств, которые породили национальное искусство. Благосостояние слишком разрослось. Еще в 1660 году Париваль, говоря о благоденствии голландцев, в каждой главе своей приходит в восторг: ост-индские и вест-индские компании дают своим акционерам по 40 и 45 процентов дивидендов. Герои становятся мещанами, истыми буржуа; Париваль отмечает у них на первом плане жажду прибыли. К тому же "они терпеть не могут дуэлей, драк и ссор, говоря обыкновенно, что богатые не дерутся”. Они хотят только жить в свое удовольствие, и дома вельмож, которые венецианские посланники, в начале этого века, находили столь незатейливыми и голыми, теперь становятся уже роскошны; у всех ’’главных горожан” есть теперь обои, дорогие картины, ’’посуда золотая и серебряная”. Внутренность богатых жилищ на картинах Терборха и Метсю открывают нам щегольство нового совсем рода, светлые шелковые платья, бархатные корсажи, драгоценности, жемчуг, обои с золотым узором, высокие камины с мраморными колоннами. Прежняя энергия ослабевает. Когда в 1672 году Людовик XIV вторгнется в пределы края, он уже не встретит никакого сопротивления. Голландцы не заботились об армии; войска их разбегаются кто куда; города сдаются с первого выстрела; четыре французских кавалериста овладевают Мюйденом, этим ключом ко всей системе шлюзов; Генеральные Штаты вымаливают мир на каких бы то ни было условиях. В то же время слабеет народное чувство и в художествах, вкус, видимо, портится; Рембрандт в 1669 году умирает в нищете, всеми почти забытый; новая роскошь берет свои образцы в чужих краях, во Франции и в Италии. Еще в лучшую пору множество живописцев отправлялись в Рим писать фигурки и пей-зажики; Ян Бот, Бергхем, Карел Дюжарден, бездна других, даже сам Вуверманс, рядом с национальною школой заводят иную, полуитальянскую. Но школа эта была все-таки еще самородна и естественна: посреди гор, развалин, фабрик и лохмотьев заальпийского края дымчатая белизна воздуха, добродушие фигур, мягкость телесного колорита, веселое и доброе расположение духа в живописце обнаруживают устойчивость и свободу голландского инстинкта еще по-прежнему. Напротив, теперь инстинкт этот изнемогает под наплывом моды. На Кайзерграхте воздвигаются чертоги в стиле Людовика XIV, и фламандский живописец, основатель академической школы Герард де Лересс расписывает их своими учеными аллегориями и мифологическими ублюдками. Правда, национальное искусство не сразу уступает власть другому; оно тянется еще целым рядом образцовых произведений вплоть до первых годов XVIII столетия; в то же время национальное чувство, пробужденное уничтожением и опасностью, вызывает народный переворот, героические жертвы, добровольное наводнение края и все последовавшие затем успехи. Но самые успехи эти довершают окончательный подрыв энергии и энтузиазма, порожденных временным возвратом к старине. В течение всей войны за испанское наследство Голландия, статхаудер которой сделался королем английским, приносится в жертву союзному с ней краю; после трактата 1714 года она теряет первенство на море, нисходит на вторую уже ступень, а затем падает и еще ниже; вскоре великий Фридрих мог сказать, что Англия тянет ее за собой на буксире, как линейный корабль какую-нибудь шлюпку. Франция опустошает ее в войне за австрийское наследство; позже Англия вынуждает уступить ей право досмотра голландских судов на море и отнимает Коромандельский берег. Наконец, Пруссия является сюда для подавления республиканской партии и учреждения (наследственного) статхаудерства. Как все слабые, она подвергается обидам со стороны сильных, а после 1789 года и неоднократному завоеванию. Хуже врего то, что она мирится со своим положением и рада просуществовать хоть в качестве хорошего коммерческого и банкирского дома. Уже в 1723 году ее историк эмигрант Иоанн Леклерк плоско подшучивал над честными моряками, которые в войну за независимость предпочитали скорее взорвать корабль, чем сдаться неприятелю[61]. В 1732 году другой историк положительно говорит, ’’что голландцы только и думают о наживе”. После 1748 года армия и флот приходят в совершенный упадок. В 1787 году герцог Брауншвейгский покоряет страну почти без боя. Какое громадное расстояние между этими чувствами и теми, какие одушевляли спутников Молчаливого, Рёйтера и Тромпа! Вот отчего в силу изумительного соответствия вместе с практической энергией умирает и живописное творчество.
В первые десять лет XVIII века не остается в живых ни одного великого художника. Уже в течение целого поколения упадок заметен и по оскудевшему стилю, и по более ограниченному воображению, и по более мелочной отделке у Франса ван Миериса, Схалькена и других. Один из последних, Адриан ван дер Верф, своей холодной и вылощенной живописью, своими мифологическими затеями и наготой, своим телесным цветом, напоминающим слоновую кость, своими немощными попытками вернуться к итальянскому стилю свидетельствует явно, что голландцы забыли свой врожденный вкус и свое собственное вдохновение. Преемники его похожи на людей, которым и хотелось бы что-нибудь сказать, да нечего; воспитанные знаменитыми учителями или отцами, Петер ван дер Верф, Генрих ван Лимборг, Филипп ван Дейк, Миерис-сын, Миерис-внук, Николай Верколье, Константин Нетчер повторяют заученную фразу совершенно автоматически. Талант держится только у живописцев аксессуара и цветов: Жака де Витта, Рахили Рейш, Ян ван Гейзума — в мелком жанре, требующем меньше вымысла, и длится еще несколько лет, подобно кустарнику, упорно растущему на высохшей земле, тогда как все большие деревья кругом пропали. Но пропадает в свой черед и он, и местность тогда совершенно пустеет. Вот последнее подтверждение зависимости, связывающей индивидуальную своеобразность с общественной жизнью и соразмеряющей творческие способности художника с деятельною энергией данного народа.
ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА В ГРЕЦИИ
(Посвящается живописцу Генриху Леману)
Скульптура в Греции. — Что нам от нее осталось. — Скудость памятников. — Необходимость изучения среды.
В течение предыдущих лет я представил вам историю двух великих самобытных школ, которые в новые уже времена посвятили себя изображению человеческого тела, — итальянской и нидерландской. Заканчивая настоящий курс моих чтений, мне остается познакомить вас с величайшею и своеобразнейшею из всех них — древней греческой школой. На этот раз я не буду говорить о живописи. За исключением расписных ваз, нескольких мозаик да небольших стенных украшений в Помпее и Геркулануме, памятники античной живописи все погибли; мы ничего не можем сказать о них в точности. К тому же для изображения человеческого тела в Греции существовало искусство более национальное, более приспособленное к правам и умственному настроению общества, вероятно, более обработанное и более совершенное, — скульптура; предметом моих чтений на этот раз именно и будет греческая скульптура.
По несчастью, и здесь, как и во всем прочем, древность оставила по себе одни развалины. То, что уцелело нам от древних изваяний, можно сказать, ничто в сравнении с погибшим. Всего по двум только головам[62] мы должны гадательно воссоздавать себе колоссальных богов, в которых выразилась мысль того подлинно дивного века и величием которых наполнялись храмы Греции; у нас нет ни одного обломка, достоверно принадлежащего Фидиеву резцу; мы знаем Мирона, Поликлета, Праксителя, Скопаса и Лисиппа только по копиям и более или менее отдаленным и сомнительным подражаниям. Прекрасные статуи наших музеев относятся обыкновенно к эпохе римского владычества или много-много ко временам преемников Александра. Да и то лучшие из них попорчены, искажены. Ваш музей алебастровых слепков[63] похож на поле битвы после сражения: только и видишь в нем торсы, головы, разбросанные части. Наконец, ко всему этому добавьте еще и то, что у нас нет и жизнеописаний художников. Понадобились все усилия самой остроумной и терпеливой учености[64] для того, чтобы в какой-нибудь полуглаве Плиния, в нескольких плохих описаниях Павсания, в нескольких отрывочных фразах Цицерона, Лукиана, Квинтилиана открыть хронологию мастеров, данные для выводов о преемственности школ, о характере талантов, о развитии и постепенной порче искусства. Восполнить пробелы в этом отношении может только одно средство: за отсутствием обстоятельной, подробной истории у нас есть история общая; в данном случае более чем когда-либо для того, чтобы понять художественные произведения, нам необходимо рассмотреть создавший их народ, нравы, их внушившие, и среду, в которой они родились.
Отдел первый. Племя
Постараемся прежде всего представить себе возможно точнее это племя и для того рассмотрим внимательно край. Народ всегда ведь принимает отпечаток обитаемой им местности, но отпечаток этот тем сильнее, чем более народ был в диком и младенческом состоянии, когда впервые там водворился. Когда французы начали колонизировать острова Бурбон или Мартинику, когда англичане пришли заселять Северную Америку и Австралию, они принесли с собой оружие, механические снаряды, искусства, ремесла, учреждения, идеи — короче, полную старую цивилизацию, благодаря которой им нетрудно было удержать за собой однажды приобретенный ими тип и противостоять влиянию новой среды, в какую они попали. Но когда дикий и безоружный человек пустится в борьбу с природой, она схватывает его со всех решительно сторон, переделывает по-своему, выливает в свою форму, и нравственная глина, совершенно еще податливая и мягкая, сжимается и мнется под физическим давлением, против которого его прошлое не дает никакой ему опоры. Языковеды указывают нам первичную эпоху, когда индийцы, персы, германцы, кельты, римляне и греки имели один и тот же язык и одну и ту же степень культуры; указывают другую не столь древнюю эпоху, когда римляне и греки, уже отделенные от прочих своих братьев, были еще неразрывно соединены между собой[65], знали добывание вина, жили скотоводством и земледелием, имели весельные суда и к своим древним ведическим божествам присовокупили новое — Гестию или Весту, огонь домашнего очага. Это — едва лишь начальные зародыши первобытной культуры: они были если и не дикари, то все же еще варвары. С той поры две ветви, вышедшие из одного ствола, начинают расходиться; когда мы встречаемся с ними позже, их строение и плоды совсем уже не одинаковы, а, напротив, различны; дело в том, что одна пошла в рост в Италии, другая в Греции, и потому мы должны рассмотреть обстановку греческого отпрыска и сообразить, не объяснят ли нам вскормившие его воздух и почва данных особенности его формы и направления его развития.
I
Влияние физической среды на развитие младенческих народов. — Родство грека с латином. — Обстоятельства, побудившие два эти характера далеко разойтись. — Климат. — Влияние его мягкости. — Гористая и скудная почва. — Умеренность обитателей в пище и питье. — Повсеместное присутствие моря. — Удобство прибрежного плавания. — Греки моряки и странствователи. — Их врожденная тонкость и раннее воспитание.
Бросим взгляд на карту. Греция — полуостров в виде треугольника: упираясь основанием в Европейскую Турцию, он отделяется от нее, удлиняется к югу, врезывается в море, утончается у Коринфского перешейка и образует за ним другой, более южный полуостров Пелопоннес, нечто вроде шелковичного листа, соединяющегося тонким стебельком с материком. Прибавьте к нему еще сотню островов и лежащий напротив азиатский берег; это целая бахрома мелких землиц, пришитая к крупным материкам варварских народов, и целая гряда островов, рассеянных по синему морю, окаймленному той бахромой, — такова страна, вскормившая и образовавшая этот народ, скороспелый и умный. Она была удивительно для того приспособлена. На севере от Эгейского моря[66] климат еще суров, вроде климата средней Германии: в Румелии неизвестны плоды юга; по берегу ее не растет мирт. Но контраст истинно разителен, когда, спускаясь к югу, вы вступите в Грецию. Под 40-м градусом в Фессалии начинаются леса вечно зеленеющих деревьев; под 39-м во Фтиотиде влияние теплого морского и берегового воздуха позволяет выращивать сарацинское пшено, хлопчатник и маслину. В Эвбее и Аттике встречаются уже пальмы, а Кикладские острова обильны ими; по восточному берегу Арголиды тянутся густые лимонные и померанцевые рощи; в уголке на острове Крит найдете даже семью африканских финиковых пальм. В Афинах, этом средоточии греческой цивилизации, благороднейшие плоды юга растут сами собой, невозделанные. Морозы там бывают разве только лет через двадцать, не чаще; сильный летний жар умеряется морской прохладой; за исключением немногих порывов ветра со стороны Фракии и сирокко с юга, температура там отличная; и теперь даже[67] ’’народ с половины мая по самый конец сентября ночует обыкновенно на улицах, женщины спят на террасах”. В таком крае все живет на открытом воздухе. Сами древние признавали свой климат за особенный дар богов. ’’Кротка и приятна, — говорит Еврипид, — наша атмосфера; зимний холод у нас не суров, а летом не разят нас стрелы Феба”. В другом месте он прибавляет: ”0 вы, потомки Эрехфея, искони счастливые, любимые дети блаженных богов! В святой и никогда не побежденной своей родине вы собираете славную мудрость, как будто бы плод своей земли, и с чувством сладкого довольства постоянно гуляете в лучезарном эфире своего неба, где девять священных пиэридских муз вскармливают златокудрую Гармонию, общее ваше чадо. Говорят также, что богиня Киприда зачерпнула из светлоструйного Илисса несколько волн и нарочно разлила их по стране в виде отрадно прохлаждающих зефиров и что прелестная, увенчанная душистыми розами богиня всегда посылает амуров сопутствовать досточтимой Мудрости и поддерживать заодно с нею все доблестные дела”[68]. Это, разумеется, красные слова поэта, но сквозь оду проглядывает здесь истина. Народ, сложившийся под таким климатом, разовьется быстрее и гармоничнее другого; человека не изнуряет и не томит чрезмерный жар; ему не приходится коченеть и мерзнуть от сильного холода. Он не обречен ни на мечтательное бездействие, ни на безустанную подвижность; он не застрянет ни в мистических созерцаниях, ни в зверском варварстве. Сравните неаполитанца или провансала с каким-нибудь бретонцем, голландцем или индусом, и вы тотчас ощутите, как кроткая и умеренная физическая природа живит и уравновешивает душу, располагая бодрый и быстрый ум к мысли и деятельности.
Два существенные качества почвы действуют здесь заодно. Во-первых, Греция — это сеть гор. Пинд, главный хребет ее, продолжаясь на юг Офрией, Этою, Парнасом, Геликоном, Кифероном с их предгорьями, образует цепь, которой многочисленные звенья, проходя за Коринфский перешеек, вздымаются, перепутываются и загромождают собой Пелопоннес; окрестные острова — те же возникшие из воды хребты или одинокие горные выси. Вся изборожденная таким образом страна крайне бедна равнинами, везде выступает наружу горный кряж, подобно тому как у нас в Провансе; три пятых всего пространства негодны для земледелия. Взгляните на виды и пейзажи Штакельберга; повсюду голый камень; маленькие речки и ручьи оставляют между своим полупересохшим руслом и обнаженною скалою узкую гряду пахоты. Уже Геродот противопоставлял Сицилию и южную Италию, этих располневших кормилиц, чахлой Греции, "которая, родившись, приобрела в молочную сестру себе скудность”. Особенно в Аттике почва тоще и легче, нежели где-нибудь в других местах; маслина, виноградная лоза, ячмень и немного пшеницы — вот все, что дает она человеку. На этих прекрасных мраморных островах, развеянных блестящими созвездиями по лазури Эгейского моря, попадались там и сям какой-нибудь священный лесок, несколько кипарисов, лавров, пальм, купы прелестной зелени, несколько виноградных лоз, торчащих по утесам; в садах превосходные плоды, местами крошечные нивы где-нибудь в ущелье или на горной покатости; но там было более пищи для глаз, нежели для желудка и для положительных телесных потребностей. Подобный край родит стройных, деятельных, умеренных в еде и питье горцев, вскормленных больше чистым воздухом. И до сих пор[69] "пищи одного английского земледельца достало бы в Греции на семью из шести человек; даже богатые довольствуются блюдом овощей за обедом, а бедные — горстью маслин или куском соленой рыбы; народ лакомится говядиной только один раз в год, в пасху”. В этом отношении любопытно взглянуть на греков в Афинах летнею порой. "Одна баранья голова в шесть су (копеек) ценою идет у лакомок на семь или восемь человек. Люди умеренные покупают себе ломоть арбуза или крупный огурец и кусают его зубами, как яблоко”. Пьяниц совсем нет: они упиваются только одной чистой водою. "Если и зайдут в трактир, то лишь для того, чтоб поболтать; в кофейне они спрашивают себе чашку кофе за один су, стакан воды, огня для папиросок, газету и домино: этого достаточно им для развлечения на целый день”. Такого рода диета не обременяет умственных способностей; уменьшая потребности желудка, она увеличивает работу мысли, головы. Еще древние замечали соответственную противоположность между Беотией и Аттикой, между беотийцем и афинянином; один, откормленный на тучных равнинах и среди густого сравнительно воздуха, привыкший к тяжелой пище и к жирным угрям Колпаисского озера, был едок, пьяница и при этом тупоумен; другой, родясь на самой жалкой почве Греции, довольствуясь какою-нибудь рыбьей головкой, луковицей да горсточкой маслин, выросши в легком, прозрачном и ясном воздухе, обнаруживал с самого начала необыкновенную тонкость и живость ума, изобретал, наслаждался, чувствовал, без устали предпринимал то или иное, ни о чем другом не заботясь "и как бы не имея иной собственности, кроме своей мысли”[70].
С другой стороны, Греция — страна не только гористая, но и многобережная. Будучи меньше Португалии, она объемом берегов превосходит Испанию. Море врезывается в нее множеством заливов, излучин, впадин и зубцов; если вы взглянете на привозимые путешественниками виды, то, наверно, в половине даже тех, которые изображают внутренние местности, вы все-таки заметите синюю ленту моря, или какой-нибудь его треугольник, или, наконец, на горизонте блестящий его полукруг. Чаще всего то море обрамлено выступами скал или сближающимися между собой островами, которые образуют этим естественную пристань, самородный порт. Подобное положение так и тянет к морской жизни, в особенности когда тощая почва и скалистые берега не могут вдоволь прокормить жителей. Первоначально существовал один только род плавания — судоходство вдоль берегов, и нет моря, которое бы так манило к нему прибрежное население. Каждое утро встает северный ветер как нарочно для того, чтобы подгонять суда из Афин к Кикладам; под вечер противоположный ветер несет их обратно в родной порт. От Греции вплоть до Малой Азии острова рассыпаны, как переходные камни по иному броду; в ясную погоду судно, следующее этим путем, постоянно идет в виду берега. С Коркиры (Корфу) вы видите Италию, с мыса Малея — вершины Критских гор, с Крита — Родосские горы, с Родоса — Малую Азию; от Крита до Кирены двое суток плавания; в Египет можно дойти из Крита через три дня. И теперь еще[71] ”в каждом греке есть жилка истого моряка”[72]. В этой стране всего с девятисоттысячным населением в 1840 году считалось тридцать тысяч моряков и четыре тысячи кораблей; они держат в своих руках всю прибрежную торговлю в Средиземном море. Еще при Гомере мы находим у них те же нравы: поминутно спускают на море суда; Улисс строит себе корабль собственноручно; идут торговать и грабить по соседним прибрежьям. С самого начала и во всю их историческую жизнь они не переставали быть купцами, путешественниками, пиратами, маклерами, искателями приключений; ловкой или насильственной рукой доили они крупные восточные монархии или варваров Запада, привозили к себе золото, серебро, слоновую кость, рабов, строевой лес, разные драгоценности — и все это чуть не задаром; да сверх того быстро перенимали у других изобретения и идеи, обращаясь за ними и в Египет, и в Финикию, и в Халдею, и в Персию[73], и в Этрурию. Подобный строй жизни изощряет и необыкновенно возбуждает ум. Доказательством может служить то, что самые передовые, самые образованные, самые умные из народов Древней Греции все были моряки: малоазийские ионийцы, жители великогреческих колоний, коринфяне, эгинцы, сикионяне, афиняне. Напротив, замкнутые в своих горах аркадцы пребывали в сельской простоте; также акарняне и эпироты. Озольские локры, действовавшие на другом, менее благоприятном море и никогда не странствовавшие, оставались полуварварами до конца; в эпоху римского завоевания соседи их, этолийцы, жили еще только в бесстенных слободах и были грубые разбойники. Их не коснулось стремление, двигавшее вперед другие племена. Таковы были физические обстоятельства, изначала благоприятствовавшие пробуждению мысли. Народ этот можно сравнить с ульем пчел, которые, родясь под кротким небом, но на скудной почве, пользуются открытыми им воздушными путями, собирают везде соки, ходят на добычу, роятся, обороняются своей ловкостью и своим жалом, сооружают хитрые постройки, приготовляют превосходный мед, всегда в поисках, всегда жужжа и снуя вдоль и поперек среди окружающих их тяжеловесных тварей, которые способны только пастись под надзором хозяина или толкаться между собой без ряду, как попало.
В наше еще время, как ни глубоко их падение[74], ’’они не уступят в уме ни одному на свете народу, и нет, можно сказать, такого умственного труда, на который они не были бы способны. Они понимают скоро и хорошо; с поразительной легкостью научаются всему, чему только захотят учиться. Молодые купцы быстро овладевают уменьем говорить на пяти-шести разных языках”. Рабочие в несколько месяцев изловчаются изучить любое, трудное даже ремесло. Целое селение, со старейшиной во главе, готово с любопытством расспрашивать и выслушивать заезжих путешественников. ’’Особенно замечательно неутомимое прилежание учеников”, маленьких и взрослых; даже слуги, исполняя свою обязанность, находят еще время приготовиться к экзамену на звание адвоката или врача. ”В Афинах вы встретите учащихся всякого рода, кроме лишь таких, которые не учатся”, а ленятся. В этом отношении нет племени, так богато одаренного природой, и кажется, все обстоятельства соединились для того, чтобы развить их ум и изощрить способности.
II
Следы этого характера в их истории. — Улисс. — Грек эпохи римского господства. — Наклонность к чистой науке и отвлеченному доказательству. — Открытия в науках. — Обобщения в философии. — Спорщики и софисты. — Аттический вкус.
Проследим эту черту в их истории. Обратимся ли к практической их жизни или к их теориям, везде увидим тонкий, ловкий, находчивый ум. Не странно ли, что даже на заре цивилизации, когда человек обыкновенно еще буен, наивен и задорно груб, один из двух греческих героев, тонкая особа, Улисс, человек осторожный, предусмотрительный, хитрый, неистощимый на увертки, надувательства, ловкий мореход, никогда не забывающий своих выгод. Воротясь к себе переодетым, он советует жене выманить у своих волокит побольше ожерельев и запястий и убивает их только тогда, когда они обогатили его дом. Когда отдается ему Киркея или когда Калипсо предлагает с ним уйти, он и тут из предосторожности заставляет их наперед поклясться. На обычный вопрос о его имени у него всегда готова какая-нибудь новая, хорошо придуманная история или родословная. Сама Паллада, которой, не зная ее, Улисс рассказывает свои сказки, невольно восхищаясь им, хвалит его так: "О хитрец, обманщик, пройдоха, неистощимый на плутни, кто превзойдет тебя в ловкости, кроме разве какого-нибудь бога!” И сыновья стоят батюшки: под конец так же, как и при начале цивилизации, ум преобладает у них над всем; он всегда первенствовал в их характере, а теперь он его переживает. Когда Греция была покорена, грек явился дилетантом, софистом, ритором, письмоводцем, критиком, наемным философом; потом, в эпоху римского господства, он уже просто гречишко (Graeculus), нахлебник, шут, сводник, вечный весельчак, проворный, сговорчивый, готовый на все услуги, на любое ремесло, подделывающийся ко всем характерам, вывертывающийся из всякой беды, бесконечно ловкий, первый родоначальник скапинов, маскариллей и всех хитрых скоморохов, которые, получив в наследие только один ум, пользуются им, чтобы жить на счет ближнего. Воротимся к лучшей эпохе древних греков и рассмотрим то великое их создание, которое приобрело им всего более прав на сочувствие и восхищение целого света: мы говорим об их науке, которая явилась ведь в силу того же инстинкта и тех же самых потребностей. У купца-финикиянина есть арифметические правила для его расчетов; у египтянина, землемера и наемщика, есть геометрические приемы для кладки громад из его песчаника, для обмежевки его поля, ежегодно поднимаемого нильскими разливами. Эта техника, эта рутина переходят от них к греку; но они не удовлетворяют его; ему мало промышленного и торгового приложения; он пытлив и умозрителен от природы; он хочет знать, отчего и почему все это так, хочет знать причину вещей, вникнуть в их основание[75]; он ищет отвлеченного доказательства и следит тонкую сеть идей, ведущих от одного положения к другому. Более чем за 600 лет до Рождества Христова Фалес бился уже над доказательством равенства углов в равнобедренном треугольнике. Древние передают, что Пифагор пришел в такой восторг, найдя решение своей теоремы о квадрате гипотенузы, что обещал богам гекатомбу (большое жертвоприношение из ста волов). Грека интересует сама по себе истина; увидев, что сицилийские математики применяют свои открытия к постройке машин, Платон укорял их, что они унижают этим науку; по его мнению, ей следует ограничиваться созерцанием одних идеальных линий. Действительно, греки всегда двигали науку вперед, не заботясь о практической ее пригодности. Так, например, их исследования о свойствах конических сечений нашли себе приложение только семнадцатью веками позже, когда Кеплер стал отыскивать законы движения планет. В этом великом деле греков, которое легло в основу всех наших наук, их анализ строг до такой степени, что и доныне еще в Англии геометрия Евклида служит руководством для учащихся. Разлагать идеи на составные их части, подмечать взаимную их связь, образовывать из них такую цепь, чтобы в ней были налицо все звенья и чтобы вся она примыкала к какой-нибудь бесспорной аксиоме или к группе общедоступных наблюдений, находить удовольствие в выковке, связывании, размножении и проверке этих звеньев, не имея притом другой цели, кроме одного желания видеть их все более и более многочисленными и надежными, — вот особый дар греческого ума. Эти люди только для того и мыслят, чтобы мыслить, и вот почему они создали науку. Мы и теперь не воздвигаем ни одной новой науки без того, чтобы не опереться на заложенный ими фундамент; часто мы обязаны им первым ярусом, иногда и целым крылом научного здания[76]; в математике тянется сплошной ряд изобретателей, от Пифагора до Архимеда, в астрономии — от Фалеса и Пифагора до Гиппарха и Птолемея, в естественных науках — от Гиппократа до Аристотеля и александрийских анатомистов, в истории — от Геродота до Фукидида и Полибия, в логике, политике, морали, эстетике — от Платона, Ксенофонта, Аристотеля до стоиков и неоплатоников. Люди, так сильно увлекшиеся идеями, не могли не полюбить прекраснейших из них, идей обобщения, объединения. В течение одиннадцати веков, от Фалеса до Юстиниана, их философия никогда не останавливалась в росте; всегда новая какая-нибудь система расцветала на почве старых или рядом с ними; даже когда умозрение было замкнуто в церковный догматизм, и тогда оно пробивало себе дорогу, прорастая сквозь расщелины. В громадном этом складе мы и теперь еще находим плодотворнейшие из наших гипотез[77]; греки так много мыслили, голова у них была сложена так отлично, что предположения их часто попадали на истину.
В этом отношении совершенный ими труд уступал разве только их рвению. В глазах этого народа два только занятия отличали человека от скота и грека от варвара: интерес к общественным делам и изучение философии. Прочтите Платоновых ’’Феага” и ’’Протагора”, и вы увидите тот неослабный энтузиазм, с каким даже очень еще молодые люди стремятся к идеям сквозь тернии и шипы диалектики. Особенно поразительна склонность их к самой диалектике; они не скучают дальними ее обходами, они любят охоту не меньше добычи, самое путешествие — столько же, как и его цель. Грек еще более резонер, чем метафизик или ученый; ему нравятся тончайшие отличия, неуловимейший анализ; он готов изо всего выткать паутину[78]. Тут ловкость его превосходит все; найдет ли эта слишком сложная и мелкая сеть какое-нибудь теоретическое и практическое применение, до этого ему нет дела; он любуется уже тем, как тонкие ее нити переплетаются между собой в едва заметные симметрические клеточки. Здесь национальный недостаток всецело обличает национальное дарование. Греция — мать спорщиков, риторов и софистов. Нигде в другом крае вы не увидите группы значительных и популярных людей вместе, которые, подобно Горгиям, Протагорам и Полосам[79], учили бы со славой и успехом выдавать дурное за хорошее и так правдоподобно отстаивать нелепейшую вещь, как бы ни казалась она невероятной[80]. Греческие риторы ухитрились славить моровую язву, лихорадку, клопов, Полифема и Терсита; один греческий же философ уверял, что мудрец был бы счастлив, даже жарясь в медном быке Фалариса. Нашлись школы, например школа Карнеада, защищавшие прямо противоположные тезисы; другие, подобно школе Энези-дема, старались доказать, что всякое положение так же истинно, как и обратное ему. В завещанном нам древностью наследии есть, между прочим, богатейший склад выводов и парадоксов; для утонченности эллинов было бы слишком мало простора, не вдавайся она точно так же в заблуждение, как и в истину.
Такова тонкость ума, которая из области отвлеченных рассуждений, будучи перенесена в литературу, образовала в ней так называемый ’’аттический” вкус, т. е. острое чутье оттенков, легкую грацию, неуловимую иронию, простоту слога, красоту речи, изящество доводов. Рассказывают, что Апеллес, придя к Протогену и не застав его, не сказал своего имени, а взял кисть и провел ею на приготовленной филёнке тонкую извилистую линию. Воро-тясь домой, Протоген увидел эту черту и воскликнул, что она, наверно, принадлежит Апеллесу; затем обвел рисунок еще более тонкой чертой и велел показать ее незнакомцу, если он зайдет в другой раз. Является снова Апеллес и, пристыженный тем, что хозяин перещеголял его, рассекает два первые контура новой чертой изумительной тонкости. Взглянув на нее, Протоген сказал: ”Я побежден и бегу обнять своего учителя”. Этот легендарный рассказ дает приблизительно самое верное понятие о греческом уме. Вот та тончайшая черта, какою он обводит контуры всех возможных предметов; вот то искусство, та точность и врожденная легкость, с какими он кружит в сплетении идей, чтобы сперва отчетливо различить, а потом ловко воссоединить их.
III
Ничего слишком громадного в окружающей природе. — Горы, реки, море. —Отчетливость рельефов, прозрачность воздуха. — Аналогия с этим в политическом быту. — Малость государства в Греции. — Приобретенная умом греков способность к определенным и ясным понятиям. — Следы этого характера в их истории. - Религия. — Слабое чувство всеобщего, вселенного. — Идея космоса. — Человековидные и определенные боги. — Грек под конец просто играет ими. — Политика. — Независимость колоний. — Города не умеют соединяться. - - Пределы и непрочность государственного строя греков. — Целостность и развитие человеческой природы.—Совершенное и вместе ограниченное понимание нашей природы и судьбы.
Это, однако, еще первая только черта, но есть и другая. Вернемся в страну, и тогда вторая черта присоединится к первой. Тут опять физический строй края положил на умственный склад племени тот самый отпечаток, какой мы находим в его созданиях и в его истории. В стране этой нет ничего громадного, гигантского; ни одна из видимых вещей не поражает несообразными, подавляющими размерами. Вы не найдете здесь ничего, подобного чудовищным Гималаям, или бесконечному сплетению чрезмерно обильной растительности, или громадным рекам, которые описываются в индейских поэмах, ничего подобного нескончаемым лесам, необозримым равнинам, беспредельному дикому океану Северной Европы. Глаз легко схватывает формы предметов и выносит точные от них образы. Все здесь средних размеров, все в меру, все легко и отчетливо дается внешним чувствам. Горы Коринфа, Аттики, Беотии, Пелопоннеса — всего в три или четыре тысячи футов вышиной; немногие лишь доходят до шести тысяч; надо зайти на окраину Греции, на самый север, чтобы встретить высь, подобную пиренейским и альпийским; это именно Олимп, который греки за то и сделали жилищем богов. Самые большие реки — Пеней и Ахелой — длиной в каких-нибудь тридцать или сорок французских миль, не более; остальные обыкновенно только ручьи и потоки. Само море, столь яростное и грозное на севере, тут предстает чем-то вроде озера. Вы не чувствуете пустынной его громадности: постоянно виден берег или какой-нибудь остров; нигде ни производит оно мрачного впечатления, нигде не представляется каким-то свирепым, губительным существом; оно не носит мертвенного или свинцово-мутного цвета, не опустошает своих берегов и не имеет тех приливов, которые окаймляли бы его грудами кругляков и грязи. Оно так везде светится и, выражаясь словами Гомера, ’’блещет то цветом вина, то фиалковым отливом”; красноватые скалы его берегов окружают ясную поверхность вод узорчатой каймою, будто рамкою. Вообразите себе души, новые и нетронутые, которым взамен всякого воспитания даны подобные картины. Глядя на них, они до того привыкнут к определенным и ясным образам, что никогда не испытывают смутной тревоги, крайней мечтательности, припадков тоскливого гадания о никому неведомом потустороннем мире. Так сложилась та умственная форма, откуда все идеи выльются потом с особенной рельефностью. Двадцать разных почвенных и климатических условий соединились для завершения этой формы во всей полноте. Почвенный рельеф земли тут еще осязательнее виден, чем у нас в Провансе; она не сглажена и не прикрыта, как в наших влажных северных краях, повсеместно простертым слоем пахотной земли и растительной зелени. Земной остов, геологический костяк, серо-фиолетовый мрамор проступает наружу торчащими утесами, растягивается в виде обнаженных круч, рисуется в небе своим резким профилем, замыкает своими островерхими высями и гребнями долины, так что весь пейзаж, изборожденный крутыми изломами, иссеченный зазубринами и совсем нежданными углами, представляется рисунком какой-то могучей руки, у которой прихотливая фантазия не отнимает, однако, ни верности, ни точности. Качество воздуха придает еще более выпуклости предметам. Воздух преимущественно Аттики прозрачен на удивление. Обогнув мыс Сунион, мореплаватель за десятки миль различал шеломный гребень Паллады на Акрополе. Гора Гиметт — в двух французских милях (около восьми верст) от Афин, а европеец, высаживаясь на берег, думает сходить туда пешком, пока готовят для него завтрак. Вечно блуждающие в нашей атмосфере пары там вовсе не смягчают очертаний дали; последние предстают нам не в смутном, полускраденном и как бы затушеванном слегка виде, — они ярко выделяются на своих фонах, ни дать ни взять как фигуры античных ваз. Добавьте еще ко всему этому великолепный блеск солнца, крайне усиливающий контрасты света и теней и присоединяющий противоположность сплошных масс к отчетливости отдельных линий. Так сама природа, запечатлевшая в мысли грека свои формы, прямо клонит его к ясным и определенным созерцаниям. Туда же клонит она его и косвенно посредством той политической ассоциации, к которой она его ведет и которою ограничивает его почти поневоле.
В самом деле, сравнительно со своей славой Греция ведь только лоскуток земли, и она покажется вам еще меньше, если вы обратите внимание на крайнюю ее раздробленность. С одной стороны — главные хребты и боковые цепи гор, с другой стороны — море делят ее на множество разных областей, тесно замкнутых каждая в своей ограде; Фессалия, Беотия, Арголида, Мессения, Лакония — все сплошь острова. Море труднопроходимо в варварские времена, а ущелья гор всегда удобны для защиты. Поэтому народам Греции легко было предохранить себя от завоевания и существовать в качестве мелких независимых государств одно возле другого. Гомер насчитывает их около тридцати[81], а их стало несколько сот, когда возникли и умножились колонии. На наш новый взгляд, любое греческое государство кажется миниатюрой. Арголида простирается всего на восемь или на десять миль в длину и от четырех до пяти в ширину; Лакония почти на столько же; Ахейя — узкая гряда земли на спускающейся к морю горной цепи. Вся Аттика не составит половины меньшего из наших департаментов; территория Коринфа, Сикиона, Мегары ограничивается только городской округой: обыкновенно целое государство, в особенности на островах и в колониях, составляет город с небольшим участком или окружающими его мызами. С одного акрополя простыми глазами виден был другой или же горный кряж соседнего владения. В таких тесных пределах все представляется уму совершенно ясно; нравственно-мыслимое отечество не заключает в себе ничего гигантского, отвлеченного и смутного, как у нас; оно доступно внешним чувствам и сливается в одно с физической родиной; оба эти понятия запечатлены в уме гражданина совершенно точными очертаниями. Чтобы представить себе Афины, Коринф, Аргос или Спарту, ему достаточно вообразить разрезы родной долины или силуэт родного города. Он знает в нем всех граждан, точно так же, как живо помнит все его контуры, и узость,его политического быта, подобно форме его тесной и природной области, дает ему заранее тот умеренный и ограниченный тип, в который замкнутся все его понятия и соображения.
Рассмотрите в этом отношении религию греков: у них нет чувства той необъятной бесконечности, в которой любое поколение, любой народ, всякое конечное существо, как бы ни было оно велико, представляется одним только моментом, одной точкой. Вечность не воздвигает перед ними своей пирамиды из целых миллиардов веков как чудовищную гору, в сравнении с которой наша маленькая жизнь какая-то крапинка или едва заметная кучка песку. Они не заботились, как другие народы, индийцы, египтяне, семиты, германцы, ни о беспрерывно возрождающемся круге метемпсихозов, ни о вечном тихом сне могилы, ни о той бесформенной и бездонной пропасти, из которой твари выходят, как легкий, мимолетный пар, ни о едином всепоглощающем и грозном Боге, в котором сосредоточиваются все силы естества и для которого небо и земля только шатер и подножие ног его, ни о том высшем, таинственном, незримом могуществе, которое благочестивая душа прозревает сквозь видимый мир, за его пределами[82]. Их идеи слишком для того ясны, да и построены на слишком малый размер. Вселенское ускользнуло от них совсем или, по крайней мере, коснулось их только стороною, они не создали себе из него Бога, еще менее Бога личного; в религии их оно стоит на заднем плане: это — Мойра, Айса, Эймармене (судьба, парка, рок), другими словами — определенный каждому жребий. Ни единому существу, человек ли оно или бог, не избежать выпавших ему на долю событий; это, собственно говоря, отвлеченная истина; если Мойры Гомера — богини, то благодаря лишь вымыслу; под поэтическим выражением, как под прозрачной водой, виднеются неразрывное сцепление фактов и неизгладимые рубежи или пределы вещей. Науки наши допускают пределы эти в настоящее время, и идея греческой судьбы то же самое, что новейшая идея закона. Все определено — вот что говорят наши формулы и что предчувствовали греки в своих вещих гаданиях.
Если они развивают эту идею, то для того лишь единственно, чтобы еще более упрочить грани, полагаемые ею любому данному существу. Из темной силы, развертывающей и распределяющей жребий, они создали свою Немезиду[83], карательницу горделивых и смирительницу заносчивых. ”Ни в чем излишка”, — гласило одно из великих прорицаний оракула. Беречься всяких чрезмерных желаний, страшиться полного благоденствия, не допускать себя до опьянения, блюсти меру во всем — вот совет, даваемый всеми поэтами и всеми мыслителями великой эпохи. Нигде инстинкт не был так ясен, а разум так самодеятелен, как у греков. Когда при первом пробуждении мысли они пытаются постигнуть мир, он выходит у них прототипом их собственного ума, совершенным его образом. Это — порядок, космос, гармония, прекрасное и стройное расположение вещей, существующих и преобразующихся сами собой. Впоследствии стоики уподобят мир городской общине, управляемой наилучшими законами. Тут нет места ни с чем не соизмеримым, неопределенным божествам, нет места и богам-деспотам, всеистребляющим самовластцам. Религиозное головокружение никак не входит в эти здоровые, строго уравновешенные умы, представляющие себе мир в подобном виде. И боги скоро превращаются в людей; у них есть родители, дети, своя родословная, своя история, своя одежда, свои чертоги, свое тело, подобное нашему; они подлежат страданию, подвержены ранам; величайшие из них, сам Зевс, когда-то ведь воцарились, и, пожалуй, будет время, что они увидят конец своего владычества[84]. На щите Ахиллеса, изображающем войско, ’’люди шли, предводимые Аресом и Афиной, золотые сами и одетые в золото, красивые и рослые, как подобает богам, ибо люди все сплошь меньше их”. В самом деле, между ими и нами и нет ведь другой разницы. Не раз в Одиссее Улисс и Телемах, случайно повстречавшись с каким-нибудь высоким и пригожим человеком, спрашивают у него, не бог ли он? Столь человеческие боги, конечно, уж не смутят, не озадачат замыслившего их ума; Гомер распоряжается ими по своей воле; он то и дело заставляет Афину вступаться во всякие мелочи, чтобы, например, указать Улиссу дом Алкиноя или то место, куда упал его диск. Поэт-теолог разгуливает в божеском своем мире свободно и весело, словно играющее дитя. Он тут потешается, смеется; Аполлон шутя спрашивает у Гермеса, желал ли он быть на Аресовом месте? ’’О, если бы на то была милость богов, о царственный луконосец Аполлон! Пусть обовьют меня узы трижды более неразрешимые и пусть глядят на то все боги и богини — лишь бы только быть мне поближе к светлокудрой Афродите!” Прочтите гимн, где Афродита предлагает себя Анхизу, и особенно гимн Гермесу, который в самый день рождения оказывается уж выдумщиком, вором, надувалой, как истый, завзятый грек; только все это выходит у него так грациозно, что рассказ поэта похож больше на какую-нибудь шалость скульптора. Аристофан в ’’Лягушках” и в ’’Облаках” обходится еще бесцеремоннее с Геркулесом и Вакхом. Все это приводит наконец к декоративным богам Помпеи, к милым Лукиановым насмешкам, к Олимпу одних уже только забав, чисто комнатному и театральному. Столь близкие человеку боги вскоре становятся его товарищами, а потом превращаются в игрушку. Тот ясный ум, который, чтобы сделать их общепонятнее, отнял у них и бесконечность и таинственность, естественно, узнал в них после свое же собственное создание и стал потешаться вымышленными им мифами.
Обратим теперь внимание на практическую жизнь греков. Тут также нет у них должной чинности, настоящего благоговейного чувства. Грек не умеет, как римлянин, подчиниться какому-нибудь крупному единству, например обширной родине, которую постигаешь умом, хотя и не видишь вполне глазами. Он не переступил той формы общественности, в которой государство только еще город, не более. Колонии их сами себе госпожи; они получают из метрополии первосвященника и вообще относятся к ней с чувством детской любви, но этим и ограничивается их зависимость. Они — эмансипированные дочери и точь-в-точь молодой афинянин, который, возмужав, не зависит более ни от кого и становится полным себе властелином; тогда как римские колонии не более как военные посты и подобны молодому римлянину, который и вступив уже в брак, состоя на государственной службе даже в сане консула все еще чувствует на себе жесткую руку отца и тот деспотический авторитет, от которого ничто, кроме разве троекратной продажи (тем же отцом), не может его избавить. Отречься от своей воли, подчиниться далеким властям, которых никогда и не видывал' считаться только долею обширнейшего целого, забыть себя ввиду великого национального интереса — вот чего греки никогда не могли надолго выдержать. Они дробятся на части, ревнуют друг к другу, крамольничают; даже когда Дарий и потом Ксеркс вторгаются в их отечество, им очень трудно кое-как соединиться; Сиракузы отказывают во всякой помощи, потому что не им предоставлено главное начальство; Фивы держатся мидийской партии. Когда Александр силою соединил их для завоевания Азии, лакедемонцы все-таки не явились на призыв. Ни одному городу не удается составить из других союза под своим главенством. Спарта, Афины, Фивы безуспешно берутся за это дело; лишь бы не повиноваться соотечественникам, побежденные города скорее обращаются за деньгами к персам и готовы раболепствовать перед великим царем. В любом городе враждебные партии изгоняют одна другую по очереди, а затем, как в итальянских республиках, изгнанники норовят возвратиться силою при помощи иноземцев. Раздробленную таким образом Грецию завоевывают полуварварские, но привыкшие к дисциплине народы, и независимость каждого города особняком ведет к порабощению целой нации. Падение это не случайно, а просто неизбежно. Государство в том виде, в каком понималось оно греками, до того уж мало, что не в силах сопротивляться напору громадных масс извне; это гениальное, совершенное произведение искусства слишком хрупко. Величайшие мыслители их — Платон, Аристотель — низводят государство до общины в пять или десять тысяч свободных граждан. В Афинах было двадцать тысяч; большее число было бы уже, по мнению греков, беспорядочною толпой. Они не в состоянии и вообразить себе, чтобы можно было хорошо устроить более широкий союз. Покрытый храмами, освященный костями героев-основателей и изображениями племенных богов, Акрополь, агора (место народных сходок), театр, гимназия и несколько тысяч людей, умеренных в пище и питье, пригожих, храбрых и свободных, которые заняты ’’философией и общественными делами”, которым служат рабы, возделывающие землю и производящие все ремесла и промыслы, — вот городская община, которая предстает их уму, чудное создание искусства, ежедневно возникающее и завершающееся на их глазах во Фракии, по берегам Эвксина, Италии и Сицилии; вне этой рамки всякая форма общественной жизни кажется им какою-то путаницей и варварством; совершенство ее обусловлено малостью размеров, и потому при сильных столкновениях человечества ее станет ненадолго.
Этим неудобствам отвечают, впрочем, и не меньшие преимущества. Хотя религиозные понятия греков лишены серьезности и величия, хотя их политическому строю недостает устойчивости и прочности, зато они свободны от тех нравственных порч, к каким величие религии или государства неизбежно ведет человеческую природу. Повсюду цивилизация нарушала естественное равновесие способностей и наклонностей, подавляла одни из них и преувеличивала другие, жертвовала будущей жизни настоящей, божеству — человеком, государству — личностью; она создала индийского факира, египетского или китайского чиновника, римского законника и сыщика, средневекового монаха, подданного, подначального и (опекаемого отовсюду) гражданина новых времен. Под ее давлением человек то совсем стирался, то уж воспарял вдруг к облакам. Он превратился в колесо громадной машины, в которой смотрел на себя, как на пылинку перед бесконечным. В Греции же он подчинял себе свои учреждения, вместо того чтобы самому им подчиняться. Он сделал из них средство, а не цель. Он воспользовался ими, чтобы гармонически развить всего себя; он мог быть в одно и то же время поэтом, философом, критиком, сановником, жрецом, судьей, гражданином, атлетом, упражнять свои члены, свой ум и свой вкус, соединять в себе двадцать разнородных дарований так, чтобы ни одно из них не мешало притом другому, быть воином, не будучи автоматом, быть плясуном и певцом, не превращаясь в театрального фигуранта, быть мыслителем и писателем, не став книгоедом и кабинетным затворником, решать общественные дела, не поручая своей власти представителям, поклоняться своим богам, не замыкаясь в догматические формулы, не сгибаясь под тиранией никакой сверхчеловеческой силы, не уходя весь в созерцание существа неопределенного и всеобщего. Составив себе осязательный и точный очерк человека и жизни, греки как будто бы забыли все остальное и решили про себя так: ’’Вот действительный человек — подвижное и чувствующее тело, одаренное мыслью и волей, и вот действительная жизнь — шестьдесят или семьдесят лет от первого крика новорожденного и до безмолвия могилы. Постараемся сделать это тело возможно более бодрым, крепким, здоровым, красивым, развернуть эту мысль и волю в кругу всяких мужественных дел, украсить эту жизнь всеми прелестями, какие только могут создать и вкусить утонченные чувства, быстрый ум, душа живая и гордая”. Далее они ничего не видят, а если что и есть за этой чертой, оно представляется им чем-то вроде страны киммерийцев, о которой говорит Гомер, бледной страны мертвых без солнца, одетой мрачными туманами, где, подобно летучим мышам, рыщут с пронзительными криками стаи жалких привидений, наполняющих и согревающих свои жилы алой кровью, которую высасывают они на могилах из своих жертв. Общий строй ума замкнул желания и силы греков в том определенном кругу, который вполне озарен ярким солнцем, и вот на этом-то поприще, так же освещенном и так же ограниченном, как их ристалище для бега, надобно любоваться их деятельностью.
IV
Красота земли и неба. — Природная веселость племени. — Потребность живого и осязательного счастья. — Следы этого характера в истории греков. — Аристофан. — Идея о блаженстве богов. — Религия — чисто празднество. — Противоположные цели государств греческого и римского. — Походы, демократия и общественные удовольствия в Афинах. — Государство делается поставщиком театральных зрелищ. — Нет полной серьезности в науке и философии. — Гонка напропалую за общими взглядами. — Диалектические тонкости.
Для этого нам придется в последний раз еще взглянуть на страну и собрать общее от нее впечатление. Это чудная страна, как-то радостно настраивающая душу и склоняющая человека смотреть на жизнь как на чистое празднество. От прежнего остался теперь здесь только скелет; подобно нашему Провансу, и, пожалуй, еще больше Греция была обобрана, ободрана, чуть ли не выскоблена дочиста; плодоносная земля осыпалась, растительность сильно поредела; терпкий, голый камень, на котором там и сям скудно пестреют жиденькие кусты, захватывает все пространство и обнимает горизонт на три четверти. Можно, однако, представить себе, чем некогда был край, следуя по нетронутым еще берегам Средиземного моря, от Тулона до Иерских островов, от Неаполя до Сорренто и Амальфи; только необходимо вообразить небо еще синее, еще более прозрачный воздух, еще более отчетливые и гармонические формы гор. Кажется, зимы здесь никогда нет. Пробковый дуб, масличные, померанцевые, лимонные деревья и кипарисы представляют по дебрям и скатам горных теснин вечную картину лета; они спускаются вплоть до морских берегов; местами в феврале апельсины, срываясь с ветвей, падают прямо в волны. Туманов никогда нет, да почти никогда не бывает и дождя; воздух приятно тепловат, солнце вполне ясно и отрадно. Человек не вынужден здесь, как в наших северных климатах, обороняться от всяких непогод с помощью бездны сложных изобретений, употреблять газ, печи, одежду в двойном, тройном и четверном даже числе, содержать тротуары, метельщиков и проч., чтобы только сделать обитаемым тот омут холодной грязи, в каком без полиции и разного рода сноровок ему пришлось бы зачастую барахтаться и тонуть. Греку нет надобности выдумывать зал для спектакля или оперные декорации; ему стоит лишь взглянуть вокруг себя: природа доставляет ему все это в более прекрасном виде, нежели он мог бы это устроить искусственно. На Мерах я видел раз в январе, как восходило солнце из-за одного острова: свет постепенно рос, наполняя собою воздух; вдруг на вершине одной скалы вспыхнул огонь, необъятное хрустальное небо простиралось сводом над неизмеримой морской равниной, над бесчисленным множеством мелких струй, над могучей синевой однообразной воды, в которой ручей золота выделялся длинным потоком; ввечеру отдаленные горы принимали оттенки мальвы, сирени, чайной розы. Летом солнечное освещение разливает в воздухе и по морю такой лучезарный блеск, что переполненные чувства и воображение как будто оказываются занесены куда-то в самое торжество славы; каждая волна горит как жар; воды отливают тонами драгоценных камней: бирюзы, аметиста, сапфира, ляпис-лазури, которые строятся и движутся под всеобъемлющей чистотой и белизной неба. Вот при таком-то разливе света надобно вообразить себе берега Греции, разбросанные там и сям, как большие мраморные кувшины или чаши.
Что же мудреного, если на дне греческого характера мы найдем ту веселость и восторженную бойкость, ту потребность живого и осязательного счастья, какие встречаем еще и теперь у жителей Прованса, у неаполитанцев, у обитателей юга вообще[85]. Человек всегда продолжает движение, данное ему природой сначала, потому что способности и стремления, какие она в нем упрочила, те ведь именно и есть, которым она ежедневно удовлетворяет. Несколько аристофановых стихов лучше обрисуют вам эту чувственность, столь откровенную, легкую и притом блестящую. Речь идет об афинских поселянах, празднующих возврат мира после войны. ’’Какая радость, ах какая радость, снять шлем и позабыть наконец эти сыры и луковицы (которыми только и питался в походе). Если мне что по душе, так уж конечно не сражения; мне любо выпить с другом и товарищем, глядеть, как трещит на очаге припасенный с лета сухой хворост, поджаривать на угольях овечий горох, печь желуди да приголубить молоденькую Фратту, пока не вернулась из купальни жена. Когда посев окончен и Бог орошает его как следует, всего приятнее перемолвить с соседом, хотя бы, например, так: скажи-ка ты мне, Комархид, за что нам теперь приниматься? Да не прочь и я кутнуть, пока Зевс поливает нивы. Ну-ка, жена, дай высушить три мерки бобов, подмешай к ним пшенички да отбери получше смокв; нынче неспособно ведь ни подрезывать виноградные лозы, ни разбивать глыбы на поле: больно уж влажна земля. Принеси-ка от меня дрозда да пару зябликов. Помнится, оставалось там еще немного молозива да четыре куска зайчатины. Мальчик, принеси нам из них три, а четвертый подай отцу-батюшке, спроси у Эсхинада мирты с ягодой, да пусть кто-нибудь крикнет с дороги Харимеда, чтобы и он пришел с нами выпить, пока Бог помогает нам и растит нашу жатву. О досточтимая, царственная богиня мира, владычица сердец и браковладычица, прими ты нашу жертву... Пошли на наш рынок изобилие всякого добра, сочных головок чеснока, ранних огурчиков, гранат и яблок; пусть валом валят туда виотийцы, нагруженные гусями, утками, голубями, полевыми жаворонками; пусть корзинами свозятся угри из Копаидского озера и пусть, обступив их тесной толпой для покупок, схватимся мы тут наперебой с Морихом, Телеем и другими лакомками... Беги скорее на пир, Дикеополь... жрец Диониса зовет тебя; торопись, тебя поджидают; все готово — столы, ложа, подушки, венки, курения и всякие лакомства. Пришли уже гетеры, а с ними явились печения, пирожки, пригожие плясуньи, всевозможные наслаждения”. Я прерву на этом выписку; далее изложение становится чересчур уж живо; древняя чувственность и чувственность южная отличаются очень смелыми телодвижениями и меткими до крайности словами.
Такое умнонастроение побуждает человека смотреть на жизнь как на раздолье, на гульбу. У грека самые серьезные идеи и учреждения принимают смеющийся оттенок; его боги — ’’блаженные, никогда не умирающие боги”. Живут они на верхах Олимпа, ’’которых не покачнет никакой ветер, которых никогда не замочит дождь, куда и не подходит снег, где открывается безоблачный эфир, куда белый свет льется быстрым потоком”. Там, в чертоге ослепительной красы, сидя на золотых престолах, пьют они нектар и вкушают амброзию, а ’’Музы распевают между тем прекрасными голосами”. Вечный пир при полном освещении — вот небо грека; поэтому самая прекрасная жизнь та, которая всего ближе подходит к такой жизни богов. По Гомеру, тот и счастлив, кто сможет воспользоваться цветущей юностью и достигнуть порога старости. Религиозные обряды не что иное, как веселый пир, которым остаются довольны сами боги, потому что ведь на их долю приходится тут мясо и вино. Величайшие праздники — чисто оперные представления. Трагедия, комедия, плясовые хоры, гимнастические игры составляют часть богослужения. Грекам не придет в голову, что для чествования богов надо умерщвлять собственную плоть свою, поститься, обращать к ним трепетную молитву, класть земные поклоны с покаянием в своих грехах; им кажется, напротив, что должно приобщиться их радости, доставить им зрелище самых прекрасных нагих тел, разубрать в честь их целый город, возвысить до них человека, освободив его хоть на один миг от доли смертного, при помощи всех великолепий, какие только могут соединить искусство и поэзия. Для них этот-то ’’энтузиазм” и есть набожность; выказавшись сперва в трагедии, в величавых и торжественных волнениях души, он изливается потом в комедии сумасбродным шутовством и сладострастным разгулом без удержу. Надо прочитать Лисистрату, Праздник Фесмофорийу Аристофана, чтобы представить себе это увлечение животной жизнью, чтобы постичь, как можно было всенародно справлять праздники Дионисия или плясать в театре (в высшей степени неприличный) кордакс, как можно было, чтобы в Коринфе какая-нибудь тысяча куртизанок совершала служения в храме Афродиты и чтобы религия освящала всякий ярмарочный и масляничный соблазн или разгул.
К социальной жизни греки относились так же легко, как и к жизни религиозной. Римлянин завоевывает для стяжаний, для приобретений; истым администратором и дельцом эксплуатирует он побежденных, как доходную мызу, упорно и методически; афинянин, напротив, пускается в море, выходит на берег сражаться, ничего не основывая, без толку и беспорядочно, под мгновенным впечатлением, из потребности в действии, следуя полету своего воображения, из одной лишь предприимчивости, из славолюбия, из-за удовольствия быть первым между греками. На деньги своих союзников афинский народ украшает свой город, заказывает своим художникам храмы, театры, статуи, декорации, торжественные шествия, услаждается ежедневно и всеми чувствами на счет общественной казны. Аристофан забавляет его политическими карикатурами на демос и его правителей. Ему открыт бесплатный вход в театр; к концу праздника ему раздают деньги, оставшиеся за расходами в казне от союзнических контрибуций. Скоро он требует себе плату за судоговорение в дикастериях, за присутствие на народных сходках. Все должно быть для него; он принуждает богатых доставлять ему на свой счет хоры, актеров, представления, все прекраснейшие зрелища. Как он ни беден, у него свои купальни, свои гимназии, содержимые на казенный счет, и притом отнюдь не хуже всаднических[86]. Наконец, он совсем уже не хочет трудиться и для войны ставит за себя наемников; если он и занимается еще политикой, то лишь для того, чтобы о ней потолковать; он слушает ораторов как любитель и присутствует при их прениях, перебранках и красноречивых состязаниях, как на петушиных боях. Он судит и рядит о талантах и рукоплещет ловким выходкам. Главная его забота — иметь отличные празднества; он постановил смертную казнь тому, кто предложит обратить на военные издержки хоть частицу денег, определенных на зрелища. Полководцы у него также напоказ. ’’Кроме одного, посылаемого вами на войну, — говорит Демосфен, — все остальные служат украшением ваших праздников, следуя в них за жрицами”. Когда нужно снарядить и отправить флот, афиняне бездействуют или берутся за дело слишком поздно; напротив, для торжественных ходов и народных зрелищ все заранее предусмотрено, сделаны и точно выполнены все распоряжения как следует, в назначенный час. Мало-помалу под влиянием врожденной чувственности вся задача государства сводится к заботе о зрелищах, к обязанности доставлять поэтические наслаждения людям с изящным вкусом.
Так же, наконец, в науке и философии грекам хотелось только срывать со всего одни цветы. У них не было самоотвержения новейших ученых, которые напрягают весь свой ум для разъяснения какого-нибудь темного вопроса, которые готовы десять лет кряду наблюдать тот или другой вид животных, которые расширяют и беспрестанно проверяют свои опыты, которые, добровольно отдавшись какому-нибудь неблагодарному труду, проводят всю свою жизнь в терпеливой обтеске двух или трех камней для громадного здания, которому не видать конца, но которое пригодится будущим поколениям. В Греции философия — беседа, разговор; она рождается в гимназиях, под портиками, в тени яворовых аллей; учитель говорит, прогуливаясь, а за ним идут и внимательно слушают. С первого же шага все стремятся к высшим заключениям; приятно ведь дойти до общих взглядов на весь мир; они этим и наслаждаются, мало заботясь о построении хорошей и прочной дороги для исследований; доказательства их сводятся обыкновенно к одним вероятностям, не больше. Короче, это — умозрители, охотники странствовать по верхам, пробегать, как боги Гомера, гигантскими шагами какую-нибудь новую, обширную область, одним взором охватывать вдруг целый мир. Система — это у них своего рода возвышенная опера, опера умов, сообразительных и крайне пытливых. От Фалеса до Прокла философия их, подобно трагедии, все вращалась около тридцати или сорока главнейших тем, проходя сквозь бесконечное множество вариаций, распространений и помесей. Философское воображение орудовало у них идеями и гипотезами точно так же, как мифологическое воображение орудовало легендами и богами.
Если от созданий греков мы перейдем к их зиждительным приемам, то и тут увидим опять тот же самый умственный тип. Они столько же софисты, как и философы; они упражняют свою мысль ради одного ее упражнения. Их привлекает и останавливает на себе какое-нибудь тонкое различение, длинный и утонченный анализ, какой-нибудь заманчивый и трудноразрешимый аргумент. Они охотно участвуют в диалектических тонкостях, хитросплетениях и парадоксах[87]. Они не настолько серьезны, как бы следовало; если они предпринимают какое-либо разыскание, то не в видах лишь определенного и прочного приобретения; они не дорожат безусловно и исключительно самой истиной, забывая и пренебрегая для нее всем остальным. Это, можно сказать, дичь, которая часто дается им на охоте; но, глядя на их рассуждения, живо чувствуешь, что, сами того не сознавая, они предпочитают охоту дичи, — охоту, с ее уловками, хитростями, обходами, с ее неудержимым порывом и с тем чувством свободной, блуждающей и торжествующей деятельности, какое сообщается ею нервам и воображению охотника. ’’О греки, греки, — говорил Солону один египетский жрец, — вы — настоящие дети!” В самом деле, они ведь постоянно играли жизнью и всеми важнейшими в ней вещами: религией и богами, политикой и государством, философией и истиной.
V
Последствия этих недостатков и достоинств. — Греки — совершенные художники. — Чутье самых неуловимых соотношений, мерность и отчетливость замыслов, любовь к красоте. — Следы этих способностей и вкусов в их художествах. — Храм. — Его место. — Размеры. — Строй. — Тонкость отделки. — Украшения. — Его живопись. — Его изваяния. — Производимое им на ум общее и окончательное впечатление.
Вот отчего они были величайшие в мире художники. Они обладали той очаровательной развязностью ума, тем преизбытком творческого веселья, тем грациозно-обаятельным воображением, которые побуждают ребенка беспрестанно слагать и приводить в действие маленькие поэмы с единственной целью — дать исход мгновенно просыпающимся в нем новым, и притом чрезвычайно живым, способностям. Три главные черты, подмеченные нами в характере греков, именно и есть существо души и мысли художника. Необыкновенная впечатлительность, способность схватывать самые тонкие соотношения, чутье мельчайших оттенков — вот что позволяет ему воздвигать стройные целые из форм, звуков, красок, событий — короче из элементов и потребностей, так хорошо сопрягаемых между собой внутренними связями, что организация их составляет нечто живое и в мире воображения превосходит глубокую гармонию действительного мира. Потребность ясности, чувство меры, ненависть ко всему смутному, туманному, отвлеченному, презрение ко всему чудовищному и слишком громадному, вкус к определенным и точным очертаниям — вот что побуждает художника облекать свои замыслы в форму, легко доступную воображению и чувствам, и потому создавать произведения, которые могут быть понятны каждому племени и каждому веку и которые, будучи общечеловеческими, остаются навсегда. Любовь и культ настоящей жизни, чувство силы человеческой, потребность светлой и ясной радости — вот что побуждает его избегать картин физической немощи и нравственной болезни, изображать здоровье души и совершенство тела, пополнять приобретенную, нажитую сюжетом красоту экспрессии существенно родною ему красою. Это все и есть отличительные черты искусства греков. Беглый взгляд на их литературу сравнительно с литературой Востока, средневековья и новою, чтение Гомера сравнительно с Божественной комедией, с Фаустом или индийскими эпопеями, изучение их прозы сравнительно со всякой другой прозой любого времени и любой страны убедили бы вас в этом тотчас. Перед их литературным стилем всякий другой стиль покажется надут, тяжел, неточен и натянут; перед их нравственными типами всякий другой тип чрезмерен, скучен и нездоров, перед их поэтическими и ораторскими рамками всякая не у них же заимствованная рамка выходит несоразмерной, неприлаженной, неподходящей к содержащемуся в ней произведению.
За недостатком места мы из ста примеров можем привести только один какой-нибудь. Рассмотрим именно то, что как нельзя более доступно зрению и что прежде всего бросается в глаза при въезде в любой город, — я хочу сказать: храм. Он обыкновенно стоит на высоте, слывущей Акрополем (вышгородом), на подножии скал, как в Сиракузах, или на пригорке, служившем, как в Афинах, главным оплотом населению и начальным местом будущего города. Он виден отовсюду из равнины и со всех решительно окрестных холмов; корабли приветствуют его еще издали, подходя к порту. Весь он отчетливо обозначается в чистом воздухе. Он не сжат, не подавлен цепью домов, как средневековые соборы, не скраден, не полузакрыт для глаза, кроме одних разве деталей и верхних частей здания. Его основание, его стороны, вся его масса и все размеры предстают вдруг, за один раз. Нет необходимости угадывать целое по одной какой-нибудь его части; самым своим местом он приходится уже в меру человеческим нашим чувствам. Чтобы впечатление было вполне ясно, постройке дают средние или даже малые размеры. Между греческими храмами найдется не более двух, подходящих величиной к церкви Св. Магдалины в Париже. Там нет ничего подобного громадным памятникам Индии, Вавилона и Египта, нагроможденным и скученным дворцам, лабиринтам переходов, внутренних дворов и храмин, колоссам, которые уже одним своим множеством под конец ослепляют и озадачивают смятенный ум. Нет ничего подобного гигантским соборам, которые помещали под своими сводами население целых городов, которых глаз, стой они даже на высоте, не мог бы обнять в целости, которых профили ускользают от зрения и которых общую гармонию можно ощутить разве только по плану. Греческий храм не сборное какое-нибудь место, а особое жилище бога, рака, где хранится его изваяние, мраморный ковчег, заключающий в себе одну только статую. В ста шагах от окружающей его священной ограды можно уловить направление и весь строй главных его линий. Да они же притом так просты, что довольно одного взгляда, чтобы понять их совокупность. В здании нет ничего многосложного, причудливого, изломанного; это — прямоугольник, обрамленный перистилем колонн, всю сущность его составляют три или четыре элементарные геометрические формы, и симметричное расположение, как нарочно, выдвигает их вперед, неоднократно повторяя и противополагая друг другу. Венец фронтона, желобки стержня колонн, плита капители, все аксессуары и подробности еще рельефнее обнаруживают характер каждой отдельной части, а разнообразие полихромической росписи довершает точное обозначение относительной ценности любой из этих частей.
В различных чертах, мной указанных, вы, конечно, распознали одну и ту же основную потребность определенных и ясных вместе форм. Ряд других еще признаков покажет нам всю тонкость художественного такта греков и необыкновенно чуткую их восприимчивость. Между всеми формами и размерами храма существует такая же связь, как между всеми органами живого тела, и они отыскали эту связь; они установили архитектурный модуль (или канон), который по диаметру колонны определяет ее высоту, затем ее орден, далее ее базис, капитель, потом — междустолпия и общую экономию постройки. Они нарочно видоизменили грубую правильность математических форм, они приспособили их к сокровенным требованиям глаза, немного утолстили колонну мастерскою кривизной отвеса на двух третях ее вышины[88], они слегка выгнули все горизонтальные линии и наклонили к центру все вертикальные в Парфеноне; они освободились ото всех пут механической симметрии, дали неравные крылья своим Пропилеям, неодинаковые уровни двум святилищам своего Эрехтейона; они скрещивали, разнообразили, сгибали плоскости и углы единственно с тем, чтобы сообщить архитектурной геометрии всю грацию, все многоразличие, всю неожиданность, всю неуловимую гибкость жизни, и, не умаляя эффекта масс, изукрасили поверхность зданий самым изящным узором орнаментов, живописных и лепных. Во всем этом своеобразность их вкуса равняется разве только его верности; они умели соединить два качества, по-видимому, взаимно исключающие друг друга: чрезвычайное богатство с чрезвычайной умеренностью. Наши нынешние чувства не доходят до подобной высоты; мы лишь в половину, да и то шаг за шагом, только исподволь, разгадываем, до какой степени творчество их было совершенно. Понадобилось открытие Помпеи, чтобы дать нам впервые почувствовать очаровательную гармонию и живость декорации, какой они одевали свои стены, и только в наши уже дни один английский архитектор измерил неуловимый изгиб выпуклости горизонтальных линий и сходящихся в одну точку перпендикуляров, который придает изящнейшему храму их всю его возвышенную красоту. Перед ними мы — как простой заурядный слушатель перед музыкантом, рожденным и воспитанным для музыки; его игра отличается такими тонкостями исполнения, такой чистотою звуков, такою полнотой аккордов, такими нежными оттенками мысли, такою удачной и меткой экспрессией, что слушатель с посредственным умом и плохой подготовкой постигает все это разве лишь как-то смутно и урывками. В нас остается только одно общее впечатление, и это впечатление, соответствующее, впрочем, духу греческого народа, именно такое и есть, какое производит веселый и бодрящий силы праздник. Архитектурное создание греков, очевидно, здорово и живуче само собой; оно не нуждается, как готический собор, в том, чтобы у подножия его жила целая колония каменщиков, готовых беспрестанно исправлять его беспрестанное разрушение; оно не заимствует опоры для себя ни у каких наружных устоев; ему не нужно железной арматуры для скрепы громадного сооружения его узорчатых и зубчатых башен, для прицепки к стенам его чудного и многосложного кружева, хрупкого каменного филиграна. Оно не плод распаленного воображения, а произведение светлого отчетливого ума. Оно именно с тем создано, чтобы самостоятельно существовать, без всякой посторонней помощи. Почти все греческие храмы уцелели бы до сих пор, не истреби их грубая сила или изуверство людского племени. Храмы Пестума стоят двадцать три века; Парфенон разорван надвое только взрывом порохового склада. Сам по себе греческий храм непоколебим: это видно по крепкой, надежной его осадке; масса не бременит его, а только упрочивает. Мы чувствуем устойчивое равновесие всех его частей, потому что зодчий выявил внутренний строй здания в видимых внешностях и линии, ласкающие взор своей гармонической соразмерностью, именно те и есть, которые удовлетворяют ум обещаниями вечности[89]. Присоедините к этому виду крепости и силы вид развязности и изящества; греческое здание думает не об одной лишь долговечности, как египетское. Оно вовсе не подавлено тяжестью своего материала, как упорный, конечно, но зато и слишком приземистый Атлант; оно развивается, развертывается и встает перед вами, как прекрасное тело атлета, в котором сила соглашена с тонкостью и бодрой ясностью. Рассмотрите затем его убранство, золотые щиты, усеявшие его архитрав, золотые же акротеры и львиные головы, так и горящие на солнце, золотые и подчас эмалевые нити, вьющиеся по его капителям, раскраску червленцом, суриком, синью, бледной охрой, зеленью, всеми яркими и скромными также тонами, которые, сливаясь и противополагаясь один другому, как в Помпее, доставляют глазу ощущение чистосердечного и здорового южного веселья. Пересмотрите, наконец, еще раз все барельефы, все статуи по фронтонам, метопам и по фризу, особенно колоссальный лик в самой ”целле” храма, все мраморные, костяные и золотые изваяния, все эти богатырские или божеские тела, которые ставят перед глазами человека полнейшие образы мужественной силы, атлетического совершенства, военной доблести, благородной простоты, вечно неизменной, бодрой ясности, — пересмотрите все это, и вы составите себе первое понятие о гении и искусстве древних греков.
Отдел второй. Историческая пора
Отличие древнего человека от нового. — Жизнь и ум у древних проще, нежели у нас.
Теперь нам необходимо ступить еще один шаг и рассмотреть еще одну новую характерную черту греческой цивилизации. Грек древней Греции не только грек, но и еще притом древний; от англичанина или испанца он различается не тем одним, что, будучи иного племени, обладает другими способностями и наклонностями; он различается от англичанина, испанца и нового грека еще и тем, что, принадлежа предшествующей эпохе в истории, он носит в себе другие идеи и другие чувства. Он шел впереди нас, а мы за ним. Он не строил своей цивилизации на нашей, а мы выстроили свою на его и на многих других. Он живет в нижнем этаже, а мы во втором или даже в третьем. Отсюда неисчислимое множество бесконечно важных последствий. Что может быть различнее двух жизней, из которых одна велась в самый уровень с землей, при дверях, везде настежь открытых в поле, а другая взобралась и замкнулась в тесные комнаты высокого дома на наш новый уже лад? Противоположность между той и другой можно выразить двумя словами: жизнь и ум древних — просты, а наши — многосложны до крайности. Поэтому их искусство проще нашего, и понятия их о душе и теле человека доставляют их произведениям такого рода материал, какого уже не допускает наша цивилизация.
I
Влияние климата на новейшие цивилизации. — У человека теперь больше потребностей. — Одежда, дом частного лица, общественное здание в Греции и в наше время. — Общественная организация и должностная деятельность, военное искусство и мореплавание в прежние времена и ныне.
Достаточно одного взгляда на внешнюю обстановку жизни древних, чтобы заметить, до какой степени она проста. Цивилизация, перемещаясь к северу, должна была приноровиться к разного рода потребностям, которым ей не приходилось удовлетворять в первых обиталищах своих на юге. В таком сыром или холодном климате, как в Галлии, Германии, северной Англии, Америке, человек ест гораздо больше; ему необходимы более прочные и лучше устроенные дома, одежда теплее и толще, больше огня, больше света, больше удобств, больше жизненных припасов, орудий и всяких промыслов. Он поневоле становится промышленным, и так как потребности его растут по мере их удовлетворения, то три четверти своих усилий он обращает на то, чтобы ему было хорошо жить. Но удобства, которыми он таким образом снабжается, те же налагаемые им на себя узы, и это искусственное благосостояние прямо держит его у себя в плену. Сколько различных вещей входит ныне в одежду любого заурядного человека! Насколько больше входит их в женский туалет при среднем даже состоянии; поместить все это мало ведь двух-трех шкафов. Заметьте, что нынешние неаполитанские или афинские дамы перенимают моды у нас же. Какой-нибудь паликар носит теперь наряд такой же сложности, как и мы. Наши северные цивилизации, влияя обратно на отставшие народы юга, занесли туда чуждый им крайне многосложный костюм, и надо идти в какие-нибудь отдаленные углы, спуститься к очень бедному классу жителей, чтобы отыскать, например, в Неаполе настоящих лаццарони, одетых только в один передник, или в Аркадии — женщин, еле прикрытых одной рубашкой, — короче, таких людей, которые урезают и соизмеряют свою одежду по незначительным требованиям своего климата.
В Древней Греции короткая без рукавов туника для мужчин, а для женщин — длинная до земли, отвернутая у плеч и спадающая отворотом до пояса — вот и весь существенный наряд; прибавьте к этому большой квадратный лоскут ткани, в который можно завернуться при случае женщине, — покрывало для выходов, да обыкновенно еще сандалии; Сократ надевал их, впрочем, только по праздникам, зачастую же греки ходили босиком и с непокрытой головой. Все эти одежды можно снять одним махом: они не обтягивают стана, а только обозначают формы, да и то слегка; в промежутки их и при движениях везде сквозит нагое тело. Их совсем снимают в гимназиях, в беговой стадии, при многих торжественных плясках. ’’Грекам свойственно, — говорит Плиний, — ничего не прикрывать”. Одежда у них — просторная принадлежность, предоставляющая полную свободу телу, которую по желанию в один миг можно сбросить с плеч. Той же простотой отличается и вторая оболочка человека, я хочу сказать — его жилье. Сравните какой-нибудь дом сен-жерменского предместья или Фонтенбло с домом в Помпее или Геркулануме, двух красивых провинциальных городках, игравших по отношению к Риму ту же роль, какую Сен-Жермен или Фонтенбло играют теперь по отношению к Парижу. Пересчитайте все, что составляет нынче порядочную квартиру: большое каменное здание в два или три этажа, оконницы со стеклами, бумажные или матерчатые обои, решетчатые ставни, двойные и тройные занавесы, печи, камины, кровати, стулья, кресла, разного рода мебель, множество роскошных безделушек и хозяйственных принадлежностей — и противопоставьте всему этому шаткие стены какого-нибудь дома в Помпее, его десять или двенадцать клетушек, расположенных вокруг дворика, где журчит едва заметная струйка воды, его тонкую живопись, его мелкие бронзы; это ведь только легкое убежище для того, чтобы поспать в нем ночью, отдохнуть или вздремнуть в полуденный жар, насладиться иногда прохладой, следя глазами нежные арабески и изящную гармонию красок: климат ничего больше и не требует. В лучшую пору Греции хозяйство велось на гораздо скромнейший лад[90]. Стены, которые ничего не значило проломить вору, просто выбеленные известью и без всякой живописи даже еще во времена Перикла; постель с кое-какими покрышками, несколько изящных расписных ваз, развешанное по стенам оружие, лампа самого первобытного устройства; очень маленький, большею частью одноэтажный домик: этого было совершенно достаточно для благородного афинянина; он живет вне дома, на чистом воздухе, под портиками, на Агоре, в гимназиях, и общественные здания, ютящие общественный его быт, так же мало убраны, как и его частное жилище. Вместо дворца, подобного зданию Законодательного корпуса или лондонскому Вестминстеру с его многосложным внутренним устройством, его скамьями, освещением, библиотекой, буфетом, всеми его комнатами и службами, у афинянина — пустая площадь, Пникс, да несколько каменных приступок, составляющих трибуну для оратора. Теперь, когда мы строим оперный театр, нам необходим громадный фасад, четыре или пять обширных павильонов, разного рода фойе, залы и коридоры, широкий круг для зрителей, огромная сцена, гигантский чердак для склада декораций и пропасть помещений и особых лож для управляющих театром и для актеров; мы затратим сорок миллионов, и в зале будет всего только каких-нибудь две тысячи мест. В Греции театр вмещает от тридцати до пятидесяти тысяч зрителей и стоит в двадцать раз меньше, нежели у нас; там чуть ли не все издержки берет на свой счет природа: на скате какой-нибудь горы вытесывают полукругом сиденья уступами, внизу и в центре полукруга жертвенник, большая, покрытая изваяниями стена (вроде уцелевшей в Оранже стены римского театра) для отражения голоса актеров; вместо люстры — солнце, а вместо декораций — дали: то сверкающее море, то группы гор, одетые бархатистым светом. Греки своей бережливостью достигают великолепия и как в своих развлечениях, так и в делах достигают такого совершенства, до какого, несмотря на наши непомерные денежные затраты, нам слишком далеко.
Перейдем теперь к сооружениям нравственным. Государство в наше время заключает в себе от тридцати до сорока миллионов людей, рассеянных по обширной территории в несколько сот миль длиною. Поэтому оно прочнее древней городской общины, но зато оно и несравненно сложнее; чтобы исполнять в нем какую-нибудь должность, надо быть специалистом (знатоком по той части, какую на себя берешь). Вследствие этого общественные должности специальны, как и всякое другое дело.
Масса населения вмешивается в общие дела лишь изредка, путем выборов, не больше. Живет она или прозябает в провинции без всякой возможности составить себе личные и верные притом мнения, довольствуясь смутными лишь впечатлениями, слепыми, можно сказать, чувствами и по необходимости отдаваясь в руки более просвещенных людей, которых она отправляет в столицу и которые заменяют ее, когда дело идет о том, чтобы решить мир, войну или распределить налоги. Та же постановка (та же замена всех немногими) и в вопросах религии, правосудия, войска и флота. По каждому роду таких ведомств или служб у нас есть запас специалистов; необходима долгая подготовка для того, чтобы играть тут видную роль; дела эти отнюдь не даются в руки большинству граждан. Мы не принимаем в них непосредственного участия; у нас есть делегаты, доверенные, которые, будучи избраны из своей же среды или назначены от государства, сражаются, ходят по морю, чинят суд и расправу, наконец, молятся за нас всех. И мы не можем поступать иначе: служба до того сложна, что не может отправляться первым встречным; необходимо, чтобы священник прошел сперва семинарию, судья — школу прав, офицер — подготовительные училища, казарменную или корабельную жизнь, чиновник — систему экзаменов и целый ряд канцелярий. Напротив, в таком маленьком государстве, как греческая городская община, и заурядный человек способен ко всем общественным должностям; общество не разделено на правящих и управляемых; там нет живущих на покое, не у дел, там все — деятельные граждане. Афинянин сам решает вопросы общественных интересов; пять-шесть тысяч граждан выслушивают ораторов на народной площади, т. е. обыкновенно на рынке; туда сходятся для издания декретов и законов точно так же, как и для продажи маслин или вина; вся территория страны не больше городской округи, поэтому и селянину до площади немногим дальше горожанина. Кроме того, дела, о которых идет речь, совершенно ему понятны — это интересы, так сказать, приходские: ведь вся община — один только город. Ему нетрудно сообразить, как держаться относительно Мегары или Коринфа; для этого ему довольно личного опыта и ежедневных впечатлений; ему нет надобности быть завзятым политиком, сведущим в географии, в истории, в статистике и разных других знаниях. Точно так же, в религиозном отношении, он сам священник у себя дома, а в своей фратрии или трибе ему приходится иногда быть и первосвященником; для него это легко, потому что вся религия его ни дать ни взять прекрасная ребяческая сказка, а совершаемый ими обряд состоит из пляса или пения, хорошо знакомых ему с детства, и из трапезы, на которой он председательствует, как хозяин, только в особом одеянии. К тому же он судья в дикастериях по гражданским, уголовным и религиозным делам; он же и адвокат, обязанный сам защищаться при тяжбе. Обитатель юга, грек наделен от природы живым умом, бойкой и красивой речью; законы у него не расплодились и не перепутались еще в целый кодекс и в необозримую груду пустяков; он знает их в общих чертах, да к тому же истцы всегда ведь приводят их по делу сами; наконец, обычай дозволяет ему и тут прислушиваться к своим собственным инстинктам, к своему природному здравомыслию, к своим чувствам и страстям, по крайней мере настолько же, как и к требованиям строгого права, к законным доказательствам. Если он богат, он, кроме того, импрессарио, поставщик театральных зрелищ. Вы видели, что театр был тогда далеко не так сложен, как теперь наш; а у грека, у афинянина всегда найдется довольно вкуса, чтобы репетировать с актерами, плясунами и певцами. Богат грек или беден, он во всяком случае солдат; так как военное искусство еще просто и неизвестны даже военные машины, то армия у них та же народная стража. До самого прихода римлян у них не было другой; чтобы составить эту армию и образовать совершенного воина, необходимы два условия, и оба они достигаются одним совместным воспитанием, без всякого специального обучения, без гарнизонной школы, без особой дисциплины, без казарменных упражнений. С одной стороны, они требуют, чтобы каждый воин был возможно лучшим мечником (гладиатором), имел самое мощное, самое гибкое и самое ловкое тело, умел как можно способнее метко наносить и быстро отбивать удары и потом еще проворно бегать — всему этому учат в гимназиях, это школы для всей молодежи: в течение многих лет по целым дням учатся там бороться, прыгать, бегать, бросать диск, методически упражняют и укрепляют все члены и все мышцы тела. С другой стороны, требуется, чтобы воины умели ходить, бегать и совершать все передвижения в строгом общем порядке — этому удовлетворяет орхестрика: все их народные и религиозные празднества учат детей и молодежь собираться стройными группами и в порядке расходиться; в Спарте хор общественной пляски и потом военная сотня (Choros и Lochos) составлены на один и тот же лад. Греку нетрудно превратиться и в моряка без всякой особой подготовки. Военный корабль был в то время каботажное судно, вмещавшее не более двухсот человек и никогда не терявшее из глаз берега. В портовом городе, живущем морской торговлей, нет человека, который не умел бы управлять подобным судном, никого, кто не знал бы или не научился бы скоро подмечать по разным признакам перемены погоды и ветра, соображать положения и расстояния, не усвоил бы себе всей техники и всех мелочей, с которыми какой-нибудь матрос или офицер знакомится у нас только после десятилетней службы и практики. Все эти особенности жизни древних происходят от одной и той же причины — от простоты вполне самобытной цивилизации, и все сходятся к одному и тому же результату — к простоте хорошо уравновешенной души, в которой ни одна группа способностей и наклонностей не развилась в явный ущерб другим, которой не дано никакого исключительного направления, которая не искажена никакой навязанной ей специальной заботой. Теперь у нас есть человек образованный и необразованный, горожанин и селянин, провинциал и столичный житель, да, кроме того, столько же отдельных родов людей, сколько существует сословий, ремесел и занятий, — везде вы видите личность, замкнутую в созданной ею же для себя клетке и подавленную множеством подробностей, которые она же сама себе дала. Менее искусственный, менее специальный, менее удалившийся от первобытного состояния, грек действовал в политическом кругу, более соразмерном человеческим способностям, среди нравов, более благоприятных поддержке животных способностей: стоя ближе к естественной жизни, будучи менее закрепощен условиями напускной цивилизации, он был больше человек.
II
Влияние прошлого на новые цивилизации. — Христианство. — Данте и Гомер. — Идея смерти и загробного мира в Греции. — Разлад между понятиями и чувствами современного человека. — Отличие новых языков от древнегреческого. — Культура и воспитание древних сравнительно с культурой и воспитанием нового человека. — Противоположность между непосредственной, молодой цивилизацией и цивилизацией выработанной и многосложной.
До сих пор мы говорили только о внешней обстановке и о наружных формах, видообразующих человеческую личность. Проникнем в самую эту личность, в мир ее чувств и ее идей — тут еще более поразит нас расстояние, отделяющее их от наших. Во всякое время и у всех народов без исключения чувства и мысли образуются двоякого рода культурой — религиозной и светской; и та и другая обе клонились тогда к сохранению их простоты, между тем как в настоящее время и та и другая могут только разве осложнить их. Новые народы — христиане, а христианство привитая, не первичная уже религия, явно противоречащая природному инстинкту. Оно, можно сказать, силой погнуло первоначальный строй души человеческой. Оно провозглашает, что мир полон зла и что человек испорчен; да это несомненно так и было в век рождения христианской религии. Человеку, говорит она, необходимо изменить свой путь; здешняя наша жизнь просто ссылка, обратим взоры к небесному отечеству. Природная основа наша греховна — подавим все природные свои наклонности и станем умерщвлять нечистую свою плоть. И чувственный наш опыт, и все толкования ученых равно недостаточны и обманчивы — возьмем светочем откровение, веру, вдохновение свыше. Путем покаяния, самоотверженности, глубокой думы разовьем в себе духовного человека, пусть вся жизнь наша обратится в страстную жажду спасения, в постоянное отречение от собственной воли, в беспрерывные воздыхания к Творцу, в помысл бесконечной любви, сподобляющийся подчас видением иного совсем мира. С тех пор в течение четырнадцати веков заветным идеалом был отшельник, или инок. Чтобы измерить всю мощь такой идеи и всю великость преобразования, налагаемого ею на способности и привычки человека, читайте одну за другой великую христианскую поэму и великую поэму языческую: с одной стороны, ’’Божественную комедию”, с другой — ’’Одиссею” и ’’Илиаду”. Данте — прямой чудовидец; из пределов нашего ничтожного мира он перенесен в область вечного; он видит там муки, грехоискупления, блаженства; он потрясен сверхчеловеческими ужасами и боязнями; все, что только может изобрести яростное и утонченное воображение беспощадного карателя и палача, он все это видит, все чувствует и, видя, изнемогает; затем он восходит к горнему свету; тело его утратило всякий вес; он летит, невольно привлекаемый улыбкой лучезарной женщины; он слышит души в разных голосах, в несущихся мимо него мелодиях; он видит поющие лики, огромную позу из живых светочей, и каждый тот светоч — какая-нибудь неземная добродетель или неземная сила, священные глаголы, догматы истины звучат и раздаются в эфире. В этих палящих, жгучих высотах, где разум тает, подобно воску, символ и видение, переплетаясь друг с другом и взаимно поглощаясь, производят под конец какое-то мистическое ослепление, и вся поэма, в адской и в божественной своей части, предстает нам сновидением, которое, начавшись страшной грезой, оканчивается восторгом. Насколько естественнее и здоровее то зрелище, какое представляет нам Гомер! Вот Троя, вот остров Итака, вот берега Греции; теперь еще можно следить их по певцу, можно узнать формы гор, цвет моря, быстрые ручьи, кипарисы, ольхи с гнездящейся на них морской птицей; он передал нам устойчивую, неизменную природу; везде у него вы ступаете ногой на прочную почву истины. Книга его — исторический документ; описываемые им нравы действительно нравы его современников; самый его Олимп только изображение греческой же семьи. Нам нет надобности пересиливать себя и чрезмерно возбуждаться для того, чтобы отыскать в своем сердце выражаемые им чувства, чтобы вообразить себе весь описываемый им мир: битвы, странствия, пиры, всенародные речи, частные беседы, все сцены действительной жизни, дружбу, родительскую и брачную любовь, стремление к славе и деятельности, гнев, умиротворение, охоту к празднествам, наслаждение жизнью — все чувства и все страсти естественного человека. Он весь замыкается в тот видимый кружок, который при каждом новом поколении снова предстает человеческому опыту; он не выходит из его границ; с него вполне довольно этого мира — он один для него важен; за пределами его только и есть что царство смутных, блуждающих теней. Когда Улисс, повстречав Ахилла у Гадеса, поздравляет его с тем, что он все-таки еще первый между тенями, тот отвечает ему: ”Не говори мне о смерти, доблестный Улисс. По мне, лучше быть землепашцем и служить по найму у какого-нибудь неимущего, которому едва есть что перекусить, нежели повелевать всеми мертвецами, когда-либо жившими на свете до этих дней. Лучше поговорим о славном моем сыне: скажи-ка, первым был он на войне?” Итак, даже за пределами гроба его все еще интересует одна земная только жизнь, и ничего более. ’’Душа быстроногого Ахилла удалилась потом крупными шагами в луг, усеянный златоцветником, удалилась веселая и радостная, так как я сказал ей, что сын ее доблестен и отважен”. Во все эпохи греческой цивилизации проявляется с различными только оттенками все одно и то же чувство, мир их всегда тот, что освещен солнцем; умирающий тешит себя единственной надеждой, что на белом свете переживут его дети, слава, могила и отечество. ’’Счастливейший из людей, каких я на своем веку знавал, — говорил Крезу Солон, — был Телль, афинянин, ибо родной город его процветал, дети у него были пригожие и добрые, все тоже народили своих детей и, пока он был жив, все успели сберечь свой достаток; благоденствовав таким образом при жизни, он дождался и славного конца: когда афиняне бились со своими соседями в Элевзисе, он кстати подоспел к ним на помощь и погиб, обратив в бегство неприятеля; на месте, где он пал, афиняне погребли его на счет государства и оказали ему великие почести”. Во времена Платона Гиппий, передавая общенародное мнение, также говорит: ”Во всякую пору, для всякого человека и где бы то ни было всего лучше обладать богатством, здоровьем, пользоваться уважением от всех греков, достигнуть таким образом старости, затем, воздав, как подобает, последний долг своим родителям, дождаться и самому таких же великолепных проводов в могилу от своих потомков”[91]. Когда и философская мысль остановится на загробном бытии, последнее не предстает ей вовсе чем-то грозным, бесконечным, несоразмерным с настоящей жизнью, чем-то столь же несомненным, как и последняя, неистощимым и в муках, и в блаженствах, подобным или страшной бездне, или сиянию небесных слав. ”Из двух вещей, — говорил Сократ своим судьям, — смерть неизбежно какая-нибудь одна: умерший или совсем уже ничто и ровно ничего не ощущает, или же, как говорят, смерть только перемена, переход души из настоящего местожительства в другое. Если по смерти нет вовсе никакого чувства, если человек тогда словно в каком-то сне, лишенном даже грез, то умереть подлинно великое благо; мне кажется, выбери кто-нибудь изо всех своих ночей одну такую, когда он спал до того крепко, что даже не видал ничего во сне, и сравни он с ней другие дни и ночи своей жизни для того, чтобы узнать, сколько именно в них было лучших и отраднейших часов, то ему нетрудно было бы свести счеты, и я говорю это не о частном каком-нибудь человеке, а о самом Великом Царе[92]. Следовательно, если таково свойство смерти, я утверждаю, что она прямой выигрыш, так как все время по кончине — одна ведь сплошная ночь. Но если смерть только переход в иной край, где, как сказывают, все умершие находятся вместе, то возможно ли, о судьи, вообразить себе блаженство выше этого? Если бы человек, явясь перед лицо Гадеса и освободясь от тех мнимых судей, каких мы здесь обыкновенно видим, нашел себе судей истинных, какие, говорят, судят там, — Миноса, Радаманта, Эака, Триптолема и всех тех полубогов, которые были праведны в земной своей жизни, — то разве подобная перемена жительства была бы неприятна? Жить вместе с Орфеем, Музеем, Гесиодом, Гомером — как дорого не заплатил бы каждый из нас за подобное счастье? Что до меня, если это правда, я готов умереть хоть несколько раз. Итак, в том и другом случае мы должны умирать с отрадною надеждой”[93]. Двадцать веков позже Паскаль, вернувшись к тому же вопросу и к тому же опять сомнению, не видит для неверующих иного исхода, ’’кроме ужасной альтернативы: вечного уничтожения или вечных мук”. Подобный контраст прямо указывает нам на то смятение, какое в течение последних восемнадцати веков овладело человеческой душой. Перспектива счастливой или злосчастной вечности нарушила ее равновесие; вплоть до конца средних веков под этим грузом колебалась она, как сбитые с толку весы, то подымаясь в самый верх, то опускаясь к самому низу, беспрерывно переходя от одной крайности к другой. Когда накануне Возрождения подавленная природа снова выпрямилась, ободрилась и стала опять входить в силу, она нашла перед собой готовым противником прежнюю аскетическую и мистическую доктрину не только с ее преданием и уцелевшими или восстановленными учреждениями, но и с тем живучим смятением, какое внесла она в наболевшую душу и в распаленное, надсаженное воображение. Разлад и теперь еще жив; в нас самих и вокруг нас существуют две разные морали, два разных воззрения на природу и на жизнь, и их постоянная борьба тем живее дает нам чувствовать то гармоническое приволье юного еще мира, когда врожденные инстинкты разворачивались прямо и беспрепятственно под влиянием такой религии, которая благоприятствовала их росту, вместо того чтобы подавлять его.
Если религиозная культура возвела у нас на основе самородных наклонностей целое здание несообразных с ними чувств, то светская культура со своей стороны внедрила в ум наш целый лабиринт идей, искусственно выработанных и нам чуждых. Сравните первое и самое могучее из воспитаний, то, которое дается языком, каково оно было в Греции и каково теперь у нас. Наши новые языки — итальянский, испанский, французский, английский — только ведь говоры, обесформленные остатки прекрасного языка, который сперва долго портился медленным упадком и который потом еще исказили и перепутали разные примеси. Они похожи на здания, сооруженные из остатков древнего храма и разных других материалов, случайно попавших под руку; в самом деле, постройку, в которой мы теперь живем, мы возвели ведь из латинских камней, изуродованных и расположенных на иной лад, из уличного булыжника и из кое-какого щебня, возвела сперва готический замок, а в настоящее время — новейший дом. Наш ум живет в нем, потому что он к нему привык; но насколько привольнее было уму греков в его доме. Мы даже сразу не поймем наших общих выражений; они вовсе не прозрачны; вы не видите их корня, того чувственного факта, от которого они взяты; теперь необходимо, чтобы нам вперед объясняли многие слова, которые человек прежде легко понимал по одной уже аналогии; например, слова: род, вид, грамматика, вычисление, экономия, закон, мысль, понятие и т. д. Даже в немецком языке, где неудобство это менее ощутительно, и там недостает руководящей нити. Почти весь наш философский и научный словарь состоит из иностранных речений; чтобы пользоваться им как следует, нам необходимо знать греческий и латинский языки, и мы зачастую употребляем его неправильно. Этот технический лексикон ввел пропасть своих слов в разговорную и литературную нашу речь, и оттого мы говорим и думаем теперь не иначе как при посредстве тяжелых и неподатливых выражений. Мы берем их совершенно готовыми и в обычной уже их связи, повторяем по привычке, употребляем, не сообразуясь с их начальным смыслом и не различая в них никаких оттенков; мы поэтому говорим лишь приблизительно то, что желали бы сказать. Писателю у нас надо лет пятнадцать, чтобы только научиться писать, не говорю гениально — этому не научишься, — а хоть по крайней мере ясно, последовательно, прилично и точно. Это потому, что ему необходимо вникнуть и углубиться в десять или двенадцать тысяч разных слов и выражений, отметить себе их происхождение, родство, многоразличные связи, перестроить заново и по своеобразному плану все свои идеи и весь свой ум. Если он не сделал этого и захочет, например, рассуждать о праве, об обязанности, об изящном, о государстве, о каких бы то ни было крупных интересах человека, он поплетется только ощупью и спотыкаясь на каждом шагу; он запутается в длинных и темных фразах, в громкозвучных общих местах, в отвлеченных и противных на вид формулах: загляните только в наши газеты и в речи популярных ораторов; особенно грешат этим смышленнейшие из рабочих, не получившие классического образования; они не владеют словом, не владеют потому и мыслью; они говорят ученым языком, который им вовсе не под стать; он для них темен, а потому в свою очередь темнит их ум; у них не было времени процедить его в себя по капле. Этот громадный недостаток для греков вовсе не существовал. У них не было расстояния между языком чувственных фактов и языком чистого мышления, между языком народа и языком ученых людей; один служил продолжением другому; в разговоре Платона не найдется ни одного выражения, которое было бы неизвестно любому вышедшему из гимназии юноше; в речи Демосфена нет ни единой фразы, которая не нашла бы себе готового места в голове любого афинского кузнеца или пригородного поселянина. Попытайтесь перевести хорошим греческим языком какую-нибудь речь Питта или Мирабо, даже какой-нибудь отрывок из Аддисона или Николя, — вы должны будете передумать и переставить его совсем наново; вам придется отыскать для обозначения одних и тех же вещей выражения, более близкие к фактам и к чувственному опыту[94]; ярче осветятся и выступят перед вами очертания всех истин и заблуждений; то, что прежде называли вы естественным и ясным, покажется вам вычурным и темноватым, и из этого контраста вы поймете, почему орудие мысли у греков, будучи гораздо проще нашего, лучше и легче выполняло свое назначение.
С другой стороны, вместе с орудием крайне усложнилось и то, что им производится. Ведь кроме идей греков перед вами еще и все те, которые выработались в течение тысячи восьмисот лет после. Нас с самого начала чуть не задавили обильные наши приобретения. При выходе из грубого варварства на заре средних веков наивный, едва лепечущий ум должен был тотчас навьючиться остатками классической древности, старой церковной литературы, терниями византийского богословия, обширною и многохитрою энциклопедией Аристотеля, еще более преутонченной и затемненной по милости его арабских толковников. Начиная с Возрождения, обновленная тогда древность еще добавила массу своих измышлений к нашим прежним, перепутала кое в чем наши идеи, напрасно старалась навязать нам свой авторитет, свои учения и примеры, сделать из нас греков и римлян по речи и уму, как было с итальянскими литераторами XV века, предписала нам свои формы драмы и стиля в XVII столетии, подсказывала свои правила и свои политические утопии, как, например, во времена Руссо и в эпоху революции. Между тем расширившийся и без того ручей все увеличивался бездною новых еще притоков — ежедневно возрастающими успехами опытной науки и человеческой изобретательности, различными приобретениями новых цивилизаций, работающих в пяти или шести больших странах за один раз. Присоедините к этому, за последнее столетие, весьма расширившееся знание новых языков и литератур, открытие восточных и далеких от нас цивилизаций, необыкновенные успехи истории, воскресившей перед нашими глазами нравы и чувства стольких племен и веков; поток превратился уже в большую реку, столько же пеструю, как и громадную, — вот что предстоит поглотить теперь человеческому уму, и чтобы усвоить себе все это хоть приблизительно, необходимы гений, терпение и долговечность какого-нибудь Гёте. Как узок, но зато как светел и чист был сравнительно с этим первоначальный ручеек! В лучшую пору Греции молодой человек ’’учился читать, писать, считать[95], играть на лире, бороться и выполнять все другие телесные упражнения[96]”. Этим ограничивалось воспитание ’’детей лучших семейств”. Прибавим, однако, что учитель музыки преподавал отроку пение нескольких религиозных и народных гимнов, повторял с ним наизусть отрывки из Гомера, Гесиода и лирических поэтов, также пеан, который пелся на войне, и песнь Гармодия, которая произносилась за обедом. Более зрелый подросток слушал на Агоре речи ораторов, разные новые постановления и ссылки на существующие законы. Во времена Сократа любознательный юноша мог прислушиваться к спорам и рассуждениям софистов; он старался найти себе книгу Анаксагора или Зенона Элейца; иной интересовался геометрическими доказательствами; но, вообще говоря, воспитание было исключительно гимнастическое и музыкальное; два-три часа в промежутке двух телесных упражнений, посвящаемые на то, чтобы следить за каким-нибудь философским прением, нельзя, конечно, равнять с нашими пятнадцатью или двадцатью годами классического обучения и специальных занятий так же, как их двадцать или тридцать папирусных свитков нельзя равнять с нашими библиотеками чуть не в три миллиона томов. Все эти противоположности сводятся к одной, разделяющей первичную и молодую цивилизацию от цивилизации выработанной и многосложной. Меньше всяких средств и снарядов, менее промышленных орудий, социальных колес, заученных слов, перенятых идей; меньше вообще наследия и не такой обильный достаток, который зато и сподручнее; прямой и дружный рост, без переломов и без всяких нравственных несообразностей; вследствие всего этого более свободная игра природных даров и сил, более здоровое понимание жизни, менее измученная, менее надсаженная, менее искаженная душа и такой же ум — вот важная черта всего быта греков, которая обнаружится в их художестве.
III
Влияние этих различий на душу и на искусство. — Чувства, фигуры и характеры в средние века, в эпоху Возрождения и ныне. — Античный вкус в противоположность новому. — В литературе. — В ваянии. — Значение тела, взятого само по себе. — Сочувствие к совершенству в гимнастике. — Характерные черты головы. — Второстепенная роль выражения лица. — Интерес к чисто физическому жесту и ничего не выражающему спокойствию. — Взаимная сообразность между нравственным состоянием и такой именно формой искусства.
В самом деле, идеальное произведение выходило во все времена только ведь перечнем или верным отголоском реальной жизни. Рассматривая душу нового человека, мы найдем в ней те самые искажения, несообразности, болезни, те же, так сказать, гипертрофии чувств и способностей, выражением которых является его искусство. В средние века чрезмерное развитие духовного и внутреннего человека, стремление к неземным и нежно умиленным грезам, культ скорби, презрение к телу доводят воображение и чувствительность до чудовищного и каких-то неземных восторгов. Образчики подобного настроения вы встречали в ’’Подражании Иисусу Христу” и в ’’Цветках”, у Данте и у Петрарки, в изысканных тонкостях и ни с чем не сообразных сумасбродствах рыцарства и любовных судов. Отсюда в живописи и скульптуре лица безобразные или, по крайней мере, уж некрасивые, часто уродливые и безжизненные, почти всегда худые, чахлые, изможденные и страдальческие — лица, всецело поглощенные одной только мыслью, которая отводит им глаза от настоящей жизни, как бы окаменевшие в ожидании чего-то или в восторге, с выражением то грустной монастырской кротости, то, напротив, лучезарные от исступления, до того слабые или до того страстные, что им, очевидно, нельзя жить; они уже заранее обречены небу. В эпоху Возрождения общее улучшение судьбы человеческой, пример вновь найденной и вновь понятой тогда древности, порыв освобожденного и гордого великими открытиями ума воскрешают опять чувственность и искусство язычников. Но средневековые учреждения и сопровождающая их обрядность еще существуют, и в самых прекрасных произведениях Италии и Фландрии вы невольно замечаете возмутительно резкий контраст между фигурами и сюжетом: видите мучеников, которые как будто сейчас лишь вышли из древней гимназии, изображения Иисуса Христа, напоминающие Юпитеров-Громовержцев или же невозмутимых Аполлонов; видите Мадонн, способных возбудить греховную любовь, ангелов, грациозных, как купидоны, даже иногда Магдалин, чересчур цветущих и смотрящих сиренами, Св. Севастьянов, бодрых и бойких, как сам Геркулес, — короче, вы видите тут собрания святых, которые посреди орудий покаяния и мученичества сохраняют, однако, свежее здоровье, прекрасный цвет и горделивую позу, как нельзя более приличную для радостного празднества греческих корзиноносиц или совершенных атлетов на игрищах. В настоящее время забитая знаниями человеческая голова, множество и противоречие разнокалиберных учений, напряженная мозговая деятельность, сидячая привычка, искусственный образ жизни, лихорадочная возбужденность столиц довели нервы до крайнего раздражения, преувеличили потребность сильных и новых ощущений, развили мрачную тоску, смутные, неопределенные стремления и какую-то неутолимую жажду. Человек теперь не то, чем он был и чем, пожалуй, лучше бы ему остаться — животным высшей породы, довольным своей участью, тем, что он действует и мыслит на своей кормилице-земле под ярко освещающим его красным солнцем; теперь это — необъятный мозг, бесконечная душа, для которой телесные части только какие-то привески, а чувства — простые служители, ненасытное в своей пытливости и в честолюбии существо, всегда чего-то ищущее и что-то завоевывающее, с трепетом и взрывом, расстраивающими его животную структуру и разрушающими его плоть, рыщущее во все стороны до крайних пределов реального мира и во всех сокровенных глубинах мира воображаемого, то упоенное, то подавленное громадой своих приобретений и своих дел, то гоняющееся за недосягаемым и невозможным или же глухо запертое в свое ремесло, отдающееся скорбной, напряженной и величавой грезе, как Бетховен, Гейне и Гёте в Фаусте, или сдавленное душным гнетом социальной своей клетки и совсем отброшенное в одну известную сторону своей специальностью или мономанией, как бальзаковские лица. Такой ум не удовлетворится пластическими искусствами; в какой-нибудь фигуре его интересуют не части, не туловище и не живой телесный склад, а только выразительная голова, подвижная физиономия, прозрачная душа, сквозящая в каждом жесте, бесплотная страсть или мысль, животрепещущая из-под внешней оболочки; если ему и нравится изящная скульптурная форма, то благодаря лишь воспитанию, после долгой предварительной подготовки, вследствие надуманного вкуса любителя. Многосложный и всесторонний по существу, он может интересоваться всеми общественными слоями, всеми житейскими положениями, наслаждаться воспроизведением иноземных и древних стилей, сценами нравов, деревенских, простонародных или варварских, экзотическими и далекими пейзажами — всем, что дает пищу любопытству, материал для истории, сюжет для волнения сердца или для назидания ума. Пресыщенный и рассеянный, он требует от искусства неожиданных и сильных ощущений, новых эффектов колорита, физиономий и положений, звуков, которые во что бы то ни стало должны потрясти, задеть его за живое или позабавить, — короче, ему нужен стиль, наклонный к манере, предвзятости и всевозможным крайностям.
Напротив, в Греции чувства совершенно просты, а вследствие того прост и вкус. Рассмотрите театральные ее произведения: полное отсутствие таких сложных и глубоких характеров, как у Шекспира, отсутствие искусно завязанных и развязанных интриг, отсутствие всяких нечаянностей. Вся пьеса вертится на какой-нибудь богатырской легенде, которую повторяли грекам с детских лет; они наперед знают и события, и развязку. Что до действия, то его можно рассказать в двух словах. Аякс в порыве бешенства передушил всю лагерную скотину, думая, что он избивает неприятелей; стыдясь своего безумия, он мучится и убивает сам себя. Раненый Филоктет был покинут на одном острове со всем своим вооружением; к нему приходят, нуждаясь в его метких стрелах; он сперва сердится, отказывает и наконец по воле Геркулеса сдается на уговоры. Комедии Менандра, известные нам по Теренциевым, построены, так сказать, из ничего; понадобилось соединить две из них, чтобы составить одну римскую пьесу; самая содержательная заключает в себе не больше материала, сколько его в одном каком-нибудь явлении наших комедий. Прочтите вступление к ’’Республике” Платона, ’’Сиракузянок” Феокрита, ’’Диалоги” Лукиана, этого последнего античного писателя, или, наконец, ’’Экономики” и ’’Киропедию” Ксенофонта; там ничего нет для эффекта, все как есть ровень и гладь; это маленькие обиходные сцены, которых вся прелесть в необыкновенной естественности; ни одного сильного возгласа, ни одной задорной или пылкой черты; читая, едва улыбнешься, а между тем невольно любуешься произведением, как скромным полевым цветком или светлым потоком. Действующие лица садятся, встают, смотрят друг на друга, говоря самые обыкновенные вещи точно так же непринужденно, как живописные фигуры на стенах Помпеи. С нашим притупленным до оскомины, изнасилованным вкусом, для которого необходим крепкий ликер, мы вначале готовы обозвать это питье безвкусным; но, потянув его в себя несколько месяцев, мы не захотим пить ничего другого, кроме этой столь чистой и освежительной воды, и находим, что другие литературы — какой-то кайенский перец, пряные рагу или просто яды. Проследите наклонность эту в искусстве греков вообще, и особенно в том, которое мы теперь изучаем, — в скульптуре; благодаря этому-то именно умонастроению они довели ее до совершенства, и она подлинно стала национальным их искусством, потому что нет другого искусства, которое бы более требовало простоты ума, чувств и вкуса. Статуя — большой кусок мрамора или бронзы, и большая статуя обыкновенно стоит на пьедестале одна; ей невозможно сообщить того слишком пылкого жеста или слишком страстного выражения, которые передаются живописью и допускаются в барельефах; иначе фигура покажется вычурной, рассчитанной прямо на эффект, и художник рискует попасть в стиль Бернини. Кроме того, статуя ведь солидна, члены ее и торс вески, тяжелы, можно обойти вокруг ее и измерить глазом всю материальную ее толщину; притом она обыкновенно нага или почти нага; следовательно, ваятель должен придать туловищу и членам такое же значение, как и голове, должен так же любовно отнестись к животной жизни, как и к жизни нравственной. Одна лишь греческая цивилизация удовлетворяла обоим этим условиям. На этой ступени и в этой именно форме культуры люди впрямь интересуются телом; душа не подчинила его себе, не отбросила на второй план; оно само по себе значительно. Зритель дает одинаковую цену различным частям его, благородным и неблагородным: и широко дышащей груди, и гибкой, сильной шее, и мышцам, образующим то впадины, то вздутые бугры вокруг хребта, рукам, которым придется метать диск, голеням и ступням, которых энергическая упругость подбрасывает всего человека вперед на бегу и при скачке. Один юноша у Платона корит своего соперника тем, что тело у него неподатливо и шея слишком жидка. Аристотель обещает юноше, который последует его добрым советам, отличное здоровье и настоящую гимнастическую красоту: ”У тебя всегда будет полная грудь, белая кожа, широкие плечи, большие ноги... цветущим красавцем проживешь ты свой век в палестрах; ты пойдешь в Академию гулять под тенью священных маслин, в венке из цветущего тростника на голове, с разумным приятелем-сверстником, вдыхая в себя на досуге аромат трав и распускающихся тополей, вполне наслаждаясь чудной весной, когда листва явора перешептывается с соседним вязом”. Это — наслаждения и совершенства породистой лошади, и в одном месте Платон действительно сравнивает молодых людей с посвященными богам прекрасными конями, которых пустили свободно блуждать по пастбищу, чтобы посмотреть, найдут ли они собственным чутьем мудрость и добродетель. Подобные люди не нуждаются в особой научной подготовке для того, чтобы созерцать со смыслом и удовольствием такое тело, как Тезеево в Парфеноне или Ахиллово в Лувре, — вольную посадку туловища на тазовых костях, ловкий прилад всех вообще членов, отчетливый изгиб пятки, сеть быстроподвижных мышц, так и переливающихся под блестящей и упругой кожей. Они не налюбуются его красой, ни дать ни взять как английский записной охотник умеет оценить породу, склад и превосходство выводимых им собак и лошадей. Вид обнаженного тела отнюдь не удивляет их. Стыдливость не перешла еще в жеманство; душа не царит у них в недосягаемой высоте, на каком-то разобщенном от всего троне, с тем чтобы принизить и отодвинуть в тень органы с не столь благородным назначением; она не краснеет за них и не скрывает их; мысль о них не вызывает ни стыда, ни улыбки. Названия их не заключают в себе ничего ни грязного, ни соблазнительного, ни чисто научного; Гомер произносит их таким же тоном, каким говорит и о других частях тела, без различия. Идея, возбуждаемая ими у Аристофана, — одно только веселье, и никогда она не сквернословна, как у Рабле. Она не составляет исключительного удела той таинственной литературы, перед которой люди строгие закрывают себе лицо, а неженки затыкают ноздри. Она раз двадцать появляется на сцене, при полном театре, на праздниках богов, перед правителями и судьями, при торжественном ношении молодыми девушками того фаллоса, который и сам призывается молитвенно, как некий бог[97]. Все великие силы природы в Греции божественны; там в человеке не произошло еще разрыва между животной стороной и духовной.
Итак, вот живое тело, выставленное на пьедестал все целиком и без покрывала, — тело, всех восхищающее, всеми славимое и не соблазняющее наготой своей никого. Что станет оно делать и какую именно мысль статуя силой симпатии возбудит в зрителях? Мысль эта покажется нам чуть ли не ничтожной, потому что она принадлежит другому веку, совсем другому моменту развития человеческого ума. Г олова тут не знаменательна; она не заключает в себе, как наши, целого мира мелко оттененных понятий, взволнованных страстей, чувств, перепутанных в какой-то неразрешимый узел; лицо ее не изрыто, не перетонено, не измучено; оно небогато чертами, в нем почти нет выражения, оно сплошь бывает неподвижно; этим-то оно и сподручно для ваятеля; та глубокая выразительность, какую мы видим и воспроизводим в настоящее время, своей несоразмерной важностью убила бы все остальное; мы не стали бы тогда смотреть на туловище и на члены или, пожалуй, вздумали бы приодеть их. Напротив, в греческой статуе голова возбуждает не более интереса, нежели члены или туловище; ее линии и плоскости только продолжение других плоскостей и линий; лицо ее не задумчиво, но покойно, почти тускло; вы не подметите в нем никакой привычки, никакого честолюбивого порыва, переходящего за пределы плотской, земной жизни, и общая поза, равно как и совокупная деятельность статуи, направлена в таком же точно смысле. Если личность энергически стремится к какой-нибудь цели, как, например, ’’Метатель диска” в Риме, ’’Сражающийся гладиатор” в Лувре или ’’Пляшущий Фавн” в Помпее, то вполне физический эффект поглощает все желания и все идеи, к каким она способна: лишь бы только лучше метнуть диск, ловко нанести или отбить удар, лишь бы пляска вышла жива и удачно ритмована, — этим личность вполне довольна, далее нейдет ее душа. Но обыкновенно поза ее спокойная; личность ничего не делает, ничего не говорит; она не поглощена вниманием, не сосредоточена вся в одном глубоком или жадном взоре; она на отдыхе как будто совсем распустилась, но без усталости; то стоит она, несколько более опершись на одну ногу, чем на другую, то вполуоборот, то полулежит. Сейчас вот лишь она бежала, как ’’Маленькая Лакедемонянка”[98], теперь, подобно Флоре, она держит в руке венок; почти всегда деятельность ее для нее, очевидно, безразлична; занимающая ее мысль до того неопределенна и до того незаметна на наш взгляд, что и теперь еще после десяти разных предположений и догадок мы не можем в точности сказать, что такое именно делала Милосская Венера. Фигура живет — этого с нее довольно, довольно было этого и для древнего зрителя. Современники Перикла и Платона вовсе не нуждались в разительных и неожиданных эффектах, которые затронули бы их притупленное внимание или волновали их тревожную чувствительность. Цветущее здоровьем тело, способное ко всякого рода мужественным и гимнастическим действиям, женщина или мужчина породистые и рослые, ясная фигура в полном свете, естественная и простая гармония удачно сходящихся и расходящихся линий — живее этих зрелищ им не нужно ничего. Они хотят созерцать человека, вполне соразмерного своим органам и всем условиям своей жизни, одаренного всем возможным в этих пределах совершенством; им не надо ничего другого и ничего более; все остальное показалось бы им крайностью, безобразием или болезнью. Таков круг, в какой замкнула их простота древней культуры и за который вытолкнула нас многосложность нашей; они нашли совершенно приспособленное к этим рамкам искусство — ваяние; вот почему мы оставили это искусство позади себя и принуждены теперь искать образцов его у греков.
Отдел третий. Учреждения
I
Орхестрика. — Совокупное развитие учреждений, совершенствующих тело, и искусств, создающих статую. — Греция VII века сравнительно с гомеровской. — Лирика греков сравнительно с лирикой новых народов. — Музыкальная мимика и декламация. — Применение их ко всему быту вообще. — Употребление их в воспитании и в частной жизни. — Употребление в жизни общественной и политической. — Употребление в богослужебном культе. — Кантаты Пиндара. — Образцы, доставляемые орхестрикой скульптуре.
Нигде тесная связь между искусством и жизнью не обнаружилась так осязательно, как в истории греческой скульптуры. Чтобы создать человека из мрамора или бронзы, греки наперед создали себе живого человека, и великое ваяние развилось у них одновременно с развитием установлений, содействующих совершенствованию тела. Оба они идут рука об руку, подобно диоскурам, и, благодаря дивному стечению обстоятельств, сомнительный рассвет отдаленной истории озаряется их двумя зарождающимися лучами.
Оба они разом появляются в первой половине VII века. В эту минуту искусство совершает свои величайшие технические открытия. Около 689 года сикионцу Вутаду приходит в голову лепить из глины фигуры и потом их обжигать, а это навело его на мысль украшать верховые щиты крыш личинами или масками. В то же время самосцы Ройк (или Рёк) и Феодор находят способ лить по слепку из бронзы. В 560 году Хиосец Мелант высекает первые статуи из мрамора, и от Олимпиады к Олимпиаде, под конец этого и в течение всего следующего столетия, ваяние постепенно развивается и достигает полной законченности и совершенства после достославных персидских или мидийских войн. Это потому, что орхестрика и гимнастика становятся тогда правильными и всецелостными учреждениями. Один мир — мир Гомера и эпопеи — закончился; настает другой — мир Архилоха, Каллина, Терпандра, Олимпа и лирической поэзии. В промежуток от Гомера и его продолжателей IX и VIII столетий до творцов новых размеров стиха и новой музыки, относящихся к следующему уже веку, совершилось громадное преобразование и в обществе и в нравах. Кругозор человека расширился и продолжает расширяться с каждым днем; все Средиземное море уже обследовано; стали известны и Сицилия и Египет, о которых Гомер знал только одни сказки. В 632 году самосцы впервые доходят морем до Тартесса и из десятины своей добычи посвящают богине Гере громадную бронзовую чашу, украшенную грифами и поддерживаемую тремя коленопреклоненными фигурами в одиннадцать локтей вышины. Многочисленные колонии заселяют и эксплуатируют берега Великой Греции, Сицилии, Малой Азии и Эвксинского Понта. Все отрасли промышленности совершенствуются; пятидесятивесельные барки древних поэм превращаются в галеры с двумястами гребцов каждая. Один хиосец изобретает способ мягчить, проковывать и сваривать железо. Сооружают первый дорийский храм, знакомятся с монетой, цифрами, письмом, неведомыми Гомеру; изменяется военная тактика: теперь бьются пешие, и рядами, вместо того чтобы сражаться, как прежде, на колесницах и безрядной толпой. Человеческая общительность, столь еще слабая в "Илиаде”, "Одиссее”, плотнее стягивает свои петли. Вместо какой-нибудь Итаки, где каждая семья живет особняком, под управлением своего независимого семьеначальника, где не существует общественных властей, где можно было прожить двадцать лет без созыва народной сходки, учреждаются обведенные стеной и зорко оберегаемые городские общины, которые снабжены властями, подчинены полиции и становятся республиками равноправных граждан, управляющихся выборным начальством.
В то же время и в силу тех же самых причин умственная культура разнообразится, расширяется и обновляется. Конечно, она по-прежнему вполне еще поэтична; прозою начнут писать только впоследствии; но однообразный речитатив, поддерживавший эпический гекзаметр, уступает место множеству разнообразных и разномерных песен. К гекзаметру теперь присоединяется пентаметр; изобретаются трохей, ямб, анапест; новые стопы сопрягаются с прежними в двустишия, в строфы, во всякого рода размеры. Четырехструнная кифара превращается в семиструнную: Тер-пандр определяет ее мелодические тоны и дает номы, т. е. правила гармонии и такта, музыку; Олимп, а за ним Фалет окончательно согласуют ритмы кифары, флейты и человеческих голосов с оттенками аккомпанируемой ими поэзии. Постараемся представить себе этот столь далекий от нас мир, исчезнувший до последних даже обломков; он нимало не похож на наш, и, для того чтобы постичь его, нам нужны крайние воображения; но это — та первичная и устойчивая вместе форма, из которой вылился весь греческий мир.
При мысли о лирической поэзии нам (французам) невольно вспоминаются оды Виктора Гюго или стансы Ламартина; мы их пробегаем глазами или читаем вполголоса какому-нибудь приятелю в тиши кабинета; наша новая цивилизация сделала из поэзии откровенную беседу одной души с другой. Поэзия греков не только произносилась громко, вслух, но еще и декламировалась, распевалась под звуки инструментов, мало того — она олицетворялась мимикой и пляской. Представим себе Дельсарте или г-жу Виардо, поющими речитатив из Ифигении или Орфея, Руже де Лиля или Рашель, декламирующими Марсельезу, вообразим себе хор из Альцесты Глюка, как мы видим его у нас на сцене, только с корифеем (хороводцем) во главе, с оркестром и с целой массой сплетающихся и опять развертывающихся групп перед ступенями храма, и все это не при свете рампы и не среди расписных декораций, как теперь, а на народной площади, под лучами настоящего солнца; мы получим тогда хоть сколько-нибудь приблизительное понятие о празднествах и нравах древних греков. Человек вовлекался в них душою и телом весь, как есть, и дошедшие до нас стихи не более как оторванные листки оперного либретто. В какой-нибудь корсиканской деревне ’’запевала” (voceratrice) на похоронах импровизирует и декларирует песни мести перед телом зарезанного человека и жалобы перед гробом молодой девушки, преждевременно сошедшей в могилу. В горах Калабрии или Сицилии при народных плясках молодежь изображает своими позами и жестами разные маленькие драмы и сцены простодушной любви. Представим себе в подобном же климате, но под еще более прекрасным небом, в небольших городских общинах, где все знают друг друга в лицо, людей столь же склонных к жестикуляции, так же впечатлительных и быстрых на выражение своего чувства, с еще более живой и юной душой, с умом, еще более изобретательным, находчивым, склонным приукрашивать все действия и моменты человеческой жизни. Эта музыкальная пантомима, которую мы встречаем теперь только отдельными обрывками в каких-нибудь глухих захолустьях, развернется тогда перед нами, раскинется в сотне отростков и ветвей и даст содержание целой богатой литературе; не найдется чувства, которого бы она не выразила, сцены частной или общественной жизни, которой бы она не сумела украсить, намерения или положения, на которые бы ее не стало. То будет естественный язык, столь же общепринятый и общедоступный, как наша писаная или печатная проза; последняя ныне не что иное, как сухой переговор знаками, посредством которых один чистый отвлеченный ум входит в общение с другим; перед первобытным, вполне подражательным и чувственным языком это ведь какая-то алгебра, голая схема.
Французское ударение однообразно; в нем нет ровно никакой певучести; долгие и краткие звуки не довольно обозначены, слишком слабо разнятся между собой. Надо слышать какой-нибудь истинно музыкальный язык, беспрерывную мелопею какого-нибудь прекрасного итальянского голоса, читающего стансы Тассо, чтобы понять, какую силу слуховое ощущение может придать внутреннему чувству души, каким образом звук и ритм распространяют свое влияние на весь наш механизм, заражают собой сплошь все наши нервы. Таков и был этот греческий язык, от которого нам уцелел теперь один только остов. Из показаний толкователей и схоластов очевидно, что звук и размер столько же в нем значили, как мысль и образ. Поэт, придумавший какой-нибудь особый размер, изобретал вместе с тем и особенный род ощущений. Известное сочетание кратких и долгих звуков необходимо образует аллегро, другое опять — ларго, третье — скерцо и сообщает отпечаток своих модуляций и своего характера не только мысли, но притом еще и музыке и жесту. Вот отчего век, создавший великую совокупность лирической поэзии, создал в то же время и не менее великую совокупность орхестрики. Нам известны названия двухсот разных греческих плясок. В Афинах вплоть до шестнадцатилетнего возраста орхестрика исчерпывала весь круг воспитательных предметов.
”В то время, — говорит Аристофан, — молодежь любой части города, отправляясь к учителю-кифаристу, шла по улице вместе в строгом порядке, и притом вся босиком, хотя бы даже снег порошил, как мука из сита. Там они рассаживались, не сжимая ног (чтобы отогреть их); их тотчас принимались учить гимну: ’’Грозная градорушительница Паллада” или ’’Вопль несется издалека”, и дружно напрягали они голоса с суровою и мужественною гармонией, завещанной отцами”.
Один юноша знатной семьи, Гиппоклид, прибыв гостем в Сикион к тирану Клисфену и показав себя молодцом во всех телесных упражнениях, захотел блеснуть своим прекрасным воспитанием еще и перед обществом, на вечернем празднестве[99]. Приказав флейтисту сыграть Эммелию, он исполнил эту пляску; потом велел подать стол, вскочил на него и проделал все фигуры лакедемонской и афинской орхестрики. Подготовленные таким образом греки были вместе ’’певцы и плясуны”[100]; они сами себе устраивали те прекрасные живописные и поэтические зрелища, для которых потом нанимали фигурантов. На их клубных пирах[101] после трапезы совершались возлияния и пелся пеан в честь Аполлона; затем начинался собственно праздник комос, сопровождаемая мимикой декламация, лирический речитатив под звуки кифары и флейты, соло с каким-нибудь хоровым припевом, вроде позднейшей песни Гармодия и Аристогитона, дуэт, который пели и плясали наподобие того, как потом в ксенофонтовском ’’Пиру” исполнялась встреча Вакха с Ариадной. Иной гражданин, став тираном и желая пожить в свое удовольствие, прежде всего расширял и упрочивал вокруг себя такие празднества. Поликрат в Самосе держал при себе двух поэтов — Ивика и Анакреона, которым поручалось устройство праздников, а также сочинение для них музыки и стихов. Лица, представлявшие их поэтические произведения, были самые красивые молодые люди, каких только можно было отыскать, — Вафилль, игравший на флейте и певший мастерски на ионийский лад, Клеовул с прекрасными девичьими глазами, Сималл, игравший в хоре на пектиде[102], Смердий с роскошно вьющимися волосами, которого нарочно добыли из далекой Фракии, у киконов. Это та же опера в малом виде и среди домашней обстановки. Все лирические поэты того времени быЛи вместе с тем и хороучителями; жилища их представляли нечто вроде консерваторий[103], ’’домов муз”. Много этих домов было в Лесбосе, не считая принадлежащего Сафо; бывали они и под руководством женщин; ученицы стекались к ним даже с других островов или с соседних берегов, из Милета, Колофона, Саламина, Памфилии; там несколько лет кряду обучались музыке, декламации, искусству прекрасных поз; над неуклюжими смеялись, называя их ’’мужичками”, не умеющими даже ловко ’’приподнять платье”, отсюда поставлялись корифеи и здесь же подготовлялись хоры для погребальных плачей или для свадебных торжеств. Таким образом, вся частная жизнь своими обрядами и своими увеселениями равно содействовала выработке из человека того, что мы называем певцом, фигурантом, статистом и актером, но все это в самом прекрасном значении слова и с совершенным притом достоинством.
К тому же самому приводила и общественная жизнь. В Греции орхестрика входит в религию и в политику, как в мире, так и в войне, для того чтобы почтить убитых и прославить победителей. На ионийском празднике Фрагелий[104] поэт Мимнерм со своей любовницей Нанно выступал во главе шествия, играя на флейте. Каллин, Алкей, Феогнид увещевали своих сограждан или сторонников в стихах своего сочинения, которые сами же они и пели. Когда после нескольких поражений афиняне определили смертную казнь тому, кто снова заговорит об отнятии назад Саламина, Солон в одежде глашатая с шапкой Гермеса на голове неожиданно явился в народное собрание, взошел на камень, где обыкновенно становились герольды, и произнес оттуда сочиненную им элегию с такой силой, что молодежь немедленно снарядилась в поход с целью освободить прелестный остров ”и снять бесчестие и позор с Афин”. На походах спартанцы декламировали песни под шатрами. Вечером после ужина каждый по очереди вставал и произносил с подходящею мимикой элегию, и военачальник (полемарх) назначал победителю в этом состязании больший против других кусок мяса. Конечно, прекрасна была картина, когда эти рослые молодые люди, самые сильные и статные во всей Греции, с их длинными волосами, тщательно подвязанными (и подшпиленными) на маковке, в своей алой тунике, с широкими отполированными щитами, с жестами атлетов и богатырей, распевали стихи вроде следующих: ’’Сразимся храбро за эту землю, нашу родину, — и умрем, не щадя живота, за наших детей. — А вы, молодежь, бейтесь стойко друг возле друга; — да никто из вас не даст постыдного примера бегства или трусости, — но да создаст себе в груди великое и доблестное сердце... Что до седых старцев, чьи колени не упруги уж по-нашему, — не покидайте их, не бегите прочь, — ведь стыд вам, если падет в первом ряду перед молодежью белоголовый и белобородый воин; — стыд, если, свалясь наземь, испустит он душу свою в пыли, — зажав руками кровавую рану на обнаженном теле. — Но все, напротив, к лицу молодым людям, — пока они блещут ярким цветом юности. — Не нарадуются ими мужчины, не налюбуются женщины, — они все еще прекрасны, хоть пади они в первом ряду... — Отвратительно одно — видеть простертым в пыли человека, — сраженного сзади, с пронзенною копьем спиной. — Пусть каждый, после первого пыла, стоит крепко, — вросши обеими ногами в землю и прикусив губы зубами, — закрыв широким щитом все тело, — бедра, ноги, подмышки, грудь по самый живот; — пусть бьется он ступня против ступни, щит против щита, — шлем против шлема, гребень против гребня, — грудь с грудью как можно ближе, — теснясь телом к телу, разя длинным копьем или мечом, — пусть каждый колет или рубит супостата”.
Подобные же гимны существовали и на всякие другие случаи военной жизни; так, например, пели особые анапесты, идя в атаку под громкие звуки флейт. Мы видели схожее с этим зрелище в момент первого энтузиазма революции; в тот день, когда Дюмурье, вздев шляпу на конец шпаги, брал приступом высоты Жемаппа, он вдруг грянул Le chant du depart (песнь на выступление в поход), и солдаты, стремясь вслед за начальником, дружно подхватили песню. По этой шумной разноголосице мы можем составить себе понятие и о правильном боевом хоре, музыкальном марше древних эллинов. Такого рода марш раздался после саламинской победы, когда пятнадцатилетний Софокл, прекраснейший из всех афинских юношей, разделся по обряду донага и проплясал пеан в честь Аполлона посреди военного торжества и перед самым победным трофеем.
Но богослужебный культ доставлял орхестрике еще более материала, нежели политика и война. По понятиям греков, самое приятное зрелище, какое можно было предложить богам, это прекрасные цветущие тела во всякого рода положениях, обнаруживающих полноту силы и здоровья. Вот почему священнейшие из их праздников были чисто оперные шествия и серьезные балеты. Избранные граждане, а иногда, как было, например, в Спарте, и вся городская община (все гимнопедии) составляли из себя хоры в честь богам; каждый сколько-нибудь значительный город имел своих поэтов, которые сочиняли музыку и стихи, составляли группы, и все их движения показывали, какие брать позы, долго обучали актеров и придумывали подходящие костюмы; чтобы представить себе такой церемониал, у нас один только образчик в современной жизни — зрелища, какие и доселе еще даются, каждые десять лет, в Обераммергау, в Баварии, где, начиная с эпохи средних веков, все жители городка, человек пятьсот или шестьсот, подготовляемые к тому с детского возраста, торжественно представляют святые Христовы Страсти. На праздниках такого рода в Греции Алкман и Стесихор были вместе поэтами, капельмейстерами, балетмейстерами, иногда действующими лицами, первыми корифеями больших композиций, в которых хоры юношей и девиц публично представляли какую-нибудь богатырскую или божескую легенду. Один из таких священных балетов, дифирамб, впоследствии стал греческой трагедией. Последняя на первых порах сама была не что иное, как религиозный праздник, усовершенствованный и местами сокращенный, перенесенный с народной площади в замкнутый театр, — последовательная череда хоров, прерываемых рассказом и мелопеей главного действующего лица, нечто вроде одного из Страстей Себастьяна Баха, Сотворения Мира Гайдна, какой-нибудь оратории или Сикстинской мессы, в которых одни и те же лица пели бы, положим, свои партии и вместе образовали бы театральные группы.
Из всех подобного рода стихотворений самые популярные и наиболее знакомящие нас с этими отдаленными нравами были кантаты, славившие победителей на четырех главных играх. Вся Греция, Сицилия и острова обращались за ними к Пиндару, Он отправлялся на место сам или посылал гуда своего друга стимфалийца Энния обучать хор пляске, музыке и декламации его стихов. Празднество начиналось процессией и жертвоприношением; затем друзья атлета-победителя, его родные и знатнейшие в городе лица рассаживались за пир. Иногда кантату пели еще во время шествия, а тогда все оно останавливалось для произнесения эпода; иной раз это происходило по окончании празднества, в обширной зале, убранной панцирями, копьями и мечами[105]. Действующими лицами были товарищи атлета, исполнявшие свои роли с тем южным воодушевлением, какое видишь в Италии на представлениях Comedia dell’Arte. Но играли они не комедию: роль их была серьезна или, скорее, это вовсе была не роль; они испытывали самое глубокое и благородное наслаждение, какое только доступно человеку, когда он чувствует себя прекрасным и возвеличенным, стоящим выше уровня пошлой жизни, перенесенным на лучезарные высоты Олимпа силою воспоминания о доблести родных героев, силой призыва великих своих богов, заветной памятью своих предков, прославлением своего отечества. Ведь победа атлетов была общенародным торжеством, и стихи певца присоединяли к нему не только всю городскую общину, но и покровителей ее, богов небесных. Окруженные такими образами, восторженные своим собственным подвигом, греки доходили до того крайне напряженного состояния, которое они называли энтузиазмом, указывая самым этим словом, что в них присутствовал тогда Бог; да, Он и действительно в них присутствовал, потому что Он входит в человека в те минуты, когда тот чувствует, что его силы и благородство возрастают до бесконечности под влиянием дружной энергии и симпатической радости всей той ликующей группы, с которой действует он заодно.
Для нас непонятна уже в настоящее время поэзия Пиндара, она слишком местна и специальна, слишком переполнена намеками, создана исключительно для греческих атлетов VI века; дошедшие до нас стихи только ведь обрывок, не более; акцент, мимика, пение, звуки инструментов, сцена, пляска, строй шествия, десятки других не менее важных принадлежностей — все погибло невозвратно. Нам крайне трудно представить себе юные умы, никогда ничего не читавшие, не имевшие никаких отвлеченных идей, — умы, в которых каждое слово вызывало цветистые, колоритные формы, воспоминания о гимназии и беге, храмы, пейзажи, берега светлого моря, целую толпу фигур живых и божественных, как во времена Гомера, а может быть, и еще более божественных. И, однако же, порою нам как будто слышится отзыв этих звучных голосов; перед нами сверкнет мгновенной молнией величавая поза увенчанного лавром юноши, когда он выделяется из хора, чтобы произнести слова Язона или торжественный Ираклов обет; мы угадываем порывистую краткость его телодвижения, его напряженные руки, широкие мышцы, вздувшиеся на его груди; мы находим еще, там и сям, лоскуток поэтической багряницы, столь же яркой, как живопись, вчера лишь, вчера открытая в Помпее.
То выступает вперед корифей: ’’Как отец, который, хватая щедрою рукой кубок литого золота, перл своей сокровищницы и лучшее украшение своих пиров, подает этот кубок, пенящийся виноградной росой, молодому супругу своей дочери, — так точно и я шлю увенчанным бойцам влажный нектар, этот дар Муз, и душистыми плодами своей мысли радую олимпийских и пифейских победителей”.
То остановившийся вдруг хор, вперемежку с полухорами, развертывает, все с возрастающей силой, великолепные звукосочетания катящейся, как триумфальная колесница, оды: ”На земле и в неукротимом Океане только нелюбые Зевсу существа ненавидят голос Пиэрид. Таков этот божий враг, Тифон, стоглавое чудовище, пресмыкающееся в гнусном Тартаре. Сицилия гнетет косматую его грудь. Столп, высящийся до неба, снежистая Этна, вечная кормилица суровых стуж, сдерживает его порывы... и из пучин своих изрыгает он потоки огня, к которым нет подступа. Днем подымаются от них облака багрового дыма, а ночью вихри красного пламени низвергают с грохотом скалы в глубокое море... Дивно глядеть на страшное это чудовище, заточенное под высокими вершинами и черными борами Этны, под спудом целой равнины, как ревет оно под тяжкими своими узами, бороздящими и колющими распростертый хребет его”.
Поток образов так и льется, все возрастая, прерываемый на каждом шагу такими неожиданными взрывами, поворотами и скачками, что их смелость, их громадность не поддаются переводу ни на какой другой язык. Очевидно, что эти греки, столь трезвые и ясные в своей прозе, приходят здесь в какое-то опьянение, переступают всякую меру под влиянием восторга и лирического неистовства. Вот это-то и есть крайности, не под стать нашим притупленным органам и нашей рассудочной цивилизации. Однако же мы все-таки разгадываем их настолько, чтобы понять, что могла доставить подобная культура художествам, изображающим человеческое тело. Она образует человека хором; она научает его позам, жестам, скульптуральному действию; она ставит его в группу, которая сама уже подвижной барельеф; вся она ведет к тому, чтобы создать из него самородного актера, играющего по призванию и для своего собственного удовольствия, который не налюбуется сам собой и вносит гордость, серьезность, свободу и простое достоинство гражданина в упражнения театрального фигуранта и в мимику записного плясуна. Орхестрика доставила скульптуре ее позы, ее движения, ее драпировку, ее группы; мотивом фризу Парфенона послужил ведь торжественный ход панафинейских праздников, а пиррическая пляска подала мысль к изваяниям Фигалии и Будруна.
II
Гимнастика. — Чем она была во времена Гомера. — Возобновление и преобразование ее дорийцами. — Коренное начало государства, воспитания и гимнастики в Спарте. — Подражание дорийским нравам или заимствование их другими греками. — Восстановление и развитие всенародных игр. — Гимназии. — Атлеты. — Важность гимнастического воспитания в Греции. — Влияние его на тело. — Совершенство форм и поз. — Вкус к физической красоте. — Образцы, доставляемые гимнастикой ваянию. — Впоследствии образцом является статуя.
Наряду с орхестрикой в Греции было другое, еще более народное учреждение, составлявшее вторую часть воспитания, — гимнастика. Мы встречаем ее уже у Гомера: герои борются, метают диск, бегают пешие и гоняются на колесницах; неискусный в телесных упражнениях слывет ’’торгашом”, человеком низшего разряда, который, плотно нагрузив свой корабль, только и думает что о барыше да о съестном запасе[106]. Но учреждение это еще нестройно, не очистилось от сторонних примесей и не достигло полноты. Играм нет ни определенного места, ни сроков времени. Их устраивают случайно, по поводу смерти какого-нибудь героя, богатыря или в честь заезжего гостя. Множество упражнений, развивающих ловкость и силу, еще неизвестны; зато допускают в игры бой оружием, кровавый поединок, стрельбу из лука, метание копьем. Только в последующий период одновременно с орхестрикой и лирической поэзией игры эти начинают развиваться, устанавливаются окончательно и принимают ту форму и то значение, с каким они стали потом известны нам. Первый знак к такой перемене был подан дорийцами, новым народом чисто греческого племени, который, вышедши из своих гор, занял Пелопоннес и, подобно нейстрийским (т. е. западным) франкам, внес с собой свою тактику, водворил свое влияние и подновил свежими соками племенной, национальный дух. Это были люди энергические и суровые, довольно похожие на средневековых швейцарцев, далеко не так блестящие и живые, как ионийцы, привязанные к преданиям старины, учтивые уже от природы, инстинктивно склонные к дисциплине, наделенные высокой, мужественной и спокойной душой и положившие печать этого духа на строгую важность своего богослужения, на героический и нравственный характер своих богов. Главный род их, спартанцы, водворился в Лаконии посреди эксплуатируемых или порабощенных старожилов края; девять тысяч семейств победителей гордых и суровых, засевши в городе без стен, держат в повиновении себе сто двадцать тысяч мызников и двести тысяч рабов (илотов); это была армия, ставшая постоянным лагерем среди неприятеля, который вдесятеро превышал ее числом.
От этой главной черты зависят все остальные. Мало-помалу порядок, обусловленный положением, упрочился и к эпохе возобновления Олимпийских игр водворился уже вполне. Все личные интересы и прихоти стушевались перед идеей общественного блага. Дисциплина вводится такая, как в полку, которому грозит беспрерывная опасность. Спартанцу запрещено торговать, заниматься какою бы то ни было промышленностью, отчуждать свой земельный надел, увеличивать с него ренту; он должен думать только о том, чтобы быть воином. В дороге он может воспользоваться лошадью, рабом и съестными запасами своего соседа; между товарищами взаимные услуги обращаются в право и собственность не принимается в строгом своем значении. Новорожденное дитя приносят в особый совет старшин, и если оно признано слишком слабым или безобразным, его просто убивают; в армию допускаются ведь только здоровые, а здесь каждый — рекрут с колыбели. Старик, неспособный иметь детей, сам выбирает молодого человека и вводит его к себе в дом, потому что рекруты берутся с каждого дома, без различия. Люди зрелых лет для того, чтобы поближе сойтись, взаимно ссужают друг друга женами: лагерная жизнь не слишком щепетильна в домашнем обиходе, и часто много становится тут общим. Едят вместе братчинами или артелями, из которых у каждой свои правила, и тут любой братчик вносит свою долю деньгами или натурой. Военное дело впереди всего. Позорно корпеть дома; солдатчина преобладает над семейной жизнью. Новобрачный сходится с женой только тайком и по-прежнему проводит весь свой день в военной школе или на учебной (плац-парадной) площади. По той же причине и дети держатся на военном положении, воспитываются вместе и с семи лет разделяются на отряды (agelai). Перед ними каждый взрослый человек уже старшой или ’’дядька” (paidonomos); он властен при случае и наказать их без всякого возражения со стороны отца. Босые, прикрытые одним плащом, все одним и тем же и зиму и лето, они идут по улице молча и потупясь, как новобранцы, только еще выслуживающие право носить оружие. Наряд у них форменный, осанка и поступь определены правилами. Спят они на охапке тростника, ежедневно купаются в холодных водах Эврота, едят понемногу, и то наскоро, в городе живут хуже, чем в полевом стане, — все это для закалки будущего воина. Разделенные на сотни каждая под начальством молодого сотника, они дерутся руками и ногами также для подготовления к войне. Захотят они что-нибудь прибавить к скудной своей трапезе, пусть стараются уворовать по соседним домам или мызам; солдат ведь должен уметь жить на чужой счет. Иногда их нарочно пускают в засады по дорогам, и вечером они убивают запоздавших илотов; полезно-де присмотреться к крови и заранее изловчить руку на смерть.
Искусства здесь только те и есть, какие подобают ратному ополчению. Они принесли с собой особый музыкальный тип, единственный, быть может, чисто греческого происхождения[107]. Характер его серьезный, мужественный, возвышенный, чрезвычайно простой, даже суровый, как нельзя более способный внушать терпение и энергию. Он не зависит от личного произвола; закон не позволяет вводить в него вариации, смягчения, прикрасы какого бы ни было чужого стиля; это — нравственное общенародное учреждение; подобно барабанам и сигналам наших полков, он руководит и движениями войск, и их парадами; есть наследственные флейтисты, вроде ’’пиброчников” в шотландских кланах[108]. Самая пляска у них военное упражнение, род церемониального марша. С пяти лет мальчиков учат пиррической пляске, пантомиме вооруженных бойцов, подражающих всем оборонительным и наступательным движениям, всякого рода позам и жестам, какие принимаются и делаются для того, чтобы нанести или отбить удар, отскочить, прыгнуть, нагнуться, выстрелить из лука или метнуть копье. Есть и другая пляска, называемая ’’анапале”, где мальчики (прыжками и жестами) подражают борьбе и кулачному бою. Для юношей существуют свои особые упражнения, для молодых девушек — свои, с отчаянными прыжками, ’’скачками лани”, быстрой беготней, когда, ’’как жеребята и распустив по ветру волоса, вздымают они за собой столбы пыли” (Аристофан). Но самые главные упражнения — это гимнопедии, обширные смотры, на которые собирается весь народ, разделенный на несколько хоров. Хор стариков поет: ”И мы были некогда полными сил юношами”; хор взрослых мужчин отвечает: ”Мы же сильны вот теперь; попытай, коли есть охота”; детский хор прибавляет в свою очередь: ”А мы со временем будем и еще сильнее”. Все с детства изучали и беспрерывно повторяли каждый шаг, каждую эволюцию, каждый тон, каждое движение; нигде хоровая поэзия не соединяла столь обширных и прекрасных совокупностей. Если бы в настоящее время мы хотели отыскать сколько-нибудь аналогическое этому зрелище, мы нашли бы его разве, быть может, в Сен-Сире[109], с его парадами и эволюциями, или еще лучше — в военно-гимнастической школе, где солдаты учатся, между прочим, и хоровому пению.
Ничего нет удивительного, если подобная городская община могла организовать и вполне создать гимнастику. Под страхом смерти один спартанец дожен был стоить десяти илотов, так как каждый из них был тяжеловооруженный пехотинец (гоплит) и дрался грудь с грудью в линии, стоя твердой ногой, то совершеннейшим воспитанием считалось то, которое вырабатывало самого проворного и мощного гладиатора. Для этого принимались меры еще до рождения и в противность всем остальным грекам спартанцы подготовляли не только мужчину, но и женщину, чтобы дитя, наследуя качества обоих родителей, получало храбрость и силу равно от матери, как и от отца[110]. Есть гимназия для девочек, где, подобно мальчикам, они упражняются совсем нагие или в коротких туниках, бегают, прыгают, метают диск и копье; у них есть свои хоры; в гимнопедиях участвуют они вместе с мужчинами. Аристофан, хотя и с оттенком афинской насмешливости, любуется, однако, их свежестью, цветущим здоровьем и несколько животной силой[111]. Кроме того, закон определяет брачный возраст и избирает момент и обстоятельства, самые благоприятные для удачного зарождения. Есть вероятность, что от таких родителей произойдут красивые и сильные дети; это — система конских заводчиков, и ей подлинно следуют до конца, так как неудачные продукты решительно отбрасываются. Едва дитя начинает ходить, его не только закаляют и натаскивают, но методически школят и укрепляют. Ксенофонт говорит, что из всех греков только одни лакедемонцы одинаково упражняют все части тела — шею, руки, плечи, ноги, и притом не только в ранней молодости, но и всю жизнь и каждый божий день, в стане даже по два раза ежедневно. Следствия подобной дисциплины скоро обнаружились. ’’Спартанцы, — говорит Ксенофонт, — здоровеннейшие из всех греков; между ними найдешь самых красивых в Греции мужчин и женщин”. Они покорили себе мессенцев, бившихся со всей пылкостью гомеровских времен; они стали руководителями и вождями Греции, и в эпоху персидских войн влияние их так было упрочено, что не только на суше, но даже и на море, где у них почти не было судов, все греки, не исключая и афинян, безропотно принимали от них полководцев.
Когда какой-нибудь народ становится первым на политическом и военном поприще, соседи перенимают у него в большей или меньшей степени те учреждения, которые доставили ему первенство. Мало-помалу греки[112] заимствуют у спартанцев и у дорийцев вообще очень важные черты их нравов, их управления и их искусства: дорийскую гармонию, высокую хоровую поэзию, многие фигуры плясок, архитектурный стиль, более простую и мужественную одежду, более стойкий военный порядок, полную наготу атлета, возведенную в систему гимнастику. Множество слов, относящихся к военному искусству, музыке и палестре, обличают свое дорийское происхождение или, по крайней мере, принадлежность к дорийскому диалекту. Уже в IX столетии новое значение гимнастики обнаружилось восстановлением прерванных перед тем игр, и бездна фактов подтверждает, что с той именно поры они год от года становятся все популярнее. С 776 года Олимпийские игры служат эрой и исходной точкой, связывающей ряд годов. В течение двух следующих веков учреждаются Пифийские, Истмийские и Немейские игры. Они ограничивались сначала бегом на обычном ристалище, к ним последовательно присоединились тот же бег на двойном ристалище, борьба, пентафл[113], кулачный бой; ристание в колесницах, борьба в совокупности с кулачным боем, скачки верхом; потом упражнения для детей: бег, борьба, кулачный бой и совокупность двух последних, разные другие еще игры — всего двадцать четыре упражнения. Лакедемонские обычаи преобладают в них над гомеровскими преданиями: победитель получает уже не ценный подарок, а просто лиственный венок; на нем не остается уже и древнего (широкого) пояса; начиная с четырнадцатой Олимпиады, он раздевается весь, донага. По именам победителей видно, что на игры стекались со всей Греции, со всей Великой Греции, с островов и из отдаленнейших колоний. С тех пор нет уже ни одной гражданской общины без гимназии; это признак, по которому всегда можно отличить греческий город от других[114]. В Афинах первая гимназия восходит приблизительно к 700-му году. При Солоне считалось уже три большие общественные и множество мелких. С 16 до 18 лет юноша проводил там каждый день, как в открытой школе, учрежденной только не для развития ума, а для усовершенствования тела. Кажется даже, что к этому именно времени прекращалось изучение грамматики и музыки, с тем чтобы ввести молодого человека в высший и более специальный уже класс. Гимназия была большой квадрат с портиками и яворовыми аллеями, обыкновенно близ источника или реки, украшенный статуями богов и увенчанных атлетов. Она имела своего начальника и надзирателей, специальных репетиторов, свое празднество в честь Гермеса; в промежутки гимнастических упражнений юноши играли; гражданам предоставлялся туда свободный вход; много мест было устроено вокруг бегового поля; туда заходили для прогулки и чтобы посмотреть на молодых людей — это было место для бесед, впоследствии там зародилась философия. В такой школе, имевшей своей задачей устройство состязаний, соревнование доходило до крайностей и производило чудеса: вы видите перед собой людей, готовых упражняться в течение целой жизни. По уставу игр, выходя на арену, они обязаны были присягнуть, что провели в упражнениях не менее десяти месяцев со всевозможным тщанием и без перерывов; но они делают несравненно более этого, тренировка их длится целые годы и до зрелого даже возраста; они строго держатся известной диеты: едят много, но лишь в определенные часы; мышцы свои укрепляют употреблением холодной воды и банной скребницы; берегутся всяких нежащих и раздражающих удовольствий и обрекают себя на умеренность. Многие из них возобновляли подвиги сказочных героев. Милон, говорят, носил на плечах быка и, хватаясь с тыла за упряжную колесницу, останавливал ее движение. Надпись под статуей кротонца Фаилла свидетельствовала, что одним скачком он перепрыгивал пространство в пятьдесят пять футов и бросал на расстояние девяносто пяти футов восьмифунтовый диск. В числе пиндаровских бойцов есть настоящие гиганты.
И заметьте, что в греческой цивилизации эти чудные тела не редкость, не произведения одной лишь роскоши, а не так, как в наше время, — только бесполезные маки, случайно расцветшие на хлебных полях; их следует, напротив, сравнить с высокими колосьями, переросшими всю жатву. Государство нуждается в них; общественные нравы их требуют. Эти геркулесы пригодны не на один только показ. Милон водил своих сограждан в битву, а Фаилл был начальником кротонцев, пришедших на помощь грекам против мидян. Полководец в то время был не вычислитель, располагающийся с картою и подзорною трубой где-нибудь на высоте: с копьем в руках он бился в голове своего отряда, грудь к груди, как настоящий солдат. Мильтиад, Аристид, Перикл и даже, гораздо позже, Агесилай, Пелопид, Пирр участвуют в бою не одним умом, но и руками, наносят и отбивают удары, идут на штурм, пешком или на коне врываются в жесточайшую свалку; Эпаминонд, политик и философ, будучи смертельно ранен, утешается, как простой гоплит, тем, что выручен его щит. Победитель в пентафле Арат был последним в Греции военачальником и не раз пользовался своей ловкостью и силой в предпринимаемых им штурмах и внезапных нападениях; Александр несся при Гранике в атаку, как гусар, и не хуже вольтижера первый вскочил в город Оксидраков. При таком способе вести войну врукопашную и в одиночку первейшим гражданам и самим даже государям приходилось быть лихими атлетами. К этим требованиям опасности прибавьте еще и заманчивые побуждения народных праздников; церемонии так же, как и битвы, требовали выправленных на славу тел: невозможно было с честью появиться в хорах, не прошедши наперед курса в гимназии. Я рассказывал, как поэт Софокл проплясал нагой победный пеан после Саламинской битвы; те же нравы держались еще и в конце IV столетия. Александр, прибыв в Трою, разделся донага, чтобы в честь Ахилла обежать со своими спутниками вокруг колонны, обозначавшей могилу героя. Несколько далее в Фаселиде, увидев на общественной площади статую Феодекта, он после ужина проплясал вокруг нее и закидал ее венками. Чтобы удовлетворить таким вкусам и таким потребностям, гимназия была единственной школой. Она походила на те академии наших последних веков, куда все молодое дворянство (или шляхетство) стекалось учиться фехтованию, верховой езде и танцам. Свободные граждане были ведь те же дворяне древности, поэтому каждый свободный гражданин непременно должен был посещать гимназию: при этом только условии он делался благовоспитанным человеком, иначе его причислили бы к ремесленникам, людям низкого происхождения. Платон, Хрисипп, поэт Тимокреон были сперва (записными) атлетами; о Пифагоре сказывали, что он получил награду за кулачный бой; Еврипид был увенчан как атлет на Элевсинских играх. Клисфен, тиран сикионский, принимая у себя женихов своей дочери, вывел их на арену ”с тем, — говорит Геродот, — чтобы изведать их породу и воспитание”. В самом деле, следы гимнастического или рабского воспитания тело сохраняло до конца; это сразу можно было узнать по его статности, походке, движениям, по умению драпироваться, как прежде у нас ловкого и облагороженного школой джентльмена отличали от деревенского увальня, невзрачного мастерового.
Даже нагое и неподвижное тело грека свидетельствовало красотой своих форм о тех упражнениях, среди которых оно развивалось. Кожа его, загоревшая и окрепшая от солнца, масла, пыли, банной скребницы и холодных купаний, не казалась совсем голою; она привыкла к воздуху, была в нем как будто в своей стихии; разумеется, она не дрожала, ежась от холода, не пестрилась синими жилками, не покрывалась ознобной сыпью — это была здоровая ткань, прекрасного тона, обличающая вольную и мужественную жизнь. Агесилай, чтобы ободрить своих воинов, велел однажды раздеть пленных персов; взглянув на их белые, изнеженные тела, греки расхохотались и пошли вперед, полные презрения к своим противникам. Все мышцы у них были укреплены и доведены до крайней податливости; ничто не было упущено из виду; различные части тела находились в полном равновесии; надлокотники, столь тощие теперь, худые и малоподвижные лопатки становились полнее и приходили в соразмерность с бедрами; учителя, как истые художники, упражняли тело, с тем чтобы сообщить ему не только силу, упругость и быстроту, но также симметричность и изящество. ’’Умирающий Галл”, принадлежащий пергамской школе, показывает при сравнении его со статуями атлетов, насколько неразвитое тело отстает от развитого; с одной стороны, клочковатые и жесткие, как грива, волосы, мужицкие ноги и руки, толстая кожа, неподатливые мышцы, острые локти, вздутые жилы, угловатые очертания, терпко сталкивающиеся линии — словом, чисто животное тело здорового дикаря; с другой — все формы, видимо, облагорожены, стоптанная и рыхлая прежде пята[115] теперь сложилась отчетливым овалом, нога, прежде слишком распущенная и выдающая свое обезьянье происхождение, подобралась теперь в высокий подъем и стала упруже для прыжка; коленная чашка, вообще сочленения, весь остов, некогда торчавшие наружу, теперь полусглажены и лишь слегка оттенены; плечевая линия, сперва горизонтальная и жесткая, смягчена теперь приятным изгибом; повсюду гармонии частей, которые как бы продолжают одна другую и, взаимно подходя, сливаются; повсюду юность и свежесть текущей жизни, столько же естественной и простой, как жизнь любого цветка или дерева. В Менексене, Соперниках или Xармиде Платона вы найдете множество мест, схватывающих как бы на лету некоторые из этих положений; воспитанный таким образом человек умеет ловко нагнуться, стоять прямо на ногах, прислониться плечом к колонне и быть во всех этих позах прекрасным, как статуя; подобно этому, какой-нибудь дореволюционный дворянин, раскланиваясь, нюхая табак или к чему-либо прислушиваясь, всегда сохранял ту чисто кавалерскую грацию, которую мы встречаем на тогдашних гравюрах и портретах. Но в приемах, движении и позе грека вы видите не придворного, а питомца палестры. Вот вам один из них, нарисованный рукой Платона таким именно, каким сложился он под влиянием наследственной гимнастики, среди избранной породы.
’’Оно естественно, Хармид, что ты первенствуешь перед всеми другими; ведь никто здесь, я думаю, не укажет скоро двух семейств в Афинах, которых союз мог бы породить людей красивее и лучше тех, от кого ты произошел. В самом деле, семья твоего отца, семья Крития, Дропидова сына, прославлялась Анакреонтом, Солоном и многими другими поэтами как знаменитая красотой, добродетелью и всеми иными благами, в которых полагают счастье. Таковая же была и семья твоей матери: никто, говорят, не был прекраснее и рослее дяди твоего Пирилампа, когда бывало, отправляют его послом к великому царю или к какому-нибудь другому государю; да и вся эта семья ни в чем не уступит той. Происшедши от таких родителей, естественно, что ты во всем первый. И начать с того, тем именно, что у всех на виду, то есть твоей наружностью, ты, дорогое дитя Главка, не срамишь, мне кажется, ни одного из своих предков”.
В самом деле, прибавляет в другом месте этого разговора Сократ, ”он подлинно удивлял меня ростом и красотою... Если он казался таким нам, зрелым людям, это еще не диво, но я заметил, что и из детей никто не глядел от него в другую сторону, никто, самые даже малютки... все любовались им, что статуей какого-нибудь божества”. А Херефонт старается выхвалить Хармида еще больше: ”Уж на что он, кажется, пригож лицом, Сократ, не правда ли? Ну, а захоти он только раздеться, ведь лицо пошло бы ни во что: до того прекрасны формы его тела”.
В этой небольшой сцене, которая переносит нас далеко назад от своего времени, к лучшей поре телесной наготы, все знаменательно и драгоценно. Тут видны и предания крови, и действие воспитания, и общенародный вкус к изящному — все существенные зачатки совершенной скульптуры. Гомер называет Ахилла и Нерея прекраснейшими из всех греков, собравшихся под Троей; Геродот указывает на спартанца Калликрата как на красивейшего из греков, выступивших против Мардония. Все праздники богам, все большие церемонии вызывали состязание в красоте. В Афинах выбирали самых красивых стариков нести ветви на панафинеях; в Элиде зрелые красавцы должны были подносить жертвы богине. В Спарте, в гимнопедиях, полководцы и знаменитые люди, не отличавшиеся ростом и благородством наружности, при церемониальном шествии хора размещались в задних рядах. Лакедемоняне, по словам Феофраста, присудили своего царя Архидама к денежной пене за то, что он взял малорослую жену, которая, по их убеждению, даст им корольков вместо царей. Павсаний нашел в Аркадии состязания в красоте между женщинами, существовавшие уже около девяти столетий. Когда один перс, родня Ксерксу и самый рослый из его войска, умер в Аханте, жители принесли ему жертву как герою (полубожественному существу). Эгестяне построили небольшой храм на могиле одного бежавшего к ним кротонца, Филиппа, победителя на Олимпийских играх, красивейшего из греков его времени, и еще при Геродоте приносили ему жертвы. Таково чувство, вскормленное воспитанием и, в свою очередь, ставившее ему целью выработку красоты. Конечно, греческое племя было и само собой красиво, но оно еще украсило себя систематически; воля усовершенствовала природу, а ваяние довершило то, чего природа даже и при тщательной возделке достигала только вполовину.
Итак, в течение двух столетий оба совершенствующие человеческое тело учреждения, орхестрика и гимнастика, возникли, развились, из точек их первоначального появления распространились на весь греческий мир, дали орудие войне, украшение богослужебному культу, эру хронологии, поставили телесное совершенство главной целью жизни человеческой и восхищение изящною везде формой довели наконец до явной порочности[116]. Медленно, постепенно и всегда лишь поодаль искусство, производящее статую из металла, дерева, слоновой кости или мрамора, следует за воспитанием, создающим живую статую. Оно идет не тем же шагом, что и последнее; будучи ему современно, оно в продолжение двух веков стоит ниже, в качестве простого копииста, слепщика. О правде стали думать раньше, чем о подражании; действительным телом заинтересовались прежде, чем телом, воспроизведенным искусственно; озаботились наперед составлением живого хора, а потом уже его изваянием. Всегда физический или нравственный образец предшествует своему воспроизведению, но предшествует незадолго; в момент, когда создается воспроизведение, необходимо, чтобы образец был еще в памяти у всех. Искусство есть гармонический, и усиленный притом отголосок; оно получает совершенную отчетливость и полноту в тот именно момент, когда бледнеет жизнь, которой оно служит эхом. Так точно и было с греческим ваянием; оно достигает зрелости в тот самый миг, когда оканчивается век лиризма, в полустолетие, наставшее за Саламинской битвой, когда вместе с прозой, драмой и первыми философскими исследованиями начинается новая культура. Тогда от точного подражания искусство переходит вдруг к прекрасному творчеству. Аристокл, эгинские ваятели, Онат, Канах, Пифагор из Региона, Каламид, Агелад еще весьма близко копировали действительную форму, подобно Верроккьо, Поллайоло, Гирландайо, Фра-Филиппо и самому Перуджино; но в руках лучших учеников их: Мирона, Поликлета, Фидия — выделяется уже идеальная форма, как в руках Леонардо, Микеланджело и Рафаэля.
III
Религия. — Религиозное чувство в V веке. — Аналогия между этим временем и эпохой Лоренцо Медичи. — Влияние первых философов и физиков. — Человек еще чувствует божественную жизнь природы. — Он распознает еще ту естественную основу, откуда вышли божеские личности. — Чувство афинянина на великих панафинеях. — Хоры и игры. — Процессия. — Акрополь. — Эрехтейон и легенда про Эрехтея, Кекропса и Триптолема. — Парфенон и легенда о Палладе и Посейдоне. — Фидиева Паллада. — Характер статуи, впечатление зрителя, идея художника.
Греческое ваяние создало не одних только красивейших в мире людей. Оно создало также богов, и, по отзывам всех древних писателей, эти боги были венцом греческого искусства. К глубокому чутью телесного и атлетического совершенства у публики и лучших художников присоединялись своеобразное религиозное чувство, миросозерцание, ныне совсем утраченное, особенный способ постигать, чтить и боготворить естественные и божеские силы. Вот этот-то особый род чувства и веры необходимо представить себе, когда хочешь поглубже проникнуть в душу и гений Поликлета, Агоракрита или Фидия.
Достаточно прочитать Геродота[117], чтобы увидеть, до какой степени в первой половине V столетия еще была у греков жива вера. Не только сам Геродот благочестив и даже набожен до того, что не дерзает объяснить то или другое священное имя, передать ту или другую легенду, но и весь еще народ вносит в свой богослужебный культ ту величавую и страстную вместе важность, какую в то же самое время выражают стихи Эсхила и Пиндара. Боги еще живы, они тут, они говорят, их видели, как видели деву Марию и Святых в XIII, например, веке. Когда Ксерксовы послы были умерщвлены спартанцами, то внутренности жертв дали недобрые предзнаменования, потому что убийство это оскорбило покойника, память славного гонца Агамемнонова, Талфивия, которому спартанцы учредили культ. Для ублажения Ксеркса двое богатых и знатных граждан отправляются в Азию добровольно отдаться ему в руки. При появлении персов все города обращаются за советом к оракулу; он велит афинянам призвать на помощь к себе ’’зятя”; те вспомнили, что ведь Борей похитил некогда Орифию, дочь первого предка их Эрекфея, и выстроили ему молельню близ Илисса. В Дельфах бог объявил, что будет защищаться сам; молния падает на варваров, скалы обваливаются и давят их, между тем как из храма Паллады-Пронеи раздаются голоса и ратные клики и два местных героя, Филак и Автоной, окончательно прогоняют устрашенных персов. Перед Сала-минской битвой афиняне привозят из Эгины статуи Эакидов, чтобы они помогли им в бою. Во время сражения путники около Элевсиса видят страшные столбы пыли и слышат голос мистического Якха, идущего на помощь эллинам. После битвы в жертву богам приносятся три взятых у неприятеля корабля; один из трех назначен собственно для Аякса, и из общей добычи выделяется серебро, потребное для принесения в Дельфы статуи в двенадцать локтей вышиной. Я никогда бы не кончил, если б стал перечислять все выражения народной набожности; она была очень еще пламенна и пятьдесят лет спустя. ’’Диопиф, — говорит Плутарх, — издал закон, повелевавший доносить на тех, кто не признает бытия богов или распространяет новые учения о небесных явлениях”. Аспазия, Анаксагор, Еврипид подверглись тревогам или преследованиям, Алкивиад был осужден на смерть, а Сократ и действительно умерщвлен за мнимое или доказанное нечестие; гнев народного негодования обрушился против тех, кто глумился, представляя мистерии, или разбивал статуи богов. Конечно, в этих подробностях вместе с устойчивостью древней веры видно уж и появившееся вольномыслие: вокруг Перикла, как вокруг Лоренцо Медичи, собрался небольшой кружок умствователей и философов; в среду его был допущен Фидий, как позднее — Микеланджело. Но в ту и другую пору предание и легенда всецело занимали и полновластно направляли воображение и поступки. Когда отголосок философских бесед потрясал душу, полную образов, он только очищал и возвышал для нее этим прежние лики богов. Новая мудрость не уничтожала веры, она истолковывала ее и возводила к коренной ее основе, к поэтическому чувству естественных сил. Грандиозные догадки первых физиков оставляли мир по-прежнему живым и лишь придавали ему еще более величия; быть может, только благодаря слышанному от Анаксагора о Нусе (вселенском разуме) Фидий смог создать своего Зевса, свою Палладу, свою небесную Афродиту и довершить, как говорили греки, величие богов.
Чтобы почувствовать божественное, надо быть способным сквозь определенную форму легендарного бога распознать в нем те великие, неизменные, общие могущества и силы, из которых он произошел. Тот навсегда останется сухим и ограниченным идолопоклонником, кто за личным образом бога не прозрит в каком-то вечном сиянии ту физическую или нравственную силу, которой этот образ есть только символ, не более. Во времена Кимона и Перикла греки еще ясно прозревали ее. Сравнительное исследование мифологий недавно показало, что греческие мифы, родственные с санскритскими, вначале выражали только игру естественных сил и что из физических элементов и явлений, их разнообразия, богатства и красоты (инстинктивно мыслящий) язык создавал богов мало-помалу. В основе политеизма лежит чувство живой бессмертной творческой природы, и это чувство действительно существовало еще в те времена. Божественное проникало собою все, без изъятия; с носителями его, вещами, можно было говорить; часто у Эсхила и Софокла человек прямо обращается к стихиям как к тем святым существам, с которыми заодно суждено ему вести великий хор жизни. Филоктет в минуту своего отъезда шлет привет ’’журчащим нимфам источников, звучному голосу моря, ударяющегося о кручи мысов”: ’’Прощай, Лемносская земля! земля ты волнообъятая, отпусти меня безобидно, предоставь благополучно туда, куда несет меня могущественный рок”. Прометей, прикованный к скале, зовет все великие существа, населяющие пространство: ”0 божественный эфир! ветры буйные, ключи рек, бесконечная улыбка морских волн; о, мать всему, Земля! о всевидящий круг Солнца, призываю вас! гляньте, что за муки один бог терпит от других богов!”
Зрителям остается следовать за своим потрясенным лирическим чувством, чтобы снова попасть на те первичные метафоры, которые без их ведома послужили зародышем их религии. "Чистое Небо, — говорит Афродита в одной утраченной пьесе Эсхила, — любит проникать в Землю, и Эрот выбирает ее в супруги; ниспадающий с Неба-родителя дождь оплодотворяет Землю, и тогда она родит для смертных корм стадам и зерно Деметры”[118]. Чтобы понять этот язык, нам стоит лишь выйти из наших искусственных городов и нашей в струнку вытянутой культуры; кто пустится один по какому-нибудь гористому краю, по берегу моря и весь отдастся впечатлению нетронутой, первобытной природы, тот поневоле скоро заговорит с ней; она оживится для него человеческой физиономией; неподвижные, грозные горы превратятся в лысых великанов или в громадные чудовища, присевшие на задние лапы; светлые и прядающие воды — в резвые, болтливые, смеющиеся существа; высокие молчаливые сосны покажутся похожими на строгих девственниц; а когда он взглянет на южное море, лазурное, сияющее, убранное, как на празднике, с той всеобъемлющей улыбкой, о которой говорил нам сейчас Эсхил, — ему невольно придет в голову, для выражения сладострастной красоты, бесконечность которой окружает и проникает его насквозь отовсюду, назвать ту пенорожденную богиню, которая, выходя из морской волны, восхищает сердца смертных и небожителей.
Когда какой-нибудь народ ощущает божественную жизнь природы, ему нетрудно распознать ту заветную ее глубину, откуда исходят его боги. В лучшую пору ваяния, коренной этот грунт явно еще просвечивал из-под той определенной человеческой фигуры, которою легенда хотела его выразить. Есть божества, именно божества потомков, лесов и гор, которые всегда были видны насквозь. Наяда или Ореада была, конечно, молодая девушка, вроде сидящей на скале в олимпийских метопах (которые теперь в Лувре); по крайней мере, так передавало ее скульптурно-изобразительное воображение; но уже при одном ее названии представлялась мысли таинственная важность тихого леса или свежая прохлада быстрого ключа. У Гомера, чьи поэмы были настоящей библией греков, потерпевший крушение Улисс, после двухдневного плавания, принесен "к устью светлоструйной реки и говорит ей: услышь меня, о царь, кто бы ты ни был; я прибегаю к тебе с пламенной мольбой, уходя от моря, полного Посейдоновым гневом... Сжалься, о владыка! я ведь твой усердный молельщик. Он сказал это, и укротилась река, остановив свое течение и быстрые волны, стихла она перед Улиссом и приняла его в свое устье”. Очевидно, что бог здесь не какая-нибудь бородатая, скрытая в пещере личность, но сама быстрая река, вдруг ставшая мирным и гостеприимным потоком. Подобно этому река же явлется раздраженной против Ахилла. ’’Так проговорил Ксанф и ринулся на него, вскипев яростью, полный шума, пены, крови и трупов. И блестящая волна вышедшей от Зевса реки поднялась, увлекая Пелеева сына... Тогда Гефест обратил против нее свое ослепительное пламя, и запылали вязы, ивы и тамаринды; вспыхнул и лотос, и шпажник, и кипарис, что обильно росли вокруг реки светлоструйной: угри и рыбы метались туда-сюда или погружались в омуты, не зная, куда уйти от жгучего дыханья Гефеста, и извелась наконец сила реки до конца, и завопила она во весь голос: Гефест! никому из богов невмочь бороться с тобой. Уймись же. Она молвила это, вся горя огнем, а светлые воды ее так ключом и кипели”. Шесть веков спустя Александр пустился по реке Гидасп (в Индии); стоя на корабельном носу, он совершил возлияния и этой реке, и другой — и ее притоку, и, наконец, Инду, куда текли они обе и куда направлялся Александр. Для души простой и непосредственной большая река, особенно притом неизвестная, сама по себе является уже какой-то божественной силой; перед нею человек чувствует себя, как перед существом вечным, всегда деятельным, то благодатным, то губительным, принимающим бесчисленные формы и виды; это неистощимое и правильное течение невольно порождает в нем мысль о спокойной и мужественной жизни, величавой и сверхчеловеческой. В века упадка в статуях, каковы олицетворяющие Нил и Тибр, древние скульпторы не забыли еще этого первоначального впечатления, и широкий торс, спокойная поза, неопределенно-блуждающий взгляд статуи показывают, что при посредстве этой человеческой формы они все-таки хотели выразить величавое, однообразное и безразличное течение большой массы вод.
Иногда самое название бога указывает уж на его природу. Гестия, например, значит очаг, и никогда богиня эта не могла вполне отделиться от священного огня, служившего средоточием домашней жизни. Деметра значит мать-земля, и обрядовые прозвища или эпитеты именуют ее черной, глубокой и подземной, кормилицей новорожденных существ, плодоносицей, зеленеющей. Солнце у Гомера отдельное от Аполлона божество, и личность нравственная сливается в нем воедино с физическим светом. Бездна других божеств: Горы, т. е. времена года, Дике — правосудие, Немезида — усмирение — вместе с именем вносят в душу поклонника и прямой свой смысл. Я назову лишь Эрота или Амура, чтобы показать, каким образом свободный и проницательный ум грека соединял в одном и том же чувстве поклонение божественной личности и обоготворение природной силы. ’’Эрот, — говорит Софокл, — непобедимый в битве, Эрот, настигающий и могущество и богатство, ты приютился на нежных ланитах молодой девушки; а между тем ты перелетаешь моря, ты заходишь и в сельские лачуги, и не уйти от тебя никому из бессмертных, никому из кратковечных людей”. Немного позже, в устах гостей платоновского ’’Пира”, смотря по разнообразным толкованиям имени, природа бога видоизменяется. Для одних, так как любовь значит сочувствие и лад, Эрот — самый всевластный из небожителей, и, как говорит Гесиод, он творец всякого в мире порядка и всякой гармонии. Другие полагают, что он младший из богов, так как старость несовместима с любовью; он нежнее всех других, потому что гуляет и покоится на том, что ни есть нежнейшего, на сердцах, да и то лишь на одних нежных; он должен состоять из жидкого, тончайшего вещества, потому что входит в души и выходит незаметно; он конечно уж цветущ, потому что живет среди цветов и благоуханий. По мысли иных, наконец, Эрот, будучи желанием и, стало быть, чувством недостатка, просто сын Нищеты, исхудалый, грязный, босоногий, спящий под открытым небом, но жаждущий прекрасного и оттого смелый, деятельный, изобретательный, настойчивый и уж непременно философ. Миф возрождается здесь сам из себя и мелькает под двадцатью формами в руках Платона. У Аристофана облака минутно превращаются в правдоподобные почти божества, и если в Теогонии Гесиода мы проследим полуобдуманную, полуневольную смесь, допускаемую им между божественными личностями и стихиями природы[119], если заметим, что он насчитывает ’’тридцать тысяч богов-хранителей на кормилице-земле”, если вспомним, что Фалес, первый физик и первый философ, говорил, что все произошло из влаги, и в то же время, что все полно богов, если сообразим все это, то поймем глубокое чувство, поддерживавшее тогда греческую религию, тот восторг и то благоговение, с какими грек, под ликами своих богов, угадывал бесконечные силы живой природы.
Правду сказать, не все они в одинаковой степени были воплощены в видимые предметы. Были между ними и такие, — и самые притом популярные, — которых более энергическая легендарная переработка выделила из общей массы и поставила в виде особых совсем лиц. Олимп греков можно уподобить масличному дереву под конец лета. Смотря по месту и высоте разных ветвей, плоды оказываются более или менее созревшими; одни только еще в завязи, состоят из утолщенного лишь пестика, не больше, и тесно соединены с деревом; другие, уже спелые, держатся еще, однако, на ветке; наконец, иные, достигшие полной зрелости, попадали наземь, и потребно некоторое внимание, чтобы распознать тот стебелек, на котором они висели. Подобно этому, и греческий Олимп, смотря по степени очеловечения сил природы, представляет на различных своих ярусах такие божества, в которых физический характер преобладает над личностью, другие, в которых обе стороны уравновешены, и, наконец, третьи, в которых очеловечившийся бог связан уже несколькими только нитями, подчас даже одной, и то едва заметной, нитью с тем стихийным явлением, которое дало ему начало. Но он все-таки еще с ним связан. Зевс, являющийся в И л и а д е грозным главой семьи, а в Прометее — царем-насильником и тираном, остается, однако, во многих чертах своих тем, что он был искони, — дожденосным и молниеметным небом; освященные веками прозвища, старобытные изречения указывают на его первичную природу: реки ”из него падают”, ’’Зевс дождит”. На Крите имя его означает день; впоследствии Энний в Риме говорит, что он — та ’’высшая огнежаркая белизна, которую все признают под именем Юпитера”. Из Аристофана видно, что для мужиков, для черного народа, для людей простых и несколько отсталых он все по-прежнему еще ’’поливатель нив и раститель жатвы”. Когда какой-нибудь софист вздумает говорить им, что нет Зевса, они изумляются и спрашивают: ”А кто дождит? кто гремит?” Он разгромил Титанов, низверг чудовищного Тифона о ста драконьих головах, т. е. те черные испарения, которые, родившись из земли, взвивались, подобно змеям, и набегали на свод небесный. Он живет на упирающихся в небо высях гор там, где собираются тучи, откуда низвергается гром; это Зевс Олимпа, Зевс Ифомы, Зевс Гиметта. В сущности, как и все боги, он множествен, тесно привязан к различным местностям, где человеческое сердце наиживее ощутило его присутствие, к разным городам и даже семьям, которые, открыв его в своих кругозорах, присвоили его себе и первые стали приносить ему жертвы. ’’Умоляю тебя, — говорит Текмесс, — именем домашнего твоего Зевса”. Чтобы точнее представить себе религиозное чувство грека, надобно вообразить долину, морской берег, весь первобытный пейзаж местности, где поселилась та или другая часть племени; она признает за божественные существа не небо вообще и не всемирную землю, а свое небо с его горизонтом волнистых гор, свою землю, на которой она обитает, те леса и те именно текучие воды, среди которых она водворилась на житье; у нее есть свой собственный Зевс, свой Посейдон, своя Гера, свой Аполлон, свои лесные и водяные нимфы. В Риме, где религия лучше сохранила первобытный дух, Камилл говорил недаром: ”В этом городе нет местечка, не пропитанного насквозь религией и не занятого каким-нибудь божеством”. ”Не боюсь я богов вашей страны, — говорит одно действующее лицо у Эсхила, — я ничем не обязан им”. По-настоящему бог у них всегда местный[120], так как по своему происхождению он ведь не что иное, как сама страна; вот почему в глазах грека родной город — священный город и божества его составляют с ним одно неразрывное целое. Если он приветствует их, воротясь с дороги, то не в силу одного поэтического приличия, как делает, например, Танкред; он не испытывает, как современный нам человек, только удовольствия при виде знакомых ему предметов и при мысли, что вот он теперь у себя дома; родной его берег, его горы, стены, ограждающие его земляков, дорога, вдоль которой гробницы хранят кости и прах героев-основателей, все окружающее его — для него род храма. ’’Аргос и вы, родимые божества, — говорит Агамемнон, — вам я должен поклониться прежде всего; вы были мне помощники и в благополучном возврате, и в отместке Приамову городу”. Чем ближе присмотришься, тем более серьезным найдешь их чувство, тем более понятным их верование, тем более основательным их культ; и только уже впоследствии, в эпоху вольнодумства и упадка, стали они в самом деле идолопоклонниками. ’’Если мы представляем богов в человеческом образе, — говорили они, — то это потому, что нет ведь формы прекрасней”. Но из-за этой выразительной формы виделись им, как во сне, правящие душой и вселенной мировые силы.
Проследим одну из их процессий, именно великие Панафинеи, и постараемся представить себе мысли и ощущения афинянина, который, участвуя в торжественном ходе, подступал тут ближе к своим богам. Празднество совершалось в начале сентября. Три дня весь город тешился играми, сперва в Одеоне — всей роскошью орхестрики, декламацией гомеровских поэм, состязанием в пении, в игре на кифаре и на флейте, хорами нагих юношей, пляшущих пирритку, или в праздничной одежде водящих киклический хор; затем, в ристалище, — всеми упражнениями нагого опять тела, борьбой, кулачным боем, пентафлом для взрослых и детей; простым и двойным бегом с факелами, бегом на конях, ристанием на обыкновенных и на боевых колесницах парою и четверней, причем на иных было по два седока, из которых один выпрыгивал на всем скаку, бежал за лошадьми и потом сразу вскакивал опять на мчавшуюся колесницу. По выражению Пиндара: ’’Игры были любы богам”, и нельзя было ничем так достойно почтить их, как этим именно зрелищем. На четвертый день открывалось шествие, которого изображение сохранил нам парфенонский фриз: во главе шли первосвященники, старцы, выбранные из самых красивых девушки лучших семейств, посланцы от союзных городов с приносными дарами, затем — метеки с вазами и утварью из чеканного золота и серебра, атлеты, пешие и на конях или в колесницах, длинный ряд жертвоприносителей и разных жертв, наконец, народ в праздничных одеждах. Потом трогалось с места священное судно, неся на мачте покрывало Паллады, вышитое для нее молодыми девушками, питомицами Эрехтейона; выйдя из Керамика, оно шло в Элевсинию, огибало ее вокруг, проходило вдоль северной и восточной сторон Акрополя и останавливалось перед ареопагом. Тут отвязывали с мачты покрывало для возвращения его богине, и все шествие подымалось по громадной мраморной лестнице во сто футов длиной и в семьдесят футов шириной — лестнице, ведущей к преддверию Акрополя, Пропилеям. Как тот угол старой Пизы, где скучены вместе собор, перекосившаяся башня, Кампо-Санто и Баптистерий, — этот обрывистый и всецело посвященный богам горный скат совершенно исчезал под множеством памятников, храмов, молелен, колоссов и статуй; но со своей четырехсотфутовой высоты он господствовал над всей страной; в промежутки колонн и углов рисующихся на небе построек афиняне видели отсюда половину своей Аттики, круг обнаженных и выжженных летним зноем гор, блестящее море, обрамленное матовым выступом побережьев, все великие, вечные существа, в которых коренятся сами боги, — гора Пентелик с ее алтарями и виднеющейся издали статуей Паллады-Афины, горы Гиметт и Анхесм, где колоссальные лики Зевса указывали еще первобытное родство между громовержущим небом и горными вершинами.
Они несли покрывало вплоть до Эрехтейона, самого многочтимого из их храмов, святилища, где хранились упавший с неба Палладион, гробница Кекропса и заветная маслина, прародительница всех остальных. Там вся решительно местная легенда, все обряды, все имена богов пробуждали в уме смутно-величавое воспоминание о первой борьбе и первых шагах на поприще человеческой цивилизации; в мифическом полумраке человек прозревал здесь древнюю и многоплодную борьбу воды, земли и огня; возникающую из волн морских, постепенно оплодотворяющуюся, одевающуюся полезной растительностью, питательными семенами и деревьями землю, заселяемую и очеловечиваемую под рукой таинственных сил, которые сокрушают друг о друга дикие стихии и сквозь хаотическую их безрядицу устанавливают мало-помалу преобладание умственной силы над всем. Основатель Кекропс имел символом одноименное с собой существо Kekrops, т. е. кузнечика, рожденного, как полагали, из земли, — насекомое самое уж афинское, какое только можно себе представить, певучий и поджарый обитатель сухих холмов, недаром старые афиняне носили в волосах его изображение. Рядом с Кекропсом первый изобретатель Триптолем, т. е. ’’зернотер”, родился от отца Диавла, в переводе ’’двойной борозды”, и сам родил Гордиду, т. е. ’’ячмень”. Еще знаменательнее легенда о великом праотце Эрехтее. Между наготами детского воображения, наивно и странно рисовавшего себе его происхождение, собственное его имя, означающее плодоносную почву, и имена его дочерей: Чистый Воздух, Роса и Великая Роса — прямо сквозят мыслью о сухой земле, оплодотворяемой ночною влагой. Разные подробности служебного ему культа окончательно уясняют этот смысл. Молодые девушки, вышившие заветное покрывало, называются Эррефорами, т. е. ’’росоносицами”; это символы росы, за которою они ходят по ночам 'в пещеру, близ храма Афродиты. Фалло, пора цветов, и Карпо, пора плодов, чествуемые неподалеку оттуда, также опять имена божеств полевых или земледельческих. Все эти выразительные имена глубоко запечатлелись в уме афинянина; он чуял затаенную в них историю своего племени, уверенный в том, что души его усопших родоначальников и предков продолжают жить вокруг могилы и покровительствуют тем, кто чтит место их погребения; он приносил им пироги, мед, вино и, ставя свои приношения, окидывал мысленным взглядом все долгое благоденствие родного города и связывал в своих надеждах его будущее с его прошлым.
Выйдя из древнего святилища, где первобытная Паллада царила под одной кровлей с Эрехтеем, афинянин видел почти прямо перед собой построенный Иктином новый храм, где она жила одна и где все говорило о ее славе. Кем она была первые времена, теперь он едва лишь чувствовал; ее лживая связь с природой совсем стерлась благодаря развитию ее нравственной личности; но энтузиазм — это вещая догадка, и потому какие-нибудь лоскутки легенд, какие-нибудь освященные веками атрибуты, одни уже исконные прозвища наводили взоры на ту даль, откуда вышла богиня. Известно было, что она — дочь Зевса, молниеносного неба, рожденная только от него; она вырвалась из чела его среди молний и общего переполоха стихий; Гелиос тогда вдруг остановился, Земля и Олимп потряслись, море страшно взбушевало, на Землю пролился золотой дождь световых лучей. Вероятно, первые люди поклонились вначале вёдру или прояснившемуся воздуху под ее именем; они пали ниц перед этой внезапно явившейся девственной белизной, проникнутые той крепительной свежестью, которая наступает вслед за грозой; они уподобили ее молодой, энергической деве[121] и назвали Палладой. Но в Аттике, где прозрачность и блеск ясного эфира чище, нежели где-нибудь в другой местности, она сделалась Афиной, т. е. просто Афинянкою. Другое из древнейших ее прозвищ — Тритогения, ’’водорожденная” — напоминало также, что она рождена из небесных вод, или наводило мысль на сверкающий блеск моря. Другими явными следами ее происхождения были цвет ее серо-зеленых глаз и выбор в подручные ей птицы совы, зрачки которой так ярко светятся в ночной темноте. Постепенно обрисовывался ее лик, а с тем вместе росла и ее история. Ее бурное рождение сделало ее воинственной, вооруженной, грозной спутницей Зевса в его битвах с возмутившимися Титанами. Как девственница и чистый свет, она мало-помалу стала мыслью и разумом, и ее прозвали художественной, потому что она изобрела искусства, наездницей, потому что она укротила коня, спомощницей, потому что она исцеляла от недугов. Все ее благодеяния и победы были изображены на стенах, а глаза зрителя, переносясь от фронтона храма на необъятный пейзаж, обнимали в одно и то же мгновение оба религиозные момента, взаимно уяснявшие друг друга и сливавшиеся в душе воедино одним высоким чувством совершенной красоты. С южной стороны на горизонте афиняне видели бесконечное море, Посейдона, обнимающего и колеблющего землю, лазурного бога, крепко охватившего руками и берег, и острова, и тем же самым взглядом они усматривали его под западным венцом Парфенона, стоявшего в ярости, с его мускулистым торсом, с его могучим нагим телом и гневным жестом раздраженного божества, тогда как позади его Амфитрита, Афродита, почти нагая, на коленях Фалассы, Латона с двумя своими детьми, Левкофея, Галлирофий, Эврит волнистыми выпуклостями своих детских или женских форм давали чувствовать всю грацию, все переливы красок, всю свободу вечно улыбающегося моря. На том же самом мраморе победоносная Паллада укрощала коней, которых Посейдон вышиб из-под земли одним ударом своего трезубца, и подводила их к божествам суши, к основателю Кекропсу, к праотцу Эрехтею ’’земельнику”, к трем дочерям его, увлажняющим тощую почву, к прекрасному ключу Каллироэ и к тенистой речке Илиссу; налюбовавшись их изваяниями, глаз только опускался вниз и видел опять их же у подножий пригорка.
Но сама Паллада распространяла лучезарный блеск свой вокруг; тут не требовалось ни размышлений, ни науки, нужны были только глаза и сердце поэта или художника, чтобы подметить родство богини с окружающими предметами, чтобы почувствовать ее присутствие в великолепии сияющей атмосферы, в ярком, быстро разливающемся свете, в чистоте этого легкого воздуха, которому афиняне приписывали живость своего творчества и своего гения: сама она была гением страны, духом живущего здесь народа; ее-то дары, ее вдохновение, ее создание видели они повсюду вокруг себя, докуда хватал глаз, — в полях, покрытых масличными деревьями, в испещренных нивами косогорах, в трех пристанях, где дымились арсеналы и теснились разнородные суда, в длинных и крепких стенах, которыми город соединялся с морем, в красоте самого города, который своими храмами, гимназиями, театрами, своим Пниксом, всеми пересозданными памятниками и вновь выстроенными домами одевал хребты и скаты холмов и который своими искусствами, промышленностью, празднествами, своей изобретательностью и своим неутомимым мужеством сделался ’’школой для всей Греции”, распространил свое господство на все сплошь море и свое господствующее влияние на весь греческий народ.
В эти минуты могли раскрыться двери Парфенона и показать среди бездны приношений, ваз, венков, доспехов, колчанов со стрелами и серебряных масок колоссальное изваяние, покровительницу, победоносную деву, стоящую неподвижно во весь рост с копьем на плече и щитом, поставленным сбоку, с Победой из золота и слоновой кости в правой руке, с золотой эгидой на груди и узким золотым шлемом на голове, в длинном золотом одеянии разнообразных оттенков; ее лицо, ноги, руки, плечи выделяются из блеска одежды и оружия теплою, живою белизной слоновой кости, а светлые глаза из блестящего драгоценного камня неподвижно горят в полумраке расписанной целлы. Конечно, измышляя ее ясное, божественное выражение, Фидий задумал силу, мощь, выходящую за все человеческие пределы, одну из тех мировых сил, которые правят ходом всех вещей в природе, тот вечно деятельный разум, который был в Афинах истинною душой страны. Быть может, звучал в его сердце отголосок той новой тогда физики и философии, которые, смешивая еще дух и вещество, смотрели на мысль как на ’’легчайшую и чистейшую из субстанций”, род тонкого эфира, распространенного повсюду и везде для порождения и поддержания порядка в целом мире[122]; так сложилась у него идея, еще превысившая народную: его Паллада превосходила столь важную, уже эгинскую, всем величием того, что вечно. Длинным обходом и все более и более сближающимися кругами проследили мы все зачатки греческой статуи и пришли наконец к той пустоте, которая видна еще и поныне, к тому месту, где возвышалось ее подножие и откуда исчезла величественная ее форма.
ОБ ИДЕАЛЕ В ИСКУССТВЕ
(Посвящается Сен-Бёву)
Предмет и способ этого исследования. — Значение слова идеал.
Милостивые Государи!
Предмет, о котором я буду с вами беседовать, по-видимому, только и доступен одной поэзии. Когда говорят об идеале, говорят языком сердца, души; мысль полна тогда прекрасной неопределенной грезы, которою выражается чувство самое заветное; его высказывают разве только полушепотом, с каким-то сдержанным восторгом; если же рассуждают о нем громко, во всеуслышание, то уж не иначе как в какой-нибудь кантате, в стихах; к нему прикасаются только кончиками пальцев или сложивши руки, как бы на молитву, когда речь идет о счастии, о небе, о любви. Что до нас, мы, по своему обыкновению, станем изучать его, как натуралисты, методически, путем анализа и постараемся прийти не к оде, а к закону.
Надо, во-первых, уразуметь слово идеал; грамматически объяснить его нетрудно. Припомним себе определение художественного создания, найденное нами в начале этого курса. Мы сказали, что художественное произведение имеет целью проявить какой-нибудь существенный или выдающийся характер полнее и яснее, нежели он проявляется в действительных предметах. Для этого художник составляет себе идею того характера и по идее преобразует действительный предмет. Преобразованный на этом основании, предмет становится соответствен идее, другими словами — идеален. Итак, вещи переходят из реальных в идеальные, когда артист воспроизводит их, преобразуя по своей идее; преобразует же он их по своей идее тогда, когда, постигнув в них какой-нибудь особенно заметный характер и выделив его из среды других, он систематически видоизменяет естественные соотношения частей их именно с тем, чтобы выдвинуть этот характер более на вид и придать ему более господствующее значение.
I
Кажется, будто все характеры одинаково ценны. — Логические основания. — Исторические основания. — Различные способы обработки одного и того же сюжета. — В литературе — типы скряги, отца, любовников. — В живописи — картины: Иисус в Эммаусе Рембрандта и Веронезе, мифологические картины Рафаэля и Рубенса, Леды Леонардо да Винчи, Микеланджело и Корреджо. — Безусловная ценность всех значительных характеров.
Между идеями, влагаемыми художником в свои образы, есть ли идеи сравнительно высшие? Можно ли указать в них на характер, который был бы сравнительно лучше других? Существует ли для каждого предмета известная идеальная форма, вне которой все становится уклонением или ошибкой? Можно ли раскрыть закон подчинения, который определял бы иерархически места или ранги различным художественным произведениям?
С первого взгляда кажется, как будто нет; найденное нами определение, по-видимому, преграждает путь к подобного рода исследованию; оно наводит на мысль, что все художественные произведения стоят друг к другу в уровень и что личному произволу открыт здесь полнейший простор. В самом деле, коль скоро предмет становится идеальным по тому лишь одному, что вообще отвечает идее, то все равно, какова она ни будь, выбор вполне зависит от художника: он изберет то или другое по своему вкусу, и нам нечего тут возразить. Один и тот же сюжет можно обделать так или совершенно иначе, или, наконец, на все посредствующие между этими двумя крайностями лады. Мало того, история тут заодно с логикой, и эта теория прямо подтверждается фактами. Всмотритесь в разные века, в разные народы, в разные школы. Художники, рознясь племенем, духом и воспитанием, различно и поражаются одним и тем же предметом: каждый видит его со своей точки зрения, каждый подмечает в нем какой-нибудь новый характер, каждый составляет себе о нем своеобразное понятие, и это понятие, эта идея, воплощенная в новом создании искусства, вдруг воздвигают в галерее идеальных форм новое, изящное произведение, как нового бога на том самом Олимпе, который считался уже полным и без него. Плавт вывел на сцену бедного скрягу Эвклиона; Мольер берет тот же опять характер и создает Гарпагона, богатого скупца. Спустя два века скупец, уже неглупый и неподымаемый на смех, а, напротив, грозный и торжествующий, превращается под рукой Бальзака в отца Гранде, и тот же скупой, перенесенный из своей провинции в столицу, ставший парижанином, космополитом и поэтом-приживальщиком, доставляет тому же опять Бальзаку тип ростовщика Гобсека. Одно и то же положение отца, обижаемого неблагодарными детьми, вызвало последовательно Софоклова Эдипа в Колоне, Шекспирова короля Лира и Бальзакова отца Горио. Все романы и все театральные пьесы представляют молодого человека и молодую женщину влюбленными и стремящимися к браку; но в какой бездне разнообразных лиц являлась эта чета, начиная от Шекспира до Диккенса и от г-жи де Лафайет до Жорж Санд! Итак, влюбленные, отец, скряга, все вообще крупные типы, постоянно могут быть возобновляемы; они беспрерывно менялись до сих пор, да будут меняться и в будущем: изобретать, выходя за черту условности и предания, — именно и есть настоящий признак, единственная слава и как бы родовая обязанность истинного гения.
Если после литературных произведений мы взглянем на пластические искусства, то право свободно выбирать тот или другой характер окажется тут еще более установившимся. Несколько лиц и сцен евангелических или мифологических, можно сказать, одни давали сюжеты любой великой художественной школе, свобода выбора художника явно обнаруживается здесь и в разнообразии произведений, и в большом успехе. Мы не дерзнем превознесть одно перед другим, поставить одно совершенное произведение выше другого, также совершенного, не дерзнем сказать, что надо более держаться Рембрандта, чем Веронезе, или Веронезе более, чем Рембрандта. И посмотрите, однако ж, какой между ними контраст! В картине Эммаусская трапеза Христос у Рембрандта[123] изображен только что воскресшим, — мертвенное, желтое, страдальческое лицо, испытавшее могильный холод; грустный, полный соболезнования взор Его останавливается еще раз на бедствиях человеческих; близ Него два ученика, старые, утомившиеся труженики, с лысыми, убеленными сединой головами; они сидят у харчевенного стола; мальчишка-дворник глядит на них с глупым выражением, голова Распятого пришельца с того света окружена чудным неземным сиянием. В картине Христос со ста флоринами (le Christ aux cent florins) та же идея проявляется опять еще сильнее: это именно Христос простонародия. Спаситель бедных, Он стоит в одном из тех фламандских подвалов, где некогда молились и ткали гонимые лолларды; нищие в лохмотьях, лазаретные бедняки простирают к Нему умоляющие руки; неуклюжая крестьянка на коленях не сводит с Него своих полных глубокой веры широко раскрытых глаз; подвозят лежащего поперек тележки расслабленного: дырявые лохмотья, ветхие, засаленные и выцветшие от непогоды плащи, золотушные или изувеченные, бледные, изнеможенные или оживотненные лица, жалкое сборище отверженцев и больных, нечто вроде подонков человечества, на которых счастливцы того времени, толстобрюхий бургомистр, зажиточный разжиревший горожанин, смотрят с наглым равнодушием, но над которыми всеблагой Христос распростирает свои исцеляющие руки, а сверхъестественное Его сияние проницает между тем полумрак и отражается даже на заплесневелых стенах. Если бедность, горе и темнота, сквозь которую едва мерцают лучи света, могли доставить истинно художественные произведения, то богатство, веселье, теплый и смеющийся свет белого дня доставляют, в свою очередь, такое же произведение. Присмотритесь в Венеции и в Лувре к трем картинам Веронезе, изображающим Христа за трапезой. Необъятное небо высится над целой архитектурой баляс, колоннад и статуй; блестящая белизна и пестрые узоры мраморов обрамляют сборище мужчин и женщин за веселым пиром; это — пышное венецианское празднество, и притом именно XVI столетия; посреди находится Христос, а длинными рядами вокруг него едят и посмеиваются вельможи в шелковых епанчах, принцессы в парчовых платьях, между тем как левретки, маленькие негритята, карлики, музыканты забавляют зрение и слух присутствующих. Черные с серебром симарры стелются волною рядом с шитыми золотом бархатными юбками; кружевные воротнички охватывают атласную белизну шей; в русых косах светятся жемчуга; цветущие румянцы выдают силу молодой крови, легко и обильно текущей в здоровых жилах; умные, оживленные лица вот-вот готовы улыбнуться; на серебристом или розоватом лоске общего колорита — желтизна золота, яркая синь, огнистый багрянец, полосатая зелень, все эти разорванные и сливающиеся, однако, тоны своей чудной и изящной гармонией дополняют поэзию аристократической сладострастной роскоши. С другой стороны, что, скажите, может быть определеннее языческого Олимпа? Литература и ваяние греков вполне установили его тип: в сфере его, кажется, воспрещено всякое нововведение, всякая форма строго обозначена, какому бы то ни было вымыслу прегражден решительно всякий путь. И, однако ж, каждый живописец, перенося его к себе на холст, придает в нем преобладание тому характеру, который прежде не был замечен. Рафаэлевский Парнас представляет нашим глазам прекрасных молодых женщин с совершенно человеческой кротостью и грацией, Аполлона, который, возведя глаза к небу, забывается, вслушиваясь в звуки своей кифары; архитектуру, подчиненную мерным, спокойным формам; скромную наготу, подчеркнутую еще больше трезвостью и почти тусклостью общего тона фрески. Рубенс замышляет такое же создание с противоположными, однако, характерами. Его мифологические картины, бесспорно, всего менее античны. В его руках греческие божества превращаются в лимфатических, полнокровных фламандцев, а его небесные праздники похожи на маски (или машкары), какие Бен Джонсон устраивал в ту же самую пору при дворе Якова I: смелая до дерзости нагота, еще более усиленная блеском ниспадающих драпировок; жирные и белые Венеры, удерживающие своих любовников разгульным жестом куртизанки; плутовские лица смеющихся церер, мясистые, трепетные спины сирен, как нарочно скрученных в такую позу, полные неги извивы живого, гибкого тела, неистовость похотливых порывов, великолепная выставка разнузданного, торжествующего сладострастия, поддерживаемого темпераментом и недоступного внушениям совести, — сладострастия, которое, не выходя из пределов животного чувства, становится поэтическим и — небывалый, можно сказать, факт! — соединяет в своем упоении весь разгул первобытной природы со всей роскошью цивилизации. Тут достигнута опять одна из вершин искусства: ’’колоссальное веселье покрывает и увлекает все, нидерландский Титан обладал такими могучими крыльями, что взлетел чуть не к самому солнцу, хотя целые пуды голландского сыра были привешены к его ногам”[124]. Если, наконец, вместо того чтобы сравнивать двух художников разных стран, вы ограничитесь одной какой-нибудь нацией, то вспомните описанные вам мною произведения итальянцев: эти многочисленные Распятия, Рождества, Благовещения, этих Мадонн с младенцем, эту бездну Юпитеров, Аполлонов, Венер и Диан, а для придания большей точности своим воспоминаниям возьмите лучше одну и ту же сцену, последовательно обработанную кистью трех разных мастеров: Леонардо да Винчи, Микеланджело и Корреджо. Я говорю об их Ледах, известных вам по крайней мере из гравюр. Леда Леонардо стоит стыдливая, опустив глаза, и гибкие, змеистые линии ее тела извиваются с высоким утонченным изяществом; настоящим супругом лебедь почти человечески охватывает ее крылом, а маленькие близнецы, вылупляющиеся из яйца подле, даже и глядят-то по-птичьи, искоса; тайна первобытных времен, глубокое родство между человеком и животным, смутное язычески-философское чутье единой и всемирной жизни нигде не выразились с такой мастерской изысканностью и не обнаружили так вещей догадки столь проницательного и вдумчивого вместе гения. Напротив, Леда Микеланджело — царица колоссальной и воинственной расы, сестра одной из тех чудных дев, которые отдыхают, усталые, в капелле Медичей или мучительно пробуждаются, чтобы возобновить жизненную битву; ее крупное удлиненное тело наделено такими же мышцами и таким же вообще строением; щеки ее худы; в ней нет ни малейшего следа веселья, ни увлечения; даже и в подобный миг она серьезна, почти сурова. Трагическая душа Микеланджело движет эти мощные части, подъемлет этот героический торс и сдвигает этот неподвижный взгляд под нахмуренными бровями. Но вот век повернул в сторону, и мужественные чувства уступают чувствам женственным. У Корреджо сцена превращается в купальню молодых девиц под нежной, кроткой зеленью деревьев, среди журчания и блеска быстрых вод. Все тут очаровывает и манит; мечта блаженства, пленительная грация, полнейшее сладострастие никогда не прельщали и не волновали сердца языком столь вкрадчивым и живым. Краса тела и голов не отличается благородством, но она полна ласки и привлекательности. Круглые и смеющиеся, эти лица лоснятся, как цветки, облитые вешним солнцем; свежесть самой свежей юности скрепляет нежную белизну их пропитанного светом тела. Одна, белокурая, приветливая, легким станом и прической напоминающая молодого мальчика, отстраняет лебедя от себя прочь; другая, миниатюрная, миленькая, шаловливая, держит наготове сорочку; подруга входит в нее, как в сеть, но чуть облекающая ее воздушная ткань не скроет от наших глаз полных очертаний красивого ее тела; далее шалуньи, каждая с небольшим лбом, с пухлыми губками и круглым подбородком, играют в воде, обнаруживая кто своевольство, кто нежность в своем разгуле; Леда увлеклась до того, что отдается : видимой радостью, улыбается, замирает от восторга, и роскошное, упоительное ощущение, веющее ото всей этой сцены, достигает высшего своего предела в ее экстазе и в ее замирании.
Которую же из них предпочесть? И какой характер здесь выше? Пленительная грация переполненного счастья, трагическое величие гордой энергии или глубина сметливой и утонченной симпатии? Все они отвечают какой-нибудь существенной стороне человеческой природы или какому-нибудь существенному моменту человеческого развития. Счастье и горе, здравый ум и мистический бред, деятельная сила или тонкая чувствительность, высокие юлеты тревожного ума и широкий разгул животной радости — все решительные, ясные дороги в жизни имеют свою цену. Целые века и целые народы старались всеми силами выдвинуть их на божий свет; то, что проявилось I истории, воспроизводится в перечне (резюмируется) искусством, и, подобно тому как различные твари природы, каковы бы ни были их строение и их инстинкты, находят себе свое место в мире и объяснение в науке, — точно так же различные создания человеческого воображения, каковы бы ни были одушевляющий их принцип и обнаруживаемое ими направление, находят оправдание себе в критической симпатии и свое место в искусстве.
II
Большая или меньшая ценность различных произведений. — Согласие вкусов и окончательного приговора по многим вопросам. — Авторитет или вес мнения, подтверждаемый самым способом его постановки. — Последнее его. скрепление новейшими приемами критики. — Есть, действительно, законы, определяющие ценность художественного произведения.
И, однако же, в мире фантазии точно так же, как и в мире действительном, реальном, есть различные ступени или места, потому что есть и ценности различные. Публика и знатоки указывают первые и определяют последние. Пробегая в течение трехлетия итальянскую живопись за целых пять веков, мы делали ведь то же самое. Мы везде и на каждом шагу произносили приговор, производили оценку. Сами того не зная, мы не выпускали из рук мерила. Другие поступают подобно нам, и в критике, как и во всяком вообще деле, есть готовые, выработанные уже истины. Каждый признает теперь, что известные поэты, как, например, Данте и Шекспир, известные композиторы, как, например, Моцарт и Бетховен, занимают первенствующее место в своем искусстве. Между всеми писателями нашего века место это единогласно отводят Гете. Между фламандцами никто не оспаривает его у Рубенса, между голландцами — у Рембрандта, между немцами — у Альбрехта Дюрера, между венецианцами — у Тициана. Три художника эпохи итальянского Возрождения, Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэль, по единодушному отзыву, возвышаются над всеми остальными. И эти произносимые потомством окончательные приговоры оправдывают признанный за ними авторитет самым способом своей постановки. Во-первых, в суде о художнике сошлись современники, и это мнение, родившееся из взаимодействия такого множества различных умов, темпераментов и воспитаний, само по себе уже значительно, так как недостаточность каждого отдельного вкуса восполнилась в нем разнообразием других, спорящие между собой предрассудки наконец уравновешиваются, и эта постоянная взаимная корректировка приводит понемногу окончательное мнение все ближе и ближе к истине. За этим настал другой век с совсем новым уже духом, а вслед за ним и опять другой; каждый из них рассматривает и проверяет тяжбу со своей точки зрения; все это и глубокие поправки, и сильные вместе подтверждения. Когда произведение, перебывав, таким образом, перед разными судами, выйдет из них с одинаковой оценкой и судьи, стоящие непрерывной цепью в течение целого ряда веков, согласятся на одном и том же приговоре, тогда очень вероятно, что приговор их справедлив: не будь произведение действительно выше других, оно не соединило бы на себе столько разных сочувствий. Если ограниченность ума, свойственная известным эпохам и народам, и приводит их подчас, как и отдельные личности, к неверному суждению и пониманию, то и тут частные розни во взглядах исправляются, колебания уничтожаются одни другими и постепенно приходят к такому постоянству и к такой правильности, что мы можем разумно довериться мнению, опирающемуся на столь прочные и законные основания. Наконец, сверх этих соглашений инстинктивного, врожденного людям вкуса новейшие способы критики к авторитету здравого смысла присоединяют еще и научный авторитет. В настоящее время критик знает хорошо, что личный его вкус не имеет никакого значения, что ему должно совершенно отстранить свой темперамент, свои наклонности, свою партию, свои интересы, что талант его прежде всего — сочувствие, что в истории первое дело — ставить себя на место людей, о которых намерен судить, входить в их инстинкты и навыки, проникаться их чувствами, переделывать их мысли, воспроизводить в себе их внутреннее состояние, представлять себе во всей подробности и вполне наглядно окружавшую их среду, следить воображением те обстоятельства и впечатления, которые, присоединяясь к их врожденному характеру, определяли их деятельность и направляли их жизнь. Подобный труд, ставя нас на точку зрения художников, дает нам возможность лучше понять их, и так как он состоит из целого ряда анализов, то поэтому наравне со всяким другим научным трудом доступен проверке и усовершенствованию. Держась этого метода, мы могли одобрять или нет известного художника, в одном и том же произведении осуждать одну часть и хвалить другую, определять всему цену, указывать успехи и отклонения, распознавать эпохи процветания и упадка, и все это не по произволу, а на основании известного общего правила. Это-то таинственное правило я постараюсь выяснить, точно определить и доказать перед вами.
III
Определение художественного создания. -- Два условия, какие должно оно выполнять. — Большая и меньшая ценность художественных произведений, смотря по тому, насколько выполнены в них эти два условия. — Применение к подражательным искусствам. — Как и с какими ограничениями то же правило прилагается к искусствам неподражательным.
Для этого рассмотрим по частям полученное нами определение. Отдать предпочтение какому-нибудь видному, преобладающему характеру — вот цель художественного произведения. Итак, чем ближе подойдет оно к этой цели, тем, конечно, будет совершеннее; другими словами: чем точнее и полнее скажутся в нем названные условия, тем высшее займет оно место в общей шкале или иерархии художественных произведений. Условий этих два: необходимо, чтобы характер был как можно более преобладающим и как можно более видным. Рассмотрим поближе эти два вменяемые артисту обязательства. Для сокращения труда я разберу одни лишь подражательные искусства, скульптуру, драматическую музыку, живопись и литературу, а главным образом — два последние. Этого довольно, так как вам известна связь, соединяющая подражательные искусства с теми, которые не подражают[125]. И те и другие стараются выдвинуть преобладающим какой-либо особенно заметный характер. Те и другие достигают этого, употребляя совокупность неразрывно связанных между собой частей, взаимные отношения которых они комбинируют или видоизменяют. Единственное различие то, что подражательные искусства, живопись, скульптура и поэзия воспроизводят формы органической и нравственной связи и создают произведения, соответственные реальным предметам, между тем как другие искусства, т. е. музыка в тесном смысле и архитектура, комбинируют математические отношения, чтобы создавать произведения, не отвечающие действительным предметам. Но построенные таким образом симфония или храм — существа живые точно так же, как написанная поэма или нарисованное лицо, потому что они тоже организованные существа, которых все части зависят друг от друга и управляются одним и тем же руководящим началом; они также имеют свою физиономию, также обнаруживают известное намерение, также говорят своим особенным выражением и также производят известный эффект. По всему этому они такие же точно идеальные создания, как и другие, подчинены одинаковым законам образования и одинаковым критическим правилам; они представляют лишь отдельную группу в целом разряде художественных произведений, и с некоторым заранее известным ограничением истины, открываемые помимо них, применяются и к ним.
Отдел первый. Степень важности характера
I
В чем заключается важность характера. — Принцип соподчинения характеров в естественных науках. — Важнейший характер или признак всех неизменнее. — Примеры из ботаники и зоологии. — Он приводит и уводит с собой и другие важные и малоизменчивые характеры. — Примеры из зоологии. — Он не так переменчив, потому что изначален (элементарен). — Примеры из зоологии и ботаники.
Что же такое выдающийся характер и прежде всего как узнать, действительно ли один из двух данных характеров важнее другого? Вопрос этот переносит нас прямо в область наук, так как речь здесь идет о существах самих в себе, а оценить характеры или признаки, из которых состоят существа, и есть именно дело науки. Нам надо заглянуть в естественную историю; я не извиняюсь в этом перед вами; если предмет покажется вам сначала сухим и отвлеченным — не беда и то. Родственная связь, соединяющая искусство с наукой, — честь как для одного, так и для другой; слава науке, дающей красоте главнейшие свои опоры; слава искусству, в самых высоких своих построениях опирающемуся на истину.
Около ста лет тому назад естественные науки открыли то правило оценки, которое мы сейчас позаимствуем у них для себя: это закон соподчинения характеров; все классификации ботаники и зоологии построены на основании этого закона, и важность его доказана вполне столь же неожиданными, как и глубокими открытиями. В растении и в животном некоторые характеры признаны более важными, нежели другие; это те, что наименее изменчивы; на этом основании они обладают большей против других силой, ибо лучше выдерживают напор тех внутренних или внешних обстоятельств, которые могли бы разложить или видоизменить их. В растении, например, рост и величина не так важны, как структура, строение, ибо некоторые побочные черты внутри и некоторые побочные же условия вовне могут изменить величину и рост, нимало не влияя на строение. Горох, ползущий по земле, и акация, разрастающаяся в вышину, — очень близкие друг к другу бобовые; стебель ржи в какие-нибудь три фута и бамбук в несколько десятков футов вышиной — тоже родственные между собой злаки; один и тот же папоротник, в нашем климате ничтожный по величине, под тропиками разрастается в громадное дерево. Точно так же у позвоночного животного число, расположение л употребление частей тела не так важны, как присутствие или отсутствие сосцов. Оно может быть водяным, земноводным, воздушным, подвергнуться всем переменам, неразлучным с переменой обиталища, и от этого все-таки не изменится и не уничтожится телесный склад, дающий ему способность кормить своим молоком детенышей. Летучая мышь и кит — млекопитающие точно так же, как и человек, собака, лошадь. Образовательные силы, утончившие органы летучей мыши и изменившие руки ее в крылья, сомкнувшие, окоротившие и почти комкавшие задние члены кита, ни у того, ни у другого животного не имели влияния на орган, дающий детенышу его пищу, и как летучее млекопитающее, так и плавучее остаются оба братьями ходячему. То же самое увидим мы во всей лестнице существ и во всей лестнице характеров. Иное органическое расположение — такая веская тяжесть, то ни одна из сил, способных двигать меньшие тяжести, не в состоянии стронуть ее с места.
Вот почему, если двинется одна из этих масс, она увлекает за собою соразмерные другие. Иначе говоря: чем неизменнее и важнее какой-либо характер, тем неизменнее и важнее будут приводимые и уводимые им собой характеры. Например, существование крыльев, будучи характером весьма второстепенным, влечет за собой небольшие только видоизменения вовсе не влияет на общий строй тела. Животные различных между собой пассов могут иметь крылья одинаково; рядом с птицами стоят крылатые млекопитающие, как, например, летучая мышь, крылатые ящерицы, как древний пальцекрыл, летучие рыбы, каковы долгоперы. Даже самое приспособление животного к лету до того здесь незначительно, что оно встречается и в многоразличнейших отделах; не только иные позвоночные, но и многие суставчатые обладают крыльями; с другой стороны, способность эта до того маловажна, что в одном и том же классе она то появляется, то отсутствует; пять семейств насекомых летают, а последнее, бескрылое, нет. Напротив, наличие сосцов, будучи особенностью весьма важной, влечет за собой значительные видоизменения и определяет строй животного в главных его чертах. Все млекопитающие принадлежат к одному отделу; всякое млекопитающее есть уж неминуемо и позвоночное. Мало того, присутствие сосцов всегда ведет с собой двойное кровообращение, живородность, окружение легких грудной плевой, от чего свободны все другие позвоночные, птицы, пресмыкающиеся, земноводные и рыбы. Вообще прочтите название известного класса, известного семейства, какого-нибудь отдела живых существ — название это, выражающее существенный характер, покажет вам расположение органов, взятое за отличительный признак. Прочтите затем две-три следующие строки, вы найдете там ряд признаков, всегда неразлучных с первым; важность и количество их служат мерилом величины тех масс, которые с ним вместе появляются и исчезают.
Если теперь мы поищем причину, которая дает известным характерам особенную важность и прочнейшее постоянство, то почти всегда откроем ее путем следующего соображения: всякое живое существо состоит из двух частей — из элементов, или основ, и внешнего их склада; склад является впоследствии, элементы первичны; можно повернуть вверх дном склад, не изменив ни в чем элементов; нельзя изменить элементы без того, чтоб не перевернуть вверх дном склада. Итак, должно различать два рода характеров: одни глубокие, заветные, изначальные, основные — это элементы, или материалы; другие поверхностные, внешние, производные, наносные — это характеры, относящиеся к складу, или расположению. Таков закон самой плодотворной в естественных науках теории аналогий, которой Жоффруа Сент-Илер объяснил строение животных, а Гёте — строение растений. В костяке животного должно различать два слоя характерных признаков: один содержит в себе анатомические части и их связи; другой — их удлинения, укорочения, спаи и разные приспособления для той или другой потребности. Первый слой изначален, второй — производный; одни и те же суставы, при одних и тех же соотношениях, находятся в руке человека, в крыле летучей мыши, в передней ноге лошади, в кошачьей лапке, в плавнике кита; у других животных, у медяницы, у боа, те члены, которые стали бесполезными, существуют только уже в виде следов, и сохранение этих зародышных частей, равно как и эта устойчивость в единстве плана, свидетельствует о могуществе первичных, элементарных сил, которого никакие дальнейшие превращения не успели вполне уничтожить. Так же точно дознано, что все части цветка, первоначально и в основе своей, те же листья и это различение двух природ, одной — существенной, другой — второстепенной, объяснило нам происхождение пустоцвета, уродливостей и разные столько же многочисленные, как и темные аналогии, противопоставляя первоначальный склад основы всякой живой ткани тем складам, швам и узорам, которые ее разнообразят и совершенно переряжают. Из этих частных открытий введено общее правило: чтобы распознать самый важный характер, надобно рассматривать существо в первом его начале или в его материалах, наблюдать его в простейшей форме, как это делается в эмбриологии, или подмечать общие его элементам отличительные признаки, как делается в анатомии и физиологии. В самом деле, по обнаруженным в зародыше признакам или по способу развития, общего всем сплошь частям, мы распределяем ныне всю необъятную массу растений; два эти характера до того важны, что они взаимно влекут за собой друг дуга, и оба вместе содействуют к установке одной общей классификации. Смотря по тому, снабжен ли зародыш первичными листочками или нет, обладает он одним или двумя из них, мы относим его к одному из трех отделов растительного царства. Если у него два таких листика, то ствол его состоит из концентрических слоев, более твердых к центру, нежели к окружности, его корень образуется начальной осью, его цветочные кольца (мутовки) почти всегда составлены из двух или пяти частей, а не то из их сложных чисел. Если у него один только листок, то ствол его состоит из раздельных пучков, он более мягок к центру, чем в окружности, его корень образуется второстепенными осями, цветочные кольца почти всегда составлены из трех частей или их сложных чисел. Столь же общие и постоянные соответствия встречаются и в животном царстве. Вывод, какой естественные науки завещали после всех своих работ наукам нравственным, окончательно состоит в том, что характеры более или менее важны, смотря по большей или меньшей силе, им свойственной, что мера этой силы дается степенью сопротивления их всякому напору, что, следовательно, смотря по большей или меньшей их неизменности, им отводится в общей иерархии более или менее высокое место, что, наконец, неизменность их тем устойчивее, надежней, чем глубочайшим слоем легли они в основу данного существа и составляют не внешний склад его, а самые элементы.
II
Применение того же начала к нравственному человеку. — Средство определить порядок соподчинения характеров в нравственном человеке. — Степень их изменчивости, определяемая историей. — Порядок в устойчивости характеров. — Характеры минуты и моды. — Примеры. — Характеры, держащиеся в течение целой половины исторического периода. — Примеры. — Характеры, держащиеся во весь исторический период. — Характеры, держащиеся только в известный возраст народа. — Примеры. — Характеры, общие народам одноплеменным. — Характеры, общие всему высшему человечеству. — Самые устойчивые характеры вместе с тем и самые элементарные, основные. — Примеры.
Применим это начало к человеку, прежде всего к нравственному человеку и к тем искусствам, которые предметом своим берут именно его, т. е. к драматической музыке, к роману, театру, эпопее и к литературе вообще. Какой здесь чин, какой порядок важности характеров и как выяснить различные степени их переменности? История дает нам очень верное и простое средство: события, влияя на человека, изменяют далеко не равномерно различные замечаемые в нем слои понятий и чувств. Время скребет, раскапывает нас, как землекоп почву, и обнажает этим нашу нравственную геологию; под его усиленной работой исчезают, один за другим, наши земляные пласты, иные медленнее, иные скорее. Первые удары его заступа легко разгребают рыхлую почву, нечто вроде намывной земли, мягкой и нанесенной снаружи; затем идут более вязкие хрящи, пески, слежавшиеся
от нагнета, и для срытия их понадобится уже гораздо больше труда. Пониже простираются известняки, мраморы, многоярусные сланцы, все упорные и плотные; потребны целые века неустанных работ, глубокие раскопки, многочисленные взрывы, чтобы одолеть их. Еще ниже идет в бесконечную глубь первобытный гранит, опора всего остального, и как бы ни были мощны усилия веков потрясти ее, им никогда не разрушить ее совершенно.
На поверхности человека мы видим нравы, понятия, известный строй ума, продолжающиеся всего три или четыре года: это дело моды и минуты. Путешественник, пустившийся в Америку или в Китай, по возвращении не найдет уже Парижа таким, каким его оставил. Он чувствует себя провинциалом, отчужденником; тон шуток значительно изменился; словарь клубов и маленьких театров стал не тот; первенствующий везде щеголь щеголяет уже иначе; он носит другие жилеты, другие галстуки; его скандалы и дурачества производят эффект в ином уже смысле, самое название дано ему новое: у нас поочередно перебывали petit-maitre, incroyable, mirliflor, le dandy le lion, gandin, cocodes и petit creve. Достаточно нескольких лет, чтобы смести и заменить имя и вещь новыми; такие умственные перемены измеряются туалетными; из всех человеческих характеров это самый поверхностный и нестойкий. Под ним простирается слой характеров, несколько более прочных; он держится двадцать, тридцать, сорок лет, около половины какого-нибудь исторического периода. Мы недавно видели окончание одного из них, центром которого был 1830 год, говоря приблизительно. Господствующий тип этого времени вы найдете в Антони Александра Дюма, первых любовниках театра Виктора Гюго, в воспоминаниях и рассказах ваших отцов и дядюшек. Это — человек с великими страстями и мрачными грезами, энтузиаст и лирик, политик и бунтовщик, гуманист и новатор, на вид слабый грудью, с фатальной наружностью, с трагическими жилетами и той крайне эффектной прической, которую можно видеть на эстампах Дивериа; теперь он кажется нам напыщенным и вместе наивным, но мы не можем не признать в нем пылкости и великодушия. Короче, это плебей в новом роде, богато одаренный способностями и желаниями, который, в первый раз взобравшись на вершины света, шумно выставляет напоказ смущение, овладевшее его сердцем и умом. Чувства и понятия его — принадлежность целого поколения, вот почему надо, чтобы прошло это поколение, — тогда исчезнут и они. Таков второй открытый нами слой; время, употребляемое историей для его сноса, показывает вам степень его важности, определяя степень его глубины.
Теперь мы подошли к слоям третьего порядка, слоям чрезвычайно плотным. Составляющие их характеры длятся целый исторический период, вроде, например, средних веков, Возрождения или эпохи так называемого классицизма. Одна и та же форма духа господствует тогда в течение одного или многих веков и противится глухим, незаметным трениям, яростным разгромам, всем подкопам и взрывам мин, направленным против нее во все это время. Наши деды видели исчезновение одной такой формы, т. е. классического периода, окончившегося в политике с революцией 1789 года, в литературе — с Делилем и Лафонтеном, в религии — с появлением Жозефа де Местра и падением галликанизма[126]. Началась же она в политике с Ришелье, в литературе — с Малербом, в религии — с той мирной и самородной реформой, которая в начале XVII столетия обновила французский католицизм. Она держалась около двух веков, и распознать ее можно по бросающимся в глаза приметам. Костюм кавалера и храбреца на словах, в каком щеголяли франты поры Возрождения, сменился той в самом деле представительной одеждой, какая прилична в гостиных и при дворе: парик, широкие штаны с красивой окладкой понизу (canons), костюм, удобный вообще и как нельзя лучше подходящий к размеренным и вместе разнообразным жестам светского человека, — шелковые ткани, шитые, раззолоченные, убранные кружевом, приятный и величавый наряд, как нарочно созданный для вельмож, которые хотят блистать и не уронить при этом своего сана. Среди беспрерывных, незначительных изменений костюм этот держался вплоть до той поры, когда простые брюки, республиканский сапог и серьезный, черный утилитарный фрак заменили башмаки с пряжками, гладко натянутые шелковые чулки, кружевные жабо, цветистые жилеты и розовый, нежно-голубой или светло-зеленый кафтан, бывшие дотоле придворной модой. Во весь этот промежуток времени господствует характер, приписываемый нам Европой и теперь, — характер вежливого, галантного француза, мастера в уменье щадить самолюбие других, краснобая, который, как более или менее отдаленный снимок с версальского царедворца, остался верен благородству стиля и всем монархическим приличиям в языке и манерах. К этому присоединяется или отсюда вытекает целая группа доктрин и чувств: религия, государство, философия, любовь, семейная жизнь принимают тогда отпечаток господствующего характера и эта совокупность нравственных наклонностей образует один из тех крупных типов, которые навсегда сохранятся в человеческой памяти, потому что она признает и в нем одну из главных форм человеческого развития.
Сколько бы ни были прочны и устойчивы эти типы, но умирают и они. Вот уже восемьдесят лет, как, отдавшись демократическим порядкам, француз начал отчасти терять свою вежливость и большую часть своего галантерейного лоска, стал горячить, разнообразить и изменять свой слог, понимать совершенно на новый лад все великие интересы общества и духа. Любой народ, в свою продолжительную жизнь, переходит много подобных обновлений и все-таки, однако ж, остается самим собой не только в силу преемственности составляющих его поколений, но и в силу устойчивости основного его характера. Вот из чего состоит первичный пласт; под могучими слоями, которые уносятся сменной чередой исторических периодов, идет вглубь несравненно более могучий кряж, которого не одолеть и самим историческим периодам. Пересмотрев поочередно все великие народы с первого появления их до настоящего времени, всегда вы найдете у них группу инстинктов и способностей, над которыми бесследно прошли всякие перевороты и разгромы, даже самая цивилизация. Эти способности и эти инстинкты просто уже в крови и передаются вместе с ней; чтобы изменить их, надо изменить кровь, т. е. необходимы нашествие, прочное завоевание и, стало быть, племесмешение или, по крайней мере, Перемена физической среды, т. е. переселение и медленное влияние нового совсем климата, — короче, преобразование темперамента и телосложения. Если в одной и той же стране кровь остается почти чистой, то та же самая душевная и умственная основа, которая обнаружилась в первых прадедах, окажется и в последних внуках. Ахеец Гомера, красноречивый и болтливый герой, на поле битвы рассказывающий своему противнику разные родословия и истории, прежде чем угостить его тычками копья, в сущности, тот же ведь Еврипидов афинянин, философ, софист, безотвязный спорщик, возглашающий на сцене школьные сентенции и судебные речи народной сходки; позже мы встречаем его в том гречишке (Graeculus), дилетанте, прихвостне, прихлебателе времен римского господства, в спорщике-богослове Восточной империи; Иоанны Кантакузины и разные говоруны, препиравшиеся не на живот, а на смерть о всякой небывальщине, — истинные сыны Нестора и Улисса. После двадцати пяти веков цивилизации и следовавшего за ней упадка держится все тот же дар слова, анализа, диалектики и тонких мудрований. Подобно этому, англосакс, каким мы можем распознать его сквозь нравы, гражданские законы и древние стихотворения варварской эпохи, род дикого зверя, кровожадного и готового на бой, но вместе с тем героического и одаренного самыми благородными нравственными и поэтическими инстинктами, — этот самый англосакс, после пятисот лет норманнского завоевания и бездны заимствований у французов, появляется опять на страстной и полной фантазии сцене Возрождения, в голом и бесстыдном разгуле реставраций, в мрачном и суровом пуританизме революционной эпохи, в основании политической свободы и торжестве нравственной литературы, в энергии, гордости, печали, в возвышенности привычек и житейских правил, которые поддерживают труженика и гражданина в Англии теперь. Взгляните на испанца, каким описывают его Страбон и латинские историки, одинокого, надменного, неукротимого, одетого во все черное, и посмотрите на него позже, в средние века: он тот же в главных чертах своих, хотя вестготы влили ему немного новой крови; он все так же упрям, несговорчив, полон гордости; припертый маврами к самому морю и отвоевывая у них свою родину шаг за шагом в восьмивековых крестовых походах, еще более возбужденный и закаленный долгой и однообразной борьбой, фанатический и ограниченный, замкнутый в инквизиторские и рыцарские нравы, он все тот же во времена Сида, при Филиппе II, при Карле II, в войну 1700 года и в войну 1808 года и в том хаосе деспотизма и возмущений, который переживает он теперь. Посмотрите, наконец, на галлов, предков французского народа: римляне отзывались на их счет, что они особенно гордятся двумя вещами — умением храбро сражаться и ловко говорить[127]. Это в самом деле крупные природные дары, всего больше заметные в наших произведениях и в нашей истории: с одной стороны, воинский дух, блестящая и подчас безумная храбрость; с другой — литературный талант, приятность в разговоре и утонченность в слоге, в выражении. Едва лишь успел сложиться в XII столетии наш язык, как в литературе и нравах появляется веселый француз, остроумный проказник, охотник позабавиться и позабавить других, говорун, умеющий вести речь с женщиной, жаждущий блеска, готовый хоть на смерть из одного хвастовства, а также из чистого увлечения, крайне чувствительный к идее чести, менее чувствительный к идее долга — таков истинно французский тип. В старинных песнях и сказках, в Романе Розы, у Карла Орлеанского, у Жуанвиля и Фруассара вы найдете его таким, каким увидите позже у Вийона, Брантома и Рабле, каким он является в блистательную свою пору, во времена Лафонтена, Мольера и Вольтера, в прелестных гостиных XVIII столетия и вплоть до века Беранже. То же и со всяким другим народом: достаточно сравнить какую-нибудь эпоху его истории с современной эпохой истории другого народа, чтобы из-под второстепенных уклонений распознать национальную основу, всегда неприкосновенную и упорную.
Это и есть первобытный гранит; он длится во всю жизнь народа и служит основным кряжем для всех позднейших слоев, которые в последовательные периоды осядут на поверхность. Станете вы искать еще и того ниже, вы найдете еще более глубокие основания — те темные и гигантские пласты, которые начинает теперь освещать лингвистика. Под народными характерами лежат племенные. Некоторые общие черты выдают исконное сродство между различными по гению или духу народами; латаны, греки, германцы, славяне, кельты, персы, индусы — все это отпрыски одного и того же древнейшего корня; ни переселения, ни помеси, ни перемены темперамента не могли заглушить в них некоторых философических и социальных наклонностей, некоторых общих им приемов в постижении нравственности, в понимании природы, в способе выражать мысль. С другой стороны, эти основные, общие им всем черты не встречаются ни у какого другого племени, ни у семита, ни у китайца; у тех есть опять особые своеобразности того же основного порядка. Различные племена соотносятся между собой нравственно точно так же, как позвоночное, суставчатое, слизняк относятся друг к другу физически: это существа, сложенные по разным планам и принадлежащие к различным отраслям. Наконец, в самом нижнем ярусе находятся характеры, свойственные всякой высшей породе, способной к самобытной цивилизации, т. е. наделенной даром общих идей, выпавшим на долю человека и ведущим его к установлению обществ, верований, наук и искусств; подобные наклонности существуют независимо от всех племенных различий, и физиологические разности, столь решительно влияющие на все остальное, бессильны и немощны против них.
Вот в каком порядке ложатся один на другой слои чувств, идей, способностей и инстинктов, составляющих человеческую душу. Вы видите, как со спуском от верхних к нижним они постепенно утолщаются и как относительная важность их измеряется их устойчивостью. Закон, взятый нами у естественных наук, применим здесь вполне и оправдывается во всех своих последствиях. Самые устойчивые характеры как в истории людского быта, так и в истории естественной всегда самые элементарные, самые постоянные и самые общие из всех. В любой психологической особи, как и в чисто лишь органической, следует различать характеры первичные от позднейших и второстепенных, существенные элементы от внешнего склада, возникающего потом. Итак, характер элементарен тогда, когда он общ всем действиям человеческого разумения: такова способность мыслить посредством быстро возникающих (в уме) образов или посредством длинных рядов идей, точно между собой сопряженных; она принадлежит не некоторым только частным приемам разумения, она господствует во всех областях человеческой мысли и оказывает свое влияние во всех произведениях человеческого ума; как скоро человек судит, воображает и говорит, способность эта непременно тут налицо, и притом как главный распорядитель, как хозяин, она толкает его в одну какую-либо сторону и преграждает ему известные исходы. То же и с другими способностями. Итак, чем элементарнее, первичнее характер, тем шире его влияние. А чем шире его влияние, тем он более устойчив. Только весьма общие состояния или положения, а следовательно, и весьма общие только наклонности способны определять собой исторические периоды и господствующий в них преобладающий тип — тип сбитого с пути и неудовлетворенного плебея нашего времени, придворного вельможи и салонного господина времен новоклассицизма, одинокого и независимого барона эпохи средних веков. Характеры гораздо более заветные и неразрывно связанные с физическим темпераментом составляют то, что зовется народным гением или духом: в Испании — потребность в жестком и пронзительном ощущении и страшный потом взрыв возбужденного и сосредоточенного в себе воображения; во Франции — потребность в отчетливых и связных между собой идеях и свободный ход быстрого, подвижного ума. Отличительный характер целых пород, например китайской, арийской, семитской, слагается из самых элементарных, первичных наклонностей, каковы язык, наделенный или ненаделенный грамматикой, склад предложений, способный к периодичности или нет, мысль, то ограниченная сухим алгебраическим обозначением, то гибкая, поэтическая и богатая оттенками, то страстная, жесткая и готовая к неудержному взрыву. И тут, как в естественной истории, необходимо всмотреться в зародыш едва начинающегося ума, чтобы распознать в нем отличительные черты ума развитого и полного; характеры первичного возраста знаменательнее всех других; по строю языка и по роду мифов можно прозреть будущую форму религии, философии, общества и искусства, как по присутствию, отсутствию или числу семянодолей угадывают, к какому именно разряду принадлежит известное растение и главнейшие черты его типа. Вы видите, что в царстве людей, точно так же, как в царстве животном или растительном, закон соподчинения характеров или признаков устанавливает одну и ту же иерархию; высшее место и первенствующая важность принадлежат самым устойчивым характерам; а если они так устойчивы, то единственно ведь потому, что как элементарные характеры эти захватывают обширнейшую поверхность и, следовательно, уносятся разве лишь переворотом соответственной тому величины.
III
Лестница или шкала литературных ценностей отвечает шкале ценностей нравственных. — Литературы моды и минуты. — Литература, долее остающаяся в ходу. — Астре я, Клелия, Евфуэс, Адонис, Гудибрас, Атала. — Проверка и обратная проверка закона. — Высшие создания, стоящие особняком среди других, менее удачных сочинений того же писателя: Жиль Блаз, Манон Леско, Дон Кихот, Робинзон Крузо. — Слабые части в произведении великого писателя: маркизы Расина, клоуны и кавалеры Шекспира. — Стойкость и глубина характеров, выводимых в великих литературных созданиях. — Доказательство из новейшего употребления литератур в истории. — Поэмы индусов, испанские романы и драмы, театр Расина, эпопея Данте и Гете. — Выраженные в некоторых произведениях мировые характеры. — Псалмы, Подражание Христу, Гомер, Платон, Шекспир. — Робинзон Крузо, Кандид, Дон Кихот.
Этой лестнице нравственных ценностей отвечает ступенью в ступень лестница ценностей литературных. При одинаковых, впрочем, других условиях, смотря по тому, в какой степени важен выводимый книгой на первый план характер, т. е. насколько он элементарен и устойчив, сама эта книга выходит более или менее прекрасной, и вы сейчас увидите, как пласты нравственной геологии сообщают выражающим их литературным произведениям свою степень силы и долговечности.
Существует, во-первых, литература моды, выражающая модный характер; подобно ему, она держится три, четыре года, иногда менее; обыкновенно она распускается и опадает вместе с древесной листвой каждый год; сюда принадлежат романс, фарс, брошюра, ходячая повесть. Прочтите, если у вас достанет храбрости, какой-нибудь водевиль или шутку 1835 года — книга выпадет у вас из рук. Часто пытаются снова поставить какую-либо из этих пьес на сцену; двадцать лет тому назад пьеса приводила в восхищение, теперь зрители от нее зевают и она как раз исчезает с афиш. Какой-нибудь романс, который распевался чуть не за каждым фортепьяно, возбуждает теперь общий смех: его находят приторным и нелепым, вы встретите его разве только где-нибудь в отсталом захолустье; он выражал одно из тех эфемерных чувств, для которых достаточно самой слабой перемены в нравах, чтобы бесследно исчезнуть; едва успел он выйти из моды, и мы невольно удивляемся, как это люди могли потешаться подобным вздором. Так-то время сортирует бездну появляющихся на свет произведений; вместе с поверхностными и нестойкими характерами оно беспощадно уносит и выражавшие их сочинения.
Другие произведения отвечают несколько более живучим характерам и кажутся чем-то превосходным читающему их поколению. Такова была пресловутая Астрея, написанная д’Юрфе в начале XVII столетия, — пастушеский роман, необычайно длинный, еще более пустой, беседка из зелени и цветов, куда люди, утомленные душегубством и разбоями религиозных войн, сходились послушать вздохи и нежности Селадона. Таковы были романы девицы Скюдери: Кир Великий, Клерия, где преувеличенная, утонченная, накрахмаленная галантерейность, введенная во Францию королевами-испанками, краснобайство в новых оборотах языка, сердечные тонкости, церемониал учтивости развернулись ни дать ни взять как величественные робы и натянутые поклоны отеля Рамбулье. Бездна произведений отличались такого рода достоинством, а теперь они только исторические памятники, не больше; например Евфуэс Лили, Адонис Марини, Гудибрас Бутлера, библейские пасторали Геснера. У нас, пожалуй, и теперь нет недостатка в подобных вещах, но, по мне, лучше уж молчать о них; заметьте только, что еще около 1806 года ”г. Эсменар слыл в Париже великим человеком”[128], и вспомните, сколько произведений казались дивными в начале литературного переворота, пришедшего теперь к концу: Атала, Последний из Абенсеражей, Начезы и многие типы г-жи Сталь и лорда Байрона. Теперь мы прошли уже первую стадию этого поприща, и издали нам виднее та надутость и неестественность, которых современники не замечали. Перед пресловутой элегией Мильвуа Падение листьев мы остаемся так же равнодушны, как и перед Мессенянками Казимира Делавиня; это потому, что оба произведения, полуклассические и полуромантические, своим смешанным характером отвечали поколению, стоявшему на рубеже двух периодов, и успех их длился именно так долго, как было свойственно проявившемуся в них нравственному характеру.
Многие весьма замечательные случаи обнаруживают до очевидности, как ценность всякого произведения возрастает и умаляется вместе с ценностью выраженного им характера. Природа, как нарочно, дает здесь наряду с опытом и средство к обратной его проверке. Можно указать писателей, которые, при двадцати каких-нибудь второстепенных сочинениях, оставили по себе одно первостепенное. И в том, и в другом случае талант, воспитание, подготовка, усилия были одинаковы; однако же в первом из плавильника вышло обыкновенное произведение, а во втором явилось на свет нечто гениальное. Дело в том, что в первом случае писателем были выражены лишь поверхностные, эфемерные характеры, между тем как во втором он схватил характеры долговечные и глубокие. Лесаж написал двенадцать томов романов в подражание испанскому, и аббат Прево — двадцать томов трагических или трогательных новелл; их ищет теперь иной разве только из любопытства, тогда как весь свет прочел Жиль Блаза и Манон Леско. Это потому, что в два, три раза счастливый случай дал под руку художнику такой устойчивый, неизменный тип, которого черты каждый встретит в окружающем обществе или в чувствах своего собственного сердца. Жиль Блаз — это мещанин, разночинец, получивший классическое образование, человек, прошедший в обществе сквозь огонь и воду, которому наконец повезло, человек с довольно покладистой совестью, во всю свою жизнь немножко холоп и немножко плут (picaro), в молодые годы легко мирящийся со светской моралью, вовсе уже не стоик, еще менее того — патриот, не упускающий нигде своего, и не прочь запустить лапу в общественное достояние, но веселый, симпатичный, не лицемер и способный при случае пошутить над самим собою, человек, у которого иной раз шевелится совесть, так как он по природе все-таки ведь честен и добр, и который оканчивает свое поприще добропорядочной и честной жизнью. Подобный характер, посредственный во всем, подобная судьба, крайне перемешанная и пестрая, встречаются нынче и встретятся опять завтра, точно так же, как встречались и в XVIII столетии. Аналогично вМанон Леско куртизанка — вместе с тем и добрая девушка, безнравственная вследствие потребности в роскоши, но привязчивая по инстинкту, способная оплатить под конец одинаковой любовью за безграничную любовь, все принесшую для нее в жертву, — она тип так очевидно долговечный, что Жорж Санд в Леонэ-Леони и Виктор Гюго в Марион Делорм выводят его снова на сцену, только переставив роли наизворот или выбрав в их положении другой момент. Дефо написал двести томов, а Сервантес — не знаю, сколько драм и новелл, один — с правдоподобием в подробностях, с мелочной, сухой точностью делового пуританина, другой — с изобретательностью, блеском, недочетами и великодушием испанца, притом искателя похождений и рыцаря; от одного уцелел Робинзон Крузо, от другого — Дон Кихот. Это потому, что Робинзон прежде всего истый англичанин, весь пропитанный глубокими инстинктами своего племени, явными еще и теперь в матросе и в скваттере[129] родной его страны, неудержный и настойчивый в своих решениях, искренний протестант и библейский начетчик, доступный тем глухим брожениям фантазии и совести, которые приводят к перелому религиозного обращения и к благодати, притом энергический, упорный, терпеливый, неутомимый, рожденный для труда, способный вновь распахать и заселить целые материки; потому, что то же самое лицо помимо своего национального характера еще представляет собой образец величайшего искуса людской жизни и как бы перечень всей людской изобретательности, показывая человека, выхваченного из образованной среды и принужденного путем одиночных своих усилий переоткрыть бездну искусств и промыслов, которых благотворная атмосфера окружала его прежде, как вода окружает рыбу во всякое время и без ее ведома. Подобно этому, в Дон Кихоте вы видите прежде всего испанца-рыцаря и притом умственно больного, каким сделали его восемь веков крестовых походов и преувеличенных, распаленных грез; но сверх этого вы видите в нем один из бессмертных типов человеческой истории, героя-идеалиста, выспреннего мечтателя, исхудалого и избитого, и тут же, лицом к лицу с ним, чтобы усилить впечатление, как нарочно, стоит рассудительный толстяк, позитивист, жирный и вульгарный. Упомянуть ли вам еще об одном из тех вечно живучих, в которых узнают себя и эпоха, и племя, которых самое имя становится ходячим словом в языке, — о Фигаро Бомарше, этом, пожалуй, Жиль Блазе, но более нервном и революционном, нежели тот? И однако же автор был только талантливый человек, не больше; он до того весь кипел остроумием, что не мог, подобно Мольеру, создавать живых людей; но, раз изображая самого себя, со всей своей веселостью, со своими проделками, безобразиями, находчивыми ответами, со своей храбростью, душевной добротой и со своим неистощимым пылом, он, вовсе не думая о том, написал портрет истого француза, и талант его тут поднялся до гения, он превзошел себя самого. Но есть и обратная проверка, есть случаи, когда гений нисходит на степень таланта, простого дарования. Иной писатель, умеющий выводить и одушевлять движением величайшие в мире типы, в массе созданных им лиц оставляет группу неживых характеров, которые, по прошествии какого-нибудь века, кажутся мертвыми и странными до резкости, которые просто смешны и интересны разве только для историков и антиквариев. Например, любовники у Расина все сущие маркизы; у них нет никакого другого характера, кроме одних благоприличных манер: автор, как нарочно, располагал их чувства так, чтобы не восстановить против себя педантов; он хотел сделать их только галантными, а они под руками у него превратились в придворных кукол; и теперь еще иностранцы, даже с хорошим образованием, не могут вынести господ Ипполита и Ксифареса. Точно так же у Шекспира клоуны не забавляют уж больше никого, а молодые его джентльмены кажутся чуть ли не безумными; надо быть критиком и записным любителем, чтобы взглянуть на них с соответственной точки зрения; каламбуры их претят, их метафоры невразумительны; их раздутая галиматья — условный говор XVI столетия, точно так же, как опрятная и вылощенная тирада была речь, требуемая приличием XVI в. Это тоже модные типы, не более; внешность и минутный эффект до того преобладают в них, что все остальное исчезает. Вы видите из двойного этого опыта всю важность глубоких и долговечных характеров; отсутствие их низводит с высоты создание великого художника, а присутствие возводит на высшую ступень произведение и меньшего сравнительно таланта.
Поэтому, читая великие литературные творения, мы найдем, что все они проявляют какой-нибудь глубокий и вековечный характер, и место, ими занимаемое, будет тем выше, чем характер этот глубже и долговечнее. Это, можно сказать, перечни, представляющие уму в осязательной форме то главнейшие черты какого-нибудь периода истории, то основные инстинкты и способности какого-нибудь племени, то известные отрывки человека вообще и те первичные психические силы, которые являются последними крайними причинами людских событий. Для убеждения себя в этом нам нет надобности обращаться к пересмотру всех литератур. Достаточно подметить одно то, как употребляют теперь литературные произведения для нужд истории. Ими-то именно восполняют пробелы и недостатки, встречаемые в памятных записках, в актах дипломатических и законодательных; с необыкновенной точностью и ясностью показывают они нам чувства различных эпох, инстинкты и склонности различных племен и народов, все потаенные великие пружины, которых равновесием держатся общества и которых разлад влечет за собой перевороты. Положительная история и хронология древней Индии почти совершенно ничтожны; но для нас уцелели ее героические и священные поэмы, и в них обнажается перед нами вся душа этой страны, т. е. склад и состояние ее фантазии, громадность и взаимная связь ее грез и дум, глубина и неясность ее философских гаданий, внутренний принцип ее религии и учреждений. Взгляните на Испанию в конце XVI и в начале XVII века; перечитавши Ласарильо де Тормесаи разные плутовские романы, изучивши театр Лопе де Вега, Кальдерона и других драматургов, вы увидите перед собой два живых лица, нищего и кавалера, которые раскроют вам всю дикость и грязь, все величие и все безумие этой странной цивилизации. Чем прекраснее какое-нибудь произведение, тем заветнее, тем задушевней выводимые в нем характеры. Из Расина можно извлечь всю систему монархических чувств Франции XVII века: изображение короля, королевы, принцев крови, знатных царедворцев, фрейлин и прелатов, все господствовавшие в то время идеи — феодальную верность, рыцарскую честь, холопское подслужничество, придворную учтивость, преданность подданного и челядинца, совершенство манер, владычество и тиранию приличий, искусственную и естественную тонкость в оборотах речи, в сердечных движениях, в религии и нравственности — короче, все привычки и чувства, составляющие главные черты так называемых ’’старых порядков” (ancien regime). Две великие эпопеи нового времени, Божественная комедия и Фауст, представляют вкратце две великие эпохи европейской истории. Одна показывает, как смотрели на жизнь средние века, другая — как мы ее нынче понимаем. Та и другая выражают самую высокую истину, до какой дошли два царственных ума, каждый в свою пору. Поэма Данте—картина человека, который, выйдя за пределы этого бренного мира, обозревает мир сверхъестественный, единый, вполне завершенный и действительно сущий; он вступает в него, руководимый двумя силами — восторженной любовью, которая была тогда царицей жизни человеческой, и уставным богословием, царившим над спекулятивной (умозрительной) мыслью; его греза, попеременно то ужасная, то выспренняя, есть та мистическая галлюцинация, которая представлялась в то время совершеннейшим состоянием человеческой души. Поэма Гете — картина человека, который, пройдя все мытарства науки и жизни, вышел изъязвленный, с чувством отвращения; ему претят и та и другая, он блуждает, отыскивает на ощупь какого-нибудь исхода и, наконец покоряясь судьбе, останавливается на практической деятельности; но посреди этой бездны скорбных испытаний, среди бездны вопросов, по которым любознательность его осталась неудовлетворенной, он все-таки прозревает мельком сквозь легендарную его завесу то высшее царство идеальных форм и бесплотных сил, на рубеже которого останавливается мысль и куда проникать дано по временам только сердечным нашим чаяниям и гаданиям. Между множеством превосходных произведений, обличающих существенный характер известной эпохи или известного племени, встречаются такие, которые, по редкому стечению обстоятельств, выражают сверх того еще какое-нибудь чувство, какой-нибудь тип, общие почти всему людскому роду; таковы древнееврейские Псалмы, ставящие единобожного человека (монотеиста) лицом к лицу перед Всемогущим Богом, царем и судьей; таково Подражание Христу, излагающее беседу растроганной души с Богом, полным любви утешителем; таковы поэмы Гомера и диалоги Платона, изображающие: одни — героическую юность человека дела, другие — очаровательную зрелость человека мысли; такова вся греческая литература, которой выпал завидный удел живописать здоровые и простые чувства; таков, наконец, Шекспир, величайший творец душ и глубочайший наблюдатель человека, яснее всех прозревший сложный механизм людских страстей, глухие брожения и неудержные вспышки фантазирующего мозга, нежданные-негаданные погрешности во внутреннем равновесии, тирании плоти и крови, роковые толчки характера и темные сокровенные причины нашего безумства или нашего ума. Дон Кихот, Кандид, Робинзон Крузо — книги подобного же значения. Такого рода вещи переживают и век и народ, создавшие их. Они переступают обычные грани времени и пространства; их поймут везде, где только найдется мыслящий ум; популярность их неистребима, и живучести их нет конца. Вот последнее доказательство соответствия, связывающего нравственную ценность с литературной, и начала, определяющего художественным произведениям их высшее или низшее место, смотря по важности, устойчивости и глубине выраженного в них исторического или психического характера.
IV
Применение того же начала к физическому человеку. — Характерные признаки весьма изменчивы в физическом человеке. — Модная одежда. — Одежда вообще. — Особенности профессиональные и сословные. — Отпечаток исторической эпохи. — Недостаточность истории в определении изменчивости физических характеров. — Подстановка элементарного характера на место упрочившегося впоследствии. — Основные и глубокие характеры физического человека. — Обнаженная мышечная система. — Живая кожа. — Разнообразие пород и темперамента.
Нам остается построить подобную же шкалу, или лестницу, для физического человека и для изображающих его искусств, т. е. для скульптуры и особенно для живописи; согласно прежнему способу, мы, во-первых, поищем, какие характеры в физическом человеке всех устойчивее, так как они-то важнейшие и есть.
Прежде всего, очевидно, что модная одежда — характер весьма второстепенный: она меняется каждые два года или по крайней мере каждые десять лет. То же можно сказать и об одежде вообще: это ведь только внешность, убранство — можно снять ее в один поворот руки; существенно в живом теле только самое живое тело, все прочее — искусственный придаток, не более. Другие характеры, на этот раз принадлежащие самому уже телу, также опять не слишком важны — это частности, происходящие от рода занятий и ремесла. У кузнеца не такие руки, как у адвоката; у офицера не та поступь, что у священника; у поселянина, работающего целый день на солнце, другие мышцы, другой цвет кожи, другой изгиб спины, иные складки на лбу, иная походка, чем у горожанина, замкнутого в своих гостиных или конторах. Конечно, характеры эти обладают некоторой прочностью; человек сохраняет их во всю свою жизнь; раз сложившись, известная складка остается надолго; но довольно было незначительного случая, чтобы произвести их, и довольно будет столь же незначительного другого, чтобы их изгладить. Единственной их причиной была случайность рождения и воспитания: поставьте человека в другие условия, в иную среду — и вы найдете в нем противоположные особенности; горожанин, воспитанный по-мужицки, мужиком будет и смотреть, а мужик, воспитанный на городской лад, приобретает наружность горожанина. Печать происхождения, если сколько-нибудь и удержится после тридцатилетнего воспитания, будет заметна разве только психологу да моралисту; в теле сохранятся от нее лишь неуловимые черты, а заветные, устойчивые признаки, составляющие самую его сущность, лежат гораздо более глубоким слоем, до которого этим мимолетным причинам не дойти.
Есть другого рода влияния, которые, преобладая над душой, оставляют весьма слабые следы на теле; я говорю об исторических эпохах. Система идей и чувств, занимавших человеческую голову при Людовике XIV, была не такова, как теперь, но склад тела почти не изменился с того времени, разве что, вглядевшись в портреты, статуи и эстампы, вы откроете большую тогда привычку к размеренным и благородным позам. Всего сильней меняется лицо; фигура времен Возрождения, насколько она нам известна по портретам Бронзино или Ван Дейка, выражает более энергии и простоты, чем в наше время; за три последние столетия бездна наполняющих нас туманных и меняющихся идей, крайняя многосложность наших вкусов, лихорадочная тревога мысли, непомерная мозговая деятельность, тирания беспрерывного труда утончили, растревожили, измучили выражение нашего лица и взгляда. Наконец, если взять долгие периоды, можно открыть некоторое изменение в самой голове; физиологи, измерявшие черепы XII столетия, нашли их не столь емкими, как наши. Но история, так верно учитывающая все нравственные перемены, отмечает только огулом и слишком недостаточно перемены физические. Это потому, что одно и то же изменение человеческого существа, громадное в нравственном отношении, весьма ничтожно в физическом; какая-нибудь незаметная для нас разность в головном мозгу делает человека безумным, идиотом или гением; социальный переворот, в два или три столетия обновляющий все пружины ума и воли человека, едва касается его органов, и история, дающая нам средства соподчинять между собой душевные характеры, не дает средств подчинять один другому характеры или признаки телесные.
Стало быть, нам надо выбрать иной путь, но и здесь ведущим будет опять-таки принцип соподчинения характеров. Вы видели, что если какой-нибудь характер устойчивее других, то это потому, что он более других первичен, элементарен; причина его долговечности заключается в его глубине. Поищем же в живых телах признаков, свойственных первичным началам; а для этого припомните себе какую-нибудь модель, одну из тех, что постоянно у вас перед глазами, в учебных залах. Вот голый человек; что общего между всеми частями этой одушевленной поверхности? Какой элемент, повторяясь и разнообразясь беспрестанно, встречается, однако ж, в каждом клочке целого? С точки зрения формы это — кость, снабженная сухожилиями и одетая бездной мышц; здесь вот лопатка и ключица, там бедро и бедренная кость; выше — позвоночный столб и череп, каждый со своими сочленениями, впадинами, выпуклостями, своим приспособлением служить точкой опоры или рычагом и с этими жгутами тягучего, подвижного мяса, которые, то сокращаясь, то растягиваясь, сообщают человеку различные положения и движения. Скрепленный суставами скелет, покров мышц, все в логической связи между собой, дивная, мудрая машина действий и усилий — вот основа видимого человека. Если теперь, рассматривая его, вы примете еще в расчет те изменения, какие производят в нем порода, климат и темперамент, мягкость или крепость мышц, различные пропорции частей, разгон в длину или, напротив, подбор стана и членов — у вас в руках будет весь существенный, заветный строй тела, насколько он доступен скульптуре и живописи. Поверх мышечной ткани простирается другая оболочка, также общая всем сплошь частям, — кожа с ее животрепещущими сосочками, то синеватая от сети мелких вен, то желтоватая от соседства сухожильных сплетений, то красноватая от напора крови, перламутровая от соприкосновения с мышечными оболочками, то гладкая до лоска, то шероховатая, с чрезвычайным богатством и разнообразием тонов, светящаяся в тени и животрепещущая при свете, выдающая своей нервной чувствительностью всю нежность пухлой мякоти и постоянное обновление быстро сменяющейся плоти, для которых она не более как прозрачный покров. Если сверх того вы обратите внимание на различия, производимые в коже породой, климатом, темпераментом, если заметите, как у флегматика, холерика или сангвиника она бывает то нежная, вялая, розоватая, белая, бледная, то твердая, плотная, янтарного цвета или железистая — вы получите другой элемент видимой жизни, составляющий область живописца, который выразить может только один колорит. Вот основные глубокие характеры физического человека, и я не считаю нужным объяснять вам, что они устойчивы именно по нераздельности своей с живой особью.
V
Шкала пластических ценностей соответствует этой шкале ценностей физических. — Произведения, представляющие одежду текущего дня или вообще одежду. — Произведения, обнаруживающие особенности профессии, общественного положения, характера и исторической поры. — Хогарт и английские живописцы. — Эпохи итальянской живописи. — Пора детства. — Пора процветания. — Пора упадка. — Произведения итальянцев более или менее совершенны, смотря по тому, насколько преобладает в них чувство физической жизни. — Тот же самый закон в других школах. — Различие пород и темпераментов, выражающееся в различных школах. — Тип флорентийский, венецианский, фламандский, испанский.
Этой шкале, или лестнице, физических ценностей отвечает ступенью в ступень шкала ценностей пластических. При одинаковых во всем прочем условиях картина или статуя выходят более или менее изящны, смотря по тому, в какой степени важен выражаемый ими характер. Вот отчего всего ниже стоят те рисунки, акварели, пастели, статуэтки, которые изображают в человеке не человека, а одежду, и в особенности одежду текущего дня. Иллюстрированные журналы наполнены такими же произведениями; это почти картинки мод; костюм выставляется здесь во всех его крайностях: стан, перетянутый, как у осы, чудовищные юбки, копнообразные, фантастические прически; художнику и дела нет до того, как искажено тут человеческое тело, ему нравится только наличное в ту минуту щегольство, лоск тканей, безукоризненность перчаток, совершенство шиньона. Наряду с журналистом пера, он журналист карандаша; он может обладать большим умом и талантом, но старается угодить только мимолетному вкусу; через двадцать лет костюмы его будут старомодны. Много такого рода очерков, которые были животрепещущими в 1830 году, теперь могут слыть историческими или казаться уже просто смешными. Бездна портретов на наших ежегодных выставках не более как портреты платья, и наряду с живописцами людей есть живописцы муар-антика и атласа.
Другие живописцы, хотя и повыше этих, все-таки остаются еще на нижних ступенях искусства или, скорее, талант идет у них с искусством врозь, это сбившиеся с пути наблюдатели: рожденные писать романы и очерки нравов, они вместо пера взялись ошибочно за кисть. Их поражают особенности ремесла, профессии, воспитания, отпечаток порока или добродетели, какой-нибудь страсти или привычки; Хогарт, Уилки, Мюльреди и множество английских живописцев отличаются этим столь неживописным, но зато совершенно литературным дарованием. В физическом человеке они видят лишь человека нравственного; краски, рисунок, правда и изящество живого тела — все это у них дело второстепенное, зависящее от другого. Главное для них — передать в формах, в красках, в положениях то легкомыслие модной барыни, то честную скорбь какого-нибудь старика-управителя, то уничижение игрока — бездну мелких драм и комедий из действительной жизни, поучительных или забавных, почти всегда имеющих целью внушить добродетель или исправить порок. Собственно говоря, кисть их пишет только души, умы и чувства; они так сильно напирают на эту сторону, что преувеличивают или совсем одеревеняют форму; картины их сплошь выходят карикатурами, но всегда это иллюстрации, и иллюстрации какой-нибудь сельской идиллии или какого-нибудь домашнего романа, который следовало написать Бернсу, Филдингу или Диккенсу. Те же стремления не покидают их и тогда, когда они берутся за исторические сюжеты; они берутся за них не как живописцы, но как историки и изображают нравственные чувства известного лица известной эпохи, взгляд леди Рессель при виде ее осужденного на смерть мужа, благочестиво принимающего причастие, отчаяние красавицы с лебединой шеей Эдифи, когда она нашла своего Гарольда между трупами убитых под Гастингсом. Произведение их, состоя из археологических и психологических данных, обращается за сочувствием разве только к археологам и психологам или уж не иначе как к записным любителям и философам. Далее сатиры или драмы оно не идет, и зрителю просто хочется смеяться или плакать, как при каком-нибудь пятом действии театральной пьесы. Но, очевидно, это какой-то эксцентрический род искусства, это захват живописью того, что принадлежит литературе, или, скорее, это — вторжение литературы в живопись. Наши художники 1830 годов, и Деларош впереди всех, впали в ту же ошибку, хотя и не в такой степени. Красота пластического произведения должна быть прежде всего пластична: искусство всегда роняет само себя, когда, позабыв свойственные ему средства интересовать нас, оно занимает их у других искусств.
Я подхожу теперь к великому примеру, соединяющему в себе все прочее: это — всеобщая история живописи, и прежде всего живописи итальянской, которую я излагаю вам уже в течение трех лет. Целый ряд опытов и обратных им проверок показывает здесь, в продолжение пяти веков, живописное значение того характера, который выведен теорией как сущность физического человека. В известный момент животная сторона человека, это одетый мышцами костяк, это мясо и кожа, столь колоритные и столь чувствительные, были поняты и одушевлены ради самих себя и поставлены выше всего прочего: это и есть великая эпоха; оставшиеся нам от нее произведения слывут самыми прекрасными по единогласному приговору всех; все школы ищут в них для себя образцов и поучений. В другие времена чувство тела было или недостаточно, или смешано с другими стремлениями, подчинено иным любимым целям: это — эпохи детства, порчи или упадка; как бы ни были даровиты художники, они производят тогда только менее значительные или второстепенные создания; талант их дурно применяется к делу, они вовсе не уловили или уловили плохо основной характер видимого человека. Таким образом, повсюду ценность произведения соразмерна степени преобладания этого характера; для писателя главное — создавать живые души, для скульптора и живописца главное — создавать живые тела. На основании этого-то начала распределяются, как вы видели, последовательные периоды искусства. От Чимабуэ до Мазаччо живописец не знает перспективы, лепки, анатомии; осязательное и плотное тело он видит лишь как бы сквозь дымку; крепость, жизненность, действенный строй его, движущиеся мышцы туловища и конечностей нимало его не интересуют; фигуры выходят у него простыми только очертаниями или тенями живых людей, иногда же прямо воспрославленными или бесплотными душами. Религиозное чувство преобладает над пластическим инстинктом; оно представляет глазам богословские символы у Таддео Гадди, нравоучения у Орканьи, серафимские видения у Беато Анджелико. Живописец, задержанный духом средних веков, долго стоит, стучась у дверей великого искусства. Входит же он туда только благодаря открытию перспективы, поискам рельефов, изучению анатомии, употреблению в красках масла — входит с Паоло Уччелло, Мазаччо, Фра Филиппо Липпи, Антонио дель Поллайоло. Верроккьо, Гирландайо, Антонелло да Мессина, которые все воспитались в лавке золотых дел мастера, были друзья или преемники Донателло, Гиберти и других великих ваятелей того времени, все страстно изучили человеческое тело, все язычески удивлялись мышцам и животной энергии, все до того были проникнуты чувством физической жизни, что произведения их, хотя еще старобытные, не гибкие, страждущие буквальным подражанием, отводят им тем не менее единственное в своем роде место и сохраняют за ними всю их цену еще и теперь. Превзошедшие их после мастера только развили ведь далее их же собственное начало; славная школа флорентийского Возрождения признает в них своих основателей; Андреа дель Сарто, Фра Бартоломмео, Микеланджело — все это их ученики; Рафаэль приходил к ним учиться, и половина его гения, конечно, принадлежит им. Там центр итальянского искусства и великого искусства вообще. Господствующей у всех этих мастеров идеей была идея живого, здорового, энергичного, деятельного тела, одаренного всеми атлетическими и животными свойствами. ’’Главное в пластическом искусстве, — говорит Челлини, — уменье хорошо сделать нагих мужчину и женщину”. И он с восторгом говорит об удивительных костях черепа, ”о лопатках, которые, при всяком усилии руки, описывают черты, эффектные до чрезвычайности, о пяти нижних ребрах, которые, при всяком наклонении торса вперед или назад, образуют вокруг пупка очаровательные впадины и рельефы”. ”Ты нарисуешь затем кость, которая помещается между бедрами; она очень красива, и зовут ее крестцом”. Один из учеников Верроккьо, Нанни Гроссо, умирая в больнице, отвернулся от обыкновенного распятия, которое ему было поднесли, и велел подать себе другое, работы Донателло, говоря, что ’’иначе он умер бы с отчаянием в душе — до того ему противны плохо выполненные создания его искусства”. Лука Синьорелли, потеряв нежно любимого сына, велел донага раздеть милый труп и срисовал у него до последней мелочи все мышцы; они были для него главным в человеке, и он запечатлел в памяти мышцы своего ребенка. Тут остается ступить еще один только шаг, чтобы вполне завершить физического человека; надо больше напереть на верхнюю оболочку одетого мышцами остова, на мягкость и на тон живой кожи, на нежную и разнообразную жизненность чувствительных мясистых частей; последний этот шаг совершают Корреджо и венецианцы, и искусство тогда останавливается. С той поры расцвет его закончен, чувство человеческого тела нашло себе полное выражение. Оно начинает затем понемногу ослабевать; оно умаляется, теряет часть своей искренности и серьезности у Джулио Романо, у Россо, у Приматиччо, потом переходит в школьную условность, в академическое предание, в рецепт для мастерских. С этой самой минуты, несмотря на все добросовестные усилия Карраччей, искусство уже портится; оно становится не таким пластическим и более литературным. Трое Карраччей, их ученики и преемники, Доменикино, Гвидо, Гверчино, Бароччи, ищут драматических эффектов, кровавых мученичеств, трогательных сцен и сентиментальных экспрессий. Пошлые сладости дамских прихвостней (чичисбеев) и ханжей примешиваются теперь к остаткам героического стиля. Поверх атлетических тел и взбуравленной мускулатуры вы видите вдруг грандиозные головки, улыбки, полные умиления. Светская, манерная шаловливость проглядывает в ликах мечтательных мадонн, красивых Иродиад, обворожительных Магдалин, каких требует минутный вкус того времени. Живопись пытается передать те самые оттенки, которые предстоит выразить зарождающейся опере. Альбано — чисто будуарный живописец, Дольчи, Чиголи, Сассоферрато — переутонченные, почти не нынешние уже души. С Пьетро да Кортона и Лукой Джордано величавые сцены христианской или языческой легенды превращаются в щегольской салонный маскарад; художник теперь не более как блестящий импровизатор, занимательный и модный, и живопись кончается в то самое время, как начинается музыка, как человеческое внимание перестает всматриваться в энергию тела, чтобы прильнуть к волнениям души.
Если теперь вы обратитесь к великим иноземным школам, то найдете, что условием их процветания и совершенства было преобладание того же характера и что то же самое чувство физической жизни вызвало и в Италии, и здесь великие произведения искусства. Школы различны друг от друга только тем, что каждая представляет собой темперамент, свойственный ее климату и краю. Гений мастеров в том именно и состоит, чтобы создавать тело известной породы, племенное; в этом смысле они — физиологи, точно так же как писатели — психологи; они показывают вам все следствия и все видоизменения темпераментов желчного, флегматичного, нервного или сангвинического, как великие романисты и драматурги показывают все ходы и повороты, все разнообразие фантастической, рассудительной, цивилизованной или непочатой еще души. Вы видели у флорентинских художников тот длинный, тонкий, мускулистый тип с благородными инстинктами и способностями, какой может развиться только у трезвой, изящной, деятельной, остроумной породы, и в сухой притом стране. Я показывал вам у венецианских художников округлые, волнистые и правильно развернутые формы, полное и белое тело, рыжие или светло-русые волосы, тот чувственный, полный ума и счастливый тип, какой может развиться в светлом и, однако ж, влажном крае, посреди таких итальянцев, которые по климату близки к фламандцам и настоящие поэты в деле сладострастия. У Рубенса вы можете видеть белого или бледного, розового или красного, лимфатического или сангвинического германца, охотника до мяса, большого едока, высокого, но довольно толстого уроженца северного и болотистого края; формы у него неправильные, расплывшиеся, преизбыток тела, грубые и распущенные инстинкты, его рыхлое тело тотчас краснеет при наплыве ощущений, легко портится от непогоды и страшно искажается под рукой смерти. Испанские живописцы поставят перед вами тип своего племени, сухое, нервное существо с крепкими мышцами, отвердевшими на суровом ветре его Сьерр (горных хребтов) и под зноем его солнца, — существо упорное и неукротимое, все кипящее чуть сдерживаемыми страстями, все пылающее внутренним огнем, черное, строгое и высохшее среди резкотонных темных тканей и туч угольного дыма, которые, вдруг раскрывшись, покажут вам иногда чудный розовый колорит, живой румянец молодости, красоты, любви, энтузиазма, разлитый по свежим, как полевой цвет, щекам. Чем выше художник, тем глубже проявляет он темперамент своего племени; сам того не подозревая, он, подобно поэту, доставляет истории самый плодотворный, документальный материал; он извлекает и дополняет коренную основу физического существа точно так, как поэт извлекает и дополняет коренную основу существа нравственного, и вот, при помощи картин, историк распознает телостроение и телесные инстинкты данного народа, как по литературным памятникам он распознает умственный строй и умственные наклонности известной цивилизации.
VI
Заключение. — Характер сообщает художественному произведению степень своего собственного значения.
Соответствие тут, стало быть, полное, и характеры вносят с собой в художественное произведение ту именно ценность, какую сами они имеют в природе. Смотря по степени своего собственного значения, они сообщают эту степень и произведению искусства. Проходя сквозь дух писателя или художника, чтобы из мира реального перейти в мир идеальный, они не теряют ни малейшей доли того, что они есть, и после этого путешествия оказываются теми же, какими были до перехода; по-прежнему это — силы более или менее могучие, более или менее устойчивые, способные произвести более или менее обширные и глубокие действия. Теперь понятно, почему иерархия художественных созданий повторяет в себе иерархию характеров. Во главе природы есть верховные силы, властвующие над всеми остальными; во главе искусства есть такие художественные произведения, которые также превосходят все остальные; обе эти вершины стоят друг с другом в уровень, и самые высшие силы природы выражаются самыми превосходными художественными созданиями.
Отдел второй. Степень благотворности характера
Характеры должно сравнить между собою и с другой еще точки зрения. Они ведь естественные силы и поэтому могут оцениваться двояким образом: известную силу можно рассматривать, во-первых, по отношению ее к другим и затем — по отношению к самой себе. Рассматриваемая по отношению к другим, она, конечно, значительнее, когда не только дает им отпор, но и уничтожает остальные. Рассматриваемая по отношению к самой себе, она значительнее тогда, когда общий ход действий этой силы ведет ее не к самоуничтожению, а, напротив, к возрастанию. Таким образом, для нее существуют две разные меры, потому что она подлежит двум разным проверкам или испытаниям: во-первых, подвергаясь действию других сил, затем — подвергаясь своему собственному действию. Первое наше исследование показало нам первый из двух опытов и выяснило тот закон, что более или менее высокое место, занимаемое характерами, зависит от степени их прочности, от того, как долго остаются они сохранными перед напором одних и тех же разрушительных причин. Второе исследование сейчас покажет нам другого рода опыт и определит то более или менее высокое место, какое достается в удел характерам, смотря по тому, насколько, предоставленные самим себе, они сами клонятся к своему уничтожению или же, напротив, к собственному своему развитию через уничтожение или развитие той особи и группы, в которых они совмещены. В первом случае мы постепенно снизошли к тем стихийным, элементарным силам, которые составляют основной корень природы, и вы видели, какая родственная связь соединяет искусство с наукой. Во втором случае мы станем постепенно восходить к тем высшим формам, которые составляют конечную цель природы, и вы увидите здесь родственную связь искусства с нравственностью. Мы сначала рассмотрели характеры по большей или меньшей степени их важности, теперь нам предстоит рассмотреть их по большей или меньшей степени благотворности.
I
Связь и различие двух этих точек зрения. — В чем состоит благотворность нравственного характера. — В единичном лице. — Ум и воля. — В обществе. — Сила любви. — Порядок или чин различных степеней благотворности в нравственном характере.
Начнем с нравственного человека и с выражающих его художественных произведений. Известно, что характеры, свойства, какими он одарен, могут быть благотворны или зловредны или, наконец, смешанны, разнородны, посредственны. Ежедневно мы видим такие отдельные лица и целые общества, которые благоденствуют, увеличивают свою мощь, испытывают неудачи в своих предприятиях, разоряются, гибнут; и всякий раз, как мы взглянем на их жизнь в целой ее совокупности, мы найдем, что падение это объясняется каким-нибудь недостатком общего строя, преувеличенностью известного стремления, несоразмерностью известного положения и известной наклонности, равно как причиною успеха их была стойкость внутреннего равновесия, власть умерить в себе какое-нибудь страстное желание или особенная энергия той либо другой какой-нибудь способности. В бурном потоке жизни характеры являются или отягчающими гирями, или, напротив, облегчающими поплавками, которые то тянут нас на дно, то поддерживают на поверхности. Так устанавливается вторая шкала; характеры распределяются в ней смотря по большей или меньшей степени своей пользы или зловредности, по величине того пособия или затруднения, какое вводят они в нашу жизнь для того, чтобы сохранить ее или чтоб загубить.
Итак, все дело здесь в жизни и для каждого отдельного лица жизнь имеет два главных направления: человек или познает, или действует; поэтому в нем можно различить две главные способности — ум и волю. Отсюда следует, что все характеры, все свойства воли и ума, помогающие человеку в знании и деятельности, благотворны, а все противные тому — вредны. У философа и ученого первыми будут наблюдательность и верная память подробностей в соединении с быстрой разгадкой общих законов и с величайшей осторожностью, подвергающей всякое предположение контролю продолжительных и методических проверок. У государственного человека и дельца такими характерами можно признать известный лоцманский такт, неослабно бдительный и надежный, упорную стойкость здравомыслия, всегдашнюю способность ума быстро приноравливаться к переменам, род внутренних весов, готовых тотчас прикинуть на себе любую из окружающих сил, сдержанное и направленное к практическим целям воображение, невозмутимое чутье на распознание возможного и действительного. У художника это — тонко восприимчивая чувствительность, животрепетная симпатия, внутреннее и невольное воссоздание вещей, быстрое и своеобразное понимание их господствующего характера и самородное творчество всех окружающих тот характер гармоний. В каждой отрасли умственного труда вы найдете группу подобного рода особых расположений. Все это различные силы, ведущие человека к его цели, и ясно, что каждая из них благотворна в своем кругу, так как от порчи, недостаточности или отсутствия этой силы зависит сухость и бесплодность всей подведомой ей области. Аналогично и в том же смысле воля есть также сила, могущество и, рассматриваемая в себе самой, она, конечно, своего рода благо. Мы восхищаемся непоколебимостью решения, которое, будучи раз принято, спокойно выдерживает и острый укол физической боли, и долгую осаду нравственного страдания, бурю мгновенных потрясений, прелесть изысканнейшего соблазна, все разнообразие искусов, которые путем насилия или ласки, умопомрачения или телесного ослабления тщетно пытаются побороть его. Что бы ни было опорой этой решимости — исступление мученика, стоический разум, бесчувствие дикаря, врожденное упрямство или приобретенная гордость, — она сама по себе прекрасна, и не только все элементы ума — ясность, гениальность, находчивость, рассудительность, такт, утонченность, но и все элементы воли — храбрость, почин, деятельность, твердость, хладнокровие — все это составные части того идеального человека, которого мы пытаемся теперь построить; ибо все эти качества — отдельные черты того благотворного характера, который мы сейчас лишь изобразили.
Нам надо теперь взглянуть на этого человека в его социальной группе. Какое именно положение в ней сделает жизнь его благотворною для общества, в котором он живет? Мы знаем те внутренние рычаги, которые полезны для него лично; где же теперь та внутренняя пружина, которая сделает его полезным для других?
Есть одна лишь такая пружина — способность любить; потому что любить — значит ставить себе целью счастье другого, подчиниться ему, отдаться вполне заботам о его благе. Нельзя не признать в этом характера, благотворного по преимуществу; очевидно, он должен быть первым в составляемой нами шкале (благотворных характеров). Нас трогает уже один его вид, в какой бы ни предстал он форме — в форме великодушия, человечности, кротости, нежности или врожденной доброты. Наша симпатия невольно возбуждается присутствием этого чувства, каков бы ни был предмет его, будет ли оно любовью в собственном смысле слова, когда одна человеческая личность всецело отдается личности другого пола и явится союз двух жизней, как бы нераздельно слившихся в одну, или будут то какие-либо семейные привязанности, близкие отношения между родителями и детьми, между братом и сестрой, или же, наконец, раскроется оно в крепкой дружбе, в полном доверии, взаимной верности двух лиц, не соединенных между собой узами крови. Чем обширнее предмет любви, тем мы находим ее прекраснее, потому что благотворность ее расширяется вместе с объемом группы, на которую она действует. Вот отчего в истории, как и в жизни, мы всего больше восхищаемся проявлениями преданности, посвященной службе общим интересам, — восхищаемся патриотизмом, какой видим в Риме во времена Ганнибала, в Афинах — при Фемистокле, во Франции — в 1792 и в Германии — в 1813 году; великим чувством той всеобщей любви к ближнему, которая вела буддистских или христианских миссионеров в среду самых варварских племен; тем страстным рвением, которое поддерживало в трудах множество бескорыстных изобретателей и вызвало в области искусства, науки, философии и практической жизни массу прекрасных и благодетельных подвигов и учреждений; всеми высшими доблестями, которые под именем прямоты, справедливости, чести, готовности на самоподчинение какой-нибудь великой общей идее развивают человеческую цивилизацию и которых заповедь, а вместе и пример дали нам, во-первых, стоики, и в особенности Марк Аврелий. Едва ли нужно говорить, что в этой построенной нами теперь шкале противоположные характеры занимают и обратные, конечно, места. Порядок этот найден уже издавна: благодарные нравоучения древних философов установили его с удивительной верностью суждения и с простотой метода, поистине бесподобной; Цицерон с чисто римским здравомыслием дал краткий их перечень в своем трактате Об обязанностях. Если позднейшие эпохи развили их несколько далее, зато они допустили сюда и много заблуждений; правил как для нравственности, так и для искусства мы все-таки должны искать у древних. Тогдашние философы говорили, что стоик соглашает свой разум и дух с Юпитеровыми[130]; а тогдашние люди могли бы пожелать, чтобы Юпитер соглашал свой разум и свою душу с разумом и душой стоика.
II
Соответствующий порядок в шкале литературных ценностей. — Типы реалистической или комической литературы. — Примеры. — Анри Монье. — Плутовские романы. — Бальзак. — Филдцнг. — Вальтер Скотт. — Мольер. — Типы драматической и философской литературы. — Шекспир и Бальзак. — Типы эпической и народной литературы. — Герои и боги.
Этой классификации нравственных ценностей отвечает ступенью в ступень классификация ценностей литературных. При одинаковых во всем остальном условиях произведение, выражающее благотворный характер, выше произведения, выражающего характер злотворный. Из двух данных произведений, если в обоих, при одинаково талантливом исполнении, выведены одинаково крупные природные силы, произведение, представляющее нам героя, лучше того, в котором изображен негодяй; и в галерее живучих созданий искусства, составляющих окончательно музей мысли человеческой, мы попытаемся, на основании нашего нового начала, установить новый распорядок мест.
На самых низших ступенях находятся типы, предпочитаемые реалистической литературой и комедией, т. е. лица ограниченные, плоские, глупцы, эгоисты, бесхарактерные и пошляки. Это именно те типы, какие дает нам обиходная жизнь или которые невольно вызывают насмешку. Нигде вы не встретите такой полной коллекции подобных типов, как в Сценах из мещанской жизни Анри Монье. И почти во всех лучших романах второстепенные лица набираются таким образом: Санчо в Дон Кихоте, мошенники-обдергаи испанских плутовских романов, мелкие помещики, богословы и горничные у Филдинга, скупые сельские дворяне и злые на язык проповедники у Вальтера Скотта, целая бездна сволочи, кишащая в Человеческой комедии у Бальзака и в современном английском романе, — все это доставит нам много новых еще образчиков. Эти писатели, положив себе задачей изображать людей такими, как они есть, были вынуждены представить их несовершенными, разнокалиберными, вообще плохими, с невыработавшимся или неудавшимся характером, а не то угнетенными общественным положением. Что касается комедии, то достаточно назвать Тюркарета, Базиля, Оргона, Арнольфа, Гарпагона, Тартюфа, Жоржа Дандена, всех мольеровских маркизов, слуг, педантов и лекарей; ей вообще свойственно выставлять на свет все человеческие недостатки. Но великие художники, которые, по требованиям избранного ими рода или по любви к нагой истине, взялись за изучение этих жалких типов, пускали в ход две разные сноровки для того, чтобы прикрыть посредственность и положительную невзрачность изображаемых ими характеров. Или типы эти служат у них только придаточным и оттеночным средством, чтобы тем яснее высказать какое-нибудь главное действующее лицо; такой прием чаще других встречается у романистов; вы можете проследить его в Дон Кихоте Сервантеса, в Евгении Гранде Бальзака, в Госпоже Бовари Гюстава Флобера. Или же они обращают всю нашу симпатию против подобного лица: ведут его от неудачи к неудаче, вызывают против него осуждающий и казнящий вместе смех, нарочно выдают все горькие последствия его несостоятельности, преследуют и искореняют преобладающий в нем недостаток. Восстановленный против него зритель очень доволен этим; видеть уничтожение эгоизма и глупости так же для него приятно, как видеть полное развитие силы и добра; кара злу стоит торжества блага. Это главный прием у всех комиков, но к нему прибегают и романисты, так что успешность его вы можете видеть не только в Смешных жеманницах (Precieuses ridicules), в Школе женщин, в Ученых женщинах и во многих других пьесах Мольера, но и в истории Тома Джонса, найденыша, Филдинга, в Мартине Чезлвите Диккенса и в Старой деве Бальзака. Тем не менее вид этих умаленных или искалеченных душ не может не оставить в читателе смутного чувства какой-то истомы, отвращения, даже раздражения и горечи; если их уж очень много или они занимают главное место, то вас просто берет тошнота. Стерн, Свифт, английские комики времен Реставрации (восстановления монархии при Карле II), многие из современных комедий и романов, сцены Анри Монье под конец отталкивают читателя; удовольствие или одобрение смешивается у него с невольным отвращением; неприятно смотреть на какую-нибудь гадину, даже когда ее давишь; нам лучше хочется видеть создания покрупнее и ростом и характером.
Тут, на этой ступеньке лестницы, помещается целая семья типов, пожалуй и могучих, но все-таки неполных и вообще неуравновешенных. Известная страсть или способность, какое-нибудь предрасположение ума или характера развились в них через меру, как иной гипертрофированный орган в ущерб всему остальному телосложению, среди всякого рода болей и страданий. Такова обычная тема драматических или философских литератур; ведь лица этого разбора способнее всех других доставить писателю неистощимый запас трогательных и ужасных происшествий, случаев борьбы и перелома чувств, всяких вообще внутренних терзаний, необходимых ему для драмы; с другой стороны, они более всех способны обнаружить перед глазами мыслителя различные механизмы ума, роковые черты человеческого строя, все темные силы, действующие в нас помимо нашего сознания и слепо властвующие над нами в жизни. Такие типы вы найдете у греческих, испанских и французских трагиков, у лорда Байрона и Виктора Гюго, в большей части произведений великих романистов, начиная с Дон Кихота до Вертера и Госпожи Бовари. Все они показывали нам разладицу человека с самим собою и с миром, его окружающим, преобладание одной какой-нибудь господствующей страсти или идеи, захватившей все: в Греции это — гордость, озлобление, военный пыл и задор, душегубное честолюбие, мстительность из детской любви, все естественные и самородные в человеке чувства; в Испании и Франции это — рыцарская честь, восторженная любовь, религиозная ревность, все монархические и цивилизованные чувства; а в Европе, в наши дни, — это внутренний недуг человека, недовольного самим собой и обществом. Но ни у кого эта порода пылких и страждущих душ не расплодилась в столь могучих, полных и явственных видах, как у двух великих сердцеведов, Шекспира и Бальзака. Они всегда предпочтительно изображают силу гигантскую, но зловредную для других или для себя. В десяти случаях из двенадцати главное действующее лицо у них мономан или злодей; он одарен самыми утонченными и мощными способностями, иногда чрезвычайным великодушием и нежностью чувств; но вследствие какой-нибудь погрешности внутреннего строя или неуменья владеть собой силы эти ведут его к гибели или обрушиваются зловредно на других; чудная машина разлетается на ходу сама или давит вдребезги прохожих. Прочтите всех шекспировских героев: Кориолана, Готспура, Гамлета, Лира, Тимона, Леонта, Макбета, Отелло, Антония, Клеопатру, Ромео, Джульетту, Дездемону, Офелию — самых героических и самых чистых; все они увлечены пылом слепого воображения, судорожным трепетом безумной чувствительности, тиранией плоти и крови, галлюцинацией идей, неудержимым приливом гнева или любовной страсти; присоедините к ним чудовищные, кровожадные души, которые как львы бросаются на стадо людей, — какого-нибудь Яго, Ричарда III или леди Макбет, всех тех, что выдавили из своих жил ’’последнюю каплю молока человеческой природы”. И у Бальзака вы встретите две группы соответственных фигур: с одной стороны, маньяков Гюло, Клаэса, Горио, кузена Понса, Луи Ламбера, Гранде, Гобсека, Сарразина, Фрауэнгофера, Гамбару — страстных собирателей, смертельно влюбленных, записных художников и отъявленных скупцов; с другой — просто хищных зверей, Нусингена, Вотрена, дю Тилье, Филиппа Бридо, Растиньяка, дю Марсе, Марнеффов, самца и самку, — ростовщиков, мошенников, развратниц, честолюбцев, дельцов; все это сильные чудовищные создания, возникшие из того же замысла, что и у Шекспира, но порожденные с гораздо большим уже трудом, в атмосфере, которой передышало и которую заразило дыханием несравненно большее число человеческих поколений, не с такой уже молодой кровью в жилах и со всеми безобразиями, всеми болезнями, всею испорченностью старой цивилизации. Это самые глубокие литературные создания; они проявляют лучше всех других важнейшие характеры, изначальные силы, что ни есть основные пласты человеческой природы. Читая их, испытываешь какое-то грандиозное волнение — волнение человека, посвящаемого в тайну вещей, допущенного к созерцанию законов, управляющих душой, обществом и историей. Тем не менее произведенное ими на нас впечатление поистине тяжко: мы видели слишком уж много грязи и преступлений; непомерно развитые страсти, в своих неудержимых столкновениях, выставили уже слишком много опустошений и бед. Перед тем как читать книгу, мы смотрели на предметы с наружной их стороны, покойно, машинально, как любой мещанин глядит на обычные однообразные движения какого-нибудь военного развода. Писатель взял нас за руку и повел вдруг прямо на поле битвы; мы видим перед собой яростную схватку целых армий под смертоносным градом картечи, видим, как земля вокруг устилается трупами.
Поднимемся еще ступенью выше, и мы встретим уже типы совершенные, типы настоящих героев. Их много в драматической и философской литературе, о которых я вам говорил. Шекспир и поэты его времени расплодили совершенные образы невинности, благодушия, добродетели, женской нежности; в течение нескольких веков их замыслы появлялись затем под различными формами в английском романе или драме; последних дочерей Миранды и Имогены вы найдете в какой-нибудь Эсфири и Агнесе Диккенса. У самого Бальзака попадаются благородные и светлые характеры: Маргарита Клаэс, Евгения Гранде, маркиз д’Эспар, деревенский лекарь — настоящие образцы в своем роде. На обширном поприще литератур можно даже найти многих писателей, которые с умыслом выводили на сцену чувства самые прекрасные и души самого высшего разбора; таковы Корнель, Ричардсон, Жорж Санд. Один в Полиевкте, Сиде и Горации изображает полный рассудочности героизм; другой в Памеле, Клариссе и Грандисоне заставляет говорить протестантскую добродетель; Жорж Санд в романах Мопра, Франсуа-найденыш, Чертова лужа, Жан де ля Рош и многих еще новейших рисует врожденное великодушие. Наконец, иногда высшего разряда художник, например Гете в своей поэме Герман и Доротея, и особенно в своей Ифигении в Тавриде, Теннисон в Королевских идиллиях и в Принцессе, пытался подняться до самой вершины идеальных небес. Но мы ведь давно уж упали оттуда, и если они туда возвращались, то разве лишь увлеченные художественной пытливостью, своими отшельническими думами и любовью к археологическим поискам. Что касается других, то они выводят на сцену совершенные личности или как моралисты, или как наблюдатели; в первом случае — с тем, чтобы отстоять какое-нибудь положение, причем у них заметен оттенок холодности или решительно предвзятой мысли; во втором случае — с примесью разнообразных человеческих черт — коренных погрешностей, местных предрассудков, старых, вскоре ожидаемых или только возможных заблуждений, которые, правда, приближают идеальное лицо к лицам действительным, реальным, но зато и туманят блеск его красы. Воздух зрелых годами цивилизаций неблагоприятен для идеальной личности; она уместна в эпических и чисто народных литературах, когда неопытность и невежество еще предоставляют воображению полную свободу. Для каждой из трех групп типов и для каждой из трех групп литератур есть своя пора, особое свое время; одни стремятся заявить себя в эпоху упадка известной цивилизации, другие — в период ее зрелости, третьи — в ранний ее возраст. Во времена утонченно высокого образования, у народов, несколько устаревших, в эпоху гетер в Греции, в гостиных Людовика XIV и в наших появляются самые мелкие и самые верные жизни типы — литературы комические и реалистические. В пору взрослости, когда общество развертывается вполне, когда человек наполовину уже прошел какое-нибудь великое поприще, в Греции, например, в V веке до Р. X., в Испании и Англии в конце XVI, во Франции в XVII столетии и теперь являются могучие и страждущие типы, являются литературы драматические и философские. В промежуточные, средние эпохи, которые, с одной стороны, представляют зрелость, а с другой — упадок, в эпохи, какова, например, и настоящая, обе поры смешиваются благодаря обоюдным захватам, так что каждая из них наряду со своими собственными созданиями производит и создания, принадлежащие другой. Но творения подлинно идеальные появляются в изобилии только в первобытные, безыскусственные эпохи, и надо воротиться к отдаленным временам, к начальному происхождению народов, к детским грезам человечества для того, чтобы найти героев и богов. У каждого народа есть свои; он извлек их из своего сердца и вскармливает их своими сказаниями; постепенно подвигаясь в неведомую даль новых для него времен и грядущей истории, он не сводит глаз с бессмертных этих образов, сияющих перед ним, как благотворные гении, которым суждено руководить его и охранять. Таковы герои настоящих эпопей, Зигфрид в Нибелунгах, Роланд в древнефранцузских поэмах (Chansons de gestes), Сид в Романсеро, Рустем в Книге Царей, Антар в Аравии, Улисс и Ахиллес в Греции. Еще выше, и уже в верхней сфере неба, помещаются вещие прорицатели, спасители и боги. Греция изобразила их в поэмах Гомера, Индия — в ведийских гимнах, в древних эпопеях, в буддистских легендах, иудея и христианство — в псалмах, в евангелиях, в апокалипсисе и в той непрерывной цепи поэтических откровений, последними чистейшими звеньями которой являются (под конец средних веков) Фиоретти (Цветки) и Подражание Иисусу Христу. Преображенный и превознесенный человек выступает здесь в совершенной полноте и целостности; в нем, обоготворенном или напрямик божественном, нет уже никакого недостатка; если его ум, сила или доброта имеют еще какие-нибудь пределы, то это разве только в наших глазах и с нашей лишь точки зрения. На взгляд его времени и его века пределов этих нет; верование придало ему все, что было тогда постижимо воображением; он истинно наверху величия, и тут же, рядом с ним, во главе художественных произведений, стоят те возвышенные и вполне искренние создания, которые несли в себе его идею, не сгибаясь под ее тяжестью.
III
Различные степени благотворности в физическом характере. — Здоровье. — Целость и сохранность природного типа. — Атлетические способности и гимнастическая подготовка. — Признаки нравственного благородства. — Пределы, в каких пластические искусства способны выразить душевную жизнь.
Рассмотрим теперь физического человека вместе с проявляющими его искусствами и поищем, какие именно характеры для него в самом деле благотворны. Прежде всего тут, бесспорно, должно назвать неповрежденное, даже цветущее здоровье. Тело больное, исхудалое, обессиленное, истощенное всегда уже слабее; то, что называется животным, это ведь совокупность известных органов, связанная с совокупностью известных отправлений: тут всякая частная остановка или задержка есть вместе и шаг к остановке целого; болезнь — начало разрушения, приближение к смерти. Итак, целость и сохранность природного типа следует поместить в число благотворных характеров; и замечание это поведет нас очень далеко в понимании совершенного человеческого тела. Оно исключает не только все крупные уродливости, неправильный изгиб хребта и членов, все виды безобразия, какие только может представить патологический музей, но даже и те сравнительно неважные уклонения, какие ремесло, занятие, общественная жизнь вносят в размеры тела и в наружность каждой особи. У кузнеца слишком толсты руки; у каменотеса согнута спина; руки пианиста изборождены сухожилиями и венами, заметно удлинены и оканчиваются сплющенными пальцами; адвокат, медик, конторщик и делец в своих расслабленных мышцах и в вытянутом лице носят общий отпечаток своей преимущественно мозговой и сидячей жизни. Не менее неблагоприятно влияние костюма, особенно новейшего; только просторная, разлетная, легкосъемная и часто снимаемая одежда, древние сандалии, хламида, женская накидная мантия (пеплум) не стесняют тела в естественном его развитии и движениях. Наша обувь до того сжимает пальцы, что, приплюснув их друг к другу, даже продавливает углубления с боков; корсеты и лифы юбок у наших дам охватывают талию в обтяжку. Взгляните летом на мужчин в купальне — сколько жалких и смешных уродств вы насчитаете, и между прочими — этот сырой или мертвенно-бледный цвет кожи; она совсем утратила привычку к лучам света; ткань ее уже неплотна; она дрожит и ежится при малейшем дуновении ветра; отвыкнув от местных климатических условий, она в полном разладе со всем ее окружающим. Она настолько же разнится от здорового тела, насколько камень, сейчас добытый из каменоломни, разнится от скалы, стоявшей на солнце и дожде с давних пор; и наша кожа и эта скала равно утратили свои естественные тона, и обе походят на отрытых вновь покойников. Проследите до конца этот закон: по мере удаления всех порч, каким подвергла природное тело цивилизация, вы увидите, как станут выступать перед вами первые очертания совершенно сложенного тела.
Теперь взглянем на него в самом действии. Деятельность его — это движение. Стало быть, к числу благотворных признаков или характеров мы отнесем все его способности к физическому движению; тело должно быть способно и подготовлено ко всякого рода упражнениям и употреблению в дело силы; весь склад его, соразмерность членов, ширина груди, гибкость сочленений, упругость мышц должны быть приспособлены к бегу, к прыжкам, к подъему тяжестей, к нанесению ударов, к схватке и бою, к выдержке всяких усилий и всякой устали. Мы дадим ему все эти телесные совершенства, не допуская ни одного из них до преобладания в ущерб другому; все они будут в нем самой высокой степени, но в общем равновесии и ладу: не надо, чтобы сила влекла за собой слабость и чтобы телу, для его развития, необходимо было умалиться. Это еще не все: к запасу атлетических способностей и к гимнастической подготовке мы присоединим еще душу, т. е. волю, разум и сердце. Нравственное существо ведь завершение и как бы цвет существа физического: при несостоятельности первого не может быть полно и последнее; развитие вышло бы пустоцветом, ему недоставало бы именно венца, и совершенство тела завершается лишь совершенной же душой[131]. Мы укажем эту душу во всей экономии тела, в его положении, в форме головы, в выражении лица; мы почувствуем тогда, что она свободна и здорова или что она величественна и высока. Мы угадаем ее ум, энергию и благородство; но только угадаем, не более. Мы укажем на них только лишь намеком, а не выставим их прямо напоказ, этого мы не можем сделать: всякая попытка в таком роде повредила бы совершенству тела, которое мы хотим изобразить. Духовная жизнь противополагается в человеке жизни телесной: возвышаясь в первой, он пренебрегает или вполне подчиняет ей последнюю, он смотрит на себя как на душу, обремененную телом; механизм последнего становится для него каким-то привеском, обузой; чтобы свободнее отдаваться мысли, он жертвует им, запирает его в кабинет, дает ему истощаться, изнеживаться; человек даже стыдится его; из преувеличенной стыдливости он наглухо прикрывает и прячет почти все свое тело; он с ним раззнакомливается и изо всего его состава видит только органы мышления или душевного выражения — череп, эту оболочку мозга, и лицо, передающее внутренние волнения; все остальное — придаток, тщательно скрываемый одеждой. Высокая цивилизация, вольное развитие, глубокая выработка души как будто и несовместимы с телом атлетическим, обнаженным и закаленным гимнастикой. Многодумный лоб, тонкие черты, многосложность физиономии как-то не ладят с мощными членами борца или бегуна. Вот почему, желая представить себе тело вполне совершенное, мы возьмем человека в ту переходную эпоху и в том промежуточном положении, когда душа не отодвинула еще тела на второй план, когда мысль является только еще отправлением, функцией, а вовсе не тиранией, когда ум не развился еще в несоразмерный и чудовищный орган, когда между всеми частями человеческой деятельности существует равновесие, когда жизнь течет еще широким и мерным потоком, как прекрасная река, в середине между скудостью прошлого и грозными разливами будущего.
IV
Соответственный тому порядок пластических ценностей. — Типы больные, искаженные или истощенные. — Древняя скульптура в эпоху упадка. — Византийское искусство. — Искусство в средние века. — Типы здоровые, но еще несовершенные, вульгарные или грубые. — Итальянские живописцы XV века. — Рембрандт. — ’’Мелкие” фламандцы. — Рубенс. — Высшие типы. — Венецианские мастера. — Мастера флорентинские. — Афинские.
По этому распорядку физических ценностей можно расположить художественные произведения, изображающие физического человека, и показать, что при одинаковых во всем прочем условиях произведения эти будут более или менее прекрасны, смотря по тому, в какой степени полноты выражают они характеры, присутствие которых благотворно для тела.
Всего ниже стоит искусство, умышленно отстраняющее их вполне. Оно начинается с падением древнего язычества и держится вплоть до Возрождения. Со времен Коммода и Диоклетиана вы замечаете в скульптуре глубокое искажение: императорские и консульские бюсты теряют свою ясность и благородство; горечь, оцепенение и какая-то усталость, вздутость щек и удлиненность шеи, разные подергивания, свойственные только особи, и печать изъянов, причиняемых ей ремеслом, сменяют собой прежнее гармоническое здоровье и деятельную энергию. Мало-помалу вы доходите до мозаик и до произведений византийской кисти, этих истощенных, скудных, черствых мучеников, просто манекенов, подчас безжизненных скелетов, впалые глаза которых, огромные белки, тонкие губы, вытянутое лицо, узкий лоб, хилые, бездейственные руки напоминают всего больше какого-нибудь аскета, слабогрудого, да скорбного и головой. Той же болезненностью, хотя не в такой, правда, сильной степени, одержимо искусство в продолжение всех средних веков; глядя на расписные окна и статуи соборов, на ребяческую живопись внутри, готов подумать, что людское племя тогда выродилось и оскудела человеческая кровь: чахоточные святые, искалеченные мученики, плоскогрудые св. девы, отшельники, испитые, в чем душа, все с чересчур длинными ногами и узловатыми руками, торжественные шествия мрачных, мертвенных, скорбных лиц, на которых так и отпечатались следы неисходных бедствий и всякого угнетения. Перед самым Возрождением зачахнувшее и искривленное дерево человечества снова начинает прозябать, но еще не может вдруг поправиться; соки его еще не довольно чисты. Здоровье и энергия возвращаются в тело только исподволь; нужно целое столетие, чтобы излечить его застарелый недуг. У мастеров XV века вы встречаете еще многочисленные приметы стародавнего поста и изнурения: у Мемлинга, в брюггском госпитале, — все лица, монашеские до невозможности, головы слишком большие, выпуклые от крайне мистических фантазий лбы, руки сухие, как палочки, однообразная умиленность неподвижной жизни, хранимая под сенью обители, подобно бледному цветку; у Беато Анджелико — изможденные тела, скрытые под лучезарными мантиями и рясами, доведенные до состояния каких-то чудных привидений, плоские груди, продолговатые головы, выдавшиеся лбы; у Альберта Дюрера — слишком тонкие бедра и руки, слишком большие животы, некрасивые ноги, тревожные, сморщенные и утомленные лица, бледные, неуклюжие Адамы и Евы, которых так и хочется во что-нибудь приодеть; почти решительно у всех — та форма черепа, которая напоминает собой факиров или одержимых головной водянкой, и преотвратительные дети, какие-то полуживые, нечто вроде головастиков, у которых продолжением громадной головы служит вялое туловище с добавкой сухопарых, изогнутых и как нарочно скрученных членов. Первые мастера итальянского Возрождения, истинные обновители древнего язычества, флорентинские анатомисты Антонио дель Поллайоло, Верроккьо, Лука Синьорелли, все предшественники Леонардо да Винчи, сами не вполне еще освободились от следов первобытного греха; в их фигурах по вульгарности голов, по безобразию ног, по выступу колен и ключиц, по кочковатым мышцам, по натянутым положениям тела заметно, что сила и здоровье, восстановленные теперь в своей власти, привели с собой не всех своих спутников и что недостает здесь еще двух муз — непринужденности и ясности. Когда же наконец богини древней красоты, все вызванные из ссылки, заняли в искусстве по праву принадлежащий им престол, мы видим их владычество только в одной Италии; по другую сторону Альп оно или неполно, или, во всяком случае, идет, лишь перемежаясь, далеко не сплошь. Германские народы приняли их только вполовину; да и для этого надо, чтобы они были католики, как во Фландрии; протестантские же края, как, например, Голландия, совершенно исключили их из своего искусства. Они чувствуют больше истину, нежели красоту; предпочитают характеры важные характерам благотворным, душевную жизнь — телесной, глубокие черты особи — правильности общего типа, тяжкую и смутную грезу — ясному и гармоническому созерцанию, поэзию внутреннего, задушевного чувства — услаждению внешних только чувств. Величайший живописец этого времени Рембрандт не отступил ни перед одним безобразием, ни перед одним физическим уродством: измазанные рожи ростовщиков и евреев, искривленные спины и ноги нищих и бродяг, небрежно одетые кухарки, рыхлое тело которых еще сохранило на себе явные следы корсета, вывернутые колени и втянутые животы, больничные лица и лохмотья из ветошного ряда, еврейские истории, списанные с какого-нибудь вертепа в Роттердаме, сцена соблазна, в которой Пентефриева жена, бросаясь чуть не нагишом с постели, дает зрителю как нельзя лучше понять, отчего Иосиф бежал так без оглядки, — смелое и вместе прискорбное побратимство со всем действительным, как бы ни было оно само по себе гнусно. Подобная живопись, при полной своей удаче, переходит за пределы живописи; подобно творениям Беато Анджелико, Альберта Дюрера, Мемлинга, это уже скорее поэзия; тут для художника главное дело — выразить какое-нибудь религиозное потрясение, какой-нибудь философски вещий домысел, какую-нибудь общую жизнеобъемлющую идею; собственный предмет начертательных искусств, человеческое тело, принесено здесь в жертву, подчинено какой-нибудь идее или какому-нибудь Другому элементу искусства. Действительно, у Рембрандта главный интерес картины вовсе ведь не человек, а скорее трагизм замирающего света, рассеянного, дрожащего, беспрерывно одолеваемого борющейся с ним тенью. Но если, покинув этих необыкновенных или чудодейных гениев, мы посмотрим на человеческое тело как на истинный предмет живописного подражания, нам невозможно будет не признать, что писанные кистью или изваянные фигуры, которым недостает силы, здоровья и прочих телесных совершенств, нисходят, взятые сами по себе, до самой низкой ступени искусства.
Вокруг Рембрандта стоят не такие гениальные, как он, живописцы, которых называют ’’мелкими фламандцами”: братья ван Остаде, Тенирс, Герард Дау, Адриан Броувер, Ян Стен, Питер де Хох, Терборх, Метсю и многие другие. Действующими лицами у них обыкновенно мещане и простолюдины; они брали их такими, какими видели на рынках и на улице, по домам и харчевням: толстые, зажиточные бургомистры, приличные и флегматичные барыни, школьные учителя в очках, кухарки за стряпней, пузатые трактирщики, подкутившие гуляки, разные увальни, недоростки и пентюхи из лавочек и пригородных мыз, из мастерских и кабаков. Увидев их в своей галерее, Людовик XIV сказал: ’’Убрать отсюда эти хари!” В самом деле, изображаемая ими личность принадлежит, по своему телосложению, к какой-то низшей породе, холоднокровной, бледной или медно-красной, приземистой, с неправильными чертами, часто грубой, подходящей как раз к сидячему, машинальному образу жизни, — одним словом, лишенной той деятельности и гибкости, которые производят силача и бегуна. Кроме того, они оставили на них печать порабощения общественной жизнью, все явные следы ремесла, сословия, наряда, все искажения, каким механический труд поселянина или чинные приемы мещанина подвергают и склад тела, и выражение лица. Но создание их возвышается другими своими качествами: одним, которое мы рассмотрели выше, т. е. уменьем передать самые важные характеры и искусством проявить сущность известного племени и известного века; другим, которое мы сейчас рассмотрим, именно гармонией колорита и мастерским расположением частей (как членов одного целого). С другой стороны, возьмите их лица сами по себе — на них ведь приятно взглянуть; это не исступленные и больные духом, не страдальцы, не задавленные судьбой, как предыдущие; они, напротив, здоровы и довольны жизнью; им привольно среди их хозяйств, в их лачугах; трубка да стакан пива довершают их благополучие; они не волнуются и не суетятся, а хохочут себе во весь рот или просто глазеют на божий свет, не желая ничего более. И разночинец и дворянин каждый счастлив тем, что платье на нем новое, что пол у него натерт воском, что стекла в окнах так и блестят от чистоты. Этим служанкам, мужикам, башмачникам и даже просто нищим кажется весьма удобной какая-нибудь клетушка, им хорошо сидится на голой скамье; вы видите, как они рады сапожничать своим шилом или скоблить какую-нибудь грязную морковь. Притупившиеся их чувства и сдержанное воображение далее этого и не идут; все лицо их выражает безмятежность или полный отдых, радушие или просто доброту. Таково благополучие флегматического темперамента, а благополучие, т. е. нравственное и телесное здоровье, прекрасно повсюду, прекрасно оно даже и здесь.
Наконец мы дошли до тех грандиозных фигур, в которых животная сторона человека достигает всей своей силы и радости. Это фигуры антверпенских мастеров: Крейера, Герарда Зегерса, Якоба ван Ооста, Яна ван Роозе, Эвер-дингена, Теодора ван Тульдена, Авраама Янсена, Теодора Ромба-утса, Йорданса и, наконец, Рубенса во главе всех. Вот наконец тела, свободные от всяких общественных помех и препятствий, тела, которых рост не стеснялся и не стесняется ничем; они или совершенно наги, или драпированы как нельзя вольнее; если же когда и одеты, то лишь в фантастические и великолепные костюмы, которые вовсе не обуза их членам, а разве только украшение. Никогда не видано более свободных положений, жестов более порывистых, более сильных и более развитых мышц. У Рубенса даже мученики являются в виде необузданных гигантов и спущенных на бой борцов. Его святые наделены торсами каких-то фавниц и бедрами настоящих вакханок. Хмельная брага здоровья и радости так и бурлит в их раскормленных телах; она так и бьет через край, прорываясь наружу ярким румянцем, полными разгула жестами, колоссальным весельем и каким-то великолепным неистовством; алая струя крови, то подымаясь, то нисходя в их жилах, несет с собой жизнь в таком изобилии и с такою неудержною свободой, что любое человеческое создание кажется перед ними тусклым и как бы взнузданным на
мундштук. Это идеальный мир, и при взгляде на него мы ощущаем внутри себя какой-то широкий взмах крыльев, подымающий нас высоко над нашим миром. Но и он еще не выше всех. Тут еще владычествуют грубые телесные инстинкты, тут ничто не переходит за пределы утробной жизни и чувственности. Алчные желания зажигают глаза каким-то чересчур уже диким пламенем; чувственная улыбка почти не сходит с мясистых губ; жирное, роскошно развернувшееся тело оказывается неспособным ко всему разнообразию мужественных действий, ему доступны лишь чисто животный порыв и ненасытное прожорство; слишком рыхлая и полнокровная плоть выступает в формах преувеличенных и неправильных; человек построен величаво, но обтесан только вчерне, как бы топором. Он притом ограничен, необуздан, а подчас циник и зубоскал до крайности; ему недостает высоких сфер ума; он просто неблагороден. Геркулесы здесь не герои, а скотобои. С мускулатурою быка они соединяют бычью душу, и человек, каким задуман он у Рубенса, представляется цветущею скотиной, которую инстинкты неизбежно ведут к ожирению на пастбище или же к стону и реву беспощадной битвы.
Донателло. Давид. 1430-е гг. Флоренция, Национальный музей
Нам остается еще отыскать такой человеческий тип, в котором физическое совершенство заканчивалось бы, как венцом всего, нравственным благородством. Для этого покинем Фландрию и пустимся в отчизну красоты. Мы сначала пройдем италийские Нидерланды, т. е. Венецию, и в ее живописи увидим приближение, подступ к совершенному типу: тело полное, но заключенное уже в соразмернейшие формы; выражение беззаветного раздолья, благополучия, но в более утонченном уже роде; сладострастие широкое, нараспашку, но притом изящное и скрашенное; энергические головы и души, явно ограниченные земной жизнью, но при этом умные лбы, полные мысли и достоинства физиономии, умы аристократические и открытые. Мы отправимся затем во Флоренцию и присмотримся к школе, откуда вышел Леонардо, куда вступил Рафаэль и которая, при содействии Гиберти, Донателло, Андреа дель Сарто, Фра Бартоломмео, Микеланджело, открыла самый совершенный тип, какого только смогло достичь новейшее искусство. Взгляните на св. Викентия работы Фра Бартоломмео, на Мадонну al sacco Андреа дель Сарто, на Афинскую школу Рафаэля, на гробницу Медичей и на своды Сикстинской часовни Микеланджело — вот какими следовало бы нам обладать телами; перед такой породою людей все остальные кажутся слабыми, или изнеженными, или грубыми, или несоразмерно развитыми. Фигуры эти не только наделены крепким и мужественным здоровьем, которому все удары жизни нипочем; не только не заметно в них никаких пятен и изъянов, причиняемых требованиями общества и столкновениями с окружающим миром, не только весь ритм их склада и вольное их положение обнаруживают в них все способности к действию и движению, но их голова, лицо, совокупность всех их форм показывают то энергию и величие воли, как у Микеланджело, то кротость и вечный мир души, как у Рафаэля, то необыкновенную высоту и тонкость разумения, как у Леонардо; а между тем ни у одного из них утонченность нравственного выражения не дисгармонирует с наготою тела или с совершенством его частей, никогда слишком сильный перевес мысли или органов не сводит человеческой личности с того идеального неба, где все силы и могущество сливаются в одну высшую гармонию. Действующие лица их могут себе бороться и негодовать, как, например, герои Микеланджело, мечтать и улыбаться, как женщины да Винчи, жить и довольствоваться жизнью, как мадонны Рафаэля; главное — не временная их деятельность в ту минуту, а всецелое строение. Голова ведь только часть его; грудь, руки, связки и пропорции тела — вся сплошь форма говорит, вся заодно хочет представить нам создание иной породы, не такой совсем, как мы; перед ними мы — то же самое, что обезьяны или папуасы перед нами. Мы не можем отвести им места в положительной истории; чтобы найти для них подходящий мир, мы вынуждены перенести их в туманную даль легенды. Поэзия дальних расстояний или величие теогоний (сказаний о происхождении богов) одни только могут представить почву, достойную носить их на себе. Глядя на Сивилл и на Добродетели Рафаэля, на Микеланджеловых Адамов и Ев, мы невольно мыслим о героических или светлых фигурах первобытного человечества и тех девах, дочерях земли и рек, которых большие глаза впервые отражали в себе лазурь родного неба, о тех голых богатырях, которые спускались со своих гор, чтобы душить хищных львов собственными руками. — После такого зрелища мы готовы думать, что дело наше теперь покончено, что выше этого мы ничего уж не найдем. И, однако же, Флоренция только вторая ведь отчизна красоты; первою все-таки остаются Афины. Несколько голов и несколько статуй, спасенных из общего крушения древности, — Венера Милосская, мраморы Парфенона, голова царственной Юноны в вилле Людовизи — покажут вам породу еще более высокую и чистую; из сравнения вы дерзнете тогда заключить, что у фигур Рафаэля[132] человеческая кротость часто смахивает на овечью и что плечистость их выходит подчас немножко массивною[133]; что в фигурах Микеланджело трагедия души обнаруживается чересчур видимо, крайним напряжением мышц и излишним усилием. Настоящие доступные глазу боги родились в ином крае и в чистейшем сравнительно воздухе. Более самородная и простая цивилизация, лучше уравновешенная, более утонченная порода, более подходящая религия, более искусное холение тела произвели некогда и благороднейший еще тип, горделиво-покойный, величаво-ясный, с большим единством и большею свободой в движении, с таким совершенством, которое и вольнее и естественней; он послужил образцом для художников Возрождения, а искусство, которым мы любуемся в Италии, есть лишь не совсем прямой, да и не столь высокий отпрыск пересаженного на другую почву ионийского лавра.
V
Заключение. — Важность и благотворность характеров, наблюдаемых в природе. — Высшие гармонии природы и искусства.
Такова та двойственная шкала, по которой распределяются как характеры вещей, так и ценности художественных произведений. Чем важнее и благотворнее характеры, тем они выше сами и тем выше ставят они выражающие их художественные произведения. Заметьте, что важность и благотворность — две разные стороны одного и того же качества; это именно сила, рассматриваемая то по отношению к другим силам, то по отношению к самой себе. В первом случае она более или менее важна, смотря по тому, каким более или менее значительным силам она сопротивляется. Во втором случае она зловредна или благотворна, смотря по тому, идет ли она к самоослаблению или, напротив, к возрастанию. Это две самые высокие точки зрения, с каких только можно рассматривать природу, так как они обращают наши взоры то на сущность ее, то на направление. По сущности своей природа есть сборище грубых, неравных по величине сил, взаимная борьба которых длится вечно, сумма которых и работа вообще остаются всегда одни и те же. По своему направлению она есть непрерывный ряд форм, в котором запасенные раз силы наделены свойством постоянно обновляться и даже, пожалуй, возрастать. Характер является то одною из сил первичных и механических, составляющих сущность любой вещи, то одною из тех позднейших, способных увеличиваться сил, которыми знаменуется направление мира в его ходе; отсюда понятно, почему и искусство становится выше, когда, взяв себе природу за предмет, оно обнаруживает какую-нибудь глубокую частицу или черту ее заветной основы или какой-либо высший момент ее развития.
Отдел третий. Степень цельности впечатлений
Мы рассмотрели характеры в самих себе, теперь нам остается исследовать их еще при переносе в художественное произведение. Необходимо, чтобы они были не только как можно ценнее сами по себе, но притом сделались и как можно более господствующими в художественном произведении. Только тогда они получат весь свой блеск и всю свою рельефность, только таким образом могут они стать очевиднее, нежели в самой природе. Для этого, разумеется, необходимо, чтобы все части произведения дружно помогали проявлению этих характеров. Ни один элемент не должен оставаться бездейственным или отвлекать внимание в другую сторону; то будет сила, потерянная совсем или же направленная в противоположном смысле. Иными словами, в картине, статуе, поэме, симфонии все решительно эффекты должны сходиться к одной цели — быть в полном ладу. Степень этого общего их лада указывает место любому произведению, и вы сейчас увидите, что для измерения ценности художественных созданий к двум первым найденным нами шкалам присоединится еще третья.
I
Различные элементы литературного произведения. — Характер. — Его элементы. — Действие. — Его элементы. — Слог. — Его элементы. — Совокупность характера, действия и слога.
Возьмем сперва искусства, проявляющие человека нравственного, возьмем именно литературу. Сначала отличим разнообразные элементы, из которых состоят драма, эпопея, роман, — короче, любое произведение, выводящее на сцену души в их действии. Во-первых, там есть души, я хочу сказать, личности, все наделенные каким-нибудь особым характером, а в каждом характере можно распознать несколько составных частей. В тот миг, когда новорожденное дитя, как говорит Гомер, ’’впервые упадет между колен женщины”, оно уж обладает, по крайней мере в зачатке, способностями и инстинктами известного рода и в известной степени; у него есть кое-что отцовское, кое-что материнское, кое-что семейное и кое-что племенное; притом качества, переданные ему с кровью по наследству, принимают в нем такие размеры и пропорции, которыми оно отличается от своих сородичей, родителей и близких. Эта прирожденная нравственная основа связана с известным физическим темпераментом, и общая совокупность всего вместе образует то первое достояние человека, которое искажается или пополняется затем воспитанием, примерами, обучением, всеми событиями и всеми дальнейшими действиями его детского и юношеского возрастов. Когда эти различные силы, вместо того чтобы взаимно уничтожаться, напротив, тесно присоединятся друг к другу, то этот общий их лад оставит в человеке глубокие следы, и вы увидите появление разительных или сильных характеров. Этого совокупного лада часто недостает в природе, но он всегда присущ творениям великих художников, вот отчего создаваемые ими характеры хотя и состоят из тех же элементов, как характеры реальные, однако же гораздо могучее последних. Великие мастера подготовляют свой тип издалека и как нельзя тщательнее; когда они нам его представят, мы чувствуем, что он, собственно, и не мог быть иным. Он держится у них на огромной подстройке, его соорудила глубокая логика. Ни один поэт не обладал этим даром в такой степени, как Шекспир. Читая со вниманием любую его роль, вы найдете там на каждом шагу, в каком-нибудь жесте или слове, в какой-нибудь выходке воображения, в неясном сумбуре мыслей, в особенном обороте речи намек и указание, которые раскроют вам все нутро, все прошлое и все будущее этой личности[134]. Это ее подкладка, ее изнанка. Телесный темперамент, врожденные или приобретенные наклонности и стремления, многосложный рост идей и стародавних или сравнительно новых привычек, все соки человеческой природы, бесконечно изменяющиеся от самых первых ее корней и до последних отпрысков, — все способствовало появлению тех речей и действий, которые вырвались у ней под конец теперь. Необходима была бездна присущих сил и эта общая гармония сосредоточенных эффектов, чтобы оживить такие фигуры, как Кориолан, Макбет, Гамлет, Отелло, и составить, вскормить и распалить ту господствующую страсть, которая закалила бы их на все и пустила,как стрелу из лука. Рядом с Шекспиром я позволю себе назвать одного из новых, почти современного нам Бальзака, самого богатого в ряду тех, кто в наши времена орудовал сокровищами нравственной природы. Никто лучше его не показал постепенного сложения и образования человека, последовательной наслойки в нем разных пластов, налегающих один на другой, и скрещивающегося влияния родственных связей, первых впечатлений детства, разговоров, книг, дружеских отношений, занятий, жительства, тех бесчисленных отпечатков, которые каждый день ложатся нам на душу, давая ей и материал, и форму. Но он романист и ученый, а не драматург и поэт, как Шекспир; оттого, вовсе не пряча изнанку своих героев, он, напротив, выставляет ее наружу; вы найдете длинный ее перечень в его описаниях и бесконечных рассуждениях, в обстоятельных изображениях какого-нибудь дома, лица или платья, в предварительных рассказах о детстве и воспитании героя, в технических объяснениях какого-нибудь производства или открытия. Но в целом его искусство одного с шекспировским разбора; когда он создает какую-нибудь личность — Гюло, отца Гранде, Филиппа Бридо, старую девушку, шпиона, придворную даму, крупного дельца, — талант его всегда состоит в подборе громадного числа образовательных элементов и нравственных влияний, которые он сводит в одно русло, спускает по одной покатости, словно ручьи, бегущие со всех сторон поднять и оживить воды одного какого-нибудь потока.
Второю группой элементов в литературном произведении являются положения и события. Мы задумали характер; теперь надо, чтобы столкновения, в какие он будет поставлен, обнаружили свойства его вполне. В этом искусство опять-таки выше природы, потому что в природе не всегда бывает оно так. Иной великий и могучий характер остается в ней безвестным и бездеятельным по недостатку удобного случая или движущих мотивов. Не попади Кромвель в самый разгар английской революции, он, по всей вероятности, продолжал бы до гроба ту же жизнь, какую вел вплоть до сорока лет, среди своей семьи, в родном округе: был бы фермером-собственником, каким-нибудь выборным от общины, строгим пуританином, погруженным в заботы о навозе, о домашнем скоте, о детях и об успокоении своей собственной совести. Отложите французскую революцию на три только года, и Мирабо был бы не более как изгойный дворянин, искатель приключений и гуляка. С другой стороны, какой-нибудь посредственный или слабый характер, которого отнюдь не хватило бы на трагические события, оказывается совершенно достаточным для происшествий обыкновенных. Вообразите себе Людовика XIV рожденным в мещанской семье, с ограниченными средствами, живущим службою или скромным доходом с капитальца: он прожил бы с почетом в тишине, исполнял бы добросовестно урочное свое дело, усердно занимался какою-нибудь приказной службою, был бы кроток с женой, отечески ласков к детям; по вечерам, при свете лампы, он обучал бы их, пожалуй, географии, а в воскресенье, после обедни, сам потешался бы своим слесарным инструментом. Раз сложившаяся личность, отдаваемая природой на произвол житейской борьбы, подобна судну, спущенному с верфи на море, ему нужен сильный или небольшой ветер, смотря по тому, челнок это или фрегат: вихрь, ускоряющий движение фрегата, совсем поглотит челнок, а слабое дуновение ветерка, несущее лодку, оставит фрегат неподвижным среди гавани. Итак, художнику необходимо пригонять положения к характерам. Вот вторая совокупность условий, и едва ли мне нужно говорить вам, что великие художники никогда не упускают ее из виду. Так называемая у них интрига или завязка действия есть именно ряд происшествий и строй положений, подобранных, как нарочно, с тем, чтобы проявить характеры, потрясти души до глубины, обнаружить сокровенные инстинкты и неведомые способности, которым однообразный ход привычек мешает вынырнуть на божий свет, чтобы, наконец, измерить, как делает Корнель, силу их воли и степень героизма, чтобы выставить, как Шекспир, алчность, безумие, бешенство и ярость тех кровожадных и ревом ревущих чудовищ, которые запрятались в нашем сердце, слепо пресмыкаясь на самом его дне. Для одного и того же лица испытания эти бывают весьма различны; их, следовательно, можно расположить так, чтобы они становились час от часу сильнее, — вот это-то и есть обычное у писателей crescendo (постепенное усиление); они употребляют этот прием и в каждой части действия, и в целом и таким образом достигают или какого-нибудь блестящего окончательного взрыва, или страшного падения. Ясно, что закон этот применим и к подробностям, я к массам. Ввиду известного эффекта каждая сцена группируется по своим частям; ввиду той либо другой развязки группируются все эффекты в совокупности; вся история или фабула располагается так или иначе, смотря по тому, какие именно души должны в ней быть выведены на первый план. Взаимная гармония качеств одних с другими составляет видимое, и заметное притом, лицо; взаимная гармония характера с последовательными положениями обнаруживает до дна весь этот характер, направляя его к окончательному торжеству или к конечной гибели[135].
Остается еще один элемент — именно слог. Сказать правду, он только один и виден, а другие два составляют его изнанку, подкладку; он одевает их с ног до головы и один находится на поверхности. Книга не более ведь как ряд фраз, которые автор произносит от себя или заставляет произносить свои действующие лица; телесным глазам и ушам не уловить в ней ничего более; все, что может быть сверх того подмечено внутренним слухом д зрением, откроется им только при посредстве тех же самых фраз. Итак, вот еще третий очень важный элемент и эффект его должен непременно чадить с эффектом других элементов, чтобы общее впечатление вышло ;коль возможно сильнее. Но какая бы то ни была фраза, сама по себе она способна ведь принять разнообразные формы, а стало быть, и эффекты произвести разнообразные. Она может быть каким-нибудь одним стихом, эа которым следуют другие, она может состоять из одинаково или неодинаково длинных стихов, из ритмов и из рифм, расположенных так или иначе; припомните все богатство стихосложения. С другой стороны, фраза дли предложение может образовать строчку прозы, за которою идут другие такие же: они то смыкаются в целый период, то распадаются на мелкие отдельные предложения, то образуют поочередно периоды и краткие фразы; припомните в этом отношении все синтаксическое богатство языков. Наконец, слова, составляющие фразу, уже и сами по себе отличаются известным характером; смотря по своему происхождению и обычному /потреблению, они или общи, или благородны, или техничны и сухи, или свободны и разительны, или отвлеченны и туманны, или блестящи и колоритны. Короче, каждая произнесенная фраза — это совокупность сил, которые затрагивают в читателе его логический инстинкт, его музыкальные способности, приобретения его памяти, пружины его воображения и через посредство нервов внешних чувств и привычек потрясают всего человека целиком. Итак, необходимо, чтобы слог приравнялся ко всем прочим элементам произведения, — вот последняя гармония условий, и на этой именно почве мастерство великих писателей, можно сказать, бесконечно; их такт или чутье отличается, в этом отношении, необыкновенной тонкостью, а изобретательность их тут прямо неистощима: вы не найдете у них ни эдного ритма, ни одного оборота, ни одной конструкции (фразопостроения), ни одного слова, даже звука, ни одной связи между словами, звуками я фразами, которых ценность не была бы ими прочувствована и которых /потребление было бы неумышленно, случайно. Здесь опять искусство выше природы, потому что вследствие этого выбора, этой обработки и приноровки слога воображаемое лицо говорит лучше и соответственнее своему характеру, чем лицо реальное. Не пускаясь здесь во все тонкости искусства и не входя подробно во все приемы его, мы легко можем заметить, что стихи — известного рода пение, а проза нечто вроде простой беседы; что длинный александрийский стих подымает голос до ровного и благородного выражения, а краткая лирическая строфа еще более восторженна и музыкальна; что мелкая резкая фраза отличается или повелительным или, напротив, плясовым, игривым тоном, а длинный период так и пышет витиеватостью и величавой полнотою, — короче, что всякая стилистическая форма определяет известное состояние души, сдержанность или напряжение, порыв или вялую небрежность, ясность или мрак и муть и что поэтому эффекты известного положения и данных характеров умаляются или возрастают, смотря по тому, идут ли эффекты слога в противоположном или в одинаковом с ними направлении. Представьте себе, что Расин взял бы вдруг слог Шекспира, а Шекспир слог Расина; произведение их вышло бы тогда просто смешным или, скорее, из этого бы ровно ничего не вышло. Фраза XVII века, столь ясная, мерная, очищенная, складная, до того приноровленная к придворным разговорам, не способна выразить нагую страсть, вспышки воображения, неудержимую внутреннюю бурю, изображаемую в английской драме того времени. С другой стороны, фраза XVI века, то непринужденная, то лирическая, крайне смелая, чрезмерная, шероховатая, бессвязная, была бы неуместна в устах вежливых, благовоспитанных, совершенно приличных героев французской трагедии. На место Расина и Шекспира у вас вышли бы Драйдены, Отвей, Дюсисы, Казимиры Делавиньи. Такова сила и таковы условия стиля или слога. Характеры, открывающиеся в драматических положениях уму, открываются чувствам только посредством речи, и общий, дружный лад трех указанных нами сил придает всю выпуклость характеру. Чем более художник умел распознать и свести в своем создании к одной цели многочисленные эффектные элементы, тем более выходит преобладающим освещаемый им характер; все искусство заключено в двух словах: проявлять, сосредоточивая.
II
Различные моменты той или другой литературной поры определяются на основании предыдущего закона. — Начало литературных эпох. — Неполный еще лад элементов по невежеству. — Героические песни. — Первые английские драматурги. — Конец литературных эпох. — Неполный лад элементов по несообразности подбора. — Еврипид и Вольтер. — Середина или центр литературных эпох. — Полная лад-гармония. — Эсхил. — Расин. — Шекспир.
На основании этого закона можно еще раз вновь распределить литературные произведения. При одинаковости всех других условий они будут более или менее прекрасны, смотря по тому, до какой степени слажены в них все разнообразные эффекты, и — по очень любопытному совпадению — правило это, в применении к различным школам, устанавливает между последовательными моментами в развитии одного и того же искусства именно те самые опять деления, которые уже введены сюда историей и опытом.
В начале всякой литературной эпохи мы замечаем период первых очерков или набросков; искусство тогда слабо, во младенчестве, так как общий лад эффектов еще плох, и причина тому кроется в невежестве писателя. Не то чтоб ему недоставало вдохновения, оно у него есть, и часто притом несомненное и сильное; таланта в эту пору бездна; крупные образы так и толпятся в глубине души; но литературные приемы еще не известны, талантливые люди не умеют еще писать, не умеют расположить частей сюжета, воспользоваться литературными средствами. Таков недостаток первой французской литературы в эпоху средних веков. Читая Песнь о Роланде, Рено де Монтобана, Ожье Датчанина[136], вы тотчас видите, что у людей этого века были своеобразные и высокие чувства; тогда основалось новое совсем общество; крестовые походы близились к концу; гордая независимость барона, несокрушимая верность вассала, военно-богатырские нравы, телесная сила и простота сердец доставляли поэзии характеры вроде гомеровских. Она воспользовалась ими только наполовину; она чувствовала их красоту, не будучи в состоянии передать ее. Трувер был мирянин и француз, т. е. рожденный в таком племени, у которого монополия духовенства отнимала тогда всякую возможность высшего просвещения. Он повествует сухо и голо; у него нет полных и блестящих образов Гомера и Древней Греции; его рассказ вообще тускл; его однорифменный стих тридцать раз подряд повторяет все тот же однообразный удар колокола. Он не совладает со своим сюжетом, не умеет ни откинуть, ни развить, ни соразмерить, не умеет подготовить какую-нибудь сцену, усилить тот или другой эффект. Его произведение не заняло места в бессмертной литературе; оно забыто и интересует лишь антиквариев. Если подобное искусство и выдвинется иногда блистательно вперед, то разве одиночными только созданиями, Нибелунгами в Германии, где древненациональная основа не была подавлена клерикальным каноном, Божественною комедией в Италии, где Данте невероятными усилиями труда, восторженности и гения достигает в своей мистическо-ученой поэме неожиданного слияния мирских чувств и богословских теорий[137]. При возрождении искусства в XVI столетии другие примеры показывают нам то же отсутствие совокупной гармонии, ведущее сначала к тому же самому недостатку. Первый по времени английский драматург Марло — человек истинно гениальный; подобно Шекспиру, он живо чувствовал и ярость необузданных страстей, и мрачное величие глубокой северной думы, и кровавую поэзию современной истории; но он не умеет вести разговора, разнообразить события, оттенять положения, противопоставлять друг другу характеры; его любимый прием — беспрерывное убийство и бессловесная смерть; его могучий, но неотесанный еще театр известен только знатокам, как предмет любопытного изучения. Чтобы его трагическая идея жизни развернулась наконец в полном свете перед глазами всех, необходим после него более высокий гений, который, вооружась всею приобретенною уже опытностью, вторично воссоздал бы опять те же типы; необходимо, чтобы Шекспир, не раз блуждавший наперед ощупью и сам, внес в начальные очерки своего предшественника ту разнообразную, полную и глубокую жизнь, которая оказалась не под силу первобытному искусству.
С другой стороны, под конец развития всякой литературной эпохи мы замечаем период неизбежного упадка: искусство в это время портится, дряхлеет, охлаждается рутиной и условностью. Тут тоже ощутим недостаток общего лада между эффектами, но виною тому не невежество. Напротив, никогда не бывало прежде такой учености, все приемы усовершенствованы и утончены донельзя; они сделались даже всеобщим достоянием; пользуйся ими кто хочет. Поэтический язык сложился вполне; самый мелкий писатель знает, как построить предложение, подобрать две рифмы, исподволь подготовить развязку. Искусству вредит теперь ослабление внутреннего чувства. Способность на великие замыслы, образовавшая и поддерживавшая творения прежних мастеров, видимо, хиреет и падает; ее сохраняют лишь в воспоминании и по преданию. Ей никто не следует до конца; ее портят примесью иного духа; ее делают усовершенствованною несообразностью эффектов, их разладицей. Таково было состояние греческого театра при Еврипиде и французского во времена Вольтера. Внешняя форма была та же, что и прежде, но изменилась оживлявшая ее душа, и этот вопиющий разлад неприятно поражает зрителя. Еврипид сохраняет всю прежнюю обстановку — хоры, размер стиха, героев и богов Эсхила и Софокла. Но он дает им речи адвоката и софиста, рад выставить наружу их грешки, их слабости, их горестные вопли. Вольтер принимает волей и неволей все приличия и весь механизм трагедий Расина и Корнеля—наперсников, первосвященников, царей, цариц, изящную и рыцарскую любовь, александрийский стих, слог, отличающийся благородством и всеобщностью, вещие сны, оракулов и богов. Но он вводит заимствованную у англичан трогательную завязку; пытается придать ей исторический лоск, подмешивает разные философские и гуманитарные мысли, пускает исподтишка выходки против царей и священства и во всем этом является новатором и мыслителем не вовремя и невпопад. У того и у другого различные элементы произведений не сходятся уже к одному общему эффекту. Древняя драпировка непременно стесняет чувства новейшего времени, новейшие чувства прорывают древнюю драпировку. Действующие лица их выходят ни то ни се; у Вольтера—это государи, просвещенные Энциклопедией, у Еврипида — герои, изощрившиеся в школе ритора. Под этой двойной маскою фигура их неуловима, ее просто не видать; лица эти если и живут, то разве лишь припадочно и урывками. Читатель покидает этот самоуничтожа-ющийся мир и ищет произведений, в которых, как у живых существ, все решительно органы сходились бы к одному эффекту.
Такие произведения мы находим в середине, или центре, литературных эпох, в момент, когда собственно цветет какое-нибудь искусство; прежде оно было только еще в зародыше, несколько позже оно уже поблекнет. В это же мгновение общий лад эффектов достигает полноты и чудная гармония уравновешивает между собою характеры, слог и действие. Момент этот встречается в Греции при Софокле и, если я не ошибаюсь, еще полнее при Эсхиле, когда верная своему началу трагедия остается еще дифирамбическим пением, когда религиозное чувство новопосвященца в мистерии проникает ее всю, когда гигантские фигуры героической или божеской легенды стоят во весь рост перед зрителем, когда властный над жизнью человека рок и хранитель общественного быта, правосудие, прядут и отрезают нити его судьбы под звуки поэзии темной, как оракул, грозной, как пророчество, чудной, как вещее видение. Вы можете найти у Расина полнейшую гармонию ораторских уловок, чистой и благородной дикции, искусной компановки, мастерских развязок, театральных приличий, истинно царской вежливости, придворной и салонной утонченности в приемах. Вы откроете подобное же согласие в сложном и многосоставном творении Шекспира, если обратите внимание на то, что, изображая цельного и полного человека, он должен был рядом с самыми поэтическими стихами употреблять прозу самую повседневную, пускать в ход все контрасты слога для того, чтобы выставить поочередно все высоты и низины человеческой природы, пленительную нежность женских характеров и несговорчивую рьяность мужских, черствую грубость простолюдинского нрава и перехитренную утонченность светских приличий, какую-нибудь обыденную болтовню и рядом с ней восторженный пыл необычайных потрясений, неожиданность мелких пошлых случаев и роковые удары не знающих никакой меры страстей. При всем разнообразии приемов у великих писателей они всегда в полном ладу между собой — в баснях Лафонтена, как и в надгробных речах Боссюэ, в сказках Вольтера, как и в стансах Данте, и в байроновском Дон Жуане, как и в диалогах Платона, у древних писателей, как и у новых, у романтиков, как и у классиков. Пример мастеров своего дела ничуть не навязывает их преемникам ни стиля, ни порядка изложения, ни какой бы то ни было неизменной формы. Если один успел на таком пути, другой может успеть на противоположном; необходимо только одно — чтобы произведение его всецело шло одной и той же дорогою; надо, чтобы он всеми силами стремился к одной цели. Искусство, как и природа, выливает свои создания во всевозможные формы; но, чтобы создание было жизненно, в искусстве, как и в природе, необходимо, чтобы все клочки составляли одну нераздельную совокупность и чтобы самая ничтожная частица мельчайшего из элементов непременно находилась в подчинении целому.
III
Различные элементы пластического произведения. — Тело и его элементы. — Архитектура линий и ее элементы. — Колорит и его элементы. — Каким образом эти элементы могут слаживаться между собой.
Нам остается еще рассмотреть искусства, проявляющие физического человека, и определить различные их элементы, в особенности же элементы живописи, богатейшего из всех этих искусств. В картине прежде всего мы замечаем наполняющие ее живые тела, а в телах этих мы указали уже две главные части: общее костяное и мышечное строение и одевающий его наружный покров, т. е. чувствительную и колоритную вместе кожу. Вы сейчас же видите, что оба эти элемента должны находиться во взаимной гармонии. Белая и женственная кожа Корреджо не может встречаться на богатырских мускулатурах Микеланджело. То же должно сказать и насчет третьего элемента — позы и физиономии: известные улыбки идут лишь к известным телам; никогда откормленный борец, полуобнаженная Сусанна, мясистая Магдалина Рубенса не будут иметь того вдумчивого, нежного и глубокого выражения, какое придает своим фигурам Леонардо да Винчи. Это, впрочем, еще самые грубые, самые внешние только соответствия; но есть другие, несравненно более глубокие и не менее существенные. Все мышцы, все кости, все сочленения, все детали (подробности) физического человека имеют свою знаменательность; каждый из них может выражать различные характеры. Большой палец на ноге и ключица у врача совсем не те, что у воина; малейший клочок тела своею полнотой, формой, цветом, размером, плотностью служит основанием для отнесения животного, именуемого человеком, к той или иной породе. Тут бездна элементов, которые должны ладить между собой своими эффектами; если художнику неизвестны некоторые из них, он становится от того слабее; если хоть один элемент действует у него наперекор своему назначению, он отчасти уничтожает этим эффект всех остальных. Вот почему великие художники Возрождения так тщательно изучали человеческое тело, вот почему Микеланджело двенадцать лет занимался анатомией. Это был не педантизм, не мелочность кропотливого наблюдателя. Внешние детали человеческого тела — сокровище для скульптора и живописца, подобно тому как внутренние детали человеческой души — сокровище для драматурга и романиста. Выступ какого-нибудь сухожилия столько же важен для одного, как преобладание известной привычки для другого. Он должен принимать его в расчет не только для того, чтобы сделать живое тело, но еще и для того, чтобы при помощи его придать телу энергию или прелесть. Чем более запечатлел он в своем уме форму, разности, зависимость и употребление этого элемента, тем более во власти его будет красноречиво пустить его в ход в своем произведении. Если вы ближе всмотритесь в фигуры великого века, вы увидите, что от пятки до черепа, от изгиба ноги до морщин лица нет ни одного размера, ни одной формы, ни одного тона в цвете кожи, которые не содействовали бы рельефной выставке характера, какой желает выразить художник.
Здесь предстают нам новые элементы или, скорее, те же, да только с иной точки зрения. Линии, очерчивающие контур тела или обозначающие в этом контуре впадины и выпуклости, сами по себе имеют значение; смотря по тому, прямые ли они или кривые, излучистые, ломаные или неправильные, они производят на нас различные впечатления. То же можно сказать и относительно составляющих тело масс; размеры их также имеют сами по себе значительную важность; смотря по разным отношениям величин, соединяющих голову с туловищем, туловище с членами, члены между собой, мы испытываем различные впечатления. У тела есть своя архитектура, и к органическим связям, соединяющим его живые части, должно присовокупить связи математические, определяющие его геометрические массы и его отвлеченный контур. В этом отношении его можно сравнить с колонной: тот или иной размер диаметра и высоты делает ее ионийской или дорической, изящной или приземистой. Равным образом та или иная пропорция голов в отношении к целому телу делает его флорентийским или римским. Стержень колонны не может быть более помноженной на себя столько-то раз толщины его; равным образом все тело в совокупности должно достичь, но отнюдь не превзойти известной сложной величины, единицею которой служит голова. Все части тела имеют, таким образом, математическую свою меру; без строгого точь-в-точь подчинения ей они, однако же, всегда колеблются около этой нормы, и все разнообразные степени колебания выражают каждая особый характер. Итак, художнику дается тут в руки новый ресурс, новое средство действия; он властен, как Микеланджело, избрать маленькие сравнительно головы и удлиненные тела, простые и монументальные линии, как Фра Бартоломмео, или извилистые контуры и разнообразные изгибы, как Корреджо. Стройные или беспорядочные группы, прямые или наклонные положения, разные планы и разные ярусы картины доставят ему и различные симметрии. Какая-нибудь фреска или картина образует квадрат, прямоугольник, круг, овал — короче, какую-нибудь часть пространства, в котором сборище людей (своей особой группировкой) составляет как бы здание. Всмотритесь на эстампах в Мученичество С в. Севастьяна кисти Баччо Бандинелли или в Афинскую школу Рафаэля, и вы почувствуете этот род красоты, которому греки дали вполне музыкальное название эрифмии (благомерности). Взгляните на один и тот же сюжет, исполненный двумя разными живописцами, — на Антиопу Тициана и на Антиопу Корреджо, и вы почувствуете различные эффекты одной чистой геометрии линий. Это новая опять сила, которую должно направлять заодно с другими и которая, если отнестись к ней небрежно или неточно, помешает характеру произведения выразиться как следует, вполне.
Я подошел теперь к последнему существенному элементу — к колориту. Сами по себе и независимо от подражательного употребления краски, точно так же, как и линии, имеют свой особый смысл, свое значение. Простая гамма красок, не изображающих никакого действительного предмета, подобно любому линейному арабеску, который не подражает в природе ничему, — эта гамма может быть богата или скудна, изящна или тяжела для зрения. Впечатление наше разнится, смотря по подбору цветов; следовательно, этот подбор уже и сам по себе выразителен. Картина есть колоритная поверхность, на которой различные тоны и различные степени света распределены с известным выбором — вот заветная ее суть; что эти тоны и эти степени освещения образуют фигуры, драпировки, архитектурные принадлежности — это уже дальнейшее их свойство, из-за которого первичное все-таки не теряет ни своей важности, ни своих прав. Итак, собственное значение краски громадно, и от того, как живописцы распорядятся ею, зависит все остальное их произведение. Но в этом элементе заключено еще несколько других, прежде всего — общая степень света или темноты; Гвидо любит белое, серебристо-серое, пепельное, бледно-голубое, он пишет все в полном освещении. Караваджо любит черное, угольно-бурое, напряженное, землистое — он все пишет в густой тени. С другой стороны, противоположность светов и теней в одной и той же картине может быть более или менее сильна и более или менее скрадена. Вы знаете, с какою нежною постепенностью форма у да Винчи незаметно выделяется из среды теней, с какою очаровательною постепенностью у Корреджо яркая полоса света выступает из общего освещения, с каким ослепительным блеском у Риберы вспыхивает вдруг светлый тон во мрачной мгле, в какой сырой и желтоватый воздух Рембрандт устремляет вдруг проблеск солнца или пропускает какой-нибудь затерявшийся трепетный луч. Наконец, помимо степени освещения, разные тоны, смотря по тому, служат ли они дополнением друг другу или нет, имеют свои диссонансы и созвучия[138]; они или вызывают, или же, напротив, исключают друг друга; цвета оранжевый, фиолетовый, красный, зеленый и все прочие, сами по себе или в смеси, образуют своим соседством, точно так же, как музыкальные ноты своей последовательностью, особенного рода гармонию, полную и сильную, или терпкую и жесткую, или же нежную и мягкую. Посмотрите в Лувре, в Эсфири Веронезе, на очаровательный ряд желтоватых оттенков, как все они — то бледные, то темные, серебристые, красноватые, зеленоватые, похожие на аметист и всегда умеренные, нигде не резкие — вливаются одни в другие, начиная с цвета полевого нарцисса и светло-соломенного до цвета блеклых листьев и дымчатого топаза; или в Святом семействе Джорджоне обратите внимание на могучие красные оттенки, которые, начиная чуть не черным багрянцем драпировки, идут, все разнообразись и постепенно светлея, местами отдавая на плотном теле в желтизну, дрожат и скользят в промежутках пальцев, одевают, будто бронзой, мужественную грудь и, пропитываясь то тенью, то светом, обливают, наконец, лицо одной молодой девушки целым потоком заходящего солнца; вы поймете всю могучую выразительность подобного элемента. По отношению к фигурам он то же самое, что для пения аккомпанемент; мало того, он подчас сам бывает пением, а фигуры выходят при нем только аккомпанементом; тут из придаточного он становится уже главным. Но имеет ли элемент краски значение побочное, главное или просто одинаковое с остальными, во всяком случае очевидно, что это отдельная совсем сила и что для выражения какого бы то ни было характера эффект этого важного элемента непременно должен согласоваться с другими эффектами.
IV
Предыдущим законом определяются различные моменты истории искусства. — Первичные эпохи. — Неполнота общей гармонии эффектов по невежеству. — Символические и мистические школы в Италии. — Предшественники Леонардо да Винчи. — Эпохи упадка. — Неполнота общей гармонии эффектов по несообразности. — Карраччи и их преемники в Италии. — Подражатели итальянского стиля во Фландрии. — Эпохи процветания. — Полная гармония эффектов. — Леонардо да Винчи. — Венецианцы. — Рафаэль. — Корреджо. — Всеобщность этого закона.
На основании этого закона мы составим еще одну классификацию произведений живописи. Очевидно, что при равенстве всех других условий произведения будут более или менее прекрасны, смотря по тому, яасколько полна в них общая гармония эффектов, и это правило, которое, в применении к истории литературы, указало нам последовательные моменты любой литературной поры, дает точно так же средство и в истории живописи распознать последовательные состояния любой художественной школы.
В первобытный период произведение еще несовершенно. Искусство недостаточно, и невежественный художник не умеет соединить эффекты, сводить все их к одному. Он овладевает некоторыми из них часто весьма удачно, даже гениально; но он и не подозревает существования других; видеть их мешает ему недостаток опытности; или же общий дух окружающей цивилизации отводит ему от них глаза. Таково состояние искусства в два первых возраста итальянской живописи. Гением и душою Джотто походил на Рафаэля; он обладал тем же богатством, тою же легкостью, тою же образностью, тою же красотой вымысла; чувство гармонии и благородства было у него не меньше; но язык искусства не сложился еще в ту пору, и вот он только лепечет, между тем как Рафаэль говорит. Он не учился у Перуджино и во Флоренции, древние статуи были ему неизвестны. В то время едва успели бросить первый взгляд на живое тело, не знали о мышцах ровно ничего и не замечали их могучей выразительности; красоту животного человека даже и не дерзали еще понимать и любить; это по-тогдашнему отзывалось язычеством; влияние богословия и мистицизма было еще слишком сильно. Таким образом, церковная и символическая живопись длится полтора столетия, не употребляя в дело главного своего элемента. Начинается второй возраст, и ювелиры-анатомы, сделавшись живописцами, впервые лепят в своих картинах и фресках крупные тела и верно приставленные члены. Но других сторон искусства им еще недостает. Им не известна архитектура масс и линий, которая в погоне за изгибом кривых и за идеальными размерами преобразует реальное тело в прекрасное; Верроккьо, Поллайоло, Кастаньо дают еще угловатые, неграциозные фигуры, все в буграх мышцы, "похожие, — как говорит да Винчи, — на мешки орехов”. Им не известны разности движений и физиономии; у Перуджино, Фра Филиппо Липпи, Гирландайо, в старинных сикстинских фресках неподвижные, как бы застывшие или однообразно вытянутые в ряд фигуры, казалось, так и ждут, чтобы ожить, последнего только дуновения; но оно к ним не пришло. Художники не знают всех богатств и утонченностей колорита, и тусклые, сухие лица Синьорелли, Креди, Боттичелли выделяются каким-то резким рельефом на фоне без воздуха. Надо было Антонелло да Мессина (Мессинцу) ввести в Италию масляную живопись, для того чтобы, благодаря гармонии и блеску лоснящихся и сливающихся тонов, по жилам этих фигур потекла наконец горячая кровь; надо было Леонардо да Винчи открыть незаметное ослабление света, для того чтобы воздушная перспектива давала возможность выявлять округлости и охватывать контуры их всей мягкостью светотени. Только к концу XV столетия все элементы искусства, освобождаясь один за другим, могут сосредоточить свои силы под рукой мастера, с тем чтобы своим гармоническим согласием проявить задуманный им характер.
С другой стороны, когда во второй половине XVI века живопись начинает упадать, тот кратковременный полный лад, который породил великие художественные произведения, теряется и уже не может быть восстановлен. Только что перед этим его не существовало, потому что художник не был достаточно сведущ и умел; теперь нет его потому, что художник недостаточно искренен (наивен). Тщетно Карраччи изучают дело с неутомимым терпением и заимствуют изо всех школ самые разнообразные и плодотворные приемы. Этот-то именно набор разнокалиберных эффектов и ставит работу их в довольно низкий уже разряд. Внутреннее чувство их так слабо, что не в силах породить гармоническое целое; они занимают у того, у другого и разоряются этими займами вконец. Ученость вредит им, соединяя в одном и том же произведении несоединимые эффекты. Кефал Аннибала Карраччи, во дворце Фарнезе, наделен мышцами микеланджеловского борца, заимствованною у венецианцев шириной плеч и мясистостью, улыбкою и щеками, перенятыми у Корреджо; с неудовольствием видишь перед собой неграциозного и жирного атлета. Святой Севастьян Гвидо в Лувре представляет торс древнего Антиноя, облитый таким светом, который по своему блеску напоминает корреджиевский, а по своей синеве — Прюдона; опять-таки с неудовольствием видишь перед собой сентиментального и милого мальчика палестры. Среди этого общего упадка выражение головы везде противоречит выражению тела; вы видите лица святоши, ханжи, светской дамы, кавалера, гризетки, молодого пажа или слуги на сильно развитых мускулатурах; изо всего этого выходят боги и святые, которые точь-в-точь пустые болтуны, нимфы и мадонны, глядящие салонными богинями, чаще же всего такие лица, которые, колеблясь между двумя ролями, не выполняют ни одной и потому совершенно уж ничтожны. Подобные несообразности надолго задержали на пути развития фламандскую живопись, в то время когда с художниками Микиелем Кокси, Мартином ван Ге-эмскерком, Франсом Флорисом, Генриком Гольциусом, Яном Роттенгаммером она было хотела сделаться итальянской. Фламандское искусство поднялось опять и достигло своей цели только тогда, когда новый прилив национального вдохновения поглотил иноземные наносы и развернул крылья племенным инстинктам. Тогда лишь вместе с Рубенсом и его современниками появилась своеобразная идея гармонического целого; элементы искусства, группировавшиеся прежде только для того, чтобы перечить друг другу, соединились для взаимного пополнения, и тогда живые создания заменили собой прежних недоносков.
Между периодами упадка и детства помещается обыкновенно период процветания. Но встретится ли он нам, как бывает чаще всего, в самой середине целой художественной эпохи, в узком промежутке, отделяющем невежество от лжевкусия, или найдем мы его, как бывает иногда, когда говорится о каком-нибудь единичном человеке или отдельном произведении, в известном эксцентрическом, внесрединном пункте — причиной выходящего из ряда вон художественного произведения все-таки будет общая гармония эффектов. В подтверждение этой истины история итальянской живописи представляет нам самые разнообразные и вместе самые решительные примеры. Все искусство великих художников основано на преследовании этого единства, и тонкость понимания, составляющая их гений, обнаруживается вполне как противоположностью их приемов, так и неразрывной связностью их замыслов. Вы видели у да Винчи, как чрезвычайное и почти женское изящество фигур, непередаваемая улыбка, глубокое выражение в чертах лица, меланхолическая возвышенность или дивная утонченность душ, изысканные или оригинальные позы согласованы с волнистой гибкостью очертаний, с таинственно приятным полусветом, с какими-то омутами возрастающих теней, с нечувствительными переходами в лепке тела, с чудною красотой туманных перспектив. Вы видели у венецианцев, как полный и роскошный свет, веселая и здоровая гармония подходящих и противоположных тонов, чувственный блеск колорита вообще согласованы с пышностью декораций, со свободой и великолепием жизни, с открытою энергией или патрицианским благородством голов, со сладострастной прелестью полного и животрепетного тела, с одушевленным и вольным движением групп, со всеобщим раздольем и счастьем. Во фреске Рафаэля скромность колорита вполне пристала силе и скульптурной неподвижности фигур, спокойной архитектуре всего расположения, серьезности и простоте голов, сдержанному движению поз, ясности и нравственной высоте экспрессий. Картина Корреджо — нечто вроде заколдованного сада Альсины, где ослепительная прелесть одного света, сливающегося с другим, своенравная грация волнистых или ломаных линий, поразительная белизна и мягкие округлости женских тел, пикантная неправильность фигур, живость, нега, вольный разгул экспрессий и жестов соединяются все заодно, чтобы создать грезу того упоительно-тонкого наслаждения, какое разве только чары волшебницы да любовь женщины могли бы уготовить для избранника души. Все сплошь произведения выходят из одного главного корня; одно преобладающее и изначальное ощущение живит и разветвляет до бесконечности многосложный рост эффектов; у Беато Анджелико — это духовное видение сверхъестественного озарения свыше и мистическое представление небесного блаженства; у Рембрандта — это идея света, замирающего во влажной мгле, и скорбное чувство действительности, полной всяких страданий. Вы найдете подобную же (господствующую) идею, которая определяет известный род линий, выбор типов, расположение групп, экспрессии, жесты, колорит, у Рубенса и Рейсдала, у Пуссена и Лесюэра, у Прюдона и Делакруа. Что ни делай критика, ей не распознать всех последствий такой идеи; они неисчислимы и слишком уж глубоки; жизнь — одна и та же в созданиях человеческого гения и в созданиях природы; она проникает в бесконечно малые, в каждую наимельчайшую подробность; никакому в мире анализу вовек не исчерпать ее вполне. Но как в созданиях человека, так и в естественных произведениях наблюдательность выясняет те существенные сочетания, те взаимные зависимости, то конечное направление и те совокупные гармонии, подробностей которых никогда не распознать и не разобрать ей вполне.
V
Общий перечень. — Начало превосходства и соподчиненности в художественных созданиях.
Мы можем теперь, милостивые государи, окинуть одним взглядом все искусство целиком и уяснить себе начало, определяющее каждому произведению соответственное ему место в общей иерархии или шкале. На основании предыдущих наших исследований мы ведь положили, что всякое художественное произведение есть система частей, то созданная вся сплошь человеком, как в архитектуре и музыке, то воспроизведенная им по какому-нибудь реальному предмету, как в литературе, скульптуре и живописи, и мы при этом обратили внимание на то, что цель искусства — проявить посредством такой совокупности какой-нибудь выдающийся характер. Отсюда мы заключили, что художественное произведение выйдет тем лучше, чем характер в нем будет более видным и преобладающим. В выдающемся характере мы отличили две возможные точки зрения, смотря по тому, насколько он важен или, другими словами, устойчив и первичен, и, смотря по его благотворности, т. е. по степени, в какой он способен содействовать сохранению и развитию той особи или той группы, к которой он принадлежит. Мы видели, что этим двум точкам зрения, с которых можно определить важность характеров, соответствуют две шкалы для оценки художественных произведений. Мы заметили, что эти две точки зрения сходятся в одну и что в общем итоге важный или благотворный характер всегда есть лишь сила, измеряемая то действиями ее на другие, то действиями ее на самое себя; отсюда следует, что характер, обладая двоякого рода силой, имеет и двоякого же рода ценность. Тогда мы старались отыскать, каким образом в художественном произведении характер может обнаружиться яснее, чем в природе, и увидели, что он выступает рельефнее, когда художник, употребляя в дело все элементы (составные части) своего произведения, сводит эффекты их, т. е. производимые им впечатления, к общему единству. Таким образом, появилась перед нами третья еще шкала, или лестница, и мы увидели, что художественные произведения тем прекраснее, чем с более всеобщим преобладанием запечатлевается и выражается в них характер. Мастерским произведением искусства будет то, в котором наибольшая сила получит наибольшее развитие. На языке живописца высшим произведением слывет то, в котором характер, имеющий наибольшую ценность в природе, получает от искусства возможно больший прирост ценности. Позвольте мне сказать вам то же самое в менее технических словах. Теории искусства, как и всему остальному, учат нас общие наставники наши, греки. Взгляните на последовательные преобразования, которые мало-помалу воздвигнули в их храмах какого-нибудь Зевса Филиоса (благоприветного, радушного), Венеру Милосскую, Диану-охотницу, Юнону, вроде хранящейся в вилле Людовизи, Парки Парфенона и все те совершенные образы, которых даже в изувеченных обломках довольно для того, чтобы наглядно показать нам теперь всю преувеличенность и все недостатки нашего искусства. Три разные ступени, очевидные в их замысле, и есть именно те ступени, которые привели нас к нашему учению. Вначале их боги были стихийные, коренные могущества Вселенной: Мать-Земля, подземные Титаны, Реки быстрые, Юпитер-Дожденосец, Геркулес Красное Солнце. Несколько позже эти боги высвобождают свою человечность из-под грубых сил природы, и вот Паллада-воительница, целомудренная Артемида, Аполлон-освободитель, Геркулес — усмиритель грозных чудовищ — все благотворные силы образуют возвышенный хор тех совершенных фигур, которых поэмы Гомера рассадили по золотым престолам. Много веков протекло, прежде чем они сошли на землю; необходимо, чтобы линии и размеры, которыми так долго орудовал человек, открыли наперед все свои средства и могли сдержать бремя той божественной идеи, которую им приходилось на себе нести. Наконец, персты человека оставляют в бронзе и мраморе бессмертную эту форму; первичный замысел, сначала выработанный в храмовых мистериях, затем преображенный в сновидениях певцов, достигает своей полной законченности под рукой ваятеля.
Послесловие. О жизни и творчестве Ипполита Тэна
На свете существует лишь одно дело, достойное человека: раскрытие какой-нибудь истины, которой отдаешься и в которую веришь.
И. Тэн
I
Ипполит Адольф Тэн (21.04.1828 — 5.03.1893) — выдающийся французский философ, историк, психолог, теоретик искусства и литературы, публицист. Его труды выходили во Франции многими изданиями сразу же после их написания, затем переводились на основные европейские языки; на русском были изданы все основные его работы. Они формировали наряду с трудами отечественных критиков и философов художественные взгляды российской интеллигенции. В отечественной публицистике широко обсуждалось его исследование, посвященное истории французской революции.
После Октябрьской революции 1917 г. в Советском Союзе лишь однажды была выпущена ’’Философия искусства”. Правда, не в том виде, как издавал ее автор. В статьях о Тэне отдавалось должное его тонкой наблюдательности, эрудиции, знанию фактов общественных и общекультурных и точности оценок отдельных эстетических явлений. В них, однако, преобладал социологический подход к оценке его творчества. ’’Внеклассовый” подход Тэна к историографии, литературоведению и искусствоведению осуждался; может быть, это было одной из причин того, что современная российская читающая публика не знакома с его работами. Издание в 1880 г. (в России в 1899 г.) полного текста лекций ’’Философия искусства”, которые Тэн читал в Школе изящных искусств начиная с 1864 г., выходивших отдельными брошюрами с 1865 г. (в России перевод первого цикла лекций был выпущен в 1866 г.), представляла собой попытку не только ввести работы этого замечательного исследователя и писателя в научный обиход, но и довести его труды до широкого читателя.
* * *
Ипполит Тэн родился в городке Вузье, в Арденнах. Отец Ипполита был стряпчим (судейская должность), а дед - супрефектом. В детстве он занимался с отцом латынью, а с дядей - английским языком. Но в семье что-то разладилось, и ребенка на несколько лет отдают в интернат, где, по его словам, "шла совершенно противоестественная жизнь". Он рос болезненным, хилым, любил уединяться, отличался замкнутостью. В 1842 г., после смерти отца, семья переезжает в Париж, и Ипполита определяют в Колледж де Бурбон, в класс философии. Здесь он с увлечением занимается изучением Аристотелевой логики и впоследствии всю жизнь не перестает восхищаться красотой силлогизмов. Но особенно импонируют ему трактаты Спинозы. Возможно, что именно они заложили основы того подхода к философии, который сам Тэн назовет потом "научным капиталом".
Один из преподавателей коллежа, переведший на французский язык ’’Эстетику” Гегеля, давал Тэну читать его книги. До конца дней своих сохранил Тэн благоговейное отношение к великому философу. В 1848 г. он поступил в Высшую нормальную школу, которую закончил глубоко убежденным сторонником ’’научного принципа”, — вера в грядущее торжество науки стала для Тэна и его поколения основой для выработки той методологии, которая позже приведет к разработке и развитию идей позитивизма. В 1851 г., после окончания Нормальной школы, Тэн переезжает в г. Невер, где преподает философию в лицее. Все же свободное время он отдает изучению произведений Гегеля. В 1853 г. Тэн возвращается в Париж и представляет в Сорбонну диссертацию на степень доктора философии. По существовавшим в те далекие времена правилам нужно было защитить две работы: одну — на латыни по древней философии и вторую — на французском языке по современной философии. Латинской темой он избрал сюжет из диалогов Платона, а французская называлась ”06 ощущениях”. Последнюю Сорбонна отклонила. Она была посвящена оригинальным рассуждениям об ощущениях как источнике познания. Это исследование легло в основу более позднего (1870) сочинения Тэна ”De l’intelligence” (в русском переводе — ”06 уме и познании”, 1872 г.).
Вместо отвергнутого Тэн представил трактат на тему ’’Басни Лафонтена”, в котором рассмотрел с точки зрения гегелевской эстетики отличия поэтического жанра басни (на примере Лафонтена) от первобытной басни (’’звериный эпос”) и от философской (аполог). Особое внимание исследователь уделил сатирической направленности басен Лафонтена. Напомним, что в свое время их едкий сатирический подтекст тщательно скрывался автором. Однако это не помогло: несмотря на колоссальную их популярность даже среди аристократии, умный, проницательный и жесткий король Франции Людовик XIV, невзлюбивший Лафонтена уже за его скабрезные ’’рассказики”, почерпнутые из Боккаччо, Апулея, Рабле и Маргариты Наваррской, после выхода в свет басен навсегда (до конца дней своих) отказал поэту в покровительстве и противился его избранию во Французскую академию.
Блестящая защита диссертации не открыла молодому ученому дверей в официальную науку. Тэн выступает как публицист, путешествует по Европе, много пишет и печатает. В 1855 г. опубликованы 19 его статей и книга путевых заметок о путешествии по Пиренеям; в 1856 г. — 30 статей, в основном рецензий: на ’’Мемуары” герцога Сен-Симона, на ’’Историю английской революции” Гизо, на издание книг Диккенса, Шекспира, Менандра. Читатель-интеллектуал, однако, скоро увидел в этих вроде бы разрозненных публикациях определенную систему, единый взгляд. Все эти статьи и эссе оказались ’’заготовками” к двум книгам: ’’Французская философия XIX века” (1857) и ’’История английской литературы” (1864). В этих работах проявился талант Тэна как мыслителя и писателя. Он получает наконец кафедру в Школе изящных искусств. К этим двум монографиям примыкает цикл его исторических исследований, начатый эссе ”6 Тите Ливии” (1856), за которое была присуждена премия Французской академии, и завершившийся выпуском ’’Критических опытов по истории” (1858 г., русский перевод 1869 г.) и ’’Новых критических опытов по истории” (1865), — обе книги при жизни Тэна выдержали по шесть изданий.
Все эти работы отличают свойственные Тэну блеск стиля, удивительная эрудиция, но главное — благоговение перед фактом, что и составляет основу его научного подхода к явлениям литературы, к искусству, истории. Анализ огромного числа разных произведений, разобранных Тэном в этих монографиях, стал основой для достижения главной цели — создания критики как науки. Если раньше критика описывала только впечатления от произведения литературы или искусства, то Тэн видит в критике способ познать душу автора, а более глубокий анализ, по его мнению, дает возможность понять единство индивидуальностей круга авторов, школы, направления, характеризующееся преобладанием одной, характерной черты над остальными. Это есть то, что Тэн назвал господствующей способностью (faculte maitresse) в творчестве, обусловленной тремя основными внешними факторами: расой (национальные особенности), средой (особенности местности) и моментом [традицией и эпохой). Конечно, это построение навеяли Тэну биология и зоология z их понятием типа. Но Тэну удалось не только выделить господствующую черту, но и рассмотреть эволюцию типов под воздействием изменяющихся внешних факторов и условий. Наконец, для того чтобы критика стала наукой, необходимо еще привлечь психологию. Тэн считает, что надо отказаться от ’’предпочтений” а ’’осуждений”, а относиться к разбираемым произведениям с таким же хладнокровием, как ботаник, изучающий свой гербарий. Историк и критик в области литературы и искусства продолжают дело естествоиспытателя. Научный анализ одинаково приложим как к картинной галерее, так и к зоологическому музею. Эти взгляды, которые легли в основу исследовательского метода Тэна в области питературы, были перенесены им в сферу истории и теории искусства.
С 1864 по 1869 г. И. Тэн читал в Школе изящных искусств лекции по теории искусства. Им были опубликованы брошюры, содержащие годовые лекционные курсы: ’’Философия искусства” (1865), ’’Философия искусства в Италии” (1866), ”06 идеале в искусстве” (1867), ’’Философия искусства в Нидерландах” (1868) и, наконец, ’Философия искусства в Греции” (1870). Начиная с 1880 г. эти лекции, специально подготовленные, издаются в виде монографии под заглавием ’’Философия искусства”. (Мы издаем монографию именно под этим названием, сохраняя структуру ее в виде сборника годовых лекционных курсов.) Мы уже говорили о ее громадной популярности не только во Франции, но и по всей Европе и в России (до 1917 г. книга вышла пятью изданиями, после — один раз, в 1933-м). Это связано не только : великолепным изложением, но и с тем методом, который Тэн применял при анализе и исследовании явлений литературы и изобразительного искусства. Здесь Тэн стоит на твердом фундаменте позитивизма.
* * *
Ипполит Тэн, конечно, справедливо считается одним из крупнейших представителей позитивистской теории, точнее сказать, ’’классического позитивизма”. Но следует признать, что если исходные постулаты его философской системы были позитивистскими, то в развитии этой системы и применении ее к исследованию конкретных явлений он вполне самобытен.
Стержневым принципом, на котором строится классический позитивизм, является убеждение, что подлинное, положительное (’’позитивное”) знание может быть получено только как результат отдельных специальных наук и их синтеза, объединения. Считается, что с точки зрения позитивизма философия как особая наука, претендующая на самостоятельное исследование реальности, не имеет права на существование. Это мнение базируется на том факте, что сам Огюст Конт [1798—1857), создатель позитивизма (его главный труд ’’Курс позитивной философии” вышел в шести томах в 1830—1842 гг.; в русском переводе назывался ’’Курс положительной философии”, издан в двух томах в 1899—1900 гг.), провозгласил решительный разрыв с философской (’’метафизической”) традицией, считая, что наука не нуждается в какой-либо стоящей ’’над ней” философии. Название ’’философия” можно, по мнению позитивистов, сохранить за синтезом научного знания, т. е. зa наиболее общими выводами из естественных и общественных наук.
Нет смысла превращать это послесловие в философский трактат и пытаться в нем подробно излагать историю развития позитивизма, но для понимания проблемы все же об основных его идеях придется кратко сказать.
Положение классического позитивизма, заключающееся в том, что претензии на раскрытие причин и сущностей должны быть удалены из науки, что наука не объясняет, а лишь описывает явления и отвечает не на вопрос ’’почему”, а на вопрос ’’как”, — это положение вовсе не обязательно ведет к феноменализму, а через него — к субъективному идеализму. Позитивизм может быть материалистическим, он зиждется на признании способности науки к бесконечному развитию. Он, правда, очень строго ставит вопрос о познаваемости объективной реальности и о критериях истинности. Эта строгость присуща ему с самого начала: уже представители классического позитивизма (а его корни — в научно-технической революции конца XVIII — начала XIX в.) высказывали подчас довольно ’’крамольные” мысли о познаваемости мира. Так, Г. Спенсер (1820—1903) в работе ’’Основные начала” (русский перевод 1897 г.), переосмысливая кантианский агностицизм, утверждал, что наука способна познавать лишь отношения (сходства, различия и т. п.) между чувственными восприятиями, но не в состоянии проникнуть в их сущность. С этой точки зрения материя, движение, сила —лишь символы неведомого реального. Непознаваемое выступает здесь как ’’первопричина”, в признании которой, по мнению Спенсера, сходятся наука и религия. Для Тэна точки соприкосновения науки и религии нет, он строит научную психологию в рамках позитивистской теории познания. Упомянутая мной работа ”06 уме и познании” опирается на современное ему состояние биологии и физиологии, чем и объясняются особенности его подхода к проблеме познаваемости мира.
Позитивизм оказал значительное влияние на методологию естественных и общественных наук, особенно во второй половине XIX в. Но затем последовал кризис позитивизма, вызванный коренной ломкой понятий в физике, химии, а затем биологии на рубеже XIX—XX вв. Эту революцию позитивизм пережил именно в силу своего основного постулата о возможностях науки и о том, что методы философии должны быть научными, а не спекулятивными.
* * *
Своеобразие и самобытность Тэна при выработке своего подхода к изучению явлений и фактов творческой деятельности человека (литература, искусство, общественная деятельность) выразились прежде всего в синтезе английского позитивизма (представители которого видели в природе лишь набор фактов) и немецкой философии (которая рассматривала природу как систему законов). Но при этом Тэн не становится механически на позиции классического позитивизма Конта. Он буквально пронизывает свой синтез замечательной идеей, что именно психология является звеном между науками о физической природе и о сознании человека, что именно психология есть та дисциплина, с помощью которой становится возможным придать научный характер исследованиям в области человеческого творчества. Любое произведение литературы, искусства и т. п. рассматривается Тэном как продукт среды, расы и исторического момента. Именно эти главенствующие факторы: географическая среда и условия существования, национальный характер, с ними связанный, и особенности исторического и социального бытия — обусловливают те причины и влияния на автора и его произведение, исследуя которые можно понять авторскую душу, ее ’’господствующую способность”, а через нее — характер героев и всего произведения. Читая лекции Тэна в разделе ”06 идеале в искусстве”, поражаешься, насколько продуктивен подход автора к исследованию явлений культуры. Не отрицая примера натуралистов, с холодным бесстрастием относящихся к объектам своего исследования, Тэн к научному подходу присоединяет еще эстетическую и этическую точки зрения, исследуя типичные характеры, господствующие типы, их устойчивость, силу и значимость, их способность воплощать наиболее существенные черты эпохи (моменты). В этом и состоят фундаментальные идеи, исходные посылки, разработка и применение которых для анализа феноменов литературы, искусства и культуры создали ’’культурно-историческую школу”. Велико число ее представителей, это целая плеяда замечательных критиков, искусствоведов и литературоведов от Георга Брандеса (Дания) до Д. Н. Овсянико-Куликовского (Россия) — все они внесли существенный вклад в развитие научной критики и эстетики. Справедливо отметил П. Сорокин, русский философ и социолог, ’’необходимость того метода изучения художественных произведений, которым пользовался во Франции И. Тэн, а у нас Д. Н. Освянико-Куликовский, метода, объясняющего творчество какого-нибудь художника из его миропонимания, а миропонимание последнего — из ’’духа” эпохи”[139].
Тэн опрадывает свой подход к изучению творений человеческого духа именно многоплановостью производимого ими воздействия на нашу психику. Высшим планом является то, что, ’’сам того не подозревая, он (художник. — A. Af.), подобно поэту, доставляет истории самый плодотворный документальный материал”. Творение автора становится фактом, а критика творчества — наукой. Осознание и доказательство этого — главная заслуга Тэна как философа искусства.
Изучение каждого факта искусства Тэн строит на анализе характера. Скрупулезно и очень широко рассматривая эволюцию изображаемых характеров в литературе и искусстве, он приходит к таким выводам: ’’...характеры вносят с собой в художественное произведение именно ту ценность, какую сами они имеют в природе”, ’’...мастерским произведением искусства будет то, в котором характер наиболее сильный получит наибольшее развитие”, а нравственная шкала характеров определяется им как две стороны одного и того же качества — сила характера: важность и благотворность. Так был проведен полный анализ характеров в цикле лекций, и Тэн делает из него замечательный по точности вывод: ”Во главе природы есть верховные силы, властвующие над всеми остальными; во главе искусства есть такие художественные произведения, которые также превосходят все остальные. Обе эти вершины стоят вровень друг к другу, и самые высшие силы природы выражаются самыми превосходными художественными созданиями”.
Выше уже говорилось, что к концу первого периода своей деятельности Тэн занялся разработкой проблем психологии. В книге ”0б уме и познании” он развил идеи, которые были высказаны в отвергнутом Сорбонной трактате. Но теперь Тэн строит строгую научную систему: ощущения являются истинным источником познания, они воспроизводятся в нас посредством образов и получают законченное и прочное существование при помощи обозначающих их названий, знаков. Он строит научную психологию, изгоняя из нее все, что связано с ’’метафизическими” понятиями. Для этого Тэн максимально сближает психологию с физиологией, но здесь возникает обычный диалектический парадокс — вместе с ’’грязной водой” метафизических понятий выплескивается ’’ребенок”: ’’...надо оставить в стороне такие понятия и слова, как рассудок, разум, воля, сила личности и даже самое понятие ”Я”.
Он изгоняет из предмета изучения ’’научной психологией” понятия духовного, индивидуального ”Я”. Конечно, эти идеи не могут быть признаны сейчас, хотя бы з силу того, что рассуждения Тэна опирались, разумеется, на те факты, которые аакопились в психологии и физиологии к середине XIX века. Тем не менее было бы эшибкой отвергнуть целиком аргументацию Тэна в защиту своего мировоззрения. Например, в теории познания в центре его внимания оказалось такое фундаментальное понятие, как критерий истинности. И для исследования этого критерия он подробно рассматривает природу заблуждения, понятия абсолютного и относительного в познании. В противовес агностицизму Канта он развивает вполне реалистический взгляд на процесс познания: задача познания — ’’преодоление галлюцинаций и иллюзий”, создание ’’науки вещей и фактов”; он признает, что нами познаются факты и ’’задача — определить, как они рождаются, каким образом и при каких условиях сочетаются и каковы постоянные результаты подобных сочетаний (”Об уме и познании”. Спб., 1872. С. И). Критерием истинности, по Тэну, является ’’взаимная согласованность представлений”. Если исходные данные достоверны, то подобный критерий вполне достаточен.
Труд об уме и познании, по мысли автора, не должен был завершить его размышления о психологии. За ним должен был последовать другой — о воле, т. е. уже не о созерцательной, а о действенной стороне человеческой психики. Но продолжить занятия психологией Тэну помешали политические события: началась франко-прусская война, возникла Парижская коммуна.
Я весьма не люблю политики, но очень люблю историю.
И. Тэн
II
Когда началась франко-прусская война, Тэн находился в Германии. Весну 1871 г. он провел в Англии, читал лекции в Оксфорде. По возвращении в Париж он нашел свое отечество глубоко взволнованным войной и Коммуной, страна находилась в процессе перехода от монархии к республике. Он не мог заниматься политикой — этому противился весь склад его характера, но для него появилась возможность послужить Франции, поставив перед ней зеркало Истории, содействовать национальному самосознанию и дать возможность из ее прошлого извлечь уроки для предстоящего изменения государственного строя. У него созрела мысль написать историю происхождения современной Франции. ”До моих ’’Origines” (труд свой он так и назвал — ”Les origines de la France contemporaine”, т. e. ’’Происхождение современной Франции”), — писал он, — я не имел политических принципов и даже предпринял мою книгу, чтобы их доискаться”.
Конечно, нельзя сказать, что у Тэна не было до этого основополагающих политических принципов. Анализ духовных истоков английской литературы и философии XIX в. позволил ему выдвинуть четкий принцип: ’’Полный детерминизм и полная ответственность — эта старинная доктрина стоиков в настоящее время разделяется двумя самыми глубокими и самыми противоположными мыслителями Англии: Стюартом Миллем и Томасом Карлейлем, — и я под нею подписываюсь”. Что же касается нравственного воздействия религии, то он отказывал в нем только современному ему римскому католицизму. Тэн подчеркивал, что ослаблению христианства в истории всегда сопутствует моральный упадок общества: ”Ни философский разум, ни художественная и литературная культура и никакое правительство не в состоянии заменить его (религиозного. —А. М.) влияния. Только оно может удержать нас от рокового падения, и старое Евангелие — и теперь еще лучший союзник социального инстинкта”.
Книга Тэна создавалась им с 1876 г. до конца жизни (1893). Последний прижизненный том издан в 1891 г. (1-й том 3-й части), незаконченный 2-й том издан уже после смерти Тэна — в 1893 г. Русский перевод вышел в пяти томах в 1907 г., и после этого книга на русском языке не переиздавалась. Тэн задумал ее в трех частях: в первой изображена старая Франция до Великой французской революции, во второй — история этой революции до прихода к власти Наполеона Бонапарта и третья часть — новая Франция, построенная на развалинах старой. Что же это за произведение? Множество книг написано о Великой французской революции, а интерес к ней нисколько не ослабевает. В отзыве на первые тома книги в 1878 г. П. А. Кропоткин отмечал: ’’Каждое новое сочинение встречается с таким же интересом, сак бы дело шло о вновь открытой стране. Все партии стараются сделать из нее оружие для подтверждения своих воззрений: якобинцы, анархисты, умеренные республиканцы, конституционалисты и отъявленные роялисты. ...В 1876 г. исследование Тэна было встречено в историческом мире как событие. Тэн — историк вполне враждебный если не самой революции, то формам, в которые она вылилась. Эта вражда усиливается, по мере того как он подвигается в своей работе”. И несмотря нa то что концепция Тэна для Кропоткина неприемлема, что картины, рисуемые Тэном, с его точки зрения, неверны, тенденциозны, в своем отзыве Кропоткин пишет: ’’После Тэна формальная история революции уже невозможна. Будущая история революции должна быть историей народного движения за этот период”[140].
Тэн показал народ в революции, показал с суровой стороны и с такой силой, что ужаснул читателей. Его сочинение явило собой новый подход в освещении истории революции. Большинство прежних работ были написаны в той или иной степени с учетом интересов народа. Тэн, собрав колоссальное количество фактов и архивных материалов, расположил их в тщательно продуманной им последовательности, задумав показать революционное движение с иной стороны. Для него французские законодатели, начавшие с ’’Декларации прав человека и гражданина”, были людьми, исходившими из понятия о человеке как совершенно разумном существе. Для них народ был высшей ценностью и высшим судьей. Этому Тэн противопоставляет понятие о человеке, представителе народа, как о первобытном существе, нравы которого лишь немного смягчились под действием общего развития, но природа которого не изменилась. Поэтому историк относится скептически к работе Учредительного собрания, к его затее создать новую Францию на основании теории разделения властей и догматики ’’общественного договора”. Он изучает ситуацию во всех слоях общества. Особое внимание (и это понял Кропоткин!) он уделяет крестьянскому движению во Франции, тем нескончаемым жакериям, которые вспыхивали задолго до революции и все более ожесточались как идейно (от лозунгов ’Хлеба!” довольно быстро перешли к лозунгам ”Не платить ни налогов, ни податей, ни долгов!”), так и физически (убийства и уничтожение феодалов и их собственности). Именно это подготовило столь быструю победу нового строя.
Тэн скрупулезно анализирует дальнейшее развитие событий. Прежняя власть упразднена, новое правительство увлечено прениями и теориями; вследствие этого в стране водворяется ’’безначалие” — ’’спонтанная анархия ”. Если многие историки вдели в событиях, приведших к падению абсолютизма, патриотический подвиг, то Тэн описывает картину уличного революционного движения как фактор, который, мало-помалу расширяясь, захватывает всю страну, переводя ее в хаотическое состоите, созданное именно ’’безначалием”. Эта анархия, этот хаос послужили благо-приятной почвой для зарождения нового политического типа — якобинцев — и для захвата ими власти. Начался невиданный террор...
Сразу же после выхода в свет первых томов книга Тэна вызвала бурные дискуссии. Но особенно остро разгорелись они после того, как против всей концепции Тэна выступил французский историк Альфонс Олар (1849—1928 гг.; его труд Политическая история Французской революции” вышел в 1902 г.). Здесь не место подробно обсуждать эту дискуссию, скажу только, что отрицательные характеристики позиции Тэна сохранились в исторической литературе до нашего времени. ’’Книга эта, построенная на тенденциозном подборе документов, представляет собой по существу памфлет, направленный против Французской буржуазной революции конца 18 века”. Это из статьи, помещенной в 43-м томе БСЭ (2-е изд. М., 1956. С. 534). ’’Из-под научной методы Тэна просвечивает страсть консерватора”. Это Эмиль Золя (статья 1878 года). ’’Превратившись под впечатлением событий Парижской коммуны 1871 г. из умеренного либерала в ярого консерватора, Тэн дал резко отрицательную оценку французской революции. Применив к изучению истории ’’психологический” метод, Тэн не дал последовательного изложения революционных событий, ограничившись характеристикой виднейших деятелей революции и ее направлений. Тэн глубоко презирал народ и ненавидел якобинцев (курсив мой. — А. М.), которые, с его точки зрения, едва не погубили Францию”. Это из статьи о Тэне в 55-м томе БСЭ (1-е изд.).
Но были авторы, которые увидели в труде Тэна иное. О Кропоткине я уже говорил: не приняв концепции Тэна, он понял, что Тэна поразили формы, в которые вылилась диктатура народа. Некоторые русские историки, особенно Н. И. Кареев (1850—1931), пытались защитить Тэна, в особенности от обвинений в тенденциозном подборе материала. Характерно отношение к книге Тэна со стороны русского религиозного философа: ”Олар обнаружил у Тэна целый ряд ошибок и неточностей. Тем не менее Тэн остается одним из величайших мастеров истории, а Олар... не поднимается над уровнем шаблонного собирателя материала”[141].
К сожалению, книгу Тэна, которая не переиздавалась в русском переводе около ста лет, не может прочитать современный российский читатель. Поэтому здесь не место давать серьезный разбор всей концепции Тэна — историка революции. Но можно сказать следующее. Тэн исследовал феномен революции и ее вождей ’’без гнева и пристрастия”. Еще в ранней работе 1854 г. он описал, как, прочитав книгу Ф.-Ж. Бюше о революции, был поражен ’’посредственностью” якобинцев и их вождей, но он защищал их против той оценки, которую им дал Т. Карлейль в своей ’’Истории Французской революции”. Тэн писал: ’’Они были преданы отвлеченной истине, как ваши (английские. — А. М.) пуритане — божественной; они следовали философии, как ваши пуритане — религии; они ставили себе целью всеобщее спасение, как ваши пуритане — свое личное”. Однако в 1878 г., уже после Парижской коммуны, изучив массу фактов и материалов, Тэн увидел в якобинстве ’’зловредный политический тип, происшедший от гипертрофии властолюбия, вскормленного догмою о всемогуществе государства на благоприятной для этого почве анархии, вызванной революцией”.
* * *
Работая над книгой по истории Франции, Тэн стремился выработать свои, консервативные представления об обществе, его строении и функциях, об условиях цивилизации и о государстве — представления, противоположные тем, которые господствовали во время революции и после нее.
Для Тэна цивилизация — не внезапный результат осуществления отвлеченных принципов и теорий, а результат медленного и долгого накопления трудов лучших людей и лучших (цивилизованных) народов (курсив Тэна). Цивилизованность создается обществом, это его высшая функция, но, чтобы быть к этому способным, общество должно сохранять свое естественное строение, а личность — свою свободу. Эта свобода нужна не только в интересах самой личности, но и для развития социального инстинкта, который проявляется лишь в свободных ассоциациях. Отсюда необходимость самоограничения государства по отношению личности и к ассоциациям личностей. Личность должна руководиться лучшими продуктами истории — честью и совестью: в силу совести личность признает а собой обязанности, от которых ее никто не может освободить; в силу если она признает за собой права, которых никто не может ее лишить. Отсюда же вытекает обязанность государства допускать те ассоциации, в которых проявляется социальный инстинкт личности (церковь, община, благотворительные, ученые и иные общества), и заботиться о широком и плодотворном развитии их деятельности. Самым вредным, считает историк, является давление и захват государством деятельности местных учреждений. Тэн яркими красками изображает безусловный нравственный вред централизации власти, будь то якобинский деспотизм или королевский абсолютизм.
* * *
Нет смысла давать подробный разбор только что прочитанной книги ”Философия искусства”. Вдумчивый читатель, если он смог прочитать книгу Тэна целиком, т. е. как бы прослушать его лекции по истории и философии искусства, поймет, в чем справедлива, а в чем ошибочна оценка творчества Тэна, приведенная энциклопедии: ’’Несмотря на то, что его философия истории (и искусства) является ненаучной, Тэн был тонким наблюдателем и превосходным знатоком историко-литературных (и художественных) явлений. Его работы ценны широким сопоставлением фактов из различных областей истории культуры и образным изложением. В характеристиках отдельных писателей и художников Тэн часто преодолевает односторонность своей социологии искусства” (БСЭ 1-е изд. Т. 55).
Мне же хочется привести слова самого Тэна, сказанные им на лекции по философии и истории искусства: ’’Моя обязанность лишь изложить факты и показать вам происхождение этих фактов”. Вот этот показ и составляет основную заслугу Тэна как теоретика-искусствоведа. И в самом деле, ’’теория среды”, расширенная Тэном, который присовокупил к географическим и климатическим условиям такие факторы, как характер ’’расы” (национальность), государственного устройства и, что особенно важно, ’’моральный климат”, или состояние умов и нравов данной эпохи (’’момента”), — это и есть настоящая многофакторная теория, которая легла в основу его литературоведения и искусствоведения, а затем историографии и обеспечила непреходящую ценность и успех его произведениям.
А. М. Микиша
Примечания
1
Диссекция — расчленение трупов людей и животных с целью их изучения, в том числе и художественного.
(обратно)2
Геян — мифический гигант, чучело которого носят с песнями и гиканьем.
(обратно)3
Два портрета Форнарины находятся: один во дворце Шиарра, а другой во дворце Боргезе.
(обратно)4
0 физиологических основаниях музыкальной гармонии см. превосходную статью Г. Гельмгольца, сделавшего уже такие богатые открытия в области физиологического исследования членораздельных звуков человеческой речи. (Популярные научные статьи Г. Гельмгольца. Спб., 1866: Изд. О. Бакста. Вып. I. С. 67.)
(обратно)5
Grote. History of Greece, v. II, p. 337. Boeckh. Economie politique des Atheniens, I, 61; Wallon. De l’Esclavage dans l’antiquite.
(обратно)6
Аристофан. Лягушки; Лукиан. Петух.
(обратно)7
Они обыкновенно звались стеноломами.
(обратно)8
Фукидид. Книга 1-я. См. разные экспедиции афинян между Кимоновым миром и Пелопоннесской войной.
(обратно)9
Ксенофонт. Лакедемонская республика.
(обратно)10
Диалоги Платона; Аристофан. Облака.
(обратно)11
Обычай, принятый лакедемонцами около 14-й Олимпиады. Платон. Хармид.
(обратно)12
Геродот.
(обратно)13
Мишле. Библия человечества. 205.
(обратно)14
”Рим за тридцать лет до Р. X.” Виктора Дюрюи.
(обратно)15
Положение обязывает (фр.)
(обратно)16
Закон этот может служить подспорьем при изучении литератур и различных искусств. Стоит лишь низойти от четвертого члена к первому, точно следуя для этого порядку основного ряда.
(обратно)17
Туда (нем.).
(обратно)18
”Придворный” (1528).
(обратно)19
Орден камальдулов основан в 1012 г. в Апеннинах, в долине Камальдола.
(обратно)20
Генрих Гейне, Виктор Гюго, Шелли, Ките, Элизабет Браунинг, Эдгар По, Бальзак, Делакруа, Декан и бездна других. В наше время было много прекрасных артистических натур. Почти все они пострадали от своего воспитания или от влияния среды. Один Гете сохранил равновесие, но для этого понадобились весь его мудрый ум, его правильная жизнь и его всегдашняя власть над собой.
(обратно)21
Это впервые напечатано в ’’Gazette des beaux arts” маркизом Иосифом Кампори.
(обратно)22
Эрколе Рангони, кардинал.
(обратно)23
Кардинал Иннокентий, сын Франческетто Чибо и Магдалины Медичи, сестры Льва X.
(обратно)24
Брат Мариано Фетти, светский доминиканец, сменивший Браманте, предшественника Себастьяна в звании пьомбо (т. е. начальника канцелярии свинцовых печатей или булл), который вместе с Барабалло, Кверно и им подобными был одним из самых веселых и забавных лиц при дворе Льва X и отличался в то же время дружеским отношением и покровительством художникам.
(обратно)25
Ариосто.
(обратно)26
Книга "Государь” переведена на русский Н. Курочкиным и издана в 1869 г. в Петербурге. (Примеч. пер.)
(обратно)27
Мастерской.
(обратно)28
Назовем здесь между прочим хоть Лукрецию, жену Андреа дель Сарто.
(обратно)29
Вазари не слишком точен в мифологии и принимает Улисса за Язона, который по совету Медеи ’’сварил” своего отца Эзона.
(обратно)30
См. в жизнеописании Андреа дель Сарто у Вазари подробности и обстоятельства различных заказов.
(обратно)31
Еще в 1444 году Порро Спинелли и семья Биччи писали на манер Джотто.
(обратно)32
’’Праздникам, которые давались ими таким образом, — говорит Вазари, — не было числа, теперь же эти сборища почти совсем расстроились”. Смотри у него, для контраста, жизнеописания Гвидо, Карраччей и Ланфранко. Лодовико Карраччи первый вместо обычного Messer (Мастер) стал прилагать себе титул Magnifico (Великолепный).
(обратно)33
То есть у итальянцев, с одной стороны, и у фламандцев с голландцами — с другой.
(обратно)34
Michiels. "Histoire de la peinture flamande, t.1, p. 230; Schayes. Les Pays-Bas avant et pendant la domination romaine.
(обратно)35
Моке. Moeurs et usages des Beiges, p. III, 113. Капитулярий IX века.
(обратно)36
Руководство к истории живописи. Т. 1. С. 79.
(обратно)37
В этом смысле весьма поучительно суждение Микеланджело. ”Во Фландрии, — говорит он, — предпочтительно пишут так называемые пейзажи и множество лиц, рассеянных там и сям... Тут нет ни разумения, ни искусства, нет соразмерности и симметрии, ни малейшей заботы о выборе сюжета, никакого величия... Если я так дурно отзываюсь о фламандской живописи, то это еще не значит, чтобы она была совсем плоха; но дело в том, что она хочет передать в совершенстве бездну различных предметов, из которых, по его важности, достаточно было бы и одного, и при этом ни единого не выполняет удовлетворительно”. Так и сквозит здесь классический и всеупрощающий гений итальянца.
(обратно)38
W. Burger. Musee de la Hollande, S. 206: ”B красоте севера вас поражает всегда лепка, а не линии. На севере форма обозначается не контуром, а рельефом. Природа, чтобы выразить себя, не прибегает там, собственно, к рисунку. Погулявши с час в каком-нибудь итальянском городе, вы встретите правильно очерченных женщин, которых общий склад напомнит вам греческие статуи, а профиль — греческие камеи. Вы проживете, пожалуй, круглый год в Антверпене и не подметите ни одной формы, которая навела бы на мысль передать ее в очерке; она скорее переводима в поддельный рельеф, который можно вылепить только красками... предметы никогда не представляются здесь в силуэте, а всегда как бы целиком и вполне".
(обратно)39
W. Burger. Ibid. S. 213.
(обратно)40
Сражение при Куртре 1302 года.
(обратно)41
Фруассар.
(обратно)42
Michiels. Histoire de la peinture flamande, V. II, p. 5.
(обратно)43
Собственно Лёфебюр, известный летописец XV века, бывший герольдом при бургундском дворе Филиппа Доброго, основателя ордена Золотого Руна (Toison d’Or), по которому Лёфебюр и получил свое прозвище. Орден основан в честь рыжих волос возлюбленной герцога Марии Крумбругге. (Примеч. пер.)
(обратно)44
Музеи Антверпена, Брюсселя, Брюгге и вообще триптихи, створы которых обыкновенно представляют целое семейство того времени.
(обратно)45
Бог Отец и пресвятая Дева Хуберта ван Эйка. Мадонна, Св. Варвара и Св. Екатерина Мемлинга. Погребение Иисуса Христа Квентина Матсиса и т. д.
(обратно)46
Св. Христофор. Крещение Иисуса Христа Мемлинга и его школы. Агнец Божий Ван Эйка.
(обратно)47
Св. Дева и Св. Георгий Яна ван Эйка. Антверпенские складни Квентина Матсиса и др. Горожане на коленях перед Агнцем Божим Хуберта ван Эйка.
(обратно)48
В 1539 году город Лувен предлагает такой вопрос: "Какое самое большое утешение для умирающего?” Все ответы имеют оттенок лютеранства. Палата Сен-Вижнокберга, получившая вторую награду, отвечает в духе чистого учения о благодати: "Уверенность, что нам доступен Иисус Христос и истинный дух Его”.
(обратно)49
Этамин — сетчатая ткань из шелка или шерсти.
(обратно)50
Два миллиона червонцев из пяти миллионов общей цифры дохода.
(обратно)51
Burckhardt. ’’Die Cultur der Renaissance in Italien”. Превосходная книга, самый полный и самый философский труд об эпохе Возрождения в Италии. (Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. Спб., 1904—1906.)
(обратно)52
Этот момент из истории фламандской живописи сходен с состоянием английской литературы после реставрации. В обоих случаях германское искусство стремится сделаться классическим; в том и другом случае контраст между воспитанием и природой создает ублюдочные произведения и много недоносков.
(обратно)53
Всякому известно, что название это идет только со времен французской революции. Я употребляю его здесь как более удобное. Исторические имена: для Бельгии — Испанские Нидерланды, а для Голландии — Соединенные Провинции.
(обратно)54
Взгляните на прелестную картину ван Ноорта ’’Рыбная ловля” в церкви Св. Якова в Антверпене.
(обратно)55
Взгляните в Генте на его Св. Розалию, в Брюгге — на его Поклонение волхвов, в Ренне — на его Лазаря.
(обратно)56
Взгляните именно на его картины в мехеленских и антверпенских церквах.
(обратно)57
Motley. United Netherland, IV, 551. Донесение Контарини 1609 г.
(обратно)58
Так назывался первый министр и президент голландских штатов, избиравшийся на пять лет с правом вторичного потом выбора.
(обратно)59
Cosmographia. С.421.
(обратно)60
Между прочим — взятие Буа-Дюка Горожьером и 69 волонтерами.
(обратно)61
’’Этот добряк капитан, — говорит он, — принадлежал к числу тех, которые умирают из-за страха смерти. Если Бог и простит этих людей, то разве уж только потому, что сочтет их за безумцев”.
(обратно)62
Голова Юноны на вилле Людовизи; голова Юпитера из Отриколи.
(обратно)63
То есть Музей Школы изящных искусств в Париже.
(обратно)64
Overbeeck I. Geschichte der griechischen Plastik, Brunn Kunstler Geschichte.
(обратно)65
Mommsen. Roemische Geschichte Bn. I. S. 21.
(обратно)66
Surtius. Griechische Geschichte, Bn. I. S. 4.
(обратно)67
About. La Grece contemporaine, p. 345.
(обратно)68
См. также знаменитый Софоклов хор: ’’Приютное убежище, странник, нашел ты себе в этом краю гордых коней”. (Эдип в Колоне.)
(обратно)69
About. La Grece contemporaine, p. 41.
(обратно)70
Фукидид. Кн. I. Гл. 70.
(обратно)71
About. La Grece contemporaine, p. 148.
(обратно)72
’’Два островитянина встречаются на пристани в Сире. ’’Здравствуй, брат, как поживаешь?
(обратно)73
Алкей хвалит своего брата за то, что тот ходил на войну в Вавилонию и привез с собой меч с рукоятью из слоновой кости. Рассказ Менелая в Одиссее.
(обратно)74
About. La Grece contemporaine.
(обратно)75
Теэтет Платона. См. все рассуждения Теэтета и сближения, какие он делает между фигурами и числами. См. также начало ’’Соперников”. В этом отношении крайне поучителен Геродот (кн. II, гл. 29). Никто из египтян не смог ответить ему на вопрос о причине периодических разливов Нила. Ни жрецы, ни миряне не доискивались даже и гадательного объяснения по столь близкому им предмету. Напротив, греки успели уже придумать для него три разных толкования. Геродот обсуждает их одно за другим и предлагает от себя четвертое.
(обратно)76
Таковы: геометрия Евклида, теория силлогизма Аристотеля, учения стоиков о нравственности
(обратно)77
К ним относятся: идеи-первообразы Платона, конечные причины Аристотеля, атомы Эпикура, гипотеза расширения и сгустков у стоиков.
(обратно)78
См. у Аристотеля "Аналитики" и у Платона диалоги "Парменид" и "Софист". Трудно найти что-либо более замысловатое и такое до хрупкости тонкое, как вся физика и физиология Аристотеля; взгляните хоть на его "Проблемы". Масса проницательности и ума, истраченная школами задаром, поистине громадна.
(обратно)79
Полос — знаменитый афинский актер времен Перикла.
(обратно)80
Эвтидем Платона
(обратно)81
Илиада, песнь II. Перечень воинов и кораблей.
(обратно)82
Tacitus. De moribus Germanorum. — Deorum nominibus appellant secretum illud, quod sola reverentia vident.
(обратно)83
Tournier. Nemesis, on la Jalouse des dieux.
(обратно)84
Эсхил. Прометей.
(обратно)85
Племена эти живы, веселы, легкоподвижны. Даже и неизлечимый больной не смотрит там унылым, пришибленным; он спокойно глядит на подходящую смерть: все вокруг него улыбается. Вот где тайна божественного веселья гомеровских поэм и Платона: сам рассказ о смерти Сократа в ’’Федоне” едва лишь отзывается легкой грустью. Жить — значит дать цвет, потом плод, и что же еще далее? Если, как дозволительно утверждать, забота о смерти составляет важнейшую черту христианства и религиозного чувства новых времен вообще, то греческое племя менее всех других религиозно. Это народ поверхностный, берущий жизнь, как нечто лишенное всякой сверхъестественной обстановки, не имеющее заднего плана в недосягаемой для глаз дали. Такая простота созерцаний много зависит от климата, чистоты воздуха, изумительной отрады, какой в нем дышишь, но еще гораздо более от инстинктов эллинской расы, чудно идеалистичной. Какая-нибудь сущая безделица, дерево, цветок, ящерица, черепаха приводят на память тысячи метаморфоз, воспетых поэтами; струйка воды, рытвинка в скале, громко величаемая ’’пещерой нимф”, колодец с ковшом на краю сруба, рукавок моря, столь узкий, что его перелетают бабочки, а между тем доступный большим кораблям, каков, например, рукав в Поросе; померанцевые деревья, кипарисы, которых тень ложится на море, небольшой сосновый лесок среди скал — даже такие вещи достаточны в Греции, чтобы породить возбуждаемое красотой удовольствие. Гулять ночью по садам, прислушиваться к трескотне кузнечиков, сидеть при свете луны, поигрывая на флейте, пойти напиться воды в горах, принести с собой туда маленький хлебец, рыбу и сулейку вина, которую разопьешь под звуки песни; в семейный праздник вывесить у себя над дверью венок из свежей зелени, пройтись в увитых цветами шляпах, на всенародном празднестве нести в руках убранные листвой тирсы, проводить целые дни в пляске, в играх с ручными козами — таковы удовольствия греков, удовольствия народа бедного, бережливого, вечно юного, живущего в прелестном крае, находящего свое добро в себе самом и в дарах, которые послали ему боги. Пастораль во вкусе Феокрита была в эллинских краях истиной; Греции всегда нравился этот мелкий род тонкой и милой поэзии, один из самых характеристических в ее литературе, зеркало ее собственного житья-бытья, но глупый и натянутый почти во всех других странах мира. Веселье, жизнерадостность — вещи греческие по преимуществу. Этому племени всегда только двадцать лет: для него indulgere genio (дать себе волю, распахнуться) не то, что тяжелое опьянение англичанина или грубая сладострастность француза, а просто-напросто мысль, что природа хороша и добра, а потому не только дозволительно, но даже и следует охотно уступать ей. Действительно, природа для грека — советник в деле изящного, наставница в добродетели и правде. Мысль о ’’похотливости”, о том, что природа будто бы наводит нас на всякое зло, для него чистая бессмыслица. Вкус к наряду, отличающий паликара и так невинно обнаруживающийся в молодой гречанке, вовсе не пышное тщеславие варвара, не глупое притязание какой-нибудь мещанки, чопорной и чванливой, как всякая выскочка: это — чистое и тонкое чувство наивных юнцов, чувствующих себя законными детьми настоящих творцов изящества” (Эрнест Ренан. Св. Павел. С. 202). Один из моих друзей, долго путешествовавший по Греции, рассказывал мне, что часто тамошние возчики и вожаки сорвут себе дорогой какой-нибудь красивый цветок, бережно держат его в руке целый день, вечером, ложась спать, помещают куда-нибудь в укромное местечко и назавтра принимаются за него опять, чтобы наслаждаться им еще снова.
(обратно)86
Ксенофонт. Афинская республика.
(обратно)87
См. логические приемы Платона и Аристотеля, особенно доказательства бессмертия души в ’’Федоне”. Во всей этой философии дарования выше созданных ими произведений. Аристотель написал трактат о гомеровских поэмах по примеру тех риторов, которые занимались исследованием: в правую или левую руку ранил Афродиту Диомед.
(обратно)88
Это утолщение называется энтазис
(обратно)89
Прочтите на этот счет книжку E.Dounty: "Philosophie de l architecture en Grece", произведение ума в высшей степени точного, добросовестного и тонкого.
(обратно)90
Обо всех подробностях частного быта см. сочинение Беккера Харикл, особенно эксурсы.
(обратно)91
Платон. Т. I. С. 166.
(обратно)92
Персидском.
(обратно)93
Платон. Т. I. С. 111. "Апология Сократа".
(обратно)94
Хорошо прочесть по этому поводу сочинения Поля-Луи Курье, образовавшего свой стиль по примеру греческого. Сравните его перевод первых глав Геродота с переводом Ларше. В романах "Франсуа-найденыш", "Чертова лужа" Жорж Санд успела в значительной степени овладеть простотой, естественностью и прекрасной логикой греческого стиля. Это производит странный контраст с новым стилем, употребляемым ею тогда, когда она говорит от себя или выводит говорящими людей образованных.
(обратно)95
Все это называлось Crammata, грамота, так как буквы служили тогда одновременно и цифрами.
(обратно)96
Платон. Феаг.
(обратно)97
Аристофан. Ахарняне
(обратно)98
Коллекция слепков Равессона в парижской Школе изящных искусств.
(обратно)99
Геродот. История. Кн. VI. Гл.129. С.309.
(обратно)100
Лукиан: "В старину пели и плясали одни и те же".
(обратно)101
Филитиях, т.е. дружествах или братчинах.
(обратно)102
Род струнного инструмента, заимствованного, говорят, у лидян. Примеч. пер.
(обратно)103
Симонид Косец обыкновенно жил в хорегейоне (т. е. в плясо-певческой палате), при храме Аполлона.
(обратно)104
Праздник в честь Аполлона и Артемиды, обыкновенно отправлявшийся в 6-й и 7-й день месяца Фрагелиона, т. е. между 7-го нашего мая и 5 июня. Двух преступников, украшенных цветами, свергали тут, между прочим, в море со скалы, но внизу всегда их подхватывали и только высылали за границу. (Примем. пер.)
(обратно)105
См. стихи Алкея о его собственном доме.
(обратно)106
Одиссея. Песнь VIII.
(обратно)107
Платон, в Феаге, говорит об одном добродетельном человеке, рассуждающем о добродетели: ”В чудной гармонии его слов и действий ощутителен дорийский лад, единственный, который можно прямо назвать греческим”.
(обратно)108
Пертская красавица Вальтера Скотта. См. битву кланов Клиля и Чаттана.
(обратно)109
Главная военная школа во Франции
(обратно)110
Ксенофонт. Лакедемонская республика.
(обратно)111
Роль Лампито в "Женской народной сходке".
(обратно)112
Аристотель. Политика, VIII, 3 и 4.
(обратно)113
Т. е. совокупность пяти разных гимнастических упражнений: прыжков, борьбы, спортивной ходьбы, метания диска и метания копья. (Примеч. пер.)
(обратно)114
Слова Павсания
(обратно)115
Взгляните на маленького Аполлона из бронзы в Лувре, а потом на эгинские статуи.
(обратно)116
Неизвестный во времена Гомера ’’греческий порок” начинается, по всей вероятности, с учреждением гимназий. См.: Беккер. Харикл (экскурсы).
(обратно)117
Геродот был еще жив в эпоху Пелопоннесской войны; он говорит о ней в кн. VII, 137 и в кн. IX, 73.
(обратно)118
То же чувство сохранилось или снова было вызвано философским воспитанием у Вергилия:
(обратно)119
См. в особенности происхождение различных богов в Теогонии. Мысль Гесиода везде колеблется между космологией и мифологией.
(обратно)120
Фюстель де Куланж. Гражданская община античного мира.
(обратно)121
Таков, по-видимому, первоначальный смысл слова "Паллада".
(обратно)122
Уцелевший текст Анаксагора. Фидий слыхал Анаксагора у Перикла, как Микеланджело слушал платоников Возрождения у Лоренцо Медичи.
(обратно)123
См. картину в Лувре и гравированный эскиз, от нее отличный.
(обратно)124
Heine Н. Reisebilder, I, 154.
(обратно)125
См. Философия искусства. Отдел I. О сущности художественных произведений.
(обратно)126
Т. е. более или менее самостоятельного отношения французской католической церкви к папству. (Примеч. пер.)
(обратно)127
Duas res industriosissime persequitur gens Gallorum, militarem et argute loqui.
(обратно)128
Словцо Стендаля.
(обратно)129
Скваттерами, т. е. присельцами, назывались в Северной Америке пришлые поселенцы, самовольно водворявшиеся на чужой, незанятой земле.
(обратно)130
Точнее, с божескими, συζήυ Θεοις
(обратно)131
Ψυχή έντέλεχεία σαματοζ φυσιχοϋ οργανίχου. — Это столь глубокое определение Аристотеля могло быть написано всеми греческими скульпторами; в нем выразилась коренная идея эллинской цивилизации.
(обратно)132
Сикстинская мадонна, Прекрасная садовница.
(обратно)133
Венеры, Психеи, Грации, Юпитеры, Амуры в Фарнезине.
(обратно)134
У Отелло в последние минуты является воспоминание из его путешествий и его детства — явление, частое у самоубийц:
(обратно)135
О цельности впечатлений см.: La Fontaine et ses fables, par. H. Taine, III partie.
(обратно)136
Огер или Ольгер Датчанин, знаменитый витязь VII века, дружинник Карла Великого, персонаж рыцарских романов.
(обратно)137
При этом не надо, конечно, забывать и демократической горячки итальянских республик того времени (Прмеч.пер.)
(обратно)138
Chevreuil. Traite du contraste des couleurs.
(обратно)139
П. Сорокин. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 529.
(обратно)140
Кропоткин П. А. Великая французская революция, 1789—1793. М., 1979. С. 455, 459—460.
(обратно)141
Карсавин Л. П. Философия истории. Спб., 1993. С. 218.
(обратно)
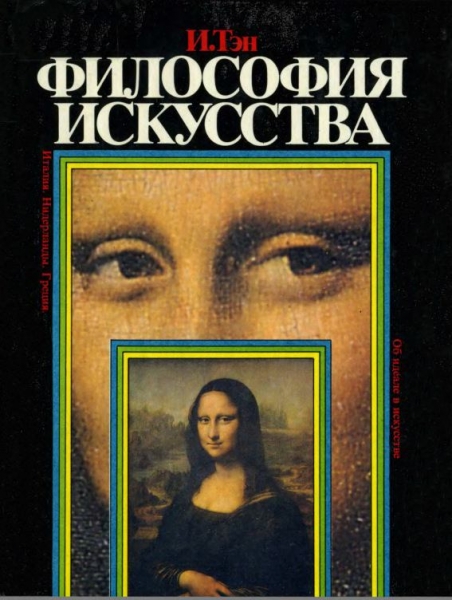
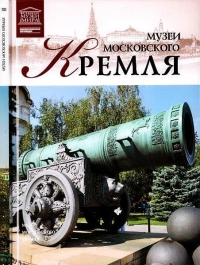







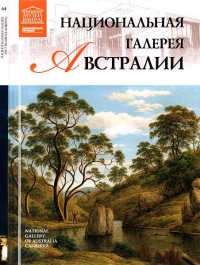
Комментарии к книге «Философия искусства», Ипполит Тэн
Всего 0 комментариев