С.С. Ванеян Архитектура и иконография «ТЕЛО СИМВОЛА» в зеркале классической методологии
Моей жене
Предисловие
В далеком 1968 году появилась книга Н.-Л. Прака «Язык архитектуры. Вклад в теорию архитектуры» (Prak, Niels Luning. Te Language of Architecture: A Contribution to Architectural Teory. Te Hague-Paris), которая не утратила при всей своей, казалось бы, незамысловатости ни капли актуальности и спустя 40 лет. Причина тому – в особой теоретической модальности, предполагающей уважение ко всему предыдущему научному опыту и, как следствие, тщательный учет и усердное применение всех современных на ту пору и животрепещущих теоретических парадигм.
Мы найдем в этой книге, например, вскользь брошенную формулировку о витрувианской триаде как не просто трех измерениях архитектуры, а трех мирах, трех царствах, с которыми имеет дело архитектор… Читатель, ознакомившись с «Аналитической частью» книги, будет знать и об эвристической природе символизма, и об истории культуры как истории коллективного сна, истории человеческих грез, о творчестве архитектора как поиске сказочной страны… Разговор о закономерностях человеческого восприятия не обойдется без подробного обсуждения основных гештальт-принципов, о паттернах перцепции, конструирующих реальность… Святая святых архитектурной теории – пространство – описывается во всей своей сложнейшей, причудливой и одновременно предельно реалистической типологии, знающей кроме физического пространства и пространства концептуальные, и поведенческие, и перцептуальные, и экзистенциальные… Проблемы интерпретации архитектурного символизма подразумевают обсуждение различий и пересечений денотата и коннотата, особенностей взаимодействия символа и «доминантного контекста»… Касаясь собственно художественных образов, автор не скрывает своей осведомленности в их эвокативных функциях, отмыкающих и стимулирующих эмоциональные реакции… Говоря о природе архитектуры, Прак со всей конкретностью, как о чем-то непреложном и обязательном, говорит о «месте» как экзистенциально-сакральном первоэлементе архитектурного целого, обретающего форму пространства благодаря взаимодействию феноменальных и физических структур, которые, дабы стать предметом понимания, прелагаются в структуры символические, стимулирующие прежде всего оценку, и уже потом знание… Кроме того, к архитектуре можно применять категорию «честности» и недвусмысленно от нее эту честность и требовать.
А мы позволили себе описать теоретический аппарат этой весьма показательной книги исключительно потому, что честность и прозрачность как критерии оценки в еще большей степени приложимы и к архитектуроведению, и критики в ее актуальном состоянии истории, и в ее «мнезическом» состоянии. Дабы приступать к произведению и посягать на его смысл, необходимо владеть всем концептуальным, методологическим и идейным инструментарием, всей парадигматикой, обретающей синтагаматическое измерение в текстуальной или дискурсивной активности тех, кого именуют искусство– или архитектуроведами.
Собственно в этом заключен и пафос, и замысел предлагаемого сочинения: составить своего рода тематический и критический компендиум некоторых способов обращения с архитектурой, взятой в ее наиболее, если так можно выразиться, предельном изводе – в виде архитектуры сакральной.
Во Введении подробно говорится, почему сакральная архитектура может символизироваться честертоновским образом Шара и Креста и почему – не без натяжек – можно говорить о классических методах, группируя их вокруг того, что условно именуется «иконография». Здесь скажем в свое оправдание лишь одно: мы смогли затронуть на самом деле малую часть тех подходов, которые ведут к пониманию архитектуры. Эти маршруты могут пролагаться и через антропологию, и через богословие, психологию, филологию, иконологию, герменевтику, социологию, через интертекстуальность и через дискурсивность, через феноменологию и экзистенциализм, через лингвистику и постструктурализм, через прочее и тому подобное (или неподобное). Дело не в названии дисциплины, выступающей в роли, так сказать, концептуального спонсора, а в ощущении и в переживании безмерности и, наверное, бессмертности смысла, являемого теофанически, символически и отчасти архитектонически.
Стоит обратить внимание, во-первых, на весьма подробную рубрикацию глав книги, что исполняет роль некоторого тематического и предметного указателя, а во-вторых, – на крайне обширные приложения и дополнения к основной части, которые призваны несколько нарушить иллюзорную линейность текста, явив разнонаправленные выходы за его пределы. Среди этих выходов обратим внимание уважаемого читателя на вынужденно фрагментарный обзор отечественного иконографически-архитектуроведческого опыта и на столь же краткий экскурс в крайне, на наш взгляд, плодотворный и неподражаемо фундаментальный опыт архитектурной антропологии отдельно взятого немецкого историка искусства (Генриха Лютцелера). Наконец, некий намек на рамочную конструкцию дают два текста – ранний и поздний – своего рода саморазоблачение автора, его признание в собственной ограниченности.
Если говорить о нерешенных проблемах – в пределах заявленных аспектов, то, как нам кажется, достоен отдельного осмысления или хотя бы акцентировки вопрос об исторической применимости тех или иных подходов, которые, как обычно принято считать, все равны пред лицом требований историзма. Что, однако, не совсем очевидно. Этот принцип категорически отвергает всякого рода «модернизацию», под которой подразумевают, как правило, применение современных, новых, экспериментальных методов и концепций. Эти методы и концепции могут безболезненно допускаться к современному материалу, который вполне жив и обладает, как всякий нормально функционирующий огранизм, средствами саморегуляции и неким подобием иммунитета по отношению ко всякого рода внешним и необязательным проникновениям, концептуальным инфекциям и методологическим инфильтрациям. Иначе обстоит дело с историческим материалом, с «памятниками искусства», которые надо беречь, спасать и защищать от беспощадного воздействия не только (и не столько!) исторического времени, сколько времени настоящего, времени современного. Проблемы историзма сложны, запутаны и порой обманчивы. Наша тайная мысль заключалась в том, чтобы показать сугубую сомнительность историзма по отношению к материалу художественному, феноменология которого предполагает непрестанную и неустанную актуализацию в опыте непосредственного контакта, диалога, где инстанция пользователя – это позиция вовлеченного, увлеченного, если не разоблаченного соучастника. А тем более, если речь идет о сакральном искусстве, об опыте Священного! Как поучительна здесь судьба, например, отечественной византинистики, когда-то позволившей себе отождествить объективное с обмирщенным, а теперь с трудом выбирающейся из зарослей позитивизма и эстетизма при помощи разнообразных перформативных у-топий…
Другая заветная и немного запредельная (выходящая за пределы книги) мысль – это идея общей (то есть предназначенной для всех) «графичности», двухмерности, линейности, проективности и «экранности» всех описываемых именно здесь подходов. Они все являются «-графиями» и чуть-чуть не дотягивают до «-логий», ибо предполагают незаполненные участки неиспользованного материала, незанятой поверхности, чистого фона между следами своих аналитических «прикосновений». Это все методы, стремящиеся к смысловым диаграммам (или даже каллиграммам), к схемам и темам, к канонам и эйконам. Это все еще письмо, это пока еще не стереометрия визуальной образности и вовсе не смысловая топология архитектурной телесности. Сквозь полупрозрачную диафанию и многослойную транспарентность подобных прописей-описей зияет и сияет нечто такое, что требует к себе иного отношения – не просто более адекватного, но более честного, если возвращаться к началу этого Предисловия. А также и более чистого и смиренного перед лицом всего того, что уже было и помыслено и записано, и почувствовано, и сказано, и доказано и, главное, показано.
И еще несколько заключительных слов. Книга писалась на редкость долго, начиная с 2005 года, и потому при внимательном чтении в ней без труда можно найти некоторую подвижность, изменчивость, неровность и даже противоречивость мнений и мыслей. Самая ранняя часть (если не считать Приложений) – это комментарии к Краутхаймеру, самый свежий текст – обзор отечественной архитектуроведческой традиции. А все вместе – это сильно расширенный вариант докторской диссертации, защищенной в 2007 году. Ей предшествовала куда более скромная монография «Симвология, археология, иконография архитектуры», выпущенная Издательством МГУ в 2006. Многое связывает эту книгу с работой о Хансе Зедльмайре («Пустующий трон», 2004), особенно того, что касается его «Возникновения собора» – этого достойного образца сакраментальной феноменологии храмовой архитектуры.
Автору книги видятся довольно заманчивые перспективы подробного разговора хотя бы о семиотике архитектуры (Дж. К. Кениг, Ч. Джэнкс, М. Л. Скальвини, Х. П. Бонта, Д. Прециози, У. Эко), не говоря уж об иконологии сакрального зодчества (жду т своего часа и Г. Бандманн, и Э. Панофский, и Р. Виттковер, и О. фон Симсон, и Г. Эверс, и Э. Болдуин Смит, и А. Штанге, и М. Варнке), или о феноменологии сакральной (Божественной!) среды (А. Шмарзов, Д. Фрай, Х. Янтцен, Х. Зедльмайр, Хр. Норберг-Шульц, П. Портогези), или о богословско-литургической герменевтике церковного здания (вся богатейшая литература последних лет вкупе с возобновленной и реактуализированной традицией христианской археологии – см. соответствующие разделы в Библиографии или хотя бы немецкие тексты А. Штока, французские – И. Конгара, английские – Л. Джонса). Ведь поименовав нечто классическим, уже нельзя уклониться и от неклассического, и от антиклассического, и тем более – от неоклассического.
Но главное другое. Все упомянутые тексты – и диссертация, и ранняя монография, и предлагаемая книга – существованием своим обязаны двум личностям, о которых, с превеликим сожалением, приходится говорить в прошедшем времени, специально предназначенном для высказываний об утратах и уходах. Но у благодарности, как и у любви, прошлого нет, хотя есть память. И если эти чувства настоящие, то это и чувства настоящего, вечно длящегося состояния верности, доверия и веры. В.Н. Гращенкову автор обязан своим расположением к архитектуре, а В.П. Головину – собственно решимостью написать и, главное, – закончить книгу.
И ныне здравствующим – слава Богу! – я конечно же очень и очень признателен… В.А. Дажина, О.Б. Дубова, М.А. Шестакова, Л.А. Беляев и А.Л. Баталов взяли на себя труд снисходительного прочтения и сдержанного обсуждения рукописи. Собственной долготерпеливой супруге автор обязан редактурой и прочей вычиткой, равно как и М.Ю. Торопыгиной и М. Ивашиной. А.Б. Орешина с присущей ей виртуозностью и вкусом придала тексту художественный вид, которого он, быть может, и не достоин. С прот. Николаем Озолиным автор имел возможность обсудить целый ряд проблем, так или иначе присутствующих в книге. Немаловажный повод для благодарности – участливое терпение и сочувствие коллег по Отделению истории и теории искусства исторического факультета МГУ, среди которых – И.И. Тучков, В.С. Турчин, Э.С. Смирнова, О.С. Попова, Н.М. Никулина, А.Л. Расторгуев, В.Е. Ефремова, а также Факультета церковных художеств ПСТГУ во главе с прот. Александром Салтыковым и не без участия А.А. Вороновой, В.Е. Сусленкова и Н.Е. Секачевой. Наконец, автор не знает, что бы он делал без своих студентов и аспирантов, всячески вдохновлявших его вниманием и доверием, пытливостью и великодушием.
В оформлении книги фигурируют следующие памятники: c. 2 – Роза собора в Лозанне (ок. 1230 г.); с. 12 – Фонарь купола Санта Мария дель Фьоре (Филиппо Брунеллески, 1436 г.); с. 50–51 – Центральный неф собора во Фрайбурге (1230–1330 гг.); с. 160–161 – Роза южного трансепта собора в Леоне (XIII–XV вв.) и Витраж санктуария собора монастыря Санта Мария де Педраблес (XIV в.); с. 224–225 – Сан Стефано Ротондо (Рим. 468–483 гг.) и Лекционарий Генриха II, fol. 116 verso. Жены-мироносицы (Райхенау. 1007–1012 гг.); с. 284–285 – Cан Аполлинаре ин Классе (532–549 гг.) и Мозаики Сан Витале (Равенна. 546–548 гг.); с. 356–357 – Мавзолей Марка Клодия Гермия и Воскресение Лазаря (катакомбы на Виа Латина, IV в.); с. 448–449 – Тициан. Ассунта (Алтарный образ церкви Санта Мария Глориоза деи Фрари. 1516–1518 гг.); с. 450 – Тициан. Мадонна Пезаро (1519–1526 гг.); с. 572 – Св. София в Константинополе (532–537 гг.); с. 594–595 – Московский Кремль (Вид с Большого Устьинского моста); с. 660–661 – Стоунхендж (IV–III тыс. до н. э.)
ВВЕДЕНИЕ: теория, архитектура, методология
Мир наук несравненно туманней и неуловимей, чем мир поэзии.
Гилберт К.ЧестертонВсе предметы науки об искусстве суть частные случаи «смысла по преимуществу».
Пауль ФранкльШар и Крест, или Архитектура и смысл
Не станет особым откровением, если сказать, что история искусствознания в XX веке – это история не совсем удачной попытки рождения новой научной дисциплины. Ни рецепция смежных методологий, ни опыт усвоения максимального числа концептуальных контекстов – ничто не позволило искусствознанию стать отдельной и самостоятельной «наукой об искусстве». Причина тому не только в специфике гуманитарного знания вообще, не предполагающего чрезмерной специализации отдельных наук внутри себя, так как предмет интереса един и неделим – сам человек. Дело и не в соответствующей философской метатеории науки, склонной в XX веке рассматривать проблемы любой науки исключительно как проблему языка, проблему описания и классификации посредством имен и высказываний, что автоматически делало любое невербальное, тем более визуальное, иконическое высказывание, чем-то вторичным и производным.
Самое важное другое: в целях независимого и самостоятельного развития на фоне остальных наук не совсем удачно выбран был объект интереса. По всей видимости, само искусство, художественное творчество – творцы и их творения – по природе своей не есть что-то самостоятельное и независимое, как хотелось думать эстетизму XIX столетия. Присущий художественной деятельности символизм заставляет рассматривать продукт этой деятельности, то есть произведение искусства, при самом деликатном подходе как «систему отсылок», как риторически-репрезентирующий дискурс, изобразительность которого выходит далеко за пределы визуального ряда[1].
Единственное методологическое спасение в этой ситуации – сознательное самоограничение в трех направлениях: дескрипция, формализм и историзм. Понятно, что за этими тремя «направлениями» стоит одна тенденция и один соблазн – позитивизм, который остается и в XX веке для многих синонимом объективизма и научности. Понятно, что такая наука может существовать в неизменяемом состоянии достаточно долго, так как ее задача – архивация знания, фиксация и хранение т. н. фактов, а не их уразумение. Но стоит поставить вопрос о «значении», как неотразимая убедительность и, главное, эвристичность подобной антикварной науки становятся весьма сомнительными. Приглядевшись, можно обнаружить, что сдержанный объективизм отчасти сродни равнодушному вещизму.
Что же делать, если синтаксис не удовлетворяет? Если семантика, прагматика, не говоря уже об экзегетике и прочей герменевтике, суть непосредственные объекты интереса и знания? Или хотя бы его стимулы?
Замечательно и утешительно то что хотя бы одна область художественного творчества не дает уклоняться от этих, казалось бы, сомнительных вопросов. Речь идет, конечно же, об архитектуре, которая реальна, буквальна и конкретна, являя собой результат человеческих усилий, порожденных столь же конкретными намерениями, желаниями и поддержанных определенными (или неопределенными) целями. В такой ситуации невозможно отмахнуться от смысла: он взывает к исследователю и заманивает его в незнакомые области человеческого и не совсем человеческого бытия. Поэтому не случайно все самое радикально новое и продуктивное в истории науки об искусстве свершалось в XX веке в архитектурной области – архитектурной, между прочим, и теории, и практики. Притом, что не совсем ясно, за какой сферой право первородства. Во всяком случае, очевидно, что теория архитектуры демонстрирует свою силу, влияя не только на строительную практику, но и на практику изысканий в области истории зодчества.
Непростые и загадочные отношения между архитектурой и смыслом неплохо переданы, как нам представляется, в довольно незамысловатом мотиве, пронизывающем один из известных романов Честертона. Этот мотив вынесен в название романа – «Шар и Крест» – и отсылает в своем буквальном значении к собору Св. Павла в Лондоне. С него-то и начинается действие романа-притчи: в крайне причудливом летательном аппарате в глухой ночи совершают полет некий английский профессор Л. и некий болгарский (или греческий) монах-отшельник, о. Михаил[2]. Каким-то чудом или благодаря бдительности монаха они не сталкиваются в тумане с верхушкой упомянутого собора, завершающегося именно шаром, на который водружен Крест.
Вскоре выясняется, что профессору весьма приятен шар («как он совершен, как довлеет себе!»), и при этом уродливым и ненужным кажется Крест («нелеп и произволен… противоречив по своей форме»). Монах напоминает, что Крест подобен человеку, который «тем и выше своих собратьев… что способен к падению». Форма Креста «произвольна и нелепа, как человеческое тело». Профессору хотелось бы поменять их местами, но о. Михаил справедливо указывает, что в таком случае «все рухнет»…[3]
Крест представляется, несомненно, символом смысла, сама архитектура – это, видимо, шар, и, по словам одного выдающегося немецкого историка искусства, она выступает всего лишь «носителем» этого смысла, точнее говоря, значения[4]. Иногда для облегчения проблемы взаимодействия архитектуры и смысла кажется возможным поменять местами смысл и архитектуру, воздать архитектуре полагающуюся ей честь, подчеркнуть величие или автономность творчества и художества. А можно просто уклониться от проблемы, заменив ее самостоятельными разговорами: отдельно – о Кресте, отдельно – о шаре.
Но, как вскоре выясняется, очень нелегко избавиться от смысла – этого подлинного креста всякой человеческой деятельности, в том числе и строительной. Не лучше и не легче ли попытаться хотя бы чуть приблизиться к этому странному и нераздельному сочетанию архитектуры и смысла, взяв себе за труд погрузиться в наиболее показательные опыты совмещения архитектуры и смысла, предпринятые в трудах тех же историков искусства?[5]
Проблема архитектурного смысла – проблема архитектуры
Но в чем же состоит все-таки странность и сложность проблемы архитектурной семантики, вобравшей в себя и специфику самой архитектуры, и особенности истории искусства или искусствознания?
Существенные особенности архитектуры состоят в том, что данный вид искусства лишен прямой изобразительности и потому не обладает привычным «предметным», то есть буквальным, прямым «подражательным» смыслом. Архитектура лишена миметического значения, она ничего не воспроизводит, кроме себя самой, и потому любой смысл, который можно «прочитать» в архитектурном памятнике, будет казаться смыслом косвенным, привнесенным в архитектуру. И весь вопрос состоит в том, чтобы выяснить происхождение этого смысла, а также его строение, что подразумевает постижение и общего, полного состава архитектурного целого. Последнее существенно по той причине, что, как выясняется, многосоставность семантики отражает и многообразие источников значения того или иного сооружения.
Значение способно привходить в архитектурный памятник многими путями. Это и собственно замысел произведения, его назначение, его функция, то есть те мотивы, цели, которые предваряют создание произведения и составляют содержание его проекта, без которого, естественно, никакое сооружение не может быть воздвигнуто. Но и сам замысел представляет собой, так сказать, вторичный источник, так как его собственное происхождение – это сознание авторов проекта, заказчиков, отчасти самих строителей, которые первоначально имеют, так сказать, ментальный образ будущего сооружения. Следует уточнить, что из всех соображений касательно будущего сооружения, самое существенное, наиболее смыслоопределяющее – это именно назначение, за которым, собственно, и стоит будущее значение архитектурного произведения. Но опять же невозможно представить себе чистое сознание проектировщика, изолированное от внешних смыслообразующих факторов, среди которых выделяются и традиция, и конкретные актуальные обстоятельства, породившие саму потребность в данном сооружении. Эти факторы могут быть и социального, и религиозного, и политического, и просто психологического свойства.
И это лишь один источник смысла, который, повторяем, только предваряет сооружение. Другой источник – назначение, функция, которые предполагают и семантику-прагматику, происходящую уже из ситуации пользования готовым произведением. Рецепция со стороны пользователей подразумевает привнесение дополнительного значения в произведение, обретающего новые смысловые измерения, то есть, фактически, подвергающегося интерпретации. Такого рода последующее осмысление (и переосмысление) памятника может быть и достаточно окказиональным, и вполне систематическим, отражая точку зрения всего круга заинтересованных инстанций, начиная с заказчиков, принимающих (или не принимающих) готовое произведение, и заканчивая теми, кто целенаправленно занимается истолкованием памятников. Таковыми могут быть и поэты, и философы, и критики, и сами художники.
История архитектуры, собственно говоря, дает многочисленные примеры теоретической рефлексии по поводу строительного искусства. Многочисленные тексты, начиная с Витрувия и заканчивая современными теоретическими опытами на тему архитектуры, свидетельствуют только об одном: семантическая жизнь архитектурного произведения не заканчивается моментом его возведения. Всякое сооружение открыто последующему привнесению в него не просто дополнительного, но, быть может, самого прямого значения, так как остается столь же открытым вопрос: а какой смысл можно считать в архитектуре ее собственным – тот ли, что в нее вкладывается, или тот, что из нее извлекается? А главное – кем и когда?
Но можно задаться и радикально иным по направленности вопросом: а так ли уж зависима архитектура от «человеческого фактора», человеку ли она обязана и своим существованием, и своим, соответственно, смыслом? Не состоит ли архитектура из тех же элементов, что и окружающий человека мир? Не является ли она частью внешней среды, того мира, который преднаходит человек в своем существовании? Пространство, пластические массы, поверхности, основания, динамические отношения – весь этот архитектонический язык существует и до момента возведения всякой постройки. Это язык природы, космоса-мироздания и тех сил, что за ними стоят. И любое сооружение – это только повторение подобных отношений, выражение и наглядная фиксация того, что и так существует[6]. Недаром и сама архитектура так устойчива в своих элементах и в своих правилах.
Так что можно сказать, что строительное искусство обладает собственным языком выражения, со своим «словарем», состоящим из отдельных «слов» – архитектурных форм, подчиняющихся собственной «грамматике» – конструкционным правилам и, самое главное, предполагающим вполне независимую от конкретного пользователя «прагматику» своего функционирования, скорее включающую в себя зрителя-посетителя, чем предлагающую ему свои «услуги».
А ведь этим зрителем-пользователем может быть и ученый-историк, которому приходится уяснять для себя, будет ли он со стороны наблюдать за памятником, или сделает его частью своего внутреннего опыта – не только эстетического, но, быть может, и этического, во всяком случае, непременно экзистенциального.
Проблема архитектурного смысла – проблема истории искусства
Так мы приходим к кругу проблем, связанных уже не столько с самим строительным искусством, сколько с наукой, которая призвана анализировать и как раз интерпретировать, в том числе, и архитектурные памятники всеми возможными и доступными средствами. Это вопрос подходов, то есть методов, которые призваны именно найти пути приближения к памятнику и способы извлечения из него смысла. Хотя сама постановка проблемы как задачи извлечения заложенного смысла – это уже один из подходов наряду со многими иными.
На самом деле существует два способа уразумения любого явления, приближения к нему, две формы обращения с ним. Это или внешнее созерцание, то есть буквально теория, рассматривание, предполагающее, между прочим, покой, неподвижность, отстраненность и отделенность от объекта. Или движение навстречу объекту, стремление к нему, приближение или даже слияние, что предполагает и соответствующий путь (буквально – методологию). В случае с архитектурой такого рода когнитивные парадигмы приобретают дополнительную степень буквальности, так как в архитектурное сооружение на самом деле можно войти. И, собственно говоря, мера приближения, вхождения – и выхода (что не менее важно!) – вот вся проблематика архитектурного смысла.
А ведь можно представить себе архитектуру и как внутренний объект, как содержание внутреннего опыта субъекта, как нечто, что он принял в себя, допустил, впустил, сделал частью своего внутреннего пространства. Все сказанное выше вовсе не противоречит такому повороту «методологических событий». И мерой, гранью, собственно, термином и порогом подобных запутанных на первый взгляд отношений будет, вероятно, человеческое тело…
Как совместить теорию и методологию? Как согласовать и синхронизировать теорию архитектуры и теорию архитектуроведения? Или следует предположить, что теория предшествует, предваряет и предвосхищает методологию? И так ли уж они взаимосвязаны? Быть может, они приложимы к разным сферам? Не стоит ли, наоборот, развести теорию и методологию, отведя первой область собственно строительства, а методологии – область последующего комментирования? Или теория сродни критике и относится к современным явлениям в области архитектуры, а методологию стоит отнести в область истории? Обзор возможных ответов – одна из задач предлагаемого текста, хотя уже сейчас понятно почти что непреодолимое несовпадение между тем, что пишут об архитектуре философы, богословы, социологи, психологи, сами архитекторы, с одной стороны, и историки искусства – с другой.
Иными словами, насколько многообразны истоки и источники смысла в архитектуре, настолько же многочисленны и пути его последующего усвоения. Разобраться в иерархии и системе методов истории искусства, сфокусированной на проблематике в данном случае архитектуры, означает понять и весь диапазон архитектурной семантики, обогащение, расширение, видоизменение и даже трансформация которой, как выясняется, дело не только теории архитектуры, не только самих архитекторов, их заказчиков и покровителей и пользователей, но и искусствознания как такового, ученых историков и методологов. Поэтому, в принципе, методология способна обогащать и теорию.
Причем весьма важно, что как архитектура обладает своей типологией, так и история искусства располагает типологическим набором методов, подходов, функционирующих по большей части иерархически, сменяя, заменяя, но и включая, подразумевая и дополняя друг друга.
Здесь стоит специально подчеркнуть особый статус архитектуры в системе видов изобразительного искусства. Можно сказать, что ее место скорее над системой, и потому понимание того, что происходит с архитектурой, дает возможность прояснить процессы, происходящие в иных областях изобразительности.
Именно поэтому принципиально важно иметь достаточно определенную теорию архитектуры, которая позволяла бы выстраивать и соответствующие – столь же определенные – подходы. Утвердить подобную связку – или несколько связок – наиболее привлекательная и полезная задача всякого рода исследований в сфере методологии.
Показательно и замечательно при этом, что само рождение истории искусства как самостоятельной дисциплины сопровождалось интенсивными «работами» по возведению здания именно архитектурной теории, которая, впрочем, и до начала XX века насчитывала не одно и даже не десять столетий своего развития[7], начиная с того же Витрувия, в знаменитой триаде которого можно при желании обнаружить все основные направления современной науки об искусстве, в том числе и ее семантические составляющие[8].
Тем не менее именно благодаря усилиям Генриха Вельфлина[9], Августа Шмарзова[10], Пауля Франкля[11] понимание архитектурной формы (прежде всего!) достигает того концептуального уровня, который остается непреодоленным и современной теорией архитектуры, предпочитающей заново открывать то, что было известно уже на заре науки об искусстве[12]. Но существенно другое: указанные концептуальные построения принадлежат именно историкам искусства и, значит, способны питать и методологию науки об искусстве.
Именно у этих авторов мы обнаруживаем, в том числе, и попытку осмысления парадокса архитектурного значения, которое существует как дополнение к архитектурному телу, оживляя его, одушевляя его, наполняя его и окружая собственно «всей человеческой жизнью», как прямо выражается Пауль Франкль. Без этой «витализации» архитектурное сооружение превращается всего лишь в «археологическую реликвию», неживой набор фактов и свойств[13].
Другими словами, переход от архитектуры к значению фактически означает переход от архитектуры к тому, что ее и окружает, и наполняет, то есть к среде. Получается, что, представляясь чем-то значимым, осмысленным, архитектура жертвует своей предметностью, но за счет этого она становится чем-то живым, приобщая себя и нас не просто к своему функционированию, но и к тем, кто пользуется, кто принимает ее функции, отвечающие соответствующим душевным интенциям.
Но и художник тоже жертвует собой, чтобы стать своим творением, переходит в предмет, чтобы наделить его жизнью.
И не совершает ли историк искусства неизбежно обратный путь? Не изымает ли он живую жертву человечности и интенциональности из памятника, превращая его обратно в предмет, опустошая его, дабы наполнить собой? Именно в этом состоит основание и механизм формального анализа, хотя стоит учитывать, что и сама архитектура, несомненно, искушает исследователя своей осязаемо-очевидной предметностью, которой она, к счастью, не исчерпывается.
Ханс Янтцен, коллега Гуссерля и Хайдеггера по Фрайбургу, рекомендованный туда самим Ясперсом[14], первым вносит в искусствоведческий дискурс элемент феноменологической редукции, направленной против того несколько прямолинейного «вчувствующего» реализма, что характерен был для формально-стилистического взгляда на вещи, в том числе и построенные[15]. Архитектура задуманная и возведенная становится другой по ходу своего восприятия. Помысленная постройка – новая постройка, мыслить – не просто достраивать, но и отчасти перестраивать, хотя процесс истолкования способен протекать и в обратном направлении: дополнительные элементы «декора» и даже целые «этажи» по ходу восприятия и усвоения художественного творения могут выстраиваться и в голове интерпретатора, если он к тому готов (а он обязан быть готов). В целом мы анализируем целую череду феноменов: смысл историко-художественной интерпретации – в выяснении смысла художественной интерпретации, в строгом различении предмета изображения и изображенного предмета. Это достигается через учет визуального опыта, сугубо оптических эффектов, возникающих по ходу восприятия архитектуры, понятой как активная, воздействующая на зрителя экспрессивная среда. Так, идея диафании, то есть прозрачности, стены, осознанной как «оптическое основание» – или окрашенное, или затемненное, – превращается из способа структурного описания архитектуры (готической стены) в принцип толкования как такового. Янтцен не скрывает своих феноменологических пристрастий, указывая, что готическое пространство – это «символическая форма», созидаемая ради «культового события». Но диафания – это и ядро самого культового акта, потому-то само «пространство – это символ того, что от пространства свободно»[16].
Ханс Зедльмайр первым если не заметил, то, во всяком случае, отчетливо описал тот факт, что именно архитектура и ни что иное способна изображать нечто, превышающее ее, стоящее за ней и выше нее, причем изображать предметно, выступать в качестве образа, отсылающего к некой реальности большей и иной размерности[17]. Архитектуру и все, что с ней связано и повязано, следует воспринимать как всего лишь элемент целостности другого, следующего уровня, как всего лишь ступень в иерархии символов, отсылающих к «иным мирам». Иным и по отношению к творчеству художников и их истолкователей, по отношению к самому человеческому бытию, по отношению даже к внечеловеческим смыслам и мирам. Чтобы понять смысл архитектуры, нужно взглянуть не просто со стороны, а именно сквозь, глубже и выше: истолкование следует понимать как способ выхода за пределы эмпирической данности, переход границ феномена и просто его преодоление. Мир, зримый с точки зрения своего смысла, – мир прозрачный (Зедльмайр, между прочим, всячески подчеркивает свою зависимость от Янтцена). Не только готический собор[18], но и сам мир есть «диафанический» экран, не столько закрывающий, сколько прикрывающий иную реальность, отгораживающий ее от нас и, быть может, оберегающий нас от нее.
Поздний Зедльмайр (для нашей темы интересна книга о Фишере фон Эрлахе)[19] – это пусть и спиритуализированный, но все-таки только вариант того метода, который с легкой руки Панофского получил именование иконологии, представляя собой неокантианскую рационализацию «магического символизма» Аби Варбурга[20]. Рудольф Виттковер первый находит приложение постулатам Панофского в области архитектуры, обращая внимание, что в самой теории архитектуры можно обнаруживать «символические ценности», то есть отношение сознания к тем или иным фактам культуры, например к архитектуре[21]. Наконец, и сам Панофский крайне демонстративно прилагает иконологию к архитектуре – ко все той же многострадальной готике[22]. И даже саму знаменитую витрувианскую триаду можно совместить с триадой Панофского (доиконографический, иконографический, иконологический уровни) и улавливать в подобную концептуальную сеть практически любой архитектурный смысл[23].
Гюнтер Бандманн вносит крайне важное уточнение, преодолевающее несколько чрезмерный «платонизм» иконологической герменевтики[24]. Границы проходят не «снаружи», а внутри человека. Смысл в архитектуре – свидетельство активности сознания, точнее говоря – определенного типа сознания. Этих типов, по крайней мере, четыре: символический (архаический), аллегорический (античность и отчасти Средневековье), эстетический (Новое время), исторический (характерен для всех эпох, кроме, как легко догадаться, доисторических явлений). Сначала выстраивается личность, внутри нее складывается, созидается смысл, после чего строится сооружение, предназначенное для самообнаружения сознания за собственными пределами, но в пределах архитектуры, ее морфологии («формальные последствия» того или иного смысла). Внутренняя «планировка» сознания, его «выгородки» (структуры), так сказать, выносятся вовне, в том числе и в целях их преодоления (или защиты от них). Так создается мир внешний, который рискует превратиться в мир искусственный, в «мир искусства» – мир эстетизированный и, как правило, обмирщенный.
Но возможно редуцировать этот неподлинный мир, свести его к основополагающим уровням, структурам, «сферам» бытия, например к экзистенциальным переживаниям силы (власти) и конечности (смерти). Эти состояния, во-первых, символизированы ритуалами и культурной традицией, а во-вторых, что самое существенное, имеют событийную структуру и потому нуждаются в месте, которое подразумевает пространство. Первым обратил подобную экзистенциальную онтологию на архитектуру Ханс-Георг Эверс в тексте с программным названием «Смерть, власть и пространство как сферы архитектуры» (1938)[25]. Несмотря на очевидную зависимость от прежней культурно-исторической традиции, Эверс смог убедительно наполнить соответствующими темами (буквально – тематизировать) «символические формы» архитектуры, совместив их, что очень существенно, с архитектурной типологией. Тем не менее видно невооруженным взглядом, что архитектура – только повод для обсуждения и воспроизведения определенного набора историософских постулатов. На самом деле это только тематика, прилагаемая к архитектуре, а не семантика, из нее извлекаемая. Но весь подобный подход, имея изначально совсем иные теоретические корни, на удивление легко совмещается со все той же иконологической программой как реализация последней цели интерпретации: достижения уровня «сущностного смысла», понятого как «невольное и неосознанное самообнаружение базисных связей с миром»[26], что выражается, например, в таких онтологических парадигмах, как «дух, характер, происхождение, окружение и жизненная судьба»[27].
И это только начало весьма продуктивной феноменологической линии в архитектурной теории, продолжение которой – концепция «экзистенциального пространства» Христиана Норберг-Шульца[28] или герменевтика сакральной архитектуры Линдсея Джонса[29].
Нетрудно заметить, что вышеперечисленные теоретические перспективы питаются очень определенным представлением о смысле как некоторой реальности, которую можно обнаружить в известной телесной, материальной манифестации символической природы, предполагающей, по словам Панофского, именно самообнаружение иных реальностей (сакральной, мифологической, исторической, психологической, экзистенциальной и т.д.), по собственной инициативе открывающих себя человеку и миру. Каждый эйдос сам находит свой тюпос…
Или смысл возникает, порождается, а не просто манифестируется? И, быть может, не в недрах вещей или сознания, а на их стыке? Или смысл лишь передается, и анализировать стоит только процессы коммуникации? Крайне существенная сторона дела, выходящая, к сожалению, далеко за пределы наших задач, – это ответ семиотики на подобные вопросы[30].
Иными словами, феноменологизация, иконологизация, онтологизация, семиологизация и проч. – все это отдельные концептуальные стратегии, по которым может двигаться исследовательская мысль, обретая на этом пути если не истину, то правду, если не искусство, то его понимание.
Но для искусствознания как науки крайне важно иметь в виду и то, что некоторые методы, которыми она пользуется по праву и практически по умолчанию, возникли еще до того момента, когда история искусства обрела статус самостоятельной науки. Это и не формализм, и не иконология, не структурализм, а методы, используемые наукой об искусстве, так сказать, бессознательно по той причине, что они составляют фундамент исторического познания искусства, во-первых, и не претендуют, как может показаться, на что-то большее, чем сбор прямых и простых фактов.
Эти методы сложились по большей части в такой дисциплине, ставшей вполне почтенной в XIX веке, как собственно история, для которой искусство служило всего лишь одним из источников исторического знания.
Действительно, изображения – вполне полезный и доступный ресурс; в них, например, могут воспроизводиться какие-либо исторические реалии (от предметов до событий), иллюстрироваться какие-либо идеи или даже тексты. С последними, то есть с письменными, источниками, искусство не могло тягаться никак, но играть свою важную, хотя и вспомогательную роль, ему было вполне по силам. Подобный источниковедческий подход к изобразительному искусству был и остается типичным для историзма как метода и мировоззрения, находя себе выражение и в такой, в том числе, дисциплине, как иконография, которая стала самостоятельной только вместе с самим искусствознанием и обрела дополнительное измерение и, так сказать, второе дыхание, будучи поставлена все тем же Панофским в иерархическую связь с другими методами (формальным и иконологическим).
Иногда кажется, что иконографию можно даже отождествить с иконологией (позиция позднего Панофского и его верного ученика Яна Бялостоцкого[31]), но неизбывный источниковедческий пафос иконографии всегда отделяет ее от любой герменевтики, оставаясь не просто полезной и удобной установкой, но и неизбежным инструментом накопления материала для всех последующих построений в области истории искусства.
От этого «позитивного» фундамента невозможно просто так избавиться, и потому, быть может, его стоит обследовать чуть подробнее, дабы знать, на чем приходится возводить основное здание (или несколько зданий). Но напомним, что речь идет о не совсем простом варианте источниковедческого объективизма – об иконографии, которая все-таки включилась в свое время (не без опоздания) в процесс «эмансипации» науки об искусстве, не забывая о своем позитивистском прошлом[32].
Иконография как классический метод
У иконографии есть целый набор характерных признаков, которые стоит воспроизвести[33]. Этот метод ориентирован на выяснение и усвоение прямого, предметного значения, когда возможно ответить на вопрос, что именно изображено. Этот метод имеет все тот же сугубо источниковедческий характер и отличается преимущественной описательностью, предполагающей на логическом уровне операции классификации и типологизации, что прямо отражает, между прочим, специфику архитектурного языка, построенного на обращении с устойчивыми типами.
Соответственно, опыт сопряжения его со строительным искусством представляется довольно и интересным, и просто обязательным в контексте выяснения общей и единой семантической методологии, которую только предстоит выработать, выяснив заодно ее необходимость и просто возможность. Этот метод можно назвать классическим, так как он и предваряет прочие подходы, и служит им отчасти образцом. И как всякая классика, иконографический метод является источником и подражания, и отторжения, то есть всех трансформационных процессов, происходящих и в науке об искусстве, начиная с самого момента ее зарождения, а именно с конца XIX века[34].
Особый статус иконографии задается не только ее традиционностью, проверенностью и общей позитивностью, то есть верифицируемостью. Дело также состоит в том, что иконография складывается как метод пред лицом задачи понимания материала сакрального искусства, где именно смысловые и, более того, символические стороны изобразительности, как известно, играют доминирующую роль.
С другой стороны, сакральная, то есть культовая, архитектура, особенно в контексте христианской сакральной традиции, обладает целым рядом особенностей, главная из которых носит все тот же источниковедческий характер. Дело в том, что исток смысла для сакрального искусства вообще и зодчества в частности мыслится принципиально за пределами этого самого искусства, которое получает его извне, например из Св. Писания, из богословской, экзегетической традиции. Но главное, что и эти источники тоже мыслятся производными от основного, которым является собственно теофания, Божественное Откровение, понимаемое как самораскрытие некоторого трансцендентного, то есть принципиально сверхсущего, Начала.
Поэтому и искусство призвано содержать в себе нечто от него отличимое и независимое, сверх-художественное и потому не замкнутое на сугубо художественных, быть может, даже и изобразительных проблемах. Это сверхначало, присутствующее в изображении и изобразительной деятельности, но им не присущее, именуется, как известно, каноном, отражая постоянство, устойчивость, сверхиндивидуальность и сверхрациональность некоторых основополагающих составляющих художественного процесса. То есть каноничность отражает и обеспечивает сверхразмерность памятника изобразительного искусства, его соотнесенность с тем, чем он (памятник) не является, но с чем он связан. Сакральная каноничность, таким образом, соотносит памятник с иными уровнями и типами смысла.
Кроме того, каноничность как систематичность свойств и их повторяемость отражает общую ритуальность художественной и прочей мистериальной деятельности в контексте сакрального бытия как такового.
И потому все сказанное налагает соответствующие требования и на способы анализа такого рода материала, который лишь отчасти представляет собой материал художественный, исток и источник которого запределен по определению, отчего остается открытым и вопрос его анализа, во всяком случае, он предполагает кооперацию искусствознания с прочими науками. Притом, что научный статус некоторых из них (того же богословия) требует дополнительного уточнения.
Поэтому иконография как метод – это еще и систематичность, фактически, типологичность и взгляда на материал, и способа, порядка его описания. И, как нетрудно догадаться, совершенно аналогичными свойствами обладает и сама архитектура, строительная деятельность, где правила и порядок – условия существования архитектурного явления. Можно предположить, что иконографичность особым образом присуща самой природе архитектуры, хотя вновь и вновь возникают сомнения в связи с принципиальной а-иконичностью архитектурного образа.
Хотя при желании можно и должно понимать архитектурный образ именно феноменологически изобразительным, во всяком случае иконным, что предполагает, да не покажется это, быть может, непривычным и неприемлемым, обнаружение в присущей архитектуре стереометрии той определенной доли двухмерности, которая и связывает архитектурный образ со всякими иными визуальными образами.
Строго говоря, архитектурная двухмерность имеет двоякий корень. С одной стороны, архитектура начинается с проекта, с эскиза, вообще, с замысла, фиксируемого графическими средствами. Постройка – это наделение пространством того, что прежде было плоскостью, которая, между прочим, продолжает присутствовать в разнообразных проявлениях и в готовом сооружении, начиная, конечно же, с основания, с горизонтали земли. Сюда же добавляются и стены, и отчасти перекрытия. Все вместе делает архитектуру системой плоскостей, взаимодействие которых только и рождает пространство. Стереометрия обязана своим существованием планиметрии, которая никуда, повторяем, не девается из готового сооружения.
С другой стороны, существует и принципиально иной, более глубинный и более связанный с анализом архитектуры вид планиметрии. Это принципиальная плоскостность визуально-зрительных феноменов, оптических образов, получаемых, в том числе, и при созерцании, рассматривании архитектурных явлений, которые обретают пространственный статус лишь как осознаваемые образы, прошедшие путь когнитивного и упорядочивания, и, соответственно, уразумения. Паттерны восприятия – строительный материал сознания, инструмент же стереопсиса – сенсомоторика, обращение к телесному опыту, опыту поверхности, включающему в себя и тактильные, и динамические переживания. Причем последние – это все то же осязание, но, так сказать, отложенное и реализуемое через усилие и выбор. Смена двухмерных паттернов и обработка их паттернами когнитивными – все это только и создает образ архитектуры в сознании зрителя, без которого, как известно, архитектура останется не более чем физическим объектом. А где образы когнитивные, там и образы памяти, всякого рода мнезические образования, включенные в архитектурный смысл на равных правах со всеми прочими разновидностями символизма[35]. И соответственно, где память, там и воспоминание, воспроизведение, напоминание и репродукция того, чего нет под рукой, но есть под слоем иным образов. Другими словами, архитектура может быть символической и знаковой, а потому – по-своему изобразительной, воспроизводя и нечто такое, что не может быть по природе передано напрямую, путем воспроизведения внешнего облика и сходства. Особенно, если речь идет о сакральной архитектуре: в ней свой символизм[36] и свой сакраментализм[37].
Так что архитектура – это плоть образов, их прибежище и бытие, и всякое сооружение, если воспользоваться выражением Ч. Пирса, – это, фактически, «тело символа»[38].
Впрочем, зритель – это только одно из амплуа пользователя, способного не только рассматривать архитектуру, но и молиться в ней, обитать, скрываться в ней и покидать ее, совершая всевозможные ритуалы, в том числе и повседневного существования, иначе говоря, осуществлять свою поведенческую активность, имея в виду и экзистенциальную ее подоплеку, которая обнаруживает себя в среде существования человека, в ее ограниченности, пограничности и предельности.
Но в том-то и заключен неподражаемый парадокс архитектуры, что именно она-то и формирует, «уплотняет», то есть буквально воплощает (но иногда и уплощает!) и конкретизирует, средовой символизм человеческой экзистенции и ее сверхбытийственные корни. Именно архитектура определяет свой образ и восприятия, и пользования, будучи, так сказать, набором перцептивно-поведенческих правил, одновременно и иконографией, и топографией человеческого бытия и его смысла…
Архитектура изображаемая и архитектура изображающая
Именно здесь необходимо воздать должное тому исследователю, кто впервые определил круг иконографических проблем архитектуры, обосновав саму возможность рассмотрения «архитектуры как предмета иконографии». Так и называется статья Густава Андре 1939 года, опубликованная в юбилейном сборнике в честь Рихарда Хаманна[39].
Со ссылкой на чествуемого учителя Андре прямо указывает на опасности, связанные с «замыканием на чисто формальных ценностях»[40], постулируя «поворот к содержанию», который возможен в рамках иконографии. Другое дело – каков предмет иконографии и что она сама собой представляет. Традиционно принято считать, что иконография – это «ответвление науки об искусстве, имеющее дело с содержанием и значением художественного изображения в противоположность рассмотрению его формальной и историко-стилистической стороны, что есть задача истории искусства»[41]. На первый взгляд архитектура (равно как и декоративно-прикладное искусство) под это определение не подходит, хотя в компетенцию той же живописи входит вполне, ведь существуют многочисленные изображения архитектуры, которые внутри живописного произведения обладают смыслом, вполне что-то воспроизводят и потому находятся в ведении иконографии. В некоторых случаях архитектура оказывается не просто атрибутом, фоном живописного изображения, а его прямым и даже единственным содержанием (случаи с ведутами или пейзажами с руинами). Такая «иконография архитектуры» замечательно исполняет традиционную функцию иконографии как вспомогательной, источниковедческой дисциплины[42].
Но это все изображения архитектуры, не сама архитектура. Как же быть с иконографией архитектуры как таковой, с постройками, а не с картинами? В архитектуре присутствует прямая, предметная изобразительность, но не всего сооружения, а отдельных частей (те же кариатиды, атланты, фигурные капители, египетские колонны), которые тем самым, как очень тонко замечает Андре, предстают как произведения пластики, а не зодчества.
Но архитектура способна – уже целиком – передавать и символический смысл, представлять «абстрактные знаки», будучи тем самым воспроизведением, а значит, предметом иконографии (пример – египетский храм как образ мироздания).
Помимо этого, как замечает наш автор, ссылаясь на Зауэра, самим «формам освященной постройки придается священный смысл»[43]. Такой смысл нередко можно «вычитать непосредственно». Но получается это не без помощи все той же пластики, выступающей в данном случае как средство комментирования архитектуры (например, девы разумные и юродивые свидетельствуют, что портал означает врата Царства Божия). Замечательный пример такого типа архитектурной изобразительности – архитектонический памятник, те же триумфальные колонны и арки, а также, например, немецкая «Валгалла», которая, впрочем, воспроизводит уже не сакральный смысл, а скорее «поэтическую идею»[44].
И наконец, самый замечательный случай – «архитектоническое воспроизведение архитектуры», то есть представление какой-либо постройки средствами постройки другой, основное назначение которой – быть или прямой копией, или свободным напоминанием. Тут возможны варианты: данная постройка может быть просто образцом-экземпляром (шведский крестьянский дом на выставке в Париже), иллюстрацией (копии африканских построек в вольерах животных в зоопарке) или служить целям демонстрации (все деревянные модели будущих построек или Ворота Иштар в Берлинском музее)[45].
Но еще интереснее – «формирование среды средствами изображающей архитектуры»[46], наилучший пример чему – всякого рода кулисы и декорации, в первую очередь театральные. Причем существенно то, что определяющим является именно средовой принцип, когда от места зависит смысл сооружения: греческий храм, сооруженный на театральной сцене, будет всего лишь «архитектурным изображением» храма, а не самим храмом, потому что, добавляет Андре, «у него нет никакой иной цели» (кроме как изображать храм). Существеннейший момент: изобразительная функция преобладает над всеми прочими. Можно сказать, что это самая сильная модальность архитектуры, причем полученная ею извне и лишающая ее собственного, можно даже сказать, онтологического статуса. Архитектура как имаго, симулякр, эйдолон, имитация, репродукция, двойник, внешне неотличимый от подлинника. Единственный критерий распознавания – «место действия», которым могут быть не только театральные подмостки, но и, например, парковые пространства со своими руинами, китайскими деревнями и т.п., где только знание, зачем все это строилось, позволяет понять, что это такое[47].
Здесь возникает желание спросить: а не является ли проблема цели тоже иконографической? Вопрос цели – вопрос направленности, буквально нацеленности, прежде всего, содержания постройки, построения, акта возведения здания, порождения некоторого предмета, находящегося в соответствующей среде, которая может быть, в том числе, и социальной. Только в этом смысле правомерен вопрос, задаваемый обычно изображению, а не зданию: что это такое? Цель и содержание, понятые как значимый состав сооружения, во взаимодействии друг с другом и составляют единый предмет иконографического изыскания[48].
И все-таки для Андре иконография – это именно изобразительное содержание; ведь мы различаем два вопроса: что данный предмет представляет и что данный предмет представляет собой? Некий предмет может представлять, репрезентировать другие предметы, быть их образом. Представлять собой, то есть с помощью себя, – значит быть условием проявления, существования чего-либо, что без этой вот конкретной предметности лишено наличного бытия. Как правило, таковыми сущностями являются сущности идеального, нематериального плана, в том числе и ментального: замысел, потребности, желания – все то, что определяется целеполаганием. Не позволяя себе подобные теоретические выкладки (они принадлежат нам), Андре, тем не менее, предлагает четко различать два плана содержания, в том числе и в архитектурном произведении: собственно изобразительно-иллюстративную часть и план функционально-средовой. Только в первом случае можно говорить об иконографии, второй случай – в ведении того, что по-немецки именуется Sachkunde, то есть знание самого предмета, способность разбираться в предмете, компетентность. Не случайно Андре анализирует архитектуру вкупе с декоративно-прикладным искусством: в этом смысле архитектура тоже прикладывается к определенной задаче, роли внутри столь же определенного контекста. Знание этого контекста еще не есть иконография, так как она имеет дело с изобразительным, скажем шире, художественным материалом. Вновь и вновь звучит мысль, что предмет может быть носителем изображения, сам таковым не являясь (резная кафедра что-то значит как предмет церковной мебели, но на ней могут быть помещены сцены Страстей, которые только и являются предметом иконографических штудий, но вовсе не сама кафедра)[49].
Форма не может не участвовать в содержании. Любая художественная форма – «выражение и значение», форма всегда что-то значит, в том числе и некую репрезентацию, изображение. И только последнее – область иконографии, которая вслед за «целевым значением» оставляет за пределами своей компетенции и «формальное значение»[50]. Иначе говоря, существуют три, по крайней мере, типа значения, согласно которым тот же Берлинский музей Шинкеля будет значить и «музейное здание» (цель, функциональное значение), и «античный храм» (изобразительное содержание, репрезентирующая символика), и «стремление к возвышающему образцу» (формальная выразительность). И все равно это будет только часть общего содержания данного здания, ведь необходимо учитывать и материальную культуру, и биографический материал[51].
Необычайно лаконичная и крайне содержательная заметка Андре достойна самого пристального внимания. В ней присутствуют практически все аспекты интересующей нас темы и практически все имена. И главнейшая заслуга Андре заключается в выяснении фактически единственного прямого предмета иконографии. Таковым в любом случае может быть только изображение.
Второй существенный момент – различение архитектуры изображаемой (более легкий вариант для исследования) и архитектуры изображающей (источник основных проблем). Задача и границы иконографии архитектуры – описание механизмов изобразительности, но никак не содержания подобных изображений, что есть цель Sachkunde, то есть соответствующей дисциплины, специализирующейся на данном конкретном предмете и предполагающей компетентность в соответствующей области, знание самого предмета. Иначе говоря, смысл следует искать не в изображаемом предмете, а в изображении предмета. Другими словами, архитектура как изобразительное средство освобождается от бремени «смыслоношения».
Такой подход имеет и методологический аспект, и сугубо эстетический, теоретический. В первом случае мы должны решить для себя: можем ли мы уклоняться от анализа смысла, если он не содержится непосредственно в предмете анализа? Хотя что значит «непосредственно»? Достаточно ли просто перенести добытое понимание самого предмета на его изображение? Каков тогда смысл самого акта изображения? Только ли замена отсутствующего объекта?
Но предмет просто существующий и предмет репрезентируемый являются разными феноменами. Точнее говоря, только в последнем случае он и будет феноменом и, значит, источником смысла. И если изображающая архитектура представляет некоторый предмет, то она наделяется не только его смыслом, но и просто существованием, обеспечивая среду проявления, являясь средством, способом его (предмета) бытия как предмета интенционального.
Образ представления (само изображение) превращается и в образ существования (существительное оказывается наречием). Способ репрезентации, таким образом, описывает, репрезентирует и того, кто стоит за этой репрезентацией и за этим предметом. Заслуга Густава Андре, на наш взгляд, состоит в том, что он накануне восхождения иконологического солнца (статья написана в 1938 году) в общем виде обозначил пределы иконографического подхода. Как выяснилось, эти пределы имеют архитектурные и одновременно феноменологические очертания. Кроме того, стали возможными преемственность и переход от иконографии к иконологии (переходность заключена в самом предмете исследования: важно выяснить направление и цель перехода, и его механизм).
Наконец, наблюдения немецкого ученого ценны и в том смысле, что позволяют говорить не столько о закате иконографического метода, сколько об «иконографических сумерках», так как остаются такие области историко-художественного знания, где предметная компетентность, несомненно, превышает возможности сугубо изобразительной выразительности. То, о чем сообщает сам предмет – порой независимо от своего изображения, – выходит далеко за пределы собственно искусства. И вероятно, именно архитектура может быть санкцией на подобное преодоление, превышение изобразительности.
Мы так основательно остановились на заметке Густава Андре только по той простой причине, что сама традиция рефлексии на тему иконографии архитектуры почти полностью отсутствует. Если не считать довольно беглого экскурса Бандманна в его знаменитой книге, остро полемической историографии Зедльмайра в его «Возникновении собора», идеологически небезупречного эссе современного исследователя Пауля Кроссли о Панофском, Бандманне и Зедльмайре, то не остается ни одного мало-мальски значимого изыскания на тему иконографии и архитектуры. Единственное исключение – компендиум Генриха Лютцелера «Восприятие искусства и наука об искусстве» (1975), во втором томе которого, в части, посвященной анализу изобразительного мотива, присутствует довольно обширная глава, посвященная смысловому анализу архитектуры (см. Перспективу II).
Именно Лютцелеру мы обязаны уяснением того момента, что семантика касается не только изобразительного мотива, но и не изобразительного – орнаментального, беспредметного и – самое главное – архитектурного, где именно геометрические схемы-паттерны отвечают за семантику. Для Лютцелера подобная внепредметная образность по силам лишь иконологии, так что для этого автора просто не может быть иконографии архитектуры (лишь иконология – это «разомкнутые уста архитектуры»[52]). Мысль, впервые сформулированная Бандманном. Нам предстоит опровергнуть или уточнить данное мнение, весьма распространенное.
Так и складывается общая проблематика нашего исследования, призванного прежде всего дать детализированный обзор всех тех подходов, которые можно объединить под общей рубрикой «иконография», имея в виду уже вышеобозначенные признаки этого метода: 1) допущение объектного, то есть внешнего, подхода к памятнику; 2) предположение, что памятник сам в себе содержит смысл, пусть и привнесенный в него, но им, памятником, репрезентируемый; 3) раскрытие этого смысла означает его дешифровку, связанную с поиском источников.
Кроме того, иконография обладает еще одним аспектом своей первичности по отношению к иным методам. Предметный смысл памятника связан с узнаванием самого предмета, его идентификацией, с чего, собственно говоря, начинается всякое знакомство с предметом. Поэтому иконография – это археология искусства, но на семантическом уровне, археология не форм, не облика, а содержания и смысла. Можно сказать, что иконография – это то же знаточество, предполагающее, однако, знание самой жизни, а не художественного предмета. Это знаточество на стороне не художника, а заказчика, а потому – и на стороне зрителя-пользователя.
В связи с чем для нас, в свою очередь, источниками будут соответствующие тексты историков искусства, которых мы будем отделять от теоретиков архитектуры, ставя перед собой задачу опять-таки описать и прокомментировать основные работы, выяснив их и теоретическую подоплеку, и соответствие внутренней логике научного повествования. Так что можно сказать, что наше исследование тоже имеет отчасти иконографический характер, только образами у нас будут не образы идей и смысла, а образы действий, совершаемых над памятником…
Архитектура и иконография: аспекты взаимодействия
Итак, важны следующие оговорки. В первую очередь, важно выделять то, что можно назвать архитектурной иконографией. Это иконографические построения средствами самой архитектуры. Архитектурная иконография предполагает смысловой анализ архитектурного образа: что значат, какой смысл имеют те или иные архитектурные формы, какой смысл им приписывается и какими средствами.
Другой исток именно архитектурной иконографии – это назначение архитектуры как постройки. Поэтому допустимо говорить о собственно архитектурной иконографии (архитектура как эстетически-художественный феномен) и о строительной иконографии (сюда можно добавить и смысл конструкционный). Хотя такого рода различения могут вызвать и возражения, они не бесспорны и основаны на возможности отделять форму от ее назначения. Подобную операцию можно допустить только аналитически.
Но в любом случае можно и нужно различать значение и назначение, причем значение не обязательно вытекает из назначения, так как существует и значение архитектурных форм с точки зрения того, что и как они обозначают. И значимость архитектурных форм связана, в том числе, с возможностью их изобразительности, архитектурного образа как отображения и даже изображения, почти что мимесиса. Мы уже говорили, насколько проблематична эта тема, но она есть, и, быть может, существует и сама изобразительность.
Но не меньшие, если не большие, проблемы задает назначение, так как оно предполагает обращение к тому, что (и кто) окружает архитектуру, иначе говоря – выход за пределы собственно архитектуры. Или подобная функция и есть специфика архитектуры, заставляющая ее фактически отрицать себя на смысловом уровне?
Но существует такой аспект, угол зрения, способ рассмотрения и просто предмет анализа, как иконография архитектуры, когда архитектура оказывается темой, предметом изображения. Хотя это и не есть иконография средствами архитектуры, но такого рода ситуация проясняет смысл изобразительного мотива, в данном случае архитектуры. Это проблема репродукционности, воспроизводимости архитектуры, где смысл предстоит в двояком роде: смысл самого акта воспроизведения и смысл полученного «дубликата». Понятно, что техника воспроизведения может быть любой: и двухмерной, и трехмерной. Даже сама архитектура способна воспроизводить себя в виде всякого рода копий, реплик и т. д.
И наконец, архитектура и иконография как наиболее общий и универсальный случай взаимодействия архитектуры – и регулярной и регулируемой, систематической и канонической изобразительности. Это проблема не только перехода от стереометрии к планиметрии, но и архитектуры как среды, как контекста, как фона, как пространственного фактора и архитектонического условия функционирования двухмерного (например, живописного) изображения. А также это и проблема вообще взаимодействия разных видов изобразительности и правил их именно построения. Можно предположить, что это проблема архитектурных структур и типов и их присутствия в иных видах изображения. Можно сказать и иначе: существуют определенные измерения архитектурного образа и их приложение, применение в других видах образности и изобразительности.
И уже совсем концептуальным фоном стоит проблема иконичности, иконографичности и, фактически, изографичности самой науки об искусстве применительно к архитектуре, то есть ее (науки) способности воспроизводить, репродуцировать значение, делая подобное еще и типологически.
Ведь типология, а значит, и иконография определяют и методы истории искусства. Поэтому разобраться, какой метод и когда применяется тем или иным историком искусства, узнать и опознать его – вот задача подлинной описательности, истинного историко-художественного дискурса. Самое принципиальное, на наш взгляд, – убедиться, что всякая подлинная методология – это репродукция соответствующей теории, когда собственно искусство оказывается или материалом, или, в лучшем случае, инструментом воспроизведения.
Кроме того, и внутри себя эти методы могут выстраивать подобия иконографических отношений. Один метод можно назвать прообразом всех прочих. Иногда кажется, что это археология, особенно в ее экклезиологически ориентированных вариантах. Но это может быть и богословская симвология или какая-нибудь социо-Литургика, если возможно такое предположить.
В любом случае существуют и методы-изводы. Быть может, сама иконография как метод – это производное от вышеназванных методов. Допустимо предположить, что переход от собственно архитектуры к ее изображению как раз и составляет чисто иконографические отношения и между материалом, и между соответствующими подходами.
Или «протографами» всякой методологии следует признать нечто качественно иное, например теоретическую концепцию, порождающую методы, подобно тому, как Нерукотворный Образ делает легитимными иконные образы? Хотя иконичность на уровне уже иконографического дискурса – это совсем отдельная проблема.
Поэтому мы выбрали в качестве предмета нашего методологически иконографического изыскания всего лишь одну тему – именно иконографический метод, попытавшись рассмотреть его при этом с достаточной степенью детализации, помня, что любое описание предполагает предварительное прочтение. Что мы и делаем, начиная с наиболее емкого, но и наиболее отдаленного и отстраненного взгляда на сакральную архитектуру (симвология) и заканчивая максимальным приближением и просто вхождением и почти что растворением в ней (социально-семиологическая, литургически-ритуальная иконография-топология). Между этими пределами, собственно, и располагаются иконография архитектуры, а также ее лингвистические изводы, и даже христианская археология, утратившая, как может показаться, свои первенствующие позиции, во всяком случае, не способная обозначить свою специфику перед лицом архитектурной семантики, лишенной на первый взгляд предметно-вещественных параметров.
Поэтому кажется неизбежным, что общая структура предлагаемого изыскания может напомнить и нечто скорее концентрическое, чем линейное. Сердцевиной будет в этом случае собственно иконография архитектуры, а обрамлением, внешними пределами ее будут служить две тенденции – симвология и археология. Их можно сравнить с корнями и кроной некоего растения, именуемого классической традицией смыслового анализа архитектуры, и тогда иконография будет располагаться в промежутке между ними, представляя собой род ствола, у которого могут быть и всяческие ответвления. Несомненно одно: это, так сказать, естественное состояние метода, его свободное развитие из той почвы, что именуется собственно архитектурной историей, теорией и практикой. Между Небом (симвология) и Землей (археология) и располагается сама иконография, обеспечивая и опосредуя соединение, казалось бы, несоединимого.
Но это не значит, что само древо, его ствол и ветви не могут быть материалом для возведения уже специальных и искусственных «сооружений», именуемых иконологией, феноменологией и проч. Всякое древо способно останавливаться в своем росте. В какой-то момент это происходит и с классической методологией, и тогда-то она становится материалом для последующих методов. Где замедляется рост, что тормозит движение, где исчерпываются возможности описания и возникает потребность в объяснении, толковании и перетолковании, то есть в пересмотре и переосмыслении? Приходящие на смену подходы не вытесняют «иконографию архитектуры», не упраздняют ее, а пользуются ею, причем не без права и, хочется надеяться, не без благодарности, хотя бы потому, что именно классические подходы обеспечили первоначальное накопление содержательного материала – как аллегорически-богословского (симвология), так и фактологически-исторического (археология). Достаточно подробное воспроизведение всего накопленного, а заодно и помещенного в архитектуру смысла – отдельная задача нашего изыскания.
Но одновременно мы вынуждены учитывать и эмпирическое положение дел, когда простое хронологическое появление тех или иных текстов, принадлежащих разным подходам, задает порядок нашего изложения.
Еще одно измерение нашего повествования – уже не историческое, а персональное, так как за каждым текстом и каждым подходом есть и его автор, и его сторонник. Взаимоотношение идеи и ее носителя может быть прекрасно и описано, и проиллюстрировано внимательным анализом того, как идеей пользуются и какими руководствуются при этом мотивациями. А ведь идеи не только принимают, но и отвергают, и за каждой принятой концепцией стоят концепции отвергнутые, которые, тем не менее, быть может, все-таки остаются в тени здания теории как нечто просто пока еще не понятое или не востребованное. Ведь архитектура – достаточное емкое явление и способное найти в себе место и для чего-то, что не устроило науку об искусстве…
Для полной наглядности нашего повествования его структуру можно представить и с помощью сугубо архитектурных аналогий. Вообразим себе арочную конструкцию: это классическая смысловая методология в целом. Ее опорами-колоннами будут, соответственно, семиология Йозефа Зауэра и археология Фридриха-Вильгельма Дайхманна. Полукружия самой арки будут формироваться благодаря усилиям, так сказать, поэтико-иероглифической иконографии Эмиля Маля и лингвистической иконографии Андре Грабара. А замковый камень утвердится тогда посредством текстов Рихарда Краутхаймера, в известной степени исчерпавшего иконографическую методологию применительно к архитектуре. А что же тогда Синдинг-Ларсен? Он будет помещен в сам арочный проем, демонстрируя возможные выходы всей этой методологической конструкции за собственные пределы. Но – это следует подчеркнуть особо – даже обозначая своим местоположением саму суть иконографического метода, его незавершенность и открытость в сторону архитектурного пространства, социально-идеологическая и литургически-ритуальная иконография норвежского историка искусства остается под сводами иконографической арки, осененная все тем же неизменным субъектно-объектным подходом, который мы, не без условности, назвали классическим, подразумевая тот неоспоримый факт, что своим существованием он обязан методологическим обычаям еще позапрошлого (XIX) века.
Почему он жив до сих пор и почему даже в начале XXI века некоторым он кажется чересчур специфическим и требующим своего обоснования, почему история искусства даже поныне готова удовлетворяться даже не арочной, а стоечно-балочной конструкцией, где опоры – факты, а балки – их переложение в терминах истории стилей, – вот что будет самым скрытым и потому самым заманчивым вопросом нашего исследования. Ответы – если они есть – ждут нас в конце, который, впрочем, должен в результате выглядеть как скорее порог, проем, за которым расположено нечто иное и не менее будоражащее.
Так что можно продолжить строительные метафоры, сказав, что мы не намерены пока убирать и леса с нашей планируемой постройки после ее завершения, так как крайне существенно хотя бы упомянуть всякого рода примыкающие тенденции, имена, альтернативы. Последним хорошо было бы выделить отдельное место, так как это альтернативы самой иконографии как таковой. Другими словами, возможно представить себе контуры более обширного проекта, где упомянутая иконография – лишь основание сооружения, включающего такие «этажи», как иконология и герменевтика все той же архитектуры.
Отдельная оговорка – выбор материала исследования. Этим материалом будут тексты классиков классической методологии, наиболее показательно явленной в зарубежной науке об искусстве. Вклад в интересующую нас тему отечественных церковных археологов[53] – Покровского, Голубцова, а также современных отечественных историков искусства[54] – трудно переоценить, но, к сожалению, мы вынуждены ограничиваться, так сказать, одной стороной общего дела, не забывая ни на минуту несомненную неполноту общего впечатления, которая только отчасти может быть восполнена одним из Приложений, где мы постарались, так сказать, вдогонку нанести легкий контур отечественного вклада в интересующую нас проблему…
СИМВОЛИКА ДОМА БОЖИЯ и АРХИТЕКТУРА ЦЕРКОВНОГО ЗДАНИЯ
Потому-то иконографическое исследование видит в трудах великих богословов уже не прямой источник художественных представлений, но одну лишь концентрацию того идейного мира, который только посредством проповеди и Литургии, легенд, гимнов и театра становился частью повседневной жизни духа.
Ханс ТитцеАрхитектурный символизм: истина из вторых рук
…Итак, мы допускаем, что архитектура в лице архитектурной постройки способна соотноситься с некоторым набором истин, вызывать в сознании те или иные смысловые ассоциации или просто стимулировать мыслительные процессы. Эти реакции и процессы способны обретать устойчивость и становиться традицией.
То есть, с одной стороны, мы имеем готовое здание, являющееся объектом, предметом рассматривания и рассмотрения, а с другой – столь же законченные смысловые структуры. То и другое можно связать воедино, и архитектура станет осмысленной, обретет смысл. Она будет, фактически, наделена им. Это довольно простой метод, но не совсем просты условия его реализации.
Вся проблема состоит в том, каков источник смысла, истин, каково содержание мыслей, пробужденных архитектурой. Самая простая ситуация – когда известен этот источник, он сам по себе устойчив, постоянен и, по возможности, максимально неисчерпаем. Таковым требованиям отвечает один лишь источник смысла – Откровение, теофания, которую можно, при известных обстоятельствах, зафиксировать. И это будет уже Писание, предназначенное для прочтения, для извлечения заложенного, точнее говоря, вложенного в него смысла, чье богатство и неисчерпаемость предполагают поэтому не просто чтение-ознакомление, а постижение-истолкование. В результате его могут появляться некоторые смысловые константы, обретающие статус образцов именно уразумения священного смысла. И не только понимания, и не только самого Писания, но и переноса и на смежные области знания. Писание становится образцом не просто уяснения самого себя, но и знания как такового, универсального и неисчерпаемого, и при этом – не буквального, а требующего усилий и постепенности по ходу своего выстраивания.
Мы напоминаем об этих известных религиоведческих истинах[55] с целью подчеркнуть тот момент, что архитектура получает, обретает смысл, так сказать, не из первых рук. Прежде нее истину усваивают прямые читатели Писания, богословы и вообще те, кто готов совершить именно герменевтическое усилие. Архитектура не сразу, не первой и не напрямую обретает доступ к уже извлеченному и уже обработанному священному смыслу. Но есть способ преодоления косвенности этого пути познания и в то же время косности инструмента этого познания, то есть человеческого разума. Этот способ – выстроить идеальную, во всяком случае, устойчивую модель сакрального архитектурного сооружения и иметь дело только с этой моделью[56].
Тем более что практически всякая письменная теофаническая традиция знает образы идеальной архитектуры. Равным образом, как и всякая религия, более или менее развитая. Ее развитость состоит в наличии культа, устойчивых форм богопочитания, а идеальность архитектуры заключается, соответственно, в ее приспособленности к культу, в ее ритуально-инструментальных характеристиках и прямой и обязательной связи с соответствующими местами Писания, в котором, как правило, заключены и образы этой идеальной, то есть храмовой, архитектуры, и условия ее сакральной легитимности.
Именно эти образы, образцы, узаконивающие модели, нас и интересуют в данный момент, потому что мы попытаемся в этой главе описать первичный, то есть наиболее универсальный, пример обращения с архитектурным содержанием. Этот подход именуется символогическим и предполагает, как мы только что показали, прямую зависимость от священного текста и прямой путь соотнесения, точнее говоря, наделения смыслом конкретной архитектуры, которая теряет свою конкретность и становится образцом, вариантом, экземпляром идеального храмового сооружения, так сказать, вторичного, наглядного и более доступного, по сравнению с самим Писанием, вместилища смысла. Эта доступность, между прочим, подразумевает не только законность, но и законченность, то есть опять же устойчивость и образцов смысла, и образцов его толкования. Другими словами, архитектура не только связывается со структурами смысла и со структурами экзегезы, но и воплощает, конкретизирует, экземплифицирует, тематизирует, а лучше всего сказать, символизирует именно результаты герменевтических усилий, закрепленных, в свою очередь, в письменных текстах.
Поэтому первичный способ уразумения архитектурного смысла будет и самым фундаментальным, так как именно на этом основании всеобщих сакральных истин выстраивается и буквально, и переносно, все здание архитектурной семантики. Мы должны разобраться, как же возможно анализировать этот первичный символизм, а для этого необходимо знать, где его искать и в каких формах он присутствует в архитектурной теории – о практике, как следует из сказанного, речи пока идти не может[57]. Причем, говоря о первичном символизме, мы имеем в виду его первичность и в смысле элементарности. Это, как мы покажем, именно самый простой символизм, и его простота связана с его независимостью от человеческого сознания, которое получает его в качестве данности. Это антропологически автономный символизм, и этим он отличается от символизма, скажем, эпистемологического, о котором необходимо говорить в связи с иконологическими подходами к архитектуре.
Символизм и церковное здание
Но первичность, элементарность не означает примитивности. Простота здесь – искомая величина, в чем мы – не без труда – попробуем убедиться на примере известнейшего и авторитетнейшего до сих пор текста, задуманного и написанного, однако, еще в начале прошедшего столетия. Без преувеличения можно сказать, что как «Основные понятия…» Генриха Вельфлина (1915) остаются до сих пор, в известной степени, основой формально-стилистического анализа, точно так же и книга Йозефа Зауэра «Символика церковного здания в восприятии Средних веков на примере Гонория Отенского, Сикарда и Дуранда» (1902)[58] остается до настоящего времени набором самых актуальных парадигм архитектурно-религиозной семантики[59].
Другое дело, повторяем, что символизм в любых своих проявлениях призван служить основой и предварительным условием всех прочих семантических построений. В этом смысле сакрально окрашенный символ в пределах семантических измерений художественного произведения представляет собой несомненный эквивалент стилистически окрашенной формы внутри экспрессивно-художественных параметров того же произведения. Эта самая эквивалентность усиливается, между прочим, и схожей степенью неопределенности, многозначности как понятия символа, так и понятия формы. Добавим, что речь идет всего лишь об измерениях единого произведения, структурная целостность которого предполагает и сквозной, так сказать, изоморфизм его размерности.
Тем не менее что же нам предлагает Йозеф Зауэр, этот на самом деле выдающийся представитель немецкой церковной археологии?[60]
Начнем с краткой биографии нашего ученого. Родился он в 1872 году в Унцхурсте (Баден). Изучал богословие и философию, а также классическую филологию в университете Фрайбурга. Учителем его был знаменитый церковный историк и археолог Франц Ксавьер Краус, с которым Зауэра в дальнейшем связывала тесная дружба[61]. В 1898 году принял священнический сан и некоторое время служил викарием в Засбахе, после чего около двух лет изучал археологию в Риме и защитил докторскую диссертацию в 1900 году по символике средневекового церковного зодчества. Совершил научные поездки по Франции, Италии, некоторое время жил в Риме. Академическая карьера началась в 1902 году с должности приват-доцента университета Фрайбурга. В 1905 году он уже экстраординарный профессор церковной истории, но в 1911 году переходит на кафедру церковной археологии, основанную Краусом, где и становится его преемником в должности ординариуса в 1916 году, оставаясь на ней вплоть до ухода на пенсию в 1940 году (лекции же продолжал читать до самой смерти). Два раза избирался на должность декана богословского факультета и столько же раз был и ректором Фрайбургского университета[62]. Одновременно с 1909 года занимает должность хранителя церковных памятников земли Баден с титулом папского придворного прелата. Член многочисленных краеведческих объединений и комиссий по охране памятников. Помимо известнейшего тома «Символика церковного здания…» (1902, второе расширенное издание, 1924) Зауэр прославился завершающим томом (1908) задуманной Краусом «Истории христианского искусства» (очерки об искусстве Ренессанса). Известна книга Зауэра о военных потерях в области искусства в Первую мировую войну[63]. Общее число публикаций Зауэра превышает 1000 наименований, среди которых огромное количество рецензий, заметок, иконографических очерков, а также статей (более 300) в различных католических энциклопедиях и справочниках[64]. В том числе, цикл очерков о раннехристианском[65], романском зодчестве[66], о церковной архитектуре XIX века[67].
Первоначальные занятия средневековым искусством Верхнего Рейна[68] сменяются в конце 20-х годов, после поездки по Ближнему Востоку, устойчивым интересом к восточно-христианскому искусству[69]. Зауэр известен был своими либеральными взглядами и поддержкой (в многочисленных газетных и журнальных публикациях, по большей части анонимных) т.н. «модернистского движения» внутри Католической церкви[70]. Умер Зауэр в 1947 году во Фрайбурге[71].
Сразу заметим, что интересующая нас книга являет собой крайне характерный и, вероятно, итоговый пример той самой традиции церковной символогии, которая была и оставалась практически непрерывной и неизменной вплоть до написания книги самим Зауэром. Имена тех средневековых схоластов (о них – чуть позднее), которых упоминает на страницах своей книги Зауэр, вполне можно дополнить его собственным именем. Можно сказать, что в этом и состоит специфика как раз церковной археологии как части церковной истории – в отсутствии пауз и лакун как когнитивного, так и концептуального порядка. Но тем не менее, именно его книга – завершение подобной традиции в одном очень важном аспекте, и выяснение причин этого как раз и будет одной из целей нашего анализа.
Но сначала – о структуре книги и об общих свойствах данного текста. В Предисловии автор обозначает свое намерение как «желание предложить всеобъемлющее и систематическое изложение духовного взгляда на церковное здание и его убранство». Зауэр видит в этом «более глубоком восприятии и изъяснении» плод «аллегорической экзегезы» отцов Древней Церкви, перенесенной на почву англогерманской культуры Бедой и каролингскими богословами, освобожденной от задач прямого изложения текста Писания и превращенной в составную часть литургической литературы и в качестве таковой достигшей своего совершенства у писателей XII-XIII веков. Именно в это время само церковное здание превратилось в «ясное и отчетливое зеркало, отражающее величественное и всеохватное мировое Царство Церкви»[72].
Для Зауэра крайне принципиально то, что вся эта символическая и, казалась бы, архитектурно-строительная традиция на самом деле имеет чисто литературное происхождение и только приспособлена к созерцанию церковного здания. Поэтому предмет изыскания Зауэра – «литературная церковная символика» и ее взаимоотношения с искусством. Отдельное понятие или идея подобной церковной символики представляет собой «воистину всеобщее достояние» средневекового человечества, «лучше сказать, средневековой литературы», и задача книги – показать, как подобная символика репрезентирует основные идеи этой системы представлений. Отдельный «символический мотив» мог вдохновлять отдельного автора, но в большинстве случаев «мы приблизимся к истине», если допустим, что и художники творили, отталкиваясь от того же самого представления, что выражал в своих текстах тот или иной автор[73].
Итак, сразу делаем важные наблюдения: для Зауэра есть «мир представлений», выражающий себя в виде идей и понятий, находящих свое выражение в текстах в форме «символических мотивов» и стимулирующих и вдохновение, и воображение, и мышление тех, кто создает новые произведения. Это одинаково справедливо как для литератора-богослова, так и для художника-архитектора. Вот уже одна причина, зачем необходимо изучать именно символические тексты: это ключ к пониманию художественной деятельности во всех ее формах.
Но у средневековой архитектурной символики есть еще одно свойство, достойное ученого внимания. «Символические понятия» приведены в систему и соединены в величественный организм, которым, говорит Зауэр, мы можем только восхищаться, настолько он приспособлен к тому, чтобы расти и развиваться в разных направлениях, так, чтобы в результате служить уже совсем иным целям, притом что подобные понятия были предметом изысканий уже отцов Древней Церкви. То есть эти символогические трансформации имеют и историческое, временнóе протяжение. Символы обладают своей «генеалогией», по выражению Зауэра.
Сразу заметим, что речь идет именно о «символогических понятиях», о результатах усилий ученых-символистов, то есть это не просто вербальные или визуальные символы как таковые, а их рационально-текстуальные производные, которые фактически обладают собственной историей – с момента зарождения до полного и исчерпывающего развертывания в каком-либо позднем тексте[74]. Тем более интересна конечная задача, которую ставит Зауэр в своей книге: это как раз демонстрация того несомненного для него факта, что «концентрация и практическое применение церковной символики» – это «образное убранство» Дома Божия. Причем интересно, что для Зауэра местом подобной «концентрации» является портал готического собора. Именно здесь можно найти «квинтэссенцию того, что все здание и целиком, и каждой из своих деталей могло сообщить средневековому человеку». Причем речь идет вовсе не о том, чтобы искать «теологического инспиратора» (богослова – автора программы) и рассматривать образы как иллюстрации соответствующих богословских или литургических истин. Поэтому Зауэр подчеркивает, вполне логично, что для его книги не нужно обилие иллюстраций, так как он отнюдь не преследует цель «рабского перевода символических понятий в художественные типы»[75]. Сразу вспоминается, что первое (да и второе![76]) издание «Иконологии» Чезаре Рипы тоже обходилось без иллюстраций[77]. Но симвология – это не иконология даже в барочном смысле этого слова, не говоря уже о смысле варбурговском или кассиреровском. Зауэр вслед за всеми своими предшественниками выстраивает совсем иное смысловое и концептуальное здание. Попробуем в него заглянуть, тоже осмотрев его прежде снаружи, с точки зрения его содержания-оглавления, которое, впрочем, отражает и план книги. В этом-то, между прочим, заключается разница между текстуальным и архитектурным сооружением: у последнего план скрыт как раз за внешним обликом. Если не брать Введения (хотя оно, как мы убедимся, крайне содержательно), то план книги – это две части: первая – собственно «Символика церковного здания и его убранства, согласно средневековой литературе» (название, почти дословно повторяющее, между прочим, название книги целиком), вторая – «Взаимоотношение церковной символики и изобразительного искусства».
План-содержание, как видим, довольно прост, но в этой простоте – все та же смысловая «концентрация»: выстроенное литературное и символическое здание соотносится со зданием материальным, причем в его одном-единственном – визуально-изобразительном – аспекте[78]. Фактически, мы имеем весьма специфическую и парадоксальную ситуацию: архитектура оказывается декорацией символических построений, которые вполне могут обойтись без нее, как книга ученого археолога-богослова – без иллюстраций…
Но не будем торопиться с итоговыми наблюдениями и начнем с Введения, без которого обойтись невозможно, ибо это – если не отдельное концептуальное сооружение, не особая методологическая пристройка к основному зданию, то, во всяком случае, настоящий теоретический «портал», действительно вводящий нас с достаточной торжественностью внутрь всей проблематики.
Символический типологизм, или Средневековье внутри нас
На самом деле замысел книги совсем не прост, что видно с первых строк Введения, напоминающих о том, что углубление в Средневековье означает столкновение с чем-то совершенно иным, непостижимым. Мы утратили способность думать и чувствовать по-средневековому, и достижения Средних веков – неразрешимые и чуждые загадки. Единственный выход – обнаружение тех «конститутивных элементов» уже нашей культуры, принадлежащей Новому времени, которые мы наследуем как раз от этого далекого времени. И выясняется, что только в одном оно оказывается совершенно не чуждым нам. Это широкое использование символики не только в религиозной, но и в общественной сфере. Оценивая так или иначе Средние века, мы исключаем из оценки как раз область символов, ибо они фактически вне времени и указывают на нечто такое, что равным образом принадлежит всякому историческому периоду, хотя лучше сказать, что всякий период и вся история целиком принадлежат этой сфере вечного. Более того, на символике особым образом выстраивается именно христианство, и в первую очередь – Литургия…
Но как определяется у Зауэра символ? Это есть «не что иное, как образ, предназначенный для воспроизведения мысли или факта, которые не следуют непосредственно из понятия этого образа»[79]. Если, говорит Зауэр, содержание религии принадлежит сверхприродному мироустройству, и если человеку не дано самостоятельно, одними своими силами проникнуть в ту самую сферу, то ее тайны приближаются к нему лишь в естественно воспринимаемых обличьях. Видимые вещи становятся образами и сравнениями вещей невидимых. То, что предстоит нашему взору, призвано напоминать нам о таком, что не принадлежит настоящему и чего нет в наличии. Именно христианство с невиданной до сей поры определенностью переносит все цели человека по ту сторону гроба, в область вечности, утверждая все его дела и достижения лишь как подготовку для жизни в мире, не доступном чувственному взору и в равной степени свободном от времени и пространства. Фактически само христианство предстает своего рода «апробацией» всей подобной, так сказать, трансцендирующей символики: если мир иной приближается к нам благодаря подобным «внешним знакам внутреннего сверхъестественного действия», то, значит, символ исполняет свою роль. Другими словами, такого рода символика не есть чисто литературный и чисто концептуальный род деятельности, это прежде всего средство воспоминания, но в той мере, насколько сам Христос есть путь к будущей жизни, настолько эти «знаки воспоминания» усваивают и характер знаков-образцов, и санкция на их употребление выписывается церковным учением и церковной практикой.
Так что у символики есть более глубокое основание, чем символизм литературный и тем более изобразительный. Момент воспоминания отсылает нас к Литургии – «главной и самой прочной ветви символической деятельности и символического учения». Если изобразительный символизм с точки зрения, например, раннего христианства есть не что иное, как средство сокрытия тайны от непосвященных[80], то есть своего рода «фигура умолчания», то символизм литургический оказывается не просто более емким, но рассчитанным «на все времена». На этом величественном языке, озвученном, как выражается Зауэр, Самим Основателем христианства, передается само христианское учение, весь круг мыслей, идей и представлений о наиболее фундаментальных, универсальных и вневременных вещах. Это и собственно евангельское событие, связанное с Искупительной Жертвой (благодаря литургическому символизму мы можем переживать эту «кровавую драму» во всех деталях). Это и символизм собственно Голгофы – «важнейшей вехи в духовно-сверхприродной жизни человечества», связанной с «падением и воздвижением отдельной души в ее борьбе за собственное обожение». То есть мы имеем в Литургии, по выражению Зауэра, «трехчастный символизм»: это и Сам Христос, «срединная точка и цель всех времен», и Царство Божие на Земле, и задачи отдельной личности в пределах этого Царства[81].
Иначе говоря, обозначенная в начале книги проблема непознаваемости ушедшей исторической эпохи разрешается именно средствами сакрального и, подчеркиваем, обрядового символизма, который оказывается основанием всех прочих разновидностей символической деятельности. Фактически, символизм – это не только богослужебный способ распространения церковного учения, но и средство, инструмент хранения, передачи и воспроизведения в акте понимания того или иного содержания. И потому это не только догматически-богословская и ветхо– и новозаветная тематика, но и содержание мыслей, чувств и переживаний всех пользователей этого символизма независимо от исторического времени.
Но самое замечательное, что за этим стоит вполне определенное отношение к архитектуре, точнее говоря, этим подразумевается очень определенная и неустранимая функция архитектуры, ибо Литургия совершается в определенном месте, и сакральные места, подобно сакральному времени, пронизаны, пропитаны, как говорит Зауэр, символическими идеями, ведь они сами обозначают участие в Таинстве и, значит, приобщение к его символизму.
При этом следует помнить, что это не есть символизм самой постройки, обозначающей Дом Божий. Доказательство тому – раннехристианская практика использования частных или светских пространств для совершения Евхаристии, которая только и наделяет данное место и сакральностью вообще, и сакральным символизмом в частности. Другое дело, что существуют вполне определенные требования к пространству со стороны самого богослужения. И удовлетворение этих требований происходило через поиск отношений и «таинственных связующих нитей» между целями Дома Божия и его устройством и убранством. Только когда эти связи установлены (Geltung), можно говорить о влиянии на облик сооружения (Gestaltung), на устроение (Einrichtung) и украшение Дома Божия. То есть приспособление к потребностям предполагает прояснение и возвышение посредством символического толкования[82].
И с этим процессом мы сталкиваемся уже в самых ранних памятниках христианской словесности, например в т.н. «Завещании… Иисуса Христа» (II век), где говорится, в частности, что церковь должна быть снабжена тремя входами по образу Св. Троицы. Александрийская школа экзегетики в лице Климента и Оригена обеспечила символическим материалом всю последующую традицию толкования вплоть до зрелого Средневековья[83]. Церковное здание, согласно этой явно неоплатонической традиции, есть образ и образец того здания, что созиждется Самим Христом на твердом основании, на камне веры и т. д. Любая церковь есть поэтому и образ Небесного Иерусалима.
Принципиальный момент этой «археологической экзегетики», как выражается Зауэр, – потребность осмысления и истолкования и ветхозаветного, то есть типологического, прообразовательного материала в виде всевозможных упоминаний разнообразных «культовых мест». Смысл подобного углубления в Ветхий Завет очевиден уже у Беды: это желание найти историческую и первичную, то есть именно Божественную, санкцию церковного здания, что «гарантирует глубинное его понимание». И хотя в этих ранних текстах отсутствует «планомерная символизация» церковного здания, тем не менее в них присутствует в полном объеме вся символическая типология, позволяющая рассматривать христианское церковное здание как реализацию, осуществление ветхозаветных типов, которые суть, соответственно, Райский сад, Ноев ковчег, Скиния Завета, Храм Соломона. Одновременно церковное здание – предвосхищение Civitas sancta, Небесного Града, который созерцал Иоанн Богослов в своем Откровении. Церковное здание – это образ «духовной церкви», того незримого ковчега, на котором «по волнам временной жизни сонм верующих, искупленных крестным древом Спасителя, устремлен к тому духовному Храму, что составлен из камней живых…»[84].
Еще одна принципиальная черта этой экзегетики – смешение «материального и духовного», то есть совмещение, казалось бы, несовместимых вещей, чье единство, тем не менее, обеспечивает усилия знаменитого «четырехчастного толкования», восходящего к еще дохристианским временам. Но только в IX веке усилиями Рабана Мавра эта традиция переживает свой расцвет, причем именно в литургических текстах. Именно этот ранний представитель схоластики впервые в экзегезе начинает учитывать непосредственно особенности тех вещей, которые подвергаются символизации, создавая практически законченный репертуар аллегорически-типологических толкований, в котором отсутствует только одно – толкование конкретных литургических предметов. Этим занято уже последующее поколение литургистов в лице Амалария из Метца и Валафрида Страбона, чья деятельность непосредственно связана, по мнению Зауэра[85], с потребностями проповеди Евангелия у северных народов, нуждавшихся в осмыслении уже сложившейся к тому времени христианской богослужебной практики. Зауэр особенно выделяет из многочисленного сонма писателей X-XI веков именно Амалария, подчеркивая его влияние на литературу даже позднего Средневековья, благодаря, в первую очередь, его энциклопедизму, выразившемуся, в том числе, и в использовании тогдашней «естественнонаучной» литературы в лице символических бестиариев, лапидариев и гербариев.
Но с XII века начинается принципиально новый период в истории экзегетики, «расцвет искусства толкования», связанный со стремлением к систематическому изложению материала, с желанием учитывать мельчайшие нюансы как предметного, так и смыслового порядка и, конечно же, с отказом от исключительно типологического, ретроспективного подхода. Теперь предметом созерцания и истолкования становятся назначение и свойства самих вещей в их соотнесении с «идейно-литургическим содержанием», что выразилось в складывании символики, «уже не так тесно связанной с аллегорической экзегезой»[86]. Цель прежней экзегезы – средствами «мистически-тропологической интерпретации» создать внутри храма, понятого как Дом Божий, «образ освященного бытия», предназначенного для отдельного человека. С XII века к этому «символическому проекту» добавляется желание не только описывать и воссоздавать круг символических идей, но и находить новое, истолковывая заново храм как целое, руководствуясь некой ведущей идеей. И поэтому образ Церкви, имеющей свое начало в Раю, а завершение – в вечности, оказывается отныне необходимым обрамлением для всевозможных связей, часто глубокомысленных и удивительных, нередко наивных и произвольных, для которых «места культа» – это воплощение подобной «всеобщей композиции христианства»[87]. Святая Месса и годовые евангельские чтения – это всегда один и тот же образ одних и тех же идей, но рассмотренных с разных сторон[88]. И такого рода рассмотрение осуществляет один единый «систематизирующий дух Высокого Средневековья, универсальное мышление которого несравнимо ни с каким иным временем человеческой истории». И этот же самый дух воздвиг подобное умное здание из краеугольных камней прошлых эпох, обогащающих духовные масштабы отдельного индивидуума»[89]. Это здание церковного знания и веры сооружается и в светской, и в богословской литературе, в литургических текстах, комментирующих Мессу, а также в проповедях и богослужебных гимнах. И все это для того, чтобы, явив Дом Божий в камне и красках, сделать его доступным взору верующего христианина. При этом «от индивидуального дарования тех или иных авторов зависит, предложат ли они этот образ окрашенным в мистические цвета, присущие действию всецелого домостроительства спасения, или дадут его в более или менее аллегорически-символическом ключе». Это и есть два основных потока средневековой символики, причем мистика более свойственна ее поздней фазе. Но среди великих представителей этой литургически-символической экзегезы[90] Зауэр выделяет троих – Гонория Отенского, Сикарда и Дуранда, на текстах которых он и намерен строить здание собственного сочинения[91].
В связи с этим следующая – самая обширная – глава Введения посвящена историко-филологической характеристике (а заодно и биографиям) названных богословов и их текстов, что еще раз подчеркивает специфически текстологический пафос труда нашего ученого иезуита. Будучи всего лишь историками искусства, выделим из этой главы только те моменты, что касаются концептуально-методологических вещей[92].
Символическая текстология в лицах
Первым в эту ряду стоит уже упоминавшийся Гонорий, годы жизни и трудов которого Зауэр относит к первой половине XII века, называя его «истинным сыном своего времени, компилятором наипервейшего ранга», помещая его рядом с чуть более поздним Винсентом из Бовэ и замечая, что не найдется области знания, которую бы он, по его собственным словам, «не осветил ради собратьев своих, от нужды книжной страждущих»[93]. Из литургически-гомилетических сочинений Гонория выделяются крайне популярная «Gemma animae», ее сокращенная версия «Sacramentarium» и, конечно же, знаменитое «Speculum ecclesiae», «Зерцало церковное», ставшее, между прочим, одним из источников вдохновения, как мы постараемся показать, и для текстов Эмиля Маля[94].
«Зерцало» представляет собой не что иное, как сборник воскресных и праздничных проповедей, предназначенных для некнижных и просто малоспособных клириков, вынужденных, тем не менее, проповедовать. Причем подаются проповеди в сопровождении всевозможных дополнительных и полезных для слушателей сведений на самые животрепещущие темы (что делать, например, с нежданными гостями или яростно рыдающим ребенком). И все это облечено в жанр рифмованной прозы для лучшего запоминания…
Проблема Гонория заключается в несоответствии явной вторичности и компилятивности его трудов – крайней степени их популярности и влиятельности. Причем самое существенное, что это влияние сказывается, в том числе, и в области изобразительного искусства, на что первым указал еще Антон Шпрингер[95], несколько переоценив значение Гонория для распознавания смысла средневековых «загадок в камне и красках». Тот же Маль, по мнению Зауэра, пошел еще дальше, представив тексты Гонория как ключ, отмыкающий смысл большинства средневековых (готических) сооружений. Но тот же Шпрингер инстинктивно поставил труды Гонория на подобающее им место, заметив, что они отражают уровень среднеобразованных читателей и почитателей Гонория, а соответственно, и их «круг представлений», будораживших, в свою очередь, тогдашнее «народное чувство» и воплощавшихся в художественных образах того времени.
Для Зауэра же важен сам факт влияния Гонория на символику церковного здания. Это свидетельствует, по мнению Зауэра, о том, что перед нами не гений-одиночка, утративший связь с духом времени, и не знакомый с той атмосферой, в которой только и могли существовать всеобщие символы литературы и искусства, а человек, сохранивший под ногами почву своей эпохи и своего народа и со всем возможным «монашеским тщанием» создавший именно популярный, общедоступный труд. Хотя главные его достоинства заключены в другом: Гонорий расширил пространство типологической аллегории, но не в сторону, например, противопоставления ветхо– и новозаветной истории; он рассмотрел Священную историю целиком, и в непрерывном развитии Церкви Христовой, самый истинный образ, подлинное и жизненное содержание которой – Божия Матерь (мысль, знакомая еще раннехристианской гимнографии и вскоре ставшая общепринятой, но впервые столь четко сформулированная именно Гонорием).
И наконец, самое существенное, что тексты Гонория были предназначены для практического употребления, что означает возможное влияние их и на практику строительную[96].
Сикард, епископ Кремоны, известный церковный и политический деятель (умер в 1215 г.) – следующий важнейший источник храмовой символики. Его жизнь весьма богата событиями: в частности, он совершил несколько поездок на Восток (был в Сирии, Киликийской Армении, может быть, в Палестине и, конечно же, в Константинополе, только что занятом крестоносцами; здесь Сикард налаживал совместное литургическое общение и даже служил в Св. Софии, участвуя в рукоположении священников). Зауэр характеризует его как «мужа, одаренного широким кругозором». Ему принадлежит авторство «Mitrale seu de ofcies ecclesiastices summa» – своеобразного литургического руководства для духовных лиц, с акцентом не на изложении церковных обычаев, а на углубленной интерпретации их духовного содержания. То же самое мы можем сказать, между прочим, и о самом Зауэре, но с одним уточнением: его интересует интерпретация не самой богослужебной, а именно экзегетической практики, не Литургии, но Литургики.
Именно Сикард впервые вводит ставшее вскоре привычным подразделение литургического материала на четыре темы: 1) священные места; 2) священные лица; 3) священные вещи (res sacrae); 4) священные времена (в двух аспектах: канонические молитвенные чтения часов и церковный календарь с соответствующими праздниками)[97]. Другими словами, перед нами совершенно точная смысловая структура храма как такового, где священное пространство соединяется со священным временем посредством богослужебных актов. В сравнении с Гонорием у Сикарда куда больше всякого рода этимологических и исторических экскурсов, есть отсылки к практике восточного христианства, но нет вовсе какого-либо упоминания роли образа и темы Богоматери в экклезиологической символике. Наконец, самая характерная черта – сильнейшие моралистические интонации не столько литургиста, сколько проповедника.
Но величайший из литургистов, оцененный, правда, именно в таком качестве посмертно (при жизни он славился как канонист), – это, несомненно, Дуранд, чей «Rationale…» представляет собой «самый законченный синтез всего того, что Средние века о Литургии знали и чувствовали»[98]. Его богатая на события жизнь была наполнена и напряженным литературным творчеством, главный плод которого – авторитетное до начала XX века «Speculum iudiciale», которому Дуранд обязан титулом Speculator’а. Могила Дуранда (ум. 1296), между прочим, находится в римской церкви Санта Мария сопра Минерва[99].
Главный же литургический текст Дуранда – это «Rationale seu euchiridion divinorum ofciorum», законченный в 1286 году. О популярности «Рационала» говорит тот факт, что это первая после Псалтири книга, напечатанная Гутенбергом после изобретения книгопечатания (всего она выдержала более 60 изданий вплоть до XVIII века). Если говорить о главной цели труда Дуранда, то следует, в первую очередь, иметь в виду желание приблизиться в своих аллегорически-символических комментариях Литургии к той самой Церкви, которая и есть Царство Божие на земле, Мистическое Тело, образованное отдельными верующими. Ни один предмет не должен быть забыт, каждый должен быть поставлен в связь со Христом, Главой Церкви, чье материальное воплощение – церковное здание, Дом Божий. Если тема труда Сикарда – Церковь и Христос, то про Дуранда можно сказать, что это Церковь как Тело Христово. Это сердцевина и мыслей автора «Рационала», и всей тогдашней символики, и всего средневекового мировоззрения, замечает Зауэр. Христос открывается только в единстве с Церковью как продолжении и осуществлении Его спасительных трудов.
И если мы усматриваем в труде Дуранда «всецелый мир средневековой культуры», то естественно, что этот труд не мог быть результатом его индивидуального усилия. Дуранд сам себя сравнивает с пчелой, собиравшей мед как с многочисленных трудов иных авторов, так и с того, что милость Божия явила именно ему. Следует обратить внимание, что за подобным «творческим методом» скрывается не только определенный менталитет (Зауэр в другой связи называет его «литературным коммунизмом»), но и универсальный принцип канонического мышления, связанного отношениями образца и подражания. На том же самом принципе построена и вся средневековая изобразительная иконография, концептуально-литературный эквивалент которой – тексты, подобные «Рационалу», где действуют не только символичность, но и своеобразная иконографичность, более того – иконичность, но на несколько ином – высшем уровне, где все имеет характер сакральной и мистической реальности, требующей своего рационально-символического усвоения посредством создания своеобразной вербально-текстуальной ткани, сплетенной как из нитей непосредственного литургического опыта, так и из опыта знакомства с текстами иных личностей.
То же самое мы наблюдаем и в случае самого Зауэра: не случайно после тщательного изложения жизни и творчества авторов, представляющих, так сказать, первоисточники, следует не менее подробная историография: это уже, так сказать, извод исходных иконографических символических схем и, фактически, уровень научной иконографичности. А символика научных текстов – это уже, вероятно, наша забота.
Но в любом случае остается не совсем ясна судьба собственно архитектуры, ради которой все и затевалось…
Тем не менее на непродолжительное время остановимся на историографической части, ведь именно в ней, как и полагается, Зауэр со всей определенностью формулирует свои собственные цели и задачи, которые, как мы убедимся, и спустя сто лет не кажутся слишком устаревшими.
Фактически, «литература о средневековой символике церковного здания» начинается с того момента, как заканчивается сама традиция этой самой символики, то есть с XIV века, когда приходит конец средневековому символическому мышлению. Зауэр прямо подчеркивает, что условие существования символики – «конвенциональное мышление», основанное на традиции. Стремление к самостоятельному мышлению и чувствованию приводит к тому, что «скоро старые конвенциональные формы перестали замечать и понимать»[100]. И если XV-XVI века – время символического бесплодия, то XVII-XVIII века – время холодного равнодушия и непонимания[101]. Лишь XIX век обнаруживает интерес к средневековому мышлению, и возникают первые опыты описания, систематизации и осмысления символической традиции[102].
С Эмиля Маля начинается новая страница в историографической традиции: он впервые попытался расширить и развить теорию Виолле-ле-Дюка о «мирском искусстве» Средних веков, соединив ее с тогдашним литургическим богословием[103]. В Германии научно-систематизирующая традиция церковной археологии достигает своего апогея в трудах Фердинанда Пипера с его «Введением в монументальное богословие» (1867). После этого, по мнению Зауэра, наступает время Антона Шпрингера, обозначившего новое направление исследований.
Интересно проследить, как Зауэр описывает эти перемены. Прежде довольствовались просто поиском комментариев в вещах литературных на вещи изобразительные. Кайе ввел практику сбора всех возможных (и невозможных) литературных и культурных свидетельств на данное произведение безотносительно ко времени, стадии развития и происхождению этих литературных, мифологических и прочих источников. Именно подобное желание перелопачивать «всю северную мифологию ради романских гротесков» вызвало негативную реакцию Шпрингера, в своих известных «Иконографических исследованиях» (1860) обратившего внимание на то обстоятельство, что существует «живая взаимосвязь между искусством и культурными воззрениями того или иного времени». Шпрингер предложил самым непосредственным образом отделять то, что в произведении искусства прошлого принадлежит более раннему времени и служит в данный момент чисто декоративным целям, от того, что непосредственно репрезентирует конкретное представление. То, чего не было в сознании народа, не могло быть и в искусстве. Развитие тех или иных представлений имеет следствием перемены в художественных типах. Подобные явные гегельянские положения шпрингеровской теории нашли себе практическое воплощение, по мысли Зауэра, во всех последующих иконографических исследованиях (и прежде всего – добавим от себя – в книге самого Зауэра). И та же Литургия в сознании народа присутствует не в виде ученой схоластической символики, а в форме проповедей и гимнов. Эта замечательная идея о том, что строительное искусство Средних веков, тот же феномен собора, требует иных комментирующих источников, более ориентированных на простое и непосредственное восприятие, более учитывающих особенности народного или, лучше сказать, низового сознания, – этой мысли суждено было большое научное будущее, начало которому положил тот же Эмиль Маль.
Тем не менее этим не отрицается важность и литургически-экзегетической традиции, которая, фактически, превращается не в буквальный смысл той или иной постройки, как это казалось прежде, а в смысл дополнительный, переносный и буквально аллегорический. Литургия же как обряд, молитва и гимнография, соборное пространство как место прежде всего проповеди – подобные уровни значения оказываются непосредственными и, что важно для архитектуры, функционально значимыми, то есть заложенными в постройку при ее возведении. Именно эти смысловые слои являются, так сказать, «интендированными», являясь прямым значением сооружения – значением как назначением. И вся эта будущая концептуальная проблематика, как выясняется, присутствует в скрытом, свернутом виде у Шпрингера, а значит, и у его последователя – Йозефа Зауэра. Хотя последний называет и других продолжателей дела Шпрингера. В их числе, например, П. Вебер, в своей работе «Духовный театр и церковное искусство в их взаимоотношении…» (1894) еще до Маля указавший на роль «духовной драматургии» в процессе складывания скульптурного убранства готических порталов. Но особое место Зауэр отводит своему учителю – Ф. Кс. Краусу, обратившему внимание на возможность сведения всей разветвленнейшей средневековой символики к простейшим первичным и базовым формулам. Это прямой путь, прямо ведущий к иконографии архитектуры, понятой как семантика архитектурной типологии (см. об этом ниже). Но главное достижение Крауса состоит в том, что он в качестве всеобъемлющего источника смысла не только средневековой архитектурной, но и вообще образно-символической – как вербальной, так и визуальной – традиции предложил рассматривать именно Литургию, вообще богослужение, имеющее не только пространственно-храмовое, но и историко-временнóе измерение, в частности, в форме годового богослужебного круга, последовательность событий которого как раз и вдохновляла ученых литургистов и экзегетов-символистов в своих комментариях углублять ее смысл. И церковное здание – это «действенное выражение» подобного глубинного литургического смысла.
И из всего сказанного вытекает собственная задача Зауэра: «исчерпывающее и систематическое исследование символических элементов Дома Божия в их происхождении, последовательном развитии, в их применении в искусстве и в их соотношении со средневековой культурой в целом»[104].
Эта задача требует выполнения ряда существенных пунктов, то есть известной исследовательской программы, которой мы вкратце коснемся, ибо это есть и методологическая программа, причем довольно универсального применения. Первый пункт этой программы гласит, что в текстах тех или иных ученых литургистов слышится глас «духа времени», в них фиксируется сумма идей, отсылающих к тому или иному столетию. Другими словами, исторический взгляд на рассматриваемые вещи необходим в такого рода исследованиях символики, имеющей как внеисторческие, так и сугубо исторические измерения. Второй момент касается того, что было бы заблуждением воображать, будто Дуранд и иже с ним писали свои тексты в качестве справочника для художников. Это вовсе не есть, так сказать, «символико-тектонические» подлинники, подобные подлинникам иконописным. Эти тексты подобны произведениям искусства в том смысле, что те и другие в равной степени суть «эхо представлений своего времени». Более того: можно даже допустить, что сами литургисты были под впечатлением от художественных произведений, хотя и последние несут в себе «следы влияния символических интерпретаций», как выражается Зауэр. Осторожность его достойна уважения и подражания, ибо он решительно оставляет без ответа «принципиальный вопрос об отношении символического искусства к символическим идеям (то ли символическое мышление решало и определяло процесс создания художественного образа, или творение художника само стимулировало проявление неосознанных идей [unbeabsichtige Gedanke])»[105].
Тем не менее остается несомненным следующее положение: церковное здание представляет собой «место действия мистических литургических процессов, наполненных идеями и символами, и тем самым оно само оказывается носителем еще более высоких идей, связанных с этими процессами»[106]. Принимая это положение, мы обнаружим и в более раннее время «множество, закрепленных за церковным зданием символических представлений, чьи законы учитывались при возведении новой постройки»[107]. А с другой стороны, нетрудно встретить такие толкования, которые возникали по следам уже готового здания, приписывались ему, так сказать, по факту и лишь, например, в позднее Средневековье закреплялись за церковной постройкой в качестве ее значения. Другими словами, сами по себе следы той или иной экзегезы ничего не говорят, важно выяснить их статус и происхождение.
Наконец, последний пункт программы касается того, что сама по себе экзегеза, символическая интерпретация – это проявление того или иного «состояния культуры». Это довольно тонкий момент, если понимать и принимать его непосредственно: именно процессы истолкования, способы обращения со значением выявляют процессы и состояния культуры, а не собственно памятники, которые сами по себе молчаливы и потому лишены смысла. Только экзегет-комментатор – неважно, литургист или историк искусства, – только он заставляет памятник говорить – напоминать о себе и о том или ином смысле.
Экзегетическая типология и символическое описание
И вот после всех подобных уточнений только и начинается изложение собственно архитектурной символики, как она представлена в текстах заявленных авторов. И снова, прежде чем перейти к самой символике, по мнению Зауэра, следует «обсудить целый ряд общих позиций», которые суть в известном смысле слова те самые принципы, на которых «покоится все здание духовного созерцания церкви»[108]. Эта фраза представляет собой саму суть того метода, который, скажем сразу, весьма достойно представляет Зауэр. Речь действительно идет о созерцании, о медитативном опыте, построенном на внимательном, вдумчивом, углубленном и творчески-продуктивном переживании некоторых вещей, наполненных смыслом и значением. И не просто наполненных, но и переполненных, изливающих его вовне. Собственно говоря, речь идет о прочтении некоторого текста, об усвоении некоторой текстуальности, некоторого дискурса, значимость которого сродни значимости самой жизненной ситуации, в которой пребывает читатель-«перечитыватель». Это чисто герменевтическая ситуация, заставляющая Зауэра предварять собственно символику достаточно детализированным разговором о Св. Писании и его истолковании, ведь «начатки символики заложены в текстах Ветхого и Нового Заветов»[109].
Апостол Павел первым подал пример типологического и аллегорического использования Писания. Церковь и хранила, и развивала этот подход, и использование Литургией соответствующих библейских мест происходит «не в буквальном, историческом, но в переносном смысле». Сакральный топос налагается на риторический (проповеднический!) троп – так можно описать в кратком виде всю ситуацию средневекового символизма. Чуть развивая этот момент, можно сказать, что смысл Писания буквально переносится, накладывается на смысл Литургии, и вслед за этим подобный метафорический импульс передается и пространству церковного здания, собора, понятого как сумма священных мест, обращенных в сторону верующего – внимающего и воспринимающего посетителя храма.
Переносный смысл в данном случае означает противоположность прямому, который для Писания есть смысл исторический, предполагающий тот порядок событий, порядок повествования, череду частей («мест»), которые имеются в самом Писании, в его первоначальном составе и контексте. Но само ли Писание является первичным источником для всевозможных символических, художественных и литературных мотивов? Или есть что-то иное, например традиция, выраженная в Литургии? О первичном значении Писания можно говорить до тех пор, пока богослужебное чтение Писания оставалось столь же прямым и последовательным. Но когда возникает практика выборочных и перегруппированных чтений (например воскресных), то тогда мы безоговорочно должны признавать в качестве источника именно эту литургическую традицию. Только «литургическое использование» Писания объясняет склонность группировать, соотносить священные события и факты, далеко отстоящие друг от друга, и, наоборот, разделять и противопоставлять родственное и близкое. Таково происхождение символическо-ассоциативного метода, который не может быть иным, ибо таково свойство источника: он сам символичен и иносказателен. Комментарий Литургии не может не быть метафорическим.
В целом же Зауэр подобное литургическое обращение с Писанием называет методом преобразования внутреннего содержания текста. Происхождение подобного метода ведет далеко в античность, но тем не менее, христианство знает несколько, как говорит Зауэр, «главных разновидностей понимания и передачи смысла Св. Писания». Этих разновидностей традиционно насчитывается четыре – исторический, аллегорический, тропологический и анагогический смыслы[110]. Интересно, как Зауэр – в данном случае вслед за Дурандом – характеризует эти, в общем-то, известные способы толкования. Исторический смысл предполагает понимание вещей и событий согласно буквальному значению сообщения. Аллегория добавляет к речи иной смысл, отличный от «обычного, естественного значения слова». Тропология обозначает морализирующий способ говорения, истолкование с точки зрения морали тех самых слов, которые в естественном смысле означают нечто иное. Близкий к аллегории анагогический смысл предполагает поиск в тексте метафизических отношений или к сверхземному, или к Церкви. Примечательно, что Сикард видит как раз в аллегории способ выявления «тайн Церкви», а анагогический путь ведет исключительно к потусторонним вещам. Но в целом эти четыре способа толкования – общее достояние средневековой экзегезы, берущей свое начало в недрах эллинистической науки и продолженной и Оригеном, и Иеронимом, и Бл. Августином, а в поэтической форме зафиксированной Данте. Но уже Августин, а затем и Фома с Бонавентурой указывали на тот момент, что одно лишь буквальное значение имеет доказательную силу, с него следует начинать процесс понимания и лишь оно одно – обязательно. Не все тексты с необходимостью «четырехзначны» и потому не все следует толковать по всем четырем направлениям.
Главное же следствие или, лучше сказать, практическое применение подобной экзегетической схемы – это типологический взгляд на отношение между Ветхим (образом) и Новым Заветом (реальностью). Это тот самый параллелизм, который нередко приводил к утрате уникальности именно евангельского провозвестия. Фактически, перед нами способ распределения всего текстового материала Писания по определенным категориям, отражающим, между прочим, те или иные представления об истории и при этом не учитывающим «первоначальный контекст и смысл» используемых мест, образов и мотивов.
Говоря же об общих законах, управляющих подобным подходом к Писанию, следует выделить принцип использования предельно внешних отношений и подобий ради установления внутренних, духовных и органических связей. Даже наблюдения над отдельными словами, взятыми из разного контекста, могут способствовать установлению подобных «отношений обмена» между отдельными содержаниями. И действительно, экзегеза зачастую представляет собой именно обмен смыслом через смену точек зрения: под разным углом проступает тот или иной слой значения, каждый из которых как бы полупрозрачен.
Но можно посмотреть шире и увидеть в этих методах определенные экзегетические стратегии и даже соотнести их с тем или иным временем (от раннего христианства и до XIII века – символическое направление, которое отчасти перекрывается типологическим, с XV века – его сменяющее историческое). Нечто подобное, но с иной теоретической подоплекой мы найдем у Гюнтера Бандманна, но уже Зауэр подвергает эту схему критике с точки зрения социального назначения той или иной формы экзегезы. Он обращает внимание на довольно механический и зачастую внешний характер той же типологической практики толкования, предназначенной для «доступного поучения, адресованного малообразованному человеку»[111]. Самое наглядное выражение этой тенденции – т. н. «народные книги» позднего Средневековья, полные самых неожиданных и чисто внешних аллегорий и параллелей. Это все та же проповедь, предполагающая не столько толкование, сколько адаптацию смысла, сознательно отделенного и «отдаленного» от первоисточника. Но совершенно особая тема – толкование Писания в контексте мистического опыта, где многое зависит от «душевного настроя» автора.
Итак, что же такое эта четырехчастная схема: структура самого текста или механизм толкования, понятого как способ преобразования смысла? Ответ на подобный вопрос предполагает допущение взаимовлияния текста и его читателя. И слои смысла стимулирует выбор одного из методов, и примененный метод, в свою очередь, тоже способен выявить доселе скрытый слой. Но остается пока еще без ответа вопрос, а не может ли метод и создавать уровень смысла? Быть может, существует собственно текст на уровне буквального значения, и к нему добавляются уровни, полученные посредством его преобразования под воздействием того или иного способа рассмотрения?
Но в любом случае мы имеем дело с типами значения, подобная типология есть тоже метод – самый распространенный и популярный в Средние века и предназначенный для выстраивания системы соответствий-параллелей, прежде всего между ветхозаветным и новозаветным материалом, а также между отдельными сюжетами, предметами, персонажами, идеями и т. д. Суть типологического параллелизма заключается именно в приеме типологизации, сведения материала к набору формальных типов, из которых выстраиваются те или иные конструкции-схемы, заполняемые, в свою очередь, конкретной семантикой. Это метод комбинаторики, оперирования и манипулирования смыслом, и совершенно показательно, что его самое типичнейшее проявление – числовая символика в широком смысле слова, система чисто количественных отношений, способных подчинить «наимельчайшие частности», присущие семантике любого происхождения. «Числовое равенство было поводом сопоставлять предметы и события, по природе гетерогенные, и выстраивать внутренние отношения на основании чисто внешнего подобия»[112]. Числу можно назначить любое значение, как носитель такового оно вполне нейтрально и потому удобно. По этой причине числовые отношения сравнимы с конструкцией в архитектуре. Да и вообще семантика, превращенная в арифметику, хорошо приспособлена к архитектурной практике…
Одновременно мы должны признать, что числа обладают порядком, последовательностью, которая является аналогией, подобием конструкции, структуры, иерархии. И в данном случае этот порядок задает и отношения повествовательные, дескриптивные и дискурсивные, что прекрасно видно на примере текста того же Зауэра, который не может не изложить всю последовательность числовой символики от единицы и до сорока (естественно, с пропусками). Подобный числовой ряд, можно сказать, обладает настоящей завораживающей силой, он подчиняет и того, кто его выстраивает, и того, кто следует за этим построением (и того, кто считает, и того, кто считывает), считая, что он добровольно следует за всеми этими числовыми рядами и – что не менее существенно, – числовыми ритмами. Эта ритмика числа обладает своей особой, в том числе и дидактической, суггестией, дополняющей чисто «духовные ценности» подобного символизма и позволяющей выстраивать на числовом основании и физический, и моральный миры, делая их непосредственно доступными и для духовно не подготовленного зрителя[113]. При этом, несомненно, понимание внутреннего содержания числа доступно не всякому, оно требует подготовки, и открывается в полной мере лишь в приложении к Дому Божию, как справедливо замечает Зауэр[114].
Ведь только в структуре церковного здания вся подобная символическая типология и нумерология обнаруживает свою функциональную наполненность, определяя и конструкцию, и пропорционирование, и ритмику форм и прочее. Но главное, с точки зрения уже архитектурной иконографии, мы обнаруживаем глубокие и экзегетически, можно сказать, неизбежные соответствия между архитектурными элементами и вышеописанной типологией. Стоит заметить, что Зауэр в отличие от иных авторов (того же Грабара) не склонен обольщаться относительно природы этих типов, всегда помня о том, что они искусственного и происхождения, и предназначения. Кстати говоря, мы в данный момент вовсе не обсуждаем происхождение самой типологии как таковой: ни психологические, ни эстетические, ни логические корни подобного феномена.
Нумерология и пространство
Однако числа обладают одним очень неудобным свойством: их символическое значение и ценность имеет вполне конвенционально-религиозный характер, и, когда пропадает вера в число как элемент Божественного миропорядка, тогда остается символика несколько иной природы, символика частей света, «более прочно увязанная в духовной и чувственной жизни человечества». Эта символика соответствует природному чувству человека, хотя с небесным сводом связаны не только представления о свете, тепле и новой жизни, но и представления о «более возвышенных сущностях» и о небе как источнике блага (или его противоположности). Другими словами, задолго до христианства «естественный человек» уже знал символическое толкование частей света. И применительно к христианству речь идет не о содержании представлений о востоке, западе, севере и юге (в этом христианство не сказало ничего нового), а о «практическом применении» этих символических знаний, например, в ориентации церковного сооружения.
Но один момент все-таки был принципиально новым: это отождествление концов Креста с четырьмя сторонами или частями света. Тем самым в привычные характеристики мироздания вносятся сугубо моральные оценки и идея Божия Промысла: ведь согласно этой традиции Христос был распят лицом на Запад и спиной на Восток. Тем самым Господь отвернулся от Иерусалима, эра Ветхого Завета закатилась, вперед выступают бывшие язычники. Сама ориентация Креста, таким образом, обозначает переломный момент мировой истории, полный пугающего трагизма. Первым всю эту пространственно-небесную поэтику Креста описал Рабан Мавр, положив начало всей средневековой строительно-архитектурной символике.
Другими словами, символика пространственных векторов в их соотношении с явлениями небесными и земными, в том числе и связанными с земной поверхностью, дает ориентацию и в реальном пространстве, и в его интеллектуально-духовной проекции. Отсюда полная смысла связь между элементарным положением здания в пространстве и его назначением, функцией. Внешняя ориентация отражается и во внутреннем устройстве церковного здания, в смысле его внутренних членений и направлений, что предполагает и просто задает определенный порядок движения присутствующих в храме. Особенно это касается перемещений священника. А в целом, конечно же, все это отражает пространственную динамику богослужения, в частности чтение Евангелия, когда направление, обращение читающего диакона или священника отражает именно проповедническую интенцию всего храмового пространства и богослужения[115].
Понятно, что за этим стоит не только связь севера и юга, но и более универсальная – правой и левой стороны. Последние связи по смыслу крайне конвенциональны: левая сторона – это земная жизнь, правая – обращенность к иному миру, хотя восходят они к соответствующим эсхатологическим местам Евангелия, когда на Страшном Суде праведники и грешники будут разделяться именно одесную и ошую Христа.
Пример пространственного символизма, пусть и выраженного в форме направлений и ориентаций, доказывает одну очень существенную вещь: символика как таковая прямо не была связана с архитектурой, она ее превышает, объемлет собственно сооружение и проникает внутрь его. В подобной ситуации скорее архитектура будет содержанием этого символизма, конкретным наполнением подобного символического пространства или, лучше сказать, среды, обладающей своей размерностью, своей динамикой и т.д. Зауэр вспоминает и символизмы иного порядка. В частности, тех же природных элементов, то есть материала, камня, если брать земной храм, или самоцветов, если иметь в виду Небесный Иерусалим. Это и символизм «мистической ботаники», превратившейся в позднее Средневековье в «самый настоящий чудо-сад Божией Матери». Нельзя забывать и символическую зоологию «Физиолога» и многочисленных бестиариев. Все эти вещи обладают собственным сокровенно-мистическим смыслом независимо от архитектуры. И в практически непрерывный ряд такого рода священных по смыслу вещей включается – в какой-то момент – и архитектура.
С одним, впрочем, существенным уточнением: она сама в себе содержит целую череду предметов, элементов, частей и деталей, составляющих и ее убранство, и просто устройство. Поэтому как всеобщая природно-космическая символика представляет собой среду, внутри которой можно обнаружить и архитектуру, так и последняя, в свою очередь, становится вместилищем предметной символики меньшего масштаба.
Именно этому символизму посвящена самая обширная часть книги Зауэра, отражающая в своей крайней детализированности не столько структуру церковного сооружения, сколько потребность создания его словесного эквивалента, в котором можно заново пережить архитектуру как плод и строительных, и экзегетических усилий. И все это, как неустанно напоминает Зауэр, – под знаком Литургии и в свете исторического развития.
Мы, к сожалению, не можем проследить столь же подробно вслед за Зауэром содержание всей символики, но выяснить содержание того текста, который создает по поводу данной символики сам Зауэр, – наша непосредственная задача…
И начинается «строительство» подобного символического здания с выяснения тех имен, которые приписываются церковному зданию уже первыми авторами в лице Климента или Оригена. За именованием, отражающим «естественное значение», скрываются «духовное представление, более глубокие идеи», так что нередко имя церковного сооружения – это уже «переносное обозначение, используемое лишь при рассмотрении идеального значения». То есть уже наименование – ключ к невидимым и не буквальным слоям смысла, и подобные отношения суть истинный фундамент всякой архитектурной, тем более сакральной символики и одновременно – всякого описания (в том числе и иконографического).
У Зауэра, когда он говорит о происхождении подобных именований, мы наблюдаем известную и в данном случае вполне уместную теорию о происхождении священных имен из священного трепета, связанного с переживанием сакрального и перенесенного с самого сакрального на место его явления, то есть на место теофании. Но исторически мы имеем здесь проблему сугубо архитектурную: ведь до некоторых пор ранние христиане не имели собственно церковного пространства, «религиозного культового здания, возведенного и устроенного непосредственно и исключительного для этой особой цели»[116]. Подобное обстоятельство означает, что до тех пор, пока «богослужебные практики» осуществлялись в иудейских молельных домах, частных жилищах или в иных «импровизированных пространствах для молитвы», – до тех самых пор невозможно говорить о «собственной символике христианского Дома Божия», что, соответственно, не предполагает у авторов того времени описания и толкования подобных «мест собраний»[117].
Тем более интересны «мельчайшие следы» тогдашнего восприятия Дома Божия. И если Ипполит Римский говорит об истинной Церкви исключительно в духовном, нематериальном ее измерении («общность живущих по истине»), то для Оригена, равно как и для Лактанция, существует понятие «церковное здание». В любом случае речь идет о процессе переноса обозначений, предназначенных для Церкви как единства верующих, на церковь как «место собраний» (такоко значение и слова «синагога», и его греческого эквивалента «экклесия»). В этом процессе переноса имени заключена «основная мысль» всякой церковно-архитектурной символики: «материальная церковь есть отображение Церкви другого – духовного – измерения»[118]. «Духовная церковь» выступает в качестве понятия, постоянно открытого для символизации и наделяемого «новосозданными атрибутами».
Эти атрибуты, добавим мы, представляют собой собственно архитектуру, так сказать, материальную оболочку, доступную для внешнего взора плоть, предназначенную для внутренней, духовной структуры, открываемой внутреннему созерцанию. Тем не менее по закону метонимии эти два аспекта значения по ходу символического толкования уравниваются и становятся эквивалентными.
Но существует и более сложный символический ряд, связанный с новозаветным образом экклесии как Тела Христова. Будучи подробно развит в учении апостола Павла, подобный образ имеет два фундаментальных аспекта: «действительное, материальное Тело Спасителя» в его отношении ко Второму Храму, и «мистическое Тело в его отношении к духовной Церкви». Эти два сравнения имеют внешними членами постсоломоновский Храм и духовную Церковь, а «внутренним фактором» – «Тело Христово в двояком понимании». Так выражается Зауэр, имея в виду литературно-риторический аспект этой символической комбинаторики. Другими словами, образ Тела Спасителя выступает «связующим звеном» между, с одной стороны, материальным – и ветхозаветным – Храмом и, с другой стороны, Церковью в мистическом – новозаветном и, в конечном счете, эсхатологическом ключе. Но при этом в раннехристианской литературе невозможно найти непосредственное отождествление церковного здания с Мистическим Телом Спасителя, что, казалось бы, сделать не так-то сложно. Везде мы встретим лишь одностороннее подчеркивание ветхозаветного прообраза церковного здания во всех его типологических аспектах (и Ноев ковчег, и ковчег Завета, и скиния, и сам Храм Соломона). Как говорит Зауэр, при описании и константиновских построек, и сооружений позднего Средневековья – везде звучат одни и те же библейские слова (прежде всего – о краеугольном камне). Фактически, это символика не столько архитектурная, сколько текстуальная, вербальная, которая, по мнению Зауэра, издревле формировала само восприятие церковного сооружения. И подобный тип восприятия возвращал всякого зрителя и толкователя в ветхозаветное прошлое «иудейского Храма».
Но этот взгляд дополнялся и обогащался принципиально иным воззрением – сугубо новозаветным и связанным уже не столько с исторической, сколько с мистической стороной дела. Речь идет, конечно же, о видении Нового Иерусалима. Соответствующее место в Откровении св. Иоанна Богослова дает образ свершившегося Царства Божия, наиболее совершенную форму Богообщения, когда Сам Господь пребывает посреди своей Церкви. И этот идеальный Храм пронизывал своим светом церковное здание, позволяя перетолковывать материальное в духовном ключе. И совершается этот процесс литургическим способом, в богослужебной форме, по ходу чина основания и освящения храма, когда эти символические отношения фиксировались и – почти что буквально – закладывались в архитектурно-сакральную символику. Тем не менее, и здесь мы пока еще не видим Евхаристической темы, то есть, если говорить конкретно, совмещения символизма Таинства и символизма пространства. Место сакральное еще не воспринимается местом сакраментальным – быть может, из-за особенностей раннехристианской архитектуры…
Наконец, еще один аспект символики – тропологический, когда храм истолковывается в моральном смысле, сравнивается с человеческой душой. Основания для такого подхода – соответствующие места из апостола Павла (1 Кор, 3, 16, 17), развитые уже Оригеном и Бл. Августином, для которого, в частности, сердце человека – алтарь храма души[119]. И ничего удивительного, что подобный этико-мистический подход очень рано совмещается с историко-типологическим, в результате чего возникает образ человека как носителя уже знакомой нам ветхозаветной типологии. И если объективизированный аллегоризм развитого Средневековья отчасти утратил этот взгляд, то позднесредневековая индивидуализированная мистика имела особый вкус к таким образам, что в последующее время только усугубилось в контексте ренессансной гуманистической религиозности с ее культом исторической и одновременно человеческой памяти[120].
Зауэр вполне резонно замечает, что раннее христианство положило практически исчерпывающее тематическое основание всей последующей символической традиции. Мы со своей стороны должны отметить, что обсуждаемые и комментируемые Зауэром темы столь же основательны и неизменны с точки зрения последующей историографической и концептуальной традиции. В связи с этим позволим себе чуть более сжатое изложение собственно Зауэра и чуть более расширенные наши комментарии, полезные для последующего изложения…
Литургические темы символического толкования: материальность, телесность, возведение
И самая продуктивная тема обнаруживается в самом начале разговора о «символике церковного здания в средневековой литературе». Ссылаясь на Дуранда, Зауэр указывает, что цель символического толкования, в конечном счете, – понимание совершающейся в храме Литургии, которая составляет «наиболее сокрытую и неповторимую жизнь Церкви». И понимание этой таинственной сердцевины церковного бытия невозможно без изъяснения того места, на котором Литургия совершается, с которым она связана, как душа с телом.
Другими словами, архитектура есть материальное, телесное условие духовных процессов. Продолжив и развив эту метафору, нетрудно получить крайне существенную и полезную идею того, что содержание архитектуры требует к себе и буквального отношения: это все то, что происходит, случается, присутствует и размещается внутри храма, внутри архитектурного пространства, все то, что ему принадлежит, что его выявляет и что, быть может, рассматривает и само пространство в качестве своей атрибутики, как одно из своих свойств.
Но и с точки зрения внешних свойств церковное здание возможно толковать и духовно, и одновременно материально и буквально. Тождественность наименований, применяемых для обозначения как собственно церковного здания, так и Церкви как «единства верующих, посредством единого служения призванного и собранного народа», – подобное общее имя («церковь», ecclesia) позволяет видеть в материальной церкви, в вещественном и телесном сооружении, в зримом Доме Божием, составленном из камней (и прочих элементов – добавим мы), «подходящий образ» христианской общины в той мере, в какой она сама составлена органическим порядком из различных и разнообразных людей, этих подлинных живых камней. Оба смысловых поля – материальный и духовный Храм – составляют «внутреннюю связь» на основании общей идеи «органического построения из отдельных элементов».
Этот фундаментальный смысл действительно лежит в основании практически любых дискурсов, и крайне существенно, что он на самом деле способен объединять телесное, зримое, осязаемое, сделанное, изготовленное, в конце концов, художественное с незримым, нематериальным, духовным, интеллегибельным, просто психологическим. Более того, материальное можно рассматривать как конкретизацию, осуществление, реализацию замысленного, задуманного, почувствованного и пережитого. Кроме того, опять же телесность – или метафорическая, или сакраментальная, или реальная – выступает связующим звеном этого символизма: можно сказать, что храмовое здание, будучи само телесным не только материально, но и иносказательно (виртуально), способно включать в себя буквально телесность молящихся, просто присутствующих в нем. Отдельный вопрос, который будет решаться нами в последующих главах, – какова степень включенности в эту храмовую телесность человеческой телесности: не только в качестве буквального контента-содержимого, но и в роли вышеуказанного содержания – активного фактора, формирующего само устройство, структуру хотя бы внутреннего пространства посредством актов восприятия, созерцания, движения и т. д.[121].
Еще один аспект единства и взаимодействия телесного и духовного возникает благодаря применению типологического метода. Универсалистское мышление, свойственное церковному сознанию, как считает Зауэр, не могло не предполагать, что устройство культовых мест в христианстве санкционировано и узаконено ветхозаветными образцами – Скинией и Иерусалимским Храмом. И в том и в другом примере сразу бросается в глаза двухчастное членение, повторенное в христианском церковном здании в делении на алтарь и неф. Первое пространство предназначено для клира, для активной части участников богослужения, а второе пространство связано с пассивным народом, который «молится и внимает». И подобное двоякое устройство есть образ также двойного способа и пути спасения – vita activa и vita contemplativa. Иначе говоря, и здесь мы видим в устроении, в структуре храмового пространства отражение, символизацию соответствующих состояний человеческой души (можно сказать, сознания), имеющих, по сути, сакраментально-экзистенциальный характер, так как участие в таинствах определяет и жизненную ситуацию, и возможности верующего.
Еще одна сугубо строительно-архитектурная тематика, извлекаемая из ветхозаветных реалий и превращаемая в христианский символизм телесного и духовного (душевного), – это три материала, использованные при строительстве Иерусалимского Храма. Этим трем материалам, веществам соответствуют три сословия внутри единого народа Божия. Если золото символизирует жизнь созерцательную, а дерево – активную, то камень – жизнь священническую, как это толкует Гуго Сен-Викторский.
Типологический символизм имеет и собственно исторический, темпоральный аспект, связанный с сопоставлением Скинии и Храма и, естественно, перенесенный на христианское храмовое сооружение. Скиния, сопровождавшая избранный народ в его непрестанном сорокалетнем странствии по пустыне, является образом сего мира, состоящего, как известно, из четырех элементов, которым соответствуют четыре цвета в убранстве Скинии. Последняя, являясь и образом человеческой души, микрокосма, в котором обретает себе жилище Всевышний, может, кроме того, служить образом и нынешнего состояния Церкви как ecclesia militans – не имеющего здесь никакого пристанища Странствующего Града Божия из Послания к Евреям св. ап. Павла. Соответственно, переход от временной и внешне скромной Скинии к основательному, полному величия Храму Соломона – это тоже образ, но уже перехода от временного существования и борьбы Церкви к Ее триумфу в состоянии будущего века. И потому Небесный Иерусалим – это нерукотворный Храм, составленный из живых камней праведников. Поэтому и двухчастное устройство Храма имеет свое соответствие в веке будущем, где, например, тоже будут как ангельские силы, так и сонм праведников[122].
Мы должны сразу отметить тот момент, что не вся церковная символика отражается в архитектурной атрибутике. Свойства церковного здания суть качества Церкви земной. И как ее состояние здесь и сейчас, в этом веке еще не завершено, точно так же и в свойствах и качествах церковного пространства мы должны находить аспект некой незавершенности, открытости всякого рода динамике, переменам, в том числе связанным и с созерцанием, которое можно сравнить с мысленным, молитвенным, быть может, «довозведением», дополнением, типологически-эсхатологическим предвосхищением того, что нельзя ни помыслить, ни увидеть, ни построить. Таким образом, мы наблюдаем здесь подлинные корни храмовой не только образности, но и семантики, подразумевающей в обязательном порядке свое экзегетическое достраивание, то есть движение, становление смысла[123].
Доказательство того, что средневековый символический дискурс не есть конечный пункт архитектурной семантики, нетрудно обнаружить при обращении к более конкретным темам, например к толкованию плана церковного здания. Таковых, как известно, может быть всего два: это или крестообразный, или центрический. Так, во всяком случае, это выглядит с точки зрения Дуранда (при том, что центрический тип им не рассматривается по причине нераспространенности такового на Западе в его время). Первый план соответствует Распятию, второй отражает тот факт, что Церковь распространяется по кругу земному. Но ни слова, ни звука, как говорит Зауэр, не найти у средневековых литургистов по поводу более конкретного облика храма той же базиликальной типологии, претерпевшей кардинальные перемены от ранних базилик к готическому собору. Все «гениальные идеи об одухотворении материи и устремленности вверх на путях преодоления тяжелых масс» – все это находки и открытия романтизма. Средневековый экзегет ни о чем таком не догадывался и незаметно для себя, без труда преодолевал конкретику архитектуры в поисках скрытого, незримого и чисто духовного смысла, который для него опять же связан был с телесными образами. Мифологема соответствия человеческого тела четырем странам света вкупе с образом Распятия и четырех оконечностей Креста – вот составляющие образа церковного здания как человеческого тела, где алтарь соответствует голове, рукава трансепта – рукам, а корабль – телу. Равным образом и внутреннее пространство буквально воплощает, то есть наделяет плотью, «всецелую <…> телесность Церкви Божией». Добавим от себя, что недаром приобщение к этой церковной всецелостности и всеобщности возможно посредством внутреннего пространства церкви: именно оно обеспечивает опыт вхождения, приобщения, причастия и причащения, когда участник богослужения ищет и находит собственной телесности аналогии, эквиваленты большего и высшего порядка…
Во всяком случае, внутреннее устройство христианского храма имеет трехчастную структуру, которая отражает три степени (или состояния) спасения (например, алтарь, самое узкое пространство, – это состояние девства). Одновременно трехчастное деление отражает три сословия общества, и все эти тройные структуры и отношения связаны с обычаем тройного обхода храма в процессе его освящения епископом. Иначе говоря, ритуал предполагает как метафорическое, образное, символическое участие человека в пространстве храма, так и буквальное, телесное, динамически-моторное переживание, окрашенное в личностно-нравственные тона. Подтверждение сказанному – идея отождествления, например, алтаря со Спасителем и одновременно с Небом[124], что позволяет связывать с этим местом и соответствующие чувства, и эмоциональные состояния (надежды, радости, умиротворенности и т. д.). Поэтому реальное присутствие в определенном месте церковного пространства делает возможным столь же реальное приобщение и к соответствующему Лицу, и к известному состоянию, и к конкретным чувствам, причем усилием не столько воображения, сколько разума, способно к интеллектуальному созерцанию. Фактически, совершается процесс взаимовлияния и, так сказать, взаимовыстраивания пространства и человека, их обоюдного формирования, складывания и уточнения.
Структуры символического толкования: предметность, ценность, масштаб
Другими словами, храмовая топология имеет сразу несколько измерений, доступных истолкованию, которое, в свою очередь, вполне четко делится на соответствующие уровни (те же топосы, но в другом смысле слова). И если само Писание – это уровень теофании, а экзегетика – богословия, то, например, тексты, подобные книге Зауэра, – это, по крайней мере, культурно-исторический уровень церковного сознания. Комментируя данный текст, достигаем ли мы некоего «четвертого измерения» интерпретации? Возможно, если допустить в качестве нашей задачи не столько ис-толкование, сколько «рас-толкование», снятие покровов аллегоризма и вербальности ради обнаружения сокрытого от непосредственного взора, по всей видимости, литургического, Евхаристического ядра всех подобных телесных векторов и духовных интенций.
И все это совершается, напомним, в пространстве храма и средствами храмовой архитектуры, и в строительно-архитектурных терминах, так что не будет чрезмерной вольностью предположить, что церковная архитектура тоже есть своего рода если не форма, то, во всяком случае, инструмент экзегетики, истолкования в камне.
Так что неудивительно, что материал, из которого изготовлено церковное здание, тоже есть предмет символического истолкования. Этот материал – камень, камни, которые легко сравнить с отдельными личностями. И подобно тому, как известь связывает один каменный блок с другим, точно так же и братская любовь связывает одного верующего с другим. Эта идея – основа основ, так сказать, материальной, вещественной символики церковного здания.
И эта символика совершенно явно опирается на впечатление от реальной постройки, от архитектуры именно как конструкции, когда тот же Дуранд вслед за Гуго Сен-Викторским говорит о каменной кладке и о «сильных»» частях здания, призванных нести «слабые» его элементы. Точно так же и Церковь есть здание, составленное из отдельных членов рукой «Высшего Архитектора». Другими словами, архитектура сама в данном случае оказывается источником метафоры, стимулирует интеллектуальное созерцание, вдохновленное способностью архитектуры являть связанную, взаимозависимую и целостную органическую структуру, где видны и части, и общее целое, а самое главное – присутствуют признаки участия того, кто создавал это сооружение. По сути дела, для средневековых литургистов архитектура выступает в качестве как раз произведения искусства, можно даже сказать, чего-то искусственного; так в поле зрения экзегетов попадает и известь, связующее вещество, основная черта которого – наличие в нем трех компонентов (известняк, вода, песок). Для того чтобы дать символическое толкование этого искусственного материала, необходимо подвергнуть его мысленному разложению, и тогда выясняется, что известняк – это образ любви, которая соединяется с попечением о земном (песок – символ земли) ради бедных и немощных. Но устойчивость и этому соединению, и возведенной с его помощью стене придает вода – символ благодати Св. Духа.
На примере подобного материально-вещественного символизма становится ясно, что существует несколько уровней смысла в пределах одной постройки. Первый уровень – это свойства природного материала самого по себе и пробуждаемые этими свойствами символические связи и ассоциации. Второй – свойства материал как уже материала постройки, те его качества, что полезны и необходимы для участия в строительстве, для включенности в целое. Третий – свойства самой материальной постройки, которые суть качества конструкции как целого, строительная, практическая семантика, дающая символику физических усилий, работы, труда вообще, а также организации, устроения порядка и т. д. Нетрудно заметить, что эти три уровня отражают своего рода динамику смысла, его восхождение и усложнение, обусловленное подключением семантики, так сказать, гетерогенной, а именно – нематериальной, душевной и духовной. Так, камень, образующий фундамент здания, – это одно, но тот же камень может быть и камнем краеугольным, и тогда он будет символом Христа, и тем самым его природные и строительные свойства как бы дематериализуются. Первым в Церкви встречается всецелый Христос, равно как и в храме мы сталкиваемся прежде всего с самим храмом. И только потом, во «вторичном модусе» рассмотрения, мы постигаем прочие уровни, добавляя, между прочим, к заложенному смыслу смысл собственных познающих усилий. Как их отделить друг от друга? Именно с помощью символически истолковательных действий. Поэтому про символическое толкование мы можем сказать, что это, наоборот, нисхождение смысла, как бы разборка здания на составные части, на первоэлементы (прежде всего конструктивные). Именно последние являются полноправными носителями значения, а не все здание целиком. Именно они независимы от человеческого усилия, а здание – как раз их плод. Этот символизм оперирует отдельными символическими «словами», а не фразами целиком.
Архитектура только выявляет такое свойство подобного типа символизма, занятого поиском и описанием отдельных образов-символов, вполне независимых и от исторического, и от эстетического, и от всякого прочего контекста, предпочитающих свое, отдельное словесное воплощение, потому что слово и язык столь же автономные величины.
Мы могли бы назвать такого рода символизм «деконструированием», но только на материальном уровне. Его самая существенная черта заключается как раз в том, что он не касается структур мышления. Они как бы преодолеваются и тем самым спасаются от разложения на материально-автономные составляющие, так как конечная цель всех подобных символических выкладок и построений имеет все-таки нравственную природу, и потому почти что сразу достигается уровень этически личностный. Это своего рода персонифицированная материальность, логоцентризм которой имеет сугубо мистическую природу (мы вынуждены будем вернуться к этой проблематике довольно скоро, когда зайдет речь о символизме литургических предметов, Евхаристическое предназначение которых фактически упраздняет всякую семантическую логику).
Другими словами, мы наблюдаем – благодаря, повторяем, как раз архитектурному примеру – замечательное свойство всей подобной экзегетики. С одной стороны, она стремится к внеисторической объективности и на этих путях готова не только вернуться в Ветхий Завет, но и добраться (упереться) в чисто природные, материальные, вещественные первоэлементы, а с другой – остается в поле зрения конечная задача: приближение ко Христу; и потому-то кроме уровней смысла, описанных нами только что, существуют и модусы истолкования, связанные как раз со степенью этого личностного приближения к Логосу. Подобная взаимозависимость нисхождения смысла и восхождения переосмысления (такова природа интерпретации) представляет собой сквозной принцип всей символической деятельности, связанной с сакральными сущностями, в чем у нас еще будет повод убедиться.
Подтверждение сказанному – символическая интерпретация отдельных составных (причем самых общих) частей постройки, сводимых в первую очередь к их физическим и внешним свойствам, которые легче всего преобразовать в символику, подвергнуть символизации. Так, касательно стен обращается внимание на их количество (в любой постройке их четыре, что отсылает, например, к четырем Евангелиям). Измерения внутреннего пространства тоже символичны: высота означает добродетели, длина – терпение, ширина – любовь; легко заметить, что здесь имеет место совпадение свойств феномена со свойствами символизируемого качества (например, объемлющее свойство пространства в ширину – и всеобъемлющее, всеохватное, всеприемлющее свойство истинной любви). То есть такой символизм связан с переживанием свойств феномена, причем направленного на душу воспринимающего, в которой, можно сказать, эти свойства отзываются, отображаются в соответствующей способности этой самой души. Иное дело – символизм, который, например, видит в совокупности стен общность верующих, а в размерности внутреннего пространства – отдельные функции и способности Церкви (ширина – распространение по земле, длина – устремленность к горнему, высота – переход к Небесной Церкви). Это уже символизм, так сказать, не буквально-психологический, а аллегорически-интеллектуальный, основа которого – переживание идеи и ее истолкование с помощью наглядных примеров, взятых из архитектурно-церковных реалий. Здесь архитектура уже не источник, а предмет, объект символизации[125].
Но возможен ли какой-то иной способ увязки символизируемого и самого символа, кроме текстуально-экзегетического, то есть интеллектуально-созерцательного? Оказывается, не только возможен, но и нужен – посредством чина освящения храма, когда с помощью конкретных действий (обход епископом храма против часовой стрелки с нанесением крестообразно на полу букв греческого и латинского алфавита) происходит визуализация и материализация всего подобного символизма, его внесение в сакральное пространство, можно даже сказать, его попутное – вместе с храмом – освящение и подтверждение. Одновременно в подобном практически-сакраментальном использовании символики заключен и момент истолкования того же храмового пространства посредством священнодействий. Почти что буквально: основание, освящение храма – это внесение в него смысла, наполнение его содержанием. Нетрудно заметить, что сам процесс возведения храма, создания храмового пространства пока еще лишен самостоятельного и самодостаточного, достойного истолкования смысла.
Тем не менее символизм конкретных частей здания – это всегда истолкование их функциональности. Это касается и крыши (перекрытий), которая чаще всего толкуется как образ проповедника (венчающая функция Церкви), и портала, входа (его нетрудно отождествить с Самим Христом, уподобившим Себя двери, через которую только и можно войти в Царство Божие) и, конечно же, окон, главная функция которых – в передаче света, в посредничестве. Отсюда – сравнения и с Писанием (текст передает Божию благодать подобно лучам солнца, проходящим сквозь стекло), и с пятью чувствами (внешнее благодаря им проникает во внутреннее души), и с отцами Церкви (их писания, подобно зеркалам, отражают свет горнего мира в мире дольнем) и т. д. Легко заметить, что толкуются на самом деле некоторые общие понятия, связанные с данным архитектурным элементом (свет и освещение, отражение и пропускание света). При том, что его собственный богатейший символизм (проем, отсутствие стены, граница внешнего и внутреннего и т. д.) остается не совсем востребованным. На примере как раз мотива окна видно, что функция – только повод для символической деятельности, это своего рода пустая схема, матрица, так сказать, смысловая ячейка, которую можно заполнить по собственному усмотрению[126].
Но пока еще перед нами только приемы восприятия храма сквозь, так сказать, символические линзы. Это всего лишь способ прочтения готового текста – в данном случае церковной постройки – непрямым способом ради обнаружения небуквального значения, неважно, что на самом деле оно привносится в готовый, но как бы пустой по смыслу «текст». Настоящая интерпретация связана с преображением смысла, с его трансформацией, и такого рода процесс средневековая символика знает на уровне тропологического, то есть нравственного, истолкования. В этом случае, фактически, строится уже новое «здание», т. н. мистический храм – система добродетелей, возведенная внутри души (так что и место здесь мыслится иное). На фундаменте веры в соединении с перекрытием-любовью, с вратами послушания и полом-смирением, а также, конечно же, со стенами-добродетелями (основных – четыре) возводится этот незримый и нематериальный храм-душа. Несомненно, перед нами не более чем идея здания, и в результате этих аллегорических усилий складывается, собирается из отдельных кусочков (сказать «строится» – слишком сильно) символизм готовой, но не изготовленной схемы, в данном случае строительной. На нее накладывается столь же элиминированный схематизм человеческой души. Но именно этот вид символизма, в отличие от символизма исторического, несвободного от стереотипов, давал примеры вполне индивидуализированного субъективизма, свободно и поэтически непредвзято толкующего в мистическом духе известные истины и реалии[127]. Так, вместе с воображением в символический дискурс проникает человеческая душа, способная творить-возводить и воздушные замки тропологической символики, и каменные соборы анагогической мистики.
Но дело не только в выстроенном здании, но и в обустроенном: наружное окружение церковного здания, внутреннее заполнение и убранство церковного пространства составляют не менее важный предмет символического истолкования, хотя Зауэр сразу оговаривается, что его работа имеет дело с «такими строительными элементами, которые находятся в сущностных отношениях с Домом Божиим»[128]. Поэтому далее Зауэр ограничивается лишь перечислением символических интерпретаций, например того же атриума, заключая замечанием, что эта практически необязательная часть сооружения способна была вмещать в себя любые, самые противоположные значения[129]. Фактически, перед нами чисто количественное развитие литургической символики – через привлечение новых элементов-объектов интерпретации. Обогащение смысла происходит за счет расширения предметного инвентаря. Так как это по большей части своего рода архитектурная атрибутика, необязательные и функционально малозначимые элементы, то экзегет достаточно свободен в наделении подобных элементов практически любым смыслом. Символика этих строительно-архитектурных маргиналий сродни глоссам текстуальной экзегетики.
Но при встрече с элементом, значимым даже с точки зрения телесной метафоричности, и уж тем более – если говорить о реальных священнодействиях, происходит качественное обогащение, расширение смысла, как это видно при обсуждении символики т.н. sacrarium’а или vestiarium’а, то есть диаконника при алтаре, где хранятся разного рода литургические принадлежности, в том числе сосуды и священные одежды. Именно с точки зрения функционального назначения этого пространства рождается его символическое значение: это не что иное, как образ Лона Пречистой Девы, от которого Христос принял «святое одеяние своей Плоти». И как священник, согласно Дуранду, вначале Литургии показывается из диаконника, так и Христос рождается в этот мир, как священник прячет священные сосуды в диаконник по окончании Литургии, так и Христос возносится от земли на Небо… Мы еще раз убеждаемся, что первичной оказывается пространственно-телесная символика Литургии, наделяющая смыслом окружающие реалии.
Но первенство остается, по-видимому, за пространственными свойствами, телесность следует за местом, топосом, что видно на примере символической трактовки такого, казалось бы, принципиального элемента, как колонна. Ее символизм не имеет только что нами наблюдаемого актуально-обрядового характера. Мы вновь сталкиваемся со стандартными типологически-ветхозаветными аллюзиями, отягощенными всякого рода церковно-институциональными аллегориями (колонна – образ епископа и т. д.), на что специально указывает и Зауэр[130].
Еще один вариант символизма связан с тем, что конечный объект символизации своей смысловой насыщенностью вытесняет непосредственный предмет толкования. Мы имеем в виду символизм купели, которая, естественно, тоже есть часть убранства храма. Водная стихия сама по себе есть самостоятельный символ и, можно сказать, символическая сила, только обретающая дополнительную энергию, будучи включенной в контекст Св. Писания и в Таинство Крещения со всеми его ветхозаветными прообразами.
На самом деле воспроизведенное здесь с комментариями краткое содержание главы об убранстве церковного здания не показывает всю детализированность и обширность этой главы, которая, как нам кажется, лучше всего отражает пафос подобной методологии. Она построена на максимально точном, верном и адекватном описании той самой символической образности, что оказывается предметом исследования. И исследования именно предметного, так как все образы берутся как отдельные предметы, изолированно, как элементы списка, единицы инвентаря. Можно было бы сказать – словаря, но в том-то и дело, что, как мы старались показать, слова здесь – лишь посредники между предметами разной сложности, разного происхождения и разной даже степени реальности. Анализируемые в книге литургически-экзегетические тексты могут, в свою очередь, иметь в качестве своего символа все тот же известковый раствор: ведь их функция – именно увязывать в связное целое элементы подобного списка.
Случай Зауэра осложнен тем, что эта образность – словесно-литературная и символически трансформированная, хотя и прилагается к вещам невербальным, то есть к архитектуре. Но можно ли посредством «описи обстановки» (в данном случае – церковного здания) реконструировать «обстановку» иного пространства – пространства души тех, кто создавал всю подобную символико-аллегорическую «декорацию» и тех, кто ее воспринимал? Мы не говорим о строителях церковного здания и его посетителях. Они остаются совершенно вне поля зрения подобного типа символизма[131].
Тем не менее один элемент церковной архитектуры прямо обращен благодаря своему символическому значению во внешний мир, более того – к слушателям и зрителям. Это колокольня – со всеми ее атрибутами и с основным символическим значением проповеди. Характерная, но, казалось бы, малозаметная деталь – изображение петуха на прямой штанге в качестве венчающего украшения колокольни (он возвышается и над обычным крестом) – имеет, согласно, например, Гуго Сен-Викторскому, весьма глубокий символический смысл. Это образ прямой, неискаженной речи проповедника, идущей не от человеческого разума, а от Духа Божия[132]. Но исток всякой проповеди и всего Писания и одновременно их завершение – это Крест и произнесенные с него Спасителем «слова расставания»[133]. По сути дела, в этом элементе сошлись самые фундаментальные темы: это и Слово Божие, и Плоть, и Писание, и история. Архитектура, ставшая предметом медитативного усилия, способна актуализировать практически одновременно и практически все смысловые поля и слои. Единственное условие – живость того самого «символического духа», который, по мнению Зауэра, порождает символику, способную быть действенной и после того, как «символический дух» вынужден будет уступить рационализму и позитивизму. Почти что иконологическая мысль, обязанная своим существованием, тем не менее, Гегелю. И последний штрих, характеризующий «соединенную» символику, казалось бы, несоединимых вещей (ведь очевидно, что сам петух – галльского и языческого происхождения), – это ассоциативная связь мотива петуха и темы времени и, соответственно, часов. Немалый уже чисто поэтический потенциал этих образных конструкций проявляется в том обстоятельстве, что часы присутствуют даже в убранстве Храма св. Грааля, как его описывает таинственный автор «Младшего Титуреля».
Но самое главное, что убедительную и потому неразрывную связь всем этим образам обеспечивает архитектура, являющая, в свою очередь, образ органичного и уместного единства частей и элементов, объединенных общностью замысла и конструктивной логики, а также образ действия, совокупность последовательных актов, как ментальных, так и вполне телесных, которые создают благоприятную среду для всех иных человеческих интенций.
Совершенно показательно в этой связи, что и личное участие толкователя-символиста в обсуждаемом предмете имеет немаловажное значение, так как обеспечивает более углубленное и тонкое восприятие темы. Поэтому именно в главе о колоколах Зауэр, всю жизнь занимавшийся возрождением колокольного звона и сохранением старинных колоколен в родном Бадене[134], позволяет себе некоторые субъективные отступления одновременно и общетеоретического, и индивидуально-поэтического порядка. И их мы как раз и коснемся с максимальной, впрочем, сдержанностью – за неимением места.
Во-первых, замечательно наблюдение: чем, так сказать, мельче подвергаемые символизации элементы, тем глубже и свободнее может быть символика, хотя, порой и неожиданнее, особенно когда сопоставляются вещи одушевленные и неодушевленные, конкретные предметы и отвлеченные понятия. Чего стоит, например, традиция толкования движения колокола вверх и вниз как двух направлений в духовной жизни священника-проповедника (вниз – повседневная активная жизнь, вверх – созерцательное восхождение при чтении Писания, вниз – буквальное понимание Писания, вверх – духовное толкование и т. д.). Понятно, почему «самая незаметная малость» обретает «особо примечательную символику»[135]. Это возможно потому, что подобная мелочь почти что лишена собственного значения.
Во-вторых, не менее замечательно такое наблюдение: само время обретает звучание благодаря традиции обозначать каждый момент суток особым порядком колокольного звона. И в соответствии с отмечаемыми событиями и моментами богослужения или календаря меняется сам характер звучания. И поэтому время не только звучит, но и наполняется тем или иным настроением – или печальным, или радостным, напоминая и об изгнаннической доле человека в этом временном мире, и о радости Небес, и об ужасе преисподней…
Третье крайне важное наблюдение: свобода истолкования мелкого предмета (того же, например, деревянного била, заменяющего в некоторых случаях колокол) предполагает независимость отдельных толкователей и одновременно возможность их объединения под эгидой этого незначительного предмета, у которого почти что нет собственного, так сказать, семантического сопротивления. Он выступает в роли своего рода смыслового сверхпроводника, так что, несмотря на незначительность, казалось бы, предмета, мы можем говорить о «богословии колокола»[136].
Четвертый момент, весьма примечательный, заключен в том, что аллегорически-тропологическое описание колокола предполагает отрешение от его непосредственного – музыкально-эмоционального воздействия, заключенного в его звучании. Эстетика замолкает, когда приходит время этики и дидактики, что и происходит, например, в Страстную Седмицу, ведь в это время предписывается и молчание колокольного звона. Впрочем, сам Зауэр не без сожаления предполагает просто недостаток эмоциональной чувствительности у литургистов, чьи «чувства остаются незаполненными». У них как бы отсутствует орган для воспроизведения своего непосредственного чувственного опыта. Присущее средневековому человеку «инстинктивное чувство прекрасного», о котором говорили романтики, на самом деле просто миф[137].
И последнее наблюдение, присутствующее в этом действительно «поучительном разделе» о колоколах. Зауэр задается вопросом: а почему именно такой, казалось бы, незначительный элемент, как колокол, вдруг стал предметом таких интенсивных символических усилий, в то время как куда более замечательные части церковного здания просто игнорировались истолкователями? Объяснение – единственно возможное – заключается в том, что благодаря бенедиктинской богослужебной традиции колокол оказался непосредственно связан с Литургией. Кроме того, именно колокольный звон – самое прямое и действенное вмешательство богослужения в социальную жизнь, причем на самом ее народном, первичном уровне. Это еще одно доказательство того, что исток символической образности – священнодействие, вообще всякое действие, как спонтанное и непосредственное, так и опосредованное правилами и канонами. Такое действие оказывает влияние на окружающее пространство и на тех, кто в нем пребывает. А через усилия литургистов-символистов в нем оказываемся и мы.
Итак, предмет, вещь, архитектурный элемент, функционально определенный и внешне конкретный, его образ (в восприятии и использовании), его символическое истолкование и повторное усвоение уже окрашены в аллегорические и символические тона. Фактически, предмет, ставший символом, обретает дополнительную силу воздействия, но теперь, как точно замечает Зауэр, не на чувство, а на разум.
Евхаристический буквализм алтарного пространства: пелена, реликвия и свет
Но остается сила воображения, питающая и чувства, и разум. Замечателен тот факт, что существует в пространстве церковного здания такое место, где остается ненужным воображение как таковое и где происходящее следует воспринимать и принимать буквально, реально и напрямую, вовсе при этом не рассчитывая на понимание, уразумение, ибо в этом месте действует тайна, и имя этому месту – алтарь.
Скажем сразу, что буквализм здесь неизбежен по той причине, что символизируется Евхаристия, и ничто не может сравниться с нею, ничто не может заменить ее, и никаким именованием нельзя ее переименовать, хотя это название, это понятие – «алтарь» – столь же многозначно, как и слово «церковь». Поэтому-то так рано была осознана потребность классифицировать значения этого имени, восходящего к Ветхому Завету. Одновременно стало понятным, что одно общее имя, приложенное к не совсем родственным понятиям и явлениям, позволяет гетерогенным явлениям вступать в контакт с себе подобными. Так возникает у Дуранда известная четырехчастная семантика: altare superius, inferius, interius, exterius.
Поэтому, приближаясь вслед за средневековыми литургистами к Святая Святых буквально – к алтарю и его устройству и убранству – мы понимаем, что здесь на самом деле в какой-то момент перестает действовать всякая изобразительность, то есть опосредование одной реальности другой с помощью образов. Евхаристия требует непосредственного восприятия, и не средствами органов чувств, и потому символические усилия смещаются с одной реальности на другую. Более того, претерпевая качественные перемены: фактически, меняется сама функция образов. Как мы убедимся, образы не обязательно должны служить делу изображения, более древняя и давняя, исконная и искомая функция образов – функция во-ображения, вхождения в образ. И таким всеобъемлющим и всеобщим образом является, несомненно, сама Евхаристия, способная вместить в себя невместимое. Но для нас важнее то, что Евхаристия, как всякое Таинство вообще, и как Таинство «транссубстанциации», способна ставить под сомнение эстетические, вообще визуальные возможности человека, и поэтому практически все убранство алтаря, места совершения Евхаристии – это те или иные формы покрова, завесы, типологически происходящей от завесы Иерусалимского Храма и призванной скрывать прежде всего тайну, являя ее недоступность неподготовленному взору. Тот же смысл сохраняется и в христианском контексте, когда, например, вспоминаются слова апостола Павла о пелене на сердцах иудеев, не позволяющей им видеть до поры Христа. Неготовность и неспособность видеть, созерцать незримое телесными очами и несовершенство духовного взора – вот что заставляет так обильно покрывать изображениями все покровы христианского алтаря, дабы «тайну пресуществления сделать внешне опознаваемой»[138].
Таким образом, мы обнаруживаем исходное и исконное назначение изображения внутри церковного здания: оно призвано заменять, замещать ту самую реальность священного, которая является внутри церковного здания, но не открывается, требуя от человека тоже незримых, нематериальных, нечувственных усилий.
Подобные или схожие отношения связывают Евхаристию с архитектурой, но между ними вклинивается отношение архитектуры к изображению, с которым у архитектуры примерно те же отношения, что и у Евхаристии, ведь и архитектура содержит в себе незримое, но крайне важное начало: пространство, хотя бы в образе места. Местом, а значит и пространством является и алтарь, и архитектура выявляет, обозначает присутствие особого пространства на этом месте, которое, в свою очередь, выступает образом невидимых событий, происходящих во время Евхаристии. И самое фундаментальное свойство этих особых отношений – несоответствие наружного, внешнего и внутреннего. Повторяем, что модель, прообраз этих «неподобной образности» – сама Евхаристия как Таинство пресуществления.
Именно так толкует литургическая символика всевозможные занавесы, покровы, покрывала, разные одежды алтаря и самого Престола. Так, Гонорий Отенский усматривает просто зазор, разделяющую дистанцию (Schranke) между телесным и духовным, которая будет преодолена лишь в конце времен. И все это соответствует традиции постовых покровов на Престоле. Из этой семантики происходит и обычай отделять алтарную часть от остального пространства храма всякого рода преградами (одно из них – иконостас).
Но самое существенное убранство алтаря, его истинное украшение – реликвии святых и, соответственно, реликварии. Причем – достаточно важное, на наш взгляд, обстоятельство – обсуждаются только те реликвии, что выставлены для всеобщего обозрения, а не все хранящиеся в церковной сокровищнице. Именно выставленные реликвии, будь то Преждеосвященные Дары или останки святых, помещаются в специальные емкости, ковчеги, сосуды. И ими (вкупе с Евангелием и Крестом) украшается именно Престол, который, будучи образом Самого Христа, дает наглядное представление о происхождении всякой святыни – словесной или вещественной. И здесь крайне важна именно наглядность всех этих образов и их взаиморасположение и взаимоотношения, что позволяет Зауэру говорить об эстетической подоплеке подобных канонических требований (об обязательности, например, присутствия на Престоле Евангелия), и символических комментариев[139]. Эти взаимоотношения мыслятся и воспринимаются как «свидетельства», как знамения, доказательства истинности, и всякому должно быть видно, что это именно так, что истина присутствует здесь и сейчас[140]. Но еще важнее то, что выставленные, явленные священные предметы предназначены для почитания, и в этом случае мы вполне можем говорить и о практике символических комментариев как об особой форме благочестия, но не визуальной, а вербальной.
А не будет ли само обращение с предметами, практика их использования формой вещного (то есть реального, предметного и непосредственного, до-символического) благочестия? Подтверждение тому – многочисленные и обычаи, и предписания, и толкования практики использования в церковном здании светильников, которые совмещают в себе и предметность, и вещественность (огонь как источник света земного и символ света небесного). Но стоит заметить, что на примере использования света становится понятным то обстоятельство, что явленность, доступность взору телесному, восходящему и к мысленному зрению, – это образ всякого видéния, всякого откровения свыше, недаром со светильниками и особенно с паникадилом связываются образы Апокалипсиса, прежде всего – явление Нового Иерусалима. Кроме того, взор – это символ движения, восхождения, то есть снятый, преображенный, трансформированный образ телесного поступательного усилия, предполагающего изменение, достижение совершенства (тот же смысл и у огня, способного менять вещество, делать, например, твердое – мягким, неподвижное и косное – текучим и летучим). Движение света касается не только плоти, но и души, так как свет способен проникать вовнутрь, и если в первом случае мы говорим об освещении, то во втором – о просвещении, хотя освещение даже поверхности порождает, в том числе, и блеск, сияние, которое может быть и сиянием славы, если освещаемое способно возвращать свет, делиться им, источать вовне. Так что светильник, свеча – это образ Христа как прежде всего Источника света, и не случайно в этом контексте всегда вспоминается солнце. Совершенно показательно соединение литургической символики в ее и практическом, и созерцательном изводе, проявляющееся, например, в аллегорическом комментировании обычая помещать во время Литургии после kyrie по центру алтаря перед Престолом светильник с горящей свечой, символом Христа, Слава Которого всегда и везде образует середину, является центром всего и вся, согласно Дуранду[141].
Но нередко символическое умозрение отвлекается от предметно-образного созерцания, создавая чисто словесные метафоры, которые не совсем предназначены для прямого восприятия in visu, так как проникают в состав предмета, касаясь скорее такой особенности вещей, как их изготовленность, сделанность, составленность из более простых вещей. Отсюда такой изощренный и довольно специфический символизм той же свечи, которая состоит из воска, собранного пчелой (существо, свободное от половых различий, то есть от нужд размножения, образ невинности) и окружающего фитиль, который способен и гореть, и пожигать. Все вместе это дает пламя, а в конечном счете – символ Христа (воск – плоть, фитиль – душа, пламя – Его Божественная природа). Понятно, что только словесное проговаривание подобных свойств данных веществ и явлений дает такого рода чисто дискурсивную метафору, которую следует отличать от непосредственных образов, являющихся неподготовленному взору, пусть даже и мысленному[142]…
Символизм архитектуры и изобразительность Литургии
Хотя на самом деле образность, изобразительность, отношения сходства и подобия связывают и пронизывают все связи и отношения между Литургией, архитектурой, изобразительным искусством и символическим комментированием. Так, обсуждая «богатые смыслом» обряды и обычаи, связанные с теми же рождественскими свечами, Зауэр говорит о «фактах священной истории в их литургическом воспроизведении»[143], при том, что все обычаи и церемонии указывают на Христа. Символика связана с «литургическими формулами», развивая и расширяя заложенные в них мысли. Другими словами, литургическая репрезентация идет вслед за священными событиями. Подобно этому и архитектура – способ репрезентации литургических событий, и как символика комментирует и развивает мысли, то есть идеи, заложенные в Литургии, так и архитектура подхватывает и развивает литургические «мысли», во всяком случае, находит им эквиваленты в архитектурных формах, прежде всего выстраивающих отношения пространственные. Тогда и изобразительное искусство призвано комментировать, даже иллюстрировать то, что предлагает архитектура. Но не стоит забывать и о «расширении» и «продолжении»: одним комментированием ограничиться невозможно по очень многим причинам, которые мы и намерены постепенно затрагивать и опять же комментировать. Во всяком случае, в связи со всеми этими отношениями подобия можно говорить о своеобразной литургической иконографии, подчиняющей себе принципиально гетерогенные явления и выходящей за пределы собственно образов, точнее говоря, превращая в таковые вещи и явления. Сама же эта иконография подчиняется правилам активно и созидательно действующего воображения, вбирающего в себя, казалось бы, «внешние» предметы и освящающего их через усматривание в них священного смысла. Замечательный пример тому – образ т. н. вечного светильника, пребывающего в Храме Св. Грааля[144], который, в свою очередь, есть несомненный образ – комментирующий и истолковывающий – христианского церковного здания. Подлинная иконография – это механизм порождения образов, во всяком случае, оформления их в наглядном обличье, так что не удивительно, что церковное здание – вообще церковная архитектура – оказывается в состоянии порождать, производить на свет столь грандиозные образные системы, каковым является Храм св. Грааля. Символическая Литургика – того же происхождения, равно как и книга Зауэра, а также, как мы надеемся, и наши в связи с ней рассуждения.
Но возможен и обратный путь, что доказывает символизм уже конкретно Евхаристических сосудов. Символизм как бы сжимается. Сужается поле его действия, ибо приближается и, так сказать, сгущается та сверхреальность подлинной теофании, которая вытесняет все словесные обходные пути и заставляет умолкнуть все мало подходящие для этого случая человеческие способности. Мы уже не просто в алтаре, а у Престола и созерцаем и пытаемся постигнуть – совершенно безрезультатно – то, что происходит на нем…
Поэтому, на наш взгляд, нет ничего удивительного, что до XIV века, до окончательного утверждения праздника Тела Господня, почти полностью отсутствует богословская теория Мессы, подобная богословию Крещения, хотя, как верно замечает Зауэр, «Литургия была и остается источником всех толкований, с которыми мы имеем дело»[145].
Предметом символической интерпретации оказывается не столько Месса как процесс, как священнодействие, сколько ее видимые и явные плоды, то есть Св. Дары, которые оставались на Престоле и после совершения Литургии. И как раз способы и формы хранения и почитания Даров – вот что оказывается в центре внимания литургистов. Это очень показательная проблема: ведь формы хранения и почитания Даров – это способ их присутствия в пространстве храма, а значит, и форма отношения к ним. И самое главное – это сакральное присутствие, это священное содержимое данного пространства указывает на его содержание, и не просто буквальное, но реальное. И это вмещаемое, как выясняется, превосходит по своей сущности вмещающее: пребывая внутри того же табернакля, Святая Святых объемлет и его, и алтарь, и весь храм.
Хотя здесь имеются проблемы и чисто археологического свойства, к которым, как это часто случается, прибавляются трудности филологические. Дело в том, что имеется целый ряд довольно ранних обозначений (armarium, sacrarium) для приспособления, имеющего, по всей видимости, форму шкафа; они объединены Дурандом в типологическом контексте, и в довольно неясных выражениях, понятием табернакля, то есть ковчега. Вопрос лишь вот в чем: имел ли в виду Дуранд, что в алтаре христианского храма тоже помещается табернакль, или это следует понимать аллегорически? Большинство исследователей, в том числе и Зауэр, склоняются к буквальному прочтению данного текста[146], имея в виду, что этим понятием можно обозначать всякую, отдельно стоящую или пристенную емкость, имеющую форму шкафа со створками. Впрочем, дело не ограничивается только табернаклем, так как собственно Святая Святых – освященные гостии – тоже хранятся в подобном отдельном сосуде, только меньшего размера.
И назначение этих сосудов, как его определяет Зауэр, предельно точно отражает смысл всей символической интерпретации и вообще семантики церковной архитектуры: «сосуды с их наполнением, предназначенным для освящения»[147]. Ведь что такое архитектура, как не сосуд для вмещения и хранения священного в широком смысле этого слова? А также – приобщения! Впрочем, как замечает Зауэр, символическая трактовка этих сосудов совершенно не затрагивает их литургические функции (говорится, например, о табернакле как о символе человеческой памяти, хранящей милость Божию, но не более того). То же самое касается и украшающих эти сосуды изображений, которые воспроизводят преимущественно евангельские чудеса исцеления и воскрешения (образ освящающего действия Евхаристии). Зато форма самой гостии и даже ее размеры становятся предметом обсуждения: это и размеры монеты в один динарий (очень емкий евангельский образ), и круг как символ вечности, и многое другое.
Тем не менее Зауэр считает своим долгом констатировать в очередной раз «несоразмерности в трактовке» этой темы. Если отбросить все исторические выкладки и этимологические изъяснения, то мало что останется. «Символическая интерпретация потира очевидным образом не соответствует высоте его предназначения». Исключительно внешние признаки оказываются в поле зрения символики. Даже если она и устремляется куда-то ввысь, то направление ее устремлений совсем иное, как не без сарказма замечает Зауэр. Опять перед нами типологическая аллегория и символика материала[148], и ничего касательно литургического предназначения.
Евхаристия, как кажется, остается вне поля зрения символических литургистов. Но дело, видимо, не в их невнимательности и равнодушии, а в чем-то другом. Показательно, что при рассмотрении потира в совокупности с другими литургическими предметами (дискосом и покровом) возможности толкования сразу расширяются, так как теперь трактуются уже не сами вещи, а их использование, то есть те действия, которые с ними совершаются. А действия эти сами выступают как источник смысла, тем более что одновременно учитываются и толкуются и сами совершители этих действий, священник и диакон, а также, что весьма логично, местоположение на жертвеннике и Престоле, ориентация в пространстве (символика правого и левого) и многое другое. Иначе говоря, предметом (и источником) толкования становится сама Литургия как совокупность многих разнородных, но интегрированных в священнодействие вещей. Причем в толкование включено и время, так как значение тех или иных предметов (того же дискоса, например) меняется по ходу совершения Мессы. И, конечно же, в этой символике заключена, так сказать, схема восприятия как познавательного, заинтересованного зрения, предполагающего визуализацию заключенного в Литургии смысла, переходящего даже и на словесное выражение тайносовершительных формул[149].
И тем не менее, многое продолжает вызывать недоумение: нигде не толкуется смысл самого Евхаристического жертвоприношения хотя бы в типологическом варианте мельхиседековой жертвы, которая упоминается в молитве самой Мессы. Не говоря уж о Тайной Вечери, что было бы «весьма продуктивно», как замечает Зауэр. Тем более что изобразительное искусство со всем усердием пользуется подобными «благодарными мотивами». Почему же получается так, что доступное визуальному образу кажется недоступным образу вербальному?
Не заключается ли дело в сути самого метода символической интерпретации, призванной дополнять, достраивать смысл, наделять им те вещи, что выглядят как бы лишенными его? Про Литургию подобного не скажешь. Она сама, как уже отмечалось, – источник смысла, который следует или понимать, или принимать. Понимать – разумом, принимать – верой и взором. А для этого приспособлены богословие и изобразительное искусство. Универсальный, обобщающий характер изобразительности проявляется, в частности, в толковании плащаницы, которая первоначально совмещала в себе функции и плата под сосудами, и покрова над ними. Сами действия, совершаемые с платом-плащаницей (снимается, полагается, сокрывается), именно изображают то, что происходило с Телом Спасителя после Распятия, во время погребения.
То есть мы оказываемся, фактически, лицом к лицу уже с иным символизмом, имеющим в виду не предметы и не идеи, а действия и их совершителей. Символ, если пользоваться языковыми аналогиями, становится, в таком случае, уже не подлежащим, и даже не именной частью сказуемого, и не дополнением, а своего рода наречием в данного рода «предложении», так как это образ именно действия, а не идей и не вещей. А действие охватывает и предметы, и намерения, и цели, поэтому перед нами – очень органичный, безо всяких аллегорических скачков, переход от типологически-исторического толкования плащаницы (синдона) как покровов Тела Спасителя в момент Его погребения к мистически-тропологическому восприятию того же предмета как образа уже некоторых усилий или состояний (искомых или достигнутых); а именно – попечения о теле путем «бдения и пощения» и, как следствие, обретения «нелицемерных намерений», то есть чистоты плоти и духа[150]. Замечательно то, что все эти, казалось бы, столь разнообразные и явления, и темы, и предметы, и мотивы – все они объединены единым действием и единым пространством, именуемым Евхаристией, которая, как известно, сама есть и воспоминание и обетование, и освящение и просвещение. Поэтому можно сказать, что Евхаристия есть средство истолкования и реальности другого рода и другими путями, а именно – евангельских событий, и путем их мистериально-реального даже не воспроизведения, а восстановления. Причем одновременно в двух пространствах: архитектуры и сознания (то и другое должно быть церковным, то есть хотя бы принадлежать традиции, которой подчинены и литургические, и литературно-экзегетические обычаи, и правила совершения богослужения, и правила его восприятия и понимания). Так что сакраментальный (и в переносном, и в буквальном смысле этого слова) вопрос о том, что первично, факт или его истолкование, в данном случае если не снимается, то проясняется указанием именно на архитектурно-сакральное пространство, в котором встречаются и взаимодействуют оба этих начала.
Общее и единое пространство Таинства (в данном случае Евхаристии) выстраивается посредством мистерии и ритуала, но обеспечивается наличием пространства своего совершения, в данном случае – церковного здания. Его возведение, строительство и выстраивание, несомненно, светский эквивалент сакраментальных действий и усилий. Именно это позволяет, как мы убедимся в дальнейшем, интерпретировать смысл, вложенный в постройку не только по ходу внешнего истолкования или согласно традиции, но и по ходу строительства, возведения здания, а также и присутствующий в замысле, программе и т. д. То есть смысл сугубо художественный!
Пространство зрительного опыта и убранство литургического действия
И объединяет все подобные смыслы и способы их порождения и усвоения, повторяем, единое пространство, действующее само как инструмент первичного истолкования потому, что это пространство восприятия, созерцания, то есть, фактически, эстетического опыта, в котором, как уже говорилось, невидимое обретает видимые формы. Особенно наглядно это проявляется в обычае elevatio сalicis, то есть возношения потира, когда указывается на присутствие Жертвы на Престоле.
Вообще говоря, момент визуально-перцептивный в некоторых случаях оказывается просто решающим, особенно когда это касается вещей, не столь нагруженных собственным, так сказать, прямым значением, как, например, в случае с символизмом такого «незаметного» предмета, как кадило. Хотя сам предмет восходит к ветхозаветным храмовым обычаям и установлениям, тем не менее его символизм выглядит совершенно стандартным, особенно когда речь идет о символике материала (золото, серебро, железо), стихий (огонь, дым) и числа (количество помещенных на уголь зерен ладана). Но не более того. Ни разнообразие форм, декора, которыми отличаются средневековые кадила, – ничто из этого, как с нескрываемым сожалением отмечает Зауэр, не попадает в пространство подобного символического восприятия, которое «сперва связывает себя с предварительно выставленными символическими понятиями, чтобы затем произвести истолкование без какой-либо оглядки на последовательное и логическое развитие главной идеи»[151]. Другими словами, мы имеем дело вовсе не с художественным, а с чисто символическим пространством, очень узким и составленным из понятий. Перед нами, на самом-то деле, настоящая символика идей, которая, впрочем, соотнесена с определенными предметами, образующими, по всей видимости, смысловой контекст восприятия и усвоения этих идей. То есть предмет образует среду, внутри которой движется мысль. Говоря чуть более расширительно, символизируемый предмет, изъясняемая вещь – это средство закрепления эйдоса в этом, материальном, мире. И мир этот не только материален, но и предметен, то есть обладает способностью вмещения, хранения и демонстрации – проявления. И одновременно это мир действий – манипуляций и операций. И образ этого мира – архитектурное пространство.
И как всегда, подтверждение приходит из мистически-тропологического толкования, касающегося состояния души и поведения человека (а в поведении участвует и тело). Процесс каждения включает в себя движение вверх и вниз, и подобная траектория благовонного воскурения символизирует взаимодополняющие отношения между молитвой (движение вверх) и ответным милосердием Божиим (движение вниз). А само кадило (чашка с углем и ладаном) в этом контексте символизирует человеческое сердце. И как источает аромат кадило во время каждения, устремляясь вверх, так же благоухает и устремленная к Богу молитва, полная добрых намерений…
Снова символика восприятия и опять – не предмета, а действия, но уже не одного зрения, но обоняния, в котором, как известно, еще меньше рациональной логики по сравнению с визуальным опытом, и даже с опытом слуховым[152]. Зауэр в связи с символизмом кадила и каждения говорит, что в восприятии символистов отношение кадила к человеческому образу Христа совершенно средневековое, то есть, добавим мы, конвенциональное и опосредованное понятийным рациональным рядом. Видимо, не совсем так, если иметь в виду всю вышеописанную сенсорно-эмоциональную моторику, которая, как нам представляется, сама чуть ли не является источником символизма. Зауэр удивляется, как Дуранду удается, толкуя такой мизерный предмет, как, например, ковчежец для хранения ладана (navicula), «весьма смело соединять две гетерогенные мысли» ради напоминания о том, что должно иметь стремление посредством молитвы, преодолевая широкое и глубокое море временного существования, достичь вечного Отечества[153]. Предметы и мысли могут быть гетерогенны, если гомогенна и целостна вмещающая их среда. Эту нашу мысль подтверждает и такое наблюдение Зауэра: в глаза средневековым символистам бросаются лишь внешние признаки вещей, они учитывают только цель, то есть назначение, предметов, игнорируя формально-художественную сторону дела.
В защиту не столько «монументального богословия», сколько церковного здания скажем, что наружный облик предмета и его функциональность имеют выход не в пустоту, а в храмовую, церковную, литургически-мистериальную среду, где каждый отдельный предмет имеет свое место и назначение, поэтому-то он уместен, то есть обязателен, и наделен значением, то есть познавателен. И действия, совершаемые с этими предметами, только обогащают их смысл, что видно и на примере специального сосуда для освященного масла. Покрытый специальным платом, этот сосуд брался в числе прочих предметов алтарной обстановки на особые торжественные шествия Чистого Четверга, которые можно истолковать, в том числе, и как странствие к Земле Обетованной, причем как в узком, типологическом, так и в широком, тропологическом аспекте[154].
Фактически само место освящало предметы, которые меняли свой статус и смысл, будучи помещенными в алтарь. Они обретали особую значимость и способность вмещать в себя смысл, которым не владели, будучи в изолированном положении. И даже всякого рода, казалось бы, случайные и необязательные вещи вдруг оказывались вполне уместными только потому, что вокруг них существовала особая архитектурно артикулированная и литургически трансформированная среда[155].
В результате эта среда оказывалась способной вмещать, хранить и воспроизводить смысл, но делая его собственным, специфическим и уникальным, не требующим, как мы видели, даже символики, тем более – прямой изобразительности, то есть презентации, репродукции, так как он есть смысл прямой, прямо исходящий из свойств литургического пространства. Поэтому совершенно справедливо Зауэр помещает разговор о собственно изобразительном искусстве, присутствующем внутри христианского храма, под рубрикой «Убранство церковного здания». Именно так именуется весьма обширная глава, следующая сразу после описания «устройства» алтаря. То есть после устроения среды можно и нужно ее обустроить, украсить, и это, с одной стороны, дополнительные, так сказать, возможности, а с другой – неизбежное и необходимое расширение собственно архитектурно-литургической символики, или, лучше сказать, символической семантики, которую мы, как договорились, отличаем от символики литературно-аллегорической.
Впрочем, начинается эта обширнейшая глава, стóящая, между прочим, всей следующей части и по объему, и по содержанию, с описания практики использования покровов и занавесей, а также шпалер и прочих подвижных и, казалось бы, непрочных форм. Но формы эти совмещают в себе сразу два крайне важных аспекта: они принадлежат сразу двум измерениям церковного здания, являясь и частью пространственных структур, и, в то же время, носителями изображений. То есть это переходная форма образности, делающая, помимо прочего, наглядным сам принцип убранства, украшения, декорировки, основная функция которой – служить пищей не для ума, а для взора, открывая тот или иной смысл, минуя вербальное и дискурсивное посредничество, «обеспечить через внешнюю декорировку украшение внутреннего, убранства души»[156].
Но «гораздо значимее» то обстоятельство, по мнению Зауэра, что средневековые литургисты пытаются обсуждать и «иконографическое убранство церковного здания», то есть «украшение посредством собственно образов»[157]. И здесь их поджидают весьма не простые испытания, ибо они в данной ситуации лишаются последних резервов богословия и, как никогда, приближаются к собственно художникам. Но в чем трудность? А в том, что, по мысли Зауэра (и всей тогдашней, по преимуществу неогегельянской, эстетики), «художническая свобода» (ее существование просто не обсуждается) оказывается ограниченной возможностью лишь выбирать между образцами, не более того. И таковыми образцами наряду с собственно книгами образцов оказываются вышеописанные символико-богословские тексты, всевозможные rationale и mitrale, что Зауэр не считает большим благом, как это выяснится в последней части его книги. Но тем не менее, ситуация с этими текстами именно такова, и, прослеживая, как средневековые комментаторы-богословы описывают изображения, принадлежащие к убранству храма, можно представить и их способ восприятия этих изображений.
Так, Дуранд прежде всего разделяет образы по их местоположению (на храме, перед храмом, внутри храма, на стенах, на окнах и т. д.). Следующее подразделение – по предмету изображения, и здесь, в первую очередь, описываются разные способы изображения Христа (на Троне, на Кресте, на руках Богородицы). И не только описываются, но и комментируются с точки зрения своего содержания. Иначе говоря, и здесь мы видим тот же, уже знакомый нам подход: пусть уже не сам храм и его части, не наполняющие его предметы и даже не обряды, а собственно образы служат все тем же самым поводом для символического комментирования, которое, впрочем, серьезно углубляет предметное содержание изображений. Проблема заключается в том, что тот же смысл уже проговаривался богословами-символистами по иным поводам, и ничего специально нового не вносится в символику благодаря самим изображениям, благодаря самому факту изображения. Как верно замечает Зауэр, того же Дуранда почти совсем не интересует «внешняя форма», то есть отношение к изображаемому предмету со стороны художника. Зато подробно описывается связь между предметами и темами: если, например, говорится об изображении Славы Господней, то говорится и об ангелах, и о сорока старцах, и – через некоторые промежуточные тематические рубрики – о дарах Св. Духа. Тут же – о Крещении и вскоре – об апостолах и четырех символах евангелистов. А где апостолы, там и тема Страшного Суда, а также возможность вернуться к такой теме, как чины святых, с подробным обсуждением их атрибутов и функций, а также формы и цвета нимбов, что оказывается поводом и для Зауэра углубиться в историю этого мотива. За темой святости идет тема Рая и ада, и, соответственно, способов его изображения.
Человеческие циклы иконографического убранства: психомахия, космос, колесо фортуны
И тут возникает тема добродетелей и пороков, и начинается несколько иной поворот в иконографических построениях, впервые непосредственно соприкоснувшихся с темами, которые «направлены на человека» и увенчаны «одной подлинной истиной, заключающейся в том, что его жизнь – насквозь тяжелая, дикая борьба, битва за благо и добродетель, и что ее надо пройти»[158]. Эти темы психомахии непосредственно захватывают человека, независимо от уровня его интеллектуального развития и степени учености. Простой человек не менее искренне и прямо реагировал на персонификации добродетелей и наглядное изображение пороков, чем ученый муж. Зауэр специально обращает внимание на «человеческий фактор», который, как увидим вскоре, представляет для него самое непосредственное и очевидное оправдание изобразительного искусства. Этот антропологический мотив ему тем более важен, чем более и более он настаивает на том, что любое искусство – только иллюстрация к соответствующему тексту, и без привлечения такого сильного фактора, как прямое воздействие на душевное состояние, невозможно объяснить силу искусства. Тем не менее искусство необходимо и его существование оправдано, так как именно изобразительное искусство действует (в некоторых своих темах) непосредственно и сразу на душу. Иными словами, иконография – тоже форма психомахии, в которую втягивается всякий зритель, пусть он только заметит, что добродетели изображаются женщинами, а пороки – или мужчинами, или зверями. Это «средства символической характеристики»[159], распространяющейся и на зрителя, превращающие его в соучастника происходящего.
Но визуализация характерных нравственных состояний души – только начало попыток сделать наглядными абстрактные понятия. Подлинная вершина этой традиции – «воспроизведение всей культуры человечества»[160].
Следующий шаг – представить себе эти изображения и как средство дидактики и воспитания. То есть интенция может исходить не только из темы и способа ее оформления, но и из намерений заказчиков, может зависеть от назначения. И здесь важным фактором является расположение тех же статуй и возможность воспринимать их без особых усилий и в нужный момент. Так иконография превращается в «богословскую пропедевтику» – благодаря церковному пространству и местоположению в нем.
Но стоит чуть расширить горизонт рассмотрения, как станет понятно, что, например, тетраморфные изображения пороков восходят к очень древним мотивам, захватывают романику и готику и одновременно ведут и к следующей эпохе, которую готовят образы Джотто. Так что иконографическая история добродетелей и пороков – «немалая часть культурной истории». Но, с другой стороны, за всеми подобными мотивами стоит вполне реальная борьба за человеческое сердце, к которому должен быть закрыт доступ всякого нечистого духовного зверья. И схватка эта не имеет исторического измерения, она над временем.
Как нетрудно заметить, в данном случае Зауэр обращается к резервам уже не средневекового, а собственного богословия, одним движением расширяя горизонты и иконографического описания, и самого изобразительного искусства. И мы должны отметить, что совершается подобная «амплификация», если дозволено будет воспользоваться юнгианской терминологией, через признание за изобразительными образами способности воздействовать на человеческую душу и воспроизводить именно то, что в ней происходит. Более того, воспроизводя душу с точки зрения ее содержания (борьба добродетелей и пороков), изобразительное искусство воспроизводит и самого человека, причем целиком, с участием и тела, пускай и косвенно (через душу и посредством пластических средств).
Нетрудно заметить, что тот же принцип действует и в сфере архитектоники: внутреннее пространство изображается посредством его обрамления, через артикуляцию внешних пределов, с которыми, между прочим, связано то, что именуется у Зауэра убранством, изобразительным обрамлением, образным украшением.
Но следующий уровень целостности – это то, что превышает уровень отдельной души и отдельного церковного здания. Это уровень Церкви и ее материального образа в виде Храма. При этом в иконографии рождается тема Церкви и ее антипода – Синагоги. Замечательно то, что эта тема непосредственно затрагивает внутреннее пространство церковного здания, так как подобные персонификации происходят, по всей видимости, из практики духовных драм, сценической площадкой которых было внутреннее церковное пространство[161]. Впрочем, представлять себе церковное пространство как всего лишь место драматического действия не совсем правильно по одной простой причине: первично само это пространство, несущее в себе литургический и прочий духовный смысл, так что живые актеры духовного театра на самом деле представляют собой другую, более живую форму изобразительности – между скульптурой и, например, литургическим чтением Писания. И опять Зауэр подчеркивает, что именно духовные мистерии, разыгрываемые по праздникам в храмах, достигали «подлинной экспрессии и жизненности» в воспроизведении той же темы борьбы Церкви и Синагоги, присутствующей и в литературе, и в поэзии, и в церковных гимнах, и в Литургии. Но «подлинное место обоих образов – это Страшный Суд и его предвосхищение – Голгофа». И внутри обоих событийных рядов подобные образы наглядно выражают не какой-то политический эпизод, не отрывок из истории Божиего домостроительства спасения. Это нечто большее: «захватывающее выражение нешуточной борьбы», которая ведется от первых дней творения и до Судного Дня. Эти две фигуры – Церковь и Синагога – «истинная сущность всего духовного учения»[162].
Итак, казалось бы, просто визуально-иллюстративные «украшения», изобразительные образы, оказываются проявлением подлинной и высшей, то есть священной, реальности. И объяснение возможности подобного проявления – место действия или расположения, то есть церковное пространство, где и на уровне театрально-мистериальных действ, и на уровне Литургии, и на уровне изобразительного искусства действует единый механизм освящения образов, повышения их онтологического статуса и приобщения к духовным процессам, в основе которых – борьба, противостояние, если брать жизненную ситуацию человека.
Но существует и жизнь мира в лице природы и присущих ей космических циклов. Так появляется тема времен года и изображения месяцев, что имеет прямой выход в литургическую сферу, где устойчивость, упорядоченность, постоянство литургического чина есть образ универсально-космического, природного и сверхприродного порядка, где точно так же имеется череда регулярных циклов и непрестанное повторение частей в сочетании с «мыслями и настроениями более глубокого содержания преимущественно религиозно-нравственного свойства»[163]. Так природа оказывается и образом человека: ее регулярность и возобновляемость – символ бессмертия души и воскресения плоти. Но главное, что природная жизнь в ее прежде всего числовом символизме удачно переносится и на этапы, возрасты человеческого бытия (четыре времени года и четыре возраста человеческой жизни). И вновь мы видим подобный «идейный круг» отраженным в зеркале изобразительного искусства[164].
Более того, мы видим и то, что решающее условие интерпретации безличностных сфер природного универсума – это возможность связать их с человеческой жизненной ситуацией, хотя бы с помощью чисто числовых аналогий и соответствий. Впрочем, «хотя бы» здесь не совсем подходит, ибо числовые отношения отражают отношения структурные, масштабы и уровни целостности, где числа – своего рода ценностные постоянные, обеспечивающие переход, в том числе и смысловой. Поэтому этапы жизни человека соответствуют «эпохам макрокосма или дням творения, отдельным дням богослужения или остановкам крестного пути Спасителя»[165]. И повсюду присутствует человек, и везде отражается его жизнь, главная черта которой – труд, действенное усилие, направленное не просто на обеспечение собственного существования, но на утверждение себя в «любви к Богу и ближнему пока светит солнце».
Мы разовьем эти наблюдения Зауэра, обратив внимание на то, что активность человеческая – признак не просто жизненности, но и действенности, актуальности, продуктивности человека, порождающего, в том числе и своими усилиями – созерцательными, умственными, эмоциональными и т. д., – те или иные смыслы, которые можно адекватно и вкладывать в образы, и изымать их оттуда в акте понимания. Проводящая среда подобной образной системы, которую можно традиционно назвать иконографией, – человеческое участие, присутствие человека, его заинтересованность и вовлеченность в происходящее, способность реагировать на образное воздействие. При том, что формы и способы реакции могут быть самые разные – от простого интереса через эмоциональные реакции к богословскому комментированию и мистическому переживанию. Подобная тотальность образного и сакрального проявляется и в соединении богословского содержания с литургическими моментами, а также с «более глубокими этическими мотивировками». В Доме Божием «христианин находил там и здесь в изображениях каменных и исполненных в цвете доступный взору контур всего года, лапидарный (буквально и переносно. – С.В.) календарь, представленный в [изобразительных] типах, ставших для христианина лишь после многих попыток освободиться от языческих влияний так же достойными доверия, как и любой письменный текст»[166].
Годовой круг содержит в себе еще один аспект человеческого существования, а именно – колесо фортуны со всеми своими морально-дидактическими сюжетными мотивами и изводами, сводящимися, впрочем, к аллегоризации евангельской тематики, хотя сама форма круга давала дополнительные измерения любой теме, заключенной в эту форму. Самая же главная тема – земная жизнь во всех ее проявлениях, подобная колесу, у которого нет ничего постоянного, кроме центральной оси – неподвижной точки покоя, напоминающей о непоколебимом средоточии всего сущего – о Христе.
Назначение и истоки церковного искусства: художники и Литургисты
Итак, в лице Сикарда и особенно Дуранда мы имеем авторов «первых систематических трактатов о христианской иконографии». И хотя в них немало лакун (например, характерно молчание об изображении Божией Матери), тем не менее они позволяют заглянуть в душу средневекового человека и дают уникальную возможность ознакомиться со «средневековым восприятием художественных вещей». «Чем было искусство для этих богословов, чем вообще являлось искусство в широком смысле слова?»[167] Дуранд начинает главу о церковном убранстве с исторического очерка поклонения изображениям. Содержание этого экскурса[168] было весьма актуальным и для собственно Средневековья, особенно западного, где почти необсуждаемой нормой стала точка зрения «libri carolini» с постулатом, что лишь назначение, функциональность изображений дает им право на существование и оправдывает практику их почитания. Точно так же и Дуранд видит в религиозном образе только цель: не предмет поклонения, а возможность припомнить и почтить то, что было раньше. Отдельная тема – назначение образов как «lectiones scripturae laicorum»: одно дело – у образов молиться, другое – у образов учиться тому, как надо молиться, по словам Дуранда. То, что образованный постигает умом в Писании, то необразованный – глазами в изображении, ибо в образах заложена сила воздействия на душу, превышающая возможность написанного или произнесенного слова, что отмечал еще Григорий Великий. «И подобное этическое целеполагание изобразительного убранства <…> с культурно-исторической точки зрения обладает особой важностью». Нигде, говорит Зауэр, не появляется эстетическая точка зрения, нигде не встретишь мнение, что и прекрасное прославляет Бога, и это обязывает украшать и места земного поклонения Ему. Для Дуранда украшать храмы – значит искать обходные пути. «Момент прекрасного в себе и для себя полностью отсутствует во всей этой литературе;
и то, что этим людям кажется искусством, – не что иное, как переведенное в материю богословие, подобно тому как и церковное искусство, и церковные художественные вещи суть элементы литургики»[169]. В этом-то и состоит отличие средневекового восприятия искусства от современного: в то время – «не всегда сдержанное и обоснованное выделение идейного мира христианства, нередко с полным игнорированием внешней формы; сегодня – подчеркивание природы и телесной формы, зачастую с небрежением к идее»[170]. Еще одна функция средневекового искусства – вспомогательное педагогическое средство. Роль наглядного пособия предполагала определенные требования к внешней форме, которая должна быть устойчивой, повторяемой, то есть узнаваемой, доступной, иначе говоря, конвенциональной, в чем и выражается зависимость от богословия, вменявшего искусству в долг сопровождать и культ, и проповедь, и песнопения, и духовные действа. То есть, резюмирует Зауэр, быть «служанкой богословия» – должность, собственно говоря, не маленькая, если учесть, что и философия была на тех же правах.
Впрочем, не стоит думать, что искусство свято хранило верность многочисленным предписаниям епископов Сикарда и Дуранда; иначе не утратились бы незаметно средства уразумения символического языка и менталитета Средневековья. С одной стороны, нет понимания старых мотивов, с другой – налицо такое современное искусство, которое иначе как профанацией святых мест не назовешь, хотя оно обязано их украшать.
И все же остается открытым вопрос: для кого предназначались тексты средневекового литургически-символического богословия? По всей видимости, для читателя образованного, равно как изобразительное искусство – для необразованного зрителя. И если вслед за Зауэром проводить параллели с современностью, то, соответственно, текст самого Зауэра явно рассчитан на не просто образованного, но ученого читателя, в то время как последующие тексты, объединенные под рубрикой, например, «формально-стилистического искусствознания», будут рассчитаны на образованного, но уже не читателя, а художника. И быть может, не обязательно образованного, а просто заинтересованного, которому важно (или полезно) знать, чем он занимается. Очень скоро, впрочем, художники сами начнут объяснять историкам искусства, что такое история искусства…
И после такого вот на самом деле всего лишь изложения источников (снабженного, правда, комментариями) только и начинается, строго говоря, «основная часть», посвященная «отношению между церковной символикой и изобразительным искусством». И эта проблема иначе формулируется как вопрос, можем ли мы рассматривать все вышеприведенные тексты как источники, из которых рождалось искусство, или сами эти тексты – «отзвук произведений искусства»? Вопрос этот, по словам Зауэра, относится к тяжелейшим и подразумевает как выяснение отношений внутри тогдашней литературы, так и поиск связующего звена между письменной и художественной традицией, между искусством и богословием. И если, например, Кайе в качестве основного и исчерпывающего источника рассматривает Писание, жития святых, моральные соображения в сочетании с человеческим знанием и погребальными изображениями, то сам Зауэр в качестве «глубинных источников», формировавших символическое сознание, предполагает рассматривать Литургию, проповедь и духовный театр. Но что же есть тот самый средневековый vademecum, который позволяет пользоваться им в качестве ключа ко всем загадкам тогдашнего искусства, так как он есть одновременно и руководство для художников? Шпрингер видел в такой роли гобелены, литургическую гимнографию и духовный театр, но в качестве основного источника предлагал рассматривать проповедь, конкретно – «Зерцало церковное» Гонория Отенского, подлинный мост между научной и народной традицией. Шпрингер даже назвал «Зерцало» «посредником между притчей и образом»[171].
Самый современный для Зауэра (и самый интересный и показательный, добавим мы) пример использования именно литературной формы проповеди в качестве основного источника изобразительного искусства – это Эмиль Маль, на текстах которого Зауэр берется доказать, по крайней мере, недостаточность этой идеи… Главное возражение против Маля заключается в том, что он преувеличивает влияние Гонория, представляя его как нечто исключительное, без учета того факта, что образы, идеи, встречающиеся у этого автора, – только часть общих, стандартных тем и мотивов, происхождение которых не обязательно богословское, оно может быть и религиозно-поэтическим. В богословии могут быть примеры, образцы, переходящие в поэзию, а уж оттуда – в изобразительное искусство. Более того, «мост между Писанием и искусством все еще отсутствует» – таково мнение Зауэра о тексте Маля, который не придает значения тому обстоятельству, что «данный предмет (имеется в виду мариологическая тематика. – С.В.), учитывая специфически средневековое назначение изобразительного искусства, может рассчитывать лишь на отзвук в душе и использование на практике, когда он оказывается доступен народному воображению»[172]. Кроме того, столь высокая оценка «Зерцала» Малем была бы оправдана, если бы оно было совершенно оригинальным произведением и глубоко повлияло на последующую традицию. Ни того, ни другого нет, а есть церковное богослужение как то самое единое целое, элементами которого оказываются и проповедь, и гимнография (поэзия), а опосредованно и изобразительное искусство (Зауэр ссылается на Крауса)[173].
Но один источник кажется (благодаря работам А. Шпрингера и П. Вебера) совершенно несомненным. Имеется в виду духовный театр. Именно подобные зрелища, устраиваемые в храмовом пространстве, оказывали непосредственное, можно сказать, буквально наглядное воздействие на художников, далеких от богословских спекуляций.
Впрочем, и этот источник оказывается не столь универсальным уже в зрелое Средневековье с его весьма развитой идеологией и мышлением, способным, несомненно, преодолеть низовой и элементарный уровень народного восприятия, на который была рассчитана эта ранняя духовная драма. Более того, возможно предположить обратное воздействие изобразительного искусства на подобные т.н. пророческие игры, представлявшие собой, так сказать, ожившие картинки (или скорее скульптуры, статуи). И вновь совершенно очевидно, что единый корень всего этого театра – все та же Литургия, из потребности толкования которой выросла вся средневековая Литургика. Поэтому в связи с вышесказанными «принципиальными соображениями» Зауэр уточняет свою задачу как прояснение отношений именно литургической, а не просто богословской или литературной символики к изобразительному искусству[174].
Итак, для Зауэра существуют, по крайней мере, «две области человеческого творчества» (литература и изобразительное искусство), которые имеют свои закономерности и традиции, но между которыми существует и единый контекст. Конкретно это взаимодействие проявляется в отношениях между программой и исполнением, между вдохновителем и следующим за ним художником. И понимание этих отношений предполагает уяснение предпосылок и целей усилий ученых литургистов, о которых речь шла в первой части книги Зауэра. Назначение их текстов – выработка духовного содержания материальной церковной постройки в целом и в деталях, а также соотнесения последних с сакральными процессами. Поэтому нельзя представлять дело так, будто намерение литургистов состояло в формулировке конкретных предписаний и составлении буквальных инструкций, предназначенных для художников, обязанность которых – строго за ними следовать в процессе сооружения здания и его украшения. По этой причине тексты литургистов-комментаторов – это не столько программа для художников, сколько орган, инструмент, ориентированный, в том числе, и на нас и опосредующий то, что средневековые составители литургических текстов видели в изобразительном искусстве. По мысли Зауэра, мы увидим тот же самый или аналогичный смысл в Литургии, если захотим, подобно средневековым литургистам, подвергнуть истолкованию увиденное, услышанное и пережитое, тем самым приблизившись к тогдашней «хорошо развитой литургической жизни». Символика живет своей жизнью и развивается по своим законам, оставаясь при этом неизменной в своих самых общих частях (например, символика числа или природных явлений).
Существует целый ряд общих принципов, характерных черт символической литургики, которые на самом деле затрудняют или просто делают невозможными, неинтересными и необязательными ее прямые контакты с изобразительным искусством в лице художников. Что это за принципы? Во-первых, практически-функциональный, то есть соответствующий назначению, характер подхода к вещам, подвергаемым символизации. Во-вторых, интерпретация касается, как правило, внешних свойств вещей, их внешнего облика, цвета, количественных свойств. В-третьих, обращает на себя внимание субъективный момент: интерпретатор считает нередко своим долгом что-то сказать от себя, и, как замечает Зауэр, нередки случаи произвола и даже дурновкусия. «Материал, цвет, назначение – это все, на что обращается внимание». Художник-профессионал не в состоянии был по этой причине следовать за импульсами и мыслями символистов в «их» порядке. Сама манера обращения с материалом не могла быть воспроизведена, считает Зауэр, и потому нет никакого основания рассматривать эти тексты как программы и говорить о зависимости художников от литургистов.
Чуть прервемся в изложении аргументации Зауэра и обратим внимание на вполне определенную концепцию двух родов или типов деятельности, которые Зауэр считает несовместимыми в принципе. Литургическая экзегетика – дело чисто литературное и интеллектуально-рациональное, не имеющее прямого отношения к конкретным вещам. Искусство же воспринимается на уровне художников: они носители искусства и от них зависят его свойства. Подобная концепция художества как дела художников, их индивидуальных усилий и вдохновения как раз и делает затруднительным поиск контактов между столь несхожими сферами.
Но какова же тогда может быть связь с архитектурой, которая и конкретна, и, главное, предметна? Литургисты и символисты находят во всем Доме Божием лишь общую схему, состоящую из двух элементов: центрический план и крестообразная форма. Только эти свойства становятся предметом интерпретации, хотя с точки зрения архитектуры в них нет ничего специфического и христианского. Тот общий символический смысл, который приписывался этим архитектурным характеристикам, был достаточно известен и не влиял на саму архитектурную форму (она просто существовала в таком же точно виде и до христианства). Более того, всякого рода индивидуальные отклонения при строительстве могли восприниматься даже как ненормальность и просто грех. Сознание средневекового человека, даже самого образованного, не было настроено ни на восприятие искусства как творческой деятельности (таковым оно, по мнению Зауэра, тем не менее, все-таки было), ни на фиксацию с помощью внимания деталей и подробностей архитектурной формы. Из всех общих свойств постройки только один-единственный символический мотив играл, несомненно, важную роль при строительстве. Это правило ориентации на восток, хотя и его нарушали по тем или иным соображениям и причинам.
Зауэр выражается очень ясно: остается открытым вопрос о том, чему обязаны своим существованием «архитектонически важные» свойства – символике, эстетике или практике. Более того, очень часто символика – особенно это касается внутреннего архитектонического членения здания – выстраивает свои абстрактные соображения post factum, как раз под влиянием реальных фактов. «Важнейшие, уходящие в саму суть строительного искусства перемены, как, например, складывание романского стиля и его переход к готическому, не имели никакого внятного отзвука и никакого глубинного осознания в символической литературе <…>. Художники, способствовавшие переходу от романики к готике, имели для своего творчества совсем иные причины, вовсе не похожие на философские размышления»[175].
Что же касается скульптурно-декоративного убранства церковного здания, то чуть ли единственный пример прямого влияния, как считает Зауэр, – это обычай изображения над входом Христа: Он действительно есть дверь, которой только и можно войти в Царство Божие. Столь же очевидное влияние – изображение на столбах образов апостолов. Можно вспомнить символику правой и левой стены, окон или пола: украшения этих архитектурных элементов отражают эту самую символику. И не случайно, что хотя бы мало-мальские соответствия касаются именно убранства, декорации, изображений. Но не самой архитектуры как таковой: за всеми подобными «внешними и чисто механическими соответствиями» скрывается более глубокой смысл и гораздо более широкое значение, которое, как получается, не совсем доступно литературно-конвенциональной символике. Мы могли бы добавить, что причины тому – наличие самостоятельной, активной и по-настоящему многомерной семантики Писания и его отражения в Литургии. Для подобной семантики символическая экзегетика – это всего лишь вербальная, литературная «репродукция», визуально-художественный эквивалент которой – изобразительное искусство. Они действуют на равных и равным образом зависят от единственного источника – Писания, через которое только и осуществляется связь между ними. А источник подобной коммуникативной силы – это, по-видимому, все-таки литургическое благочестие[176].
Итак, влияние символики на устройство и убранство Дома Божия – «не универсально и не неизбежно»[177]. Элементы символической интерпретации не являются источниками изобразительных мотивов для художников, они не действуют на них, как на них в качестве мирян действовали бы церковные предписания.
Экклезиологическая телесность церковного здания
Так, быть может, «общие идеи», основные принципы этого символического толкования как-то обогащали искусство? И что подразумевает Зауэр под этими, можно сказать, основными понятиями символического толкования архитектуры? На символическом языке церковное здание – это сообщество верующих. Вот уже первое понятие, первая общая идея – категория единства. Но это единство имеет членение на клириков и лаиков, и поэтому и церковное здание тоже членится на две части: алтарь и корабль. Понятие системы частей тоже следует принимать как наиболее фундаментальное. Это уже символика не числа, а членений, то есть порядка. Но это целостное идеальное сообщество имеет и свойство распространения, расширения, причем как в пространстве – по лику земли, так и во времени – в истории, где мы тоже наблюдаем членение на мировые эпохи. Иначе говоря, пространство и время суть те же формы динамического, подвижного бытия Церкви. Хотя церковная история тоже имеет тройное членение, она, тем не менее, имеет и неподвижную точку, фундамент и угловой камень – явление Христа. Это цезура, пауза, порог в историческом движении, вокруг него группируются разные состояния и формы, например церковности, и все это наглядно открывается в храмовом алтаре, который есть и образ самого Христа. И как святые и мученики пребывают в теснейшем единении, соединении со Христом, так же и все части церковного здания сконцентрированы в алтаре.
То есть церковное здание – это «воспроизведенная в каменном сооружении христианская община»; ее членения – это членения человеческого тела, отображаемого в здании. Понятие, идея зафиксированной в камне телесности – наиболее, наверное, фундаментальное представление подобной символики, если иметь в виду, как выражается Зауэр, «не реальные отношения», но особый «взгляд, направленный на сверхземное». И потому, в конечном счете, «великое целое христианства как единой семьи» представляется символисту в зеркале Дома Божия. И подобное символическое, а от этого не менее реальное распространение Церкви проникает и в того, кто пребывает внутри храма, в его душу и в сердце – этот истинный алтарь подлинного богопочитания, который, впрочем, тоже следует водружать шаг за шагом в молитве и созерцании.
Но тем не менее, все это земное знание и умение, включая и все искусства, как механические, так и свободные, суть только вспомогательные средства утверждения Царства Божия. Они не могут быть и не являются самоцелью, подобно тому как земная власть Церкви ничто перед ее подлинной задачей.
Таково в общих чертах это своеобразное «мирское богословие, прочитываемое по отдельным элементам Дома Божия, по плану Civitas Dei, каким его дух Средневековья постигал в образе церковного здания»[178]. Христос, душа человека и жизненный принцип человека, – вот источник смысла, который может мыслиться и вполне реально (как у Бл. Августина), и как содержание человеческого сознания (как в позднее Средневековье). Спрашивается, не предполагает ли функция церковного здания, храма тоже некоторую вспомогательность, искусственность и временность всего, что является нашему телесному взору как строительное искусство? Как же избежать подобной иллюзорности, временности и необязательности, свойственных всякому вспомогательному средству? «Во Христе понятие Церкви уже дано настолько полно, насколько она принимает на себя продолжение дела спасения». Точно так же и человеческая душа, верою допускающая в себя Христа, обретает устойчивость, завершенность, упорядоченность, равновесие – те свойства, которыми наделяется и церковное пространство, когда в нем тоже есть Христос, – в Евхаристии и Литургии вообще. Таким образом, мистическое наполнение церковного здания только и оправдывает его существование, делает его буквально наполненным смыслом.
Но существует и конкретный образ единства Христа и Церкви, образ пребывания Христа со Своей Церковью. Это образ бракосочетания, брачных отношений. Церковь – это Невеста, и через подобный промежуточный образ персонификацией или, лучше сказать, воплощением Церкви выступает Дева Мария. Как на архитектурном уровне отражается эта персонифицированная мистика единства? Не будет ли чрезмерной метафорой сказать, что архитектура тоже предполагает слияние воспринимающего и предмета восприятия? Зауэр не продолжает эту тему, мы же, стараясь все-таки не спешить, предположим, тем не менее, что это единство имеет интенциональную природу и «бракосочетание» с Церковью мыслящего, чувствующего и желающего индивидуума идеальным образом реализуется в процессе созидания здания, начиная с его замысла. Другое соответствие – предположение, что в церковной архитектуре каждый элемент должен быть осмысленным, ибо пребывающая в Церкви Дева Мария, так сказать, уже одним своим присутствием наделяет пространство архитектуры смыслом. И задача на уровне просто благочестия – уяснить для себя и ближнего этот смысл. Так что интерпретация архитектуры и просто ее понимание столь же неизбежны, как и составление проекта и организация строительных работ.
Итак, что мы имеем с точки зрения метауровня архитектурной постройки, с точки зрения самых общих закономерностей, которые мы только что обсуждали? Перечислим их еще раз, предполагая закономерность не только внутри их собственных отношений, но и по отношению к интерпретатору.
Зауэр сам их резюмирует в самых общих формах в следующей главе, самой обширной в этой второй части и посвященной изобразительным циклам и церковным фасадам как «итогу всей церковной символики», которая скрывает в себе богословское содержание, представляет собой настоящую «Summa theologiae», имеющую монументальное происхождение (имеется в виду ветхозаветный Храм) и находящее себе единое монументальное воспроизведение. Итак, мирское богословие (см. выше) в монументальном и материальном обличье – вот что такое церковное здание. Обращает на себя внимание, во-первых, достаточно спокойное использование (явно без первооткрывательского пафоса[179]) сравнения архитектуры со схоластической суммой, а во-вторых, характеристика этого богословия как мирского и особенно монументального (понятно, что имеется в виду монумент в смысле памятника, а не масштаба). Монументальность и светскость в данном случае подразумевают всеобщее и сквозное воздействие искусства не только на ум или память, но и на остальные способности человека, в том числе и с точки зрения его тела. Отсюда недалеко и до социальных характеристик искусства, которые зачастую наполнены бóльшим смыслом, чем, например, та же художественная форма. Эта социальность, как мы видели, имеет в виду обращенность к таким слоям общества, от которых, конечно же, не стоит ожидать ни эстетического, ни экзегетического переживания, но непосредственных, эмоционально-моторных, то есть телесных, фактически, реакций. Поэтому крайне важно найти то звено символической цепи, которая соединяла бы нас и с опытом мирянина, того, кто стоит в корабле храма и ожидает непосредственного воздействия. Применительно к романскому искусству, которое Зауэр выбирает за его наглядность, таковым ключом оказываются надписи над западным входом в церковное здание, где со всей недвусмысленностью «материальная церковь предстает Домом Божиим, земным отображением небесного Рая[180], вхождение в который возможно лишь через Христа и только истинно благочестивым христианам, почитающим Дом Божий». Спаситель есть та Дверь, сквозь которую только и проходит путь к блаженству. И смысл этих надписей подкрепляется и усиливается двояко: во-первых, обрядами освящения храма, а во-вторых, фигурными изображениями, которые, действительно, можно назвать «образными надписями» и которые в этой связи следует рассматривать как тоже в некотором роде предписания, инструкции восприятия и понимания[181]. Причем не только средневекового посетителя храма и участника богослужения, но и современного зрителя и ученого исследователя. Фактически, Зауэр пытается доказать, что сама архитектура слишком далека от литературно-литургической символики, отличаясь от нее слишком иными принципами и иным языком, чтобы являть примеры прямой с нею связи. Поэтому необходимо обратиться к фигурным, изобразительным, а не просто к архитектоническим и геометрическим образам с целью уяснить, видимо, все же имеющуюся связь и взаимозависимость[182]. Архитектоника остается, с точки зрения Зауэра и в рамках его подхода, пока еще непреодолимым препятствием для символизма, который, в свою очередь, мыслится, несмотря ни на какие тонкие наблюдения и точные соображения, иллюстративно-изобразительным способом обращения с содержанием письменно-сакрального источника.
И не случайно выбирается тема Церкви как основного содержательного мотива: дело не только в том, что Церковь – это прямой смысл, буквальное значение данной символики. Совпадение именований не случайно: церковное здание, храмовая архитектура представляет собой на самом деле материальное проявление, телесное и осязаемое обозначение присутствия Церкви незримой, нематериальной. Их можно отождествить как раз потому, что совпадает место, это одно пространство. Поэтому-то все вышеприведенные «общие идеи» церковно-архитектурной символики касаются преимущественно достижения этого места и пространства, местоположения и местообретения, обеспечения локализации образа Церкви вообще и всех его смысловых вариантов и оттенков (например, «идея духовной Церкви», Христос как «жизненный принцип, душа Церкви», «развитие святости в древнее и новое время», понятие Церкви как «нового средства спасения» и т. д.[183]). То есть там, где себя обнаруживает Церковь, следует утверждать – и в дальнейшем искать – все ее наглядно-изобразительные образы, иллюстрирующие ее же, Церкви, свойства и аспекты[184]. Статус подобных изображений можно проиллюстрировать следующим способом. Нередко изображения в романских храмах сопровождаются надписями, представляющими собой ответные реплики на вопрошания пророков из т.н. Sermones, то есть рождественских драматических постановок. Эти надписи относятся как к статуям, так и – через статуи – к архитектуре. Изобразительные образы тоже можно уподобить ответным репликам на вопросы, исходящие от самой архитектуры. И ответы эти надо уметь читать…
Эсхатология церковной архитектуры
Причем связь между архитектурой и изображением может быть совершенно глобальной – в зависимости от содержания и, главное, местоположения последнего. И если речь идет, например, о восседающем на троне Спасителе и о главном портале, то тогда, как ворота будут входом в святилище, так и данная, наполненная серьезностью и торжественностью сцена, – «входными вратами в Небесный Иерусалим». То есть изобразительная сцена фактически тоже выступает местом вхождения, приобщения, но не для тела, а для взора и скрывающейся за ним души, особенно, если изображение по-настоящему сценично. Кроме того, верующий человек имел возможность «считывать» (выражение Зауэра) не только некое моральное-поучительное сообщение, так сказать, пищу для размышлений. Ему предлагались и самые неподдельные чувства, прежде всего – страха, если сцена являла, например, низвержение проклятых. Такое эмоциональное состояние, вызванное изображением, имело и дисциплинарно-регулирующее назначение, будучи сродни пробуждающей душу проповеди, властного и проникновенного слова, что немаловажно было в эпоху «не знающей никаких пределов жизненной силы и отношений, в которых нелегко было навести порядок». Изображение вкупе с архитектурой, предоставляющей ему подобающее, просто значимое место, способно было организовывать поведение, создавать схемы (паттерны), социально-символически регулирующие аффекты.
Но возникает вопрос: только ли моральный смысл заложен был в сцене Страшного суда? Более того, в тематике ли дело? Отчего возникает такой эффект воздействия? Отчего такое напряжение не только изобразительных, но и просто жизненных возможностей? И выясняется, что применительно именно к этой тематике вообще нельзя говорить об изобразительности, об образности в положительных терминах! Уточним эту на самом деле одну из самых фундаментальных идей Зауэра, заметив сразу, что в таком случае статус (метафизический, онтологический) архитектуры не просто сильно повышается, но делается уникальным и ни с чем не сравнимым. Ведь дело в том, что День Последний, в высшем смысле, является окончанием освящающих усилий, упразднением Церкви как земного вспомогательного средства. Это переход в вечно длящийся субботний покой блаженного бытия. Это тот момент, когда «после долгой разлуки Небесный Жених вводит Невесту в свое жилище, в нескончаемое единение, венчая Ее венцом нерушимого союза»[185].
Серьезность этого момента – в его неизбежности, к нему «подходят все сотворившие в жизни доброе или злое, одни – чтобы праздновать с Женихом Его вхождение в Небесный Иерусалим, другие – чтобы принять осуждение, ведь они не захватили с собой брачных одежд». «И подобно тому, как Жених являет Свои раны и не оставляет орудия Своих Страстей, которыми Он вошел во славу, и подобно тому, говоря конкретнее, как в образах предстает воочию все Его земное бытие <…>, так открывается и все, что человек совершил со своей стороны: доброе – в форме добродетелей, <…>, злое – под видом греха и проклятия. Открываются все естественные и сверхъестественные пути и средства, ведущие к спасению»[186]. И все это открывается при входе в храм и при взоре на образы тимпана. Другими словами, вход в храм – вход в День Восьмой, проявление всего и остановка всего, всех свойств и особенностей. А значит, и появление возможности фиксации, иллюстрации и воспроизведения с помощью образов, наделенных смыслом, если мы пока еще остаемся здесь! Поэтому мы понимаем, почему Зауэр выбирает для уяснения связи между символом и архитектурой именно фасад: потому что сцены, помещенные на нем (прежде всего – Страшный Суд) способны объяснить, зачем архитектуре визуально-образная символика и зачем вообще искусство в этом мире. Затем, что дальше будет поздно и ничего нельзя будет изменить… А пока искусство в преддверии «упразднения» земных средств может постараться и даже занять место архитектуры. Это есть оборотная сторона метафизического сверхстатуса архитектуры, оказывающейся уже не от мира сего.
Иначе говоря, если мы допускаем в архитектуру богословие и признаем его воздействие на посетителей храма, если мы вслед за Зауэром представляем церковное здание как схоластическую сумму и место, в первую очередь, Литургии и проповеди, то нам не остается ничего другого, как предположить и то, что в архитектуре есть зоны повышенной образности – иллюстративной и даже дидактической. И это будет исключительное изобразительное искусство, ведь сама архитектура, как мы только что убедились, принадлежит совсем другому состоянию мира – сверхчувственному и, значит, сверхобразному[187].
И тем не менее, без образного облачения обойтись невозможно, ибо только так – в рамках данного, символического, взгляда на вещи, который нам демонстрирует Зауэр, – мы оказываемся в состоянии просто обнаружить присутствие высшего смысла, таящегося в архитектурных образах и открывающегося в образах изобразительно-фигуративных, то есть пластически-скульптурных. Поэтому и выражается Зауэр совершенно определенно, говоря, например, о скульптурном убранстве Нотр-Дам в Париже как о «последнем великом воплощении в образном облачении (Gewand) глубокой и широко разветвленной идеи Божия Царства на земле <…> Это последняя высокая песнь (все выделено нами. – С. В.) средневекового искусства, посвященная Божией Матери и Божественному Жениху»[188]. Мы обязаны в связи даже с этой отдельно взятой формулировкой отметить сразу несколько моментов. Во-первых, предполагается наличие идеи – достаточно общей, универсальной и, главное, сакральной. Во-вторых, именно свойство этой идеи являть священное, быть инструментом теофании, позволяет говорить о ее воплощении. Последнее понятие можно понимать иносказательно, но лучше, конечно же, буквально (в данном литургически-экклезиологическом контексте). И тогда мы получим представление об архитектуре не просто как о телесном аспекте идеи или идей, но как о теле самой Церкви (подобно тому, как она сама есть Тело Сына Божия). В-третьих, мы должны представлять себе это тело облаченным, то есть приспособленным к созерцанию через сокрытие его неприкрытого облика. И способ облачения этой телесности – образный и более того – изобразительный. Именно изображения скрывают от нас это тело, прячут его от прямого и неподготовленного взора, делают тайной, наделяют недоступностью. Изображения – это нечто иное, что-то такое, чем не является тело-архитектура. Те же статуи суть дополнение архитектуры, ее продолжение и замещение посредством одного крайне важного аспекта: они нарративны, повествовательны, предназначены для прочитывания и для взора, в отличие от архитектуры, способ обращения с которой и средства воздействия которой совсем иные и рассчитанны на телесно-чувственную прежде всего реакцию – непосредственную, единовременную и моторную. Изображения суть речь, разговор, проповедь, в конце концов, и поэтому приходится называть скульптурное убранство храма «песнью». Это на самом деле звучание, обращенное к зрителю-слушателю, это слова, которые не просто произнесены, но напеты, то есть вложены в душу, быть может, без участия рассудка, но не без участия чувств. Важно, наконец, что комментатор этой традиции сам вынужден обращаться за помощью к метафоре, говоря о поэзии, хотя метафора эта, как всегда в случае с архитектурой, может быть прочитана и буквально – но не самим Зауэром, а теми, кто идет за ним[189].
Это говорит о том, что данный комплекс образов, именуемый «церковным зданием», обладает не просто силой воздействия на зрителя, но особой силой созидания, направленной на получение новых образов – уже в голове и в сердце посетителя, зрителя, слушателя, а также читателя и описателя церковного, храмового сооружения[190]. Именно поэтому мы имеем возможность вслед за Зауэром говорить о скульптурном убранстве фактически любого фасада как о «монументальной истории Царства Божия как в его всеобщем, обращенном вовне протекании, так и в специальном, внутреннем сложении через отдельного человека», обнаруживая в нем одновременно «и исторически-догматическое, и моральное богословие»[191]. Скульптурно-изобразительное убранство само оказывается средством богословия. Такой, казалось бы, простой факт, что в позднее Средневековье на многих фасадах уже не Христос, а Дева Мария оказывается центральным изображением, на самом деле означает, что церковно-сотериологическая символика сама стала предметом истолкования и воспроизведения изобразительными средствами. Уже «художник воспроизводит на определенном месте, собирая воедино, все то, что узрела в церковном здании символика, – всю историю и весь опыт Церкви»[192]. И при этом мы всегда должны помнить, что речь идет все-таки о фасаде, о преддверии церковного здания, хотя Зауэр подчеркивает, так сказать, эквивалентность внешнего и внутреннего пространства: схоластическая сумма, представленная снаружи, продолжает действовать и внутри, когда посетитель храма входит внутрь уже подготовленным. В этом-то и заключается, по мысли Зауэра, смысл фасадной изобразительной декорации: быть образно-наглядным предписанием для входящего внутрь. Но прежде сама вся эта символика, дидактика и прочее должно войти вовнутрь самого человека, который тем самым оказывается носителем и вместилищем всего и истолкованного, и изображенного смысла, ставшего и фактом внутреннего опыта (пускай и бессознательного). На персонифицированном уровне все это вполне может совершаться и потому так важна персонификация Церкви – Дева Мария, Которая вдобавок и облегчает для всякого входящего подобную нелегкую ношу – приобщение к церковному опыту инобытия. Поэтому, говоря о том, что сцены на фасаде представляют собой «указание на духовную Церковь, на то, что материальная церковь собой символизирует»[193], Зауэр, как можно предположить, подразумевает под этим внутриличностные процессы: человеческая душа и есть самое лучшее воплощение Храма, духовная Церковь пребывает внутри души, и, входя в собор телом, мы приобщаемся к нему и духом, переступая порог материальной церкви, мы оказываемся внутри и нематериального святилища. И во всех этих процессах задействован личностный аспект, причем не без участия индивидуальности художника[194].
Художник, по сути дела, изъясняется с нами посредством образов, и язык, на котором он это делает, внешне «почти полностью совпадает с языком литературы»: те же мотивы и те же к ним комментарии, но в то же время нельзя найти прямые программные тексты к подобным пусть и «типичным изображениям». Зауэр остается непреклонным, подчеркивая, что невозможно найти прямой литературный источник изобразительного искусства, который мог бы «открыть нам значение отдельного произведения». Единственное что имеется, – это, конечно же, тексты аббата Сугерия. Но тем не менее, «мы не знаем ничего относительно типа и способа переложения богословских идей в художественные формы»[195]. Отдельные детали, равно как и общие композиционные моменты, происходят из драматических мистерий. При наличии не только содержательных, но и формальных соответствий, особенно в вещах не близкой локализации, можно говорить о существовании канона или книги образцов, обусловливающей, правда, лишь «внешнюю форму». Но не более того. Подобное обстоятельство еще раз подтверждает тот факт, что связующее звено между столь схожими и все же прямо не пересекающимися областями – литургической литературы, церковной архитектуры и храмовой скульптуры – это человеческая душа, открытая к мистериально-церковному опыту, включающему все способы богопочитания и предполагающему способность к осмыслению подобных способов.
И все это совершается внутри общего и всеобъемлющего понятия Церкви, которое «охватывает гораздо больше, чем мы привыкли считать»[196]. Этим тезисом Зауэр заканчивает свое сочинение, еще раз подчеркивая универсальность экклезиологического подхода – не только количественную (вбирает в себя все стороны религиозной жизни), но и качественную (церковная экзегеза имеет разные способы своего проявления, разные формы своей реализации: и в виде литургически-типологической символики, и в виде церковного сооружения, и в виде его пластически-изобразительного убранства).
И дело не только в концепции всеобщей схематизации и тематизации с точки зрения универсальной церковности как метафизической категории, включающей в себя потенциально любую деталь и всякий факт мироустройства благодаря таким мощнейшим инструментам «учета», как аллегоризм, типологизм и параллелизм.
Дело и не в том, что Церковь включает в себя все природное и все сотворенное, имеющее свою функцию и назначение в пределах этого великого и полного динамики спасительного «устройства», действующего в земном мире, каковым она, Церковь, и является. И человек не только имеет возможность проникнуть в тайны природы и описать их, в ее зеркале он способен узреть вечное, лежащее по ту сторону этого мира. Вся природа сливается в единый язык знаков, в великий символ сверхприродного и сверхземного. Описание и истолкование этого языка – «величественная программа священной истории, чье исполнение выпало на долю составителей великих энциклопедий и монументальных изобразительных циклов»[197]. Но дело и не в этом по-своему замечательном ряде подобий-эквивалентов, включающем и зеркало, и язык и символ. Язык воспроизводит то, что не узреть в зеркале, и символ говорит на этом языке.
Но дело в том, что и зеркалом, и языком и символами, воспроизводящими Церковь (ее образ), пользуется составитель энциклопедий и изображений, то есть сам человек, который способен включать, впускать в себя Церковь, пусть и в образе церковного здания! Это означает способность с помощью данных ему душевных сил хранить и продлевать смысл, подразумеваемый Церковью. Причем продлевать прежде всего в трансцендентальной перспективе, ведь «как Церковь в своей земной деятельности в качестве ecclesia militans – лишь простой образ того, чем она призвана стать в качестве ecclesia triumphans»[198], так и наше знание, остающееся по сути «мирским знанием», призвано приобрести иное измерение, войдя внутрь того святилища, что только приоткрывается через созерцание образов визуальных и повествовательных, возникновение которых, в свою очередь, обусловлено столь же специфическим взглядом на мир: он тем более всего лишь «чистое предвкушение мира сверхнатурального». Поэтому всякая вещь этого мира, в том числе и вещь художественная, не нужна сама по себе. Она имеет смысл лишь как «подсобное средство пропедевтического свойства», предназначенное для «уроков более высокого уровня». Даже artes liberalis – лишь преддверие богословия…
Проблема, возникающая в этой связи, вызвана тем, что художественное произведение, которым является и церковное здание, остается вещью при любых обстоятельствах, и отсутствие в нем индивидуального бытия чревато серьезным перенапряжением именно духовных сил, вынужденных на самом деле уже здесь и сейчас, в этом мире восполнять недостаток материальности и телесности.
Об этом говорит и Зауэр, обращая внимание на то, что «содержательная универсальность и строгая унификация, присущая этому мировоззрению», порождали и «универсализм распространения» подобного мировоззрения, превратившегося во всепоглощающий «дух времени», одинаково действующий на всех. «Монах в келье думает и пишет так же, как говорит с амвона проповедник-каноник, богослов с университетской кафедры излагает те же мысли и в том же порядке, нередко в том же языковом облачении, что и поэт, уловляющий их сетями стиха». И потому нет ничего удивительного, что «художник порождает в гармонии камня и красок целое богословие, которое способен уразуметь простой человек только потому, что он это же богословие не раз и не два уже слышал». Существует одинаковая для всех духовная плоскость, в которой движутся и литургисты-комментаторы, и автор «Divina comedia». Есть четко ограниченная «сумма идей», которая на протяжении тысячелетия расширялась только количественно, мало удаляясь от патристики. Не новая идея волновала комментаторов, а новое приложение идей старых. Непосредственное последствие подобного, как выражается Зауэр, «литературного коммунизма» – невозможность найти исток той или иной идеи и, значит, памятника.
Но куда более серьезным последствием была невозможность для индивидуума нести бремя замкнутого на себя универсализма, ощущать себя лишь малой частью всеобщего целого. Методологически, замечает Зауэр, подобное мировоззрение остается поверхностным, символика нередко идет внешними, механическими путями. Но тем не менее, отдельное творение имело «возвышенно-идеальное предназначение». Подобно тому как возносились «умнейшие здания», точно так же устремлялась вверх и духовная постройка, над которой поколение за поколением трудилось с возвышенным самоотречением, ради преодоления власти земли. «Прекрасны и поэтичны, несмотря на все гротесковые экстравагантности, в своей архитектонике линии и отдельные формы». Это великий эпос, замечает Зауэр, но эпос художественный, искусственный. Время народного, то есть подлинного, эпоса прошло вместе со временем, когда средоточием всего был Христос. Теперь в центре внимания – дела и свершения «Государства Божия», то есть Церкви. Еще немного и наступит Новое время, и отдельные христиане отправятся на поиски внутреннего слияния с Богом, глубинного проникновения в тайну Страстей в сочетании с «почти фамильярным почитанием отдельных святых»...
Символика экзегезы: помысленное, построенное, описанное
Такое вот совсем нелицеприятное заключение-памфлет, тем более неожиданное из-за своего чересчур размашистого культурно-исторического пафоса, резко контрастирующего с педантизмом и сдержанностью основной части. Кажется странным и непривычным совершенно явное смещение акцентов в сторону романики за счет готики. Но на самом деле логика здесь крайне определенная: только там, где есть Христос, где присутствует Личность Спасителя, там возможна духовная динамика личностного, то есть ипостасного, порядка. Там трансцендентное проникновение за поверхность вещей, в том числе художественных, будет не отказом от них, а их преображением, желанием возвысить их, взять с собой в горний мир, впустив их в собственную душу, как уже было сказано.
Главный вывод, который можно сделать на основании прочитанного и понятого из Зауэра: нельзя обнаружить прямые литературные источники для церковного здания по той причине, что вся возможная литература говорит не о здании-постройке, а о христианском храме вообще. Помысленное и построенное здание – разные здания, с разными функциями, и единственный способ соединить их – это сделать предметом созерцания реальное здание.
Так рождается жанр архитектурного экфрасиса, самый замечательный представитель которого, конечно же, аббат Сугерий, значение которого Зауэр не оценил потому, что тот не был литургистом. Следующий важный момент заключается в том, что и у церковного построенного здания, и у церковного здания символического наличествует один корень в виде литургической, мистериальной практики, питавшей и литературное, и строительное, и молитвенное и всякое прочее творчество, – все то, что можно назвать священной поэзией в широком смысле слова. В этой связи следует упомянуть и третий важный вывод: в конечном счете предметом символизации и одновременно визуализации (а это практически параллельные процессы) оказывается опыт переживания единства со Христом, что уже имеет образное – и совершенно при этом реальное – воплощение в Церкви. Это величайшее и, к сожалению, мало оцененное достижение Зауэра и в его лице всей церковной археологии: последовательное выделение именно экклезиологической семантики всего, что происходит в связи с Церковью. А происходит нечто, в том числе, и с человеком, и состояния церковного сознания – тоже важнейший аспект семантики церковного здания, призванного включать в себя и личность. Эти состояния сознания связаны с воздействием, оказываемым на человека церковным искусством вообще и изобразительным и помещенным при входе – в частности. Эти состояния связаны и с эмоциональным аффектом, и с телесными переживаниями, и все подобное и многое иное можно и нужно включать в смысловое пространство церковного здания, которое, как мы выяснили, выстраивается прежде всего в душе, а уже затем в материальном образе. Но эта материальность требует своего убранства – изобразительного и потому повествовательно-дидактического, наглядно-убедительного. Не случайно, как уже отмечалось, Зауэр для иллюстрации отношений между символикой и изобразительным искусством выбирает как раз фасадный и как раз скульптурный, изобразительный материал. Ведь можно было бы обратиться к убранству, например, алтаря, где нет иносказательной изобразительности, но есть буквальная предметность прямо и непосредственно совершаемого Таинства, которое воздействует не смыслом, в нем заложенным и изложенным, но действует Словом, в нем Себя открывающим и к Себе приобщающим. И действует Слово так со всяким, кто себя отдает Ему, принесенному в жертву на Престоле, а не просто рассматривает Его, представленного в образе на портале.
Но именно образность иллюстративно-наглядная связывает церковную архитектуру с окружающим миром, который привык сначала смотреть и чувствовать, а затем – видеть и разуметь. Замечательное и примечательное свойство этой связи – ее не миметическое, как это будет после, а дидактическое наполнение с инициативой, исходящей от образов, а не от мира.
Тем не менее остается открытым один фундаментальный вопрос: может ли архитектура непосредственно изображать нечто такое, что не изобразимо иными способами, или она годится лишь на то, чтобы служить оформленным, украшенным, приспособленным и артикулированным местом для всякого рода иных действий, вообще активности, которая не обязательно должна быть сакральной, но может быть вполне повседневной? Иными словами, семантика, символика, значение архитектуры полностью ли зависят от ее назначения, от ее функциональной наполненности, или в архитектуре есть нечто самоценное, самоочевидное, что позволяет ценить, осознавать и понимать архитектуру, церковное здание в его предметной определенности?
Проблема приобретает более конкретное очертание в тот момент, когда мы осознаем, что символико-литургическое богословие описывает и комментирует именно церковное здание, точнее говоря, всю типологию сакральных мест и пространств, представленных в Писании как форма Богооткровения и, соответственно, Богопочитания.
Понимание церковной архитектуры в контексте церковной символики, то есть символики Церкви, и как средства, а не только как предмета экклезиологической экзегезы, – вот путь выяснения ее прямого значения и непосредственного назначения. А что, если ради такой задачи подвергнуть истолкованию саму средневековую литературно-символическую экзегезу?
Попробуем проанализировать один достаточно свежий опыт такого рода, который весьма сильно связан с текстом Зауэра, так что можно говорить о продолжении этой традиции в современном концептуальном контексте[199]. Автор статьи, между прочим, называет книгу Зауэра прямым продолжением сочинения Дуранда. Стоит разобраться, каково место данного текста рядом уже с Зауэром…
Проблема заключается в том, что предмет экзегезы на самом деле – это сама ecclesia, которую следует понимать в контексте Богооткровения как момент и как средство Промысла, понятого как череда Божественных деяний, проявляющихся во времени (в истории) и в зримых формах, в знаках или символах, уяснение которых означает уразумение Божией воли и соучастие в деле спасения рода человеческого. Поэтому известная четырехчастная экзегетическая схема представляет собой разные аспекты, разные измерения единого целого, единого Божественного делания, находящего себе воплощение в череде явлений, предметов, явленных в Ветхом Завете, дабы в Новом Завете предстать уже в Иисусе Христе, то есть не просто зримо, но непосредственно и окончательно. Там, где нет непосредственности, – там применяется аллегорическая экзегеза, цель которой все та же – представить замысел Божий как труд, как усилие, направленное на возведение-восстановление (opus restaurationis) исконного райского состояния человека, состояния Богообщения и Богопочитания.
Всякое действие нацелено на создание, возведение чего-либо и имеет направленность, размерность, создающую объем и пространство данной деятельности. И поэтому планы экзегезы суть направленность усилий Бога, и соответствующие смысловые уровни – это результат подобного воздействия. Описывая, измеряя соответствующие меры, мы приходим к постижению всего замысла. Это заметно уже в описании и истолковании Церкви, пребывающей в двух измерениях и состояниях: земном и воинствующем – и в небесном и триумфирующем. Различные уровни смысла поэтому представляют собой свойства самой Церкви, и ее символы (Ковчег Ноя, Скиния Моисея, Храм Соломона, сам Иерусалим) призваны являть Церковь в ее полноте, как ecclesia universalis[200].
Метафорика архитектоническая удобна именно по этим причинам: она связывает Церковь с историей Ветхого Завета и одновременно демонстрирует универсальный характер Божия Промысла, всегда стремящегося к устойчивым результатам, которые можно и осознать, и воспринять, и даже измерить, то есть соотнести с некоторой мерой. Иными словами, архитектура дает средства наглядного представления, и потому, например, длина Ноева Ковчега – это исторический смысл, ширина – аллегория, высота – тропология. Другой чисто архитектурный образ – соотношение внутреннего и внешнего пространства, позволяющий, например, Аквинату говорить о внешнем и внутреннем культе. Мы, конечно же, замечаем, что за всеми этими образами скрывается символика тела и души, выраженная в архитектуре. Поэтому нельзя упускать и такое измерение всей совокупности смысла, как сила, форма и степень воздействия на соответствующие человеческие способности и получаемые в результате состояния души и тела. Но эти состояния последовательно связаны друг с другом, и как, например, тело находится в подчинении у души, так и более элементарные состояния («внешний культ») зависят и стремятся к более совершенным («внутренний культ»), являясь их символами. Соответственно, непосредственный смысл символизирует, означает более высокий – аллегорический, который, в свою очередь, представляет собой внешнюю оболочку тропологического смысла, за которым может скрываться и смысл анагогический (хотя и не всегда). То же самое справедливо и для ecclesia militans в отношении ecclesia triumphans. Эти три или четыре смысла описывают одну-единственную res, а не три[201].
Более того, экзегеза призвана связывать воедино две сферы, чье единство мыслится обязательным, но с трудом достижимым. Это область богословия, которое по определению должно представлять собой однородное и связанное единство, и область Св. Писания, в котором существует т. н. гетерономия, различие между тремя опять же состояниями человечества по отношению к Закону: tempus ante legem, tempus sub lege, tempus post legem. Экзегеза призвана объединить эти три аспекта с точки зрения Божественного institutio, действие которого, согласно Гуго Сен-Викторскому, направлено, в том числе, на то, чтобы ввести реалии Ветхого Завета в круг действия Благодати. Это возможно, если рассматривать их аллегорически, но при этом учитывая, что они суть res, но ставшие знаками, причем под действием Божия установления, так как природные знаки не могут отражать разнообразие смысла и не различают индивидуальных вещей, ведь, будучи творением, они обозначают по своей природе лишь то, что они сотворены, не более того. Иначе говоря, подлинная аллегория имеет санкцию свыше и не лишает вещи их онтологии, и не противоречит богословию своей условностью. Но Ветхий Завет благодаря этому оказывается «фигуральным временем», собранием префигураций Нового.
Из этого следует, что церковное здание, являясь символом ecclesiae universalis, связано со всеми прежними образами, и прежде всего – с образами «Скинии» и «Храма», которые представляют собой подлинные архетипы всякого святилища – или подвижного, или устойчивого. Хотя и им Ветхий Завет знает прообраз – видение «Нового Храма» пророка Иезекииля. Но с видениями все обстоит достаточно сложно, так как они не соблюдают главное условие аллегоризации: первичное значение, буквальный смысл предмета должен быть одновременно и смыслом историческим. Понятно, что содержание видения – вне истории. Это справедливо и для апокалиптического видения Нового Иерусалима. Экзегеза подобного видения может иметь в виду только анагогический смысл, но вовсе не аллегорический, ведь «где истина открывается непосредственно, там не требуются никакие символы». Если же апокалиптическое видение представляет собой «символическую конструкцию», которая, в свою очередь, является знаком (signum) patria coelestis, то в этом случае само Небесное Отечество в Апокалипсисе не представлено[202]. Единственный выход из этого положения – в экзегезе игнорировать очевидный аллегоризм Откровения, хотя в эпоху накануне рождения готики на это решались немногие, предпочитая просто не обращаться к этому материалу. С точки зрения Мартина Бюкселя, это могли себе позволить французские экзегеты XII века, но не современные исследователи, которые обязаны отдавать себе отчет в том, что Апокалипсис – это аллегория. В этом случае невозможно говорить, что готический собор – отпечаток Небесного Града (имеются в виду слова Зедльмайра), или что каролингский вестверк есть репрезентация Иерусалима (точка зрения Бандманна). Портал собора не есть врата Неба, говорит наш автор, это врата ecclesiae universalis или даже просто praesens, то есть, обращаясь к апокалиптическим коннотациям церковного сооружения, мы обязаны оставаться в рамках исходного текста и его свойств, которые, повторяем, не скрывают свою аллегорическую природу. Иначе мы будем иметь просто «представления, то есть результат ассоциаций, а не иконографическое изыскание»[203]. Но в том-то и дело, что ни Зедльмайр, ни тем более Бандманн не относятся к иконографам. Это уже иконология, о которой мы будем вынуждены говорить в другом месте, чтобы уяснить для себя, что иконология, в отличие от иконографии с ее дескриптивными задачами, претендует на расширительные процедуры, на смысловую эвристику, просто-напросто – на расширение интендированного смысла. Более того, иконологический смысл есть результат не комментирования, не экзегезы, а воздействия художественного образа. Зауэр, как мы видели, к этому подходит, когда говорит о дистанции между помысленным и построенным церковным зданием. Иконологический opus в варианте Зедльмайра – это если и экзегеза, то скорее структурно-феноменологическая, имеющая своим предметом нечто очень конкретное, а именно – опыт переживания человеком-зрителем мистериального пространства. Тем более это касается и Бандманна, которого нельзя обвинять в ассоциативном подходе, так как его подход – прямо антропологический.
Как мы вскоре убедимся, сам Бюксель вовсе не чужд аналогичного взгляда на вещи, так как он вполне соответствует средневековому подходу, когда по ходу экзегезы именно материально-вещественная res способна становиться телесной «фигурой» вещей бестелесных, но обладающих вполне осязаемым тропологическим, то есть моральным, воздействием на душу. Именно телесные образы, в том числе и архитектонические, оказываются внешним ключом, способом вхождения во внутреннее святилище души, где помещен истинный алтарь Христа, человеческое сердце, как истолковывает описание Небесного Иерусалима Бруно из Сеньи. Но для Гуго из Фуалло материальная постройка – только препятствие, ему достаточно для медитации текста Писания и собственной кельи, из морального истолкования которой он выводит всю полноту тропологического смысла: именно душа – та духовная келья, которой соответствуют, например, Скиния Моисея и все основные добродетели, а также все возможные типы ковчегов, то есть святилищ (материальный, мистический, моральный). Так, постепенно, через последовательное медитативное описание череды материальных и архитектурных вещей (например, частей монастыря) можно прийти уже к контемплативному опыту patria coelestis и Самой Троицы. Экзегеза – средство мистического соучастия в Небесном Царстве, форма анагогического опыта, внутри которого архитектурные топосы или фигуры – самые удобные, ибо самые наглядные. Более того, если верить тому же Гуго из Фуалло, представлявшему хор символом созерцательной жизни, то архитектура способна символизировать определенные состояния души и даже, добавим мы, их стимулировать. И наконец, «архитектура сама становится интерпретацией церковной символики», хотя однозначно определить соотношение архитектуры и символики невозможно. Во всяком случае, очевидно, что средневековое церковное сооружение не в состоянии «имитировать sensus litteralis Храма». Архитектура не занята реконструкцией его подлинного вида, даже наоборот, если иметь в виду средневековые миниатюры, то становится понятным, что архитектура – сама есть особого рода экзегеза. Вопрос же состоит вот в чем: а что же она истолковывает? Ответ Бюкселя, на наш взгляд, выводит всю проблематику на совершенно новый уровень разумения: «готическая архитектура интерпретирует символы», причем не просто переиначивая, например, на архитектонический лад те же самые знаки, но указывая на сам процесс трансцендирования. Готический собор показывает и символ, и одновременно то, что символ – это нечто большее, чем материальная вещь. Точно так же и Св. София Константинопольская предстает как воплощение неоплатонического принципа дематериализации вещества и восхождения к горнему. Но при этом очевидно, что сам Плотин оценил бы этот храм как «софистическое сооружение», так как в нем нет точного соответствия внешнего и внутреннего, а скорее – видимость. Точно такой же видимостью, иллюзией может казаться и процесс трансцендирования символа в готике. Как понимать подобную «несоразмерность», присущую, как кажется, вообще всякой сакральной архитектуре? Ответ автора рассматриваемой статьи достаточно традиционен. Он напоминает нам того же Зауэра. Архитектура – это не только собрание символов, но и собственно произведение искусства, вполне самостоятельное и потому отчасти дистанцированное от символизма и экзегетики в любых ее формах. Момент неуловимости разумом, наличие неистолкованного остатка – все это признаки того самого иррационализма, что характерен для художественного явления, требующего интуитивного постижения, редуцированного от всякого конвенционализма, в том числе и сакрального…
Но есть, по крайней мере, еще два варианта объяснения, почему церковное здание в лице той же готики (а также и практически любого византийского сооружения) кажется отчасти иллюзией, видимостью.
Во-первых, любой зрительный опыт не может казаться исчерпывающе достоверным, и поэтому архитектура, ориентированная на оптически-визуальные эффекты, однозначно рискует превратиться в плоскостное явление, так как плоскость – это инварианта в структуре визуального опыта[204]. Но так как конструкция – это всегда трехмерный феномен, то его сокрытие неизбежно, если постройка желает производить эффект именно на зрителя. Тем более зрительный опыт, основанный на мистическом видении, на созерцании невидимого, на проникновении сквозь ткань материальной реальности, обязан иметь «диафанический» характер, отражающий специфическую структуру стены сакрального сооружения[205].
Во-вторых, можно предположить, что церковное сооружение – это всегда фон, задний план для явлений, событий и переживаний более важных, более реальных и, следовательно, более «объемных», так сказать, более трехмерных. Имеется в виду, конечно же, Евхаристия. И как для самой архитектуры все остальные виды образности – всего лишь украшение, убранство (см. выше у Зауэра) и обрамление, так и для Евхаристии аналогично обстоит дело и с архитектурой. Она тоже оказывается пространственным фоном, пластической декорацией, каменной кулисой для культа и Таинства. Именно так может возникнуть ощущение иллюзии, хотя, несомненно, для неоплатоника и просто иконоборчески настроенного зрителя всякий сакральный образ, даже столь слабо миметический, каковым является архитектура, всегда будет источником сомнений и фрустраций.
По нашему мнению, единственный полноценный способ преодоления ложного иллюзионизма – это не выведение архитектурного образа за пределы литургического контекста и помещение его в контекст чисто художественный, а как раз создание с помощью архитектуры специфически архитектонических символов, не просто насыщенных богословскими истинами, но выступающих средствами архитектурной экзегезы, направленной на литургически-медитативный опыт.
И тогда иконографический опыт будет и опытом конструктивным, опытом построения смысла через выстраивание здания, – но выстраивание мысленное, именно медитативное в ситуации его созерцания. Именно этот момент не учитывает Бюксель, подвергая беспощадной критике иконологические опыты Панофского и Отто фон Симсона, которые достойны отдельного разговора хотя бы по той причине, что у этих исследователей как раз предельно четко проявляются особенности иконологии, которая, повторяем, выстраивает смысл уже на готовом здании. Причем иконологическая интерпретация – это не просто какая-то смысловая надстройка, а почти что необходимый семантический «декорум», без которого понимание сооружения будет просто незаконченным.
И пусть аббат Сугерий пользуется традиционными образами в своих текстах, анализируемых Панофским и фон Симсоном, тем не менее он описывает свое впечатление от постройки, он воспринимает ее как своего рода мистический визионерский опыт, и неважно, что он облекает его в стандартные формы литературной экзегетики. Не случайно, когда Панофский переводит помещенную на портале аббатства надпись, он подбирает понятию opera labor английский эквивалент, переводимый как «мастерство творения». Конечно, это не совсем то, что имел в виду Сугерий, так как речь идет действительно о Деле, которое совершил на земле Христос, которое отличает Церковь Земную и которое отличается, как всякое земное дело, трудом, порой мучительным, связанным с приложением сил, напряжением и преодолением усталости[206]. Возведенное церковное здание как результат человеческого труда именно поэтому оказывается материальным символом «Церкви воинствующей». За этим одним понятием подразумевается целая вереница других понятий, как это и должно быть в настоящей экзегетике, подлинном деле истолкования. Панофский же пытается подчеркнуть именно художественный характер этого opus’а, подразумевая под ним конкретную церковь, конкретный стиль и конкретную проблему уже экзегетики искусствоведческой, связанной с результатом усилий художественных, воплощенных в художественной форме; они содержат смысл, точно так же происходящий из художественной деятельности, в данном случае из строительной практики, структура которой лишь отчасти пересекается со структурой, например, литургических текстов или практик.
Но что же является точкой пересечения? Наша задача – показать, что для иконографии, к которой относит себя Мартин Бюксель, этим общим местом представляется литературный источник, словесный текст, по отношению к которому законченное произведение искусства выступает иллюстрацией, наглядным и потому доступным выражением некоторого набора идей и понятий. Для иконологии в широком смысле слова вопрос состоит в истолковании специфически художественных образов, визуальных символов творческой и изобразительной деятельности, корни которой могут быть и психологическими, а не только религиозными.
Но самое существенное, что мы имеем намерение показать, что архитектура и строительная практика вообще способны совмещать в себе эти две интенции, точнее говоря, объединять их в едином пространстве осмысленных интерпретационных усилий, того opus labor, которое прославляет и художника, и историка искусства, если их дела прославляют Христа, Чье Дело – Церковь, состоящая из живых камней, верующих, пребывающих в братском согласии друг с другом и тем самым соучаствующих в opus Domini и входящих в ecclesiae praesens, а значит, и в ecclesiae materialis. Таким образом, ее возведение – часть, аспект полного трудов процесса познания, анагогического просвещения, восхождения к «истинному свету», который есть imago, тогда как аллегория – только umbra. Но нельзя ли ввести в дополнение к четырем традиционным смыслам экзегезы и смысл топологический, понимая под ним архитектурно-пространственные измерения и Литургии, и Писания, и Церкви? Или он объединяет эти смыслы, являясь синонимом mos anagogicus?
Впрочем, важно то, что для Бюкселя данные богословско-экзегетические построения на этом завершаются, и вторая часть его статьи – это просто собрание основных аллегорических образов, посвященных архитектонической тематике: своеобразный, хотя и понятный жест, означающий исчерпанность экзегетики уровнем догматики и вероучения. Когда начинается собственно иконография, тогда необходимо одно лишь точное и последовательное описание, которое собственно и создает, воздвигает ту самую ecclesia symbolorum, то есть собрание символов, что вынесена в заглавие работы немецкого автора.
От символогии Дома Божия к иконографии церковного сооружения
Это самый настоящий символический словарь, общий каталог аллегорических значений основных частей церковного здания, построенный как краткий конспект книги того же Зауэра, которого, напомним, сам Бюксель характеризовал как комментатора Дуранда. Разобранное, разложенное на составные элементы символическое здание «символической церкви» обретает вновь законченные очертания в результате тщательного собирания, буквально созидания, где строительными лесами выступают ссылки на литературные источники. Такое сопоставление изощренной богословско-филологической экзегетики и явно упрощенной дескриптивно-визуальной «лингвистики» призвано продемонстрировать соотношение и иерархию когнитивно-концептуальных ценностей внутри единого символического подхода. Тот смысловой материал, то знание, которое получается в результате его применения, предназначено для все той же семантической комбинаторики, которую демонстрируют средневековые экзегеты-литургисты. Теперь на смену им приходят экклезиологи-иконографы, имеющие дело не с филологически-богословскими символами-идеограммами архитектурной постройки, а с ее общей археологически-эстетической типологией.
Фактически, мы имеем дело со сквозной традицией, так сказать, экклезиологически-визуального символизма, когда сам метод порождает особого рода познавательно-визуальные символы, регулирующие последующее уже просто восприятие конкретных памятников, остающихся в пределах все той же Символической Церкви. Если вначале было описание, например, Храма Соломона, то затем – Нового Храма пророком Иезекиилем, Небесного Иерусалима св. Иоанном Богословом и Небесного Града Блаженным Августином. Дальше следуют тексты Беды Достопочтенного, Рабана Мавра, Вильгельма Дуранда. А уж за ними – с некоторой задержкой – выстраиваются книга Йозефа Зауэра и статья Мартина Бюкселя. Меняются времена, имена, архитектурные стили, религиозные доктрины и философские системы. Есть, конечно же, и более существенные различия, связанные с тем, что некоторые тексты – это словесная фиксация Откровения, некоторые – опять-таки словесное оформление визионерского опыта, а некоторые – опыта интеллектуального созерцания или даже научного размышления. Но тем не менее, все это вместе кажется разным декоративным «обрамлением» одного и того же тела единой и неизменной Церкви. И Ее возобновление в символической экклезиологии сродни Евхаристической анамнезе. На самом деле достаточно одного удержания и восстановления в памяти символического значения и способности проникаться им каждый раз как бы заново, переживая действие подобного смысла на душу.
Но остается одно существенное ограничение этого метода, связанное как раз с его универсализмом: подобно тому как внутри ecclesia universalis отдельные верующие представляют собой всего лишь камни в единой кладке, так и в ecclesia symbolorum те же отдельные камни – это отдельные памятники, даже отдельные стили (вспомним тезис Бюкселя о том, что «не существует специфически романской или готической символики»). Символика архитектуры обходится одними лишь архитектурными универсалиями, если пользоваться схоластическими понятиями. Причем в реалистическом их понимании, так что для конкретных памятников просто не хватает, так сказать, онтологического пространства.
Необходим особый поворот самого исследовательского интереса, способного узреть непосредственно в архитектуре, в собственно постройке, в ее проектировании и возведении источник некоторого смысла, который иначе просто не существует или, во всяком случае, не воспринимается. Необходимо представить себе, что экклезиологически-литургический символизм не есть предельный уровень членения того единого «текста», которым является архитектура. Архитектурные символы – это даже не слова, скорее предложения, членами которых являются архитектурно-строительные типы, состоящие, в свою очередь, из отдельных «слогов», в качестве которых выступают те или иные – уже первичные и одновременно значимые – элементы архитектурного языка.
Так возникает желание увидеть в архитектуре направленное речевое сообщение, состоящее из визуальных образов, которые что-то рассказывают благодаря тому, что они то же самое и показывают. Так рождается иконография архитектуры, но на первых порах в своем не совсем архитектурном, скорее в изобразительно-скульптурном варианте. Кажется, будто архитектуре еще не доверяют и пытаются поручить изъясняться вместо нее собственно изобразительному искусству в лице прежде всего пластики. Во всяком случае, забота о доходчивости и убедительности заставляет искать новых результатов, но на почти что прежних методологических путях. Как мы без труда убедимся, свойственная литургической экзегетике дидактика вполне может быть перенесена на иконографические тексты. Самый блестящий, убедительный и опять-таки поучительный во всех отношениях пример – творчество Эмиля Маля, прежде всего его первая книга, уже поминавшаяся тем же Зауэром. Она вышла на несколько лет раньше книги фрайбургского профессора и каноника, но по своим теоретическим и методологическим интенциям следует вслед за ней. Попробуем разобраться: какова может быть реальная и сугубо искусствоведческая альтернатива прежней символогии, остающейся в рамках церковной науки – археологии в частности и богословия вообще?
ИЕРОГЛИФИКА АРХИТЕКТУРЫ в ЗЕРКАЛЕ ИКОНОГРАФИИ
Грубый крестьянин, не знающий мира дальше той улицы, где он живет <…>, участвует в жизни всего христианства.
Эмиль МальСобор и соборность в архитектуре и иконографии
Эмиль Маль[207] не скрывает того факта, что он религиозный мыслитель, что его интересует религиозное искусство и что его взгляд на это искусство принадлежит пространству церковности. И с точки зрения классификации методов, его подход можно по праву и со всей терминологической определенностью назвать церковно-археологической иконографией[208].
Проблема заключается в выяснении доли архитектуры в этой иконографии, при том что симвология явно отходит на задний план. Причины тому – в смене интенций: отталкиваясь от церковно-догматического учения, Маль дополняет и комментирует его посредством искусства. Принадлежа церковному сознанию, как он сам подчеркивает[209], Маль помещает, в свою очередь, весь универсум церковного учения в пространство Церкви символической, точнее говоря, в пространство того, что есть символ Церкви, то есть храма, собора, прежде всего готического, если брать конкретно то время, что интересует Маля в разбираемой нами книге. Поэтому церковность его состоит в соборности, понятой, между прочим, в сугубо католическом смысле как кафоличность, то есть не просто единство, но и всеобщность.
Археологичность же состоит в том, что задачей ставится открытие первоначального значения, поиск и обнаружение тех скрытых уровней, слоев значения, которые связаны с источниками, внеположными художественной традиции, то есть письменными. Это значение погребено под толщей исторического времени, отделяющего нас от предмета нашего интереса и от понимания этого предмета, и «раскопки» такого рода приближают и нас к тому, что скрыто, и скрытое делают явным и явленным – уже в настоящем.
В этом и состоит замысел первой и самой показательной книги ученого – «Религиозное искусство Франции XIII века» (1898). В ней иконография, бывшая к этому времени вполне почтенной, хотя все еще вспомогательной дисциплиной, занимавшейся изобразительным выражением литературных, исторических и прочих предметов и тем, наконец-то соединяется с местом своего проявления и приложения, то есть с пространством собора, точнее говоря, с его единым целым, в котором пространственные свойства взаимодействуют с пластическим началом.
Согласно традиционному историко-церковному взгляду, господствовавшему в XIX веке, иконография представляет собой источниковедческую дисциплину[210]. Замысел Маля состоит в том, чтобы развить, если можно так выразиться, двойное источниковедение, ведь если литературные тексты – это источники первого порядка, то церковная постройка – источник второго уровня. Причем если первого рода источник приоткрывает смысл, то источник второго рода делает доступным место существования памятника, помещает его в определенную точку культурного, культового, исторического и прочего пространства. В связи с чем первенство письменных источников не вызывает сомнений только с точки зрения их ценности и важности для сугубо археологических целей, в реальности же именно архитектура – тот источник, откуда проистекает и само церковное искусство, и наше о нем знание. Не было бы собора, не было бы ни того, ни другого. Итак, Эмиль Маль, подобно истинному археологу (при этом церковному!) открывает, обнаруживает то место, где следует искать церковное искусство и находить его смысл. Для этого нужно взглянуть на собор и войти внутрь его. Вспомним, что для литургиста-богослова Зауэра практически исчерпывающее знание о соборе заключалось уже в его портале.
Так рождается первый в истории науки об искусстве опыт встречи и сопряжения иконографической и архитектурной традиций. Попробуем выяснить, что получается в результате их сближения. Формируется ли некое новое единство, не являются ли изначально церковное искусство и церковная архитектура элементами единого строя, двумя гранями одного процесса?
Для этого – по нашему обыкновению – перечитаем основной текст этого великого историка искусства, извлекая из него все сугубо архитектуроведческие суждения, дабы, в первую очередь, составить малевский образ сакральной архитектуры, а затем – попытаться выяснить, каков у Маля образ взаимодействия ее с изобразительным искусством.
Но сразу оговоримся. Во-первых, Маль занимается не только архитектурой, и даже не столько архитектурой вообще. Более того, архитектура для него не ведущая тема. Во-вторых, выбор именно готического искусства очень понятен. Здесь связь, взаимодействие и единство основных видов искусства – архитектуры и скульптуры (вкупе и с живописью в лице витражей), что называется, видны невооруженным глазом и представляют собой предварительное и не обсуждаемое (до поры до времени) условие, позволяющее без лишних усилий вести чисто тематические изыскания в рамках существующего, так сказать, по умолчанию Gesamtkunstwerk’а (хотя, как истинный француз, Маль не употребляет этого немецкого слова).
Впрочем, простота этого подхода не должна вводить нас в заблуждение, и многочисленные скрытые проблемы могут всплыть на поверхность по ходу нашего анализа текстов Маля.
А один вопрос даже и не уходил на дно. Что является источником значения для религиозного, христианского, средневекового искусства вообще? С ответа на него и начинается первая книга Эмиля Маля.
И ответ на предложенный вопрос – в самом ее начале, и звучит он вполне ожидаемо, если помнить, что перед нами церковная археология, и совсем неожиданно, если не забывать, что книга написана еще в конце XIX века. Уже в 1-й главе Введения мы читаем: «Искусство Средних веков – в первую очередь и по преимуществу – это Священное Писание, и алфавит его обязан был учить каждый художник»[211]. Чуть ниже уточняется, что буквы этого алфавита суть «знаки, предназначенные для предметов видимого мира», так что мы имеем «истинные иероглифы, в которых искусство и письмо смешаны, являя единый дух порядка и абстракции, тот самый, что присутствует и в искусстве геральдики с его алфавитом, с его правилами и символизмом»[212].
Сравнение иконографии с языковыми явлениями, как мы убедимся, очень удобно, и ему суждено было большое будущее, потому что очень легко показать независимость тематической образности от индивидуального узуса. Художник в этом смысле только пользуется готовыми схемами и темами. Его искусство – это искусство пользователя, читателя-исполнителя.
Из этого, однако, не следует, что средневековый художник лишен был всякой свободы. Она предполагалась хотя бы во владении техническими навыками, ведь преодоление сопротивления материала – род индивидуального подвига, что сближало искусство, во всяком случае, в глазах людей XIII века, со своего рода священнодействием. Впрочем, конечный продукт есть уже результат не индивидуального выбора, но «корпоративного христианского сознания», которому это искусство и было предназначено: «ум богослова, инстинкт народа и острота чувств художника пребывали в сотрудничестве»[213].
Итак, в первую очередь, это искусство сродни даже не языку, а письму, во всяком случае, речи, с помощью которой общаются и изъясняются, пользуясь условными иероглифическими знаками, скрывающими в себе и мысли, и чувства верующего сознания. Организовано же это письмо по законам «сакральной математики», ведь вторая характеристика средневековой иконографии, имеющая «исключительную важность», – это «положение, группировка, симметрия и число»[214]. Собственно говоря, следующие девять страниц книги как раз и посвящены символике церковного здания, и Маль считает возможным этим ограничиться. Тем более проследим за ходом его изложения, так сказать, эксплицитного смысла, имея в виду, повторяем, в дальнейшем реконструировать из всякого рода замечаний, уточнений и метафор более полный, объемный и, как нам кажется, довольно необычный образ собора.
Но начало, повторим, довольно традиционное, знакомое нам уже по Зауэру, но без его лапидарности. Маль напоминает (естественно, с опорой на письменные источники) и об ориентации христианского храма на восток, и о значении северного (Ветхий Завет), и южного (Новый Завет) направления, и о смысле, например, западного фасада (солнце заходит на западе, символизирующем конец истории и, соответственно, Страшный Суд). Пространственная ориентация выражается и в значении правой и левой стороны – относительно востока, относительно образа Христа, с Которым связаны и все вообще отношения порядка и иерархии. В связи с чем Маль вспоминает и подробно излагает учение Ареопагитик о Небесной иерархии. Но наибольшее внимание следует уделять – вслед за средневековыми мыслителями – отношениям симметрии, в которой выражается мистическая внутренняя гармония. Тот схематизм, что поддерживает симметрию, сам, в свою очередь, основан на наиболее фундаментальных символических отношениях, а именно на отношениях нумерологических, наполненных, по словам Маля, «некой оккультной силой». Сакральные числа знали уже отцы церкви, усвоившие их из неоплатонизма, в котором «всегда был жив гений Пифагора». Бл. Августин видел в числах «мысли Бога». Устройство и мира физического, и мира морали основано на вечных числах, чье действие мы ощущаем даже в танце, управляемом ритмом, да и вообще в красоте, которая есть каденция, сгармонизированные числа. Наука о числах – это наука о вселенной, и через числа мы открываем тайны мироустройства. Тем более числа, встречающиеся в Библии, следует изучать с особым почтением, ибо они священны и наполнены тайной. Кто может их постигнуть, то проникает в планы Творца[215].
И только после подробного изложения всего подобного материала Маль замечает, что следы такого рода «сакральной арифметики» можно найти в соборе[216]. Нумерология определяла планировку здания, а также всякого рода количественные отношения и членения. Опять-таки традиционная октогональная форма баптистериев, говорит Маль, вовсе не есть каприз. Число восемь – известный символ новой жизни, Воскресения и воскрешения мертвых. Главное же, что все это предвосхищается и реально совершается в таинстве Крещения, для которого баптистерии и предназначались[217].
Маль предполагает, что в соборе можно найти много частей, скрывающих в себе «мистические числа», но их исследование ждет лучших времен, тем более что вместо метода мы пока вынуждены пользоваться воображением. Довольно характерное замечание, выдающее именно методологические склонности самого Маля, о чем нам еще будет повод поговорить в дальнейшем в связи с некоторыми довольно резкими историографическими выпадами автора.
Пока же Маль обращается к третьей характерной черте средневекового искусства, которое есть, по его мнению, не что иное, как «символический код»[218]. Имеется в виду, конечно же, аллегоризм, так как здесь же следует лапидарное пояснение: еще со времен катакомб христианское искусство изъясняется с помощью таких фигур, за которыми следует видеть фигуры другие. «В средневековом искусстве <…> всякая написанная вещь преисполнена животворящим духом». Более того, символизм (аллегоризм) мышления присущ был не только одним ученым богословам, его разделял весь народ, к которому обращала свою проповедь Церковь. Именно «символизм церковной службы сближал благочестие с символизмом искусства». «Христианская Литургия, подобно христианскому искусству, есть бесконечный символизм, то и другое – проявления одного и того же гения»[219].
И гений этот заключался в том, что и автор литургического трактата, и автор скульптурного декора собора обладали одним общим и общеполезным, и общезначимым навыком – способностью к «спиритуализации материальных объектов». При этом, по мнению Маля, художник зачастую давал буквальную транспозицию доктрины, которую отстаивал литургист (имеется в виду, в частности, символизм чина освящения храма, отраженный, например, во внутреннем пространстве Сен-Шапель)[220].
Итак, каков вывод из малевского Вступления? Средневековое искусство – искусство символическое, формы которого суть инструменты передачи мистического значения. В этом и состоит сущность иконографии подобного искусства: это «письмо, счет и символический код»[221]. Выражаясь иначе, иконография должна учитывать такие функции искусства, как иллюстрация Писания, организация частей согласно нумерологическим правилам и способность к мистическому аллегоризму. Самое же существенное, что конечная цель – это «глубокая и совершенная гармония», придающая собору «нечто музыкальное», что видно и в группировке статуй, и в самом портале собора, где «налицо все музыкальные элементы». Гений Средневековья, столь долго остававшийся непонятым, – это гений гармонии. «Рай» Данте, и собор Шартра суть симфонии. Ни к какому иному явлению искусства так не подходит эпитет «застывшая музыка»[222]…
Каким же образом обеспечить заявленную соборность (собирательность, исчерпанность и упорядоченность описания) и гармонию (согласованность смысловых отношений) на уровне иконографии?
Зеркальный метод
Ответ предлагается в следующей главе, названной «Метод, использованный при изучении средневековой иконографии». Уже подзаголовок нам проясняет все: «Зерцало Винсента из Бовэ». Другими словами, единство и гармония метода обеспечиваются единым литературно-богословским источником, относительно которого искусство выступает в роли все той же иллюстрации, а иконография исполняет функцию прочтения, соотнесения и согласования.
Впрочем, все не так-то просто, ибо сам источник вовсе не элементарен по своим свойствам, важнейшее из которых, конечно же, призвано обеспечить «соборность», то есть собранность, системность и исчерпанность информации и ее доступность. Ведь трактат Винсента – это энциклопедия, справочник, которым пользовались средневековые мастера – и мастера слова (богословы), и мастера дела (строители) – и к которому могут обращаться и нынешние исследователи. В этом смысле данный текст универсален.
Но в нем содержится и нечто еще более полезное и более универсальное, а именно метафора зеркала. Не углубляясь до поры до времени в этот образ, отметим сразу, что Speculum – это письменный источник, который уже в себе самом содержит момент иллюстративности, изобразительности. Он иллюстрирует знание о мире и изображает в сжатом виде этот мир. Этот источник подходит для изобразительного искусства по-особому: благодаря своей особой миметичности этот источник оказывается не просто источником сведений по иконографии, а источником средств иконографии! Здесь, скажем так, источник смысла совмещен со способом его усвоения. Фактически, мы имеем идеальный экзегетический инструмент. Проблема, как всегда, заключена в умелом использовании этого инструмента, ведь его применение порождает дополнительный смысл, который полезно отделять от первичного значения. Забегая вперед, скажем, что это уже проблема не иконографическая. Тем не менее Маль пытается с ней справиться своим собственным, причем довольно оригинальным, способом.
Этим способом, как выясняется сразу, выступает опять метафора – довольно традиционная, но в данном случае и уместная, и полезная. Это метафора дома, сооружения, здания, вообще архитектонического построения. Маль напоминает, что XIII век был веком энциклопедий и что Speculum – только один из жанров наряду с Summa и Imago Mundi. Общее у всех жанров одно. Они суть возведенные их авторами «интеллектуальные постройки», на которых стоит все христианство, а «собор в камне» – их «визуальный двойник»[223], точная копия, полученная естественным путем как отражение в зеркале. Вот в чем преимущество именно жанра Speculum! Зеркало дает безупречную адекватность и исчерпанность фиксации. Между мыслью и ее воплощением в камне нет зазора, точнее говоря, этот зазор чисто оптический. Этот постулат, что называется, развязывает руки, делая тот же собор столь же достоверным источником, что и сам текст «Зерцала…». Собор сам становится текстом, который только надо прочитать. Более того, образ зеркала полезен и с точки зрения метода. Мы рискуем потерпеть фиаско, говорит Маль, если будем переносить на средневековое мышление наши категории, благоразумнее опереться на метод, предложенный самими Средними веками. Этот метод доказал свою гармонизирующую роль, это метод правильной экспозиции и организации материала, это каркас, внутри которого только и стоит представлять всякое исследование средневекового искусства[224].
Постепенно формируется целый ряд подобий, цепочка эпитом-конспектов[225]: замысел Творца – творение-мир – «Зерцало…» – собор – иконографическое исследование. Повторим, что именно сквозная зеркальность обеспечивает изоморфизм и изотопию всех этих столь несхожих, но все-таки текстов, которые, копируя, комментируют друг друга, а тем самым раскрывают и ту тайну, что заложена в мироздании как таковом. Этим же занимается и иконограф, если следует хотя бы за предложенной Speculum majus четырехчастной схемой. Ведь «Большое зерцало» состоит именно из четырех малых: из зерцала природы, зерцала просвещения, зерцала морали и зерцала истории. Последняя есть, несомненно, история спасения, то есть история Церкви. В нее вписывается и история искусства в своей церковной, соборной и, значит, иконографической ипостаси.
Увидев именно в этом зеркале отражение собора и его скульптурного убранства («один и тот же гений расположил главы «Зерцала…» и скульптуры портала»), мы имеем надежду постигнуть значение и самого зеркала, и его отражения. Маль выражается даже еще определеннее, обозначая последовательность действий: «Мы будем усваивать одну за другой четыре главы труда Винсента и пытаться прочесть эти четыре книги на фасадах соборов»[226]. Итак, иконографический труд – это труд по прочтению, это усилие классифицирующее и упорядочивающее, это попытка в формах видимых найти отражение вещей невидимых. Другими словами, иконография – это способ использования искусства в качестве всеобъемлющего и «всеотражающего» зеркального символа, который когда-то в прошлом вобрал в себя, а теперь готов отразить вовне – по направлению к познающему, опять же зеркальному, то есть адекватному, разуму – некоторый набор истин и переживаний.
Возможность их фиксации, хранения, передачи, усвоения и осмысления связана с тем, что это истины универсальные, обязательные, можно сказать, неизбежные, ибо они религиозны, церковны, спасительны. Кроме того, будучи всего лишь зеркально зафиксированы, они все равно требуют расшифровки, ведь зеркало только передает облик и удерживает тайну, требующую своего извлечения и истолкования.
Такова программа Эмиля Маля. Посмотрим теперь, как она отразилась в книге. В ее основной части, состоящей вслед за «Зерцалом…» Винсента из четырех книг, соответствующих четырем сферам знания: «зеркало природы», «зеркало просвещения», «зеркало морали» и – самая обширная (больше половины объема) – «зеркало истории», имеющей подразделения на ветхозаветную и новозаветную часть, на главы, посвященные апокрифам, святым, античности, то есть светской истории, и, наконец, заключению истории – Апокалипсису и Страшному Суду.
Сразу возникает череда вопросов: отражают ли эти четыре малых зеркала только четыре типа знания или также и четыре типа значения? Или это четыре этапа приближения к полноте понимания? Есть ли в этом четырехчастном построении своя архитектоника? И равны ли эти зеркала по своей, так сказать, «зеркальности», по степени просветления, прозрачности, отражающей способности? В любом случае это – система зеркал, и первая ее функция – отражение и перераспределение лучей, исходящих от источника света, то есть от истины. Хотя можно представить себе четырехгранную зеркальную призму, повернутую в данный момент к нам одной своей гранью[227].
Природное зерцало
Зеркало природы – отражение устройства, строения тварного мира во всем его многообразии, и эта метафора легко прилагается к собору, точнее говоря, к «схеме собора». Собор «полон жизни и движения», он есть образ Ковчега (который есть, в свою очередь, прообраз Церкви), вместилище всевозможных тварей[228]. Кроме того, собор отражает и общий взгляд на мир, свойственный средневековому человеку. Для него мироздание – единый, сплошной символ, ибо мир есть творение Бога, его мысль, через Слово ставшая материальной реальностью. Из этого следует, что «в каждом существе скрыта мысль Божия», мир – «книга, написанная рукой Бога», и в ней всякая сущность не что иное, как «слово, заряженное смыслом»[229]. И дальше, после подобных общеобязательных постулатов, которые Маль считает необходимым излагать со всей подробностью, – после этих вводных положений следует замечание, по сути определяющее весь метод малевской иконографии.
Маль говорит, излагая, естественно, средневековую доктрину, что человек незнающий, необразованный, не искушенный в науке лишь взирает на мир и его формы и не умеет читать эти формы как «мистические буквы», не разумеет их смысл, тогда как мудрец движется от видимого к невидимому и, читая природу, прочитывает мысли Творца. Истинное знание состоит не в том, чтобы изучать вещи ради них самих, ради внешних форм, а в том, чтобы проникать во внутреннее значение, заложенное в них Богом ради нашего просвещения («Каждое творение есть тень истины и жизни», – цитирует Маль Гонория Отенского)[230].
Нетрудно опознать в этом собственно иконографический процесс: через чтение-описание внешних образов оказывается возможным вхождение во внутреннее «святилище» знания. И следующая фраза содержит в себе прямую архитектурно-храмовую метафору: «Все сущности в глубине себя (выделено нами. – С.В.) отражают Жертву Христову, образ Церкви, добродетелей и пороков». Маль почти что буквально всматривается внутрь церковного здания, обнаруживая в глубине алтарь, Престол, наконец, Евхаристию – образ, в том числе, и Голгофы в окружении человеческих существ. Именно в соборе, именно внутри собора «мир материальный и мир духовный образуют одно целое». Задача иконографии – обнаружить это единство на уровне изобразительного образа, и архитектура, как уже говорилось, представляет собой образ обращения с этой изобразительностью, способ, инструмент доступа, все того же проникновения, метафора, облегчающая понимание все той же диалектики внешнего и внутреннего, когда внутреннее – это вместилище и самого смысла, и тех образов, что за него «отвечают». Более того, каждая вещь, если она мыслится символом, содержащим и передающим «Слово Божие», тоже может быть уподоблена собору в малом, и степень этой «малости», масштаб детализации, степень членения может быть почти что бесконечной. Именно это положение позволяет Малю весьма скрупулезно исследовать всю символику вещей, как она отражена в изобразительной декорировке собора, начиная с растительности и заканчивая весьма заметными представителями животного мира (слонами например). Существенно другое: описательные усилия Маля, направленные на конкретные цели выяснения, например, источника сюжетики того же собора в Лане, сочетаются с довольно серьезными наблюдениями обобщающего свойства. Эти наблюдения должны быть нам весьма полезны, ими-то мы и займемся[231].
Сам же Маль формулирует проблему: какова степень участия искусства в подобной философии и в какой мере животные формы, украшавшие собор, мыслились символами. Другими словами, как возвышенный символизм соединялся с персонажами «Физиолога» (то есть бестиария). Ответ заключен в нескольких наблюдениях. Первое из них состоит в том, что литературный источник, из которого черпает силы иконография, обеспечивает адаптацию подобного «анимализма», литература, так сказать, облагораживает этих тварей, делает их литературными персонажами, а не просто какой-то нечистью. Главное же другое: существует не просто литературный, а поэтический источник – «Speculum ecchlesiae» Гонория Отенского (XII в.). Этот текст в высшей степени символичен в отношении наших интересов: он представляет собой мнемонический сборник зарифмованных проповедей, предназначавшихся для запоминания. Так что память – тоже своего рода зеркало, в котором хранятся отпечатки-воспоминания. И соответственно, собор хранит в себе изображения, содержащие доктрину, которая, подобно печати, оставляет «след в памяти и разуме»[232] Добавим, что след остается и на уровне воображения, если речь идет о поэзии, пусть и чисто методического свойства. И это значит, что в соборе заложена и чисто творческая энергия, потенциал фантазирования, который отчасти свободен от схем, правил и предписаний символизма. Для Маля это повод подвергнуть критике тех представителей старой, то есть романтической, иконографической школы, которые как раз были совсем не свободны от власти символа, находя его и там, где его быть не могло[233].
В связи с критикой подобного тотального символизма Маль обращается за поддержкой к св. Бернару Клервосскому, который, как известно, резко критиковал увлечение монстрами и прочей экзотической атрибутикой. Однако Маль – и это очень показательно – уточняет, что речь все-таки идет о романском искусстве, где образность, в том числе и фантастическая, была вторичной, «чисто декоративной». Ее источник – античные, византийские, арабские и даже иранские мастерские миниатюристов, ткачей и прочих ремесленников, и их значение зачастую было недоступно западным художникам. Это копии с чисто декоративными, орнаментальными функциями, лишенные первоначального значения. Другой источник подобной образности – варварский мир, из которого, быть может, и совсем древние монстры проникали в сознание раннесредневекового человека и «выныривали» из его глубин сразу, например, в ирландскую миниатюру. Скульптор же готический «творил мир новый», он смотрел на мир «удивленным взглядом ребенка»[234].
Эти рассуждения имеют прямое отношение к проблемам иконографии в том смысле, что для Маля копия – это всегда имитация, нечто недостоверное, механическое, неосознанное, с утратой первоначального смысла, и поэтому это уже не есть символ, а чистая орнаментика. Это значит, что повторы, заимствования не подлежат символической интерпретации, они предмет уже не иконографии, а, например, истории вкуса[235]. Другими словами, символ должен быть столь же оригинален, как всякое произведение искусства. Что обеспечивает эту самую оригинальность? У Маля вполне четкое представление об этом: непосредственный взгляд на вещи. Таковым обладает готический мастер, в отличие от романского[236], и с ним связано создание именно художественного произведения. Но откуда берется столь же оригинальный смысл подобного произведения? И здесь источник оригинальности и, соответственно, подлинности, достоверности – литературный текст, произведение словесного искусства, лучше всего – поэзии.
Другими словами, на уровне «зеркала природы» обнаруживается известная двойственность готического искусства, в котором непосредственные наблюдения за сотворенным миром были важны и ценны уже сами по себе, безотносительно к символическим и декоративным соображениям. Это не отменяет использования животной и флоральной образности в аллегорических целях. Но важно другое: теперь уже сам собор мыслится как «эпитома мира и, соответственно, как место, в котором Божии создания обретают свой дом»[237].
Так Маль открывает непосредственный смысл архитектуры. Это место, пространство, которому художник может доверить свои произведения, ибо в соборе присутствует творческое начало, здесь Творец встречается с собственным творением и обнаруживает его тоже творческим, сотворческим, подобным Себе благодаря свойственному истинному художнику чистому, доверчивому, неиспорченному и непосредственному, то есть детскому, благоговейному и внимательному взгляду на сотворенный мир. Собор и есть зеркало этого мира, и в нем тварные художественные вещи чувствуют себя как дома, они реально «заселяют церкви».
Итак, дела человеческих рук могут вселяться в собор, который дает им место, находит уместным включать их в свое пространство: будучи «видимой формой» мысли и веры, собор, так сказать, не гнушается и «работы, произведенной руками». Тем самым именно в соборе совершается единение свободных и механических искусств, чему и посвящена глава, именуемая «Зеркало просвещения».
Зерцало художественное
Именно в конце этой главы, содержащей подробное описание атрибутов и способов изображения всех традиционных искусств, мы находим выражение «собор учит нас…». Таким образом, после разговора о работе во всех ее формах, обнаруживается и тот труд, который совершается собором, его прямое функционирование, а именно – проповедь, дидактика и просвещение. Иначе говоря, иконографическое усилие имеет и обратное действие: с помощью иконографии архитектура способна общаться с внимательным зрителем, отвечать на его нужды – и с преизбытком, фактически возвышая его до нового интеллектуального уровня. Изобразительная символика позволяет не только говорить о вещах неизобразимых, но и слышать о них нечто. Так чему все-таки учит собор? «Труд и знание суть инструменты внутреннего совершенствования человека…»[238].
Значит, можно сказать, что зеркало дидактическое связано с подражанием, то есть с имитацией, но уже со стороны не художника и его художества, а со стороны того, кто ему предстоит. Подобная ситуация предполагает своеобразную зеркальность души…
То есть собор способен сместить внимание с внешнего на внутреннее. Ведь на самом деле «добродетель есть цель и любого труда, и всякого знания»[239]. Что же происходит и с художником, и с собором, если действительно обратить взор внутрь, в человеческую душу? Ответ на этот вопрос содержится в главе, посвященной «зеркалу морали».
Зеркало битвы
И снова общую смысловую ситуацию определяет письменный источник, и опять – поэзия, на этот раз «Психомахия» Пруденция, где в аллегорической форме представлена «внутренняя битва» между добродетелями и пороками.
Итак, сражение совершается в душе, а скульптура, иллюстрирующая эту поэму, помещается в соборе, из чего следует, что и собор есть образ души. Причем существенно, что эта скульптура помещена на соборе, снаружи его. Психомахия предваряет вхождение человека в собор, условие его проникновения внутрь – именно предварительное созерцание добродетелей и пороков на фасаде, усвоение увиденного, его уразумение и сохранение[240]. После этого можно войти – и совершить акт метафорического переноса: теперь иконографически явленное значение переносится внутрь собора, делается его содержанием в буквальном смысле слова[241]. Соборная поэма пишется на фасаде, который в данном случае тоже есть род книги, можно сказать, набор инструкций, ключ, отверзающий внутреннее содержание собора. И осуществляется это посредством функций сознания, выступающего в роли медиума. Источник же смысла – поэтический текст, который усваивается последовательно и богословами, и другими поэтами, которые, по опять-таки метафорическому выражению Маля, тоже участвуют в битве, втягиваются в нее, ибо не могут устоять перед воздействием этой драмы.
Наконец, в бой вступают и художники, начиная сражение с текста, так как вначале происходит иллюстрирование манускрипта (между прочим, Маль и сам подобен иллюстраторам рукописей, когда детально и поэтически пересказывает сюжет поэмы Пруденция).
И только под воздействием традиции иллюминирования к «Психомахии» приобщаются и скульпторы, и мастера витражей. Так что фактически собор – только часть битвы, то есть драматического действия, в котором участвуют все прочие производители и потребители текстов. Собор – это та сцена, в пространстве и декорациях которой совершается битва за человеческую душу. Впрочем, Маль отмечает, что к XIII веку творческая сила поэмы ослабевает. Теперь изображается не конфликт, а лишь триумф добродетелей. Это уже только «возвышенный спектакль»[242].
И опять в конце главы – образ собора проповедующего, в данном случае отвечающего на вопрос: необходимо ли ради достижения добродетелей удаляться от мира, или и в повседневной жизни возможна победа над пороками? Ответ собора (например, Шартрского) состоит в наглядном доказательстве того, что жизнь активная дополняется жизнью созерцательной. Главное – выбрать из всех многообразных жизненных путей тот, что ведет человека к Богу[243]. Вне всякого сомнения, проповедь здесь произносится хотя и от имени собора, но самим Малем. Поэтому если иконография – средство выявления смысла собора, то сам собор тоже может быть использован инструментально, как способ обнаружения такого смысла, который не ограничивается определенным историческим временем, но имеет актуальность и для современного человека, неважно, кто он, просто читатель или ученый историк-иконограф. Чуть раньше[244] Маль замечает, что символ не может быть понят до конца, ибо в нем заложен момент трансформационный, момент смысловой динамики, открывающийся по мере истолкования того или иного образа. Как нам кажется, значение и назначение соборной архитектуры состоит в том, чтобы поддерживать эту динамику, обеспечивая переход, «транзитивность» смысла, который способен доходить и до современного зрителя и читателя, открывающего в себе жизнь символов как конфликт добродетелей и пороков, как, в конце концов, «конфликт интерпретаций»[245].
Таким образом, Маль через постижение «человека вообще, человека с его добродетелями и пороками, человека с его искусствами, науками, рожденными его гением», приходит к человеку в «его жизни и действии»[246], то есть к истории, понятой, впрочем, тоже весьма конкретно – как история спасения, – понятой, значит, истолкованной под определенным углом. Поэтому описание Священной истории, как ее «излагает собор», включающей в себя «три акта» (Ветхий и Новый Завет, история Церкви), предваряется изложением теории истолкования, начиная с Оригена. Речь идет об уже знакомом нам аллегорически-типологическом методе понимания событий Ветхого Завета как предвосхищения и предварения Евангелия. Маль называет этот метод «совершенно ортодоксальным», напоминая, что лишь Тридентский собор (не без влияния протестантской экзегезы) стал предпочитать принцип буквального истолкования[247]. Смысл подобного прообразовательного подхода заключается в том, что всю историю Откровения необходимо рассматривать как «единое гармоничное целое» (это «точка зрения Бога», то есть «аспект вечности» внутри истории). И Ветхий Завет обретает смысл только в соотношении с Новым. Крайне существенно, что такая позиция точно соответствует Евангелию, где уделяется достаточно внимания свидетельствам, знамениям сбывшихся пророчеств, прежде всего – о пришествии обетованного Мессии, Который и Сам, впрочем, прибегал к языку притч, то есть иносказания. Именно эта тенденция была подхвачена александрийскими богословами Климентом и Оригеном, опиравшимися, как известно, на Филона.
И вот, вчитываясь в весьма подробное описание Малем знаменитой экзегетической теории, мы снова обнаруживаем полезные нам архитектонические ассоциации и образы, позволяющие увидеть сквозь аллегорическую изобразительность сам собор как условие и цель всякой иконографичности.
В качестве аксиомы аллегорического метода принимается то допущение, что любой текст, и особенно текст Св. Писания, не односложен, он трехчастен. Обоснование подобной как бы трехслойности заключается в постулате, что Писание есть единое целое, сравнимое с единством человеческой природы, в которой заложен образ Божий. Человек состоит из трех частей, тела, души и духа, поэтому и текстуальный, словесный образ тоже тройной: значение буквальное, моральное и мистическое. И чтение текста Писания состоит в раскрытии смысла, в снятии покрова буквального смысла, в обретении «скрытого сокровища позади буквы», если выражаться словами самого Оригена, цитируемого Малем[248]. Впрочем, следует сделать вслед за великим александрийским богословом одну оговорку: не всякий текст можно толковать на всех трех уровнях. Есть тексты, имеющие только буквальный смысл, есть – только моральный. Фактически одно лишь Писание содержит в себе все три уровня сразу.
Другими словами, буквальному смыслу соответствует тело, и если архитектура со всей очевидностью телесна, то, фактически, преодоление буквальности связано с избавлением от архитектурного начала, с удалением его на задний план. Архитектура мыслится «по умолчанию», как нечто невидимое или хотя бы прозрачное. Это несколько противоречит методу Маля в том виде, как мы попытались его реконструировать.
Ориген на самом деле был очень рано скорректирован усилиями Иллария Пиктавийского, Амвросия Медиоланского и, конечно же, Бл. Августина. Тело столь же свято, как и душа, поэтому священным является и буквальный смысл, от которого вовсе не надо избавляться. Более того, согласно Августину, именно буквальный, то есть исторический, смысл только и формирует единственно надежное основание для аллегории, только факты обеспечивают восхождение к мистическому смыслу текста.
Собственно, Средние века мало что добавили к этому святоотеческому учению. Можно вспомнить только Исидора Севильского, сравнившего текст с лирой, струны которой могут иметь бесконечный резонанс. Так что, подводит итог своему экскурсу Маль, в XIII веке, когда художники своими творениями украшали соборы, ученые богословы учили народ ex cathedra, что «Писание в одно и то же время и факт, и символ». Трехчастная схема преобразилась в четырехчастную: историческое значение обеспечивает знание фактов, аллегорическое являет Ветхий Завет как «префигурацию» нового, тропологическое значение снимает покровы буквы с истин морали, а анагогическое «предвосхищает тайну будущей жизни и вечного блаженства». Итак, аллегорическая традиция – сквозная в истории Церкви, и вопрос заключается в том, чтобы понять механизм переноса этого вида экзегезы в область искусства.
Этот механизм заключен в последовательной интерпретации образов Ветхого Завета как образов прозрачных, сквозь которые просвечивает тот или иной образ новозаветный[249]. Это было делом схоластов, имевших навык именно такого способа чтения текста Писания. Художники, в свою очередь, имели навык, опыт следования за такого рода интерпретацией, облаченной порой в поэтические, то есть привлекательные, формы (все то же Speculum Ecchlesiae Гонория Отенского). Маль говорит о параллелизме усилий ученых и скульпторов, причем последние строго следовали за текстами словесными, имея их в качестве образцов – как для непосредственного иллюстрирования, так и для собственного мышления, восприятия священного смысла.
Самое же существенное, что эти изобразительные усилия по воплощению ветхозаветной тропологии освящены были образом Христа, вокруг Которого совершались все евангельские события и вокруг Которого в скульптурах и витражах соборов группировались те или иные образы. Эти образы, по удачному выражению Маля, образовывали своего рода via sacra, ведущую ко Христу[250]. Приведя многочисленные примеры воплощения образа Христа, Маль приходит к поистине фундаментальному выводу, что средневековый христианин постоянно пребывал под сенью образа Спасителя. Верующий современник соборов видел Христа повсюду и повсюду к нему стремился, вычитывая Его Имя на каждой странице Ветхого Завета.
Можно сказать, продолжая мысль Маля, что это уже символизм восприятия и мышления, то есть интерпретации in toto, и это действительно «ключ к пониманию большинства творений Средних веков, как художественных, так и литературных». Без этого ключа они могут показаться просто «несвязными». Все вместе это образует единую «великую священную драму», в которой все искусства объединены ради одной цели – религиозной проповеди, обращенной к народу[251].
Итак, тропологическое значение, порождаемое актом соотнесения двух событийный рядов (ветхо– и новозаветного), есть результат именно интерпретационного усилия, но эта интерпретация особого рода. Ведь недаром речь идет не только о богословских, но и о богословско-поэтических и одновременно поучительно-проповеднических текстах, имеющих целью внушение некоторых, прежде всего моральных, истин, а не просто научение им. Такого рода тексты предполагают некоторую аудиторию, и первыми среди поучаемо-внушаемых были как раз художники, творцы скульптурного и витражного убранства соборов. Их отличие от простого люда, тоже внимавшего наглядно-символической проповеди, заключается в одном немаловажном обстоятельстве. От них требовалась активная и творческая реакция на содержание соответствующих текстов. Они тоже оказывались «библейскими комментаторами»[252], но в процессе и после того, как изготовляли свои творения, которые и были, как мы уже говорили, и средством, и результатом этой одновременно и вольной, и невольной экзегезы в камне и стекле. Другими словами, они оказывались если не авторами, то, во всяком случае, соучастниками всех тех событий, что разворачивались и, главное, актуализировались с помощью аллегорически-тропологического истолкования, когда «символ и история встречались»[253].
Ветхий Завет оживал в соотнесении с Евангелием, действие Промысла и участие в спасительной истории самого человека – все это происходило, разворачивалось перед глазами зрителей, которые поэтому реально были свидетелями драматического действия. И сцена, пространство этой драматургии – сам собор[254].
Зеркало подлинной реальности
Поэтому интересно выяснить, что происходит с этой драмой, когда иконография, ведомая описанной нами системой зеркал, достигает «средней точки истории», то есть Евангелия. Все прежде бывшее – это «век символа» по преимуществу, который сменяется «веком реальности», прежде только бросавшей тень на прошлое, а теперь превратившейся в вечно длящееся настоящее, ибо история достигла Христа, в Котором все «начинается заново». Евангелие – это точка покоя, равновесия относительно не только истории, но и смысла, ибо теперь, как кажется, нет нужды в символах, все обретает характер буквальной, прямой реальности, реальности Откровения.
В земной жизни Христа можно вслед за средневековыми экзегетами выделить три периода: детство, общественное служение, страдания. Но, как тонко замечает Маль, в литургическом сознании, выразившем себя в календарных событиях церковной жизни, не случайно совпадали три события: Поклонение волхвов, Крещение и Пир в Кане Галилейской. Все это был один праздник, именовавшийся очень точно Богоявлением. «Поэтическое чувство мистических аналогий» смыкалось здесь с «простой мыслью» о том, что вот здесь и сейчас Бог является человечеству. И точно так же – через изображения – видно, что и, например, сцены Искушения и Преображения тоже связаны друг с другом – и в иконографии (помещались рядом), и церковном календаре (связь между ними – через аналогию с Великим постом, так как Искушение, бывшее после 40-дневного пребывания в пустыне, являет собой предвосхищение Страстей, равно как и Преображение – предвосхищение Воскресения).
Другими словами, теперь, внутри Евангелия, иконография обретает смысл через соотнесение с Литургией, содержащей в себе, помимо всего прочего, и евангельские чтения. Таким образом, происходит и своеобразное преображение литературного источника: теперь это уже не непосредственно богословские писания, а напрямую текст самого Св. Писания, слова Которого звучали в пространстве собора, являвшегося одновременно и пространством Литургии. Но этим не отменялись ни богословие, ни аллегория, ни символ, так как и в пространство евангельских чтений все равно входили и вписывались тексты литургистов и комментаторов. Так что искусство оставалось «воплощением богословия и Литургии»[255].
И дело даже не в одних текстах, но в самой евангельской ситуации, в центре которой – Сам Христос, каждое действие и каждое слово Которого вмещает в себя всю полноту значения, предназначенного и для прошлого, и для настоящего, и для будущего. Поэтому недостаточно «в простоте», то есть буквально, читать Слово Божие. Оно по своей природе включает в себя «череду тайн», бесконечность интерпретаций, ибо Само есть бесконечность.
И опять нам видится присутствие «безмолвной» семантики собора за подобной усложнившейся иконографической ситуацией, когда искусство вынуждено реагировать на «ускользающий символизм» прямого Богооткровения, когда смысл и истории, и человеческой жизни концентрируются в пределах литургического, сакраментального пространства, которое вмещает в себя, концентрирует в себе и молитву, и чтение Евангелия, и ритуал, и проповедь, и богословие, и поэзию, и – все то же изобразительное искусство. Собор в данном случае обеспечивает все подобные «витки» символизма «проводящей средой», позволяющей мыслить и переживать тайну и наглядно, и телесно, и единовременно – в настоящем, in presentio. В присутствии мистического тела Церкви, воплощенного в телесности архитектуры, и в Евхаристическом присутствии Самого Христа, Воплощенного Слова Божия.
Как нам кажется, сам процесс иконографических построений, если понимать под ним вслед за Малем поиск изобразительных аналогий, иллюстраций-воплощений конкретных именно экзегетических идей, то есть опыта прочтения Писания, – сам этот процесс ведет от прямых, буквальных, исторических аналогий, буквальных иллюстраций-описаний, к скрытым уровням иконографии, можно даже сказать, – к уровням не-изобразимого (непосредственно а-иконического) смысла.
Одна предельно концентрированная богословская идея по поводу еще более предельного (фактически беспредельного) евангельского события помогает нам понять эту, если так можно выразиться, механику. Речь идет, конечно же, о Воскресении и об изображении этого воистину центрального, «осевого» момента евангельской истории.
Впрочем, Воскресению предшествовала Голгофа, и уже здесь мы видим предельно ясные свидетельства об архитектурной символике, как бы обнаруживаемой, можно сказать, утверждаемой самой мыслью о Распятии, которое, что особенно существенно, есть событие, происходившее во времени, на определенном месте и, самое главное, в присутствии некоторых лиц, главное из которых – Дева Мария, являющая собой персонификацию все той же Церкви. Маль специально говорит, что Дева изображается в сцене Распятия в «особый момент, когда она стоит у подножия Креста». Место и время собраны в одной точке, более того, именно Дева являет устойчивость, Она «одна сохраняет постоянство», когда все прочие утратили веру.
Пространственно-темпоральные моменты, характеризующие положение и состояние героя, то есть определяющие содержание некого данного образа, проявляются и в связи с фигурой св. Иоанна Богослова. Уже св. Григорий Великий объяснял положение его по левую руку от Распятого тем, что он, как это не покажется странным, символизирует Синагогу, ведь по Воскресении он хотя и приблизился первым к Гробу, но не заглянул в Него, уступил первенство Петру, подобно тому как Синагога уступила место Церкви. Подобные пространственно-смысловые ситуации, отраженные в экзегезе и в иконографии, фиксируют одновременно и сугубо архитектурные отношения, соединяющие, объединяющие и эпизоды евангельского повествования, и уровни и типы значения. Крест сам по себе архитектоничен, и любая сцена Распятия композиционно являла «абсолютную симметрию и математическое совершенство», что проецировалось и на символические отношения. Замечательный пример – миниатюра из Hortus deliciarum, где «в одной сцене сгруппированы вместе элементы, которые обычно оказываются разделенными». Что позволяет мыслить в единстве все эти разнородные символы? Ответ расположен вверху композиции, где помещено изображение разодранной завесы Храма. Итак, храмовая символика в соединении с архитектонической композицией – все это следы незримого присутствия собора, организующего, собирающего начала. И вся эта символическая сцена, смысл которой – противопоставление Церкви и Синагоги, по мнению Маля, воспроизводится на фасадах готических соборов. Соответствующие фигуры-персонификации служат целям сообщения, обращенного и к иудеям (для Синагоги Библия утратила значение), и к христианам (для Церкви Библия уже не есть собрание загадок)[256]. Более того, Церковь вправе расширять смысл, заложенный в Евангелии, что особенно заметно именно в восприятии, понимании и воспроизведении события Воскресения.
Крайне характерно для понимания динамики и смысла «иконографического процесса», что романское искусство практически не знало самой идеи, что можно изображать Воскресение, так как это событие впрямую не описано в Евангелии. Маль указывает на влияние литургического богословия и конкретно богослужения Пасхи[257] как на объяснение того факта, что готика в XIII веке уже свободно изображает это событие и сразу же, в известной схеме, Восстающего из Гроба Христа, где особенно значимый элемент – отваленный камень. Этот камень мыслился и изображался как символ: он есть образ тех скрижалей Завета, на которых помещен был текст Закона. Он сам есть этот Закон, и как в Ветхом Завете «дух скрывался за буквой», так и Христос на время был сокрыт за камнем. Христос восстает из мертвых, и Закон более не имеет значения.
«Символизм такого рода» – это особый символизм, символизм, снимающий покровы значений, упраздняющий, отодвигающий, подобно камню Гроба, первоначальное, буквальное, прямое, наглядное, дидактически-иллюстративное значение, дабы воздвигнуть на его месте новый смысл, не просто новое содержание, а новый тип смыслового пространства, новое смысловое измерение.
Точно так же архитектура собора до поры до времени пребывает под спудом, под гнетом внешней, почти буквально наружной («фасадной»), то есть предметно-фигуративно-изобразительной, иконографичности, чтобы в определенный момент процесса чтения-созерцания и описания-изложения всей этой образности открыться во всей своей очевидности[258].
Постараемся не упустить этот момент хотя бы по ходу чтения-комментирования книги Эмиля Маля, за которой тоже что-то скрывается, а нечто и обнаруживается…
Обнаруживается, в том числе, и личностное измерение этого нового типа символизма. Недаром же вся подобная иконография персонифицирована, и, более того, подобно тому как событие Голгофы и образ Распятия соотнесены с Гробом и Воскресением, так и образ Христа мыслится, постигается и нередко изображается в единстве с образом Девы Марии. В Евангелии, например, не говорится, что Она присутствовала при Вознесении. Тем не менее с XIII века ее изображение в этой сцене обязательно, и в подобном иконографическом мотиве мы встречаем «схожий тип символизма» (то есть тот, который действует и в сцене Воскресения и подводит нас к символизму сакрального пространства собора, который есть материализация Церкви, как Мария есть ее персонификация: возносясь на Небо, Господь не оставляет своих учеников, но пребывает с ними в Своей Церкви, воплощение которой – Пресвятая Дева)[259].
Очень специфичным евангельским материалом, выявляющим сам способ мышления готического художника, оказываются притчи, которых в Евангелиях ровно сорок, но из которых только четыре оказываются предметом иллюстрирования[260], что вызывает удивление у Маля. Как нам кажется, причина кроется в том, что притча аллегорична и конструктивна сама по себе и не требуется особого усилия для ее наглядного воплощения; поэтому-то «подобные прекрасные истории не вдохновляли готических художников»[261]. Вся, так сказать, «поэтика конструирования» здесь уже задана, но тем более интересно, как же все-таки можно «символизировать аллегорию»? Пример витражей собора в Сансе объясняет нам, что это можно сделать, по словам Маля, очень «простым и прямым», но – добавим мы – характерным способом. Это способ «расширения значения», когда простая история о несчастном путешественнике превращается в повествование о человечестве вообще. Вот замечательный пример почти что школьной, то есть стандартной (начиная с Августина), экзегезы из Glossa ordinaria: путешественник – это человеческий род, покинувший Эдем (Иерусалим) и устремившийся в Иерихон (по-древнееврейски – «луна») – символ непостоянства человека, время от времени теряющего свет истины (ср. новолуние). Разбойники – это грехи, Добрый Самарянин – это, конечно же, Христос, врачующий всякие раны. Витраж, иллюстрирующий подобные идеи, устроен, по меткому выражению Маля, как глоссарий к основному тексту, ведь вокруг трех помещенных в ромбы сцен, воспроизводящих притчу, группируются по четыре круглых композиции, комментирующие притчу с помощью ветхо– и новозаветных аллюзий (например, сцена доставки пострадавшего к хозяину постоялого двора дополняется сценами Христа у Пилата, Бичевания, Распятия и мироносиц у Гроба). «Невозможно дать более ясное выражение схематизма абстрактных идей», говорит Маль. Но следует обратить внимание также и на то, что подобная символическая «диаграмма» оказывается возможной лишь при наличии единого пространства. Внутри его можно выстраивать любые отношения, используя один только прием «группировки по смежности», как выразился бы какой-нибудь представитель гештальтпсихологии. Аллегоризирующему схематизму смысловых отношений внутри теологии соответствует геометризирующий схематизм композиционных отношений внутри топологии, источник которой – все тот же собор. Даже чисто внешне схема витража напоминает если не план собора, то, во всяком случае, травею. Другими словами, иконография оказывается глоссарием и для чисто архитектонических, а не только текстуальных структур.
Эта наглядная иконическая экзегеза помимо прочего выявляет в качестве основополагающего принципа существования иконографии наличие, присутствие в качестве фона («доличного письма») архитектуры, функционирующей в качестве все той же проводящей среды не только между видами изобразительного искусства, но и между видами изобразительности как таковой. Именно архитектура обеспечивает «простой и прямой» переход от вербальной образности к образности визуальной[262].
Вопрос заключается лишь вот в чем: а как же оказывается задействованной, помимо сознания, рассудка, такая способность человека, как прямое эмоциональное переживание? Ведь не случайно отмечен был персонифицированно-персональный, то есть личностный, аспект восприятия иконографии.
Зеркало апокрифического аффекта
Маль готов эту непосредственную восприимчивость наделять социальной размерностью, приписывая ее «простому народу», склонному к грезам и легендам[263]. По мнению Маля, для чувств предназначено было содержание всякого рода легендарных историй, апокрифов, рожденных человеческим воображением и рассчитанных на те самые чувства, которые не удовлетворялись чисто рассудочной пищей строгого богословствования. Апокрифы, «заряженные мыслью и мечтой», требовали особого символизма, не похожего ни на комментарий, ни на аллегорию. Особенно это касается раввинистической традиции, этого, так сказать, «нового Ветхого Завета», полного «грез и фантазий». Эти истории насыщены особым светом, происхождение которого – раскаленные пустыни Азии, а назначение – «творить нереальный мир миража»[264].
Эти курьезные истории, наивные и непосредственные в своей откровенной сказочности, хотя и были наполнены «реальной витальностью», но тем не менее, мы не много найдем их в изобразительном искусстве готики, уж больно буквальными и исчерпывающими в своей онейрической конкретике воспринимаются они, – не оставляя места опосредующим функциям разума.
Другое дело – апокрифы новозаветные, восполнявшие «молчание» Евангелия, которое они как бы продолжали и не просто доводили до разумения простого человека (это касается повествовательной стороны), но и действовали на его чувства и воображение. Новый Завет обретал своего рода трехмерность, можно сказать, вертикаль аффекта, устремленную вверх и вперед динамику непосредственного порыва чувств.
Эта непосредственность народного чувства восприятия священной истории особенно заметна при переходе к Новому Завету, где, казалось бы, все и так дано с исчерпывающей прямотой и определенностью; но тем не менее, именно легендарная версия истории, например, земной жизни Спасителя, приводит нас не просто к непосредственности восприятия Евангелия, но к непосредственности собственно церковной жизни, ибо, по мнению Маля, только таким путем мы приходим к истории раннего христианства. Как раз в это первоначальное время существовало «внутреннее знание» земной жизни Господа, и последующие апокрифические, то есть не канонические, сведения – ключ к уразумению того факта, что верующее сознание всегда нуждалось в живом действии прямого воображения, дабы представлять себе Бога посреди жизни.
Иными словами, когда мы обращаемся к иконографии апокрифического предания, мы имеем дело с непосредственным и, соответственно, трудно верифицируемым опытом. Эта трудность и одновременно достоверность подобного опыта связаны и с таким очень специфическим обстоятельством, каким оказывается устное предание.
И не случайно, что вся подобная апокрифика имеет в виду по преимуществу не просто земную жизнь Спасителя, но Его детство, о котором действительно мало что сказано в Евангелии. Детскость предполагает незамутненность и неискаженность опыта восприятия, и, обращаясь к опыту ранней Церкви, мы пытаемся вернуться к истокам не только церковной жизни, но и христианской изобразительности как таковой. И, как выясняется, эта изобразительность связана с активностью воображения, направленного на восполнение и расширение опыта чтения Евангелия. Этот опыт, по мнению Маля, обогащается прямым и неискаженным религиозным чувством, собственно говоря, только и определяющим содержание христианского, то есть религиозного, искусства.
Другими словами, именно живое чувство и детская непосредственность впечатления суть истоки сакральной образности, и, как ни покажется странным, наивное воображение дает представление о принципах, то есть началах, христианской изобразительности[265].
Но среди всего корпуса апокрифических преданий только одна сюжетная линия имеет прямое отношение к архитектурной символике. Маль прямо говорит, что именно «смерть Бога, тайна из тайн – истинная душа всего средневекового искусства, а Крест можно видеть повсюду, во всем символическом плане собора»[266]. «Постоянная медитация на тайну Страстей» порождала целую череду как апокрифических текстов, так и иконографических мотивов[267].
Некоторые из этих мотивов крайне симптоматичны применительно к архитектурной символике. Один из мотивов порожден упоминанием Завесы Храма, раздранной в момент Смерти Спасителя. Храм Иерусалимский упраздняется в этом событии, и поэтому, например, Дионисий Ареопагит, согласно все тому же Винсенту, наблюдая землетрясение, докатившееся до Афин, тогда-то и воздвиг алтарь «неведомому Богу». Храмовая символика в свете Страстей оказывается уже вроде как кажущейся символикой, теряющей свою силу и значение, смещающейся, сдвигающейся. В той мере, в какой христианский храм, в том числе и в виде готического собора, удерживает в себе ветхозаветную храмовую семантику, в нем задействован аналогичный механизм смещения, упразднения видимого ради достижения незримой, но предузнаваемой истины, которая заключена в непосредственном богообщении, в прямом присутствии Христа. И воплощение, осуществление этой истинной тайны – Литургия. Отсюда и вся храмовая сюжетика, тематика и символика предания о Св. Граале.
Впрочем, эта «исчезающая» символика храма, готовая сконцентрироваться, «сконденсироваться» и сгуститься в одной пространственной точке, обозначенной алтарем, – вся эта символика исчезает и по другой причине: апокрифы по своей природе, по своей функции вербального даже не комментирования, а восполнения, продолжения, обогащения и смыслового расширения евангельского текста выглядят чем-то иллюстративно исчерпывающим и самодостаточным, не нуждающимся ни в какой дополнительной тектонике, все ограничивается уровнем текстуального синтаксиса, повествовательных структур. Не случайно так обширны и так описательны у Маля главы, посвященные апокрифам. Перед нами своего рода пересказ этих столь завлекательных историй, действующих непосредственно на воображение, которое и становится условием появления изображения, не нуждающегося более в том, чтобы быть прописанным в пространстве собора[268].
Этим изображениям достаточно пространства воображения, а соборные пространства – это просто условия и средства своего рода экспонирования подобных художественных объектов, продуктов прямого, неопосредованного иллюстрирования текстов, обязанных своим существованием не каноническому тексту Писания, то есть Откровению, а плоду пускай и благочестивого, но все же воображения, фактически – религиозной поэзии. Нарративно-экспрессивные построения заменяют (во всяком случае дополняют) построения соборные, а значит, литургические, экзегетические, проповеднические и т. д.
Поэтому в изобразительном искусстве, «обслуживающем» апокрифические фантазии, действуют на самом деле не «записанные легенды», и не устная традиция, а нечто такое, что проявляется в гораздо большем разнообразии мотивов, в игре воображения. Это, собственно говоря, «художественная инвенция», зародившаяся уже здесь и именно в связи с апокрификой. Собор фактически заменяется сначала строительной артелью, все еще связанной с самим собором, с процессом его возведения, а затем – непосредственно художественной мастерской. Маль хочет сказать весьма фундаментальную вещь: подобно тому как существует устная или письменная сюжетная традиция, точно так же, несомненно, нетрудно вообразить и то, как «иконографические руководства», сборники образцов и т. д. передавались из поколения в поколение. Это уже традиция собственно художественная, и апокрифическая традиция для нее – как бы питательная почва. Это традиция экспрессивных форм, а не иконографических схем, и, что особенно характерно, именно здесь мы видим проявление эмоций, особым образом дополняющих бесстрастное, по мнению Маля, евангельское повествование[269].
Так Маль, незаметно для себя, фактически приходит не только к умолчанию по поводу архитектурной символики (если не к ее забвению), но и к той идее, что постепенно происходит замена иконографии свободным творчеством. Довольно типичная мысль для всего XIX века (примененная, правда, к готике, а не к Ренессансу), но характерно, что наш ученый приходит к ней в том момент, когда исчерпана, казалась бы, именно тема собора, тема архитектуры. И если прежде собор был важным действующим лицом в иконографическом повествовании, то теперь Маль пользуется выражением «источник вдохновения» – это касательно легенд, преданий и т. д. Художник в такой семантической ситуации уже не собеседник и сотрудник богословов, а слушатель – и не столько проповедников, сколько менестрелей[270].
Зеркало времени и зеркало святости
Действие зеркала истории, понятой как история Откровения, переходит от процесса восполнения евангельской истории посредством апокрифов, от истории сюжетов с участием священных лиц, к лицам освященным, к жизнеописанию исторических персонажей, лиц непосредственно действующих, деятелей истории, деяния которых, собственно, и составляют содержание этой истории. И эти лица, как сразу же, в начале главы, без обиняков говорит Маль, не императоры и короли, а святые – «отцы Церкви, исповедники и мученики»[271].
Мы сразу обращаем внимание на переход к новому уровню иконографического описания-повествования, к новому измерению изобразительности, связанному с человеческим существованием и существованием активным, деятельным, касающимся, вполне понятно, и зрителя, посетителя храма и участника всего того, что в нем совершается.
И как святые выстраивали историю Церкви, земную историю Града Божия[272], так и их образы в порталах и окнах готических соборов напоминали о едином и всеобъемлющем образе Церкви, о ее иконе, которой являлся собственно собор.
Так что мы возвращаемся из пространства сна, грезы, восполнявшей конкретную реальность Евангелия, к миру, который есть, собственно говоря, само Евангелие в действии, в историческом, то есть временнóм, воздействии на человека. Плоды этого влияния, присутствия Слова в человеческой жизни – жития святых, в свою очередь, присутствующих после своей земной кончины в жизни верующего, носящего, например, имя своего святого покровителя или почитающего место, связанное с его именем, или поклоняющегося его реликвиям, пребывающим в том или ином храме[273]. Иначе говоря, зеркало истории, отразившееся в той же Legenda aurea, отражает, в свою очередь, саму человеческую жизнь, и наши разговоры (вслед за Малем) об иконографии не могут не касаться такого момента, как эффект воздействия на зрителя, пребывающего внутри церковной истории, истории святых, хотя бы потому, что он – внутри храма, он и его посетитель, и участник. Он – часть храма. И то, что он имеет возможность в нем созерцать, а также и слушать, и даже касаться руками, – все это касается его непосредственно, вещественно-осязаемо, это часть его жизни, одно из измерений его существования. Поэтому мы вправе надеяться на возвращение – после временного апокрифического забвения – сугубо архитектурной символики в наше повествование, следующее маршрутом, проложенным Малем.
Итак, образы святых – сначала образы вербальные, затем и визуальные – это самые естественные, прямые и действенные объекты внимания средневекового «пользователя», зрителя и слушателя в одном лице. Это сфера непосредственного и активного контакта и на уровне чувств, и на уровне мыслей, и то, что происходит в этой области, обладает особым жизненным, религиозным смыслом, который мы постараемся извлечь и уяснить, вновь приглядываясь и прислушиваясь к той проповеди, что составил и воспроизвел французский иконограф и церковный деятель.
Выбирая, по своему обыкновению, ведущий источник – в данном случае «Золотую легенду» Иакова Воррагинского, – Маль подчеркивает то обстоятельство, что это сочинение – все тот же компендиум, отражение и фокусировка продолжительной и обширной агиографической традиции. И потому-то в этом труде одного человека отразилась «вся полнота христианства», и части «Легенды» «читались публике в церквях и иллюстрировались в окнах». Это очень емкая и практически символическая фраза, вобравшая в себя и иконографический метод Маля, и сакрально-жизненный опыт посетителя собора.
Все дело в том, что чтение текста в церковном пространстве и образное воспроизведение его на плоскостях, на границах этого пространства – это вся та структура отношений между архитектурной и фигуративной образностью, что характерна для готического собора в частности и для литургического пространства вообще.
Итак, архитектура предназначена для чтения вслух, это пространство речи. Те же окна, украшенные витражами, а также проемы-порталы, снабженные скульптурой, – это область зрения, наглядная (а значит, доступная) фиксация, «остановка» речи, пространство языка, то есть правил, парадигм. Кроме того, изображения, помещенные на поверхностях собора, обозначают и переход, границу между пространством трехмерным и двухмерным. При этом граница задается актом архитектурного «самоограничения»: окно, проем – это отсутствие архитектурной пластики и, значит, проникновение внешнего пространства, которое почти буквально «заполняет паузу», возникающую в тот момент, когда умолкает архитектура[274]. Существенно, что эти границы прозрачны не только для внешнего пространства, но и для, так сказать, внешней пластики, для тела и его производного – зрения. Изображения витражей пропускают взгляд сквозь себя, тогда как скульптура порталов уступает место человеческой телесности, расступаясь, занимая место по краям, тоже, фактически, по границам.
И эта внешняя, привнесенная, проникающая телесность участвует в соборной образности (и, значит, косвенно в соборной иконографии) несколькими способами. Это и отождествление себя с изобразительностью (скульптура, особенно круглая пластика), и отстранение (витражи), и, наконец, сопоставление и соотнесение с собой, возврат к собственной телесности, самоотождествление через собственный разум (собственно пространство собора, пространство богослужения и проповеди, пространство внимания и слушания). Позволим себе предположить, что за этими разными способами восприятия соборной образности стоят разные модусы самой соборной архитектуры, которые выявляются – напомним, что речь идет о житийных изображениях, – как раз через обращение к личностным параметрам иконографии, к ее жизненно-биографическому измерению.
Именно в соборе предания о святых вопреки или благодаря всей своей фантастичности[275] обретали жизненность, и иконография превращалась в биографию и историографию, встречаясь с живым религиозным чувством, непосредственным воображением и доверчивостью простого сознания, извлеченного из повседневного существования, очарованного и освященного приобщением к реальности собора, его образов и его строя.
Как же все-таки архитектура интерпретировала «Золотую легенду», то есть как, каким образом и в каком обличье святые являлись зрителю? Маль вполне логично находит две «манеры» прославления святых (именно с целью почитания, по мнению нашего автора, появлялись их изображения в соборе). Или изображалась их жизнь в виде серии сцен, рассказывающих эту жизнь, или воспроизводился их облик с возможной их характеристикой. Первая манера присуща, как легко догадаться, витражной живописи, и здесь мы имеем дело с чередой символов, сгруппированных так, чтобы возникло ощущение некоторого сквозного драматического действия (а не просто последовательности сцен). Эта драма исполнена патетики и потому держит зрителя хотя и на расстоянии, но тем не менее, в напряжении, заставляя мысленно следовать за сюжетом и действием. Впрочем, это движение может быть не только воображаемым, но и вполне реальным.
Иное дело – скульптурное изображение, предполагающее остановку зрителя и неподвижное созерцание-предстояние (вместо движения-разглядывания).
Маль позволяет себе сравнение этих двух манер репрезентации с двумя модусами церковного бытия: Церковь воинствующая (витраж) и Церковь торжествующая (пластика). Причем именно скульптура отличается таким качеством, как «идеализм», понятый Малем в весьма конкретном смысле. Речь идет о том, что каждый святой ценен не просто как индивидуум, а как идеал, как носитель вполне определенной добродетели, которую и должен был изобразить готический мастер. Другими словами, его «задачей было изображение души»[276], отраженной в лике святого. Этим определяется и способ восприятия статуи: только лицом к лицу в акте созерцания той реальности, что открывается в этом лице и лике. И эта реальность превышает реальность зрителя, это не просто другая, а бóльшая, более жизненная реальность: «в святых больше жизни, чем во всех прочих людях; только они по-настоящему живы». Мы можем продолжить этот ход мысли: если подлинная, реальная жизнь обретается через добродетели, которые есть дар, нечто привнесенное, добавленное сверх обычного состояния человеческой души, то и подлинный смысл пластики (ее нравственное наполнение) тоже представляет собой внешнюю семантическую нагрузку (или, наоборот, способ очищения, облегчения статуи, избавление ее от бремени прямой миметичности). Но что или кто нагружает пластику этим бременем сверхсмысла? Ответ очевиден – реальность собора.
Иными словами, скульптура обозначает то, что за внешним, материальным обликом вещей и людей, – бóльшую жизнь. И у этой жизни другие свойства, ибо это жизнь вечная. И зритель переходит к реальности, к жизни этих образов, подражая им не столько разумом и телом (то есть узнавая их и отождествляя с вещами внешнего мира), сколько душой, меняя ее свойства, заменяя, вытесняя одни (греховные) другими (обретая добродетели). Это и есть «соучастие в вечной красоте», что возможно при условии подражания «образу Божию», проникновения в «чистую душу»[277]. Скульптура – собор – человек являют единство и целостность бытия, сквозную структуру, созидающая динамика которой действует и на уровне восприятия, и на уровне эмоционально-ментального переживания, и на предельно иррациональных – онтологически-экзистенциальных, но всегда сакральных, то есть освящающих, уровнях.
Подробно и с удовольствием описывая «очаровательные» сюжеты легендарных житийных историй, находя в них просто черты «детскости», Маль наконец задается вопросом о происхождении этих легенд и легко отвечает на него, так как ответ, по его мнению, – очевиден. Эти рассказы суть метафоры, таковыми их мыслил автор-писатель (апостол Фома постепенно превращается в архитектора, ведь апостолы строят здание Церкви из живых камней и т. д.). Но не так воспринимал их человек XIII века, предпочитавший буквальное понимание («ничего не было неожиданным для простой души»[278]).
Но сама проблема не столь проста, как душа средневекового человека. Должно ли искусство быть столь же простым, как прост его зритель, или в нем может оставаться остаток глубокомыслия, не доступный простецу? Не является ли условием восприятия этого искусства неподготовленным зрителем как раз его (искусства) сложность, точнее говоря, многосложность, многослойность, когда лишь верхний слой предназначен для буквального восприятия? Но не окажется ли тогда в этом искусстве момент иллюзорности, кажимости, даже притворства, прямого расчета на популярность, то есть на народность, если понимать это слово опять же буквально. Ответ заключается, видимо, в том, что действие истинной метафоры как раз такого свойства: она действует незаметно, и от простоты непосредственной, примитивной, исходной душа переносится к состоянию простоты искомой, понятой как целостность и одновременно восприимчивость к движению, готовность к перемене.
Одновременно культ святых формировал и культ прошлого. Именно монументы, памятники пробуждали в народе интерес к предшествующим поколениям, благодаря чему складывалось осознание укорененности души в истории. И сам собор воспринимался как «исконно растущее в данной местности растение, которое своей окраской и своим ароматом обязано питавшей его земле»[279]. Меморативные функции собора, вообще церковного здания приобретали очень специфический характер, рассчитанный не просто на учет прошлого, но и на его почитание. При возведении в Париже нового собора Нотр-Дам пришлось разобрать старую базилику св. Стефана (церковь Сен-Этьен), но в тимпане южного портала нового собора (это как раз было место прежней базилики) были помещены барельефы со сценами мученичества св. Стефана. Тем самым память об архитектуре была зафиксирована, но средствами пластики, способной заменять архитектуру при условии совпадения места и при участии воспринимающего сознания. Так что, конечно же, главное условие подобного взаимообмена и взаимозамены архитектурных и пластических образов – не просто память, а реальная локализация этих образов в сознании, которое, в свою очередь, должно быть пронизано чувством истории[280].
Но как быть со святыми, которых невозможно идентифицировать, память о которых ушла? В отношении них задача эта, по мнению Маля, невыполнима. Мы можем иметь дело только с теми святыми, которые локализованы не просто в истории, не просто на местности и даже не в соборе, а в литургических текстах, из чего следует, что наше знание об архитектуре тоже, в конечном счете, имеет свое начало в письменных источниках, к которым восходит и средневековое сознание.
Впрочем, как выясняется, существовали и другие условия появления того или иного святого в убранстве собора. И первое из подобных обстоятельств – это культ реликвий, изучение которого, как выражается Маль, требует от исследователя особой подготовки[281]. Сам ученый демонстрирует более чем просто адекватность в этом вопросе, так как последующие его рассуждения о реликварном аспекте собора представляют собой наиболее существенные моменты его книги и концепции.
Основной здесь постулат, из которого исходят дальнейшие рассуждения, звучит так: «Реликвия обладает сверхприродной ценностью». И это условие задает все остальные процессы, происходящие в пространстве собора, в первую очередь, форму самого собора («присутствие освященной плоти в алтаре определяет облик церкви, содержащей [святыню] и обязывающей архитектуру искать новые формы»[282]). Церковное здание, по сути, становится все тем же реликварием, в позднее Средневековье получившим весьма характерную форму монстранца. Историку искусства, говорит Маль, не пристало пренебрегать реликвиями, он должен помнить, что та же Сен-Шапель, «самая совершенная из построек XIII века», представляла собой раку-ковчег, вмещавшую терновый венец. А «самая прекрасная из всех мистических грез Средних веков, сам sangrail – что это, если не реликварий?»[283].
Другими словами, можно прямо утверждать, что архитектура своим существованием обязана христианскому культу вообще и культу святых в-частности, и потребности хранить святыню и почитать ее материально – в особенности. Но самое существенное, что эти сакральные моменты реализуются в одном главном модусе – в аспекте человеческой персональной телесности и визуальности.
То есть присутствие личной святости в художественном образе святого и в его телесных останках (мощах) выявляет способность и назначение архитектуры быть вместилищем, предназначенным для хранения, сбережения и явления вовне сверхреальности, сверхприродного существования, сверхъестественной жизни. Важно представлять эту ситуацию именно в человеческом измерении: в подобном сакральном пространстве пребывает и «простой человек», и освящающая и преображающая среда проходит сквозь него, пронизывает его, приобщая к миру благодати, причем именно телесно, визуально, оказывая действие на его душу не просто через эстетическое переживание, а через возможность нравственного уподобления тем образам, что предлагает изобразительное искусство. Человек ощущает, переживает себя аналогией, подобием – образом – того мира святых, который открывается ему через архитектурные и пластические, а также живописные (витражные) их эквиваленты, в свою очередь, имеющие «подтверждение» в реликвиях тех же самых святых или просто в посвящении конкретному святому какой-нибудь частной капеллы[284].
Итак, мы имеем дело со взаимообменом архитектурных, пластических и собственно изобразительных свойств соответствующих образов. И происходит этот, можно сказать, интегрирующий иконографический процесс под знаком личностных нравственно-созерцательных усилий – и не только богослова-поэта, и не только художника-скульптора, и не только зрителя-посетителя собора, но и исследователя-иконографа вкупе с читателем-перечитывателем его текстов.
Зеркало истории
Итак, собор – это Град Божий.
С такого утверждения Маль начинает следующую тему своего иконографического изыскания. И эта тема – античность и, соответственно, светская история, связанная с Градом Божиим в, так сказать, обратной зависимости: это место лишь для тех, кто трудился над утверждением Царства Божия; те же, кто заботился о своем благополучии, – Цезарь ли это, или Александр, или даже какой-нибудь христианский владыка – им нет места внутри стен этого Града. Тем более ценно, когда кто-то из них оказывается своим в этом Царстве, например Хлодвиг, Карл Великий или Людовик Святой. Только так – в отдельных личностях – эти два мира пересекаются.
Поэтому неудивительно, замечает Маль, что так мало в соборе следов античности, хотя этого материала могло быть куда больше, если вспомнить, что именно XIII век – эпоха возрождения интереса к языческому прошлому, когда произошло, так сказать, крещение Аристотеля и Платона. Как же все-таки представлена эта тема в иконографии соборного изобразительного искусства? И какое это имеет значение для семантики самого собора? – добавим мы, следуя собственным интересам, которые, впрочем, не совсем расходятся, как мы надеемся, с целями французского ученого.
Несмотря на все оговорки, Маль указывает, что у Винсента можно найти места, которые, как кажется, просто выгравированы в памяти. И эта мемориальность опять же представлена персонально. Собор являет нам великих мужей древности. Сразу замечаем, что именно античность стимулирует в соборе функцию показа-демонстрации, тогда как собственно христианская тематика давала момент преимущественно созерцания-соучастия.
Маль сравнивает французскую готику по части отношения к античности с восточно-христианской традицией, обнаруживая в византийском искусстве больший пиетет и более возвышенное отношение к древности, во всяком случае, в эстетическом ключе (красота в творениях искусства – это всегда качество христианское). Относительно готики трудно отделаться от впечатления, что память о прошлом элементарно утрачена. Изображаются лишь Аристотель и Вергилий, да и то в совершенно нелепом виде, вслед за «басенным» материалом средневековых романов о соответствующих персонажах. Лишь в шутовском, анекдотичном обличье эти «великие классические фигуры» могли быть допущены в Дом Божий[285].
И только один античный образ по праву занимал выдающееся место в изобразительном убранстве собора. Это фигура сивиллы, соответствующей по своему назначению библейским пророкам. Причем из всех сивилл (традиция, начиная с Лактанция и Августина, насчитывает их семь) выделяется сивилла Эритрейская, чей образ имеет и литературное подкрепление в виде известнейшего акростиха (приводится все тем же Августином)[286].
Впрочем, литература не всегда оказывается добрым подспорьем для искусства, и в отношении к языческому прошлому, по мнению Маля, искусство проявило больше мудрости. Имеется в виду традиция приложения к античной мифологии аллегорического метода, выработанного для библейской экзегезы. Это давало довольно причудливые, неожиданные и не совсем безупречные и убедительные результаты. Особенно курьезным выглядел Овидий со своими «Метаморфозами», прочитанный в евангельском духе неизвестным автором «Романа о притчах Овидия Великого» (начало XIV века). Или как оценивать, например, Юпитера в обличье быка с Европой на спине, в котором можно было при желании усмотреть Агнца, Несущего грехи мира? Или нимфу Тетис, вручившую своему сыну Ахиллу оружие против Гектора, предобразив тем самым Деву, даровавшую своему Сыну человеческое естество и т. д.? Из средневековых художников никто, кроме авторов миниатюр, не соблазнился подобными сомнительными параллелями между языческими баснями и священной историей, и лишь Ренессанс перестал гнушаться этим «сивиллообразным», как выражается Маль, подходом к мифологии, понятой как собрание пророчеств и обращенной не только к непросвещенным язычникам, но и к крещеным гуманистам. Хотя именно из их среды стали слышаться голоса сомнения (Эразм Роттердамский). «Великое искусство XIII века явило мудрость, приняв одну лишь сивиллу Эритрейскую в качестве представительницы языческой эры»[287]. Эта мудрость состояла и в том, что искусство смогло проявить независимость от литературы, от поэзии, и помощь ему в этом освобождении оказал именно собор со своим сакральным пространством, не допускавшим внутрь себя никаких сомнительных персонажей[288].
И тем более история после Креста, история, как выражается Маль, начавшаяся с Голгофы, не впускала в пределы своей памяти и почитания никого, кроме святых (ведь это была их история). Светская история – это история не освященная, и потому так мало в соборе даже христианских королей[289].
Только три из них (имеются в виду короли французские) присутствовали в соборной иконографии, и то лишь как участники, свидетели символических, сакральных событий. Это уже упоминавшиеся Хлодвиг (крещение галлов), Карл Великий (первое образцовое государство галлов) и Людовик Святой (или Готфрид Бульонский) – участники первых победоносных крестовых походов, «рыцари Христа»[290].
Другими словами, светская история – это в лучшем случае лишь символ истории церковной. Тем более речи не может идти о современности как предмете иконографии: настоящего как предмета изображения для собора просто не существует[291].
Зеркало эсхатона
Но у истории есть конец, который есть и конец мира. И это Страшный Суд, а Апокалипсис – последний из литературных источников, которые можно себе вообразить и которыми мог вдохновляться средневековый художник. Но это означает и конец искусства и даже повседневного церковного благочестия. Как это обстоятельство отражается в самом изобразительном искусстве? Вопрос совсем не риторический, так как перед искусством ставится задача отобразить собственный конец, собственный закат и упадок. Возможен ли этот самоотказ, и если да, то в каких формах он осуществляется? И как архитектурные структуры реагируют на перспективу самоупразднения? Или, быть может, соборное пространство с самого начала предназначалось для вечности и функция собора заключается в поглощении времени и всего временного, преходящего и процессуального?
За ответами на эти вопросы мы вслед за Малем обратимся к тому же Винсенту, который прекрасно осознавал свое место внутри истории, внутри современности и потому не считал возможным закончить свой труд. И описание Страшного Суда у него – это не просто эпилог книги, это отчет о последнем деянии, совершенном в мире, и как первый акт бытия мира принадлежит Богу, так и последнее, что с миром случается, происходит при непосредственном участии Творца и Судии.
И как бы в подражание Винсенту скульпторы вырезали «священную драму» Последнего Дня в тимпане главного западного портала собора. Именно его освещали в конце дня последние лучи заходящего солнца. Таков и закат истории[292].
Нетрудно распознать в этом поэтическом описании Маля его ответ на вышепоставленные вопросы: конец истории связан с явлением природного свойства. История подобна заходящему солнцу. Только покинув пределы собора и его искусства, можно пережить конец. Другими словами, с концом истории, в том числе и искусства, не заканчивается само искусство, ведь оно черпает свои силы в письменном слове, подобно тому, как мы вслед за Малем как бы укрылись в тени «Зерцала…», дабы не предстать (раньше времени) перед Словом Живым...
Но покуда Свет светит и освящает человеческий разум, человек пытается обрести знания даже о таких вещах, о которых отказывался говорить Сам Христос. Пророчества о конце света, желание распознать знамения приближающегося Судного Дня – этой потребностью заглянуть за горизонт истории было пронизано все Средневековье, а не только рассматриваемое нами время. Эсхатология проникала в разум и чувства, и каково же было посетителям собора видеть у себя над головами сцены Апокалипсиса! Состояние этих людей интересно характеризует Маль: они верили, что когда-то в один прекрасный момент все уже сейчас открывающееся взору станет свершившемся фактом, и слух людей накроют звуки ангельских труб.
Разобравшись с этой фразой, мы поймем, что Маль признает за зрителями XIII века способность различать степень реальности по необходимости дистанцироваться от слишком страшного опыта (пусть и чисто визуального) и, что самое здесь примечательное, – больше доверять слуху, чем зрению! Мы наблюдали схожую иерархию реальности и по отношению к звучащему в соборе слову проповеди, с которой не может сравниться беззвучная, хотя и наглядная, проповедь изобразительного искусства.
Или эта иерархия обязана своим существованием нашему времени, для которого современность Винсента из Бовэ и его современников – это «бесконечная» история, которой суждено было длиться еще весьма немалый срок, прежде чем стать предметом внимания настоящего историка и остановиться в его сознании, сделавшись научным знанием?
Но вернемся к искусству и посмотрим, как оно способно представлять «страшный конец всех вещей». Оказывается, вполне традиционно, через выбор «источника вдохновения», которым, как нетрудно догадаться, является Книга Откровения.
Первое, что приходит в голову художникам, – истолковать своими средствами некоторые «наиболее грозные» страницы Апокалипсиса. Избирается прежде всего второе видение св. Иоанна Богослова, и, начиная с романского искусства, Христос изображается «величественным Владыкой», Вершащим Свой суд. Готика в XIII веке меняет «источник вдохновения»: это уже Евангелие от Матфея, содержащее более сдержанное и лаконичное описание.
Впрочем, как совершенно справедливо замечает Маль, дело не только в выборе первоисточника. Апокалипсис был слишком сильным катализатором, слишком активно будоражил художественное воображение, так что им не могли не заинтересоваться первыми те художники, средства которых были больше приспособлены к детальному и нарративно-описательному воспроизведению всех завораживающих подробностей этой книги. Именно у иллюстраторов рукописных апокалипсисов было первенство, и их миниатюры стали иконографическим источником для монументальных видов изобразительности[293].
Мы можем отметить целую череду промежуточных образных «медиумов», средств опосредования собственно соборной изобразительности в скульптуре и витражной живописи. Мастера, работавшие в соборе, не были, так сказать, допущены к первоисточнику по разным причинам, главная из которых – в назначении монументальных образов. Они были именно итогом рецепции, восприятия и усвоения книги Откровения, а вовсе не ее прямыми, живыми и непосредственными иллюстрациям, когда художник вдохновлялся лишь своим вкусом, воображением и способностью на чисто эмоциональные реакции.
Фактически, если верить Малю, в разных видах изобразительного искусства действовали разные типы творчества с разными функциями. И прямым назначением монументального соборного изобразительного декорума было «обеспечивать изобразительной формой доктрины интерпретаторов св. Иоанна Богослова»[294].
Но мы позволим себе дополнить эту весьма привлекательную малевскую «тоже доктрину» еще одним наблюдением: монументальное искусство было слишком мощным средством воздействия на зрителя, чтобы допускать в него прямое впечатление от описания тех видений, чья сила – именно в чувстве ужаса, трепета, страха. Малые формы изобразительности иллюминированных рукописей могли позволить себе это в силу своего масштаба; но скульптура и витражи соборов – это результат опосредования и осмысления. Это истинная интерпретация, и нам стоит лишь отметить, что в любой интерпретации важны ее средства, и постепенное – как кажется, необратимое – наращивание их, выстраивание цепочки посредников не просто отрывает такого рода искусство от реальности первоисточника, но созидает новую реальность самого искусства. Кратко перечислим эту череду опосредующих инстанций: сам текст Апокалипсиса (тоже всего лишь словесный посредник) – сознание читателя-иллюстратора – комментатор-богослов – художник-скульптор. Поэтапно ослабевает мощь прямого воздействия поэтики Апокалипсиса и накапливается сила рационально-эстетического впечатления-сопротивления.
Но приглядимся к началу этой цепочки: в ней не хватает исходной ситуации – ситуации непосредственного апокалиптического видения. То, что зрел апостол, и то, что он передал словами, – вовсе не одно и то же. Тем не менее важно, что начальное состояние совпадает с конечным: непосредственный зрительный опыт и начинает эту череду, и завершает ее в лице зрителя-посетителя собора, сталкивающегося со всей его наглядной образностью. Итак, зрение – в разных своих состояниях – объемлет начало и конец. И возможно это по той причине, что сам собор создает условие самого прямого контакта с самым косвенным объектом, плодом долгих усилий, направленных на разделение и удаление друг от друга разных типов реальности. Собор же приемлет и объемлет собой все, что входит в реальность Церкви. Вот оно, подлинное завершение истории, связанное, как выясняется, с исчерпанностью смысловых возможностей интерпретации…
Но только внутри самого собора: стоит нам выйти в пространство истории искусства – и все начинается, как в первый раз! В том числе, начинается и череда истолковывающих комментариев, в том числе и иконографических (а также и методологических, и историографических)…
Однако не будем торопиться с подобными метахудожественными выходами, ведь само искусство XIII века предлагает нам более традиционный взгляд, связанный с учетом человеческого измерения истории и иконографии. Вспомним, что это время перехода от Апокалипсиса к Евангелию от Матфея, где Христос Второго Пришествия – все тот же узнаваемый Сын Человеческий, хотя и здесь метатеория, то есть сверхсозерцательность, корректирует и комментирует ситуацию. Евангелист (между прочим, не будучи сам свидетелем описываемых событий) воспроизводит, репродуцирует слова Самого Христа, обращенные к его собеседникам-современникам и сообщающие им о тех событиях, которые только грядут[295]. И тогдашние слушатели Христа, и читатель Евангелия XIII века, и зритель восходящей к Евангелию витражной живописи – все они находятся со Христом в одном едином пространстве. Чудо евангельской истории – в ее доступности и постоянстве, достижимости, устойчивости и, главное, воспроизводимости присутствия в ней Христа. И в данном случае – независимо от средств, по той причине, что достаточно одного – пространства храма, предназначенного и для человеческого восприятия.
Именно поэтому Страшный Суд представляется и в богословских текстах, и, соответственно, в скульптурном убранстве соборов в виде «великой драмы», состоящей из пяти актов, воспроизвести которые последовательно средневековый скульптор не мог исключительно по причине ограничений, налагаемых на него его искусством. Заметим, что иконограф в лице Маля чувствует себя более свободным, и последние примерно двадцать страниц книги представляют собой подробный и комментированный рассказ о финальном эпизоде мировой истории. Нам здесь представляется существенным обратить внимание на то, как Маль объясняет появление, вопреки всему церковному вероучению, против мнения всех отцов и учителей Церкви, мотива ада, пожирающего грешников. Объяснение двоякое: во-первых, ссылка на народную фантазию, а во-вторых, – на известную метафору, связанную с истолкованием соответствующего места из Книги Иова, где упоминается Левиафан, прообраз Сатаны. Другими словами, искусство демонстрирует свою независимость от богословия, используя все то же испытанное средство – метафору.
Впрочем и метафора не помогает, когда речь идет уже о последующем состоянии мира – обновленном и райском. Собственно говоря, никто не может представить себе это состояние, но «искусство первое признается в своем несоответствии», прибегая к довольно неубедительному, по мнению Маля, мотиву «лона Авраамова», чтобы передать блаженное состояние спасенных душ. Как это ни печально, но изобразительное искусство остается, так сказать, по сю сторону Страшного Суда, который как событие есть предел, грань, законченность и окончательность всякого движения, направленности, интенции, в том числе и воображения, и мысли, и чувства. Это такое состояние, которое можно воспринимать и просто принимать исключительно буквально, прямо и безо всяких обиняков. Искусство же и здесь, и именно здесь, прибегает к самой безыскусной и заурядной метафоре, почти что буквально уклоняясь от прямой изобразительности, которая единственно здесь уместна и одновременно невозможна. Можно сказать, что эсхатологическая метафора «лона Авраамова» использована Самим Спасителем, – но в Евангелии, и в виде притчи (о богаче и Лазаре). Тем самым искусство возвращает нас в пространство Евангелия, не в силах вынести бремя эсхатологии. И это пространство узнаваемо: мы чуть заглянули за грань истории, став зрителями разыгранного средствами искусства драматического действа, имя которому «Страшный Суд», а теперь возвращаемся «домой», в пространство, где проповедуется Слово Божие, где Сын Божий пока еще закалается за грехи мира. Вот литургическое пространство собора, и в нем нам пока еще, что называется, не тесно…
Но, как выясняется, существует и иного рода иносказание, отсылающее не к букве (пусть и Евангелия), но к духу. Райское состояние спасенного мироздания воспроизводится в чуть суженном виде и применительно к человеку, к состоянию его души (вкупе, между прочим, с воскрешенным и спасенным телом). Имеются в виду те качества души и тела, которые даруются человеку уже в Раю: красота, ловкость, сила, свобода, здоровье, наслаждение, долголетие (это касается тела), а также мудрость, дружелюбие, согласие, благородство, крепость, покой, радость (свойства духа). Эти четырнадцать бессмертных даров, естественно, можно изобразить персонифицированно на порталах собора, и они там будут уместны как обетования и предмет желания, интенции, действие которых простирается и в вечность, за пределы этого мира[296].
Глава, посвященная Страшному Суду, заканчивается упоминанием о такой «силе инвенции», продемонстрированной готическими мастерами, что просто не хватило бы места для подробного описания иных многочисленных мотивов. Маль, тем не менее, их перечисляет, особо останавливаясь на одном обстоятельстве, а именно на отсутствии темы чистилища, что объясняется вполне логично: чистилище существует «по закону времени», после Страшного Суда воцарится вечность. Но для этого необходимо закрыть «Великое Зерцало» Винсента из Бовэ, что и делает Маль, а вслед за ним и читатель его книги, пройдя путь от сложения мира, вышедшего из Божией десницы, до «вечного остатка» мира, вернувшегося в сердце Бога[297].
Иконография, таким образом, понимается как путешествие по священным временам и срокам, вмещающимся в не менее священное пространство собора.
Иконография и поэзия
Тем не менее Маль добавляет к основному тексту Заключение, содержание которого весьма специфично и крайне полезно. Коснемся его, прежде чем позволить себе собственные заключительные наблюдения.
После продолжительных и порой утомительных иконографических изысканий в Заключении Маль совершенно меняет жанр, обращаясь к чисто эссеистическим характеристикам отдельных соборов, касаясь вслед за этим и более общих проблем эстетически-философского свойства.
Прежде всего, каждый собор – это книга, со своим особым содержанием. Впереди всех высится Шартр – энциклопедия, «средневековая мысль в зримой форме», остальные соборы – как отдельные главы. Амьен – «мессианский, пророческий собор». Парижский Нотр-Дам – «собор Девы». Лаон – «собор учения», а Реймс – национальный собор («другие соборы – кафолические, он один – французский»). Если Бурж прославляет добродетели святых, то Лаон – чудо творения. Санс объемлет бесконечность мира и разнообразие деяний Божиих. Руан подобен роскошному часослову, где в середине каждой страницы – фигуры Бога, Девы и святых, а по краям – вихрь необузданной роскоши.
И все вместе и каждое из зеркал в отдельности – это единая наставляющая проповедь, проникающая «со всей полнотой своей учености» в детские и грубые народные души, для которых собор был единственной доступной книгой для чтения. Вероучение «воплощалось в литургической драме и в статуях портала» – христианская мысль «с чудесной внутренней силой созидала свои собственные выразительные средства»[298].
Кто же был творцом этих уникальных и универсальных средств? Ответ Маля вполне однозначен: «Нет сомнений, что порядок этих великих богословских, духовных и вероучительных схем регулировался Церковью; художники были всего лишь интерпретаторами церковной мысли»[299]. Можно допустить в них и образованность, и культуру, но стоит посмотреть на витражи Буржа или Шартра, как сразу станет ясно, что их создание требовало глубочайшего знания церковного вероучения. «Повсюду заметна направляющая рука ученого схоласта». Во всех изучавшихся нами вещах мы узнавали «активность духа, неотделимого от всецелого тела церковного учения»[300].
Но с другой стороны, и сами художники имели свои традиции, которые воплощались в письменных руководствах, рисунках-образцах, переходивших из мастерской в мастерскую, от поколения к поколению. И вся эта сугубо художественная сторона, которую Маль именует ars formulae, тоже составляла часть церковного предания, происхождение которого можно проследить у монастырских богословов и художников IX-XI веков (и раньше)[301].
Одновременно Маль прослеживает эту традицию и в перспективе, обращаясь к историографии XIX века, слишком настаивавшей на творческой свободе средневековых мастеров. Если тот же Гюго говорил, что «книга собора принадлежала не столько священству, религии, Риму, сколько воображению, поэзии, народу», то Виолле-ле-Дюк, настаивал на понятии «свобода слова» применительно к готическим художникам, якобы подрывавшим своим творчеством «феодальную систему». Маль замечает, что средневековый художник никогда не был ни бунтарем, ни «мыслителем», ни предтечей Революции, он являлся «старательным интерпретатором великих идей, которые старался постичь со всей силой своего гения». Все чудеса собора рождались под его пальцами, но сам он воспринимал собор как «некую одушевленную вещь, гигантское дерево, покрытое цветами и населенное птицами, меньше дело человеческих рук, чем природных сил»[302].
Так, описывая соборное творчество, Маль незаметно переходит на язык поэтических образов – образов действия (как создавался собор) и образов воздействия (какое собор производил впечатление).
Последнее качество собора – способность производить неизгладимое впечатление, даже и против воли зрителя, – обсуждается Малем достаточно подробно и в выражениях по-настоящему художественных. «Убеждение и вера пронизывают собор от начала до конца». Перед ним на время замолкают все сомнения и все теории. Собор – «как могучий корабль, готовый отправиться в далекое плавание». И это впечатление возникает уже с дальнего расстояния. Если же приблизиться к собору, то нас встречает фигура Христа: «Всякий человек, рожденный в мир, встречает Его в своем странствии по жизни; Он ключ к загадке жизни; вокруг Него можно прочитать ответы на все человеческие вопрошания». Статуи собора «делают мир с его историей интеллигибельным»[303].
И одновременно шаг за шагом пишется и собственно история человека, постигающего тот факт, что «жизнь должна быть борьбой, схваткой с природой в любой месяц года и схваткой с самим собой в любой момент», она есть «бесконечная психомахия»[304].
Если же войти внутрь собора, то прежде всего действует на душу величие мощных вертикалей. Центральный неф Амьена порождает неустранимое ощущение очищения, «красота этой великой церкви действует как Таинство». В соборе, как в лесной чаще, есть своя атмосфера и свой аромат, блеск, полутени и мрак. Большое окно-роза, за которым гаснет на западе дневное светило, в вечерние часы само кажется солнцем, скрывающимся за краем таинственного леса. Но это «мир преображенный, где и свет сияет ярче, и тени более загадочны, чем в мире фактов». Человек в соборе несомненно ощущает себя «в сердце Небесного Иерусалима и испытывает на себе глубочайший покой Грядущего Града»[305]. Бури жизни разбиваются о стены Святая Святых, лишь отдаленный слышится гул. Здесь непотопляемый ковчег, которому не страшен никакой ветер. Ни одно место в мире не даст человеку столь полное чувство собственной безопасности.
Каково же это все было воспринимать средневековому человеку! Для него собор был «суммой Откровения», в нем соединились все искусства, и речь, и музыка, и «живая драма таинств, и беззвучная драма скульптуры». Но собор – это и больше, чем искусство, это единый белый свет, не разложимый на составляющие его участки спектра. У человека, зажатого своим сословием или племенем, с дезинтегрированной в повседневном труде и существовании природой, в соборе обновлялось чувство бытийного единства, и он обретал равновесие и покой. Толпа собиралась ради великого праздника и чувствовала, как превращается в живую целокупность и становится мистическим Телом Христовым, ее душа входила в Его душу. Благочестие было человеческим, собор был миром, и Дух Божий наполнял и человека, и все творение. Слова апостола Павла становились реальностью, люди жили во Христе, Им были движимы и Им оживотворялись. На великие праздники люди стояли в соборе плечом к плечу, и целый город наполнял необъятную церковь.
Символ веры, собор был и символом любви, ибо строительство собора было общим делом, единым самопожертвованием всех сословий – от крестьян до баронов. Витальная сила, излучавшаяся от этого бессмертного творения, – плод совместных трудов всех живых сил Франции на протяжении более двух столетий. Даже смерть ассоциировалась с жизнью, церкви мостились надгробиями, и прошлые поколения со сложенными руками продолжали молиться в старых церквях, где прошлое и настоящее соединялись в едином чувстве любви. Собор был совестью города[306]. Церковь была домом для всех, и искусство переводило на свой язык мысли всех. Средневековый собор занимал место книги.
Заканчивается книга мощным и лаконичным пассажем во славу Франции: собор пронизывал не только гений христианства, но и гений Франции. «Она одна знала, как сделать собор образом мира, суммой истории, зеркалом моральной жизни». Ничто ни в Италии, ни в Испании, ни в Германии или Англии не может сравниться с Шартром. «Когда же мы поймем, что в области искусства Франция не достигла ничего более великого?»[307]
Именно так заканчивается эта книга. Для Маля заявленное в названии «религиозное искусство» воплощается в соборе, потому-то так он реален – не только выстроенный умом, но и выстраданный сердцем – на страницах иконографического трактата, – отразивший в себе мир, превосходящий его и объемлющий.
Собор религиозной поэзии
А теперь постараемся выстроить еще одно скромное здание – теории, практики и критики подхода Маля, используя ключевые аспекты его текста как своего рода строительный материал, замечая с самого начала, что мы имеем дело со специфической поэзией, полной особого рода метафор. Попытаемся их хотя бы перечислить и описать, то есть произвести опись, совершить собственно иконографический акт, но уже не над визуальным, а над вербальным материалом.
1. Религиозные образы как подобие иероглифов, то есть священных знаков. Это дает возможность чтения.
2. Образ – зеркало, и зеркальная образность – это условие точного воспроизведения.
3. Зеркальность сродни детству, когда столь неподделен интерес ко всему окружающему – и к собственному зеркальному отражению.
4. Детство – восприимчивость и способность к обучению. А дидактика – это и доходчивость, и популярность (в смысле народности).
5. Непосредственное воздействие на воображение и чувства, минуя разум, средствами зрения и слуха.
6. Проповедь как главное назначение соборной иконографии.
7. Гармония и радость – от созерцания и общения с трансцендентной красотой.
Если же попытаться создать целостный образ собора, то тогда нам придется сказать, что собор – это место «проповеди в камне», и тогда иконография – это род визуальной гомилетики, а вариант иконографической риторики, предлагаемой Малем, – это изучение топосов, loci communis, но не фигур. Причем синтаксис задается не самим предметом внимания и изучения, а порядком его описания. Это риторика иконографического не столько построения, сколько воспроизведения.
Проблема заключается в том, что кроме нравственных аспектов, много и чисто когнитивных, информационных, связанных не только с передачей, но и прежде всего с хранением информации. Так что собор – это сборник, собрание общих мест, архив, «метаместо».
С другой стороны, важен способ хранения информации, а также тот факт, что это только хранилище, а не источник и не средство получения информации. Последняя функция отводится богословским текстам, из которых в качестве парадигмы выбирается не случайно именно жанр Speculum’а: это тоже всего лишь медиум, средство, посредник, но уже вербальной природы.
Хотя зеркальный способ получения этого знания не может не вызывать подозрений, даже если мы вспомним, что зеркало еще с античности как раз пример «природного образа», то есть действующего без вмешательства человека. Но таковым природным зеркалом может быть только одно зеркало – природа, то есть прямое дело рук Божиих. Все остальные зеркала – человеческого, то есть искаженного происхождения, замутненные и кривые. И задача истинного и богословствования, и богопочитания вообще – восстановление искажения, исправление, коррекция, просветление зеркала, хотя мутность остается, – если оставаться на уровне естественных усилий[308].
Отсюда – возможность предположить, что функция собора не чисто механическая, и его «зеркальные свойства» не такие уж аллегорические, а скорее метафорические – функции возвышающего переноса, перехода на следующий, вышестоящий уровень смысла и истины. Ведь это зеркало не только метафорическое, но и литургическое, в котором отражается ecclesia, и, всматриваясь в него, мы обнаруживаем, что и на нас тоже обращен взор изнутри. И взор этот не молчит.
В целом же метод Маля характеризуется точным следованием за понятием иконографии, которая есть именно описание образа, письмо на основании письменных источников, свидетельств о Писании (так что можно выделить три уровня иконографичности: значение, заложенное в самом Писании, значение комментариев и последующей церковной традиции и собственное значение данного памятника).
Кроме того, тем же словом называется и дисциплина, метод, суть которого – в описании, экспликации-организации смысла (и – как следствие – его разумения). То есть иконография – это правила считывания письменного сообщения, заключенного в визуальные формы. Отсюда происходят все сравнения с языком, так как он и средство, и цель подобного описания, направленного на обнаружение готовых тем, идей, сюжетов, мотивов, которые сродни предметам внешнего мира, являющимся объектами миметических усилий художника. Иконография имеет в виду, так сказать, семантический мимезис, воспроизведение образов не ментально-перцептуальных, а тематических, подражание не миру предметов, но миру сюжетов, говоря более простым языком.
Но главный урок Маля (в сравнении с Зауэром) – это доказательство того, что возможна не только систематизация символов, имеющая в виду достаточно общее понятие образа именно как символа (включающее, в том числе, вербально-концептуальные представления), но и описание и переживание изображений, когда, собственно говоря, иконография только и начинается.
Другое дело, что подобный уровень иконографичности достигается посредством некоторых допущений, главное из которых – всеобщность, универсальность, единство («соборность») опыта восприятия – средневекового и современного, когда исчезает зазор историзма, а потому – и всякого непонимания. Нетрудно заметить, что у Маля практически отсутствует всякого рода когнитивная проблематика, несомненное свидетельство чему – избранный им жанр поэтико-эссеистических заметок-очерков.
И архитектура, и Литургия, и религиозное искусство – все представлено в единственном, хотя и очень ясном, измерении визуально-эстетической экспрессии, страдающей лишь одним недостатком – очевидно (в буквальном смысле слова) внешним характером подобного опыта.
А что, если мы имеем дело не со столь неотразимо впечатляющим материалом, каковым является готический собор?
Несомненно, для подобного подхода очень важно такое свойство материала, как его разработанность, богатство, совершенство, способность действовать непосредственно на эстетическую восприимчивость полноценными художественными качествами. Таковым материалом может быть, например, строительное искусство «золотого века Юстиниана»; и спустя полвека после книги Маля Отто фон Симсон пишет совершенно аналогичную книгу о Равенне с весьма выразительным названием (придуманным, правда, не им, а издательством) – «Священная твердыня…» (1948)[309]. Архитектура понимается им как символ, воспринимается сквозь призму поэзии (вспоминаются Йейтс и Шекспир). Византийские храмы – это одновременно и «священный символ, и изящная игра». В середине XX века после Йохана Хейзинги уже можно говорить, что византийский человек – это тот же homo ludens, умевший выделять символы из повседневной жизни, а искусством пользоваться как «инструментом власти» и «риторическим средством», в том числе репрезентирующим все те же «великие символы», которые, в свою очередь, «делают осязаемой отдаленную духовную реальность»[310].
А если христианская архитектура – еще не реальность, если она только ищет свой экспрессивный язык, и выразительность ее – искомая величина? А что, если самое существенное невыразимо и скрывается, например, в творческом и идейном замысле, и не столько в символах ритуально-аллегорических, сколько в символах мышления, благочестия, поведения? Тогда мы оказываемся в пространстве материала, который предлагает нам раннехристианское искусство, построенное по совсем иным законам, чем зодчество Высокого Средневековья.
В результате мы имеем и принципиально иной подход, хотя и он тоже именуется иконографией.
ИКОНОГРАФИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ АРХЕТИПОВ
Естественно, я знаю, что «чистых фактов» не существует; лишь благодаря интерпретации факты становятся доступными. Даже простое описание постройки – уже ее толкование.
Рихард КраутхаймерВведение в иконографию архитектуры, или Символическая типология
Итак, Эмиль Маль показал, что архитектура сама обладает силой художественного воздействия, является источником и символического, и эстетического вдохновения. Но для Маля смысл возникает только благодаря усилиям и богословов, которые учат, и художников, которые учатся, и, в конце концов, современных иконографов, которые поучают других и приучаются сами к чтению архитектуры. Но нет ли у архитектуры своего собственного языка, на котором она разговаривает, которым пользуются другие и который изучают?
И в каких случаях этот язык звучит наиболее отчетливо? Так появляется еще один способ рассмотрения архитектурного значения, связанный с именем Рихарда Краутхаймера[311].
Не побоимся сказать, что появившаяся в 1942 году в 5-м номере «Журнала Института Варбурга и Курто» статья Рихарда Краутхаймера «Введение в иконографию архитектуры»[312] обозначила принципиально новый этап в изучении интересующей нас темы – возможности смыслового анализа архитектурного произведения, понятого как результат прежде всего художественных усилий, обладающих собственным смыслом и передающих его готовому творению.
Весьма обширная, обстоятельная и по-настоящему фундаментальная статья начинается с выяснения общетеоретических обстоятельств. И решающий фактор, с точки зрения Краутхаймера, – это неприменимость к средневековому искусству классической витрувианской триады «прочность, польза, красота», переводимой обычно на английский как commodity, frmness, delight, что на современном языке именуется функцией, конструкцией и оформлением (design). Краутхаймер вполне справедливо указывает на то, что под дизайном скрывается знакомая всем красота. Но это, тем не менее, не позволяет предполагать обязательность этих категорий для средневекового зодчества по той причине, что в этом самом зодчестве первенствующую роль играл смысловой элемент, имевший характер символический характер, о котором только и повествуют средневековые источники, а вовсе не о конструкции сводов (имеется в виду, конечно же, аббат Сугерий). «Та содержательная сторона архитектуры, которую мы именуем значением, представляется более важной составляющей средневековой архитектурной теории, быть может, это наиважнейшая из [такого рода] проблем, совокупность которых и составляет предмет иконографии архитектуры»[313]. Поэтому задача состоит в том, чтобы преодолеть «формалистический способ рассмотрения», господствующий, говорит Краутхаймер, последние пятьдесят лет (статья опубликована в 1942 г.), подхватить столетней давности традицию церковной археологии, но лишь для того, чтобы только наметить контуры «будущей иконографии средневековой архитектуры».
Сразу замечаем со своей стороны, что уже в обосновании метода не скрывается связь с письменными источниками, прямо-таки зависимость от них, принимаемых за конечные и окончательные документальные свидетельства.
И тут же выясняется, что средневековые описания построек (в них узнается целый жанр еще античного экфрасиса) – это одновременно и исходный пункт рассуждений и наблюдений Краутхаймера. Стоит обратить внимание, что перед ним – и перед нами – нами принципиально новый по сравнению с Зауэром и Малем источник – и более исторический, и более поэтический, и, что самое существенное, более родственный иконографическому методу, в котором момент описания принципиален. Это тоже своего рода словесная репродукция, способная, впрочем, воспроизводить разные вещи.
Архитектурные копии и критерии сходства
Он начинает первую часть своей статьи, названную «Средневековые архитектурные копии», с указания на то вызывающее удивление обстоятельство, что, судя по этим самым описаниям, касающимся многочисленных архитектурных копий, для средневекового человека сходством обладали постройки, которые нам вовсе не кажутся похожими одна на другую. То есть для средневекового человека, взирающего на то или иное здание и подбирающего для своего зрительного опыта словесные эквиваленты, существенны были элементы, таковыми для нас не являющиеся или не значащие для нас то, что они обозначали тогда. Выявление этих элементов и их смыслового наполнения, по мысли Краутхаймера, поможет определить все содержательное наполнение средневековой архитектуры. Другими словами, для средневекового сознания существенно было не внешнее сходство, не внешний вид, не эстетическое переживание, а процесс углубления внутрь архитектонического явления, за поверхность его наружного облика. Крайне принципиально, что подобного рода аналитика стимулируется сравнительными процедурами, выяснением общих свойств вещей разнородных, как кажется на первый взгляд, хотя документальные, письменные источники, повторяем, свидетельствуют об их прочной, но не поверхностной, а внутренней связи, более того, о зависимости одного явления от другого. Замечательно, что сам материал диктует эту самую компаративистику, ведь практика копирования, система отношений «оригинал/извод» реально существовала в средневековом зодчестве.
Самый беглый взгляд на похожие для средневекового человека постройки[314] заставляет сделать вывод: «Средневековые представления о том, что позволяет сравнивать одно здание с другим, сильно отличаются от представлений наших; очевидно, в средние века имелись tertia compartionis, совершенно не совместимые с привычными для нас»[315].
И дабы разобраться в этих «принципах сравнения», Краутхаймер выбирает многочисленную группу памятников (V-XVII вв.), восходящих к одному прообразу, весьма специфическому и уникальному – к иерусалимскому Храму Гроба Господня. Обращение к четырем только копиям (капелла св. Михаила в Фульде, IX век, церковь в Падеборне, XI век, ротонда в Ланлефе близ Каена, поздний XI век, церковь Гроба Господня в Кембридже, XII век) вынуждает сделать вывод, что вообще-то «различия перевешивают сходство». Естественно, это впечатление только усиливается, если все четыре памятника сравнить с оригиналом, главные отличительные признаки которого – ротондальный план, внутренний круговой обход с эмпорами, внешний обход, три апсидиолы, двадцать опор внутреннего пространства, восемь опор по главным осям и три колонны по осям диагональным.
И все-таки одно общее свойство объединяет все эти и многие другие примеры копий[316], а именно – приблизительное отношение к точному подобию. Все, что имеет больше четырех сторон, говорит Краутхаймер, «для средневекового глаза» приближается к кругу. Крестообразный план может воспроизводить такую отличительную черту оригинала, как три апсиды. Поэтому «в подобном равнодушии к точности заданных архитектонических форм проявляется типичная черта средневековых “копий”»[317]. Более того, приблизительность касается не только архитектурных, но и вообще геометрических форм. Описание геометрических фигур у того же Исидора Севильского свидетельствует о том, что не стояла сама задача дать точное описание. Все сводится к описанию не столько формы, сколько числа («геометрическая форма переводится в арифметическое число»[318]). Заметим уже сейчас, что дело, быть может, не столько в проблемах восприятии, сколько в традиции описания, в правилах жанра, требованиях языка (то же число легче воспроизвести, чем форму).
Промежуточный вывод Краутхаймера выглядит так: «Создается впечатление, что в Средние века определяющими были иные подходы и критерии архитектурных копий. Очевидно, что какая-нибудь архитектурная форма воспроизводилась не ради нее самой, но в связи с тем смысловым контекстом, в котором она пребывала». Крестообразный план всегда подразумевал круг и отсылал к Кресту, и крестообразность касалась даже конфигураций топографического свойства (например, пять церквей внутри города или вовне его[319]).
На самом деле было не совсем существенно, что именно отсылает к кругу (крестообразный, октогональный, двенадцатигранный план). Едва угадываемого сходства было достаточно, чтобы обеспечивать эту отсылку. Другими словами, функция архитектонических форм – в опосредовании некоторого конкретного значения, и условность, приблизительность в воспроизведении внешних свойств этих, так сказать, архитектонических указателей-ссылок никого не смущала. Согласно Кандиду, круг – это символ Церкви, которая не имеет завершения и содержит в себе Таинство. Точно так же и архитектурная копия: она есть вместилище, емкость, в которой заключен, хранится некоторый смысл, легко извлекаемый при созерцании. «Для средневекового зрителя речь шла не о точной геометрической форме, а о приблизительном облике и его значении»[320].
Впрочем, все эти особенности нельзя упрощать по той причине, что мы не можем точно сказать, каково происхождение всех этих толкований, и, главное, не возникает ли само символическое значение post festum. Отношение между символическим значением геометрической формы и планом здания, по словам Краутхаймера, – это «куда более сложный процесс». Описание этого процесса и, главное, его объяснение составляют саму сердцевину концепции «иконографии архитектуры». Предоставим слово ее автору: «Вероятно, отношение между строительным типом и символическим значением лучше всего описывается как результат переплетения разнообразных, лишь наполовину определенных смысловых содержаний, так что символическое значение и не стоит в начале, и не добавляется post festum, а скорее сопровождает те формы, что выбираются для того или иного строения. За архитектоническими формами закреплялись более или менее расплывчатые коннотации, которые только приблизительно принимались в расчет <…>»[321]. В подтверждение этих наблюдений Краутхаймер ссылается на Иоанна Скотта Эуригену. Для него, например, число «восемь» связано было с целым сонмом значений (воскресный день, праздник Пасхи, Воскресение и второе рождение, весна и новая жизнь). Ученому эти «разнородные коннотации» представлялись пребывающими в вечности. В нем они «вибрировали» (его собственное выражение), подобно удару камертона, когда данное число попадало в пределы его сознания. Так и хочется добавить от себя (Краутхаймер этого не делает): а не является ли сама архитектура своеобразным камертоном, воздействующим на сознание, настраивающим этот особого рода инструмент на восприятие вещей незримых (тех же значений)?[322]
Символические значения
Не позволяя себе подобные обобщения, Краутхаймер, тем не менее, говорит о том, что подобные метафоры ведут нас как раз к символическому значению, которым обладали «цифры и числа», особенно в связи с архитектурными копиями. Как представляется, именно они среди всех тех элементов, что определяли отношения между оригиналом и копией, играли роль выдающуюся. Другими словами, число представляет собой посредника между оригиналом и его производным, его воспроизведением, его репродукцией. Эта же функция закреплена и за другими элементами, собственно, за архитектурными формами как таковыми (колонны, обходные галереи и т. д.). Это подлинно ключевые элементы, «отмыкающие» тот или иной запас значений и просто регулирующие внимание и направление мысли. Они, и только они, принимались в расчет в практике копирования благодаря своей способности воздействовать на сознание, на мыслительные и ассоциативные возможности зрителя.
Итак, нумерология со всеми своими значениями и функциями – вот один из критериев в практике копирования, понятой, фактически, как способ освоения, усвоения и истолкования оригинала. Существенно, что число очень легко соотнести, увязать с определенным архитектурным элементом: «между символическими ценностями[323] нумерологии и обнаружением того или иного числа среди конституирующих элементов архитектурной копии – колонн, опор, конфигурациями плана – имеются взаимосвязи»[324]. Другими словами, – здесь мы вынуждены прокомментировать данный пассаж со всей определенностью, – если речь идет о ценностях, то вопрос о том, до или после постройки появляется то или иное значение, снимается, ведь ценности, по определению, принадлежат более обширному и более емкому контексту человеческого существования. Но насколько осознанно Краутхаймер употребляет здесь категорию ценности?
То же самое справедливо и для, так сказать, производного от числа, для его частного случая – для размеров постройки, где обнаруживается точно такое же приблизительно-условное отношение. Можно сказать, что и здесь действует – с еще большей наглядностью – принцип селективного пользования конституирующими элементами. Более того, дело не только в избирательности подхода, но и в склонности из избранных элементов создавать новые композиции. Рядом с принципом селективности действует принцип перегруппировки. «Разложение оригинала на отдельные части и их перегруппировка делали возможным обогащение копии элементами, чуждыми оригиналу»[325].
Опять-таки хочется добавить, что «разборка и сборка» оригинала свидетельствуют о наличии некоего сверхцелого и сверхценностного ориентира, вмещающего в себя и оригинал, и все копийные варианты в качестве составных частей. Существование подобного протооригинала и своего рода архетипологии становится более осязаемым во второй части статьи («Баптистерии и мавзолеи»), где как раз обсуждается происхождение средневекового архитектурного репертуара как такового.
Пока же Краутхаймер вполне резонно обращается к изображению той же Анастасис посредством живописи (миниатюра из Сакраментария Генриха II, 1017), дабы «архитектурную иконографию» подтвердить «иконографией архитектуры». Выясняется, что и в миниатюре действует тот же прием «разложения модели» и ее перегруппировки, соответствующий процедуре, прослеживаемой в отношениях между оригиналом и копией. «Большинство элементов прообраза налицо, но соединены они совсем иначе»[326]. Другими словами, процесс копирования архитектурного оригинала соответствует принципу его воспроизведения, изображения вообще. Более того, копирования в строгом смысле слова как такового и нет, есть именно репродуцирование, имитация, создание подобия. Можно даже сказать, что образ оригинала предшествует копии оригинала, и этот образ создается именно по правилам двухмерного, плоскостного искусства. Но самое существенное – другое, а именно одно обстоятельство, которое помогает понять причину такой приблизительности, почти что равнодушия к точности. Дело вовсе не в том, что существует множественность толкований и она ведет к своего рода расфокусированности воспроизведения, старающегося учесть весь спектр значений. Мнение Краутхаймера :«Приблизительность в строгом различении форм объясняется наличием различных толкований, прилагаемых к одной и той же форме разными толкователями»[327]; но стоит обратиться к той же миниатюре Генриха II с изображением Анастасис, как сразу становится все понятно: сама Анастасис в данной миниатюре есть тоже никакой не оригинал, а все та же копия! Ведь миниатюра изображает евангельскую сцену посещения Гроба Господня мироносицами (Марией Магдалиной), и вся архитектурная часть, созданная с помощью цитат из реальной церкви Анастасис, есть именно Гроб Господень.
Протооригинал постройки как прототопос памяти
Поэтому можно сказать следующее, и это будет, по нашему мнению, моментом совершенно принципиальным: между архитектурными оригиналом и копией располагается иллюстративный посредник, который, в свою очередь, восходит к наиважнейшему прообразу, протооригиналу, протографу, если можно так сказать, «протектону», а на самом деле, конечно же, к прототопосу, к изначальному месту в двояком смысле слова: и как к реальному месту Священной (евангельской) истории, и как к реальному месту священного Писания (Евангелия). В этом смысле не менее реальная, но всего лишь постройка – это не столько оригинал, сколько образец, авторитетный и зафиксированный способ отношения к реальности высшего, просто можно сказать, большего порядка. Воспроизведение Анастасис – это приобщение к опыту данного евангельского места и данного события. Иначе говоря, и оригинал, и копию объемлет смысловой контекст, к которому и обращены мысли и помыслы заказчиков, строителей, толкователей и – в идеальном случае – исследователей того или иного сооружения. И не только обращены, но и напрямую зависят от него. Говоря соответствующим языком, понимание смысла практики копирования – со всей ее спецификой – возможно лишь с учетом общего интенционального поля, заряда этой деятельности, понятой in toto. Внутри этой целостности отношение оригинал/копия будет только частным случаем, производным практики богопочитания, богослужения и благочестия. Практика копирования авторитетной постройки – это лишь средство, но никак не цель. Отсюда общая приблизительность, выбор некоторых только элементов из всего «репертуара [элементов], предлагаемых оригиналом»[328], который, таким образом, мыслится как источник цитат, как некий текст, прочтение которого, усвоение вполне возможно и в избирательном режиме, ибо он не самоцель.
Собственно, об этом и хочет сказать Краутхаймер, когда приходит к выводу, что главным отличительным признаком той или иной церкви является ее посвящение, а не ее архитектурные признаки. Одинакового посвящения уже достаточно, чтобы возникло сходство – но на умозрительном, интеллигибельном и сакральном уровне, не требующем в обязательном порядке прямого подтверждения, непосредственной поддержки на уровне архитектурно-морфологической наглядности. Сходство как сопоставление. Достаточно было даже просто аналогичного именования постройки, и лишь иногда, говорит Краутхаймер, «сходство выражалось в осязаемых объектах». Такими объектами могла быть similitudo, forma, например Гроба Господня, или какая-либо иная реликвия, которая «пробуждала связанные с прообразом ассоциации». Даже просто обстоятельства замысла, проектирования, начала строительства давали повод для сравнения или отождествления с неким оригиналом.
И в конце концов Краутхаймер приходит-таки к очень определенному выводу: общим элементом, который связывает оригинал и копию, в том числе, в случае «сходства по именованию», иначе говоря, «элементом» объединяющим, оказывается не что иное, как memoria, то есть воспоминание именно «почитаемого места». Более того, скажем мы: оно есть и буквально, и переносно «общее место», топика для обоих памятников, каждый из которых выступает в роли инструмента памяти, но с разной долей приближения. Возникает крайне интересная ситуация, когда нематериальный topos и материальный locus дополняют друг друга. Можно даже сказать, что процесс копирования, имитации, воспроизведения прообраза – это движение от locus’а к topos’у, дематериализующее действие, и в несходстве, в несовпадении, в «неподобном подобии» и заключается смысл такого рода копирования, то есть на самом деле в создании архитектонического образа (иконы), связанного с практикой не просто репродуцирования, антикваризации ценного, значимого образца, а с потребностью почитания, поклонения. Другими словами, эта практика копирования имеет в своей основе реликварный смысл и замысел[329].
Об этом по-своему, более лапидарно и сдержанно, говорит Краутхаймер: «Можно сказать, что архитектонически узнаваемое воспроизведение попросту присоединяет к “нематериальным” признакам (к имени и посвящению) некоторые визуальные элементы». Эти нематериальные элементы «призваны наряду с визуальными действовать подобно эху прототипа и тем самым пробуждать у верующих как воспоминание о почитаемых местах, так и их почитание, косвенным способом приобщая их к той благодати, кою они могли бы с радостью стяжать, буде им возможно истинно посетить Святую Землю»[330].
Если мы позволим себе уточнить, что 1) материальные элементы – это не только визуальные, но и осязаемые, более того – пространственно-телесные; 2) место, пространство воспоминания и освящения не только в сознании верующего, и не столько просто верующего, сколько молящегося и пребывающего внутри – церковного пространства; 3) в этом пространстве и совершается священный и освящающий анамнезис, Литургия – припоминание и актуализация не только места, но и действия освящающей благодати, – то тогда мы поймем, что проблема tertia comparationis сводится к литургическому сознанию и литургическому пространству, оформляемому теми или иными архитектурными средствами и трансформируемому теми или иными архитектурными приемами, процедурами[331]. Но насколько эти средства, эти посредники случайны, или их выбор тоже значим и в них проявляет себя некий обязательный смысл, связанный со всеми теми же «символическими ценностями»?
Но прежде чем перейти, собственно говоря, к толкованию этой практики копирования, Краутхаймер делает ряд важных уточнений, между прочим, конкретизирующих его собственную позицию и концепцию. Так, обращаясь к такой очевидной копии храма Гроба Господня, как церковь Сан-Стефано в Болонье (IX-XII вв.), со всеми своими прилегающими сооружениями образующей просто-напросто «Иерусалим», то есть копию святого города, Краутхаймер позволяет себе такое замечание, что, мол, посетители этого комплекса были «паломниками, in efgie посещавшими и святые места»[332]. Другими словами, копии были замещающими образами, действующими на ту же память, и как раз пример болонского «Иерусалима» доказывает, что и сам проект того или иного сооружения, его планировка призваны были служить своего рода набором мнемонических средств (вспомним Маля!), облегчающих припоминание и усвоение заложенной в оригинал «религиозной нагрузки»[333], которая выступала именно как некое направленное на сознание верующего сообщение. Это именно высказывание, требующее внимания и точного восприятия. Визуальная же архитектоника – только подсобный материал. Ситуация меняется с эпохи Возрождения, когда внешний облик приобретает самодовлеющий характер, важным становится как раз точное воспроизведение внешних форм. Данный процесс достигает крайних форм выражения в XIX веке, не оставляющем за внешним историческим декором вообще никакого содержания. Это, так сказать, угасание и конец процесса, ярчайшее проявление которого – именно средневековое архитектурное копирование.
Архитектурная типология и архитектурная ментальность
Но содержательная сторона строительного искусства проявляет себя с еще большей определенностью в самом процессе сложения средневековой архитектурной традиции, в процессе формирования самого языка этого зодчества, в возникновении средневековой архитектурной типологии как таковой. Этому-то и посвящена вторая часть статьи, а на самом деле – и вся статья, ибо разговор о практике копирования – это только способ приближения к средневековой архитектурной ментальности как таковой.
Итак, как выясняется из анализа практики копирования, для средневекового зрителя (и в этом его фундаментальное отличие от современного любителя архитектуры) «каждая постройка призвана была посредством визуальной конфигурации своего строительного устройства опосредовать указательные высказывания содержательного порядка»[334]. И единицами этог о высказывания служат строительные типы, хотя Краутхаймер выражается несколько иначе («как кажется, между строительными типами и их смысловыми высказываниями существует родство»[335]), имея в виду проблему того, как, выражаясь его языком, впервые возникает «ассоциация» между строительным типом и смысловым высказыванием, чтобы потом всегда осуществлялась идентификация типа и смысла. Уточнение этой проблемы звучит так: «Каким образом и на какой почве появились подобные иконографические строительные типы»[336]? Обращаем здесь внимание, что Краутхаймер не сразу, как бы в несколько приемов подбирая термины, приходит к понятию «иконографический строительный тип», за которым он закрепляет именно ассоциативный механизм, что означает параллелизм архитектурных и смысловых процессов и их пересечение исключительно в сознании зрителя, склонного к ассоциациям[337].
Это весьма важное обстоятельство, что для автора иконографии архитектуры концептуальная подоплека предлагаемого им метода имеет, так сказать, номиналистически-лингвистический характер. Как мы убедимся довольно скоро, такие теоретические предпосылки могут таить в себе известные затруднения, если речь идет о сакральной архитектуре, где недостаточно учитывать чисто когнитивные, мыслительно-ассоциативные процессы. Более того, ассоциативные процессы – это процессы, по определению, метафорические, связанные с дополнительным, аллегорическим значением, тогда как применительно к средневековому и сознанию, и зодчеству желательно употреблять понятие символа (для Краутхаймера это, к сожалению, синонимы). Символ характеризует буквальное и непосредственное воздействие на сознание зрителя, на его чувства, минуя уровни мыслительные. Не различая символические и метафорические образы, Краутхаймер, даже активно пользуясь категорией памяти, тем не менее, все еще остается в рамках доиконологического подхода, о чем у нас будет еще повод поговорить подробнее[338].
Далее, если обратиться к конкретике, весь комплекс проблем Краутхаймера можно объединить одним вопросом: «Почему баптистерии круглые?». Иначе говоря, каково смысловое ядро в данном типе круглой постройки? Случайна ли связь между смыслом и назначением того же баптистерия и круглой конфигурацией плана?
Ответ на этот вопрос подводит нас к более широкому пониманию средневекового зодчества. Известен, говорит Краутхаймер, традиционный ответ на вопрос о происхождении баптистерия: его источник – античные термы, где встречаются многочисленные центрические и даже круглые пространства, а кроме того, очевидна связь «формы и функции» («вода к воде», там и здесь омовение, там – гигиеническое, здесь – сакрально-мистическое). Но есть серьезные возражения: во-первых, собственно пространства для купания (caldaria et frigidaria) не были круглыми (круглыми были промежуточные помещения, apoditeria et laconia, где не купались), а во-вторых, первые баптистерии (до V в.) сами не были ни круглыми, ни октогонами.
Но почти что с самого начала они были все-таки центрическими сооружениями и обладали такой отличительной чертой, как круговой обход. И этот элемент, по мнению Краутхаймера, позволяет нам более точно определить источник типологии баптистерия: таковым является архитектура римских погребальных сооружений, мавзолеев со всем разнообразием их вариантов. Первый пример переноса типологии на христианское сооружение с сохранением мемориально-погребальных функций – это Санта Констанца, а самый знаменитый –
это, конечно же, Анастасис. На примере последнего памятника становится понятным, что «родство между баптистерием и мавзолеем очень тесное, и не только на уровне строительных структур, но и в области смысловых высказываний»[339].
Начать с того, что обряд Крещения – это то же омовение, но не тела, а души, и не от материальной нечистоты, а от грехов. Более того, если это буквальный смысл, то дополнительный – он же мистический – это отождествление крещения со смертью и погребением, согласно соответствующему месту послания апостола Павла к Римлянам (6, 3-4). А где погребение ветхого Адама – там и воскресение нового, во Христе Иисусе (здесь вспоминаются толкования св. Василия Великого, Бл. Августина, св. Илария Пиктавийского и, наконец, Ансельма Кентерберийского, выразившегося весьма лаконично: «Figura cuiusdam mortis et sepultare»). Так что, говорит Краутхаймер, нет ничего удивительного, что мышление[340] ранних христиан сближало баптистерии и погребальные сооружения. Чуть ниже та же мысль выражена еще более лапидарно: «Для каждого верующего раннехристианских времен казалось само собой разумеющимся, что происходит перенос строительного типа мавзолея на такую постройку, в которой умирал его ветхий грешный Адам, и он сам призван был умереть вместе со Христом, дабы вместе с ним воскреснуть в Последний день (sic!)»[341]. Воскресение – это «день восьмой», отсюда символика числа «восемь» и октогональная конфигурация баптистериев.
Так становится понятным и роль Анастасис в сложении подобной типологии, тем более что, как известно из описаний той же Этерии, уже в IV веке именно в Анастасис как раз при Гробе Господнем на Пасху совершалось торжественное крещение оглашенных[342]. И целый ряд именно баптистериев (например, в Пизе, с 1153 г.) представляют собой гораздо более точные копии Церкви Воскресения.
Почему иконография?
В целом статья производит впечатление прерванной на полуслове – столько в ней нерешенных проблем, хотя самому Краутхаймеру кажется вполне уместным завершить ее простым перечислением баптистериев, иллюстрирующих мысль о связи Крещения и погребения и, соответственно, баптистерия, то есть центрического сооружения и мавзолея[343].
На самом деле нетрудно догадаться, что отсылка к античному строительному прототипу христианского средневекового типа – это только как бы пролонгированное, отложенное объяснение появления типа, но никак не понимание его смысла. Отдельная проблема – носитель упомянутого крещально-мистериального символизма. Из текста Краутхаймера видно, что для него единственно возможное место появления и хранения смысла – голова человека. В само сооружение смысл привносится актом толкования, которому предшествует восприятие памятника, буквальным образом сориентированного на память, на припоминание некоторых экзегетических истин.
Статья, подобно самой проблеме, требует развития, тоже своего рода истолкования-комментария, и ее автор не посчитал за труд в последующие годы, начиная с 1969, снабдить ее постскриптумами-комментариями, где некоторые общетеоретические моменты были проговорены с чуть большей внятностью. Благодаря им становится более отчетливым идейно-концептуальное лицо Краутхаймера.
В этом смысле особый интерес представляет собой поздний текст 1987 года, в котором Краутхаймер позволяет себе известные теоретические рассуждения на тему смыслового анализа архитектуры. Интересно его отношение к иконологии, которую он справедливо представляет альтернативой «иконографии архитектуры» и оценивает не совсем положительно, хотя и оговаривается, что patres, то есть те же Варбург и Панофский, конечно же, не совсем виноваты в грехах паствы, которая (и это для Краутхаймера не есть хорошо) вольно или невольно всему придает смысл. Тем не менее Краутхаймер вынужден перечислить примеры удачных толкований (это и А. Грабар, и Х. Зедльмайр, и Э. Панофский, и О. фон Симсон, а также Мартин Варнке)[344]. И все же эти авторы, как кажется Краутхаймеру, не отвечают на главный вопрос об «отношении архитектурной формы и ее значения», который сейчас формулируется уже в знакомом нам виде: или толкование post festum, или подбор формы для выражения некоторого содержания, предполагаемого уже в заказе и проекте. В последнем случае содержание становится «формоопределяющим» фактором. Первый же случай – это все изобилие многочастного и многоуровневого символического и аллегорического толкования, привносимого в постройку богословской, но никак не архитектурной традицией (об этом были предыдущие главы нашей работы). И тут же Краутхаймер вспоминает об Иоанне Скотте Эуригене и о характерном для Средневековья «симультанном мышлении на нескольких уровнях», позволявшем по ходу «прочтения» постройки вкладывать в нее «новый и неожиданный смысл», который опять никак не является «формоопределяющим». Тем не менее, как признается Краутхаймер, за последние 45 лет его скепсис по поводу всей этой проблематики только возрос[345]. Иначе говоря, он считает возможным добиться в этой области не определенного, но вероятного, чисто гипотетического знания.
И, как подчеркивает Краутхаймер, единственным относительно достоверным свидетельством смыслового замысла, то есть смысла, вложенного в постройку еще на стадии проекта, является как раз случай копирования, хотя, как мы убедились, здесь больше проблем, чем ответов на один единственный вопрос, волнующий Краутхаймера: что раньше – постройка или ее смысл? Главное сомнение, о котором мы говорили и которое осталось без внимания Краутхаймера и спустя 45 лет после «Введения в иконографию…», – это степень достоверности письменных свидетельств. Об этом у нас еще будет повод поговорить, но уже сейчас совершенно ясно, что письмо не дает достоверного знания, это тот же косвенный источник, обеспечивающий знакомство со значением, которое, по определению, дополнительно, а значит, переносно, в лучшем случае – метонимично.
Вдобавок, кроме осознанных коннотаций (замысел, программа, описание и т. д.), существуют и уровни смысла, которые просто не вмещаются в строго конвенциональные рамки жанра средневекового экфрасиса. Описание постройки – это уже интерпретация, пускай и не богословская, но тем более «проникающая» в сознание, для которого здание, сооружение может выступать в роли источника значения, смыслопорождающей структуры, даже механизма. Так что про архитектуру следует говорить не только как о носителе или вместителе значения, но и как о его «проявителе».
Не скрываемый Краутхаймером скепсис по поводу этих проблем выдает в нем все-таки иконографа, уклоняющегося от любой попытки расширить границы иконографии, включить в поле зрения такие темы, как источники значения, его типы и визуальные производные, а главное – проблему сознания, выступающего в такой ситуации в двоякой и парадоксальной роли: это и источник смысла, и инструмент его обнаружения. Взаимопонимания между памятником и историей искусства можно добиться только в том случае, если существует взаимосвязь между сознанием, например, заказчика и иконографа. Если последний осознает неизбежность и полезность этого взаимодействия, то он, быть может, незаметно для себя, но становится иконологом, герменевтом, феноменологом архитектуры, вовсе не изменяя первичному уровню архитектурных форм, не уклоняясь от него, не отталкивая, но отталкиваясь, используя как точку исхода для движения вперед и выше[346].
Иконографический круг
Итак, позволим себе несколько предварительных обобщений, позволяющих понять специфику и подхода, прямо именуемого «иконографией архитектуры», и достигнутых результатов этого подхода, и возможных ограничений этого метода.
У Краутхаймера понятие «архитектурный тип» сродни понятию «исторический стиль», взятому в чисто формальном плане, как обобщающая, таксономическая характеристика именно формальных особенностей, которые применительно к архитектуре мыслятся как те или иные строительные элементы, то есть части постройки. Это, так сказать, «мембрологический» подход, лишь отчасти похожий на морфологию.
1. Этим отдельным элементам ставится в соответствие некоторый набор спекулятивно-аллегорических идей, связанных, как правило, с областью религии и мифологии.
2. Эти элементы, нагруженные подобного рода значением, выступают как средства, инструмент для выражения этих идей. Но так как и идеи, и элементы мыслятся отдельно, вне соответствующего контекста (контекста нет, потому что как раз задача этой методики и состоит в обнаружении подобного контекста), то единственным способом их связать оказываются языковые ассоциации: строительные элементы мыслятся как готовые единицы языка, то есть слова, в крайнем случае как фразы, предложения. Как нетрудно догадаться, говорить эти готовые фразы могут о столь же готовых идеях. Так замыкается этот даже не герменевтический, а скорее иконографический круг, выход из которого может быть только радикальным – через оставление подобной, если можно так выразиться, «архитектурно-символической лексикографии».
3. Практически методика сводится к описанию типологии, тип – элемент «первичного членения» этого архитектурного языка, из чего следует довольно неприятный вывод о невозможности создания нового языка для новой семантики или новой исторической ситуации. Вся архитектурная деятельность – это только комбинаторика готовых элементов и их вариантов. Исследуется только ситуация возникновения новых сочетаний элементов, но никак не самих элементов. То есть это, несомненно, и классицизирующая методика, имеющая дело только со всякого рода наследием, тезаурусом и, так сказать, его узусом. Как представляется, архитектор просто пользуется несколькими словарями, и его деятельность сводится к деятельности переводчика или даже пересказчика некоторого текста.
4. Отсюда – отсутствие интереса к сознанию, к творческому воображению, к самому творчеству как смыслопорождающему процессу[347].
5. Как следствие – несоответствие методики историческому материалу и ситуации смены всякого рода культурных и религиозных парадигм при переходе от античности (и язычества) к Средним векам (и христианству). Фактически, это означает, что христианского строительного искусства не существует, есть лишь использование в христианских целях языческого наследия.
Наконец, возникает вопрос об иконичности, а значит, и об иконографичности архитектурного образа: ведь если позади христианской архитектуры есть лишь античная архитектура, то, следовательно, отсутствует специфически христианская иконографическая ситуация, ибо отсутствует прототип, прообраз в смысле нерукотворного образа. Остается, так сказать, вертикальная иконографичность, отношение с прообразом трансцендентным, внеисторическим, путь к которому – через сознание, богослужение, экклезиологию и т. д., то есть через то самое содержание, которое совсем не иносказательно, не символически, а буквально и реально наполняло сначала души ранних христиан, а затем и их храмы.
Вне всякого сомнения, Краутхаймер если не осознавал, то ощущал хотя бы часть этих вопросов. В любом случае вопрос о происхождении, источнике смысла в архитектуре не мог его не беспокоить, поэтому так интересно проследить его попытки найти пока еще горизонтальные направления поиска: если не сама архитектурная форма предлагает формообразующую семантику (это было бы тавтологией), то, значит, надо искать поблизости, надо, так сказать, окинуть взглядом окрестности – и не только смысловые и контекстуальные, но и буквальные, топографические и социальные… Вопрос об иконических аспектах архитектуры вызывает потребность исследовать образный потенциал архитектуры как таковой, а значит, и ее живописный аспект, двухмерную сущность.
Сан Стефано Ротондо: топография на месте иконографии
Особое место в развитии (если применимо здесь это понятие) «иконографии архитектуры» – поздняя статья Краутхаймера, приуроченная к известной выставке «Век духовности» (1980) и озаглавленная достаточно специфично: «Пути и заблуждения в позднеантичном церковном строительстве». Скажем сразу: если свою эпохальную статью 1942 года Краутхаймер осторожно назвал, как мы помним, «Введением…», то данный текст можно со всей смелостью именовать «выведением из архитектурной иконографии» – настолько радикально меняет он свои методологические установки.
Дело вовсе не в том, что это текст поздний и его отличает довольно специфический стариковский скепсис. Причина почти неизбежного отказа от иконографического подхода – особого рода памятник, а именно – Сан Стефано Ротондо в Риме, храм, который не вписывается ни в один типологический ряд, стоит особняком и потому, как кажется Краутхаймеру, требует особого подхода, хотя на самом деле, как мы вскоре убедимся, тот иконографический подход, что развивает Краутхаймер, в какой-то момент просто перестает работать.
Приступая к анализу данного сооружения, Краутхаймер напоминает о том неоспоримом факте, что в IV-VI веках церковное строительство во всей Империи было прочно укоренено в «архитектонических концепциях и категориях римско-эллинистического мира». Это предполагало особого рода архитектурное мышление «в рамках специфических строительных типов и категорий, которые (крайне важный ход мысли! – С. В.) развивались применительно к определенным функциям, так что и христианские ктиторы, и руководители церкви с самого начала в известной степени автоматически обращались вспять»[348]. Деятельность раннехристианских зодчих поэтому сводилась к созданию вариантов, которые соответствовали бы ритуальным требованиям христианского богослужения или им просто подходили. Такого рода деятельность предполагала, несомненно, экспериментирование, которое, вполне естественно, не всегда было успешным.
Впрочем, прежде чем говорить о неудачных экспериментах, Краутхаймер напоминает нам историю как раз вполне совершенных достижений на этом поприще. Несомненно, положительной оказывается история базиликального типа сооружений, начиная с Латеранской базилики (318 г.). Специфика новых константиновских сооружений заключается как раз в соответствии готового, античного архитектурного типа и новой функции, задачи – служить местом расположения и функционирования domus ecclesiae, причем взятой в своей чисто общественной, публичной ипостаси. Абсолютно не частный характер такого рода архитектуры определял и выбор типологических источников: специфически общественное сооружение римской поры, именуемой basilica. Как известно уже из «Введения…», базилика содержала в себе как отчетливые социально-политические, так и вполне конкретные религиозные составляющие (последнее определялось присутствием в базилике статуй правителей и божеств). Поэтому «архитектор при дворе Константина, получивший заказ на проект зала для собраний христианской общины, понимал свою задачу исключительно как необходимость создать один из вариантов общего типа зала для собраний, приспособив его к новой функции и новому положению [этой общины] в Империи…»[349]. Константиновская базилика – это все тот же «зал для аудиенций», где вместо земного владыки «принимает» уже Царь Небесный и, соответственно, вместо императорского sedes iustitia мы видим в алтаре епископский трон. Примечательно замечание о том, что богатое внутреннее убранство раннехристианской базилики (при известной простоте и дешевизне собственно архитектурно-строительной части) «призвано было производить глубокое впечатление на общину и удовлетворять претензии императорских заказчиков и церковных властей»[350]. Обращаем внимание на ту идею, что архитектура, по мнению Краутхаймера, способна действовать на чувства независимо от конкретного менталитета. Кроме того, существенна и та мысль, что такого рода архитектура по своей сущности ориентирована на внешний и визуальный эффект, достигаемый при помощи традиционного decorum’а. Как следствие – общее обесценивание античной классической ордерной системы, ведь классические элементы ордерной конструкции представляют собой всего лишь «двухмерные элементы убранства стены»[351]. Частное последствие – столь характерное использование spolia – в декоративно-идеологических целях и безотносительно к их сугубо архитектурным характеристикам. Показательно культурно-историческое резюме, которое в этой связи позволяет себе Краутхаймер, говоря, что в христианских постройках происходит отказ от классического прошлого и ведется поиск новых решений, которые, впрочем, остаются «отчетливо позднеантичными»[352]. Но пройдет около ста лет, и античная традиция вновь пробудится к жизни – в Санта Мария Маджоре, где Краутхаймер весьма одобрительно отмечает возврат пластической моделировки стены и классических пропорций. Все это позволяет ему говорить о позднеантичном христианском ренессансе V века, который, однако, по мнению Краутхаймера, «противоречил главному потоку тогдашней ментальности и был создан лишь для христианской аристократии, включавшей в себя и клириков, и мирян, стремившихся спасти и сберечь в рамках новой веры классическую культуру»[353].
Типология умирания
На этом, казалось бы, вполне невинном культурно-историческом рассуждении стоит остановиться чуть подробнее. Фактически речь идет о весьма специфическом ренессансе, непохожем ни на Ренессанс в собственном смысле слова, ни на ренессансы средневековые. В данном случае мы имеем дело с ренессансом в ситуации умирания культуры. Это особый случай возрождения, представляющий собой, если следовать логике Краутхаймера, скорее имитацию Überleben, причем средствами языка (не случайно постоянно говорится о вокабулярии). Кроме того, следует учитывать, что весь этот ренессанс имел сугубо декоративную природу, был расположен, так сказать, на стенах, обрамляющих пространство, предназначенное, если говорить кратко, для совершения ритуала, священнодействия (следует учитывать динамику этих действий, отличающую их от ситуации торжественного приема-аудиенции). Итак, действующее, активное сознание, целенаправленно выбирающее классический вокабулярий в соответствии со своими религиозно-идейными мотивациями, набор устойчивых, содержательно насыщенных действий (ритуал) – все это не просто отражает новое отношение к архитектуре («удачная адаптация античного строительного типа к потребностям церкви»[354]), но и формирует новую функциональность. Архитектура теперь не самоцель, а всего лишь средство, медиум, инструмент, способный, скажем сразу, забегая вперед, отступить, почти что стушеваться перед собственным смысловым наполнением (в данном случае «наполнение» следует понимать буквально). Можно сказать, что архитектура приобретает специфический погребальный характер: чтобы сохранить и себя, и собственное содержание, она должна превратиться в своего рода мавзолей (отсюда, напомним, происходят и функции баптистерия). Эти наши соображения достаточно важны по той причине, что они помогут нам в дальнейшем оценить собственные тезисы Краутхаймера, увидевшего в такого рода архитектуре нечто иное: амбивалентное, но игровое[355].
Но вернемся к типологии, которой строго придерживается Краутхаймер. Как это ни покажется странным, именно в момент распространения и на Западе, и на Востоке базиликального сооружения, которое, как мы помним, дает пример наилучшего соотношения строительного предложения и идейного спроса, именно в этот момент на том же Востоке получает распространение тип, совсем не приспособленный к сугубой функциональности христианского богослужения, – центрическое сооружение, к которому, напомним, относится и то сооружение, что стало импульсом для данного текста Краутхаймера.
Важно то, что начало именно христианской центрической типологии – все то же константиновское время (т.н. Великая церковь в Антиохии), хотя расцвет – эпоха Юстиниана. Лучшие образцы – церковь Сергия и Вакха (после 527 г.), естественно – Сан Витале, апофеоз развития – Святая София в Константинополе. Но истоки, корни такого типа сооружений – время опять-таки еще языческое (II в.), особая типология т.н. павильонной архитектуры, лучшие образцы которой встречаются на вилле Адриана в Тиволи. Отличительные признаки этой типологии – не просто криволинейные (вогнутые и выгнутые) стены, не просто колоннады вместо стен, но принципиально иная концепция стены как «тонкой мембраны, упраздняемой с помощью колонн». Кроме того, такие стены открыты вовне, в соседние пространства, снабженные часто всякого рода водными устройствами (нимфеями, фонтанами, бассейнами). Эта типология весьма богата вариантами, но их все объединяет особый «род игровых архитектонических элементов, оформление ландшафта и вода». Такого рода постройки «работают со взаимопроникающими внутренними и внешними пространствами, с пересекающимися рядами колонн и чередующимися освещенными и затемненными зонами»[356]. Из этих павильонов происходят типичные для вилл и дворцов поздней античности saloni, имевшие зачастую и религиозную подоплеку, если они служили местом проведения официальных императорских приемов. И подобно тому как раннехристианские базилики – прямой извод римских базилик, так и центрические храмы той же юстиниановской эпохи – просто вариант этих самых saloni. Но, говорит Краутхаймер, между ними (то есть базиликой и центрическим храмом) есть и различия.
Как выясняется, различия совершенно принципиальные. Базилика – сооружение официальное, публичное, традиционное и незамысловатое, предназначенное для большого числа верующих, и, так сказать, общественное мнение сопротивлялось всяким инновациям относительного этого типа. У центрического сооружения не было такой укорененности в античном прошлом, павильоны с нишами и прочее возникали именно как позднеантичные инновации и вовсе не стремились к общественной популярности. Они просто не были общественными сооружениями, представляли собой изысканные сооружения для избранного круга ценителей, и их превращение в христианскую церковь – процесс вовсе не простой и не безболезненный. По словам Краутхаймера, это нечто похожее на «гибридизацию» – искусственную пересадку строительного типа (вместе с его функциональностью и планировкой) на «чужеродную почву».
В результате проблемы только увеличивались, и самая главная из них – это проблема пространства, если оно предназначалось для христианского богослужения. Во-первых, в такого рода пространстве невозможно сохранить центрально-осевую ориентацию, если иметь в виду размещение Престола (вообще алтаря), который не может находиться в центре (под куполом), а помещение его, например, в восточной нише (в хор или пресбитерий) сразу смещает и искажает, децентрализирует пространство. Такие пространства, во-вторых, не приспособлены для размещения большого числа верующих, для которых собственно алтарь остается вне поля зрения[357]. Очевидно, что такого рода пространство рассчитано не на внешний эстетический эффект, как пространство и убранство базилик, а скорее на более тонкую эстетическую восприимчивость, а главное – на подключение интеллекта и воображения (то, что невозможно увидеть непосредственно, можно довообразить). А подобными качествами, по мнению Краутхаймера, отличалась в то время «образованная и полная амбиций элита»[358].
Подводя промежуточный итог такого рода экскурсу, Краутхаймер еще раз подчеркивает, что базилика – это «просто вариант античного “жанра” зала для собраний, но на более элементарном конструктивном уровне и со столь же элементарным планом». Подобного рода элементарность обеспечивала переход от светского к церковно-христианскому использованию. Этот переход, по мнению Краутхаймера, заключался в приспособлении базилики к «литургическим условиям», как прежде – к требованиям императорского церемониала, которые «в ней (базилике) отражались»[359].
Центрическое сооружение как архитектурный жанр
Это что касается базилики. Рассуждения о центрическом типе отличаются совсем иной логикой. Этот тип церкви коренится в «жанре» «великосветских и утонченных павильонов», мыслившихся как предназначенные для небольших, интимных собраний. Перевод этого типа в «чуждые категории церковного здания» представлял собой инновацию. И так как этот перенос был искусственным, то он не всегда был удачным. Могли случаться и «ложные движения». Пример Св. Софии – на грани риска. Сан Стефано Ротондо, как со всей определенностью подчеркивает Краутхаймер, – «бросающийся в глаза пример» ошибочного решения[360].
В чем состояла ошибка? В неприспособленности Сан Стефано, не имеющего эмпор, служить в полной мере литургическим функциям, если иметь в виду римскую Мессу. Столь же непохожа эта круглая церковь и на мартириум (нет свидетельств присутствия в ней «мало-мальски значимых реликвий»). Вспоминает Краутхаймер и свою сорокалетней давности гипотезу, что перед нами копия Анастасис. Действительно, очень много подтверждений этой гипотезы, если иметь в виду именно средневековую манеру копирования, говорит Краутхаймер («избирательное смешение в новых условиях некоторых отличительных признаков оригинала и чуждых частей»). И схожий план, и ниши, и круговой обход с нишами (капеллами), и, наконец, совершенно точное повторение диаметра центрального пространства – все это говорит о том, что перед нами копия. Но нет круглого коридора (если не брать в расчет внешний двор) – и это обстоятельство позволяет Краутхаймеру в 1980 году отказаться от гипотезы копирования и искать «совершенно иных контекстов» для объяснения смысла данного сооружения.
Очень трудно понять подобный поворот мысли. Сразу хочется возразить, что ведь сам Краутхаймер подчеркивал приблизительность, условность практики копирования, а в данном случае лишь одно отступление от оригинала при совпадении всех прочих параметров, вплоть до размеров заставляет отвергнуть почти что очевидные вещи. Конечно, играет роль то обстоятельство, что нет документальных свидетельств, что данная постройка мыслилась как копия храма Гроба Господня. Но важнее, видимо, другое: желание Краутхаймера сменить те самые контексты. Это тоже своего рода эксперимент, идейная инновация, поддержанная самим материалом, который тоже есть новшество. Посмотрим, что предлагает Краутхаймер взамен своей прежней концепции, которая, как мы знаем, когда-то именовалась «иконографией архитектуры». Фактически, смена контекстов означает отказ от этой самой иконографии.
Краутхаймер вновь напоминает нам, что и языческие, и христианские, и светские, и церковные постройки поздней античности – все в равной степени пользовались единым вокабулярием. Проблема состоит в механизме – и в смысле – переноса языческой дворцовой и павильонной архитектуры в христианскую церковную архитектуру. По мнению Краутхаймера, проблема Сан Стефано Ротондо заключается в том, что здесь мы имеем пример переноса не всего типа, как в прочих центрических сооружениях того времени, а «разрозненных элементов»[361], из которых составляется «совершенно новый церковный план». Как объяснить эту ситуацию? Вот тут-то и начинается самое примечательное…
Приходится цитировать: «Можно было бы попытаться измыслить высокодуховную теорию, дабы объяснить подобный феномен. Но здоровый человеческий рассудок предлагает более простое решение. Оно получается благодаря учету топографического положения церкви»[362]. Вот так… Вспомним действительно высокодуховное объяснение практически тех же проблем во «Введении…». Здесь же вдруг – обескураживающая топография вкупе со «здравым рассудком». Дело в том, что это место (обратный склон Целия) – своеобразная «зеленая зона», пригород Рима. Причем пригород аристократический, место многочисленных вилл и особняков римской знати, и даже – императора. Все эти постройки содержали уже знакомые нам павильоны, повлиявшие на рассматриваемую церковь. Сан Стефано позаимствовал у этих сооружений «облегченно-игровой» характер организации элементов, открытость вовне, в пейзаж, и, так сказать, экспериментальный подход. И в данном случае, как вновь и вновь подчеркивает Краутхаймер, эксперимент оказался неудачным, игра превзошла функциональную полезность: Сан Стефано – «прекрасное заблуждение поздней античности»[363].
Итак, в центре нашего внимания – проблема ревизии Краутхаймером его собственной гипотезы о Сан Стефано как копии Сан Сеполькро: зачем нужны внехудожественные и внерелигиозные подтверждения? При ближайшем рассмотрении видно, что перед нами именно идеальный вариант «иконографии архитектуры». Оригинал – храм Гроба Господня – представлен именно в виде архитектурного типа. Вариант-извод воспроизведен сугубо архитектурными средствами – вокабулярием-decorum’ом, заставляющим эту схему как бы невидимо пребывать в готовом сооружении.
Кроме того, если это все-таки копия, то ее топография оправдывает ее типологию: именно желание иметь архитектоническую реликвию, освящающую определенное место, объясняет и «павильонный», не совсем функциональный характер этого сооружения. Странно, что Краутхаймер отказался от этой совершенно очевидной «сакральной топографии», пусть и отдельно взятого места[364].
Стоит обсудить и, казалось бы, столь изящное решение всех проблем, как тезис об интеллектуальных играх, отразившихся в данном памятнике. Если вспомнить более ранний тезис о попытках культурной элиты поздней античности удержать жизнь в умирающем теле античной традиции, то этот игровой аспект должен быть дополнен и моментом погребально-мемориальным (об этом ниже).
Пока же попробуем уточнить момент игры как скорее момент комбинаторики, как принцип коллажа, наложения и группировки элементов, что оказывается возможным только при наличии сверхархитектурного Hintergrund[365] (или, лучше сказать, контекста, среды, окружения и т. д.), который только и объединяет памятник, созданный, если верить Краутхаймеру, столь смелым и экспериментальным способом, в единое целое[366].
Кроме того, тот же самый аспект Gesammtkunstwerk’а содержится и в себе и отмечаемая Краутхаймером связь с окружающим пространством. Так воплощается не только специфически сакральная топография, но и просто соотнесенность с неким сверхцелым, городской и ландшафтной средой (до той же Латеранской базилики, по словам Краутхаймера, 10 минут пешком)[367]. Не стоит упускать из виду и роль воздуха, а также водной стихии.
Что же это за Gesammtkunstwerk, который может быть и пластическим, и ландшафтным, и повседневно-профанным и ритуально-сакральным? По всей видимости, основание этого сверхцелого – особым образом артикулированное пространство, причем не только внешнее, но и внутреннее. Отсюда и возможность перехода от топографии к топологии, так как внутреннее церковное пространство связано не только с геометрией архитектонических элементов, но и с динамическими, сенсомоторными состояниями человеческого тела, переживающего соответствующие пространственно-пластические структуры, пребывающего перед лицом всей семантики и всей, что еще важнее, прагматики трансфигурационной мистериальности Литургии.
Поэтому без обращения к духу, как бы ни хотел избежать этого Краутхаймер, все-таки не обойтись. Материальные недостатки, рискованные эксперименты, заблуждения и даже неудачные игры могут восполняться уже на уровне нематериальном, свидетельствуя о незавершенности, открытости процессов зримых, осязаемых и описуемых, даже об их прозрачности (ср. характеристику стен павильонной архитектуры)[368].
Но незримость бывает и более рационального порядка: имеется в виду язык. Ведь категория «вокабулярий» в тексте Краутхаймера не случайна. Это не просто удобное выражение: «вокабулярий» отражает целый ряд лингвистических измерений, казалось бы, чисто архитектурного дискурса. Наличие словаря предполагает:
1. его объем, состав и, главное, составителей;
2. синтаксис, правила пользования;
3. вербальное восполнение, продолжение архитектурного языка (или его предвосхищение);
4. описание, нарратив[369].
Получается, что постройка – часть более обширного целого, может быть, даже просто звено в цепочке тех же нарративов. Забегая вперед, можно сказать, что именно эта цепочка разного рода «повествований» способна не только заменить, но и попросту вытеснить иконографический ряд!
Отдельное измерение этой метаархитектурной «лингвистики» – тематические структуры, включающие в себя и тему умирания, предполагающую припоминание. Последнее, как известно, имеет и сугубо литургический смысл, хотя вполне допустимы и более «светские» оттенки. Архитектура может если не изображать, то хотя бы предполагать смерть, включать ее в себя, находить в себе место для умирания. Но нет ли в Сан Стефано Ротондо места и для мемориально-музеальных явлений? Вспомним хотя две библиотеки (греческую и латинскую) во дворце заказчика Сан Стефано, папы Иллария. Принципиальный и много объясняющий момент состоит в том, что в музее не стоит долго оставаться. Музей – это вовсе не дом, не храм, а именно гробница, даже кенотаф, склеп и т. д. Из него следует выходить вовне, наружу (или уходить внутрь, в себя).
Поэтому топография предполагает путь, движение, быть может, и сквозь архитектонику, и сквозь культурно-исторический, земной путь самой архитектуры – все к той же Анастасис. Другими словами, и погребальный, и мемориальный характер подобного рода архитектуры вовсе не исключает тему оживления, воскресения в новой вере старого, ветхого наследия, хотя бы его «крещения», обновления.
Пример более раннего и более сложно устроенного памятника – Санта Констанца – дает повод к обсуждению такой темы, как направления памяти, как измерения «пространства Мнемозины». Язычество предполагает путь вниз, Евангелие – вширь, путь распространения (созидания пространства). Эсхатон (обязательная тема любого литургического пространства) – путь вверх и вглубь (в смысле – внутрь). Но все вместе – это три вектора глубины (углубления). Видимо, существует и погружение вширь – путь углубления, например, в лесные дебри или во внешний мир.
Топография прежде топологии
Ситуация с подобного рода памятником иллюстрирует со всей наглядностью ограниченные возможности, если можно так выразиться, лексикографически-иконографического подхода, понятого как выявление внутренней, так сказать, «иконографичности» того или иного архитектурного вокабулярия (возможности выстраивания на его материале отношений оригинал/копия). Отсутствие иконографического ряда или невозможность вписать конкретный памятник в известный ряд в силу его уникальности может свидетельствовать и об уникальности памятника, и просто о недостаточной сохранности материала. Кроме того, обнаруженные нами у Краутхаймера явные натяжки и затруднения с интерпретацией отдельных черт[370] указывают на такую сущностную черту любого архитектурного сооружения, как достаточно высокая степень абстрактности этих самых черт: невысокая степень характерности тех или иных качеств затрудняет точность идентификации этих качеств именно как характерных. Мы видели, как Краутхаймеру приходится выступать в не совсем привычной роли архитектурного критика, дабы через оценку отдельных признаков составить, так сказать, портрет памятника.
И как это типично, что недостаточность типологических ресурсов анализа восполняется топографическими аргументами! Но это топография и методологического порядка: важно учесть не только местоположение архитектурной постройки, но и топографию архитектуроведческого построения. Краутхаймер предпочитает оставаться в границах иконографического дискурса, и поэтому, как это не покажется парадоксальным, он вынужден почти буквально выходить за пределы собственно архитектуры, осматривать, так сказать, окрестности. Если у памятника нет внутриархитектурных (типологических) связей, если он уникален по той или иной причине, то его локализация внутри истории архитектуры (на путях архитектуры) оказывается затруднительной, и приходится говорить о заблуждениях истории архитектуры (памятник оказывается буквально на обочине этих путей). Приходится истолковывать памятник, исходя не из его внутреннего смысла, а исходя из него самого буквально: исходить в смысле выходить вовне, объяснять местоположением (топографией), социальными обстоятельствами и т. д.
И все эти затруднения происходят из фундаментальных теоретических принципов, принимаемых данным вариантом иконографии. Самое здесь важное – это оперирование категорией архитектурного типа, понятого чисто морфологически и чисто таксономически: тип как результат типизации, тип как аналог композиционной схемы. Второй теоретический постулат, практически не обсуждаемый Краутхаймером ни здесь, ни в других текстах, – это, так сказать, лексикографический подход, признак которого – так часто используемое понятие «вокабулярий».
Можно сказать так: поскольку топография (описание места) не стала топологией (интерпретацией пространственных структур и отношений), постольку иконография не превратилась в иконологию. Важно еще добавить: пример «иконографии архитектуры» в изводе Краутхаймера показывает, что прямой путь анализа «архитектуры как носителя смысла» идет именно по направлению к иконологии.
Но самый перспективный аспект – это взаимоотношение архитектурного вокабулярия и вербального. Быть может, Краутхаймер вынужден пользоваться этим «лексикографическим» методом, ибо он навязан ему самой природой данной архитектуры. Вспомним, как начинается эта статья. Речь не случайно идет о готовых, еще античных типах, освоенных новой верой и приспособленных к новым задачам. Это как бы прежний язык, используемый для новых тем (функций). Это не просто говорящая архитектура, а архитектура пересказывающая, цитирующая, так сказать, без кавычек. Что это напоминает? Несомненно, экфрасис, в котором заключены и описательные (собственно иконографические), и риторические, и поэтологические (фактически уже иконологические) аспекты, в первую очередь, восприятия архитектурного целого.
От иконографии архитектуры к сценографии живописи или возвращение торгующих
Мы видели, что проблема истолкования семантики тех или иных архитектурных элементов («вокабулярия») упирается в проблему пользования (копирование – то же использование) этими элементами со стороны архитекторов, заказчиков, может быть, авторов программ, фактически придававших им то или иное значение, наделявших их тем или иным смыслом не по ходу истолкования (экзегезы), а из практических (пусть и идейных, религиозных) соображений. Это, так сказать, пользовательский смысл, самый надежный и верифицируемый, особенно если речь идет о ситуации копирования одного памятника с помощью другого. Зачем копируют – это почти что то же самое, что и зачем строят.
Вслед за этой архитектурной прагматикой, подразумевающей выбор мотивов, наделение функциональностью, то есть буквально смысловой нагрузкой, сразу и логично возникает проблема архитектурного сознания, мышления, пользующегося подобным архитектурным языком. Что можно рассматривать в качестве ключа к этому сознанию, что свидетельствует о структурах этого сознания, если принимать архитектурные постройки за документацию ее деятельности, ее, так сказать, внешние результаты?
Видимо, проективные формы этой архитектуры, то есть иконографию архитектуры в другом смысле слова: иконографию уже как предмет, а не как инструмент архитектуры. Хотя, несомненно, следует помнить, что эту самую двухмерность, проективность можно и нужно рассматривать не как производный, конечный результат архитектурной деятельности, а совсем наоборот: проект, эскиз предшествует постройке, архитектура начинается на бумаге или на холсте, то есть в двухмерности, и иногда в двухмерном состоянии и остается – по тем или иным, иногда очень существенным и показательным причинам[371].
Замечательно, что Краутхаймер сам прошел этой методологической стезей (отдельный вопрос – и не простой, как мы скоро выясним, – в какой степени он сделал это сознательно). Имеется в виду его еще одна эпохальная статья, сыгравшая примерно ту же роль, что «Введение в иконографию…», но уже в области изучения проблем ренессансной живописи. Это «Scena tragica и scena comica в эпоху Ренессанса…» (1948)[372].
«Иконографична» сама формулировка задачи данной статьи – «объяснения предмета» изображения, то есть того, что изображено на двух знаменитых ведутах – из Урбино (с архитектурой в ренессансном вкусе) и из Балтимора (с архитектурой античной, римской). Идея Краутхаймера заключается в том, что он предлагает видеть в них образцы (чуть ли не первые) ренессансной сценографии: эскизы (проекты) двух типов сценической декорации – scena tragica и scena comica (включающих в себя архитектуру классическую и современную соответственно).
Характеристика двух панелей дается сразу, и ей нельзя отказать в лапидарной выразительности (вообще свойственной, между прочим, краутхаймеровскому стилю). Главное в них то, что они суть прежде всего перспективные построения («тесное единство и квазисходство сценической декорации и сценического подобия»[373]). Но, тут же оговаривается Краутхаймер, перспектива – только средство приспособления «пространственных представлений» к «заднику театральной постановки».
Пространства письма
Другими словами, обозначается сразу несколько планов реальности (от трех до четырех), переводимых («транспонируемых») друг в друга: 1) представления о пространстве (полученные в результате, надо думать, некоего опыта восприятия или построения пространства); 2) само пространство, которое в результате получается или имеется в виду; фон (задник) декорации; 3) театральное представление в его динамике. И все эти уровни необходимо пропустить сквозь такую инстанцию, как зрительское восприятие.
Что обеспечивает переход? Это тот же вопрос, что возникает в связи с проблемой tertium comparationis. И ответ тот же, что во «Введении…», – язык, точнее говоря, письменный (литературный) текст. Описание (комментирование) соответствующего места из Витрувия. Иначе говоря, существует единое пространство письма, внутри которого допустимо производить всякого рода манипуляции с гетерогенными подпространствами-областями (пространство ментальных представлений, пространство иллюзионистического задника, пространство сценического действия, пространство зрительного зала и зрительского присутствия-восприятия). Это, так сказать, формула того самого пафоса, что пронизывает всю статью.
Не менее существенный аспект заключается в том, что «задник» имеет универсальный характер, он соответствует жанрам (Бялостоцкий сказал бы – модусам). Фактически это значит, что «пространственные представления» должны соответствовать театральным представлениям, то есть иметь игровой характер. Жанр сценический определяет (корректирует) «жанр» пространства, характер действия обусловливает характер пространственных структур, а значит, ритуала, обряда. Сам Витрувий, а вслед за ним и Серлио ставят в соответствие характер архитектуры характеру действия (событий и персонажей, в них участвующих). Серлио перечисляет те события, которые могут происходить только на сцене трагической. Это и несчастная любовь, и непредвиденные обстоятельства, и жестокая или мучительная смерть. Причем, что немаловажно, – с участием исключительно великих, то есть благородных, людей, обстоятельства жизни которых имеют всеобщее значение. И эти обстоятельства свершаются в своем пространстве – исключительно классическом. Иначе говоря, античность – это трагедия, это смерть, предел, грань…
Но в то же время понятно, что античность – это прошлое, минувшее, то, чего можно избежать, с чем можно разминуться. Здесь особенно важно учитывать социально-психологический статус зрителей, которые из зрительного зала взирают на угрозы, которые не суть здесь и сейчас, ибо они – в античности, в классическом пространстве, они не настоящие… Упомянем уже сейчас концовку этой статьи, где, как выясняется, встает вопрос о том, не обязан ли и историк-комментатор быть тем же зрителем и пребывать в той же «модальности» своего характера, то есть быть «благородным», связанным с прошлым, с древностью, дабы избежать одной из возможных «пограничных ситуаций» – утраты смысла, то есть непонимания.
Для scena comica важно следующее: это должна быть современная архитектура, принадлежащая частным лицам, и почти обязательным условием является присутствие tempio. С последним и связаны, как нам кажется, все основные особенности и главные проблемы концепции Краутхаймера. Скажем сразу, Краутхаймер отказывает этому круглому, центрическому сооружению во всякой сакральности, хотя уже присутствие этого сооружения внутри современного, повседневного пространства, лишенного экзистенциальных угроз, – уже это заставляет думать: не случайно именно этому tempio изображенный в урбинской ведуте мир обязан своим покоем и миром. Но проследим за аргументацией Краутхаймера, склонного к совсем иным выводам.
Уже в описании этих двух типов сцен мы наблюдаем целый ряд особенностей. Архитектурные формы для него, как мы уже не раз отмечали, суть «вокабулярий», который может использоваться для тех или иных построений, которые должна отличать та или иная степень «симметрии и гармонии». И этот синтаксис дополняется семантикой, которая подразумевает и конкретную прагматику (ведь строится пространство действия).
Впрочем, сразу обратим внимание на степень, так сказать, текстуализации ситуации: мы разбираем лексику (1) – словесного описания Краутхаймером (2) – гравюрной иллюстрации (3) – к принадлежащего Серлио комментария (4) – трактата Витрувия (5)! Целых пять степеней или защиты, или отчуждения! Так что выбранный Краутхаймером чисто языковой подход к анализу изобразительно-архитектурных проблем кажется просто неизбежным. Ведь один лишь язык связывает все эти уровни. Если это не язык, то тогда это ничто, фикция. Кстати, scena tragica отличается в изложении Краутхаймера специфической поэтикой, выражающей отношение к реальности. Это воспроизведение «реальности более высокого порядка, реальности, которая за пределами опыта повседневной жизни; эта архитектура представляет собой ни в каком месте и ни в каком времени не существующее Нигде, и возникло оно из весьма свободной интерпретации античности»[374].
Попробуем расшифровать эту теоретическую скоропись. Уже использование (изображение) архитектурных элементов (мотивов) есть интерпретация этого самого вокабулярия и, следовательно, стоящей за ним традиции (античности). Результат этих построений – изображенное, опять же проинтерпретированное, пространство (место), то есть реальность. Другими словами, перед нами – наглядная документация отношения к архитектуре как таковой, и, соответственно, отношения к той же реальности (во всех ее проявлениях) со стороны самой архитектуры.
Живопись как симптом архитектуры
Это положение предельно существенно для наших рассуждений. Двухмерное (в данном случае – графическое) построение – источник наглядной симптоматики, касающейся архитектурных построений. Другими словами, выражаясь чуть более лапидарно: ситуация использования образа архитектуры – свидетельство того, каким образом относятся к архитектуре и как она относится к реальности.
Там, где есть отношение к чему-либо, – там присутствуют ценностные измерения, то есть отношение к жизни вообще. Одна из этих ценностных иерархий, которые знает Ренессанс (в лице того же Альберти), – это социальные отношения, хотя ценности касаются и области прекрасного, и области нравственного (Краутхаймер упоминает «нисходящий порядок ранга красоты и достоинства»[375]).
И все эти рассуждения позволяют Краутхаймеру сделать промежуточный вывод: панели-ведуты означают (то есть содержат в себе значение) именно то, что можно найти у Альберти, а именно «представления о социальном статусе архитектуры»[376].
Свою задачу мы видим в попытке не просто усомниться в столь узком понимании данных вещей, но и объяснить, почему Краутхаймер столь прямолинеен и столь буквален, столь «лингвистичен» и столь секулярен.
Это, вероятно, вопросы, относящиеся ко всей концепции «иконографии архитектуры», как ее развивает Краутхаймер. Его собственные описания, комментарии, толкования – не есть ли это тоже своего рода копии? И почему они тоже, подобно средневековым архитектурным копиям, столь селективны? И отсюда тот же вопрос, что был у Краутхаймера к практике архитектурного копирования: его собственные толкования – post festum, или это предварительные представления? Ответы, как мы понимаем проблему, располагаются в принципиально иной сфере – в области иконологии, точнее говоря, феноменологического комментирования данных, представляемых иконографией.
Что же мы имеем у самого Краутхаймера? После весьма детальных описаний архитектурного содержания этих живописных панелей он, естественно, обращает внимание на круглую постройку в центре урбинского вида, замечая, что «при беглом рассмотрении эта постройка выглядит похожей на все те многочисленные tempietti, которые живописцы Возрождения любили помещать посередине своих площадей»[377]. Но храм ли это, задается вопросом Краутхаймер? Что же его смущает? Именно то, что он увидел! А увидел он следующее, и увиденное не может не вызывать удивление. «Первый этаж подымается над крестообразной (?), оформленной ступеньками платформе, он открыт на все стороны (?). Лишь похожие на парапет тонкие стены, выполненные согласно opus reticulatum, помещены между столбами с их полуколоннами, причем так, как будто это торговые точки(?)». Ему кажется, точнее говоря, он уверен, что «здание целиком есть не что иное, как торговый зал, редкий архитектурный тип…»[378].
Даже не принимая в расчет сомнения в очевидности этих наблюдений, мы вынуждены задаться вопросом: откуда вообще круглая постройка, античный мотив появляется в комической сцене, предполагающей, как мы знаем, пространство повседневной и современной жизни? У Краутхаймера, кажется, есть ответ на этот вопрос. В позднереспубликанскую и императорскую эпоху римская рыночная площадь, именуемая maccela, украшается толосом, который мог быть и святилищем, и, например, павильоном с фонтаном (!). Все вроде бы подходит для трактовки этого круглого сооружения в духе «Введения…» (где фонтан, где вода, там термы, баптистерии), но Краутхаймер предпочитает выстраивать линию аргументов в пользу торговой версии, ведь существуют письменные источники, известные «всякому хорошему гуманисту XV века», упоминающие maccelum magnum, то есть «здание для торговых целей». Об этом свидетельствуют и изображения на монетах того времени. Тем не менее не совсем понятно; площадь может быть и рыночной, но храм на ней может стоять вполне настоящий, что же заставляет заменять храм, пусть и посвященный «божеству торговли», на просто «супермаркет», как позволяет себе выразиться Краутхаймер?[379]. Почему, как считает Краутхаймер, в глазах гуманиста XV века наличия этой постройки уже достаточно, чтобы характеризовать такого рода площадь как рыночную? Иначе говоря, tempio остается tempio, даже если он и украшен статуей dea copia. Мы можем сказать так: типология сама в себе содержит или хранит некоторое собственное значение, сохраняющееся независимо и от контекстов, и от истолкований: типология храма остается таковой, даже если храм превращен в «торжище»[380].
От взора Краутхаймера не ускользает тот факт, что классические и «низкие» элементы в разбираемых ведутах находятся в смешанном состоянии. Это позволяет ему предположить, что данные изображения – ранние стадии процесса формирования, складывания, можно сказать, сценографической иконографии. Что же располагается между Серлио и, предположительно, Лаурано? И тут-то начинается самое интересное, потому что собственно художественных источников, относящихся к периоду между 1470 и 1520 годами, практически нет. И поэтому приходится обращаться уже к письменным, литературным источникам, главный из которых – описание одной сценической перспективы, принадлежащее Джованни Сульпицио да Вероли. В своем посвящении, адресованном кардиналу Рафаэлю Риарио, он вспоминает постановку комедии Помпония Лета, осуществленную в домашнем театре кардинала в 1480-е годы. В тексте Сульпицио встречается примечательное выражение: «facies picturatae scenae». Краутхаймер истолковывает эту самую «facies» как живописный задник сцены, причем подвижный, или помещенный в раму, или представляющий собой просто занавес. Так возникает, по мнению Краутхаймера, связь между разбираемыми ведутами и более поздними типами сценографии.
Но гораздо важнее, что благодаря этим литературным источникам обозначаются три личности – кардинал Риарио, Джованни Сульпицио да Вероли и Помпоний Лет. И эти три персонажа «высвечивают проблемный круг, в котором заключен [вопрос] о происхождении сценической декорации в конце XV века»[381]. И далее идут краткие характеристики данных исторических личностей, и именно из этих характеристик и выплывает культурно-историческое значение самих памятников из Урбино и Балтимора. Попробуем проследить эту логику и, соответственно, методику. Это важно потому, что, как мы убедились, до сих пор все усилия Краутхаймера были направлены на выяснение, что изображено. Ответ на этот вопрос удовлетворять может, мягко выражаясь, не в полной мере. Вероятно, переход на уровень личностных характеристик призван, в том числе, восполнить все прежние рассуждения, вывести проблему в область понимания и истинного толкования, добавляющего первичному явлению новые смысловые измерения. Тем более что сам процесс характеристики предполагает отношение к личности, ее оценку, что напрямую выражает отношение исследователя и к исследуемой проблеме.
Что же это за личности и что за характеристики они заслужили со стороны Краутхаймера? Кардинал Риарио: непот Сикста IV, заказчик Палаццо Канчеляриа в 80-90-е годы, авторство проекта приписывается архитекторам круга последователей Альберти (быть может, и урбинского происхождения), энтузиаст возрождения театра в Риме. Помпоний Лет заслуживает у Краутхаймера более специфической оценки: он «мученик античности», один из инициаторов «воскресения» Римской Академии в 80-е годы, «ведущий театральный деятель» в те же годы, постановщик Плавта и Сенеки на Капитолии, в замке Св. Ангела и в частном доме Риарио, наконец, знаток и собиратель античных рукописей, прежде всего – технического содержания, публикатор Витрувия (при участии того же Сульпицио). Итак, изучение Витрувия, «пробуждение к сценической жизни» древнеримских драматургов и первые шаги театральной декорации – вот «неразрывная триада» культурной жизни в Риме позднего XV века. И все это совмещается в письме да Вероли юному кардиналу Риарио. Краутхаймер отмечает, что это послание-посвящение есть не что иное, как «страстная тирада», и сразу вспоминается варбургианская «формула пафоса». Цель этого посвящения – сподвигнуть кардинала на поддержку театрального возрождения. Аргументация просто неподражаема: «Мы нуждаемся в театре… церквей нам хватает, и ты сможешь их еще построить, когда станешь старым»[382]. Стоит обратить внимание, что восстановление античного театра начинается с восстановления театрального здания. Архитектурная постройка предстает образом, копией античного театра как такового. Кроме того, характерны оппозиции: театр–молодость, церковь–старость. Именно такова хронология личных достижений кардинала. Понятно, что более позднее событие – строительство церкви – включает достижение предшествующее, то есть воздвижение театра. Античный вокабулярий предполагается и там и здесь, и это весьма характерно. И наконец, просто удивительно следующее обстоятельство: кардинал уже прославился к тому времени тем, что обеспечил Рим водой (сооружение акведука в римском духе), ему осталось закрепить свою славу театральным мероприятием. Как это напоминает ситуацию с Сан Стефано Ротондо! Те же водные увлечения, те же игровые, постановочные свойства пространства «павильонной архитектуры», и все это – в круге римской церковной знати. Или эти совпадения кажутся таковыми благодаря изложению Краутхаймера?
Заключительные рассуждения Краутхаймера выводят – довольно неожиданно – всю проблематику возрождения и античного театра, и античной архитектуры как таковой на качественно новый, высший уровень изобразительно-философской поэтики. Вся проблематика театральности, сценографичности только подводит и исследователя, и читателя к одной простой мысли, имеющей совершенно не простые последствия: сама интенция возрождения чего-либо есть функция воображения. Не случайно, как считает Краутхаймер, в одном культурном кругу пересеклись интересы к Витрувию с интересами к театру: витрувианскую архитектуру можно было возрождать только в виде театральной декорации («гораздо легче, чем в действительности»[383]), причем понятой заведомо в антивитрувианском духе, ведь для самого Витрувия его сценографические рассуждения касались scena frons, а эпоха Возрождения перенесла их на перспективный задник – плоскостный и изготовленный с помощью живописи. «Античность, как ее понимал Ренессанс, открывалась ему воистину в виде воображаемой страны – в виде реальности высшего порядка, самодостаточной в себе»[384]. Почему же театр? А потому что в реальности «в каком-нибудь городе, будь то даже Рим, или Флоренция, или Мантуя, можно создать лишь отдельное здание – церковь, дворец, быть может, даже отдельный дом – так, чтобы оно представляло возрожденную античность. Оно выделялось бы среди средневекового окружения, однако выглядело бы чужеродным телом. Преобразование целого города оставалось никогда не осуществимым идеалом /…/ Но на холсте или на сцене подобное было вполне возможно…»[385]. Возвышающееся над средневековым (или современным) городом античное строение – не напоминает ли нам это что-то очень знакомое? Краутхаймер как будто не замечает, что описывает урбинскую ведуту, которую скорее следует считать перспективной фантазией, чем «своего рода написанным красками комментарием к разделу о театру»[386] книги Витрувия. Причина предпочтения живописи архитектуре состоит не только и не столько в том, что физически проще выстроить архитектурную грезу на плоскости и в малом масштабе, чем в реальном пространстве и в натуральную величину. Никто не говорит, что Ренессанс мыслил возрождение античного зодчества на градостроительном уровне и in toto. В том-то и дело, что «мечта о восстановлении» удерживалась в пределах все того же архитектонического вокабулярия, типологического глоссария, то есть на уровне отдельных элементов, форм, типов. Причина расположена в несколько другой плоскости: это действительно ситуация мечты, это пространство воображения, и оно по природе своей двухмерно и проективно, ее размерность подходит для живописного языка, оперирующего ограниченной, обрамленной плоскостью, предполагающей фронтальный, лицевой контакт с неподвижным зрителем. То, что Краутхаймер описывает как особенности театрально-игровой, то есть условной и открытой, пространственной структуры (среды), предназначенной для эстетического «разглядывания», – есть не что иное, как родовые черты станковой картины как совершенно специфического типа изобразительности, появившейся на свет как раз где-то в XV веке.
Не случайно и сам Краутхаймер (со ссылкой на Фриске Кимбалла, первого серьезного исследователя разбираемых ведут) в конце концов вспоминает перспективные штудии, в первую очередь, круга Альберти, у которого, как выясняется только в конце статьи, тоже есть комментарий на Витрувия, и гораздо более подробный, чем у Сульпицио и Серлио. Самое примечательное и для нас просто бесконечно важное место – это предложенный Альберти вариант все того же facies. Есть три рода театрального действия (трагический, комический, сатирический), и ему соответствуют три разновидности сценической декорации, которые, однако, следует выполнять строго по рекомендациям Витрувия, то есть используя трехгранную подвижную вертикальную призму. Все дело в том, что Витрувий предполагал не одну, а две призмы, и в качестве боковых кулис, а не как у Альберти – в качестве задника, двумя сторонами которого, как предполагает Краутхаймер, могли быть балтиморская и урбинская ведуты (сатирическая, следует предположить, или утрачена, или не изготовлена).
Перспективы личности в условиях иконографического театра
Итак, все прежние личности сконцентрировались на личности самой ранней и самой значительной (естественно, после самого Витрувия) – на личности Альберти, и его текста, и его комментария, и его корректуры первоисточника. Собственно говоря, понять смысл ведут, согласно такой логике, можно, лишь понимая смысл этих самых комментариев-корректур. Вместо построенного задника – задник написанный, вместо живописи, обрамляющей сцену, – живопись, завершающая сцену. Живописная иллюзия заменяет реальную архитектуру и завершает реальную сцену, то есть место сценического действия. Это телесное, физическое действие останавливается при помощи живописи. Его продолжение – действие глаза…
Но это еще не конец. Краутхаймер предлагает нам еще одну, финальную, завершающую аналогию, все так же связанную со сценическим задником, со сценой как таковой, приобретающей характер уже универсальной метафоры. Альберти первый, кто пришел к мысли использовать архитектурные перспективы в качестве завершающих проспектов, и поэтому обе панели возникли на фоне теорий и построек Альберти, который, в свою очередь, есть та самая «задающая тон личность», собирающая вокруг себя круг единомышленников, и вот это-то и есть подлинный «задний план» для панелей из Урбино и Балтимора. Иначе говоря, все вдруг оказывается все тем же «культурно-историческим фоном», не более того.
Но попробуем чуть разнообразить аналогию. Дело в том, что для этого же круга, который есть фон для них, данные панели и предназначались, так что получается, что они рассчитаны на взгляд с этого самого заднего плана, изнутри наружу, но уже как бы в обратной перспективе, минуя эти самые ведуты (ведь они декорации), с обращением взора на то, что происходит в просцениуме, даже на тех, кто перед ней, фактически – на нас! Мы-то и есть те зрители, что созерцают пьесу, именуемую «возрождение античной архитектуры» и имеющую в качестве декорации «иконографию архитектуры».
Сделаем некоторые предварительные выводы, позволяющие нам уточнить наши представления о том, что же такое «иконография архитектуры» и какие у нее требования к историку искусства, к чему она его вынуждает, каких действий она от него ожидает? И что нам от нее ожидать, к чему быть готовым, если мы сами вознамеримся воспользоваться ее услугами?
Итак, «большая ретроспекция», обращение в античность из Ренессанса обеспечивает одну очень характерную процедуру: для объяснения смысла некоторого изобразительного мотива находят его прототип в прошлом, затем обнаруживают его значение и проецируют его на интересующий мотив. Исходный мотив благодаря своей древности выступает как письменный источник, как представитель традиции, как ее воплощение; он не подчинен времени, то есть не меняется в своем содержании в течение истории, подобно тому как не меняется содержание поэмы Вергилия. Знание классической латыни позволяет читать античных авторов, знание «буквального» архитектурного вокабулярия обеспечивает уразумение смысла любого сооружения, где эта лексика использована, где мы узнаем прямую «цитату» из прошлого.
Итак, что мы имеем конкретно? Архитектурный тип круглой постройки, помещенный в разные контексты, а фактически – в разные строительные жанры и даже изобразительные виды, приобретает разные смыслы (значения). В данном случае мы видим, что архитектурный тип может стать изобразительным мотивом (тоже устойчивая и характерная конфигурация).
Краутхаймер пытается идентифицировать значение, узнать его, понимая его именно как буквальное значение (считая, вероятно, это задачей научного исследования). Не учитывая, что не только в средневековом, но и в современном сознании могут «вибрировать» значения, а говоря более точно – звучать (или откликаться) разные слои смысла.
Другими словами, перед нами проблема «архитектурной иконографии и иконографии архитектуры». Архитектурный мотив в живописи (на плоскости) – это более подвижная структура, легче поддающаяся переносу из контекста в контекст.
Кроме того, сам процесс метафоры (переноса) создает дополнительные значения, ведь начало процесса – сама «живая» архитектура. Тип-мотив как бы обрастает коннотациями. Задача состоит в выстраивании, реконструкции всей цепочки (переход от вида к виду, от жанра к жанру и т. д.). Фактически, это и переходы модальные (движение модусов), так как существует иерархия и смыслов (Писание, церковные писатели, античные авторы, современные тексты-комментарии). Более того, можно говорить о движении, переносе изобразительности как таковой (типов изобразительности, как бы наречий или даже языков), и в каждой изобразительной (иконической) среде (пространстве) – свои условия и построения, и существования, и копирования-комментирования.
Копии – это скорее репродукции или даже архитектонический экфрасис, не свободный от вольной или невольной экзегезы.
Итак, что сделало бы этот подход не иконографическим, а иконологическим? Во-первых, желателен структурный подход: допущение, что, например, в тех же ведутах реализована некая целостная ситуация, значимая сама по себе (сначала мы извлекаем смысл изнутри произведения, а затем только уточняем, комментируем его через аналогии). Во-вторых, получается, что данные ведуты не перспективный задник театральной декорации, а собственное, самостоятельное «представление», разыгранное средствами двухмерного живописного изображения. Это и есть сцена, подмостки, на которых представляется данное круглое сооружение (оно здесь исполняет главную роль, выделяясь классическим обликом на фоне действительно комической сцены)[387]. Совершенно не случайно в краткой характеристике Помпония Лета Краутхаймер пользуется опять же вокабулярием смешанным, антично-христианским (римский драматург – «мученик античности»); можно сказать, то же подразумевается и при характеристике урбинской ведуты. Здесь тоже налицо смесь античности и современности (христианства), круглое здание – тот же мартириум, но в контексте ренессанса – это и мавзолей одновременно, место погребения и оживления античной грезы, место свидетельства о мечте и одновременно ее проявления, обнаружения. Это место ее копирования-репродуцирования, и подобный мотив повторения-воспоминания придает такого рода изображениям и характер, в том числе, реликвария. Таким образом, «иконографический процесс», говоря словами Кондакова[388], в ренессансном и архитектоническом контексте приобретает характер не только ритуально-сакрализованный, но и постановочный, действительно театральный.
Почему процесс идет в сторону размежевания? Почему должна действовать логика разделения, расслоения первоначально якобы смешанного, синтетичного источника, то есть самих ведут? Они ведь действительно представляют собой собрание воедино всех мотивов, без характерного только для Серлио разделения на комические и трагические аспекты. Не значит ли это, что здесь, то есть у Лаураны, представлено нечто иное, чем просто сценография, эскиз театральных задников? Посмотрим непредвзято на то, что изображено. Вся композиция целиком, несомненно, есть сцена, но на ней расположена центрическая постройка. Столь же очевиден задник-фон, находящийся внутри данного изображения. Налицо и боковые декорации. Что остается? Чего не хватает? Видимо, просцениума, который, как нам кажется, образуется не без участия зрителя. Иными словами, картина воспроизводит саму ситуацию зрения, разглядывания. Это не просто воспроизведение театральной сценографии, а театрального пространства целиком, так сказать, с виртуальным, но вполне реальным зрительным залом.
Кроме того, не учитывается, что главный источник – Серлио – не что иное, как гравированная иллюстрация к книге. Это не может быть первичным источником для живописи. Следует анализировать сам механизм: книжная иллюстрация – наглядный образ текстуально-словесного «концепта», который именно с помощью этого подсобного средства обособляется и изымается из временного порядка: его можно обращать и применять к вещам более ранним и пребывающим в иных смысловых контекстах. Фактически, это не что иное, как «лицевой подлинник», иконографическая прорись. Это общее свойство всех подобных полутехнических, полумеханических образов-медиумов, упрощающих и схематизирующих визуальный ряд и обладающих силой убеждения, которой мало кто может сопротивляться.
Именно влиянием такого рода иллюстративно-риторической образности можно объяснить столь невозмутимое использование Краутхаймером приема генетического объяснения: первичное (исходное) – в смешанном, неоформленном, непроявленном виде (состоянии), позднейшее – как завершение процесса, формирование явления в чистом виде (размежевание классических и современных элементов).
Между прочим, эта медиальная проблематика плавно, но верно переходит в проблему копирования: иллюстрация – это тоже версия исходного оригинала, с единственной оговоркой, что последний имеет иную природу – он вербален. Даже издание античных текстов, тем более их постановка на сцене, – тоже вариант «копии», где у архитектурной сценографии есть особая функция обеспечения благоприятной среды, создающей условия этой «репродукции». Поэтому если вернуться к иконографии архитектуры, построенной на отношении оригинал – извод (копия), то выясняется следующее: между оригиналом и репликой помещается целая система разнородных пространств, часть которых включает в себя и отношения архитектурной иконографии. Таким пространством оказываются, вне всяких сомнений, все формы текстуальности, и в первую очередь – Писание, создающее – через Литургию – условия для многомерного истолкования любого явления, попадающего в поле его действия.
Кроме того, связь между явлениями, отделенными друг от друга временными дистанциями, обеспечивается введением еще одного концепта – «духовного климата», единство и устойчивость которого обеспечивают гомогенность всех процессов. Это тоже своего рода перспективный задник, на фоне которого разыгрывается пьеса под названием «История искусства». И не случайно, что в конце статьи этот «задний план», отражающий духовный климат, персонифицируется. Ссылка на личность Альберти, вообще «переход на личности» – все тот же поиск однородной среды, опосредующей переход от явления к явлению, от одного типа к другому, от одного элемента к другому. Помимо того, личностная среда – это и источник смысла как такового, ведь одно лишь сознание порождает значения. Но Краутхаймер останавливается на самом пороге этой антропологии, лишь интуитивно пользуясь ее идеологическим контекстом с целью, так сказать, замазать концептуальные швы[389].
Аналогии иконографической «драматургии» с витрувианской сценографией вполне очевидны: это именно боковые декорации-призмы, где на каждой грани помещается свое изображение. Такого же рода подвижность и сменность следует видеть и в иконографических процессах: новая грань не отменяет, не вытесняет прежнюю, но откладывает ее. Эта треугольная призма и есть образ архитектурного типа как такового. Типология в этом случае представляет собой набор правил пользования этими гранями.
Поэтому столь необходимо в подобной «вибрирующей» смысловой среде «суждение глаза», экспертная оценка, построенная на зрительном восприятии. Иконограф превращается в знатока, дабы создать образ разбираемого явления, образ, который своим происхождением обязан данному исследовательскому сознанию и, как кажется, может оставаться в его власти. Хотя на самом деле все наоборот: сознание не может гарантировать, что полученный визуально-когнитивным усилием образ не существовал вне данного осознания и прежде него. Образ склонен навязывать свой собственный смысл (пустых образов, подобно пустым множествам, нет), и этот смысл ближе и доступнее сознанию, чем подлинная смысловая реальность, до которой не всякое сознание дотянется[390].
Итак, мы убеждаемся на примере живописи, что объект может стать образом и что, казалось бы, чисто архитектурные, строительные отношения тоже строятся по принципу создания образа-заменителя, которым можно играть, но который и сам не прочь позабавиться с собственным неосторожным «пользователем». Рядом со зданием могут наблюдаться разного рода сомнительные создания. И ответственность за их появление несет именно наблюдатель, узревший не совсем то, что следует видеть. Или не совсем там.
Копия как реликварий
И в качестве дополнения-приложения приведем недавний пример весьма радикальной критики самой сердцевины не только иконографической концепции Краутхаймера, но, быть может, самой возможности архитектурной иконичности, то есть изобразительности средствами архитектуры.
Мы уже отмечали, что вопрос архитектурной типологии – это вопрос прежде всего содержания, так как главное в типах – их использование, их функционирование, то есть отношение к ним со стороны и художника, и заказчика. Изменение типологии, всякого рода манипуляции, операции с типами сродни использованию той или иной лексики, и изменение последней – признак изменившегося содержания. Самый наглядный пример применения и изменения типов – все та же практика копирования, где разница между образцом и его повторением – свидетельство изменений семантического свойства, когда не формальные, а содержательные моменты становятся определяющими факторами. Объясняя типологию в ее иконографическом варианте (то есть на уровне копирования), мы сможем объяснить, уяснить и то, что двигало теми, кто предпринимал подобное копирование, что было содержанием их намерений и мыслей. Этим, собственно говоря, и занимается Краутхаймер в разбиравшейся нами своей статье 1942 года.
А что, если речь идет не о копии, а о чем-то ином? Подобным вопросом задается один современный немецкий автор[391], обращая внимание хотя бы на тот факт, что, в отличие от Краутхаймера, средневековые источники, говоря о копиях, на самом-то деле, самого слова «копия» не употребляют. Никогда не встретишь в связи с описанием всех упоминавшихся построек слово similitudo, означающее точное воспроизведение, реплику, репродукцию, дубликат. Понимание архитектурной копии у Краутхаймера ориентировано не на Средние века, а на такое представление об оригинале и его имитации, которое свойственно скорее историзированному мышлению XIX века[392].
Но Средним векам знакома и практика точного воспроизведения, особенно в мелкой пластике, где можно наблюдать «наиточнейшее повторение, когда одна вещь совершенно равна другой»[393]. Это свидетельствует, по крайне мере, о «способности к исчерпывающей реплике», доказывая одновременно, что буквальная копия – «самая бедная по смыслу художественная форма», являющаяся, по сути, «простым украшением»[394].
Смысл такого прямого репродуцирования – приблизить прототип, иметь при себе чтимый образец, «содержательно и формально репрезентировать прообраз».
И наоборот, чем заметнее разница между прообразом и его «отобразом», тем существеннее становится смысл повторения как такового. «Модификации возникают не от технической неспособности к точной репродукции, а по причине обязательной дистанции, которая должна быть между образом и прообразом, чтобы последний таковым оставался»[395]. Иначе говоря, особый смысл заключен в отклонении от прообраза: изменения обладают собственным значением. Но каков же этот смысл, что значит подобный акт образного различения, то есть сознательного (и не очень) изменения первоначального образца?
Таковых значений несколько. Во-первых, это явное свидетельство обладания прообразом, власти над ним, возможности вносить в него изменения. Во-вторых, измененное повторение – знак замены прообраза. И в-третьих, как следствие, – защита прообраза, место которого занимают его варианты, при том, что инварианта остается в целости и сохранности. Копии в этом случае сродни наружным и изменчивым оболочкам, внутри которых содержится неизменный и недоступный прообраз. Ситуация обладает явно реликварным характером, где реликвия имеет ментальное свойство, а сам реликварий – материален. Такого рода совмещающая и совмещенная феноменология вещественного и неосязаемого, зримого и недоступного зрению, материального и идеального свидетельствует о том, что мы имеем дело с сущностями мистериальной природы, где главную роль играет все то же припоминание, анамнезис. Но и соучастие!
Это уже конечный продукт всех тех многочисленных процессов, которые мы объединяем понятием практики копирования архитектурных образцов. Поэтому в качестве исходного условия понимания всего происходящего следует с самого начала различать следующие аспекты:
– осознание прообраза в качестве такового;
– восприятие прообраза и формирование всякого рода паттернов, гештальтов, то есть ментальных эквивалентов;
– конечно же, «миметический» или мнезический образ;
– понимание того, что архитектурный прообраз – не исходный пункт, а тоже репродукция того, что или неуловимо для чувственного восприятия, или обладает иной образностью, например словесной.
Но за всем этим стоит проблема восприятия архитектуры как таковой: как внешнего явления, как предмета, независимого от наблюдателя, или как части окружающей обстановки. Насколько существовало в описываемое время представление о целостности архитектурного произведения, о характерном в нем, о соотношении наружного облика и внутреннего пространства? Каков был статус деталей, воспринимались ли они таковыми?
По большому счету, необходимо реконструировать не только отношение зритель (посетитель)/архитектура, но и всю совокупность факторов, включающих, между прочим, и телесный опыт, и опыт пространственно-средовой, и опыт материально-пластических границ и пределов. Достаточно включить в поле рассмотрения феноменологические факты, в первую очередь интенциональные качества архитектурного опыта, как сразу же изменится вся картина, мы получим совсем иные образы и иную методологию, превышающую возможности даже иконологии, не говоря уж об иконографии, которая в лице того же Краутхаймера предпочитает очень простые концептуальные установки, предполагающие сугубо предметный подход к той же архитектуре.
И потому именно для этого метода столь существенна дистанция, которую современный критик Краутхаймера совершенно справедливо обозначает как «обязательнейший фактор в отношениях между прообразом и его отображением»[396]. Эта дистанция удерживает за прообразом его собственное место, в том числе и историческое, а не только топографическое. В этом случае копия будет представлением прообраза в настоящем, в моменте своего создания[397]. Именно эта тема стала отправным пунктом уже в иконологических рассуждениях Гюнтера Бандманна[398].
Но мы можем задаться вопросом: а действительно ли это и есть граница иконографии? Быть может, у этого подхода есть еще какие-то познавательные резервы, касающиеся того же пространства или, наоборот, предметной, вещной стороны архитектуры? Обязательно ли так сразу делать антропологический рывок и обращаться к сознанию как истоку всякого смысла, как это делает и Бандманн, и практически все иконологи архитектуры, даже не именуя себя таковыми?
Существуют, по крайней мере, два примера все еще иконографического по своей сути подхода, в которых, однако, мы видим выход именно в сферу архитектурной предметности и архитектурной пространственности, то есть среды. Это археолог Дайхманн и семиолог и социопсихолог Синдинг-Ларсен. Как мы попытаемся показать, тот и другой при этом остаются иконографами. Проблема состоит в том, достаточно ли принять за отправную точку языковую парадигму, чтобы стать иконографом?
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ АРХИТЕКТУРЫ и ИКОНОГРАФИИ
Займи свое место в пространстве, будь телом, братец ты мой…
И.С.Тургенев. НаканунеПалеохристианские образы – стереотипы сакральных тем
Мы видели, что достаточно признать за сакральной образностью функцию сообщения, передачи некоего знания, идеи, просто темы, достаточно допустить, – а это сделать просто необходимо – наличие устойчивых правил хранения и воспроизведения этой информации, как мы тут же оказываемся вынуждены признать за иконографическими свойствами изображения языковые качества, а саму иконографию рассматривать как разновидность визуальной лингвистики.
Эти тенденции наблюдались уже у Маля (сакральное изображение как подобие книги, которую надо уметь читать)[399]. Краутхаймер широко пользуется лингвистическими терминами (архитектурная лексика и конструкция-синтаксис), но последовательная реализация в рамках иконографического метода подобной языковой парадигмы – это, несомненно, заслуга Андрэ Грабара.
Рассмотрим некоторые положения его иконографической (вовсе пока еще не иконологической!) теории и практики, чтобы выяснить прежде всего пределы этого подхода, а затем – реальные языковые параметры сакральной изобразительности вообще и архитектурного символизма в частности. Для этого обратимся к его довольно позднему сборнику «Христианская иконография. Исследования ее истоков» (1961), по ходу дела вспоминая и более ранние его тексты[400], оговорив сразу, что великий «Мартириум» (1946) должен быть предметом отдельного изыскания, хотя уже здесь можно встретить столь продуктивное для иконографии архитектуры отождествление литературной «темы» и архитектурного «типа»[401].
Обратим сразу внимание, что с точки зрения истории иконографического метода фигура Грабара почти что уникальна[402], так как он связывает своим творчеством ранние формы иконографической науки (ведь он ученик Кондакова!) с самыми современными методами структуралистского, семиотического толка, которыми он более чем не гнушался, отличаясь редкой теоретической открытостью и гибкостью[403].
Крайне полезна в рамках наших изысканий даже сама область интересов Грабара. Занимаясь именно раннехристианским искусством, он приближается к самым истокам христианской сакральной образности как таковой, когда только зарождалась новая изобразительность и виды искусства пребывали в первоначальном, почти что «пренатальном» единстве. И синкретизм этого времени и этого типа изобразительности отчасти сохраняется и в последующие периоды развития христианского искусства, хотя вопрос о том, что это за вид, тип изобразительности, остается открытым.
Палеохристианское искусство катакомб, искусство погребальное, погружая, говоря фигурально, в землю, предавая смерти античное образное наследие, тут же рождает его заново, почти буквально как в Крещении, приводя всю эту изобразительность к новой жизни. Оценить и проанализировать этот мистериальный исток – важнейшая задача и с точки зрения символики архитектурной, где благодаря той же Литургии подобная трансформационная семантика присутствовала и присутствует в обязательном порядке[404].
Кроме того, тот же раннехристианский период в истории архитектуры – предмет интересов Краутхаймера, не говоря уж о том, что сама церковная археология, как известно, фактически обязана своим существованием этому предельно специфическому материалу, где глубоко под землей сосредоточена сама сущность архитектуры – ее внутреннее пространство, выступающее вдобавок и как вместилище образов (росписи и рельефы саркофагов).
Очень красиво выстроенная с точки зрения концепции и, соответственно, структуры, книга Грабара начинается довольно внушительным Введением, имеющим сугубо теоретический характер. По нему можно судить о всей концепции ученого, причем в ее итоговом, законченном виде.
Все четко определено уже в начале этого Введения. Первые века по Р.Х. – это время классического античного искусства, и именно частью этого «обширного семейства» является раннехристианское искусство. Сразу же в тексте появляется термин «образ», которым оперирует Грабар. Понятие, скажем сразу, весьма и удобное, и ответственное. Удобство заключается в емкости и универсальности, а ответственность – в крайней степени многозначности, а значит, неопределенности термина, требующего постоянного уточнения, хотя свойство неопределенности иногда бывает на руку, так как можно играть содержанием понятия, смотря по ситуации.
Тем не менее сразу определяется, что задачи, ограниченные рамками именно иконографии, состоят в выяснении «манеры», с помощью которой создавались христианские образы, и «какую роль они играли среди прочих форм христианского благочестия»[405]. Итак, задаются параметры собственно художественные (создание образов), и параметры сугубо функциональные (образы как всего лишь часть общего контекста). Под таким двойным углом зрения и разворачивается вся концепция Грабара.
Но сначала Грабар производит размежевание с двумя прежними (или просто иными) типами иконографических штудий. Его намерения (Грабар называет их «и более, и менее амбициозными») не имеют в виду ни «систематическое представление всех известных типов образов», ни историю иконографии, способную демонстрировать «модификацию этих образов в потоке времени». С одной стороны, Грабар намерен использовать образы лишь избирательно и в качестве образцов, с другой – считает возможным сказать нечто новое, до сих пор не сказанное, о природе образов, об их форме и особенно – об их наполнении (содержании). Отсюда два сквозных вопроса: почему палеохристианские образы выглядят так, как они выглядят, другими словами, как они составлялись, что на уровне религиозном предполагает ответ на вопрос, каким целям служили эти образы в момент своего создания?
Соответственно, эти два вопроса определяют два типа исследования: это или изучение «материального складывания» христианской иконографии в период поздней античности, или уразумение функций этих образов внутри раннехристианского благочестия. Различение этих проблем важно, но производится оно редко. Иначе говоря, процесс формирования иконографии Грабар намерен отделить от самих иконографических тем и не касаться первого вопроса, остановившись именно на темах и на памятниках, им соответствующих и их иллюстрирующих, выступающих одновременно как «характерные или просто важные факты».
Эти постулаты следует прокомментировать, прежде чем мы двинемся в дальнейшее путешествие вслед за Грабаром. Важно представлять себе, насколько существен и очевиден приоритет тематики, за которой, как скоро выяснится, стоит нечто большее. Темы первичнее образов, которые выступают именно в качестве тематических образцов. И эта первичность проистекает из того простого обстоятельства, что образы создавались в определенной среде, порождавшей и содержавшей в себе набор именно представлений, которые и складывались в тематическую систему. За темами стоит реальность большего порядка, потому они важнее той самой «манеры», о которой, как это станет скоро ясно, раннехристианские художники могли просто не думать (они брали ее готовой). Такова совершенно продуманная позиция Грабара, посмотрим, что получается дальше.
Как же выглядят упомянутые темы, так сказать, иконографически? Способ их существования – в виде «однородной и законченной группы образов»[406], которые, если рассматривать их вместе, предстают наподобие некоего «зеркала христианского богословия». Давно знакомый нам универсальный образ иконографического метода: и Грабар, задолго до него Маль видят в изобразительности отражение неких иных – больших и более важных – реальностей, определяющих само существование образов как таковых. Для религиозного искусства такой очевидной (хотя и незримой) реальностью является религия во всех ее формах.
Тем не менее образ зеркала, оговаривается Грабар, не предполагает какой-то «квазимеханической процедуры» создания образов. Но, не отрицая роли «спонтанной креативности», следует признать, что мы имеем дело с «изготовленными в мастерской стереотипами сакральных тем» и обращение к индивидуальному творчеству возможно лишь в том случае, если нам не удается произвести атрибуцию «общих мотивов». Другими словами, этот тип изобразительности предполагает личное участие мастера только в виде исключения, это своего рода описка, если брать аналогии из рукописной практики. И речи быть не может о том, что называется индивидуальным стилем. Для Грабара эти уточнения важны потому, что он намерен бороться с более ранней традицией в иконографии, когда считалось, что образы суть «прямой перенос или копия этого переноса» слов Писания в живопись или скульптуру с использованием тех средств, что были, конечно же, изобретены художником. Такой взгляд, типично романтический, признающий исключительную роль индивидуального гения, отрицает то очень существенное обстоятельство, что между Писанием и художником могут существовать посредники. Впрочем, следует помнить, что христианство по своей природе, будучи религией Откровения, предполагает прямую связь мастера и его продукции с Писанием, в котором содержится вся полнота доктрины. Иначе говоря, предположение о том, что раннехристианская изобразительность обладает очень высокой степенью конвенциональности, не отрицает ни талант, ни тем более живую веру художника[407].
Поэтому из иконографического изыскания нельзя исключать проблематику творчества, имея в виду, что оно, в случае с палеохристианскими образами, прочно укоренено в смежных сферах человеческой активности. Далее Грабар приводит замечательное определение творческого процесса, и, цитируя его, мы обратим внимание на слово «память», возникающее, как нам кажется, вовсе не случайно: «Творческий процесс – это серия шагов – отчасти сознательных, отчасти нет, – с помощью которых художник пытается составить некий образ и делает это при помощи произвольных или неожиданных воспоминаний, которых требует от него его задача, его образование, круг чтения, окружающие его идеи, личный опыт, иные образы»[408]. Среди всех факторов, влияющих на складывание нового образа, «как раз припоминаемые образы – одни из наиболее активных, почти как в литературе, где самые сильное воздействие часто оказывают чужие произведения». Итак, готовые образы, действующие почти что как литературный источник, – это знакомый нам образ иконографии с одним важнейшим уточнением: это все-таки собственно визуальные образы, представляющие собой единый, современный художнику образный тезаурус и зачастую имеющие свои источники происхождения, причем как собственно христианские, так и языческие, как сакральные, так и профанные. Но фактически вся эта образность, особенно в рассматриваемый период, уже была «более-менее независимой» от своего происхождения и потому вполне приемлемой для художников, участвовавших в «христианском иконографическом эксперименте». Эти художники просто не в состоянии были проигнорировать всю ту многообразную фигуративность, что окружала их, не могли и уклониться от прямого влияния, работая в эпоху невиданного расцвета в Римской империи изобразительности как таковой. Так иконография становится исследованием источников раннехристианской образности…
И здесь Грабар выражается крайне определенно. При всей своей религиозной специфичности христианское искусство, подобно, например, любому литературному памятнику того времени, разделяет с тогдашним обществом массу общих мотивов, общих мест, общеупотребительных, так сказать, слов и выражений (любая поэма, самого исключительного дарования не есть продукт собственного, уникального языка, но использует готовые слова, выражения, обороты). Христианская образность выражает себя «посредством единого языка всех визуальных искусств и с помощью изобразительной техники, общей для всей художественной практики в пределах Римской империи со второго по четвертый века»[409]. Это не значит, что невозможно использовать христианские «идиомы» вне греко-римской системы образности. Легко представить китайское или арабское христианское искусство со своей визуальной традицией, непривычной для нас. Но раннехристианское искусство принадлежит греко-латинскому визуальному языку, который «открывал для раннехристианских изготовителей образов бесконечные возможности». Можно пользоваться этими средствами совершенно неадекватно, можно заимствовать разное число средств, иногда – самые простые приемы, в другой раз – всю полноту мотивов, но все они принадлежат тому языку, на котором говорило искусство Средиземноморья начала нашей эры.
Другое дело, что говорить можно по-разному и с разными, в том числе не совсем художественными (поэтическими), целями, и этот момент переводит рассуждения Грабара из области лингвистики в область поэтики. Не всякое использование языка есть поэзия или даже художественная проза, необходимо четко узнавать именно поэтические, эстетические отношения, которые привели к созданию того или иного «текста». Это справедливо и для иных «модусов экспрессии», применяемых человеком, для графики, живописи, строительного искусства и т. д. И различие необходимо делать вовсе не между теми образами, что служат практическим целям (фиксации и передачи фактов или идей), и теми, что интерпретируют эти факты и идеи в поэтических вещах посредством процедур, по сути своей эстетических. Мы не должны упускать из виду другое: существуют образы информативные и образы экспрессивные. Первые обращаются к интеллекту (подобно техническому тексту), другие связаны с воображением и эстетическим чувством. Применительно к палеохристианскому искусству можно сказать, что часть образов этому самому искусству вовсе не принадлежит. Это образы, которые только представляют персонажей или события для того, чтобы просто проинформировать о них. Простого факта, что эти образы написаны красками или вырезаны из камня, еще недостаточно, чтобы причислить их к произведениям искусства. Эту мысль можно прояснить на примере иллюстраций рукописей: в случае технических текстов (по астрономии, математике, медицине) мы имеем дело с информативными образами. Но сам факт, что те или иные миниатюры иллюстрируют Библию или античную трагедию, уже исключают их из первой категории. Сам факт параллелизма подобного рода текстам делает их образами экспрессивными; им не обязательно даже интерпретировать эти тексты, а уж если это происходит, то методами именно искусства.
Впрочем, чтобы перестать быть экспрессивными, то есть, художественными, образами, изображениям достаточно отличаться низким художественным качеством, принадлежать к второстепенной, то есть стереотипной, продукции.
Семантические поля иконографии, или За пределами истории искусства
Но как все эти соображения связаны с иконографическими проблемами? Оказывается, крайне непосредственно. Ведь если для истории искусства эта второстепенная, не художественная продукция не представляет интереса, то для историка иконографии – совсем наоборот, так как иконография – это прежде всего «информативный аспект образа, адресованный интеллекту зрителя, и он един как для прозаических информативных образов, так и для образов, которые приближаются к поэзии, то есть для образов художественных»[410].
Так что иконографическое исследование выпадает из области истории искусства, особенно это касается данного периода, который отличается «практикой использования образов как средства передачи информации, например, для передачи религиозного содержания или различных форм благочестия»[411]. Иконография в это время представляет собой «важное и устойчивое средство проникновения знания о разнообразных фактах; и именно поэтому совершенно законно рассматривать подобную информативную иконографию, как если бы мы рассматривали некий язык, никак не соотнося данную активность с художественными опытами»[412].
В подтверждение подобного весьма сильного высказывания Грабар просто указывает на безусловную идентичность того, что называется «христианской образностью», и того, что именуется «греко-латинским иконографическим языком» в том виде, в каком он практиковался в начале нашей эры повсюду в Средиземноморском регионе. Для доказательства того, что эти два выражения обозначают одно и то же, Грабар скрупулезно перечисляет «наиболее общие и наиболее повторяющиеся черты» христианской образности: воспроизведение человеческой фигуры, ее позы, физический тип, одежда, привычная жестикуляция и телодвижения, обычные аксессуары, а также архитектура и прочее убранство вокруг фигур. Ситуация с иконографией совершенно аналогична тому, как слова, выражения, синтаксические и метрические конструкции, взятые из латыни, арамейского, греческого языков, проникали в язык христианских богословов.
Более того, христианство проповедовалось и распространялось с помощью слова, и изготовители образов следовали по примеру богословов, выражая себя на том языке, который существовал вокруг них. Уже потому, что и богословы, и изготовители образов желали быть понятыми, они не должны были ничего выдумывать, в их вещах все было продиктовано предсуществующими моделями, новые идеи облекались в старые формы. И этими старыми формами-облачениями были традиционные иконографические образы.
Тем не менее, на фоне подобного «единого репертуара мотивов» (Грабар называет его вполне резонно койне) христианские скульпторы и живописцы могли вводить некоторые новые черты и детали с целью трансформации образа – типичного для этого периода – в образ собственно христианский, который можно узнать опять же только тематически, содержательно. Такой образ или пробуждал мысль христианского содержания, или напоминал о событиях, насыщенных христианским значением. Подобные христианские добавления были незначительными, незаметными, узнавались только подготовленным взглядом, будучи не столько прямыми отсылками, сколько косвенными аллюзиями. Но именно эти детали были в буквальном смысле слова показательными: именно они придавали ценность образу, представляя собой основание для восприятия и усвоения произведения[413].
Из подобных наблюдений можно сделать один вывод: раннехристианскую иконографию нельзя сравнивать с полноценным языком, обладающим лексикой «на все случаи жизни» и соответствующим синтаксисом. Это скорее технический или, точнее говоря, «паразитический» язык, подобие соответствующих растений, питающихся за счет языка-хозяина[414].
Другими словами, для Грабара христианская иконография – это «язык ограниченного употребления», подобно «языку электриков, моряков или воров», это ответвление основного языка, «ограниченная группа технических терминов»[415]. При этом, будучи «языком специалистов», христианская иконография способна была усваивать, «утилизировать» новые темы, наделяя их новым ценностным наполнением, по преимуществу символическим, то есть иносказательным. Не получается ли в таком случае, что христианская иконография – это вовсе никакой не язык, пусть и неполноценный, а всего лишь определенный языковой узус? Или специфический метаязык, призванный именно к интерпретации прежней тематики и семантики? Или это род поэтики, иносказания, просто риторики? Не случайны же постоянные упоминания об общих местах! Не есть ли всякая иконография отчасти визуальная топика? Или правила употребления, то есть пользовательские коды?
Именно к таким невысказанным, но все-таки выводам приходит – вопреки всем прежним рассуждениям – и сам Грабар, когда говорит о возникновении в христианской иконографии «целого ряда общих тем» (например, смерть и воскресение). В результате складывается «христианская типология <…>, своего рода сеть констант, которые через отдельные произведения и в компании с константами, отвечающими за повседневные явления, обнаруживают тесные родственные связи между произведениями по соответствующим категориям». Иначе говоря, «взаимообщение идей навязывает образам разного происхождения сходные формулы»[416]. Последнее заявление особенно замечательно: из него следует, что на уровне идеологии происходят свои процессы, вырабатывающие эти самые формулы, которые потом накладываются на образы. То есть для Грабара как истинного иконографа визуальная образность – дело вторичное, зависимое или напрямую от идей, или косвенно от ментальных и вербальных образов, то есть от мысленных представлений (фактически от самого мышления) и от литературных текстов.
И подобная тематическая общность («сетка взаимодействия» образов разного вида и происхождения) определяется Грабаром через понятие «семантическое поле», что значит «сумма слов (для языка) или предметов-сюжетов (для иконографии), формирующая семантические семейства, то есть семейства слов или предметов, взаимодействующих каждый с другим посредством значения». Подобно словам одного семантического поля внутри языка, элементы одного семантического поля внутри образного строя «контактируют друг с другом не формой, но содержанием». Это наблюдение, по мнению Грабара, имеет великое значение в деле изучения «иконографической креативности»[417].
Попытаемся предложить некоторые комментарии. Сразу обращает на себя внимание параллельное уравнивание двух логических порядков: «слов» (в языке) и «предметов» (в иконографии). Иконография мыслится аналогией языку. Проблема заключается в том, что язык – система парадигматических отношений, и иконография, мыслимая в том же ключе, – это результат систематизации, обобщения и классификации. Это та иконография, что представлена в иконографическом справочнике-словаре. И именно от нее отмежевался Грабар в самом начале своего Введения. Тем более что чуть раньше он говорил о художниках, о человеческой активности и креативности. Это уже та иконография, что можно опознать в произведении как его (произведения) свойство. В этом случае иконография сродни не языку, а речи (мы видели, что Маль интуитивно уже делал эти различия), то есть процессу пользования языком, употребления языковых правил-парадигм.
С другой стороны, невозможно отождествлять и слова с предметами. Словам соответствуют образы. Поэтому не слова и не предметы образуют «семантические семейства», а соотношение слов (образов) и предметов, то есть значение как результат акта означивания. Но слова и образы – каждый по-своему – могут или называть, или отображать (воспроизводить, представлять), то есть репрезентировать, одни и те же предметы, обладать одним предметным полем, которое и следует именовать содержанием, «контентом». Именно с ним взаимодействуют и слова, и образы, хотя сопоставлять их как параллели не совсем корректно, так как они разной природы и, скорее всего, «знакообразы» иконографии – производные, конечно же, языкового материала, но не слов, а структур иного порядка.
И природу этого порядка можно себе представить, если мы все-таки попытаемся вслед за Грабаром отождествить слова с образами и, наоборот, образы со словами. Слова, используемые как образы, то есть как самостоятельные, замкнутые в себе и одновременно наглядные, действующие непосредственно на восприимчивость («чувствительность») конфигурации (фигуры), – это, несомненно, ситуация риторического порядка. С другой стороны, образ, употребленный как всего лишь слово, как первичная (не считая фонемы) лексическая единица, означает как раз то, что он лишен самостоятельности и включен в порядок, превосходящий потребности простой отсылки к некоторому предмету, его, предмета, так сказать, наглядной «маркировки». Это такой уровень, выражаясь все тем же языком лингвистики, который заключает в себе целые последовательности лексических единиц, это уровень предложения, синтагмы. В конце концов, как нам представляется, – это сверхлексический уровень повествования, рассказа, нарратива, описания событийного или идейного ряда. Какова же ситуация, когда слово действует как образ, а образ функционирует как слово? Это, нетрудно догадаться, ситуация риторического дискурса, повествования, рассчитанного на непосредственное усвоение, его функции – не когнитивные, а суггестивные и рассчитанные на сознание и чувства человека. Риторика имеет дело и с общими местами («универсальными темами» в терминологии Грабара), и с общими приемами, тропами, рассчитанными на смещение внимания с одного образа на другой, даже если они не похожи друг на друга («иконографическая креативность»)[418]. Так что выходит, что Грабар описал как раз эстетическую, а вовсе не чисто тематическую ситуацию, как он того желал, имея в виду искусство раннехристианское.
Семантические поля иконографии
Но продолжим следить за его собственным – теоретическим (то есть метаязыковым) – повествованием. Очень скоро мы поймем, что скрывается за идеей «семантических полей», которые вбирают в себя формально непохожие образы, взаимодействующие и влияющие друг на друга, и связи между ними – «семантической природы». Они принадлежат одному семантическому полю внутри данного иконографического репертуара. Приводимый Грабаром пример – иконография Воскресения, сложившаяся под руками христианских изготовителей образов именно в таком виде потому, что они обратились за помощью к античной иконографии триумфа (монархического или агонистического). Образы античной иконографии и иконографии христианской взаимодействуют, оказывают и испытывают воздействие по причине их принадлежности единому семантическому полю, значение которого – «победа, торжество». Теоретически можно предположить существование иного воплощения этой христианской догмы (так выражается Грабар[419]), но только, кажется, не в это время.
Итак, креативные процедуры с участием пусть и не художников, а «изготовителей образов» (речь идет буквально об «имиджмейкерах») все-таки допускаются. Каков же их механизм? Для «понимания путей складывания христианских образов» Грабар вводит еще одно понятие, а именно – «общие темы», в пределах которых помещаются «разнообразные конкретные предметы». При условии правильного соотнесения тем и группирующихся вокруг них предметов возникает возможность уловить манеру, согласно которой «несходные иконографические формулы прилагаются к предметам одного семантического поля и сходные иконографические формулы прилагаются к предметам, которые, пусть и выглядят несвязанными друг с другом, на самом деле соотносятся с теми же самыми общими темами». И сразу же – появление следующего термина: «константы». «Константы составляют немалую долю в ранних христианских образах»[420]. Узнать их (тематические константы) значит лучше понять манеру создания образов. Другими словами, тематические константы – это посредники в процессе изготовления образов, к ним сходятся различные иконографические типы и от них исходят образы иные, поэтому можно сказать, что главнейший фактор иконографической креативности – это тематика. Если художественные образы создаются, в том числе, посредством фантазирования, то иконографические – почти исключительно с помощью тематизирования. Такова общая логика концепции Грабара.
Тем не менее иконографическая креативность предполагает определенную процедуру, суть которой – «присвоение уже существующих конфигураций посредством или смещения значения повторяющихся формул, или перенимания известных иконографических формул, или составления похожих [формул] посредством аналогий». Конкретно говоря, дохристианские иконографические формулы использовались в значении, диаметрально противоположном тому, которое они имели первоначально.
Нетрудно заметить, что речь на самом деле идет об одном едином процессе, смысл которого как раз в манипуляции значением, и «готовые формулы» здесь – инструмент интерпретации. Иконография в данном случае – почти что техническое средство, способ проникновения не просто в тематику, а в мир идей! И приводимый Грабаром пример с переосмыслением темы императорского триумфа – тому доказательство[421].
И поэтому можно согласиться с Грабаром, что христианская иконография – это «технический язык», но в смысле метаязыка, понятого как набор технических приемов, позволяющих изменять содержание, а не пользоваться готовым. Исходное тематическое поле как повод для создания нового даже не поля, а пространства, и это при помощи иконографии, в которой тематизм – лишь одно измерение из многих.
Но Грабар совершенно сознательно отказывает раннехристианской образности именно в художественной, эстетической размерности, сводя ее к техническому языку, признавая за ней именно эту функцию в качестве ее raison d’être. Христианские образы не созданы были для изготовления «привлекательных фресок» и т.п., то есть ради искусства для искусства. Их назначение – служить религиозным целям, и как раз по этой причине «мы будем исследовать образцы этих образов, группируя их согласно религиозным потребностям, которым они служили»[422]. Взятый изолированно, отдельно от специфического контекста, образ может быть понят различными способами, но его религиозное значение становится ясным тогда, когда он рассматривается как часть целой серии образов, служащих одной цели. Итак, незаметно тематика конкретизируется до функциональности, до прагматики, и семантические поля оказываются производными от полей прагматических.
Согласно Грабару, в данном случае можно поступать двояко: или выстраивать образные серии, создающие семантическое поле[423], или помещать единичный иконографический элемент, многозначный при первом приближении, в конкретный контекст, определяемый назначением образа, тем самым уточняя его содержание и отделяя его от ему подобных. Первая процедура сравнима, по мнению Грабара, с выстраиванием синонимических рядов, вторая – с различением омонимов. Но если с первым сравнением еще можно согласиться, то второе вызывает сомнения по той причине, что омонимы возникают не из контекста. Совпадение форм у омонимов – случайное и чисто внешнее. Контекст уточняет значение, наделяет его прагматикой, что выводит проблему содержания за пределы языковой ситуации.
И еще одна лингвистическая аналогия, по мнению Грабара, подлежит обсуждению в контексте иконографии – это вопрос о синхронии и диахронии («различения во времени наблюдаемых феноменов»). Проблема, говорит Грабар, не в том, что некоторые феномены принадлежат языку одного периода, тогда как другие представляют следующий шаг в эволюционном процессе или в последовательных переменах. В иконографии «ситуация более ясная», потому что наблюдаемые факты принадлежат по большей части к датированным памятникам. Но «так как иконографические элементы не изменяются по системе или согласно строгому графику и даты большинства памятников остаются неопределенными и потому что, помимо прочего, подобно языку, одни и те же иконографические элементы возникают одновременно и сразу с различными значениями[424], каждое из которых отсылает к другой датировке, – именно поэтому иконографические изыскания не в состоянии уклониться от проблемы синхронизма»[425]. Или это образы, несомненно созданные одновременно как элементы одного и того же репертуара фигуративности, или это вопрос о различных этапах создания произведения, принадлежащего руке одного и того же изготовителя образа («последовательные фазы одного образа»). Конечно же, имея дело исключительно с христианской древностью, нелегко спутать синхронию с последовательностью, но опасность остается, так как образы способны меняться и по значению. Во всяком случае, следует различать то, что обозначали образы первоначально, и те смысловые оттенки, что добавлялись по ходу их существования.
Так иконография незаметно для себя приближается к проблематике общегерменевтического порядка, претендуя одновременно и на общую теорию образа.
При внимательном взгляде на теорию Грабара становится видно, что образ мыслится им как некая пустая схема (эйдолон), заполняемая «темой» – по ситуации и по назначению. С другой стороны, образы действуют как накопители значений, причем только под взглядом интерпретатора смысловые слои оказываются прозрачны (хотя нередко одно значение вытесняет другое, но вряд ли можно говорить, что оно исчезает, – скорее всего, именно опускается в более нижние слои).
Иконография в зеркале языка: опыт самообнаружения
Но откуда все-таки берутся образы? Если не в палеохристианском, то, быть может, в «палеоантичном» искусстве стоит искать их корни? Как глубоко можно и нужно забираться в прошлое в поисках, не технического, не жаргонного, а самого подлинного, то есть первичного, языка? Быть может, так глубоко, чтобы умолкли все разговоры о диахронии и осталась одна-единственная синхрония – познающего и переживающего человеческого сознания? Или там мы рискуем столкнуться уже (точнее говоря, еще) не с образами, а с чем-то более древним, например с символами? Но это вопрос не к иконографии[426]. В лице Грабара эта дисциплина, как нам кажется, исчерпала свои концептуальные и эвристические возможности, почти вплотную приблизившись к риторике, используя лингвистические понятия почти исключительно в декоративных целях.
Одновременно этот подход, облачившись в лингвистические ассоциации и параллели, обнажил свою описательно-дескриптивную природу: как выясняется, можно описывать – и весьма красноречиво – не только иконографию как свойство изобразительности, но и иконографию как метод. Перед нами, несомненно, опыт ее самообнаружения – в зеркале, о котором иконография как бы догадывалась, но пока не совсем ценила, – в зеркале языка.
По этой причине стоит обратиться к нескольким другим статьям нашего автора, чтобы посмотреть, как работает теория иконографии в аналитической практике, ведь не стоит забывать и о зеркале исторического материала, в котором отдельно взятый подход отражается или прямо, или криво, или вообще не виден. Начнем с происхождения этого материала, с «Первых шагов», как называется следующий текст. Напомним, что пока мы имели дело лишь с Введением.
И в самом деле, следующие тексты уточняют некоторые положения; и прежде всего мы обнаруживаем новое понятие, точнее говоря, новую формулировку: «религиозное значение (signifcance), которое образ мог иметь для своих создателей»[427]. Это подразумевает как раз интерес к условиям создания образа. И применительно к раннехристианскому времени эти условия довольно уникальны: образ существования раннехристианской общины исключал всякое внешнее влияние при одновременном отсутствии внутренней традиции (она просто не успела сложиться). Первые изготовители христианских образов «действовали на свой страх и риск», и требуется специальное внимание к проблеме появления самой практики использования образов ранними христианами, что подпразумевает и отдельный вопрос: чем эта практика отличалась от языческой идололатрии?
То есть учет окружения все равно важен, несмотря на кажущуюся изолированность первых христиан. Поэтому неизбежен именно сравнительный анализ раннехристианских образов, направленный на выявление «религиозных целей создания образов», и этот анализ касается и формы, и содержания образов. Другими словами, как это ни парадоксально, но для научного дискурса как раз самые изолированные феномены требуют наиболее открытых сравнительных, сопоставительных методов. С точки зрения формы, по мнению Грабара, мы имеем дело с «иконографическим языком схематических образов или знакообразов». Содержательная сторона этих знакообразов определяется тем обстоятельством, что они – часть христианского погребального искусства и «репрезентируют спасение или освобождение того или иного верующего, которого Бог избавил от страха смерти»[428]. Одновременно они напоминают о «доктринальных заслугах» умершего – то, что он был крещен и участвовал в Евхаристии. Чтобы понять эти образы, необходимо сопоставлять их с иными образами, даже языческими – «с очевидными психологическими аналогиями». Так появляется еще одно понятие, вводящее новый фактор, до сих пор не замечаемый, а именно инстанцию этих самых изготовителей первых христианских образов. Их «религиозные намерения» определяют религиозные цели образов, природа которых, как только что выяснилось, психологического порядка. Фактически мы имеем целую систему семантических полей, если пользоваться терминологией Грабара: это и тематика (content)[429], и мотивы, и намерения (intent), и значение (meaning), и обозначение (signifcance), причем сразу в двух, по крайней мере, измерениях: религиозном и, как выясняется, психологическом. Попробуем разобраться во всем этом пока еще только конгломерате семантических аспектов.
Ранние знакообразы как простые десигнаты
Разговор о «первых шагах» христианской изобразительной традиции Грабар начинает с первичной характеристики самых ранних образов, сразу определяя их как чистые десигнаты, всего лишь отсылающие к специфическим персонажам, событиям или объектам. Это не образы, способные представлять, репрезентировать что-либо, а своего рода «приглашение», адресованное «информированному зрителю», чтобы он сам собрал воедино все отдельные черты того или иного подразумеваемого объекта, события, лица, дабы произошла «индикация» предмета обозначения. Эти изображения суть схемы, «знакообразы, которые направлены на интеллект и больше подразумевают, чем являют»[430]. Знак по определению предполагает свою дешифровку, это не совсем правда, что он предпочитает оставаться непонятным. Важно знать тот контекст, который позволяет знаку быть своего рода аббревиатурой. Главное происходит не в изображении, а в головах – зрителя и, конечно же, изготовителя образов.
Тем не менее по причине «сокращенности», предельной краткости этих знаков, возникает эффект «известной амбивалентности», специфической многозначности, возможности разной дешифровки. Из-за подобных свойств смысловая ясность знакообраза полностью зависит от зрительской тренированности, является функцией от его компетентности, что, впрочем, не исключает прямую зависимость и от степени сложности воспроизводимого предмета («предназначенного для передачи», как предпочитает выражаться в семиологическом духе Грабар), при том, что ранние христиане старались не изображать незнакомые предметы. Но знакомые были знакомы им, а не нам. Не только лаконизм этих знакообразов затрудняет их однозначную дешифровку, но и тот факт, что они «не долго исполняют те функции, ради которых были созданы». Они остаются для нас непонятными потому, что «предполагаемый к переводу предмет слишком сложен, или потому, что наша иконографическая информированность недостаточна»[431].
И следующий тезис Грабара выводит проблему, до сих пор вполне понятную и приемлемую, на несколько необычный уровень истолкования, связанный все с теми же языковыми аналогиями. Чтобы мы могли хоть как-то обсуждать такого рода знакообразы, необходимо, по мнению Грабара, чтобы их функции хоть как-то были внутри них обозначены. Как такое может быть? Только если мы, как считает Грабар, допустим, что эти функции сродни «общим идеям языка». Некоторые из них являются просто абстрактными категориями («благочестие», обозначаемое фигурой-орантой, «человеколюбие» – Добрый Пастырь и т. д.). Другие же суть результат накопившегося опыта пользования, который выражается в именах и названиях (например, христианские праздники). Подобно языковым явлениям, изобразительные знакообразы суть эквиваленты отдельных слов-имен.
Определяя христианские образы как изобразительные знаки и принимая во внимание, что все они принадлежат сфере погребального искусства, стоит различать две категории этих знаков по отношению к способу учета их «смысловой наполненности». Таким способом мы приближаемся к характеристике вышеупомянутых «общих идей». Первая (небольшая) группа знаков – это воспроизведение двух главных христианских таинств – Крещения и Евхаристии. Второй тип составляют или намеки, или прямые ссылки на случаи Божественного вмешательства с целью спасения верующего или сохранения его от несчастья.
Смысл последних становится понятным внутри пространства катакомб-некрополей: предназначенные для умершего, эти образы составляли часть заупокойного поминания усопшего. Называя их «образами спасения», Грабар прямо указывает на их утешительно-психологическую функцию, предназначенную прежде всего для души того, кто пребывает здесь только плотью, но имевшую в виду и живых, остающихся с умершим, верным в отношении commendatio animae. Иными словами, это образы пребывания в Боге и спасении. Собственно образы таинств (их можно по примеру «сотериологических образов» назвать «сакраментальными образами») имеют в виду то же самое. Но только если там подчеркивается момент вмешательства Бога, то здесь сами таинства выступают залогом единства Бога и верующего. Если сотериологические образы восходят еще к ветхозаветной традиции поминовения усопших, то сакраментальные образы – экклезиологические по преимуществу. Семантически они более объемные и более «вместительные», включают в себя и погребальную тему, и тему молитвы как таковой, и – что особенно важно – тему и факт «языческого символизма» как такового.
Так происходит тематическое обогащение первоначальной раннехристианской образности, и мы видим, как тема расширяет круг действия образа. Но самое главное, что, взятые вместе, эти два типа образности обеспечивают процесс конкретизации образа, «замену абстрактных символов конкретными репрезентациями»[432], что выражается и в том, что фактически предмет изображения теперь – не только Христос, но и христианин. Изображается и сама связь между верующим и Иисусом, чей образ стал более личным. Не случайно развивается тема чудотворения: личное вмешательство в конкретную жизнь – лучшее доказательство истины христианства. Понятно и распространение темы поклонения волхвов, обретающей четкую христологическую содержательность. Это есть не что иное, как «знак Воплощения-Спасения», причем в нем совмещаются и индивидуальный, и коллективные оттенки темы.
Эта тема, воплощенная столь конкретно и столь емко, имела двоякого рода последствия. С одной стороны, знакообраз постепенно превращается в образ дескриптивный, а с другой – тема Спасения позволяла распространять сферу действия христианской образности на область языческой изобразительной традиции, включающей свою иконографию. Христианские образы, связанные с языческой традицией, так сказать, освящали эту образность. Эта, казалось бы, чисто художественная адаптация превращалась в акт воцерковления, можно сказать, крещения-рецепции прежней традиции. Одновременно происходило и освящение мест погребения, мавзолеев и некрополей. Христианство оказывалось повернутым лицом к сакральной образности как таковой. И это, по мысли Грабара, как раз и является «общим религиозным смыслом» христианской образной деятельности[433]. Но остаются конкретные интенции этой изобразительной активности, которую следует определять очень точно, чтобы можно было понимать и оценивать ее смысловое наполнение[434].
Образы иного пространства
Хотя мы и предположили взаимосвязь между образами сакраментальными и сотериологическими, определив их единство внутри экклесии, тем не менее остается фактом, что в образах, обозначающих присутствие Бога, надежду на спасение и жизнь во Христе, имеется одно обстоятельство, вносящее специфический оттенок в восприятие этих именно образов. Образы предназначены для адресата, которого нет в том же пространстве, что и пространство образов. Умерший воспринимает адресованное ему сообщение через посредников – через живых, присутствующих в пространстве катакомб. Сами по себе образы недостаточны, они только приглашение для зрителей-молящихся. Отсюда и необходимость учета, как говорит Грабар, психологии, потребность заглянуть в сознание тех, кто своим присутствием дополняет и расширяет зону действия образности. Впрочем, стоит отметить тот момент, что умерший отчасти остается с общиной – своим телом. Это заставляет нас иметь в виду еще одного посредника, предваряющего психологию отдельных индивидуумов. Речь идет о пространстве и о его прежде всего телесном наполнении, что в контексте христианской мистериальной практики предполагает в качестве исчерпывающего наполнения этого пространства именно Евхаристию[435].
Но и человеческие души – живых участников христианских собраний – тоже были наполнением этих пространств, условием возникновения, существования и функционирования которых была как раз активность души. Поэтому внимание к психологическим измерениям всей этой образности совершенно неизбежно и необходимо, тем более что души эти прежде всего человеческие, а потом уже – языческие и христианские. Это означает, что сравнение изобразительности христианской с изобразительностью языческой обязательно и весьма плодотворно и обнаруживает, в частности, тот факт, что независимо от типа религиозности такая великая «общая тема», как смерть, решается повсюду одинаково, и погребальная иконография языческая вырабатывает схемы, сформировавшие в дальнейшем иконографию христианскую.
Общая схема – встреча души со смертью. Но одновременно и разница между язычеством и христианством нигде так не очевидна, как в отношении к смерти. Победа Христа над смертью навсегда исключила для христианства смерть из числа самых влиятельных и насущных проблем. Смерть уже не есть главная тема погребальной иконографии. Кроме того, с самого начала христианство более осторожно относилось к смерти, точнее говоря, к возможности изображения посмертной судьбы души, возможности наглядного представления потустороннего мира. Другими словами, меняется сама тема. Смерть – просто уже не тема, а, так сказать, мотив. Ведущая тема – как раз победа над смертью, воскресение и вечная жизнь. Можно сказать, что смерть – в подчиненном положении, ее функция – атрибутивная. Но в таком случае и использование старой схемы означает нечто новое: это просто испытанный, проверенный инструмент, который используют на новый лад. Можно сказать, что это средство уловления смерти, ловушка для смерти.
Но тут же обнаруживается, что и языческие погребальные образы (например, сцены подвигов Геракла) порой разделяют с христианством отношение к смерти, которой нет. И языческие, и христианские образы могут «быть образами спасения», а если копать глубже, то можно обнаружить и достаточно четкую тему «призывания Божественной силы», действующей на благо человека. Тема преодоления смерти расширяется и с точки зрения адресата: «образы спасения» предназначены не только для умершего, но и для живых, которым напоминается об их собственном земном конце и возможности спасения.
Но для понимания интенции, направлявшей изготовителей образов, необходимо, по мнению Грабара, учитывать свидетельство еще одной языческой иконографии, связанной с темой игры, соревнования, хотя связь с христианством кажется не существующей – уж больно чужеродной воспринимается эта тема.
Однако «христианская служба много переняла из языка цирков, или сравнивая мученика или просто верующего с атлетом-победителем, или обозначая превратности и триумфы религиозного опыта в терминах борьбы и победы на арене»[436]. Параллельно с этим процессом и христианская иконография была обращена к тому «образному репертуару», что был создан для цирка. Короче говоря, христианство не оставалось изолированным от мира цирков и ипподромов, что позволяет, как говорит Грабар, делать сравнения не по иконографическим предметам, но согласно «иным функциям образов».
Так мы незаметно оказываемся за пределами чисто иллюстративной функциональности, знаковых, десигнативных функций образов и открываем их способность непосредственно воздействовать на сознание, чувства того, кто ими пользуется. Хотя это относится не ко всяким образам, а к т.н. профилактическим символам, имеющим апотропейное назначение и представляющим собой, как правило, фигуру в окружении эмблематических атрибутов и надписей. Все вместе это изображает, как правило, триумф цирковых venatores и сопровождается важным дополнительным смыслом: изображенное событие (подвиг) должно сохранять постоянство, иметь вечный, то есть Божественный, аспект. Во всяком случае, этот смысл присутствовал в сознании того, кто приобретал себе такого рода образы. Но здесь имеется один довольно тонкий момент. Грабар отмечает, что образы-обереги не обладают, так сказать, «ретроактивным смыслом», лишены силы обратного действия, поэтому «было бы лишним представлять их просто как образы-напоминания». На самом деле, по мнению Грабара, их назначение связано с их способностью из себя самих порождать благодатное воздействие на того, кто ими владеет или кто на них взирает. И эта функция роднит их с образами христианскими; точнее говоря, психологически, то есть с точки зрения их изготовителей, они идентичны тем христианским образам, цель которых – привлечь внимание к похожему акту Божественного воздействия, совершаемому в настоящем.
Этот порядок мыслей требует некоторого комментария. Во-первых, мы не должны слишком просто смотреть на функцию припоминания: если образ способен порождать воспоминания, значит, это очень сильный образ, связанный с почти что Божественной способностью памяти. Просто напоминающих о прошлом образов не существует. Другое дело, что предположительно магические образы-обереги актуализируют прошлое или, лучше сказать, находятся вне времени, исполняя символическую функцию. Для христианства же момент исторический важен не как прецедент (это было прежде, значит, может быть и сейчас), а как приготовление, как прообраз, можно сказать, как необходимый атрибут настоящего, то есть актуального и вечного присутствия Божества в общине и в душе. Хотя, конечно же, это не упраздняет автоматически возможные рудименты языческого, магического отношения к образу и в христианской среде.
Тем более что буквально вскоре Грабар упоминает античную, языческую практику онейромантики[437]. Из многочисленных текстов, посвященных толкованию сновидений, как раз и заимствовались в изобразительном искусстве, например, мотивы борьбы, столкновения с дикими животными. Невозможно сомневаться, что онейрические образы прямо связаны с образами мнезическими, если пользоваться соответствующей терминологией.
Что имеет в данной ситуации защитную роль? Как нам кажется, не просто употребление этих образов, не просто их присутствие в том или ином месте, а именно факт их толкования, акт их понимания: защитную функцию имеет тот смысл, который в них присутствует и который требуется извлечь, сделать доступным для применения. В конце концов, благополучие, о котором идет речь, – воля божества, обращенная к верующему, и разумение этой воли, понимание сообщения, адресованного человеку божеством, как раз и является залогом и условием благополучия. Иначе говоря, разбираемые образы не сами являются апотропеями, а несут в себе, содержат в себе соответствующее значение. Они суть своего рода реликварии, именно носители, емкости для сакрального смысла.
Это подтверждается и приводимым Грабаром примером – напольными мозаиками из частного дома в Антиохии, где представлены женские персонификации благополучной домашней жизни (обновление, основание, сохранение, уют). Смысл этих аллегорий не просто умозрительный, так как за ними стоят соответствующие обряды, связанные с основанием нового дома и его благоприятного будущего. Иначе говоря, подобный ритуальный аллегоризм выводит нас далеко за пределы простой, повседневной психологии пользования священными предметами-оберегами. Равным образом – в который раз – мы покидаем и сферу простой двухмерной изобразительности и оказываемся в пространстве, сформированном и осмысленном по правилам архитектурной если не поэтики,то, во всяком случае, риторики. Учитывая, что места и пространства вкупе с человеком и его ритуалами в них могут быть предметом тематической рефлексии, мы имеем все основания говорить о скрытой, так сказать, фоновой архитектурной иконографии. Ключ же к ней – вышеприведенные «активные образы», если пользоваться выражением Грабара[438]. Активные – в смысле имеющие пространство, сферу действия, воздействующие на сознание (психику), в первую очередь, а затем – и на пространства и объемы, с ними связанные.
Образы Таинства
Но какова сфера собственно христианской образности, если, как мы только что видели, все, казалось бы, новое на самом деле имеет языческие прецеденты? Возможно ли найти такую область, где христиане, отталкиваясь от сложившейся традиции, «интерпретируют ее в своей собственной манере»? Каков непосредственно христианский вклад – «религиозный и моральный» – со стороны хотя бы некоторых палеохристианских образов?
На самом деле вопрос о специфически христианских достижениях в сфере изобразительности связан со спецификой христианства как такового. И подобная специфика для Грабара – это христианская догматика, а собственно христианская функция образов – «выражение богословских идей». Но была ли возможна в то время прямая иллюстрация богословия? По мнению Грабара, образы «приближаются» к выражению богословских идей тогда, когда они представляют таинства, в первую очередь, Крещение и Евхаристию. «Образы таинств», как в «чисто символической» форме (рыба и хлеб), так и в описательной, или в библейской, или в виде аллюзий, – все равно «содержат в зародышевой форме подтверждение догмата»[439]. Причем очень важно, что изображение Таинства выводит образы из поля погребальной традиции.
И замечательный источник «подтверждающих образов» – раскопки в Дура Европос, где сохранился, в том числе, и христианский баптистерий. Само расположение фигур, например, Адама и Евы по середине стены, говорит о желании авторов росписи воспроизвести именно богословскую подоплеку Таинства, связанную с темой первородного греха. Одновременно это и желание «прославить» Таинство, продемонстрировать силу его действия. Но самое главное, что Таинство и погребальный обряд во многом практически идентичны, являя здесь и там все ту же знакомую нам потребность изобразительно представить постоянство Божией благодати, вмешательство Божества в человеческую историю и Его присутствие в судьбе верного. Причем не существенно – живого или умершего, телесно присутствующего на богослужении или заключенного в пространство саркофага. Над всем властвует Воскресение, изображение которого на стенах баптистерия даже стилистически – одно из центральных. Уже можно говорить именно об «интерпретации евангельской сцены»[440], а не просто о знаках-намеках (такие тоже представлены в баптистерии, стилистически представляя собой «быстрые эскизы» на белом фоне, расположенные на высоте). Перед нами новое отношение к образу, что видно в согласовании манеры изображения с «местом образа на стене», в стиле и манере адаптации фигуративных композиций к стене, когда то изображение, что представляется существенным, помещается на цоколе, являя развитый, детализированный повествовательный стиль письма. Архитектура обнаруживает свое присутствие и свое функциональное наполнение как раз в такого рода нарративных композициях, насыщенных и догматически, и вообще – содержательно.
Таким образом, можно сказать следующее: иконография погребальных циклов третьего века в Риме и провинциях, а также крещальный цикл в Дура Европос связаны друг с другом общей религиозной темой: сила Божия, обеспечивающая спасение истинно верующим. И в виде более условной, аллегорической манеры (Добрый Пастырь), и в виде прямого иллюстрирования Евангелия эти композиции равным образом «формируют дополнение к молитвам богослужения». Иконография в обоих случаях «говорит об одних и тех же вещах или о схожих»: образы тематически подобны и соотносятся с соответствующей службой, хотя сами службы различны. При том, что общий источник вдохновения имеет литургический характер, сами образы связаны с обрядами, имеющими в виду индивидуума, а не всю общину, – Крещение новопросвещенного и погребение умершего[441].
Такого рода наблюдения за «религиозным значением, сферой действия и временем появления» образов (да и общий ход мысли) позволяют Грабару сделать достаточно специфический промежуточный вывод. «Утилитарный характер» этих образов предполагает, что импульс, приведший к их созданию, происходит из благочестия, которое не нуждается в воздействии со стороны клира. Видимо, к этому выводу должны были нас подвести и упоминания о психологической составляющей образов. Кроме того, только так, по мнению Грабара, можно объяснить достаточно быстрый и неожиданный расцвет христианской образности: это было именно спонтанное проявление внутренних, то есть психологических и субъективных, потребностей верующего человека. Помимо этого против «вмешательства высших церковных слоев» свидетельствует и эквивалентность и синхронность явлений в Риме и в глубокой провинции, где влияние церковной власти если и могло быть, то с неизбежным запозданием.
То есть, говоря словами Грабара, «есть некоторое основание признать, что первые эксперименты в деле создания христианской иконографии <…> могли производиться посредством местной инициативы и доступными средствами, что сопровождалось влиянием в некоторой степени отличных друг от друга религиозных убеждений»[442].
Предметные образы культовой среды
Но самое примечательное другое, а именно синхронизм появления первых христианских образов и в Риме, и на далеких восточных рубежах Империи. Ни вмешательство церковного авторитета, ни контакты Востока и Запада не могут объяснить, почему повсюду около 230 года появляются первые христианские образы. Но можно расширить наблюдения и убедиться, что иные религии с гораздо более долгой и серьезной аиконической традицией, тот же иудаизм, примерно в это же время вдруг тоже исполняются заботой о создании собственной сакральной иконографии. Сколько веков прошло между Моисеем и Септимием Севером, говорит Грабар, когда иудеи отрицали всякую изобразительную конфигурацию, только чтобы в первой половине III века – синхронно с первыми христианскими изображениями – взяться за создание собственной иконографии[443]. При всех конфликтах, просто враждебных отношениях друг с другом эти две религии, христианство и иудаизм, именно в одном точно были солидарны: в неожиданном и последовательном обретении потребности в религиозном искусстве. В той же Дура Европос рядом с христианскими изображениями появляются и первые фрески в синагоге. И если про христианскую обрядность и можно сказать, что она происходит из ветхозаветной богослужебной практики, то относительно иконографии скорее следует говорить о наличии какого-то общего источника, какой-то единой причины, общей для двух религиозных традиций.
Итак, следующее движение мысли исследователя-иконографа – это расширение источников и сравнение аналогичных явлений. Напомним, что все вращается вокруг проблемы возникновения, происхождения, «первых шагов», что означает со всей неизбежностью поиск причин за пределами данного явления, если следовать традиционной методологической схеме. Поэтому после христианской иконографии следует иконография иудейская, и здесь снова мы должны выявить ту идею, что определяла религиозные интенции, скрывающиеся «позади образов»[444], теперь уже иудейских, украшавших синагогу.
И снова мы наблюдаем ту же ситуацию, что и с христианскими образами: явное влияние классического языка греко-романского искусства с включением декоративных элементов даже просто враждебной сакральной образности (в синагоге Капернаума присутствуют мотивы из соседнего храма Ваала). Но все вместе эти элементы, точнее говоря, система декорировки дает нечто иное и большее: а именно являют «присутствие иудейского культа». Образы, о которых идет речь, Грабар называет «символами-объектами» (якорь, голубь, агнец и т. д.). Предполагается, что их предметный характер отсылает к предметной среде, которая есть культовое пространство, место священнодействия. Другими словами, дело в способности этих объектных символов не только пробуждать воспоминания, но и вызывать ассоциации, все то же реальное присутствие реальности, которая не просто за ними стоит, но их порождает (точнее говоря, порождает тот смысл, что их наполняет). Подтверждение тому – еще один пример иудейского искусства III века из синагоги в Апомеи во Фригии. Иудейская община этого города (весьма влиятельная) владела реликвией – фрагментом Ноева ковчега. Почитание этой реликвии выразилось и в помещении на стенах синагоги изображения Ноя и его супруги. «Трансляция» события, описанного в Писании, иконографическими средствами вдохновлялась наличием осязаемого свидетельства бывшего когда-то события. Христианское искусство придет к такому реликварному способу употребления образов только в IV веке. Иудейская изобразительная практика в этом отношении была впереди христианской, в свою очередь, черпая вдохновение, например, в современной ей иконографии римской нумизматики, что делало возможным, в частности, переносить образы местных языческих святилищ и их идолов на изображения событий, пробуждаемых в памяти реликвией ковчега.
Иначе говоря, мы видим несколько смысловых измерений, образующих несколько семантических даже не полей, а планов, пространств, входящих друг в друга. И прохождение этими планами возможно с помощью процессов припоминания-ассоциации, которые, со своей стороны, приводятся в действие своеобразным спусковым механизмом предметного символа – или реально-вещественного (реликвия), или образного (изображения символов-объектов). Повторяем, что всякая предметность предполагает практику, прагматику пользования, некоторое действие или систему действий (активность), реализующих определенную интенцию, в основании которой – то или иное событие. В данном случае – священное событие, явленное в Откровении и засвидетельствованное Писанием. По нашему мнению, описанная структура полностью соответствует характеристикам сакрального пространства.
И наконец, самый замечательный и наиболее показательный пример – фрески синагоги в Дура Европос, где мы видим знакомое нам по христианским катакомбам сочетание аллегорических «знакообразов» со сценами развернутыми и повествовательными, взятыми из Писания. Но в отличие от христианских композиций здесь возникают сцены не просто масштабные и детализированные, но и помещенные в обрамление. Тем самым осознается и выделяется уже пространство изображения и пространство, внешнее по отношению к нему, пространство окружающее. Еще одно отличие касается места помещения фресок: это пространство, специально предназначенное для отправления ежедневных литургических обрядов. Христиане в III веке еще не могли себе позволить подобное: иудаизм был в это время уже законной религией, христианство – еще нет. Наконец, быть может, самый принципиальный момент связан со специфически иудейским религиозным самосознанием, поэтому фрески, имея ту же самую общую идею спасения верных, обращены были не к индивидууму, как в христианских композициях, а к избранному народу как таковому. Эта всеобще-общинная направленность изображений выражается в выборе сюжетов, где, в том числе, присутствует и образ Храма, что позволяет говорить о мессианистическом аспекте этих изображений, чей универсализм предвосхищает христианский, относящийся уже к IV веку.
Тем не менее есть принципиальные общие места, важнейшее из которых – идея «спасения посредством отсылки к опыту прошлого». Различие состоит в том, что иудаизм был более развит иконографически, христианство было более открыто и одновременно – «более чувствительно к встрече с нараставшим в III веке спиритуализмом». Вывод из этого сравнения один: первоначальная христианская иконография возникает как ответ или альтернатива соперничающей иудейской иконографии, появившейся на свет чуть раньше»[445].
Впрочем, процессы, происходившие в иудейских и христианских общинах, нельзя рассматривать изолированно. Дело в том, что восточные провинции и Верхняя Месопотамия в начале III века представляли собой особую, по словам Грабара, «иконографическую ферментацию», развивавшуюся в искусства, принадлежавшие разным верованиям. Помимо уже упоминавшихся христианства и иудаизма, в обязательном порядке следует помнить о таком специфическом явлении, как манихейство, новая религия, основанная полулегендарным Мани и как раз в это время со всей энергией взявшаяся за пропаганду своих убеждений, – и не без помощи образов, среди которых были такие примечательные, как трон, символизирующий страдания и искупление, а также обязательный портрет Мани – символ присутствия Мани среди верных и предмет почитания и поклонения. Вся проблема заключалась в том, что эта самая пропаганда была крайне успешной, особенно на Западе, хотя именно восточные провинции – и гораздо раньше, как раз в III веке, – первыми встретили манихейский натиск.
Грабар сомневается (и вполне резонно) в необходимости принимать «манихейский фактор» в качестве провоцирующего момента, вызвавшего ответные изобразительные усилия христиан и иудеев, вынужденных перед лицом образной пропаганды миссионеров новой религии отказаться от своего традиционного неприятия фигуративного искусства. Манихейский фактор мог бы легко объяснить появление вообще раннехристианского и иудейского искусства, если бы не одно обстоятельство, чисто хронологическое: первые манихейские образы появляются позже, чем христианские и иудейские. В отношении последних мы должны признать преимущество, но манихеи первыми, как кажется, стали использовать образы для религиозной пропаганды, у них искусство стало элементом проповеди.
Манихейская риторика и иконография общих мест
Манихейский материал следует использовать косвенно, в качестве свидетельства иных процессов и явлений, не столь очевидных. Во-первых, манихеи показали, что только что созданное иудеями и христианами новое искусство можно использовать риторически, в нем заложен был этот потенциал. Манихейство открыло социальный аспект искусства, его способность воспроизводить общие идеи, делать их доступными для толпы. С точки зрения Грабара, свидетельство тому – активное использование темы Страшного Суда.
Во-вторых, следует идти дальше и принимать во внимание, что все три «иконографические системы» не просто практически синхронны с точки зрения своего появления, но питаются из общего источника, название которого – «иконографический язык греческого классицизма», который восходит к эллинизму и без которого невозможно понять и само римское искусство. В этой связи различие между тремя рассматриваемыми религиями и их иконографическими традициями – это «различие в деталях».
К этому Грабар тут же добавляет интересное наблюдение, больше похожее на оговорку, упоминая «впечатляющую близость отдельных религиозных иконографий, различающихся друг от друга и имеющих схожую форму»[446]. Иконографии не имеют формы, форма – признак художественного языка, если он един – и по происхождению, и по форме, – значит, и одна должна быть иконографическая система, достаточно гибкая и развитая, чтобы соответствовать различным тематическим и идеологическим интенциям. Но не более того! Поэтому просто нет оснований для того, чтобы говорить о рождении и первых шагах того или иного религиозного искусства, если мы будем ограничиваться одними тематическими аспектами, то есть иконографией. В этом смысле иконография – вне истории и конфессий. В известной степени она сама род формы, синтаксис риторического, и при том визуального, дискурса. Фактически, речь может идти только о том, чтобы подвергнуть исследованию проблему включения в поле действия данной иконографии того или иного нового смыслового поля, структура которого предполагает анализ носителя или, лучше сказать, «владельца» этого поля, а также его «потребителя» и пользователя[447]. Поэтому-то Грабар еще раз напоминает об «инициаторах этих иконографий».
Специфика и преимущество всей подобной ситуации с возникновением и сосуществованием (не всегда мирным) нескольких иконографий, а лучше сказать – образных традиций, заключаются в том, что этим изобразительным традициям соответствуют традиции религиозные, которым, в свою очередь, соответствуют обрядовые установления и порядки той или иной религиозной общины. И это означает также и то, что имеются члены соответствующей общины и участники (они же) богослужебных собраний. Именно в таком статусе – расширенном, социальном и обрядовом, а не только психологическом – следует, наверное, рассматривать и изготовителей, и потребителей всей этой образной продукции. Они были не столько инициаторами, сколько «медиаторами» или трансляторами (посредниками и переносчиками, если пользоваться русскими эквивалентами). И не просто своих намерений (например, составить конкуренцию иудеям или сделать догмат более доступным), но законченных (еще до появления искусства)
символических систем. Именно оттуда берется и через сознание «инициатора» передается вся та семантика, которая, при всем своем богатстве, успешно выражается минимальными средствами по той простой причине, что она, эта семантика, имеет изобразительность только в качестве дополнительного «аргумента»: обряд, Писание, община – инстанции и более, так сказать, первичные, и более доступные, и, главное, более исконные. Но при одном условии: если есть пространство, все это вмещающее, собирающее воедино и, главное, для которого изобразительность – вещь тоже дополнительная. Конечно же, мы снова возвращаемся к теме архитектурного пространства, в том числе создающего условия для полноценного, открытого существования всей этой образности.
Тогда вопрос о рождении и соперничестве переместится в несколько иную плоскость. Мы должны анализировать пространство катакомб и баптистериев – мест не вполне «полноценных», не совсем законченных с литургической точки зрения. Это только обещание, пока лишь образ сакрального пространства, требующего своего дальнейшего, уже храмового выражения. Синагога – это уже не храмовое пространство, это пространство, заменяющее утраченный Храм. Иначе говоря, в самом сердце всех этих иконографий лежит образность просто другого порядка: образность пространственная, литургическая, имеющая другой механизм смыслопорождения, связанный с опытом непосредственного участия в происходящем, соучастия в действиях совершаемых и в смыслах, этими действиями являемых.
В обоих случаях, так сказать, пред– и постхрамового пространства мы имеем дело с потребностью в семантическом дополнении и визуальной компенсации, но уже средствами плоскостной образности, на которую можно перенести все образные чаяния и ожидания, без надежд на скорое и буквальное их осуществление. Спасение грядет, но необходимо и встречное движение – молитвы, священнодействия, толкования, системы изобразительности, разновидности иконографий.
Но этим не снимается вопрос об изготовлении образов и механизмах их функционирования, чему и посвящена статья «Ассимиляция современной образности», где вновь вспоминается языковая теория, знакомая нам по «Введению».
И вновь мы попадаем в мир немного неточных сравнений и несколько натянутых ассоциаций, цель которых – создать определенный и, главное, целостный образ иконографии как практики обращения с образами. Вот, например, весьма характерная формулировка: «Иконография конструирует образ подобно тому, как выстраивается фраза или дискурс: через использование элементов различного происхождения и их комбинации согласно практическим навыкам (practices), сравнимым с грамматическими правилами»[448]. Мы убеждаемся благодаря этому теоретическому построению в том, что иконография – это отдельная активная сила, выстраивающая образ, что образ – это фраза или предложение, состоящее из самостоятельных и готовых элементов, определяемых их происхождением и похожих, по всей видимости, на слова, и что есть некая практическая деятельность или надобность, которая задает тон, диктует условия построения, и эти условия так же условны, как и грамматика того или иного языка.
Чуть дальше слово «иконография» заменяется выражением «иконографическое творчество» (creation), а задача исследования формулируется как определение иконографических понятий (terms), соотносящихся со словами и выражениями (locution) языка, используемого палеохристианским искусством. Ситуация, что называется, исправляется на глазах: действительно, есть искусство и есть такая его функция, как иконография.
Но следующая фраза опять все портит: «Мы начнем с наиболее общих и обычных понятий того периода, который представляется временем формирования палеохристианского иконографического языка». Язык искусства или язык иконографии? Быть может, иконография – это больше, чем язык? И можно ли пользоваться понятием языка, если речь идет о практике пользования? Это есть именно речь, а не язык! Пойдем дальше: «Затем мы обратимся к произведенным этой образностью заимствованиям из вокабулярия официального искусства Римской империи <…> и проследим адаптацию этих заимствований к палеохристианскому контексту». Привлекает внимание понятие контекста, к которому, собственно говоря, приспосабливается сам этот язык. Личное участие самого живописца или скульптора сведено было к минимуму. Основная часть этой образности – это «вокабулярий тогдашнего языка визуальных искусств, или язык общеупотребительный, или специальный технический язык». «Христианская иконография поздней античности следовала общим правилам, и значительная часть их, состоящая из клише или более-менее обычных, но достаточно общих форм искусства, отчасти очевидна, ибо все эти черты можно было наблюдать в языческих произведениях, созданных зачастую раньше первых христианских образов». Итак, если отрешиться от лингвистических терминов, то мы получим следующую картину: это не искусство создания образов и не искусство их использования. Это – искусство использования не образов, а готовых изобразительных форм, которые суть не художественные формы, то есть формы экспрессивные, а общие места, схемы-клише, складывающиеся в формулы и изобразительные типы. Впрочем, мы забегаем вперед.
Эти «общие места и мотивы» Грабар называет «эквивалентами общих мест моралистов и богословов». Они применяются без особых рассуждений. Таковым общим местом является, например, человеческая фигура со столь же общими позами и жестами. Другими словами, иконография имеет дело не с формами, не с образами тем более, а с изобразительными мотивами, причем не имеет значения, языческие они или христианские, так как это мотивы чисто предметные. Стоящая фигура, фигура с воздетыми руками, фигура в тоге со свитками, с бородой или без таковой, псевдопортретные головы, фигуры, образующие группы: например учитель с учениками или играющие младенцы и т. д. – все это есть вовсе не иконография, а изобразительная типология, подобная типологии архитектурной. Отличие от собственно иконографии указал сам Грабар, обратив внимание на дорефлексивный характер употребления этих изобразительных формул или типов: из них только и складывается собственно изображение. Они имеют технический, конструктивный, синтаксический характер. Это такой особый тип изобразительности, пользующийся готовыми как раз не словами, а фразами и формулами. Это визуально-изобразительные заготовки, из которых складывается изобразительный «конструктор».
Что же значат, тем не менее, отсылки к языку? Только то, что этот тип изобразительности – дохудожественный. Эта деятельность сродни повседневной речи. Здесь нет поэзии, нет художества и эстетической функции этих образов. Но зато, несомненно, есть функция риторическая, и мы не должны поддаваться соблазну думать, что ранние христиане или поздние язычники рисовали на стенах или вырезали из мрамора так же, как они общались друг с другом или с язычниками-соседями на одном общем койне. Конечно же нет! Изобразительная деятельность, как мы уже говорили, – это нечто такое, что только желает быть похожим на язык ради собственной убедительности.
И не случайно упоминание «общих мест» или, лучше сказать, тропов: иконография начинается с намерения, с цели создания, а точнее говоря, с использования образа. Это та самая интенция, которая была предметом внимания в «Первых шагах…». Но там это было намерение создания собственной изобразительности в соперничестве с конкурирующими опытами того же рода (таково, во всяком случае, мнение Грабара). Здесь же мы имеем дело с первичной, чисто технической типологией и с дополнительным значением, определяющим намерения с точки зрения вложенного смысла или смысла, к которому отсылают. Вот что значит упоминание практик и контекстов. Это то, что стоит за прямым значением и буквальной изобразительной типологией, это то, ради чего совершается все подобное манипулирование мотивами, и это то самое, что только и можно назвать иконографией или, вернее говоря, иконичностью, то есть системой именно образов, действующих как альтернатива слову, как его дополнение и продолжение. Не случайно сам Грабар говорит об «энигматической христианской живописи», требующей не просто считывания, а мыслительного и эмоционального сопереживания и соучастия.
Поэтому-то Грабар сам незаметно переходит на поэтический язык – показать присутствие в этих композициях, составленных из готовых формул, смысла, превосходящего прямую изобразительность («формула юности», предполагающая изображение резвящихся или просто занятых своими делами putti, имеет в виду и тему вечности, неподверженности тлену и переменам, поэтому она может быть использована в погребальном искусстве, хотя и не совсем соответствует «господствующей атмосфере серьезности»). Так что, говорит Грабар, «мы имеем феномен, столь часто наблюдаемый лингвистами в своей области: при переходе от одного языка к другому или при передаче от поколения к поколению, элемент, если он жизнеспособен, меняет свою форму и свою семантическую ценность, и мы видим в иконографии, как и в языке, смещение формы и значения»[449].
И дальше мы наблюдаем интересный парадокс, связанный как раз со всеми смысловыми нюансами, присущими поэтическому дискурсу, который Грабар как бы незаметно для себя обнаруживает в раннехристианских изображениях. Юность как образ вечности, вневременного бытия предполагает соответствующее отношение к образам, которые тоже – независимо даже от тематики – принадлежат вневременному, внеисторическому порядку смысла. Поэтому не обязательно точное и буквальное иллюстрирование идеи вечности, и образ бородатого, зрелого мужа, полного сил и отрешенного от сиюминутной суеты, точно так же служит идее власти, господства над временем, представляя Всемогущего и Всеприсутствующего Владыку вечности, то есть Христа. И тем не менее, этот образ мало чем отличается от традиционных образов языческих божеств-суверенов (Юпитер, Нептун, Плутон), так что, говорит Грабар, на практике трудно себе вообразить, как христиане усваивали эту образность, так как ни один христианин не мог мыслить себе Христа с головой языческого бога.
Каков же выход из этого, казалось бы, безвыходного иконографического положения? Может ли именно иконография объяснить мотивировку этого заимствования? Ответ Грабара вполне понятен: заимствования как такового и не было, было пользование в своих целях известным репертуаром тогдашней изобразительной образности. Язычники использовали мотив мужской головы с окладистой бородой и длинными волосами по-своему, христиане – по-своему, просто не отслеживая, что то же самое изображение можно встретить и у идолопоклонников. То же самое слово применялось в другом значении. Буквально Грабар говорит о том, что «используется визуальный элемент в качестве десигната всемогущего Бога или одного из богов, но значение получается разное».
Позволим себе некоторые уточнения. Использование семиологической терминологии требует известной осторожности. Итак, изображается мужчина средних лет с бородой и с волосами, не знавшими ножниц. Это и есть десигнат, то есть буквальное, предметное значение. Это значение, которое принадлежит самому предмету изображения. Реальный персонаж с такими внешними данными имел бы то же самое значение. Нас интересует другое, а именно сам факт изображения этого предмета: почему он стал предметом изображения? Что значит его изображение? Для чего его изображали, что имели в виду? Вот это уже будет значение не предметное, не буквальное, а, говоря соответствующим языком, интендированное, вложенное, подразумеваемое. В этом случае данный образ будет выступать уже денотатом, обозначая то, что мыслилось, имелось в виду относительного него его создателями, изготовителями и что, как предполагается, должно быть усвоено пользователем образа, в том числе зрителем, хотя относительно образа сакрального это амплуа не самое релевантное. И только после этого денотативного аспекта мы можем говорить об использовании образа в косвенных целях, когда оказываются задействованы всякого рода дополнительные смыслопорождающие механизмы, объединяемые понятием тропа и процессом переноса смысла с одного носителя на другой. Подобная универсальная логика оказывается задействованной и в случае раннехристианской образности, которая, несомненно, тоже имеет последний, метафорический, тропологический уровень смысла, являющийся предметом внимания визуальной, изобразительной поэтики или хотя бы риторики. Грабар, не называя эти смысловые области и концептуальные регионы, несомненно имеет их в виду, употребляя такие выражения, как «общие места». Именно репертуар готовых изобразительных мотивов (с этого начинается статья, и это есть предмет ее внимания), вокабулярий устойчивых визуальных формул с закрепленным и постоянным значением и в соотнесении с универсальной тематикой и общими идеями (идеологией) – вот что является фактическим материалом для дальнейших, уже сугубо художественных, то есть творческих, усилий художников-изготовителей образов.
А то, что описывает Грабар в терминах лингвистики, – это как раз процесс подготовки этого материала, его формирование и складывание. И как мы уже могли убедиться (и еще сможем в дальнейшем), очень трудно не задеть при подобном сугубо описательном, то есть иконографическом, подходе механизмов чисто поэтических, метафорических, иносказательных и конвенциональных не на техническом языковом, а на поэтическом речевом уровне. Строгое различение этих уровней и внимательное отношение к условиям перехода с уровня на уровень – вот задача истинно аналитической иконографии, которая, как уже не раз нами говорилось, вполне способна рассчитывать на близость к герменевтике.
Итак, мы договорились, что христианская изобразительная деятельность фактически начинается с уровня риторического иносказания, то есть непрямого использования готового образного репертуара. Хотя сразу нам придется оговориться: этот вывод возможен лишь в том случае, если мы допускаем, что ранние христиане, что называется, пришли на готовое. Это допущение вполне возможно хотя бы потому, что традиция классического античного искусства старше традиции искусства (или изобразительности) христианской. При этом вся картина сразу меняется, стоит нам допустить, что, подобно обращению человека к новой (и истинной) вере, возможно и обращение искусства к новой и истинной тематике, которое просто-напросто не затрагивает (и не может затронуть) чисто художественные аспекты (подобно тому, как язык могут использовать и язычник, и христианин, причем одновременно). Художник-христианин обучался изображать богов, а теперь он пишет образы Бога. Но в любом случае мы должны говорить о сознательных процессах: художники отдавали себе отчет в происходившем – в происходившем переходе образа (мотива) от одной тематики к другой.
Грабар сам склонен именно так оценивать отношение раннехристианских изготовителей образов к языческому изобразительному опыту, используя два очень характерных и весьма удачных выражения. Мотив триумфального вознесения героя (или императора) и принятие его в сонм божеств был перенят и художниками-христианами (вознесение Илии или Христа), которые, по словам Грабара, «адаптировали» эти формулы языческой образности к образности собственной, используя – еще одно важное и выражение, и наблюдение – общеупотребительные визуальные формы из своего окружения. Другими словами, можно сказать, что христиане не просто пользовались общеупотребительной визуальной лексикой, складывая изобразительные «слова» в изобразительные «фразы» согласно общим правилам. Они воспроизводили тот визуально-образный опыт, что они получали, взирая на окружающую их образность. Фактически, речь идет об образах-впечатлениях и образах-репродукциях, и то, что мы видим на фресках и саркофагах, суть образы образов, воспроизведение-фиксация визуально-эстетического опыта. Так что говорить о подражании языческому искусству не стоит, так как между идолопоклонническими, языческими образами и образами христианскими стоят образы сознания, образы ментальные, родившиеся из опыта непосредственного восприятия.
Это уже своя собственность, и ее можно применять по своему усмотрению, например адаптируя к конкретным темам. Такова логика Грабара, которая подтверждается и следующим выражением, употребленным им. Речь идет о другом мотиве – триумфальной колеснице с героем или опять же с императором. В этом случае Грабар употребляет выражение «иконографическая имитация».
Архитектурное место образов
Итак, адаптация и имитация…
Не есть ли это просто две формы, два способа обращения с общими местами собственного восприятия? Это есть, так сказать, «обороты речи», повествующие о внешних – но вполне эстетических – впечатлениях. Но не предполагает ли это вполне осознанного – и, значит, более развитого и высокого – отношения к искусству? Или отношения отстраненного? Быть может, это отношение аиконичной ментальности, использующей образы как технические, подсобные средства? Что же покрывает подобный визуально-изобразительный «декорум»? Видимо, то, что иначе не стало бы доступным взору столь непосредственно и наглядно: архитектуру, пространственно-объемную среду и опыт ее переживания. Несомненно, это предварительное предположение, хотя, так сказать, поведение образов заставляет относиться к нему серьезно. Пасторальная тематика – еще одна область совместного владения язычников и христиан при несомненном первенстве в правах со стороны язычников. Пастух в окружении своего стада – это не просто универсальная метафора идиллической жизни и не просто самое естественное иллюстрирование соответствующего евангельского образа Доброго Пастыря. Это и метафора более общего и одновременно глубинного порядка, связанного с идеей загробного существования. Как видим, темы (именно темы!) настолько универсальны и всеобъемлющи, что они равным образом касаются всякого человека. Это, что называется, общечеловеческая и при этом экзистенциальная тема, пронизывающая все, какие только возможно, изобразительные и религиозные традиции и все типы образности, равным образом встречаясь (украшая) и стенки саркофагов, и стены мавзолеев. Поэтому именно универсальность использования, применения этой темы заставляет предполагать, что и наиболее адекватный тип изобразительности, наиболее подходящий, уместный и столь же емкий – соответствующий данной тематике и образности – единственно возможен в качестве эквивалента. Так мы снова приходим к образу архитектуры с ее динамическим пространством, выступающим в качестве проводящей среды во всех процессах перехода и переноса смысла[450].
Но Грабар, произведя наблюдения за всеми «категориями образов», обнаруживает еще одно отношение к языческому наследию. И это отношение он называет «утилизацией отдельных форм или мотивов, происходящих из аналогичных языческих образных представлений»[451]. Не слишком ли разнообразное и, главное, свободное обращение с тем, что тебе не принадлежит? Вопрос совершенно резонный и ответ на него – ожидаемый: на самом-то деле мы (вкупе с художниками III века) имеем дело с «одним общим визуальным языком, элементы которого использовались всеми изготовителями образов – иногда с наделением нового смысла».
Палеохристианское искусство – не что иное, как «ответвление искусства эпохи Империи». Одни и те же слова в их «ежедневном употреблении, общедоступные в текстах и дискурсах, составленных на одном и том же языке в один и тот же период». Эту формулировку можно было бы назвать классической, если бы не следующая сразу после нее очередная оговорка: «но позади подобного общего фона, принадлежащего всякой образности данной эпохи, христианская иконография демонстрирует более специфическое отношение (выделено нами. – С.В.). к некоторым особенным областям современной иконографии, со всей точностью уподобляясь какому-нибудь частному техническому языку, способному украшать себя специальными понятиями, отобранными из вполне определенных специфических источников (таких, как военные или эротические выражения в религиозном языке)»[452]. Если речь идет о техническом языке, то как часть общеупотребительного языка он определяется и ограничивается теми самыми «специальными понятиями». Но если речь идет о том, что этот технический язык сам себя снабжает, обеспечивает и – действительно – украшает специально отобранными элементами, беря их из различных источников, то это уже не какой-то отдельный язык, а просто специальная (или поэтическая) лексика, словарь, вокабулярий (Грабар употребляет и эти выражения). Особенности словоупотребления, словарного состава и лексического строя, не затрагивающие сам язык и тем более его не создающие, определяются теми самыми отношениями, которые и сам Грабар определил как специфику раннехристианской иконографии и всей раннехристианской иконографической активности, направленной как раз на выстраивание отношений между прошлым и будущим, язычеством и Евангелием, между жизнью и смертью, между прямым значением образа и его интерпретацией-рецепцией, между живописью и пространством, которое она призвана украшать своими средствами.
Поэтому-то тема украшения, снабжения дополнительными элементами в том дискурсе, который предлагает сам Грабар, кажется нам не случайной. Эта раннехристианская изобразительность, как мы вновь убеждаемся, имеет отчетливо декорирующий характер. Но если применительно к языческому изобразительному искусству, непосредственно связанному с архитектурой, это свойство совершенно понятно и естественно, то для раннехристианского искусства мы имеем специфическое обстоятельство, определяемое тем фактом, что как таковой раннехристианской архитектуры не было. Были лишь отдельные ее свойства, измерения. Можно сказать, что это пока еще невнятный, плохо артикулированный язык архитектурного пространства, подбирающего себе лексику из близлежащих областей, не обладая при этом еще даже полноценным языковым носителем. Таковыми пока остаются стены внутреннего пространства катакомб и внешние стенки объемов саркофагов. Это еще не архитектура, но ее обещание и предчувствие, выраженное средствами смежных искусств.
Тем не менее возникает естественное предположение, что все вышеописанные особенности христианской образности и изобразительности – признаки стесненного, буквально и переносно, катакомбного положения христианства до Эдикта 313 года. После него все должно перемениться, так как «были открыты двери для нарастающей активности в области христианского иконографического творчества»[453]. Но изменение статуса христианства не повлекло за собой непосредственного расцвета искусства. «Так как христианские идеи или формы богопочитания могли иметь отныне свободное выражение, то можно было бы ожидать, что христианская иконография станет развиваться во всех возможных направлениях»[454]. Но этого не произошло, добавляет Грабар.
Коллективный язык личного благочестия, или Имперское вторжение
Итак, существуют формы или идеи благочестия, и есть их выражение средствами иконографии. Мы договорились, что иконография – это не просто язык, а речь, то есть практика пользования языком. Что же такое благочестие? Тоже способ обращения, речевого дискурса, обращенного к Богу. Очевидно, что богопочитание, богообщение, богослужение – речь прямая. Тогда выходит, что искусство, особенно в аспекте иконографии, – речь косвенная, так сказать, пересказ «своими словами», которые, между прочим, как выясняется, не такие уж и свои.
Отсюда отчасти понятно, почему раннехристианская иконография и после 313 года продолжала развиваться, как и прежде, через повторение традиционных схем, теперь уже не языческих, скажем сразу, забегая вперед, а императорских, то есть просто светских. Причина – в сохранении функции косвенной речи, вторичной, производной образности, метафорического декорума[455].
Во всяком случае, таковым оставалось отношение к иконографии, вообще к сакральной изобразительности и после 313 года, и весь IV век, фактически, что Грабар с редкой убедительностью доказывает на примере императорского искусства и, если так можно выразиться вслед за Грабаром, – константиновской, но еще не христианской иконографии, вызванной к жизни довольно специфическими личными усилиями на поприще искусства первого императора-христианина.
Мы еще раз убеждаемся, какова роль – можно сказать, решающая – именно интенциональных аспектов данной образности: что происходило в голове и в сердце того, кто ощущал потребность в тех или иных образах, что считал он задачей и функцией образа, – все эти аспекты, казалось бы чисто психологические, на самом-то деле как раз и определяли характер возникающей в результате изобразительности. Между прочим, говоря о носителе той или иной интенциональности, мы не случайно использовали единственное число. Уникальность ситуации IV века состоит в том, что все, практически, процессы, наблюдаемые в области христианского искусства и его иконографических аспектов, инициированы и определены одним лицом – императором Римской империи Константином, земным владыкой, обращенным Владыкой Небесным.
Именно отношение императора к искусству и к христианству, точнее говоря, ко Христу – вот что следует учитывать при понимании особенностей той изобразительной активности, что связана с именем Константина. А особенностей было предостаточно, о главной из которых – отсутствии явных перемен после обретения христианством свободы – мы уже упоминали. Дело даже в другом – в возврате к первичным типам образности – к «символическим знакам», уклонение от использования «репрезентативных образов». Главная причина, по мнению Грабара, заключается в желании императора, только что порвавшего с идолопоклонничеством (в отличие от своего соперника Лициния), «отделить репрезентативные образы от религии Христа». Такова причина, почему монограмма ΧΡ становится чуть ли не официальным и единственным образом, признававшимся Константином в качестве священного. Здесь невозможно забывать и об иудейском влиянии, ведь Константин весьма интересовался страной основателя новой религии, палестинскими памятниками, Иерусалимом, Святой Землей и предыдущей традицией, изобразительный аспект которой он мог наблюдать в росписях тогдашних синагог. Тем не менее, говорит Грабар, главный вклад императора в дело христианской иконографии – адаптация монограммы к армейским нуждам. Иконография стала служить чисто практическим и чисто военным, то есть светским, целям.
Мы наблюдаем на самом деле кардинальные, хотя внешне не столь эффектные перемены в иконографической практике: образный строй оказывается способным менять свой характер и отражать в себе намерения и настроения, отклоняющиеся от сугубо сакраментальных нужд и потребностей.
Грабар называет эти процессы «имперским вторжением», обращая внимание на двоякий интерес, который они могут вызвать. Самое главное, мы точно знаем источник и инициатора иконографических инвенций, равно как их место и дату (Рим, после битвы на Мильвианском мосту). Грабар обращает внимание, что для Константина символ-монограмма был знаком его личного отношения, причем не к христианству, а к Самому Христу. Этот символ был «зарезервирован» императором и его армией и служил уже знакомой нам цели – быть символом-апотропеем, но теперь уже военным. Тем не менее остается прежняя функция выражения абстрактной идеи.
В этом смысле данный изобразительный опыт остается архаичным, но в него вносится один новый момент, связанный с конкретной целью использования этого образа. Эта цель – благополучие армии, и в качестве таковой она определяет и назначение образа, его направленность, его коллективный характер, в то время как палеохристианское искусство III века предназначено было для индивидуального восприятия (загробная судьба конкретного верующего). Очень скоро, ближе к V веку, христианское искусство, говорит Грабар, будет приспособлено к «разъяснению или отражению догматов или высших принципов христианства»[456]. Да и коллективизм тоже естествен для христианского взгляда, предполагающего за ним Церковь и народ Божий внутри нее. Константиновский коллективизм иного рода: «Константин в 313 году еще не смотрел на эти вещи глазами клира». Предмет его коллективистских устремлений – его армия и его Империя. Хотя тут же мы можем заметить, что образ Церкви воинствующей и образ члена Церкви как воина Христова – тоже довольно ранний.
Впрочем, имперская иконография – это и изображение в новом императорском дворце в Константинополе самого Константина и его сына, попирающих дракона, символа врагов императора (того же язычника Лициния). Теперь Константин оказывается на месте Христа, хотя наполнение данного образа остается все так же светским, военным и политическим. Получается очень странная и примечательная вещь: иконография, образный строй прямо зависят в своем смысловом наполнении от того, в чьих руках они находятся. То есть мы наблюдаем примерно ту же картину, что и при переходе от языческой образности к христианской, когда приходилось говорить, что эта образность практически межконфессиональна. Константиновскую иконографическую активность следует считать промежуточным, переходным иконографическим опытом. И в подобной ситуации мы вынуждены свидетельствовать, что тогдашний тип образности по своей сути всегда оставался религиозным, и факт использования искусства константиновской идеологией в качестве инструмента пропаганды выдает прямое желание, так сказать, новой сакрализации прежней императорской власти, легитимизации со стороны новой веры. Грабар выражается конкретнее, говоря о «триумфальной иконографии, которая, продолжая и расширяя римскую традицию, служила целям фиксации в памяти всех образа непобедимого монарха, самого могущественного на земле»[457].
Мы можем добавить, что иконография как таковая не есть прямая функция религиозного содержания. Скорее это есть образно-тематический строй визуального языка и способ его использования: средство хранить и поддерживать в устойчивости такое фундаментальное свойство образа, как его узнаваемость, его соотнесенность с таким не менее сущностным свойством человеческой психики, как память. И пользоваться этим образным строем может всякий, кто верит в сакральную, освящающую силу любого положительного образа. И это использование, то есть сама визуально-иконографическая речь, не обязательно следует общим правилам. В том-то и дело, что существует индивидуальный речевой акт, опыт, отражающий индивидуальный опыт говорящего. Если же этот самый пользователь к тому же и император, то его личные предпочтения способны стать правилами. Так и происходит с будущей христианской и церковной, а пока константиновской и императорской иконографией, способной, например, пользоваться и «иудейскими древностями» в целях прославления всемогущего правителя (мотив благословляющей Десницы Божией). Мы опять сталкиваемся с примером персонального отношения к христианству, которое Константин воспринимал через Христа как основателя новой религии, происходящей, впрочем, из иудаизма (да и Сам Христос в своей человеческой сущности принадлежал к той же вере)[458].
То, что личность императора и его власть были лишь промежуточным звеном в складывающейся семантике христианского искусства, видно по все той же иконографии восседающего на троне императора с благословляющей его Божественной Десницей. Сам император, земной владыка, и мыслился, и воспринимался как образ Владыки Небесного. От всемогущего Космократора земной монарх обретает свою власть, свое земное царство как образ Царства Божия. Так, пока еще в форме «косвенной речи», впервые, как отмечает Грабар, универсальные истины обретают свое выражение посредством иконографии, которая совсем недавно служила потребностям индивидуума. Правда, тут же Грабар оговаривается, что все-таки константиновская иконография была религиозной лишь отчасти – или «в той манере, в какой поздняя Римская империя рассматривала эти вещи». Еще раз обращаем внимание на всплывшее ненароком понятие: «манера», которое здесь, хотя и выглядит чисто техническим термином, на самом деле отражает наиглавнейшее свойство искусства – делать наглядным отношение: к форме, к предмету изображения, к теме, к функции. Появление новой модальности в данной образной традиции – верный признак того, что подобная изобразительная практика готова обрести статус изобразительного искусства. А где модус, где характер – там и прямой путь к сознанию, к душе, к структуре сознания, строению личности, то есть к иконологии и герменевтике.
Грабар задается вполне резонным вопросом: а что, если бы иконографическая инициатива с подобным универсалистским устремлением исходила бы не от только что обратившегося индивидуума, пусть даже императора, а от самого церковного клира? Тогда бы христианская община (а не римское государство) была десигнатом христианского целого, и сущностные идеи, обретавшие свое место в образах, брались бы из круга христологической догматики, именно в то время воодушевлявшей христианский ум. Еще более общие понятия можно было бы позаимствовать из экклезиологии. Все это произойдет после 400 года, в эпоху же Константина клир еще не был готов к решению такой задачи, как изменение привычного, восходящего к III веку представления об искусстве как чисто нарративной и чисто утилитарной практике. Так что, заключает Грабар, «ничего удивительного, что великий иконографический расцвет начался в императорском дворце, прежде чем контроль за христианской иконографией незаметно перешел к Церкви»[459].
Мы, по нашему обыкновению, чуть расширим эти на самом деле тонкие наблюдения. И правда, что мешало именно Церкви возглавить иконографическое пробуждение? Почему имперская инициатива? Видимо, главная причина заключается в том, что христианская образность сохраняла свой прежний характер и свою более раннюю функцию служить знаковым обрамлением, декорумом, а не иллюстрацией идей или даже Писания. Империя в лице Константина сама только что «крестилась» и подобно первым христианам нуждалась в образности знаково-доходчивой, имеющей прямое воздействие на умы. При желании можно добавить с некоторой долей метафоризма, что имперская власть, имперская идеология и имперский церемониал нуждались пока еще в прежнем, отчасти погребально-крещальном искусстве, ибо и в Империи должно было что-то отмереть из прежнего, старого, языческого, идолопоклоннического. С другой стороны, Церковь как раз в IV веке получила не только свободу вероисповедания вообще, но и возможность совершать именно храмовое богослужение. И обретение храмового, литургического пространства уже было достижением, а его обрамление с помощью изобразительных образов было еще не столь актуально. Решались сугубо архитектурные проблемы, готовилась почва, лучше сказать, поле для будущих всходов собственно христианского искусства. Не случайно именно IV век – рождение архитектурной иконографии: изобразительность, пребывавшая до сих пор как бы под спудом, сразу проявила свою силу в наименее, быть может, миметическом, но наиболее емком по смыслу виде образности.
Тем не менее нельзя считать константиновское, светско-имперское искусство какой-то задержкой, вынужденной паузой, ожиданием, когда Империя «подтянется» вслед за Церковью, так сказать, изобразительно воцерковится, обретет свой образный и по-новому сакральный язык. На самом деле именно «дворцовое» искусство IV века было важнейшей фазой формирования христианской иконографической традиции, когда средствами пока еще имперского искусства, его «иконографическими формулами», но все-таки производилась изобразительная интерпретация «чисто христианского материала». Несомненно, в V веке «вокабулярий» триумфального и имперского искусства был очищен и превращен в сугубо церковную «лексику», воспринятую христианской иконографией как таковой. При всем том, что в V веке произойдет «фундаментальная модификация» христианского искусства, но даже в позднейшие времена и даже на уровне литургического обихода, богослужебной обрядности и просто молитвенной практики искусство IV века оставит «незабываемое впечатление»[460].
Другими словами, на пути к обретению собственного лица христианская иконография должна была взглянуть на себя со стороны и убедиться, что не так уж чужда ей вся эта имперская и сюжетика, и тематика, в которой ключевой момент – все превосходящая власть и все определяющая сила. Достаточно было приложить весь этот визуально-идеологический и одновременно государственно-официальный пафос к образу Христа, чтобы получилась вполне убедительная экклезиологическая иконография, например строго симметричная и сугубо иератическая сцена передачи Небесным Владыкой церковного Закона апостолу Петру в присутствии апостола Павла (плохо сохранившиеся мозаики из Санта Констанца, ок. 350 года).
Иконография и «реальные церемонии»
…И вот здесь мы встречаемся, вероятно, с самым фундаментальным наблюдением, произведенным Андрэ Грабаром в связи с рассмотрением христианской иконографии как таковой. Смысл и значение этого, в общем-то, эмпирического наблюдения выходит далеко за пределы изобразительного искусства как такового. О чем же идет речь? О том, что, на самом-то деле, «имперские модели» в иконографии были по-настоящему сильнейшим фактором формирования христианского искусства вообще, так как «христианская иконография заимствовала из иконографии имперской не только формулы, но и предмет»[461]. Иными словами, изображалось то, что можно было видеть здесь и сейчас. Имперские изобразительные модели имели преимущество, которое подтверждалось тем, казалось бы, неопровержимым фактом, что «имперские образы представляли реальные церемонии», тогда как христианские изображения предполагали участие воображения и «их символизм становился понятным только потому, что имели место церемонии». Иначе говоря, христианская (то есть, строго говоря, евангельская) образность в таком контексте оказывалась вторичной и воспринималась и понималась только через отсылку к «реальным церемониям», практикам, действиям, имевшим место в настоящем, доступным непосредственно и не требующим особого усилия для своего усвоения «пользователем», пребывающим, остающимся в том же смысловом и вообще экзистенциальном, онтологическом пространстве, в котором он был и прежде. Вовсе не язычество, а светскость была уже тогда реальной угрозой христианской образности (и не только образности, и уже не только тогда, а гораздо раньше, когда было сказано, что «мир лежит во зле»…). Двухмерное искусство и все его «смысловые поля» не могли ничего противопоставить этой профанирующей угрозе. Это искусство, действительно было слишком нереальным по сравнению с ритуалами и церемониалом императорского двора[462]. Конечно же, мы можем предположить, что вся эта образность есть отражение того факта, что христианство обладает немалым потенциалом рецепции «инородных» явлений, сперва язычества, теперь Империи, хотя, если сначала мы видели интенцию индивидуально-психологическую, то теперь – тенденцию чуть более опасную, выход в сферу социальную, политическую, идеологическую. Мы не можем отделаться от ощущения, что это уже истолкованное, так сказать, переработанное и трансформированное христианство. Есть ли спасение? Образ Христа-Космократора, восседающего на троне в окружении апостолов-придворных, воспроизводящих ситуацию императорского совета в Священном Дворце, т.н. silentium, имеет в качестве фона интерьер дворца или вид города, и это присутствие архитектуры обнадеживает, так как сохраняется связь с реальностью более высокого порядка.
Но лишь храмовое зодчество могло продолжить и расширить реальное пространство дворца земного владыки еще более реальным пространством, можно сказать, сверхпространством Дома Владыки и Земли, и Небеси… Проблема, как известно, для многих заключалась в том, что Он предлагал не свой закон и свою силу, не свою армию и свою империю, а Свою правду и Свое бессилие, Самого Себя и Свое Царство, что не от мира сего. Свою Евхаристию. И еще одна проблема: Христос предлагал и предлагает Себя в Слове, и только потом – в образе.
Как иконографии сохранить подобный порядок смысловых ценностей? Только через обретение прямой связи, если не зависимости с тем самым искусством, которому просто вменяется в обязанность организовывать иерархический порядок – пространства, объема, поверхностей, проемов, ярусов, смыслов, толкований. Мы опять вынуждены констатировать неизбежность и неизбывность архитектурных структур, скрыто, но действенно присутствующих в любых христианских образах.
Тем не менее иконография в рассматриваемый период обретала черты универсальной визуальной риторики, того самого метаязыка, о котором мы уже говорили и который проявлял себя именно в способности служить, так сказать, гетерогенным задачам, выходящим за пределы религиозного искусства как такового. Кроме того, адаптация к нуждам официального искусства предполагала и приспособление к монументальным контекстам «большой» архитектуры. Стало возможным формирование того языка, который потом будет приспособлен к нуждам собственно церковным[463].
Пока же это только опыт расширения поля действия, попытка обретения своего пути, и применительно к началу V века Грабар уже говорит о двух «рукавах» единого христианского искусства: одна ветвь – имперская, другая – церковная. И все эти процессы и явления имели место внутри одного общего идейного процесса, который можно именовать renovatio Imperiae и который ознаменовался двумя величественными «проектами»: водружением колонн императора Аркадия в Константинополе и созданием мозаического декора в римской базилике Санта Мария Маджоре. С точки зрения развития новой иконографии рельефы триумфальных колонн Аркадия замечательны тем, что в них, если не говорить о самом факте возрождения одного из самых значимых типов имперских монументов, впервые после II века появляются развернутые повествовательные композиции, с батальными сценами, ритуалами и церемониями, с видами городов и местностей. Так имперская идеологическая инициатива и изобразительная инвенция возвращают искусство – чисто ретроспективно и абсолютно сознательно – в пространство исторической реальности. Следующий шаг, невозможный без предыдущего, – возвращение изобразительному искусству сакральной и при этом храмовой размерности, что и происходит в Санта Мария Маджоре буквально через два десятилетия после аркадиевских колонн.
Впрочем, как выясняется, это обретение только нового места, с сохранением старой – вполне имперской и даже военной образности. Хотя здесь, внутри все той же триумфальной тематики, модифицированной сакральной тематикой, уже следует различать, действительно, отдельные модусы. Изображения на триумфальной арке базилики ближе всего к имперскому искусству, что не случайно. Иконография, по удачному выражению Грабара, преследует демонстративные цели, она показывает силу, власть Христа, как прежде делала это относительно императора, следуя «изобразительным условностям римской монархии»[464].
Другой тип, другой модус изображения – нарративный, встречающийся, как нетрудно догадаться, в нефах. Здесь самым непосредственным образом видна зависимость мозаичных изображений от архитектурных условий: вытянутость и разбивка на отдельные поля определяют лентообразный характер повествования, позволяющий Грабару сравнить этот цикл с развернутыми и вытянутыми в одну горизонтальную линию спиралевидными композициями рельефов триумфальных колонн. Сами композиции мозаик, в свою очередь, демонстрируют зависимость от рельефа в построении пространства.
Итак, архитектура уже самым непосредственным образом влияет на формальную структуру изображений, а также и на их характер, не только милитаризированный, не только триумфальный, не только нарративно-иллюстративный, но и, самое существенное, не способный передавать абстрактные идеи, в том числе и догматические истины[465].
Зато «триумфальное воодушевление» имперских образов христианская иконография в состоянии была не только передавать, но и соответствовать этому «пафосу» на уровне изобразительной архитектоники в виде системы регистров той же «эфесской арки» в Санта Мария Маджоре. Очевидность такого рода «переноса имперской модели на христианскую реплику» позволяет Грабару говорить об уроках, которые можно извлечь из изучения подобных памятников. Что это за уроки? Они выражены в следующей фразе: «С христианской точки зрения подобные великолепные образы на церковной триумфальной арке способны были являть всякому зрителю великую силу Бога или Христа (так у Грабара. – С.В.) – силу, распространяющуюся с Небес на землю и на земле достигающую Империи и варварских стран, иначе говоря, всей обитаемой вселенной. Именно этого христианские создатели образов могли добиться своим методом интеграции христианских образов исторической природы – взятых из Писания – вкупе с некоторыми символами абстрактного порядка в тщательно разработанный иконографический язык, доступный каждому»[466]. Можно следующим образом прокомментировать данный пассаж: имперская тематика, так сказать, прокладывала путь для чисто христианской и чисто церковной образности. Мотив движения, распространения, завоевания здесь, несомненно, наиважнейший. Но это не только мотив, тема, образ изобразительный, но и функция, образ действия, присущий христианской образности. Это самая настоящая проповедь на доступном и проверенном языке – на языке победоносной Империи, покоренной Христом и покоряющей народы Христовой верой.
Другими словами, существует иконографический репертуар имперского происхождения и содержания, и есть его использование – вместе со всеми его тематическими рубриками и нюансами – христианской образностью. Некоторые темы выглядят весьма показательными с точки зрения именно их смысловой интерпретации, осуществляемой как раз в процессе их использования. Самая очевидная рубрика – военные, батальные сцены, важные в том смысле, что они наиболее богаты предметным содержанием, что требовало столь же богатого арсенала выразительных средств. Это и римская армия на марше и в сражении, виды покоренных городов и римских укреплений, победоносные столкновения с иными народами, изображения римских солдат и офицеров. И все это могло быть применено к изображению, например, сцен Ветхого Завета, где тот же Авраам во встрече с Мельхиседеком подобен римскому генералу, принимающему покоренного вражеского военачальника (и все это, как водится, в окружении персонификаций рек и местностей и в сопровождении богини Виктории)…
Но тут же возникает законный вопрос: не являются ли в данном случае все эти темы, рубрики, категории и т. д. как раз теми самыми «семантическими полями», которые равным образом используют разные пользователи, каждый по своему и в своих целях? Семантика может не совпадать с прагматикой. Ведь и правда, не только римский император покорял соседние народы, но и Иисус Навин – аммореев и амаликитян.
Как прежде мы решали вопрос о внеконфессиональности иконографического языка III века (не языческий и не христианский, а художественный), точно так же и сейчас вынуждены предположить, что церковный и имперский статус образов вторичен по сравнению с традицией собственно изобразительной, художественной и иконографической. Чисто хронологическое первенство мастеров императорского заказа не делает образы христианские семантически вторичными. Особенно этот момент заметен при рассмотрении такого специфического раздела официально-государственной иконографии, как сцены судебных разбирательств, вынесения приговоров, наказаний и экзекуций, которые на самом деле оказываются крайне близкими именно христианской изобразительности. Просто это взгляд буквально с другой стороны – со стороны мучеников и исповедников, которых нельзя назвать менее важными участниками соответствующих сцен…
Грабар же в связи с христианской агиографической иконографией замечает, что «христианские заимствования подобной модели (сцен наказаний. – С.В.[467]) особенно впечатляющие, так как иллюстрируют “мутации” в значениях заимствованных элементов, происходящие более-менее заметные смещения значения и полное переиначивание смысла».
А быть может, ничего подобного и не происходит, так как значение – это отношение. Тогда получается, что иконография – это изображение отношений к смыслу предметному (к тому, что изображается), из чего рождается и смысл изобразительный, который не есть смысл изображения, так как значим не изображенный факт, а сам факт изображения. Поэтому сцена казни остается сценой казни, кто бы ее ни изображал. Но ее значение истолковывается уже в акте ее использования, употребления тем или иным пользователем, который вкладывает свое понимание в данное значение, осмысляя его и наделяя смыслом.
Вот тут-то и начинаются самые главные нюансы, замеченные и Грабаром: официальное римское искусство преследовало цели пропаганды, внушения и фиксации образов в сознании, их непосредственного эмоционального переживания, тогда как христианский подход к той же теме пробуждал механизм воспоминания, то есть гораздо более глубокие слои психики. В том и другом случае источник образности – современная практика, социальная, политическая, административная, религиозная, идеологическая, – но только во втором случае к этому добавляется момент вневременной, причем именно на уровне восприятия, понимания образа, который представлен, благодаря усилиям христианских создателей образов, в пространстве, имеющем более богатую размерность.
Иконография существования
Попробуем вслед за Грабаром проследить все эти измерения, которые, повторяем, воспринимаются как источники или, по выражению самого Грабара, «каналы» иконографической образности. Помимо тематики римского государства во всех его аспектах, достойна упоминания такая семантическая и, соответственно, иконографическая область, как загородная жизнь, вилла, что тем более интересно, так как раннехристианская и образность, и культура были преимущественно городскими явлениями. Загородная жизнь – это сразу иное социальное измерение, это культура землевладельческой аристократии, сенаторов и магнатов, это соответствующий вкус и соответствующее искусство с характерной для него «иконографической программой» (данное выражение впервые употребляется Грабаром именно в этом контексте[468]). Кстати, почему именно здесь употреблено слово «программа»? Только по той причине, что именно в этой среде мы наблюдаем тот самый менталитет, который позволяет говорить о сознательной, осознанной, отрефлексированной, условно говоря, эстетике, предполагающей, в том числе, и осознанность заказа. Вполне очевидно, что это совсем иной социальный и культурный слой по сравнению с членами раннехристианских общин.
Помимо этого изображения, украшающие пространства вилл (прежде всего напольные мозаики), дают редкий случай сосуществования и начальных истоков, и конечных фаз развития иконографического процесса. И самое главное, что приходит на ум в связи с «загородной» иконографией, так это та мысль, что вполне закономерно наблюдать иконографическую систему, строго привязанную к месту, имеющую смыслообразующую локализацию. Прежде это были катакомбы, составлявшие вполне определенный смысловой контекст, затем императорский дворец, а теперь – загородная вилла. То есть, всякая перемена в изобразительном строе искусства оказывается связана с определенным топосом, местом, которое, так сказать, хранит смысл по той причине, что в этом месте присутствует, наличествует человек.
Каждое из этих пространств характеризуется конкретными обрядами, ритуалами, совершавшимися в нем с участием человека и составлявшими непосредственное их содержание, буквальное их наполнение, символико-прагматическое по своей сути. И самое главное, что это топографическое и топологическое движение смысла приводит нас к самым исконным, первичным уровням человеческого бытия, символизм которого питает все последующие образные структуры, которые, впрочем, всегда остаются привязанными к архитектоническим образам.
Применительно ли это к вилле? Можно сказать, более чем ко всем прочим, так как наполнением, смыслом этих пространств была (и остается) практика человеческого существования, навык, обычай, традиция проживания на земле, переживание соседства с природой. Причем существования в чистом виде, не отягощенного никакими привходящими смысловыми нюансами. Поэтому не случайно напольные мозаики на вилле в Карфагене содержат изображение хозяина дома, т.н. Юлия, в окружении собственного семейства, рабов с плодами сельского хозяйства, а также многочисленных персонификаций – домашнего очага, четырех времен года с присущими им занятиями. Особая сцена – Юлий, готовящийся к охоте. То есть перед нами отдельная, конкретная личность в окружении череды событий, «непрерывного потока времени»[469]. Масштабный диапазон явлений способен поглотить отдельную человеческую личность, но тут в дело вступает язык аллегорий: с помощью персонификаций осуществляется перенос масштаба, выстраивается иерархия ценностей и смыслов, отводящая личности положенное ей место и увязывающая уровни бытия в единое осмысленное целое, пронизанное «человеческим измерением». И основание всего – опыт пребывания на земле, которая есть исток и залог бытия всего сотворенного универсума.
И как не случайно, что самые непосредственные образцы переноса этой «иконографии поместья» на иконографию сакральную связаны, во-первых, с пространством синагоги, а во-вторых, – со Святой Землей! Мы снова наблюдаем, теперь уже в V веке, те же самые процессы, что происходили до 313 года, но теперь в другом масштабе и с более четкой пространственной ориентацией и конкретной локализацией образности. Причиной тому, несомненно, – более развитый художественный язык, но тем не менее, путь от языческого (светского) «местодействия» через иудейское к христианскому остается. Даже если это и не путь – подобное определение может показаться натяжкой, – то, во всяком случае, треугольник смысловых отношений, который выстраивается очень точно с христианской версией – в качестве вершины.
Причина такого «привилегированного» положения христианской образности заключается в том, что она следует после предыдущих опытов и потому выступает уже истолкованием, расширением и углублением первичного смысла. Воспроизводя его ради собственных целей, изготовители христианских образов превращали его в смысл почти что предметный, над которым можно было выстраивать все уровни дополнительного смыслообразования. Так, сцены охоты на диких зверей из сцен преследования превращались в сцены обороны от нападения. Сцены земледельческих трудов обретали статус почти что медитативных образов: это «земля вообще», где владыка не какой-то частный землевладелец, а Сам Бог, это его владение, «идеальная Божия страна», переданная, между прочим, в пользование Церкви[470].
Единственное ограничение, которое могло останавливать христианских художников, – имперско-официальное происхождение средств аллегоризации. Но через посредство «искусства поместья» оказывалось возможным найти более человеческую и одновременно более сакральную, частную и конкретную модальность всей подобной образности (поместье, так сказать, помещало, коллективное в частное). Важный нюанс заключается в том, что эта иконография особенно распространена была в восточных провинциях и в Палестине, где и мессианистические настроения были более отчетливы, и реальная земля реально была святой. Так, парадоксальным образом, средствами аллегоризации идеология и мифология модифицировались в реальную историю реального спасения и подлинного богоприсутствия.
Раннехристианский аллегоризм – явление скоротечное, в конце VII века на Трулльском соборе (695 года) происходит осуждение аллегорического языка, пригодного разве что для Ветхого Завета. Это есть «тень истины», бесполезная для воспроизведения истины новозаветной. Быть может, отказ от аллегорической иконографии со стороны «византийских греков» – свидетельство того, что истина могла показаться почти что доступной, но не в образах, а в Литургии, предполагающей реальное пространство. Функции иносказания, то есть повествования об ином, берет на себя храмовая архитектура, где, как известно, в саму структуру смысла вложен мистический опыт богооткровения «здесь и сейчас».
Итак, подведем итоги. Наиболее важный и полезный момент – различение нескольких периодов развития христианской образности, которые соответствуют определенным состояниям и христианской общины, и окружающего ее мира.
Самое существенное, как нам кажется, для понимания палеохристианской образности – это ее погребальный характер (в этом отношении крещальная тема – того же порядка). У погребального искусства вполне конкретная функциональность и направленность, предполагающие включение в поле действия этой образности всех зрителей-участников (кроме одного, самого умершего, хотя эти образы отчасти призваны и его «заинтересовать» происходящим). Можно сказать, что мы имеем здесь если не эстетику, даже не тематику, то весьма насыщенную по смыслу прагматику, что подразумевает присутствие и риторики, и психологии.
Именно прагматика дает открытый и производный, то есть вторичный, характер этой образности, что сочетается с нескрываемым и, можно сказать, сущностным утилитаризмом. Другими словами, это совсем не высокое искусство, тем более не поэзия. Это дает целый ряд интересных возможностей, в том числе и восприятие этой образности в качестве языка. И допустимость, и почти что необходимость перехода к анализу внешних факторов, среды, ментальности (установок, привычек, поведенческих схем) и самой религиозной активности. А это значит, что неизбежно и расширение зоны внимания: не только внутрихристианские контексты, но и чужеродное, враждебное окружение становится фактором появления, сложения и развития христианской образности. Поэтому можно сказать, что действительно новое, если мы его допускаем в раннехристианском искусстве, принадлежит только сфере тематической, пространству души. Сама изобразительность, сам язык не просто схож с язычеством – он просто тот же самый. Этим общим языком-койне пользовались разные носители, обладатели разных идей, и намерений, и традиций.
Но, быть может, следует допустить некоторые внутренние смысловые ресурсы этой образной деятельности? Вполне вероятно, что этими ресурсами были таинства, о которых Грабар говорит как об источниках доктринальной семантики, но которые отражают практику мистериальную, подразумевающую свою среду, пространство, наполнение. А значит, возможно говорить об архитектурной семантике, присутствующей пусть и латентно, но очень активно и, так сказать, инструментально. Это пространство осмысленное, осененное и наполненное смыслом, смыслосодержащее и смыслопорождающее. Можно даже сказать, смыслосберегающее, проявляющее в этой функции общее свойство погребальности, смертности и переходности смысла. Мы легко узнаем во всем этом трансформационную символику, использующую визуальные знакообразы как средство воздействия на души (на сознание, на чувства, на желания).
Иначе говоря, касаясь проблемы происхождения раннехристианской образности, нельзя ограничиваться традиционными понятиями и представлениями о задачах проповеди Евангелия, об угрозах со стороны язычества, о соперничестве родственных или просто похожих религий и т. д. Ведь пользователями, адресатами этой образности были сами ранние христиане, которых не надо было столь просто знакомить с доктринами и выстраивать против них наглядную контраргументацию. Поэтому возможно предположить и внутренние факторы, которые требовали именно визуальности и уже потом – неизбежного разговора на одном, общем и друг с другом, и с язычниками, языке.
В любом случае христианскую образность нельзя рассматривать как уступку идолопоклонничеству, так как этот тип изображения обладал другой функцией, которую следует назвать прямо и открыто, чтобы стало возможным его понимание: убранство, оформление, артикуляция внутреннего, и при этом погребального, пространства.
Архитектурная неполнота и иконографическое дополнение
Вся проблема и специфика заключены в том, что катакомбы (равно как и баптистерий) – это тип неполной сакральной архитектуры, и визуально-изобразительные добавки представляют собой не что иное, как дополняющую, но не дополнительную коммуникацию-компенсацию. Это еще одна сторона погребальной функциональности, семантики: образы обеспечивают момент общения, коммуникации, они необходимы как форма поддержания связи с умершим. Это способ заполнения образовавшейся пустоты и средство обеспечения, поддержки перехода. Вот это и есть чисто языковая функция: средство озвучивания пространства, речь, обращенная к умершему и к Богу через собравшихся.
Помимо этого наличие изобразительности как таковой – это и путь обретения внешней среды, признак пространства, мира за пределами стен катакомб, притом, что эти изображения принадлежат пусть и неполной, но архитектуре, что снимает проблему идололатрии.
Такая семантика возвращает нас к теме Крещения – Литургии – Погребения. И все снова венчается умиранием, понятым, конечно же, мартирологически: свидетельство о бессмертии перед лицом внешнего мира, явленного отчасти на стенах в виде образов как таковых. Отсюда и разговор на одном языке.
Но это язык в непрямом использовании, в качестве технического средства, находящего себе применение в ситуации коммуникативного акта, восполняющего молчание и адресата (умершего), и архитектуры, их и бездушность (умершее тело), и бестелесность (архитектура без внешней среды). Можно даже сказать, что как раз безмолвность материала на разных уровнях пробуждает желание искать языковые ассоциации.
Но можно предложить и такой ход мыслей, тоже объясняющий специфику раннехристианской образности: на самом деле возможно просто цитирование готовых формул. Это подразумевает несколько моментов. С одной стороны, это означает, что и античный или языческий художественный язык тоже имеет иконографическое измерение, и как всякая система правил, языческая иконография вполне была отделена от конкретной тематики, существовала помимо и прежде нее. Это воспринималось и было на самом деле именно визуально-изобразительным синтаксисом. Поэтому – это второй немаловажный момент – нетрудно представить деятельность художников-христиан просто как осознанное или не совсем сознательное истолковывание обиходных, имеющих хождение в художественной среде формул и просто форм. Следует отметить, что последовательное обезличивание раннехристианского искусства служит не совсем добрую службу, потому что упраздняет вместе с художником-творцом и художника в иной ипостаси: художника-исполнителя, носителя набора технических навыков и художественных умений. Отсутствие творчества еще не отменяет мастерство, чисто художественную традицию, которая не была языческой и не стала христианской ни по своему внутреннему строю, ни по своим задачам, главная из которых – обеспечить техническими средствами и наглядной фиксацией, то есть визуальной экспрессией, те или иные смысловые интенции – как индивидуальные, так и коллективные, как религиозные, так и мифологические, как психологические, так и социальные, как богословские, так и литературные.
Другими словами, если начать именно с формы (даже оставаясь в границах языковой перспективы), то станет непонятной сама проблема, сама идея технического языка. Художественный язык, или, правильнее говоря, образная система, представляет собой достаточно независимую инстанцию, и все различения касаются области тематики, а если быть совсем точным, то все дело в том или ином принципе использования, применения этого языка, в способе обращения с образами, в форме общения с ними. Только здесь, в области прагматики, проявляются религиозные и прочие различия. Форма, формулы, устойчивые образные схемы, композиционные структуры не способны ни воспринять, ни различить принадлежность к тому же язычеству. Поэтому если говорить о сугубо христианской семантике, то в первую очередь – именно об отношении к изобразительной форме, к образам вообще. Но это только один смысловой уровень, а чтобы выстроить все остальные уровни, следует быть оснащенным совсем иными, чем у Грабара, теоретическими установками, необходимо видеть границы иконографии и перспективы герменевтического порядка, хотя бы той же иконологии.
То есть за образами, попавшими в область изобразительной активности, скрывается рефлексия по поводу образов, которая подразумевает и осмысленное отношение к художественным средствам. И эта рефлексия может быть обнаружена хотя и внутри изображения, но между образами, из которых оно составлено (вернее сказать, из отношений между ними).
Но тем самым мы описываем, на самом-то деле, своеобразный изобразительный метаязык, для которого и собственно художественный язык (форма), и его содержание (тема) – только материал. Но, между прочим, если пользоваться весьма удобной парой форма/материя (материал), то при условии устойчивости, постоянства и единства для рассматриваемого периода изобразительной формы (общий язык-койне), материей одновременно будут и христианская тематика, и ее языческие эквиваленты.
Но что тогда будет этой метаязыковой формой? Можно предположить, что такой формой будет пока еще не востребованный тип образности – архитектурная среда в ее довольно узком изводе внутреннего пространства, способного вмещать в себя и прошлое (язычество), и настоящее (христианство), и будущее, которое заключает в себе и пока еще (в катакомбах) не реализованные пространственно-средовые возможности, связанные, в том числе, и с выходом на поверхность, с обретением внешнего окружения.
Тогда темой (фактически идеологией) этого метаязыка будут следующие отношения: прошлое/настоящее, предвосхищение/реализация, языческое/христианское, Таинство/община. И все это окрашивается, повторяем, таким обстоятельством, как пока еще не реализованные архитектурные горизонты. Напомним, мы говорим о III-IV веках, об искусстве палеохристианском, в котором основное межвидовое отношение, а именно регулирующее действие архитектуры, пребывает в свернутом виде. Это, между прочим, еще одна причина говорить о том, что с точки зрения именно художественной традиции раннехристианская образность полностью принадлежит прежнему искусству, ибо только в нем есть полноценная архитектура.
Можно возразить, что вся эта проблематика не есть область иконографии, но в том-то и дело, что сама традиционная иконография здесь испытывает трудности, пытаясь говорить на сверх-языке, на знако-языке, пользуясь аллегоризмом из области лингвистики. Это еще раз говорит о том, что иконография – дисциплина описательная, классификационная, способ приведения в порядок уже сложившегося, сформировавшегося материала, за спиной которого стоит столь устойчивая, постоянная форма, синтаксис, грамматика, лексика и т. д., что можно говорить о тематике, об изобразительных мотивах как о чем-то отдельном и самостоятельном. Раннехристианское искусство, изобразительная деятельность не подходят под эти требования по ряду причин, главная из которых вовсе не новизна христианства, не малый срок развития этого искусства, а именно смысловой потенциал раннехристианских установок, их нацеленность на тотальное истолкование. Христианство – это новый взгляд на мир, на вещи, в том числе и на изобразительность, желание преобразить их, но, чтобы это свершилось, необходимо иметь на то права, то есть сделать предмет истолкования своим и актуальным, впустить его в себя, чтобы можно было с ним что-то делать по праву.
Самое же общее наблюдение, ради которого мы предприняли столь обширный экскурс в область «настоящей» иконографии, состоит в следующем: процесс усвоения чужой или просто внешней (не обязательно чуждой) образности представляет собой, по всей видимости, не просто пересказ своими словами увиденного, а именно перевод. И этот перевод начинается с восприятия того, что предстоит перенять, позаимствовать, транскрибировать и т. д. Но восприятие-усвоение предполагает в качестве своего условия – узнавание-понимание, которому предшествует вычленение из потока речи отдельных фраз и слов, то есть восприятие структуры речи. Для изобразительного искусства этим речевым потоком будут именно визуальные впечатления, в которых важно выделить отдельные значимые элементы и не менее значимые отношения между ними. Эта значимость определяется предварительным знанием. Это обязательно узнавание, и в таком случае мы не можем говорить, что, например, раннехристианский «создатель образов» говорит не на том же самом языческом языке, что это не его язык. Можно сказать, что это не его родной язык, но тогда каков его собственный «диалект»? Скорее всего, проблема заключается именно в том, что мы имеем дело не с техническими языками, не с профессиональной лексикой и тем более не с жаргоном, а именно с диалектами, отдельными говорами, отдельными наречиями единого литературного языка, существование которого – отдельная проблема.
Другими словами, проблема иконографических заимствований – это проблема парадигматического измерения языка, это вопрос словаря, грамматики и синтаксиса. Заимствования происходят на этом уровне, чтобы потом выразиться в конкретном случае употребления, пользования. И историк-иконограф должен производить обратную процедуру, восстанавливать ту схему, которая была в поле зрения изготовителей того или иного образа, отдавая себе отчет в том, что трансформация схемы могла осуществляться по самым разным направлениям, в зависимости от намерений (интенций) «говорящего»: от простого акта коммуникации до сложноустроенного поэтического текста с принципиально многослойными смысловыми структурами.
Совершенно специальным образом эта проблема касается иконографии архитектуры, где сама суть архитектурного языка и архитектурного творчества – создание, изготовление схем, причем именно двухмерных, проективных, из которых потом, в порядке реализации проекта, создания-возведения сооружения, рождается конкретная пространственно-объемная «фраза», собственно архитектурный дискурс, способный быть заново прочитанным. Поэтому нет ничего удивительного, что копирование архитектурных образцов – это копирование именно образцов, но образцов не проектных (трансферных), а сенсорно-когнитивных, двухмерных и, фактически, ментальных, степень развертки которых во вновь выстроенном сооружении-копии – вопрос чисто герменевтический. И он выдает уже смысл самой копийной деятельности и тех сфер реальности, которые за ней стоят, образуя свои собственные сложные системы отношений (самая простая схема – включение одной реальности в другую).
При этом мы должны помнить, что чистая и простая (в смысле прямая) визуальность восприятия даже самых сложных изобразительных построений остается неизбывным и неудалимым фоном или основанием любой художественной деятельности. И именно к этому фундаментальному схематизму зачастую сводятся все иконографические формулы и мотивы, будучи, по сути, постоянным фоном, декорирующим механизмом, функции которого разнообразны и многочисленны. Архитектура, будучи сама предельно фундаментальной структурой всякой изобразительности, структурообразующим паттерном, внутри себя, в свою очередь, содержит еще более фундаментальные «узоры», сплетенные из схем восприятия и сенсомоторики, визуальности и телесности, оптики и тектоники. И все это – лишь фон, длящаяся визуальная мелодия, заполнение той пустоты, которая предваряет всякое наличное существование[471].
Поэтому не случайно у Грабара мы встречаем применительно к иконографии метафору языка: искусство как таковое, творческая, созидающая деятельность складывается на фоне подобного невнятного «бормотания» привычных образов, способных лишь при некоторых обстоятельствах превращаться в изображение, которое, в свою очередь, только если очень постарается, имеет шанс стать собственно изобразительным искусством[472].
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СИМВОЛИЗМ АРХИТЕКТУРНОЙ ПРЕДМЕТНОСТИ
Обращаясь к истоку христианского зодчества, необходимо различать появление христианского культового здания вообще <…> и начало христианского культового сооружения как монументальной, художественно оформленной сакральной архитектуры.
Фридрих Вильгельм ДайхманнХристианская археология и материальная история Церкви
Парадокс церковной истории вообще и церковной археологии в частности заключается в том, что предмет данного типа исторического знания – вне времени, и историк Церкви вынужден (просто обязан) обнаруживать в историческом временном бытии нечто постоянное, неизменное, сквозное для истории. И следование за традицией в глубь истории заставляет данную разновидность исторического знания тоже отличаться известной традиционностью, неизменностью, даже повторяемостью… Годится ли такой консерватизм для исторической методологии?
Обращаясь к достаточно свежим текстам немецкого церковного археолога Фридриха Вильгельма Дайхманна (1909–1993)[473], можно реально испытать чувство остановленного времени, прекратившего свое движение в эпоху того же Зауэра, о книге которого, написанной в 1902 г од у, Дайхманн в 1987 отзывался как о все еще лучшем исследовании по символике христианского храмового сооружения.
Тем не менее попробуем разобраться, как, – быть может, вопреки воле автора «Введения в христианскую археологию»[474] – меняется эта почтенная дисциплина к концу XX века и что привносится нового в интересующую нас тему архитектурной сакральной семантики. Тем более что посвященная этой проблеме глава «Введения…» называется весьма знаково: «Архитектура как носитель значения». Это явная отсылка к книге Гюнтера Бандманна – автора, который только ждет нашего внимания, пропуская вперед представителей иконографически-археологического метода по той причине, что сам он принадлежит логически следующей традиции – иконологии. Но скажем сразу, что у Дайхманна это единственная точка пересечения с чем-то, отличающимся от археологического знаточества XIX века.
Собственно говоря, обозначенный Зауэром в конце его книги скепсис по отношению к реальным возможностям искусства быть чем-то большим, чем просто материальным документом, свидетельством, источником церковной жизни прошлого, у Дайхманна превращается в специфический концептуальный минимализм, в методологическую сдержанность, в недоверие ко всем теоретическим новшествам, в том числе и касающимся собственно христианской археологии. Ценность книги Дайхманна в том-то и состоит, что критичность его не избирательна и крайне благоразумна и потому касается и собственной дисциплины.
Попробуем, по нашему обыкновению, проследить основные концептуальные сюжеты книги Дайхманна, имея в виду в качестве предмета особого внимания уже упоминавшуюся главу, посвященную архитектуре.
Уже во Введении мы находим, что называется, на первой странице важнейшее положение, касающееся самого ядра теоретического подхода. Указывая на существование нескольких точек зрения на то, что такое христианская археология (или «зеркало церковной жизни», или история памятников), Дайхманн замечает, что иногда дискуссии имеют беспредметный характер по той простой причине, что не существует правильной концепции образа и изображения. Образ и изображение представляют собой по сути многослойное явление, причем «специфическое значение» не принадлежит к первичным компонентам, но привнесено извне. Мы с удивлением и не без уважения обнаруживаем, что для Дайхманна «проблема образа» просто не стоит. Это буквально собирательное понятие, вбирающее в себя, концентрирующее в себе все то, что в него вносят извне. Такое представление об образе на самом деле очень удобно, если не вдаваться в подробности визуальной семантики как таковой. А Дайхманн этого не делает совершенно сознательно, уклоняясь от всякого рода языковых аналогий и беспощадно критикуя соответствующие тенденции современной теории архитектуры (нельзя использовать само понятие «художественный язык», бессмысленно употреблять термин «вокабулярий», и уже совсем дико, с его точки зрения, выражение «читать архитектуру» и т. д.). Все эти выпады имеют в виду одну-единственную жертву – Рихарда Краутхаймера, у которого все подобные лингвистические аналогии, как мы видели, казались довольно уместными. Чем они не устраивают Дайхманна?
На самом деле исключительно опасностью утратить даже не столько собственное методологическое лицо, сколько собственный предмет исследования, который, конечно же, если воспринимать языковедческие метафоры буквально, совсем не похож на язык. Другими словами, чтобы понять Дайхманна, важно представлять себе, что он подразумевает под «христианской археологией». Именно этой проблеме посвящена вторая глава книги, и в начале ее мы видим существенный момент: дефиниция христианской археологии связана с определением материала, которым она занимается (а уже потом выявляются отношения с родственными дисциплинами). Этим материалом являются «всякая христианская старина, древности первоначальной, Ранней и Древней Церкви <…> и все, что называется материальной культурой и <…> художественными явлениями раннего христианства…»[475]. Иными словами, речь идет исключительно о предметном составе «жизни и смерти» ранних христиан, о вещественной составляющей их существования во всех аспектах (от погребальных обрядов и верований до догматического вероучения Церкви, от повседневных обычаев до культа со всем, что его сопровождает, что «находит себе выражение в предметах»). Это может быть даже и искусство, но важно, что единственный критерий – предметность. Последнее уточнение крайне существенно, оно представляет собой специфику подобного подхода, в котором нет места чему-то, так сказать, неосязаемому. Это вовсе не значит, что Дайхманн – материалист. Совсем наоборот. Он просто пребывает внутри церковной традиции, где есть место и идеальному, но это уже область Литургики, догматики, теологии и т. д. И внутри церковной истории выделяется «культурно-исторический взгляд», в пределах которого возможно заниматься и искусством как все той же материальной составляющей идеальных сущностей, обращая внимание на его «содержание, цели и культовые функции, уклоняясь от оценок формальных качеств, которые принципиальным образом отделяют искусство от прочих достояний культуры, указывая на ее совсем иное измерение»[476]. И, признавая искусство самостоятельной областью интересов христианской археологии, невозможно уклониться от вопроса о его автономности или, наоборот, зависимости от «более широких контекстов». Допуская последнее, мы вынуждены допустить и возможность соприкосновения христианской археологии с историей искусства как таковой, представляющей собой вполне независимую науку.
Итак, постулируя зависимость дисциплины от материала, приходится признавать и зависимость данной науки от всех связей и особенностей этого материала, и если материал достаточно богат содержательно, то столь же богатыми должны быть и отношения той же христианской археологии к родственным дисциплинам, в чем, впрочем, как раз и таится угроза растворения специфики данной дисциплины. Но коренная черта именно церковной археологии заключается в ее изначальной включенности в целокупность церковных дисциплин, взаимозависимость которых – прямое отражение единства самой Церкви и жизни в Ней.
Поэтому Дайхманн вынужден указывать на разнообразие форм христианской археологии: это и культурная история, и вспомогательная дисциплина в рамках церковной истории, и история памятников, в том числе касающихся и богословия, что, впрочем, не обязательно. Но обязательно одно: все объединяет один единый объект, точнее говоря, его понимание как «материального проявления» христианской жизни, которая – и это самое существенное – тоже имеет вполне объективный и объектный характер, обнаруживаемый в факте ее (этой жизни) организованностив общину. Вот в чем корень единства и условие нераспадения объекта исследования на отдельные частные формы. В этом случае все самые разнообразные по форме «материальные свидетельства» этой целокупной церковной жизни будут сходиться к единому центру, именуемому церковной организацией, церковной общинной жизнью. Поэтому христианская археология с точки зрения научной традиции может безболезненно соприкасаться с классической археологией, изучать материал нехристианский: языческий, иудейский и исламский.
И оставаться христианской эта наука может только с точки зрения своих интересов, которые, как вновь повторяет Дайхманн, имеют исключительно содержательный характер, из которого именно исключена вся формально-художественная традиция. Последняя же отличается, так сказать, внеконфессиональностью, так что христианское искусство в Персии с точки зрения формы будет сасанидским, в Эфиопии – древнеарабским, в Ирландии – вовсе доисторическим, оставаясь повсюду, тем не менее, христианским.
Решение простое и убедительное, во всяком случае, на первый взгляд, так что Дайхманн особенно на нем не останавливается. Но мы вынуждены это сделать – по той причине, что при некоторых обстоятельствах терять специфику может не только наука, но и сам предмет исследования, если не принимаются в расчет его сущностные характеристики. С позиции Дайхманна, искусство с точки зрения содержания – это «знаки и символы, а также, быть может, иконография…». В той же архитектуре – это «строительная программа», выражающая себя в «череде пространств», но никак не в «пространственных и пластических формах». Несомненно, при таком подходе понимание искусства оказывается бесконечно суженным, оно есть всего лишь знак, символ, отсылающий к церковной жизни как таковой. Именно такой ценой достигается единство материала и самой науки: за счет элиминации художественного… На уровне общих дефиниций это все выглядит довольно убедительно и благопристойно, но, приближаясь к тому же архитектурному материалу на менее безопасное для подобной методологии расстояние, легко убедиться, что его специфика заключается как раз в художественности, в сделанности, в оформленности, которая вовсе не обязательна ни с точки зрения культа, ни тем более с точки зрения богословия. Если же принимать в расчет не просто христианскую жизнь, а жизненную ситуацию христианина, то она-то сама напрямую зависит от условий, в том числе материальных, которые обеспечиваются именно архитектурой. И если предметы прочих искусств можно при желании рассматривать как атрибутику религиозной жизни, ее «материальное проявление», то с архитектурой такие вещи не проходят: она была и остается условием существования – и не только материального.
И как замечательно, что и на метафизическим уровне сохраняется в силе архитектурная образность: само зодчество является тем самым камнем, которым порой пренебрегают самые искусные и вполне церковные зиждущии, если не учитывают момент художественности, то есть сделанности, момент личностный, человеческий и – богочеловеческий, если иметь в виду подлинное творчество, в котором материальное пронизывается идеальным…
Но вернемся к Дайхманну, чтобы напомнить себе, что речь идет все-таки об археологии и наша задача состоит в том, чтобы уяснить для себя когнитологический, эвристический потенциал даже такой, казалось бы, предельно урезанной эпистемологии.
На самом деле не такая уж она и урезанная, скорее суженная[477]. Попробуем поэтому пройти этим узким путем «материальных свидетельств», обнаруживая по ходу и свидетельства идеальные, касающиеся вещей невидимых, но от того не менее реальных. И главный вопрос, на который нам придется ответить раньше всего: в какой мере археологическая предметность данного подхода может считаться исходным, первичным способом рассмотрения? И если очевиден переход от археологии материальной к археологии текстуальной, то возможно ли следующее движение – к археологии визуальной? Во всем этом движении сохраняется общее качество древности, отделенности от современности, и одновременно налицо, по крайне мере, три формы усвоения этой древности: признание ее существования (ее наличной предметности), признание ее содержательности и возможности ее прочтения (как бы тому теоретически не противился Дайхманн) и, наконец, признание ее актуальности и возможности ее созерцания, то есть переживания, в том числе и эстетического. Интересно, что и сам Дайхманн признает этот переход, указывая на неразрывную связь христианской древности с христианской медиевистикой хотя бы по линии иконографии[478], когда древность была источником образцов и, значит, предметом рассматривания, наблюдения и воспроизведения.
Позволим себе предположить, что механизмы этих переходов заключены в самом материале христианского изобразительного искусства, сакральной образности вообще, где историческое и сверхисторическое встречаются под взглядом зрителя, но в его сознании.
Христианская археология и история искусства
И подобным зрителем может быть и ученый историк, способный обнаружить в искусстве источник знаний о предмете, который и есть непосредственный предмет его интересов. В этом случае изобразительное искусство, действительно, будет интересно с точки зрения того, что изображено, оно будет пониматься как воспроизведение, репрезентация некоего предмета, темы и т.п. Так и развивается церковная археология, с момента открытия катакомб в XVI веке[479] и до конца XIX века, времени радикальной смены методологических установок почти что всех гуманитарных дисциплин. Особая, апологетическая задача, стоявшая перед церковной археологией с самого начала ее существования и питавшая ее несколько веков, – это потребность защищать доктрину, и в этом случае факт изображения будет и свидетельством существования того или иного факта, обычая, установления (например, почитания мучеников или Св. Девы). Сразу обращаем внимание на преимущественный интерес к содержательной стороне материала. Более того, это содержание воспринималось актуальным, исторический памятник сразу оказывался современным документом, свидетельством в пользу определенной доктрины.
Только в конце XIX века, повторяет Дайхманн, церковная археология выходит из конфессиональной изоляции, и не без помощи знаменитого протестантского богослова Фердинанда Пипера, автора «Монументальной теологии», в которой кроме всего прочего утверждалась связь раннехристианского искусства с тогдашним языческим – идея, казавшаяся многим, не только католикам, но протестантам, просто невыносимой. И тем не менее, подлинной наукой церковная археология стала благодаря Джованни Баттисто де Росси, П.Р. Каруччи, а также французу Э. Леблану.
Новые трудности возникли в связи со значительным расширением материала – как количественным, так и качественным. Дело уже не могло ограничиваться материалом Рима и историей римской общины. Раннехристианский материал не только включался в контекст Поздней Античности и географии всей тогдашней ойкумены. Произошло и качественное изменение: становилось очевидным, что это не просто археологические и церковно-исторические памятники, но произведения искусства, требовавшие к себе особого отношения, тем более что к этому моменту уже существовала дисциплина, готовая соответствовать своими методами специфике именно художественного материала. Это была история искусства, в том числе в своей по тем временам выдающейся форме – в лице венского искусствознания, между прочим, имевшего традиционные связи с христианской археологией.
В этой связи крайне интересно посмотреть, как Дайхманн, будучи все-таки церковным археологом, трактует подобные контакты его родной дисциплины с конкурирующим подходом в лице Франца Викгофа и Алоиза Ригля. Для Дайхманна в этих контактах – несомненно неизбежных – заключалась проблема, так как для историков искусства предмет интереса состоял не в «изображаемом и его значении, не в темах», а в «способе изображения, которому они посвящали все свое внимание, то есть линии, плоскости, тела, свет, тени, цвета, композиция целого и частей, короче говоря, мир форм»[480]. Характерно само перечисление формально-стилистических параметров искусства.
Археолог делает это без всякого порядка и совершенно не касаясь специфики венской методологии. Одновременно мы можем понять всю отчужденность от художественной проблематики самой археологии, которая может позволить себе в изобразительном искусстве заниматься чем-то помимо цвета и композиции. Что тогда от искусства остается? А от него остается, по мнению Дайхманна, самое главное: содержание, идейная сторона, которая обнаруживает себя, помимо прочего, в таком вопросе, как последствия переноса на раннехристианский материал формального метода. В этом случае исчезает всякое различие между христианским и языческим искусством: с точки зрения художественной формы это одно единое позднеантичное, позднеримское искусство, различаемое исключительно по содержанию, которое, получается, мало интересует историю искусства в ее формально-стилистическом изводе. Поэтому оказывается возможным за протестантским богословом Людвигом фон Зибелем говорить о «христианской античности», стирая границы между языческим и христианским.
Более того, формальный подход менял и всю традиционную проблематику происхождения христианского искусства, ставя, в частности, под сомнение его чисто римские корни. Впервые вопрос о восточных истоках христианского искусства был поставлен Шарлем Байе (1879), но в полный рост проблема была утверждена все теми же венскими историками искусства, развернувшими знаменитую дискуссию под слоганом «Orient oder Rom». Ее участники – уже известные нам Викгоф и Ригль с одной стороны и совершенно особый персонаж, Йозеф Стжиговский – с другой. Показательно, что Дайхманн довольно подробно останавливается на этой полемике, ибо она явно выводила уже саму историю искусства, недавно обретшую автономность благодаря формальному методу, как раз за пределы чисто формальных проблем – уже в область скорее культурно-исторического подхода, где и церковная археология могла чувствовать себя не чужой. Тем более что за сторонников римской ориентации (правильнее сказать, конечно же, окцидентации) выступал и собственно церковный археолог – тоже Йозеф, но уже Вильперт.
Проблема Стжиговского заключалась даже не в том, что он смещал интерес с Рима на Византию[481], а в том, что он не удовлетворялся лишь христианским Востоком. Для него эллинизм был тоже своего рода злом, скрывавшим подлинные качества Востока за греческой формой. И даже если признать, что увлеченность Стжиговского крайними формами восточной культуры – это тоже крайняя форма истории искусства (как известно, в поисках восточной самобытности он прошел – чисто теоретически, не покидая собственного кабинета, – путь от Армении через Иран к кочевникам Великой Степи), то все же остается несомненной его заслуга в деле расширения концептуального горизонта науки[482].
Чем же отвечала на подобный вызов традиционная церковная археология? Вильперт был не только выдающийся ученый. Прежде всего, он считал себя верным сыном Церкви, и потому защита Ее интересов, римского первенства, в том числе в области церковных древностей, рассматривалась им как возложенная непосредственно на него сугубо духовная миссия, превосходящая границы чисто научных проблем. И надо сказать, что союзником Вильперта, полностью отдавшего себя изучению римских памятников, был как раз сам материал, со всей очевидностью свидетельствовавший, что Рим вполне подходил на роль творческой столицы, а не просто импортера художественных достижений римских и околоримских регионов. Другое дело, что Рим – понятие переменчивое, и на роль Рима можно выбрать тот же Константинополь, что не раз делалась даже в рамках христианской археологии[483].
Хотя именно там – на далеких окраинах Римской державы – между двумя войнами были начаты раскопки, заставившие изменить многие традиционные – и римские, и антиримские – представления о развитии раннехристианского искусства. Речь идет, конечно же, о раскопках в Дура Европос. Раннехристианские постройки в этом далеком римском поселении на границе с Парфией соседствовали как с языческими, так и с иудейскими сакральными сооружениями, так что возникала возможность сравнения их друг с другом ради выявления как различий, так и – что еще более существенно – сходства. И вот в этой ситуации традиционные, чисто идейно-исторические методы церковной археологии оказывались малодейственными. Единственное основание для сравнения – это стилистика, то есть формальные качества памятников. И подобный метод позволял выявлять достаточное количество общих свойств, свидетельствующих о едином именно формально-выразительном основании всех этих религиозно различных, но художественно идентичных явлений. Этот метод действовал повсюду в раннехристианском художественном мире: и в катакомбах, и в убранстве саркофагов. Везде обнаруживались аналогии с до– и внехристианским окружением и прошлым. Причем не только на формальном, но и – как следствие – смысловом уровне, когда открывались связи, например, с атрибутикой римских имперских церемониалов (еще довоенные исследования А. Альфельди и особенно А. Грабара).
Послевоенные раскопки в самом Риме (например, остатков старой базилики св. Петра и иных римских базилик IV в.) заставили отказаться от традиционного тезиса об изначальной связи Евхаристии и погребений мучеников (Престол и погребения располагались в разных местах).
И, описывая подобные трансформации христианской археологии, Дайхманн очень определенно отличает от такого рода, как он выражается, «открытий», то есть фактов расширения знания, то, что он именует «качественной и эстетической оценкой», то есть факт понимания, отделяя от всего этого нечто такое, что он всячески осуждает, а именно – «спекуляции», подразумевая под ними, тем не менее, примерно то же самое. Речь идет об интерпретации, смысловом истолковании. Каков же критерий допустимой интерпретационной меры? Этому будут посвящены все последующие наши рассуждения и наблюдения над методом церковной археологии, так как здесь прослеживаются очень определенные предпочтения, о которых говорит хотя бы тот факт, что, касаясь вышеупомянутой оценки произведений раннехристианского искусства, Дайхманн ссылается на того же Ригля. Раннехристианское искусство не есть упадок античности, а попытка, опираясь на классическую художественную почву, достичь дематериализации и спиритуализации искусства и обрести ту духовность, что устремлена была в мир иной[484].
Итак, материальное и идеальное при данном подходе строго разводятся по разным углам, дабы соединиться исключительно по ходу сравнительных процедур, выявляющих единую и общую картину происходящего и позволяющих обрести «глобальное знание о мире, принадлежащем единому историческому периоду»[485]. Складывается ощущение, что формально-стилистический метод удобен для нашего автора по той причине, что позволяет, так сказать, сдерживать сугубо художественную проблематику, которая включает в себя на самом деле моменты не только формальной экспрессии, но и собственно изобразительности, механизмы складывания образной системы, когда оказывается недостаточным исследовать сами предметы искусства и приходится обращаться к порядку их создания, то есть к творчеству.
Для христианской археологии этот путь представляется, так сказать, неизбежным хотя бы по той причине, что она по своей специфике занимается остатками, следами и фрагментами процессов и явлений, и восстановление их, реконструкция первоначального состояния, единого целого сродни творчеству, направленному, правда, в обратную сторону. Как правило, до нас доходит в относительной сохранности первичное, исходное, например, основание, фундамент постройки, которую следует возвести – мысленно – заново. И подобные чисто материальные раскопки неизбежно сопровождаются и раскопками, реконструкциями идейного, смыслового порядка, так как необходимо выявлять все факторы, связанные с человеческой активностью вообще, плоды которой – те или иные памятники.
Христианская археология и история погребений
Иными словами, погребенными оказываются не только материальное тело памятника, но и его, так сказать, душа, то есть все смысловые связи, поэтому чисто археологическая, казалось бы, парадигма оказывается весьма емкой и довольно универсальной, и потому, например, знание о порядке погребения, погребальных обрядах, культах усопших представляет собой ключ, отмыкающий все последующие культурно-символические уровни, относящиеся уже к миру живых. Во всяком случае, никакой, даже самый строгий концептуальный пуризм, которого придерживается, как мы уже убедились, Дайхманн не может уклониться от обсуждения проблем достаточно трансцендентных, буквально потусторонних, ибо погребение – вот главный источник археологического знания. И когда мы обращаемся к главе, озаглавленной «Исследование захоронений», это значит, что мы приближаемся к самой сущности исследуемого нами подхода. Несомненно, того же мнения придерживается и Дайхманн, предлагая совершенно фундаментальное объяснение смысла и значения погребений, особенно для христиан. Ведь в основании самого христианства лежит идея Воскресения из мертвых, именно телесного восстановления, что требовало совершенно особого отношения к плоти, почему и захоронение было именно сохранением тела, его сбережения, что предполагало наличие постоянного места погребения.
По форме же большинство погребений христиан, христианские некрополи мало чем отличались от языческих. Но именно христиане создали и совершенно новый тип некрополей, а именно подземные захоронения, кладбища в толще земли, традиционно именуемые катакомбами. Это не значит, как подчеркивает Дайхманн, что античный, языческий, дохристианский мир не знал подземных захоронений. Достаточно вспомнить культ мертвых древних египтян и их погребения. Христианские катакомбы отличаются от них лишь одним, но существенным признаком: это подземелье, которое является именно кладбищем, то есть местом, заранее приготовленным для будущих захоронений. Иными словами, мы здесь имеем новое отношение к земле, ожидающей возвращения к себе плоти. И следует сказать, что это ожидание, эта готовность земли принять свое имеет благой характер и вполне вписывается в эсхатологичесие параметры евангельской веры.
Но главная специфика катакомб состоит в том, что это архитектонически оформленное место погребений: это земля, которая, прежде чем принять телесные останки умерших, приняла пространство, стала емкостью, не просто местом, а вместилищем, идеальным, чистым образом архитектуры как оформленного пространства. В случае с катакомбами мы имеем дело с пространством, так сказать, абсолютным, не зависимым, не производным от пластических объемов, которых здесь нет, ибо они – сама толща земли (в случае с римскими катакомбами – толща травертина). Пространства катакомб – галереи, ниши, аркасолии, погребальные камеры – созданы принципиально иным способом: посредством изъятия материала, материи, вещества; это буквальная дематериализация пространства, обнаружение трансцендентного в непосредственно имманентном. Такого рода пространственная феноменология существенна и для понимания внутреннего убранства катакомб, их декорировки и росписей.
Можно сказать, погребальная архитектура ранних христиан разделяет участь тех, кто вселялся в катакомбы: это искусство не только погребальное, но и погребенное, и его стилистика не подразумевала сугубо эстетических параметров. Из этого обстоятельства происходят и символизм, и минимализм, и общий, так сказать, внеэстетизм раннехристианского искусства, о чем мы пытались говорить в главе о Грабаре. Это слова-иконограммы изобразительно-художественного языка, звучавшие в безмолвии, точнее говоря, в пространстве, наполненном той семантикой, что сопровождает Евхаристию, которую можно было совершать на гробах мучеников в дни их памяти.
Другими словами, образовавшаяся после изъятия материи пустота заполняется литургическими действиями, молитвами – и телами. И это будет чистым архитектурным содержанием, непосредственно вмещенным в эту пространственную емкость, где нет никаких значений, которые можно было закрепить за пластическими мотивами. И стены этих интерьеров суть внутренние поверхности, плоскости, которые представляют собой опять же чистые преграды, пределы, осязаемое завершение внутреннего пространства, его производную. И то же самое, соответственно, можно сказать и о декорациях: они все продолжение и завершение того, что внутри – совершается или покоится[486].
Христианская археология и культ мучеников
Итак, смерть не есть еще пустота, опустошение, в ней заключен смысл, это состояние содержательно и способно иметь форму. И сама смерть – только форма, способ Богообщения, если она имеет смысл. В случае с христианством этот смысл заключен в ее (смерти) преодолении ради чего-то большего – жизни и ее источника, то есть Бога. Так возникает тема не только погребальная, но и мартирологическая, включающая в себя и тему эсхатологическую, и литургическую, так как почитание свидетелей веры – сама суть раннехристианского благочестия.
Дайхманн со всей определенностью указывает, что почитание мучеников в раннем христианстве – это нечто новое в истории почитания усопших, это нечто принципиально отличное от античных культов мертвых. Это, по его словам, «новое измерение» религиозного чувства[487]. А мы добавим: и новое измерение сакральной семантики, зафиксированной в сакральном пространстве.
Эсхатологическое измерение почитания мучеников заключается в представлении о том, что именно они – единственные из усопших, кто избежит Страшного Суда, и их души уже сейчас будут взяты в Небесное Царство. И, участвуя в Небесной Литургии, они имеют возможность непосредственно ходатайствовать пред Господом за живых. Иными словами, почитание мучеников – один из способов Богообщения, тем более что телами они оставались среди верующих, ибо их захоронения находились рядом с погребениями простых христиан. Так что получается, что телесная близость обеспечивала непосредственность и духовного контакта. Тем более что момент эсхатологический здесь действовал и на смысловом уровне: окончательность состояния, завершенность в соединении с прямой явленностью давали прямую доступность самых конечных, высших в буквальном смысле слова представлений, понятий, идей, образов. Они переставали быть только запредельными, трансцендентными и превращались в прямое, буквальное содержание тех священнодействий и, соответственно, тех форм и пространств, где все это совершалось и открывалось. Небесный Престол и саркофаг мученика являли собой единое целое, не отягощенное и не утаенное никакими иносказаниями – хотя бы на момент заупокойной службы.
Собственно говоря, отсутствовала надобность вообще в какой-либо дополнительной атрибутике, в том числе и архитектонической: недаром же ранние погребения мучеников никак не выделялись никакими специальными надгробиями и монументами (даже предположительно первоначальная могила апостола Петра на языческом кладбище у Цирка обозначалась исключительно нишей в стене как знаком особого почитания). Одна лишь Литургия указывала на святость места и на соответствующий ему смысл.
Но так было только до III века, когда все меняется. Характерный пример – появление особого места на Виа Аппиа, у городских стен, посвященного специально почитанию апостолов Петра и Павла (т.н. Триклия). Оформленное двумя портиками, это сооружение являло новое отношение к священному месту: теперь существенно было обозначить место не только теофании, но и участия в нем верующих (причем не в малом количестве). Более того, обращает на себя внимание то обстоятельство, что это сооружение на открытом воздухе: теперь уже не священнодействие на священном месте формирует архитектуру, а наоборот, архитектура непосредственно обозначает и ограничивает место теофании, становясь ее и атрибутом, и отчасти – инструментом. В любом случае отсутствует культовое здание – мученическое почитание не требовало особого здания (во всяком случае, до IV века)[488]. Первый случай появления тела мученика в специальным мавзолее – помещение тела мученика Анастасия (304 год) в семейной гробнице зажиточной дамы-христианки Асклепии (Салона). Но с точки зрения архитектуры ее мавзолей был вполне античным, ничего специфически христианского в нем не было. Это обстоятельство наводит на серьезные размышления относительно причин необязательности именно закрытого помещения, то есть культового здания. Достаточно радикальный ответ на этот вопрос сам Дайхманн дает в связи с происхождением раннехристианской архитектуры, но и здесь мы вполне можем объяснить это явление. Стоит обратить внимание на то, что здание отличается от тех же катакомб или мемориальных мест наличием искусственного перекрытия, то есть желания и потребности замкнуть пространство сверху.
Впрочем, существует и более непосредственное объяснение отсутствия до IV века особых, предназначенных для мучеников культовых сооружений: условия гонений не позволяли собираться большому количеству верующих вместе, и было бы просто провокацией, замечает Дайхманн[489], публичное отправление христианского культа, в том числе и почитание мучеников. Но как только христианство стало разрешенной религией после Миланского эдикта 313 года, тут же почитание мучеников приобрело вполне общественный, «всеобщий и официально-торжественный», почти что государственный характер. Празднование памяти тех или иных мучеников предписывалось в обязательном порядке специальным законом Константина Великого[490]. Более того, сам император вместе со своей благочестивой матерью Еленой возжелал быть погребенным в одном мавзолее с почитаемыми мучениками диаклетиановских гонений – Марцеллином и Петром (на Виа Лабикана), подобно, между прочим, многим безымянным христианам, чьи останки покоились рядом с мучениками во многочисленных катакомбах по всей Империи.
И практически все базилики в Риме IV века строились поблизости или на погребениях мучеников. Но при этом существовала одна принципиальная особенность: алтари и сами погребения пространственно не совпадали. Погребение не помещалось под Престол, и Престол, соответственно, не возводился над ним. Это касается даже базилики апостола Петра и многих базилик на Востоке, в первую очередь Церкви Двенадцати апостолов в Константинополе. Другими словами, существенно было почитание именно места мученического погребения, поэтому до V века не шла речь, например, о перенесении мощей в тот или иной храм. Только при Григории Великом погребение апостола Петра заключается в специальную крипту, над которой возводится алтарь, так что Первоверховный апостол почитался уже и литургически. Евхаристия становится одной из форм мученического культа, и, соответственно, развивается (уже с V века) тип специального церковного здания, предназначенного для мученического почитания. Естественно, что этот тип предполагал концентрацию внимания на самом погребении, и потому его центрическая форма, происходящая из античных римских мавзолеев, была неизбежной, хотя и не узко специализированной: та же форма закреплена была и за баптистериями. Впрочем, и базилики «нормального» типа с обычным культом (не включавшим в себя т.н. «мемории», отголосок погребально-мемориальных трапез прежних времен) в качестве мемориального сооружения тоже были не редкость.
Итак, именно сакральное и мистериальное наполнение Евхаристического пространства, происходящего из определенного мемориально-мартирологического места, локуса, топоса, – вот что составляет истинное содержание раннехристианского культового сооружения. Более того, это есть содержание всех тех процессов, что происходили с раннехристианской архитектурой, и в первую очередь процесса самого главного – именно происхождения, рождения, возникновения самого церковного здания как такового, его типологии и прочей архитектурной специфики.
Христианская археология и возникновение христианского культового здания
«Христианское культовое здание» – выражение самого Дайхманна, желающего тем самым подчеркнуть два принципиальных момента: христианская вера выражает себя или оформляет себя в виде культа, и для этого культа может требоваться специальное сооружение. А может и не требоваться. Обязательности и неизбежности, с точки зрения Дайхманна, не существует…
Как мы вскоре убедимся, наш автор исповедует специфическое архитектоническое иконоборчество, усложняющее задачу объяснения смысла церковного здания как такового. Проследим за аргументацией Дайхманна, чтобы выяснить, есть ли выход из этого парадокса? Можно ли оправдать факт существования христианского культового сооружения как такового? И нужно ли это делать?
Оказывается, нужно, причем даже не по идеологическим, а по чисто методологическим причинам. Важнейшим фактом существования самых первых христиан апостольского и послеапостольского времени является отсутствие потребности в материальном выражении своей веры, которая проявляла себя только в «духовном и религиозном»[491].
С точки зрения исторической этот момент может толковаться как, например, неразвитость, начальность процесса развития и т. д. Но не так с точки зрения археологической: первичное состояние – наиболее адекватное, ибо оно исходное, не искаженное, так сказать, последующими историческими напластованиями. И если уже здесь отсутствует материальность, то ее, в принципе, не должно быть и в дальнейшем. Но ситуация усугубляется и другим моментом: если нет материальных следов в первоначальном «слое», то, получается, нет оснований использовать здесь археологический подход. Археология подключается уже позднее, вынужденная заниматься тем, чего не должно быть. Можно выбраться из подобной двусмысленности двояким способом. Исторический метод предполагает допущение, что начальность христианской традиции – относительная; скорее всего, речь идет о контекстуальности процесса, явления и т. д. Так мы теряем специфику явления, но не лишаемся исторической однородности, гомогенности и континуальности. Другой путь – обнаружить именно специфику и уникальность и, соответственно, выделить и само явление из общего контекстуального исторического потока. И тогда вместо истории можно пользоваться уже иными подходами – богословием или лингвистикой (как мы это уже видели).
Нельзя только одно: именно археологию делать подобной метанаукой. Но именно так поступает Дайхманн, демонстрируя при этом максимум методологической виртуозности, являя нам образцы весьма интересных методологических мутаций наподобие археологического богословия. Но не будем забывать, что вся проблема возникла лишь потому, что ранние христиане не обозначили себя с самого начала материально…
Тем не менее остается фактом, что ранние христиане совершали Евхаристию в частных домах, используя вместо алтаря обычный обеденный стол, который мог применяться и для других, не сакраментальных целей. Дайхманн называет это обстоятельство «профанным характером раннехристианских богослужебных мест», что, между прочим, было соблазном для окружающего языческого мира, привыкшего к сакральным пространствам. Но нам важнее другое: чтобы нас (вместе с христианскими археологами) не вводила в соблазн мнимая профанность материальных атрибутов христианской веры.
На самом же деле перед нами прямо противоположный процесс – одухотворения культа и обычаев, начало которому – поздний иудаизм, с его примечательной идеей замены в конце времен земного Иерусалимского храма Новым Храмом, предсуществующим уже сейчас на Небе и грядущим на землю. В нем кровавые жертвы будут заменены жертвами фимиама. Конечно же, сразу возникает несколько преждевременный с исторической точки зрения вопрос: предсуществующему Храму есть ли земной образ?
Процессу спиритуализации способствовало и такое трагическое обстоятельство, как разрушение Иерусалимского храма в 70 году по Р.Х. Богослужение отныне не связано с Храмом, и Бог почитается не в Храме, а в «собрании верующих». Это положение справедливо и для ранних христиан, которые и собирались первоначально в синагогах. И только по ходу складывания специфического Евхаристического Богопочитания возникла потребность отделиться от иудейской общности, и так рождается (чисто институционально, добавим мы) христианская община, именуемая ecclesia. С точки зрения Дайхманна, в данной ситуации действует следующая логика: если христианская община – истинная, то и формы Богопочитания должны быть истинными, то есть чисто духовными, лишенными материальной подоплеки. Дайхманн ссылается на соответствующее место из Апокалипсиса (7, 44-50) о том, что истинное святилище не может быть создано руками человеческими. Поэтому, говорит Дайхманн, «святилище ранних христиан не могло принимать никакого земного обличья, никакой архитектонической формы в виде построенного святилища; храм, возведенный человеческими руками, был бы подобен идолу»[492]. Из этого следует, что ранние христиане использовали в культовых целях постройки и помещения чисто утилитарные. «Культ не освящал место культа», и потому у ранних христиан не было сакральной архитектуры, для которой постоянными признаками были святость и освящение (имеется в виду присутствующих).
И дальше мы имеем уже выход – правда, средствами археологии – в область чистой культурологии (и отчасти антропософии), так как Дайхманн замечает, что культ без сакрального пространства – высшая форма спиритуализации, которая может быть достигнута в рамках высокоразвитой цивилизации. Начало этого процесса – иудаизм, венец – раннее христианство. Сакральная постройка – это «духовная, земными средствами не реализуемая архитектура; Храм, святилище может быть зрим лишь как Откровение, как видение; он остается предметом эзотерического и поэтического созерцания»[493].
Поэтому, с точки зрения Дайхманна, не правы те, кто объясняет отсутствие у ранних христиан культовых зданий материальными обстоятельствами (бедностью раннехристианских общин, как, например, Краутхаймер). Подобная аргументация не учитывает «более глубокие духовные и религиозные предпосылки, которые даже при наличии средств исключали появление в это раннее время христианской сакральной архитектуры».
Дайхманн снова и снова повторяет, что для многих и многих поколений первых христиан «христианское культовое здание» было профанным, и в нем не было «настоящего алтаря», и для совершения Евхаристии «выставлялся временно стол, который мог служить и иным целям». Культовые места не могли оформляться художественно в качестве таковых (принадлежность к культу не выражалась художественно), ибо «дело человеческих рук не свято, и потому таковые не в состоянии прославлять Бога». Дайхманн ссылается на Строматы Климента Александрийского, который подвергает критике мнение, будто возможно освящение христианских зданий, предназначенных для культа и молитвы. Таковые, по мнению Климента, даже не могут именоваться ecclesia. Получается, что в его время уже все это было, и ученый экзегет вынужден был бороться с уже распространенной практикой? В этом случае и мнение Дайхманна – это скорее духовная археология, реконструкция того, что должно было существовать в идеальном, чисто спиритуальном измерении. Но тогда не следует переносить эти положения в область исторической фактологии, согласно которой, действительно, около 200 года по Р.Х. происходит перенос именования «церковь» уже и на здание. Дайхманн объясняет это обстоятельство влиянием язычества, мнением и обычаями «простых верующих». Переносилось не только название, но и свойства «живого храма», собственно общины, на материальную постройку, которая становилась собственно Храмом, то есть Домом Божиим, священным пространством, вместилищем Невместимого. К IV веку уже был завершен этот процесс, так сказать, материализации сакрального, результатом которого, как это ни покажется парадоксальным, была сакрализация культового здания: оно перестало быть профанным.
Как нетрудно заметить, подобные рассуждения покоятся на том допущении, что невозможно совместить духовное и материальное, то и другое обязано существовать раздельно: если культ духовен, то он не материален. Материальное должно быть только профанным. Несомненно, перед нами специфический архитектурный иконоклазм, не допускающий возможности образных отношений между священным невещественным и освященным вещественным. Для Дайхманна не существует самого понятия Таинства, имеющего как раз освящающий характер и потому выстраивающего отношения между небесным и земным на основании символизма и аналогий. Другими словами, не возникает даже мысли о сосуществовании Церкви Небесной и Церкви Земной, о возможности освящения того же литургического пространства молитвой, совершающейся в Евхаристическом собрании. Во всяком случае, это не относится Дайхманном к первоначальной истории христианской Церкви.
За этим стоит, несомненно, определенная идейная и опять же духовная позиция, но, как мы хотим показать, это и позиция чисто методологическая: археолог вынужден ополчаться на материальное, если такового просто не существует в его распоряжении по тем или иным причинам, в том числе и чисто историческим. Он вынужден обосновывать его отсутствие именно духовно, чтобы не остаться, так сказать, не у дел, чтобы не лишиться материала для своих изысканий.
Возвращаясь к тезису о переносе вместе с названием и сущностных свойств – священное, благодатное, спасенное, небесное и т. д. – на само сооружение, нетрудно заметить, что для Дайхманна этот перенос означает как бы опустошение сердцевины: сама община теперь лишена этих качеств, она – истинная церковь – как бы жертвует собой ради освящения, сакрализации культового пространства, материальной субстанции. Но каков механизм этого переноса? Важно обратить внимание на то, что в нем участвуют две принципиальные инстанции: языческий мир и «простые люди». Последние, выходцы из того же язычества и не отягощенные богословием, означают неоднородность общины, неравномерность, так сказать, заполнения культового пространства. Более того, это элемент внешний, наружный по отношению к внутреннему состоянию ecclesiae. Несомненно, в этом рассуждении узнаются принципиальные черты гностического и вообще эзотерического мировоззрения с его разделением верующих по классам и степеням приближенности, посвященности, избранности и спасенности.
Но для нас важно то, что этот тезис приоткрывает реальный механизм, действующий в церковном пространстве, которое само есть механизм, инструмент переноса, передачи освящающего знания, воздействия вообще, своего рода проповедь, так сказать, расточающая милость, но тут же восполняющая ее с преизбытком в возобновляющейся Евхаристии. Поэтому, не касаясь эзотерической идеологии, характерной для оценок Дайхманна, можно сказать, что проповедь, открытость в сторону язычества плюс народная вера – все это и есть предпосылки не просто сакрализации внешнего, материального, архитектонически-рукотворного, но и, так сказать, архитектонизации, материализации, воплощения, в конце концов, священного[494]. Напомним только, что, согласно самому Дайхманну, только материальное и может быть предметом археологического знания. Если же по идейно-религиозным соображениям (как это делает Дайхманн) придерживаться принципа сущностной не-сакральности христианского культового здания, то тогда предметом христианской археологии будет исключительно текст и сама она превратится в эпиграфику и текстологию, а подход Дайхманна мало чем будет отличаться от подхода столь нелюбезных ему Краутхаймера и Грабара (история ментальности и лингвистика). Так что мы должны признать, что материя способна воспринимать благодать и архитектура – спасение, хотя бы потому, что только так можно спасти весьма почтенную дисциплину – археологию[495].
Если же вернуться к историческим реалиям развития литургического (и в итоге – храмового) благочестия, то следует обратить внимание на перемены IV века, когда складывается ритуал освящения новосооруженного церковного здания, например, собора в Тире, освященного в 335 году по Р. Х. Об этом событии сохранилось подробное сообщение Евсевия Кесарийского. Согласно ему, освящение касалось и места, и сооруженного на нем храма. Кроме того, в торжественной проповеди на освящение Евсевий сравнил церковное здание с Небесным Иерусалимом, обозначив образные, то есть символико-репрезентативные, отношения между святилищем материальным и духовным. То и другое именуется Храмом, что свидетельствует об одном: о возобновлении иудейско-языческого понимания культового пространства и вообще богослужения.
Появляются многочисленные новые именования для культового пространства: прежде всего – ecclesias oikodome, дом Церкви, или просто церковь. Другие именования – naos, saedes sacra, templum. Главное же то, что земной храм представляет Храм Небесный, замещает его. Впервые появляется собственно Престол, предназначенный только для Евхаристии. Пространство церковного здания наполняется прочими священными сосудами, и сам храм тоже становится литургическим приспособлением, собственно, тем же Евхаристическим сосудом[496]. Восседающий на особом седалище в алтаре епископ – тоже образ, но уже самого Христа. Тем не менее церковное здание нельзя назвать Храмом в ветхозаветном смысле слова, так как не реализуется принцип уникальности, единичности места явления и пребывания Единого Бога, как это было в Ветхом Завете. Это – место общей церковной молитвы, поклонения и почитания Бога Вездесущего. И это – преодоление и поздневетхозаветного храмового благочестия, и церковно-литургического сознания ранних христиан. Дайхманн выражается достаточно торжественно, говоря, что церковное здание «открывает новую эпоху сакрального строительства». Оно «навсегда упраздняет в рамках монотеистической религии Откровения действительный Храм человеческой древности»[497].
И все это вместе – «внутренние предпосылки» для становления собственно христианского сакрального строительства, вообще христианского сакрального искусства. Но существовали и факторы внешние. И среди них решающим, несомненно, было государственное признание христианства Константином Великим. Смысл этого события – обретение Церковью общественного признания и сближение с Империей и императорской властью. Не только церковное строительство, но вся церковная жизнь развивалась отныне под знаком этой близости с государством, которое, добавим мы, имело свой специфический, но вполне сакрализованный характер. Теперь церковное сооружение имело совсем иной общественный статус, не приватный и сугубо религиозный, а откровенно политизированный, занимая в иерархии построек, добавляет Дайхманн, место прежних храмов олимпийских или государственных богов.
Но это только значимые предпосылки, реальная же движущая сила процесса складывания церковной архитектуры, по мнению Дайхманна, – это «свободное действие художественных сил, проявляющих себя в церковном строительстве и церковном искусстве, в устроении святилища как места прославления Бога»[498]. Замечательный поворот мысли: достаточно жесткие идейно-смысловые факторы только освобождают творческие силы. Уже в прежние, доконстантиновские времена «значение и назначение» церковного здания определились раз и навсегда, и потому собственно «выработка облика церковного здания» превратилась в «проблему по существу формальную». То есть цель состоит в том, чтобы иметь культовое и молитвенное пространство, место собрания общины, в котором епископ или его заместитель (пресвитер) мог исполнять литургические функции. Это что касается цели или назначения. Значение же состоит в том, что церковное сооружение представляет собой замещающий образ Небесного святилища.
Из этих смысловых моментов и проистекает уже упомянутая формальная задача: «учитывая членение общины и молящихся, последовательность литургических действий в пространстве, исходя также из пространственного расположения участников богослужения согласно их иерархии, определить общий план постройки, то есть структуру возводимого пространства». Но, повторяет Дайхманн, как это часто бывает в архитектуре, средства решения этих проблем – чисто формальные, реализуемые самыми различными способами. К этому добавляется и значение идеологического порядка: представление о культовом пространстве как о чем-то общественно важном и потому требующем монументальных форм.
Как мы видим, значение и назначение связаны: высший смысл – мистический образ Небесного мира; практическое, целевое использование означает на самом деле пространственный образ священнодействий, а также отношений между участниками богослужения. Так что форма в данном случае представляет собой тоже явление образное. Это образ действий, модальность совершаемых пространственно-мистериальных (и материальных) актов, за которыми стоят не имеющие протяжения акты ментальные (идеальные). Образ действий, за которым – образ мыслей. Такова перспектива иконологической проблематики.
Но если оставлять форму, как это делает Дайхманн, исключительно на совести и разумении художников, то тогда проблема состоит лишь в материально-пластической привязке-фиксации вполне устойчивого и, в общем-то, общеизвестного значения. Это уже сугубо иконографический подход. Архитектура будет в буквальном смысле слова «носителем значения», но никак не его производителем или истолкователем. Конечно же, чистая форма на это не способна. Но в том-то и проблема, что требуется доказать, что архитектура есть только форма, только репертуар художественно-выразительных приемов. Сделать это очень трудно, легче, как это происходит в случае с Дайхманном, просто принять это как постулат, без обсуждения…
Итак, перед нами довольно характерная теоретическая и методологическая модель: в бытии христианской церковной архитектуры существует момент, так сказать, доисторический, почти что нематериальный, чисто духовный (до IV века). Начало же собственно исторического развития – это момент возникновения и формирования церковного строительства (начиная с IV века). К первому периоду относится идейная, семантическая сторона дела, которая остается в силу своей внеисторичности неизменной смысловой инвариантой. История же – это только форма, которая подвижна и разнообразна, так как за ней стоит чисто человеческое творчество, свободное и, значит, произвольное. Религиозное и художественное начала разведены на максимально безопасное расстояние, позволяющее рассматривать их раздельно и независимо. Говоря же более точно – не касаясь семантики как таковой, принимая ее по умолчанию и описывая исключительно региональные и историко-стилистические варианты одной-единственной символико-литургической темы. Или выводить всю ее проблематику за пределы археологии – в область Литургики, богословия и филологии. Достаточно удобный подход, и прежде чем попытаться оценить его, попробуем проследить, как он работает при обращении к собственно историческим реалиям.
Но это еще и реалии архитектурные, относительно которых мы видим у Дайхманна тоже вполне четкую позицию, подразумевающую в качестве сущностного признака архитектуры почти исключительно ее пространственные характеристики, производные от характеристик места. Поэтому, например, в доконстантиновский период мы уже знаем христианские «культовые места», но их «пространственная диспозиция» совершенно иная: она хотя и подготавливает более позднюю архитектуру, но имеет иной «архитектонический характер».
Касательно же собственно константиновской и последующей архитектуры, то здесь очевидным образом выделяются два типа построек – продольная и центрическая, за которыми скрываются соответственно два способа построения пространства. Но проблема состоит в том, как соотносятся вполне определенные архитектонические структуры и столь же четкие функциональные характеристики, выраженные в предназначении постройки и, соответственно, в ее строительной программе. Мнение Дайхманна – связи прямой не существует: «со всей очевидностью форма и цель в раннехристианском зодчестве представляли собой две переменные, независимые друг от друга»[499]. Мы видели уже, насколько логично и неизбежно это положение вытекает из всех прежних оценок и установок Дайхманна. И предложенное Дайхманном решение знаменитой проблемы происхождения церковного здания прямо следует из, повторяем, абсолютно сознательного разведения в разные стороны формы и функции.
Как известно, существуют два взгляда на эту проблему: или ранние христиане позаимствовали свою архитектуру из римской античности; или ранние христиане создали свою собственную архитектуру. Дайхманн считает, что правы все: несомненно, архитектурные формы христиан укоренены в прежней римской архитектонической традиции, но им придан новый смысл. Более того, с опорой на уже достигнутое созданы новые пространственные структуры, но с использованием готовых, уже преднайденных элементов. Но откуда берутся эти элементы, что из античной типологии послужило образцом, моделью – эти вопросы еще обсуждаются, так как неясно, что брать в качестве ориентира: значение или назначение, форму или наименование?
Интересно, что, обращаясь к конкретным гипотезам происхождения базилики из античной типологии, Дайхманн как бы забывает об относительной независимости значения и назначения. Его не устраивает ни теория происхождения базилики из римской т.н. «домашней базилики» (известно, что сами христиане не использовали этот тип построек, просто устраивая Евхаристию в частном жилище). Не нравится ему и теория возникновения базилики из еще эллинистического мемориального сооружения, посвященного прославлению героев, из т.н. героона (трудно представить, говорит он, как из открытого двора с портиками могла получиться форма закрытая, да еще с эмпорами). Нет доверия у него и к идеи происхождения базилики из практики оформления римских городских дорог колоннадами (особенно это характерно для восточных провинций). Последние два случая демонстрируют, по мнению Дайхманна, выделение одной составляющей проблемы: или функции, или формы. В первом случае есть назначение (прославление героев – прославление мучеников), но нет формы. Во втором – значение (базилика – это Небесный Град), но без формы (трудно представить переход от улицы под открытым небом к церковному интерьеру).
Но больше всего от Дайхманна достается наиболее популярной, как он считает, гипотезе, связанной с идей сходства базилики христианской с императорской дворцовой базиликой, включавшей в себя и императорский тронный зал[500]. С точки зрения Дайхманна, перед нами типичный случай искусственных попыток соединить цель и значение, хотя речь идет, как он уверен, исключительно о формальной проблеме. И она в случае с идеей тронного зала прямо игнорируется в угоду семантическим соображениям, так как тронный зал хотя и имел те же деревянные перекрытия, что у базилик, но никогда не был многонефным, что является, как убежден Дайхманн, главнейшим признаком христианской базилики. Для него, напомним, именно пространство составляет суть архитектонического. Поэтому и сугубо филологические попытки обосновать связь базилики с культом императора, со ссылками на Евсевия Кесарийского и на его выражение basileios oikos, якобы свидетельствующее об отождествлении Христа с императором, – все эти усилия для Дайхманна лишены смысла[501], так как не учитывают одного: ответить на вопрос, откуда произошел тип трех– или многонефного церковного здания, означает решить чисто формальную проблему посредством «сравнения формальных элементов, то есть строительных форм»[502].
Другими словами, не обязательно привлекать семантические аспекты проблемы, чтобы разобраться с чистой архитектурой, где не принципиальны моменты содержательные, как считает Дайхманн, зато существенны моменты типологически-формальные. Того же мнения, как уверен Дайхманн, придерживался еще Леон Баттиста Альберти, первым выдвинувший предположение, что античный источник для христианской базилики – язычески-римские базилики форумов (basilica forensis), и ничего более[503].
Дайхманн позволяет себе весьма немаловажные обобщения: говоря о происхождении христианской базилики, необходимо вкупе рассматривать саму пространственно-архитектоническую типологию (многонефное зальное пространство с эмпорами, перекрытое деревянными балками и предназначенное для вмещения большого числа людей) и окружающую среду (городской форум с идеологически и социально значимыми пространствами). Более того, эта базиликальная типология была источником не только для христианских культовых построек, но и для типа вообще мистериальных сооружений, будь то святилище Митры, храм Сераписа (например, в Милете) или синагога. Сюда же добавляются дворцовые пространства, характерные приемные залы загородных вилл и т. д.
Не хватает в этой стройной картине только одного: реальных остатков первых христианских базилик самого раннего периода (то есть III века). Дайхманн признает это и даже предполагает, что таковых примеров никогда и не удастся найти по одной – и, добавим мы, весьма примечательной и показательной с точки зрения методологии – причине. Христианская базилика, заявляет Дайхманн, «в своей характерной форме и по своей специфической сущности» представляет собой «как целое» совершенно новое творение, хотя ни одна из его частей не есть новое изобретение, но происходит из римских профанных зальных сооружений. Это воистину творческое изобретение, авторство которого необходимо представлять очень четко. И таковое по праву можно отнести к личности императора Константина: он и творец самой идеи, и автор, быть может, и конкретных строительных программ, и планов «имперски-христианских сооружений».
Итак, стоит чуть ослабнуть материальной стороне дела (отсутствие остатков первоначальных сооружений), как тут же возникает в качестве спасительного круга личностное измерение проблемы[504]. Персонификация процессов зачастую избавляет методологию от необходимости строго следовать собственным жестким требованиям: когда отсутствуют звенья в намеченной генетической цепочке, так сразу появляется идея творческого акта, почти ex nihilo воссоздающего недостающие элементы исторической последовательности[505]. Особенно это действует, когда имеется личность по-настоящему творческая и, главное, символически значимая, исторически, так сказать, емкая, вмещающая в себя практически все необходимое. Таковым и был Константин Великий, способный не только активно и творчески участвовать, например, во Вселенском соборе, но и разрабатывать пространственные структуры своих будущих построек в Иерусалиме. Проблема состоит в том, что это никак не вписывается во все прежние строгие заявления о чистоте и точности метода. Хотя, впрочем, есть и в этих рассуждениях своя логика, так как, напомним, у Дайхманна всегда речь идет о формальной стороне дела, и здесь совершенно не возбраняются разговоры о творчестве, художественных инновациях и открытиях. Показательно другое: эти творческие импульсы исходят от не-художника. Речь идет о политическом деятеле, обладающем, между прочим, своей собственной сакральностью. Вот куда уходят корни христианского формообразования, по мнению Дайхманна.
Мы должны вновь признать, что сам же Дайхманн уходит довольно далеко от корней археологического подхода, так как фактически разговор о творческой личности, о строительных и идеологических программах и т. д. неизбежно выводит и на проблему личности вообще и мышления в частности[506], а также на столь нелюбимую Дайхманном проблему сакраментально-мистериальной проблематики, хотя и в довольно специфическом ее варианте. Сам Дайхманн упоминает о мистериальном назначении многих ранних зальных сооружений. С другой стороны, совсем не случайно выбрана в качестве главного источника творческих импульсов личность римского императора, вмещавшего в себя не только недавно обретенную христианскую веру, но и вполне удерживаемое положение pontifx maximus. Не в этом ли и состоял творческий и одновременно мистериальный акт, на который способен был один лишь император: сакрализация и христианизация профанных и языческих архитектонических символов-атрибутов? Ведь именно так в данном мистериально-личностном контексте следует понимать всю архитектурную типологию, весь реестр строительных элементов и арсенал архитектурных форм, действующих и как религиозные символы. Но сам Дайхманн, к сожалению, не позволяет себе таких «спекуляций», предпочитая всячески воздерживаться от «гуманистических» аспектов разбираемых проблем, оставаясь тем самым на пороге не только иконологии, но и даже иконографии архитектуры, озабоченных – каждая по-своему – происхождением и содержания, а не только форм.
Тем не менее Дайхманн очень близок к этим антропологическим по сути подходам. Это видно хотя бы по тому, как он настойчиво подчеркивает, что новизна заключается в «устройстве пространства», которое, как известно, есть поле человеческой активности, в том числе и творческой, и духовной. То же пространство – место нового соединения и взаимодействия «уже всеобще распространенных элементов». Одновременно от Дайхманна не ускользает тот факт, что последовательность элементов – это часть общего замысла, предварительного проекта, конечной программы строительства и т. д., то есть «неформального базиса», на котором только и выстраивается «архитектонический процесс»[507]. Этот до-формальный уровень – собственно религиозная, христианская подоплека, которую-то и невозможно было позаимствовать у язычников. Но «формальный тезаурус» вкупе с функциональными соображениями (задача собрать в одном месте большое количество людей), а также с «потребностью в монументальности» – все это позволяет христианскому культовому зданию стать образом «Церкви, занимающей место прежней государственной религии». И все эти задачи решаются посредством «монументального формального аппарата»[508].
Иначе говоря, перед нами «перенос строительной программы Церкви на базилику». Сугубо формальные перемены базиликального типа были не особенно радикальными. Это скорее «адаптация типологии базиликального здания» к уже сформировавшимся и теологии церковного здания, и идеологии государственной религии – тоже своего рода здания, но более воображаемого и менее материального. Конечно же, формируется некая схема, реализуемая в многочисленных вариантах, рациональное объяснение которых невозможно хотя бы потому, что перед нами результаты «творческих процессов». Ответственность за них несут «разнообразнейшие факторы», и не последний из них – «не уловимая более нами художническая персональность», с которой, как мы убеждаемся, можно одновременно и начинать изучение «проблемы происхождения».
Дальше – больше, так как Дайхманн, описывая творческий метод «константиновского архитектора», говорит, как он комбинирует «элементы прежней архитектуры», делая это точно тем же способом, что и тогдашний живописец, иллюстрирующий «события христианской священной истории», комбинируя готовые элементы, сообразуя эту задачу иллюстрирования (то есть реализации программы) с целью строительства, с существующей традицией и с «господствующим чувством формы». Последняя формулировка с особой четкостью выдает в Дайхманне истинного традиционалиста, готового воздерживаться от семантики, если она не сулит ничего ясного и определенного[509]. Одновременно невозможно скрыть тот факт, что представление об архитектуре как особом способе иллюстрирования некоторых идей, программ и замыслов – это все тот же лингвистический подход, облаченный, быть может, в более мягкую терминологию «формы и функции», но тем не менее, представляющий архитектуру как набор готовых формул или фраз, воспроизводящих некоторый готовый контент, в данном случае религиозно-сакрального порядка. Именно отсюда проистекают отмечаемые нами идеи переноса программы на готовую типологию. Именно поэтому возникает потребность вдруг вспомнить творческий процесс: ведь без пользователя, без носителя этого языка обойтись никак нельзя. Чего не хватает Дайхманну, кроме личных пристрастий, чтобы полностью принять лингвистическую модель? Только одного – учета инстанции получателя, но он в данном – сакрально-культовом – контексте должен быть слишком активной, фактически, интерпретирующей величиной, чтобы оказаться удобным и угодным археологу. Это уже будут не раскопки, а попытки воскрешения…
А как же обстоят дела с центрическими постройками, где символизм и более очевиден, и более конкретен? Надо отдать должное Дайхманну: он не дает загнать себя в тупик подобным символизмом. Он прямо признает центрические постройки безусловной и полной инновацией, чистой воды изобретением христианского разума, «решающим шагом вперед в истории архитектуры»[510].
Не отказывается Дайхманн и от проверенной схемы «значение и назначение». На примере Анастасис он выделяет конкретные функции центрической постройки, то есть имеющей центральное пространство и круговой обход: она предназначена для почитания сакрально значимого места, делая его одновременно и зримым, и доступным. Но и подобный принципиально новый строительный тип, который, по словам Дайхманна, «революционизировал архитектуру»[511], представляет собой хотя и инновацию, но основанную на готовом «формальном тезаурусе». Существенно другое: Дайхманн, признавая в Анастасис квинтэссенцию нового типа, видит в ее планировке прототип римского мавзолея дочери Константина – Константины. В связи с чем наблюдается характерная корректировка теории о «значении и назначении»: уже сам «сформированный для определенной строительной программы тип» переносится на постройки с «иным специальным назначением». Но что происходит с первоначальным значением данного типа в результате подобного переноса и каков его смысл? Нет ли собственного значения (мотива, цели) у этого переноса, какова его смысловая подоплека, обеспечивающая перенос и адаптацию? И наконец, самый интересный вопрос, вытекающий из всех предыдущих: есть ли это чисто технический прием, распространение удачной планировочной и пространственной схемы, или в этом ряду построек, берущих начало в Анастасис, заключена идея воспроизведения, повторения, копирования и т. д.? Ведь Храм Гроба Господня и Мавзолей Константины связывает единая погребальная тема, формально-архитектоническое выражение которой не просто переносится, а именно повторяется. В этом случае мы опять оказываемся на пороге иконографии архитектуры. Мы, но не Дайхманн, он легко игнорирует подобную соблазнительную перспективу, повторяя ту же схему применительно к крестообразному типу, называя его точно так же «великим открытием IV века» и точно так же рассматривая исключительно «пространственные решения», повлиявшие на развитие «пространственных структур» вплоть до наших дней.
Опять ни слова, например, о символизме Креста, то есть о внутренней, собственной изобразительности архитектурных форм, способных улавливать, фиксировать, воспроизводить и порождать смыслы и значения, выстраивая не только материальное, но и идеальное здание, совмещая и преображая зримое и недоступное зрению, осязаемое и бесплотное и – в любом случае – не удовлетворяясь одним лишь «фундаментом» готовых строительных программ и формальных схем. Тем самым – не удовлетворяясь и просто археологией архитектуры.
Или все-таки возможно распространить археологию и на семантику уже готового – возведенного и истолкованного – сооружения?
Христианская археология и сакральная архитектура как «носитель значения»
Уже в самом начале главы Дайхманн перечисляет все возможные случаи семантического восприятия церковной архитектуры: это – сакральное содержание и выражение, аллегория, символика и анагогическое толкование. Все вместе это составляет «архитектоническую символику», которую необходимо изучать, с точки зрения Дайхманна, исключительно с исторических позиций, подразумевающих опору на литературные источники и эпиграфику, что призвано исключить всякую субъективность.
И сразу после этих вводных замечаний мы обнаруживаем совершенно принципиальное положение: о переносном значении церковного здания или его части можно говорить лишь после признания его «сакрального характера», который только и создает условия для всех последующих смысловых толкований[512]. Опираясь на Евсевия Кесарийского, Дайхманн указывает, что только «осознанная сакрализация» церковного здания, выраженная в самом акте освящения храма, делает возможным восприятие его как «символа Небесного Иерусалима», а следовательно, и как «носителя значения». Иначе говоря, лишь сакральное может выступать в роли символа и подвергаться аллегоризации, нараставшей, как отмечает Дайхманн, на протяжении всего века патристики. Как можно истолковать это положение? Для Дайхманна лишь сакральное обладает свойством проявления дополнительного смысла, и символ как раз и является механизмом этого проявления.
Тем не менее это пока еще не решение проблемы, наиболее беспокоящей нашего автора: насколько сам облик, архитектурное устройство Дома Божия пробуждает эти мысли? Не являются ли они чистым умозрением, лишь потом соотнесенным с архитектурой?
Уже здесь мы видим всю специфику именно церковной археологии: церковное здание – это некий объект, предмет, над которым можно совершать определенные действия (например, подвергать интерпретации). Как предмет, относящийся к прошлому, он представляет собой некоторую древность, то есть памятник, заключающий в себе некоторое «количество» содержания, столь же определенного, как и он сам, с физической, материальной точки зрения. Это то, что касается «археологичности» подхода, и с этим спорит его церковность, которая состоит в том, что как безусловная истина принимается сакральность, которая сама является источником воздействия (сакральное способно освятить, сакрализовать здесь и сейчас). Поэтому с такого рода прошлым сосуществует единое – опять же сакральное – пространство, распространяющееся и на настоящее. Кажется, будто церковность несколько упраздняет археологичность. Попробуем в этом разобраться. Именно этого парадокса и касается вопрос Дайхманна – и всей, как мы видели, сходной методологии – о том, что первично: архитектоника или символика? Это все тот же знакомый нам вопрос о реальном содержании храмовой архитектуры. И вопрос этот не разрешается без учета и буквального содержания храма, того, что он содержит самым непосредственным образом, – культа и его участников.
Дайхманн со свойственным ему археологическим буквализмом сводит вопрос символических представлений, касающихся церковной архитектуры, к практическим их последствиям. Наличие таковых делает символику реально архитектурной, отсутствие превращает в спекуляцию.
Практической символикой является все то, что касается устройства и убранства церковного здания. И прежде всего – ориентация, за которой стоит символика частей света, небесных светил и прочей космологии. С этой символикой соприкасается и такая обширнейшая область символического знания, как нумерология, которой Дайхманн касается вскользь, различая, тем не менее, случай, например, использования трехнефной схемы, смысл которой – чисто архитектурный (по его мнению) с привнесением post festum всей триадологической символики. В то время как октогон баптистерия – случай уже символики, так сказать, архитектурообразующей, когда первична идея мистического Восьмого дня, которая и способствует выбору октогона.
Иначе говоря, Дайхманн склонен видеть первичность символики там, где дело касается планировки, планиметрии, стереометрия же, как нам кажется, вызывает у него подозрение, так как она вторична с точки зрения замысла и проектирования сооружения. Точка зрения, скажем прямо, достаточно оригинальная, и в таком виде мы ее не встречали даже у Краутхаймера, который, в отличие от Дайхманна, не делает различий между значением архитектурных форм и символикой чисел, пусть и соотносимых с этими формами. Именно такого рода различия, повторяем, заставляют Дайхманна, скептически относиться к пространственным символам, которые касаются прежде всего внутреннего пространства. Двухмерность, так сказать, чисто числовых отношений заставляет ограничивать их символизм исключительно плоскостью. Более того, числовой символизм обладает своей специфической автономностью, независимостью и от собственно архитектурных, и от историко-культурных отношений. Это тот самый смысловой абстрактный фундамент, на котором можно выстроить (и буквально, и переносно) практически все, что угодно, собственно саму мысль. Во всяком случае, христианский храм разделяет всю эту символику и с постройками языческими[513].
Но, как мы вскоре убедимся, в этом есть некоторая принципиальная логика, касающаяся самой структуры храмового пространства, основа которого – все-таки плоскость. Не будем забывать, что плоскостность, двухмерность – основа и самого акта восприятия, что касается и храма, и его частей, производящих впечатление прежде всего на ощущения (визуальные и тактильные), а уже потом – на мысль. Способность различать символику акта восприятия – образности, изобразительности, с одной стороны, и символику акта понимания, мышления – с другой – вот что является совершенно принципиальным для нашей проблемы. И Дайхманн касается этого аспекта, но делает это с той самой археологической скрупулезностью, которая иногда может и мешать…
Эти помехи становятся совершенно очевидными при переходе от символизма абстрактных чисел, тем более понятых чисто количественно и статистически (Дайхманн, например, просто считает количество колонн), к символизму сугубо изобразительному, касающемуся уже архитектонической репрезентации, то есть способности тех или иных архитектурных форм представлять, воспроизводить некоторые вещи иного порядка. Например, купол, символизирующий Небо. Дайхманн в данном случае совершенно неумолим: это уже случай отображения (Abbild’а), а вовсе не символа, который не может быть изобразительным. Другими словами, символизм построен на принципиальном несходстве с символизируемым, на принципиальном отсутствии здесь и сейчас того, что символизируется. Символ не заменяет, не восполняет это отсутствие, а обеспечивает с ним связь. Символ – это посредник, тогда как образ, тем более репродукция-отображение – это копия, заменитель, в данный момент (в момент восприятия, созерцания того же, например, купола) представляющий собой Небо. Если же изображаются вещи сакральной природы, то тогда исчезает момент иллюзии, столь свойственный изобразительному искусству вообще. Представление здесь и сейчас того же Неба архитектоническими средствами означает как раз то, что в данный момент храм, данное пространство оказывается местом теофании, приближения Неба, встречи с Ним. Понятно, что в самом облике архитектонического образа должно быть нечто общее с изображаемым: купол похож на небо земное и, значит, и на Небо, так сказать, небесное. И точно так же, например, портал, вообще проем, дверь является и формально, и содержательно местом вхождения, проникновения и одновременно открытия, отверзения, доступности и т. д. Это вынужден признать и Дайхманн, несколько скованно и неявно, но все-таки формулирующий ту идею, что существуют ситуации, когда символизм включен в саму суть архитектурной формы, когда она в себе содержит священный смысл, потому что сакральное избирает эту форму для своего обнаружения. Это может происходить и потому, что форма достаточно универсальна (проем, дверь, свод и т. д.), и потому, что форма может использоваться в актах, теофанических по своей сути. Это уже случай сакраментальной символики, касающейся культа, священнодействия, включающего в себя и священное воздействие – как на участников богослужения, так, позволим себе это допустить, и на архитектуру.
Поэтому Дайхманн отчасти разрешает часть своих трудностей, называя тот же портал «местом теофании»[514]. Можно распространить данное определение на весь Дом Божий, чтобы прояснить взаимоотношение сакрального смысла и последующей архитектурной символики и изобразительности вообще. Другими словами, сакральное вообще, так сказать, витает в воздухе и в головах, сакраментальное – это уже конкретная и актуальная привязка к местности, месту и пространству – прежде всего литургическому…
Но также и к личностному, экзистенциальному и ипостасному, если брать символику того же портала, выраженную помимо прочего и эпиграфически. Ведь портал – это дверь, и Сам Христос именовал Себя и Дверью, и Путем, поэтому тот же Павлин Ноланский фиксирует подобную семантику со всей четкостью, позволяя и нам если не понять, то хотя бы почувствовать подобное несоединимое единство и смысла, и действия, и представления, и чистого переживания, когда прохождение порталом в храм ощущалось и осознавалось и как вхождение в Царство Небесное, как соединение со Христом, а через Него и со всей Св. Троицей (надпись на портале Латеранской базилики). И очень важно, что тема теофании присутствовала и внутри храма и достигала собственно апсиды, то есть восточного завершения. Тогда мы видим, что существует символика (она же сакральная семантика), которая касается всего церковного сооружения, пронизывает, пропитывает его насквозь. На этом моменте (между прочим, вслед за Дайхманном[515]) следует остановиться поподробнее.
На самом деле портал представляет собой, так сказать, соборный момент всей символики. Соборный прежде всего в смысле всеобщности: уже в период Древней Церкви по всей ойкумене смысл портала был один и тот же. Но соборность следует понимать и с точки зрения уже и Средних веков, когда именно в соборах (уже романских, не только готических) порталы представляли собой «сумму всего убранства собора»[516]. С точки зрения Дайхманна, причина тому – в способности собора, любой церковной постройки быть образом Небесного святилища, при том, что собственно портал – это образ Самого Христа.
Каков же механизм функционирования этой визуально-символической структуры, заключающей в себе практически весь христианский храм? Представляется не случайным, что summa собора заключена именно в портале: ведь он плоскостен, представляет собой не что иное, как визуальное поле, и обладает одним существенным свойством: это есть фон, но представляющий собой проход, проем, проницаемое основание. Фигурой же на этом фоне оказывается посетитель храма, образом которого, точнее говоря, образом поведения которого оказывается всякая трехмерная фигура, воспроизводящая фундаментальную ситуацию, так сказать, проникающего присутствия, освоения инородной, инаковой среды. В связи с этим наблюдением можно сказать, что в христианском храме первична не стена, а проем, подразумевающий прохождение и пребывание. Даже можно сказать так: первична пластика тела человека, а не тела храма, которая играет подчиненную и подсобную, хотя и крайне существенную роль[517].
Такого рода феноменология храмового пространства[518] подразумевает, как нетрудно заметить, взаимодействие храмовой архитектуры и ее наполнения:, и только результат этого взаимодействия дает, так сказать, полноту смысла. Если же мы предпочитаем, вслед за Дайхманном и всей подобной традицией, рассматривать архитектуру чисто предметно, вещно, то мы не выберемся из затруднений, связанных с выяснением всех возможных и невозможных уровней и типов референций: что и как изображает, подразумевает, намекает, обозначает и т. д. И всегда такого рода референция будет внешней по отношению к храму, будет казаться придуманной, спекулятивной и вторичной по отношению к архитектуре.
Так, например, Дайхманн задается совершенно фундаментальным вопросом об «архитектонических последствиях» того или иного, преимущественно аллегорического, иносказательного, по определению, так сказать, дополнительного значения. И вынужден признать, что ни одно из этих значений не имеет реального воздействия на форму. Некоторые аналогии просто не могут быть выражены архитектонически, так как представляют собой метафорические образы, способные существовать лишь вербально (например, образ Церкви как Тела Христова или как корабля). Другие образы, казалось бы, вполне выражаются архитектонически, но не подходят по чисто функционально-логическим соображениям (например, храм как образ Небесного Града мог подвигнуть раннехристианских зодчих к подражанию чисто градостроительным формам, откуда получаются колоннады базиликальных нефов, представляющих собой воспроизведение портиков). Но подражанием чему будет, в таком случае, перекрытие этих портиков? Дайхманн вынужден отвергнуть эту гипотезу как чисто спекулятивную, по его мнению[519]. Та же участь постигает и теорию происхождения базилики из типологии и убранства римских императорских тронных залов. Даже если и не учитывать того обстоятельства, что имперская репрезентативная архитектура не знала нефов, все равно остается несомненное препятствие, заключающееся в том, опять же по мнению Дайхманна, непреложном факте, что выражение «дом царя», используемое тем же Евсевием Кесарийским, есть всего лишь риторическая фигура, а вовсе не буквальное обозначение некоторого факта. А в случае с храмовой архитектурой, как считает Дайхманн, необходимо говорить об отображении, копии того, что обозначается, а не о символе или аналогии. Последние виды образности по природе своей не изобразительны, а все метафоры, используемые при толковании церковной архитектуры, подразумевают все-таки связь по сходству[520]. Во всяком случае, это самое темное место у Дайхманна, так что попробуем в этом разобраться на примере еще одной теории, подвергаемой Дайхманном суровой критике.
Это знаменитая, «снискавшая особый успех», как выражается безо всякого одобрения наш автор, теория Краутхаймера о происхождении центрического церковного сооружения. Чем же она не устраивает автора «Введения в христианскую археологию»? Во-первых, соответствующее место из апостола Павла, как уверен Дайхманн, получило применение к таинству Крещения как раз в IV веке, то есть одновременно с самим церковным строительством[521]. Во-вторых, нет прямых свидетельств источников, что баптистерии или купели сравнивались с Гробом Господним. В-третьих, существовали, с одной стороны, и иные формы античных мавзолеев, почему-то не повлиявших на сложение центрической типологии, а с другой – многочисленные и не погребальные по своей функциональности античные центрические пространства. Но в любом случае, как считает Дайхманн, высказывание апостола представляет собой символическое построение, вовсе не предполагающее свое иллюстративно-буквальное воплощение, иллюстрацию.
Только один истинный символ может быть прямым фактором в сложении христианской типологии. Это – Крест. В данном случае, если иметь в виду практику того же проектирования, совпадают «символика формы» и «религиозная идея», в результате чего и возникает новая «строительная форма». И опять же в подтверждение идеи того, что символика не равна изобразительности, Дайхманн приводит пример одного юстиниановского храма, посвященного Св. Кресту, который, вопреки ожиданию, является трехнефной базиликой.
И вот только после подобного неизбежного выяснения отношений Дайхманн подходит к собственно архитектурному значению, не нуждающемуся ни в каких символических или анагогических задних планах. Это формальные структуры архитектонического убранства, свойства которых зависят от «сакрального значения» или от «литургической функции»[522]. Итак, мы добрались до буквального значения церковной постройки: оно функционально и оно Литургично. Остается доказать, что этой, так сказать, сакраментальной прагматике строго соответствуют некоторые архитектурные формы.
Но прежде следует уточнить некоторые совершенно принципиальные моменты. Символизм и особенно аллегория проявляют себя через человеческое сознание, выражающее себя, например, в мышлении и, соответственно, в языке и тексте. Сакральные и литургические значения и функции представляют собой область действия и проявляют себя как нечто автономное по отношению к человеку. Так возникает желание признать именно за этими типами значений собственное, прямое значение той же архитектуры как отдельной реальности (напоминаем, что такова точка зрения именно археологии). Но как проникает это значение в архитектуру, порождает ли она его? В том-то и дело, что, как указывает и Дайхманн, церковное здание должно быть освящено, и освящается именно место, то есть пространство, и то, что его если не формирует, то, во всяком случае, оформляет, а именно пластика. Так что сакральное в архитектуру привносится и существует, как это ни покажется странным, как раз на уровне субстанциональном, почти что материальном. Можно ли назвать это значением? Вероятно, это свойство, качество, а если все-таки придерживаться отношений референции и говорить о значении, то это будет скорее архитектурное значение сакрального, чем сакральное значение архитектуры (см. выше). Точно так же и ритуал, обряд, священнодействие, Литургия – все это по природе своей не требует архитектуры в качестве необходимого условия своего существования. Культ выражает себя прежде всего топологически, сенсомоторно и т. д., а уже потом – архитектурно.
Но если мы можем доказать, что данная архитектура вообще или некоторая архитектурная форма в частности «обслуживают» тот или иной культ, находятся с ним в некоторых отношениях, то тогда мы можем говорить о культовой функции, назначении, а значит, и о значении. В этом случае архитектура отсылает к собственной функции, и мы можем сказать, что, конечно же, работа архитектурных форм, их использование – вот что является единственным имманентным значением архитектуры. Иначе говоря, как всякий предмет, архитектура значит ровно столько, сколько о ней думают и насколько ее намереваются использовать. Итак, мы вновь возвращаемся к сознанию и мышлению, от которых невозможно избавиться, имея дело со значением и функцией.
Поэтому предметом семантического анализа, как нам представляется, должно быть не взаимоотношение идеи, представления, концепта, теоретического, богословского положения, литературного образа и т. д. с той или иной архитектурной формой, а присутствие или отсутствие всего вышеперечисленного в замысле, в самом строительстве, в восприятии и использовании этой самой архитектуры со стороны современников и современных пользователей. Другими словами, архитектура функционирует только на уровне прагматики, и только так ее и следует воспринимать, если нас интересует вопрос о первичных уровнях смысла.
Но в том-то и дело, что архитектура – это не только смыслосодержащая, но и смыслопорождающая система, и потому всякого рода умозрительная и литературно-текстуальная символика и аллегория неизбежно включаются в общую структуру архитектурного смысла, в тот sensus plenus, которым церковная архитектура обладает именно благодаря своему сакральному статусу, фактически приближаясь к Писанию как раз за счет своих литургических функций, предполагающих личную реакцию-отзыв на открывающийся смысл[523].
Но это идеальная ситуация, которой никак не соответствует археологический и вообще исторический материал. Его фрагментарность, с одной стороны, не позволяет говорить ни о какой полноте смысла, а с другой – делает вполне оправданным стремление сохранить и подчеркнуть его уникальность, в том числе и на смысловом уровне, когда хочется буквально докопаться (чисто археологический оборот!) до того значения, что присуще именно этому «фрагменту», даже если таковым будет целое здание.
Поэтому оправдана щепетильность Дайхманна и понятно его стремление добраться до несомненно первичных значений. И потому естественно, что в конце концов наш автор приходит к анализу в качестве «носителя значения» непосредственно архитектурного убранства, как внешнего, так и внутреннего.
И ничего удивительного, что в результате Дайхманн находит наиболее достоверные данные при обращении к орнаментике и прочей декорировке, в том числе и чисто предметной, которой именно украшались стены церковного здания. Содержание орнамента как раз и образует значение, а собственно архитектурные формы (та же триумфальная арка или конха апсиды) являются его носителями. Тем более это очевидно, если существует непосредственная изобразительность, так сказать, присутствующая в архитектуре (мозаика и фреска).
Можно сказать, что весьма узкий створ интендированного значения архитектурных форм действует подобно направленному лучу света: он выявляет и все прочие измерения этой семантики, главная из которых – экклезиологическая. Так что совершенно справедливо разговор об архитектурных носителях значения заканчивается напоминанием, что ecclesia materialis signifcat Ecclesiam spiritualem[524]. Стоит только напомнить, что включенность интерпретатора в последнюю только и обеспечивает уразумение и всего того, что связано с первой. Более того, это и включенность форм и смысла во всем их разнообразии и полноте, а также и включенность сознания, мышления, литературной, художественной традиции. Все это и многое другое материальное церковное здание именно обозначает, пробуждает в сознании теми или иными способами. Стремление анализировать эти способы и условия актуализации смысла обеспечивает продолжение интерпретационной деятельности – но уже за пределами церковной археологии…
Рождение христианского искусства как происхождение смысла
Точнее говоря, за пределами церковной архитектуры, ибо, как представляется из вышеприведенных рассуждений и наблюдений Дайхманна, проблема «архитектуры как носителя значения» связана с проблемой самой архитектуры, с ее непреодолимой в рамках археологического метода предметностью, вещественностью и материальностью, не оставляющих место для всякой непосредственной изобразительности, без которой, как представляется Дайхманну, невозможно говорить о всякого рода значении, начиная с первичного.
А ведь именно с этого начинается процесс семантического анализа, в том числе и архитектуры: с возвращения к первоначальному, первичному, то есть достоверному, смыслу, на котором, так сказать, выстраивается вся последующая смысловая постройка, именуемая художественным произведением, также и постройка буквальная. Этот первичный смысл, как известно, не единствен, но он приближает интерпретатора к истокам смысла вообще. И один из таких истоков, как мы убедились, – это сознание человека, его представления, его мышление, его, в конце концов, вера, религиозное чувство, из которого происходит та или иная форма искусства, в том числе и христианского. Иначе говоря, для выяснения смыслового наполнения (семантической структуры) произведения необходимо представлять процесс его изготовления, его создания, который, на самом деле, восходит к процессу появления самого христианского искусства как такового. Понимание этого происхождения – ключ к пониманию самого явления. Такова логика генетического подхода, который в случае с архитектурой кажется особенно уместным потому, что архитектура действительно рождается, происходит, возводится каждый раз заново…
В случае с христианским искусством вопрос происхождения усугублен, отягощен проблемой обоснования, оправдания этого искусства с точки зрения вероучения, ибо ветхозаветная религия не просто не предполагала сакрального искусства, но даже его запрещала (такова, во всяком случае, точка зрения Дайхманна). Более того, непреложным фактом остается «аиконический характер первоначального христианства»[525].
Так откуда же, если не из самого Св. Писания и не из церковного богословия первых трех веков, происходит христианское искусство, имеющее, таким образом, «неофициальный характер»? Каковы условия его возникновения? Для Дайхманна – это проблема поисков той среды, в которой рождается идея и складывается практика «создания изобразительных программ, то есть переложения в образы известных нам по Св. Писанию персонажей и событий, а также и перенос в образы аллегорических и символических значений, что предполагает и вопрос о тех художественных формах этих образов, которые только и обеспечивали новосоздававшуюся христианскую иконографию»[526]. Другими словами, корни христианской иконографии и искусства вообще не столько религиозные, сколько социально-психологические и идеологические. Отсюда и возможный ответ: это среда карпократиан, то есть гностической секты II века, которая славилась, согласно Иринею Лионскому, обладанием прижизненного изображения Христа, сделанного якобы по распоряжению Пилата.
Точно так же и сугубо художественные корни нового искусства тянутся в глубь языческого искусства. Принципиальное новшество, которое обнаруживает Дайхманн в III веке, – это появление в типично профанной декорации отдельных священных фигур. Отвергая влияние современного иудейского искусства, где отсутствуют фигурные мотивы, Дайхманн приходит к весьма примечательному наблюдению о том, что собственно христианский вклад в раннехристианское искусство не столько художественно-стилистический, сколько иконографический, связанный с появлением новых, именно христианских «образных мотивов» (Bildvorwürfe), воплощавшихся средствами римской живописи, то есть обретавших «римское формальное обличье»[527].
Это означает, что в «языческих» мастерских могло появляться вполне христианское искусство, точнее говоря, христианская иконография, но, как замечает Дайхманн, усилиями не столько художников, сколько христианских заказчиков. Именно они предлагали не только тему, но и положение, жесты и просто настроение персонажей в соответствующих сценах. Их состав, а также характер действий, общее взаимоотношение, сущность и значение изображаемых предметов и, наконец, смысловой контекст – все это художнику объяснял заказчик. Из этого следует, что раннехристианское искусство (не только живопись, но и скульптура, мелкая пластика и т. д.), с точки зрения художества принадлежа «миру форм» соответствующей эпохи (от позднеантониновской до северовской), с точки зрения содержания представляет собой нечто странное и просто превышающее само понятие искусства. Художник в этой ситуации является адресатом определенной экзегезы, и его ответ, его реакция – собственно его искусство, в котором, соответственно, заключена принципиально нехудожественная часть, и ею оказывается содержание. По отношению к нему форма выступает нейтральным элементом. Само же содержание, будучи результатом, свидетельством, следом языкового (устного или письменного) сообщения, или, лучше сказать, толкования-комментария, являет себя в качестве атрибута, декорации, покрывающей «тело» искусства. Это-то и придает специфически иконографический характер раннехристианскому искусству, которое, на самом-то деле, оказывается таковым исключительно в отдельных своих элементах-атрибутах.
И подобная двусоставность изображения делает его со всей неизбежностью иносказанием, аллегорией, выраженной, что крайне важно, буквально на фигуративном уровне, что требует обязательной, так сказать, «герменевтической» реакции и со стороны зрителя, точнее говоря, потребителя этого рода изображения. Можно ли назвать христианский заказ в этом случае именно программой? В ситуации, описанной Дайхманном, в том-то и дело, что нельзя, так как речь идет не просто об описании темы, замысла, идеи, но об адаптации смысла, содержания изображения как такового. Это своего рода проповедь, миссия в языческой среде. Но с технической, исполнительской стороны нельзя сказать, что смысл усвоен и освоен художником: он остается действительно исполнителем, иллюстратором, причем даже не идеи, остающейся внешней по отношению к нему, сколько самой ситуации заказа, объяснения, договора, вообще конвенциональных социально-конфессиональных отношений. Формируется своего рода символизм недосказанности, неопределенности, можно сказать, взаимной осторожной дистанцированности, выраженной, повторяем, и на структурном уровне (наличие смысловых вставок-атрибутов). Другими словами, вмешательство пользователя практически неизбежно, и оно имеет примиряюще-понимающий характер. Позиция внешнего экзегета, таким образом, как мы уже указывали по другому поводу, определяется и пространственно. Существует смысловое расширение данной изобразительности, за которой скрывается расширение и чисто жизненное, ситуационно-событийное, из чего следует, что вся описанная ситуация полностью проецируется на ситуацию архитектурную, хотя сам Дайхманн склонен по известным причинам выводить зодчество из пространства толкования как такового (мы коснемся более детально этих причин в связи с общей теорией толкования, выраженной Дайхманном в следующей главе).
Поэтому продолжим следить за его логикой, столь ясно выражающей и себя, и скрытые концептуальные приоритеты именно при описании изобразительного материала, который, как мы уже не раз убеждались, служит тоже своего рода комментарием к менее «разговорчивой», но порой более красноречивой в своем молчании архитектуре.
Итак, с точки зрения художественной мастерской заказчик приходит извне, со стороны, буквально и переносно – с улицы. Но с точки зрения самого заказчика и, главное, пользователя (адресата-2, если учитывать положение художника), существует пространство, где они будут дома. Это пространство – измерение Церкви, и потому, например, росписи баптистерия в Дура Европос представляют собой нечто особое: перед нами церковное искусство в чистом виде, без всяких языческих привходящих. Именно поэтому отсутствуют в нем всякого рода декоративные мотивы; только библейские сцены и больше ничего. При этом – не слишком высокое качество и явное воспроизведение каких-то более ранних и более совершенных образцов (предположительно даже римских).
Сравнение с расположенными рядом образцами иудейского искусства (более совершенного с художественной точки зрения) доказывает один непреложный, с точки зрения Дайхманна, факт: при всем формальном сходстве данных вариантов тогдашнего «всеобщего искусства» невозможно говорить об их взаимовлиянии или даже просто о взаимодействии по одной причине – они разнородны иконографически и потому чужеродны, хотя и имеют общий исток. Это говорит о том, что для Дайхманна религиозные показатели представляют собой моменты, решающие в оценке искусства, которая, таким образом, совершается семантически. Ценностный момент при прочих (то есть художественно-формальных) равных условиях служит определяющим при характеристике данных явлений[528]. И, повторяем, эта аксиология заключена и проявлена в иконографии.
Но и внутри иконографии следует различать всеобщие элементы, так сказать, смысловой фон, и элементы специфические. Подобное различение особенно наглядно видно на примере погребального искусства, рельефов саркофагов, где христианская атрибутика включена в контекст «всеобщей погребальной символики смерти». Другими словами, декоративно-орнаментальный фон давал выход в контекст художественно-исполнительских процессов, где проявляло себя социально-идейное пространство раннехристианского искусства. Погребальная символика исполняет те же функции и обладает сходными свойствами: она обозначает внешнее по отношению к христианской семантике пространство уже экзистенциальных смыслов, в которых на равных было укоренено существование как христиан, так и язычников, хотя, конечно же, те и другие по-разному их оценивали, что могло выражаться (символизироваться), в том числе, иконографически. Хотя последний способ, как мы видели, был фрагментарен, так сказать, атрибутивен и маргинален. Опять возникает желание уже здесь вспомнить об отодвинутой на задний план архитектуре, имеющей возможность символизировать не отдельные темы и мотивы, но как раз сами смысловые контексты, символические пространства. Но воздержимся пока, чтобы накопить еще некоторый материал собственно изобразительного искусства, расширение которого в сторону зодчества обогатит и то, и другое.
Рассмотрение «религиозно нейтральных саркофагов» позволяет проследить механизм «христианизации изобразительного убранства». Выясняется, в частности, что рельефы некоторых саркофагов включают в себя мотивы принципиально разнородные: это и собственно христианские образы (например, сидящий Иона), и нейтральные (рыбы и проч.), и сугубо языческие (восседающий на троне Нептун).
Что же происходит? – задается вопросом Дайхманн. И сам же на него отвечает со всей определенностью: мы имеем дело со стремлением посредством сопоставления-сопряжения разнородных изобразительных элементов «произвести на свет» новый смысловой контекст, который происходит не от литературной традиции и который параллелен, например, Евангелию, опираясь на монументально-изобразительное предание (отличное от Предания как такового, то есть церковного)[529].
Отсюда – промежуточный вывод: новая христианская иконография возникает не как готовая схема, а как результат постоянно всплывавших решений, суть которых состояла в применении различных комбинаций исходных Versatzstücken, придававших новое значение известным темам. То есть конкретная комбинация определяла значение, а не сама использованная тема, выступавшая, фактически, в роли исходного материала.
Из этого наблюдения делается характерный для Дайхманна вывод, который можно с чистой совестью заменить на прямо противоположный. Вслед за нашим автором можно сказать, что «сфера частной жизни» многих тогдашних христиан (а саркофаги принадлежат именно к частной жизни) была связана с представлениями, глубоко укорененными в язычестве. Христианизации подвергались лишь верхние слои образности, тогда как глубинное значение оставалось прежним и не могло быть санкционировано церковными властями, как считает Дайхманн[530].
Альтернативное толкование всей этой ситуации предполагает нечто прямо противоположное: использование готовых мотивов как раз и есть поверхностный слой изобразительности, тогда как глубинная мотивация связана даже не с использованием готовых языческих образов, а с их комбинацией, которая выдает комбинаторику мышления, восприятия и воспроизведения впечатлений от прежнего эстетического опыта и художественной традиции. По сути, это и есть то самое толкование и перетолкование, которое может не только подспудно, латентно, неявно, невыраженно и несказанно присутствовать во взаимоотношениях христианских заказчиков и их языческих исполнителей, но и наглядно выражаться на уровне нового синтаксиса, новых отношений и новых композиционных структур, выступавших, фактически, как средство толкования. «Нейтральные сюжеты» просто даже в присутствии «открыто или предположительно» сюжетов христианских претерпевали «трансформацию значения»[531]. Подобное соседство христианских элементов сродни введению надписи христианского содержания, как это показывают другие образцы христианских саркофагов. И в случае простой композиционной комбинаторики механизм христианизации действует тот же: происходит прочтение элемента в его контексте, и это присутствие «читателя» – самое существенное условие успешной христианизации образцов, укорененных в прежней художественной традиции.
И это на самом деле процесс в истории искусства универсальный и типичный. Нечто аналогичное происходило в той же Италии в IV веке до Р. Х. по ходу усвоения местными италийскими вазописными мастерскими греческого опыта, когда использование известных образцов из прежнего «иконографического тезауруса» требовалось для «живописного выражения» новой – и местной – «мифологической ситуации». Готовые элементы – фигуры-персонажи – помещались в те или иные сцены, ситуации и контексты, каждый раз меняя свое содержание. Совершенно тот же «тип творчества», по мнению Дайхманна, действует и в III веке по Р. Х. Он заключается в «последовательном принятии и введении новых тем и персонажей … в уже прежде полностью сложившийся формальный тезаурус и в уже готовые образные заготовки без изменения их формального оснащения и структуры». Соответствующие «фигуры и группы фигур, то есть сцены, в тех или иных ситуациях, в своих действиях и жестах лишались не только своей идентичности, но и просто своего содержания, так что становилось возможным переносить на них тему, происходящую из иного контекста…»[532]. Таким способом получавшиеся сцены варьировались посредством добавления или просто включения следующих «заготовок», которые составляют и «элементарную базу», и даже сам фундамент изобразительной композиции раннехристианского искусства. Совершенно то же самое справедливо и относительно отдельных фигур, христианизация которых совершалась аналогичным образом на уровне их внутренней композиции. При этом внешне они оставались все теми же персонажами античной образности: юноша-подросток, молодой человек, зрелый бородатый мужчина, старец, рыбак, пастух, философ, девушка, зрелая дама, мать семейства, матрона. Результаты их христианизации – это всего лишь перетолкование, а не «инновация». Это касается и появляющегося впервые в начале III века образа Спасителя, Которого и в раннехристианской живописи, и в пластике трудно отличить от прочих персонажей, если не знать соответствующую евангельскую сцену и не узнавать ее участников. Другими словами, только знание евангельского события, иначе говоря, внехудожественная, чисто литературная компетенция пользователя (зрителя) наполняет то или иное изображение христианским смыслом. Фактически мы имеем «античное искусство, наполненное христианским вдохновением»[533]. И этот христианский дух веет именно на уровне композиции, создавая «на удивление новые конечные образы», при том, что материал композиционного творчества (фигуры, сцены, декорация) оставался в доконстантиновскую эпоху совершенно языческим, из чего нетрудно сделать вывод, что «не существует какого-то особого христианского вкуса»; христиане, ответственные за создание образов, отличались тем же художественным опытом и тем же вкусом, что и сосуществовшие и созидавшие бок о бок с ними язычники и иудеи. Новое искусство возникало именно в художественных мастерских, во взаимоотношениях заказчиков и художников, а не в кабинетах богословов, откуда исходили скорее иконоборческие, чем художественные тенденции.
В целом, доконстантиновское изобразительное искусство порождает особый тип композиционной структуры, связанный со стремлением концентрироваться только на самом необходимом, что не вызывает затруднений при восприятии. Это т.н. сокращенные сцены, сближающиеся в своей лаконичности с предметами прикладного искусства и с точки зрения семантики представляющие собой выражение аллегорического или символического значения, будучи по характеру своему знаками и пробуждая воспоминания о самых архаических образцах еще древнегреческого искусства. И только потребность в прямом иллюстрировании Св. Писания порождало и «распространенные», нарративные композиционные схемы, которые, между прочим, в своем стремлении к постоянному иконографическому саморасширению без труда выходили за пределы собственно библейского повествования.
И только эпоха Константина Великого осуществила переход от «античного искусства с христианской иконографией, смешанной с языческими элементами», к искусству все еще античному, но обладающему уже «чисто христианской иконографией»[534]. И совершенно не случайно, что подобная уже тотальная христианизация стала возможной лишь при появлении «освященного христианского культового сооружения». Итак, мы вновь вернулись к архитектуре, обеспечивающей своим присутствием целостность изобразительных структур.
И осуществляется подобная целостность последовательным удалением всех языческих элементов, а также столь типичных для предыдущего искусства помещенных по центру аллегорических фигур (Оранта или Добрый Пастырь) и замена их, соответственно, библейскими нарративными сценами и фигурой собственно Христа. Итак, избавление от фигуративного аллегоризма в сочетании с повествовательностью… Результат – превращение изображения в атрибут структуры большего масштаба, в структурный элемент сакрального пространства, в том числе и храмового, наполнением которого изобразительное искусство и становится. Прежняя изобразительная структура предполагала замкнутый, автономный «персонализм» иероглифической фигуративности, заключавшей в себе символику предстояния, наглядное представление и выражение молитвенного состояния. Эта символика не нуждалась в локализации, ориентации в пространстве, ибо она содержала его в себе…
Теперь же единству иконографическому соответствует и гомогенность формальных структур, на уровне той же композиции проявляющаяся в однородности, равномерности заполнения изобразительного поля. Впрочем, это качество нельзя рассматривать как единоличное достижение художников-христиан.
Но главное другое: непрерывно и плотно следующие друг за другом сцены с той же триумфальной арки императора Константина 315 года, когда фигура с предыдущей сцены начинает и следующую, отражают тот композиционный принцип, который призван был создавать «иллюзию континуума однородных событий», передавая таким способом «единый смысл событий священной истории как непрерывное Богооткровение»[535]. Несомненно, следует уточнить, что Откровение имеет свое непосредственное символическое отражение-воспроизведение в богопочитании, в том числе и в форме богослужения, так что пространство Откровения может конкретизироваться как пространство литургическое и вообще храмовое. Собирательно-унифицирующий же оттенок этого искусства противопоставляется пластике саркофагов еще и потому, что погребальное искусство по своей природе более индивидуально.
Другими словами, существуют два процесса в искусстве IV века: сложение христианской («универсально-библейской») иконографии и сложение иератической композиционной структуры, за которой стоит новое представление о Христе как не просто об учителе, законодателе, а как о Небесном Владыке, Космократоре и Пантократоре. Именно представления определяют новые композиционные структуры. Мышление выражает себя в построении изображения, ставшего отныне иератически-центрированным, имеющим в качестве своей середины образ Христа.
При этом следует непременно учитывать, что погребальное искусство саркофагов в данном случае является вторичным, отражая процессы, происходящие в монументальном искусстве, которое, к сожалению, от константиновских времен не дошло. Мы лишь косвенно можем о нем судить, например, из сообщений Liber Pontifcalis о серебряном кивории Латеранской базилики, изготовленном непосредственно по распоряжению Константина и, вероятно, не без его контроля. Вот откуда – из императорского придворного, т.н. репрезентационного искусства – берет начало новая «христологически центрированная композиция», отличающаяся именно наличием «в середине христологического события» и общим «иератически нарастающим единством». И там и здесь – образ владыки, но в случае с христианским искусством этот Владыка правит не только землей, но и Небом, которых Он Творец[536].
Наличие в некоторых сценах архитектурных мотивов, а не просто скрытых архитектонических качеств позволяет говорить о «месте действия» всех подобных сцен, которые происходят в трансцендентном измерении, в Небесном Граде. Но почему жизнь будущего века обозначается архитектурой? Не только благодаря апокалиптически-эсхатологической теме, но и непосредственно изобразительно-репрезентационно, как воспроизведение храмового пространства и его заполнения. Причем если прежде архитектурные мотивы обрамляли, охватывали фигуры, то более поздние композиции содержат архитектурную часть уже в качестве scene frons, как перспективный задний план, как «трансцендирующий проспект», как своего рода архитектурный комментарий для фигурной составляющей. Так что сама структура изображения вращается вокруг происходящего события, и потому «тематическое значение, то есть иконография, становится формообразующим началом»[537].
Но для нас более важным представляется то обстоятельство, что вышеописанная композиционная сценография имеет в виду архитектуру в качестве не просто виртуального – пространственного и тематического – «заднего плана», но и в качестве вполне реальной структурной парадигмы, отсылающей к столь же реальной сакральной архитектуре, имеющей в качестве своей «точки схода» апсиду, из композиций которой происходят почти все «центрические композиции» в той же пластике саркофагов.
Но еще существеннее тот момент, что сценографические образы представляют собой основу не только изображения, но и воображения, причем в динамическом его состоянии. Предстояние пред алтарем и Престолом – это особое состояние и тела, и души. И недаром центрически-иератические композиции – основа «образов поклонения», из которых происходит и иконный образ, как совершенно справедливо замечает Дайхманн[538].
Нам остается лишь обратить внимание на практическую тотальность сценографических метафор, касающихся, как мы видели на примере Краутхаймера, и структур когнитивных, обрамляющих внутреннюю «эпистемологическую драму» познающего сознания. Такого рода сознание желает оставаться в стороне и вовне происходящего в изображении и в воображении сознания верующего, то есть захваченного воспроизведенным – и потому актуализированным – событием Священной истории. Мнимая, сознательно воображаемая театральность происходящего создает иллюзию независимости наблюдателя, остающегося в «зрительном зале» научного подхода и уклоняющегося от присутствия в пространстве церковном.
Но обязательно ли понимание должно быть дешифровкой, а дешифровка – десакрализацией?[539] Это уже вопрос толкования, от которого никуда не деться, ведь изучаемый материал обладает трансцендирующей функцией, содержа в себе, таким образом, религиозные символы.
От изучения к истолкованию христианского искусства
Трансцендирующая функция изображения иначе именуется переносным смыслом, то есть «находящимся позади или над изображением»[540]. Применительно к христианскому искусству речь идет, фактически, о возможности воспроизведения Откровения, которое проявляется в Писании, точнее говоря, в истолковании священных лиц и событий, в Писании заключенных. Поэтому для изобразительного искусства переносный смысл оказывается, так сказать, дважды «перенесенным»: переносный смысл литературный, не буквальный, но словесно выраженный, воспроизводится визуально в качестве иллюстрации, скрываясь за ней и используя ее в качестве посредника. Но можно ли сказать, что скрытый священный смысл становится таким способом доступнее? Доступнее становится факт сокрытости. Можно сказать, что буквальный смысл священного изображения состоит в воспроизведении небуквальности чего-то большего. Иначе говоря, момент изобразительный оказывается совершенно необходимым, это обязательная оболочка, одеяние того, что незримо и малодоступно. Одновременно, оболочка может выступать и средством коммуникации, и инструментом интерпретации, комментирования священного смысла, ибо передача, перенос – это уже истолкование.
Но применительно к архитектуре ситуация усложняется отсутствием в архитектуре предметной изобразительности, при том, что для подхода, именуемого нами археологическим и представляемого, в том числе, Дайхманном, архитектура мыслится преимущественно со своей вещественной стороны, как предмет, обладающий, соответственно, предметным или буквальным смыслом. Она ничего не может обозначать, отсылать за свои пределы, то есть не может быть знаком, средством референции. Таковое свойство демонстрирует лишь изобразительное искусство. Поэтому про архитектуру нельзя сказать, что она подлежит толкованию. Она предназначена лишь для прямого восприятия, как всякий объект. Но стоит найти связь архитектуры и изобразительного искусства (мы этим уже занимались в предыдущих разделах этой главы), как сразу становится вполне доступной (хотя бы теоретически) герменевтика, экзегетика архитектуры.
Или, быть может, архитектура сама задает семантику изобразительного искусства, точнее говоря, его прагматику, выход в пространство, так сказать, окружающего мира? В этом случае архитектура как раз и оказывается средством коммуникации изобразительного искусства, его обрамлением, оформлением и собственно окружением, если не условием существования.
Попробуем разобраться в возможностях толкования христианского искусства как такового и затем найти в подобном толковании место и для архитектуры, то есть, искусства создания пространственных отношений.
Но главная проблема состоит в том, что для всей изобразительной традиции следует найти место в почти бесконечной традиции христианской экзегезы как таковой, где исторически существует, в частности, такое принципиальное различие, как антиохийское и александрийское богословие с их столь разными экзегетическими подходами. С одной стороны, буква Писания, с другой – безудержный аллегоризм. Что ближе архитектуре? Возможно ли совмещение?
Но как вписать изобразительную активность в традицию письменную? Только допустив в ней языковые аналогии или нечто их объединяющее. Таковым оказывается представление о христианском искусстве как о знаковом явлении: «изображения превращались в знаки ради более глубоких, более многослойных значений, на которые исторический образ лишь указывал»[541]. Но «знакоподобные образы сами могли становиться многозначными». И «наличие фонового значения» – специфическая проблема именно христианской археологии, хотя и классическая археология знает, что такое значение парадигматическое, аллегорическое и символическое. То новое, что принесло с собой христианство, – это значение типологическое, связанное с целой группой характерных темпоральных моментов, когда, во-первых, события прошлого указывают на будущее, на вещи, только должные произойти в грядущем. Во-вторых, эти события связывают земное и небесное, и делают это, в-третьих, в лице Христа и в обстоятельствах Его земной жизни (деяния и Жертва) и в проявлении Его небесного владычества. Это знак, то есть тип, исполненный в прототипе, то есть во Христе. Другими словами, типология связывает историю, планы бытия и указывает, а может быть, и готовит будущее Второе Пришествие, обращаясь в эсхатологию, имеющую в виду конечное и законченное, исчерпывающее и исполнившееся состояние. Типология образует буквально.
На самом деле толкование – самая «пререкаемая область», и причины тому не только в субъективизме многих исследователей, но и в природе самого материала, к которому – как ко Христу – могут вести разные пути, то есть методы, не исключающие друг друга, а дополняющие, так как соответствуют и разным установкам, и разным «положениям дел», включенным в один текст.
Кроме того, характерно для переносного смысла отсутствие точек пересечения с буквальным смыслом, а также наличие различных прототипов для одного символа, знака или притчи. Еще одно обстоятельство, делающее переносный смысл проблемным и парадоксальным, состоит в том, что правомерность разговора о переносном смысле, его допущение покоится на наличии у пользователя соответствующего знания. Он должен быть осведомлен о присутствии переносного смысла, а иначе этот смысл просто не будет существовать, в отличие от буквального смысла, чье значение заключено в изображаемых вещах. Но, даже и признавая переносный смысл, нужно помнить, что одно и то же изображение может толковаться и аллегорически, и тропологически и т. д. Что является критерием? Если стремится к некой объективности, то таковым основанием может быть только заказчик и сам художник, их мнение, намерение, интенция, включенность в ту или иную богословскую и экзегетическую традицию. То есть конкретный и индивидуальный опыт предварительного прочтения того или иного текста, в том числе и Писания. И условие существования и восприятия переносного смысла – это наличие «договора» (можно сказать, «завета» – Verabredung) между заказчиком и художником, с одной стороны, и зрителем, пользователем – с другой.
Фактически, именно пользователь задает условия функционирования визуального иносказания: последовательностью и результатами прочтения образа задаются соответствующие семантические «эффекты». Иначе говоря, толкованию подвергается то, что происходит в сознании зрителя-пользователя, каковым является сам толкователь, а не то, что наличествует в произведении, ему присуще и в него вложено. Можно сказать, что переносный смысл рождается именно в результате перцепции и усвоения (апперцепции) изображения, а не его изготовления.
А непосредственный механизм проявления переносного смысла поверх смысла буквального – это помещение изображения в контекст его использования. То есть именно прагматика как выход в дополнительные сферы, прилегающие зоны бытования и функционирования изображения, и является средством различения буквального и переносного значения, когда последнее, собственно говоря, понимается как переносное буквально: как переносящее внимание с изображения на иные контексты. Два топоса – буквальный и иносказательный – соединены тропом пользования, то есть применения и приложения образа. Такого рода подвижность образа как такового делает его нейтральным с религиозной точки зрения, приспособленным к использованию в разных конфессиональных средах, как это видно на примере Климента Александрийского, своей критикой практики украшения теми или иными изображениями тех или иных предметов выводившего из зоны христианского благочестия использовавшиеся христианами языческие образы. Они для этого богослова не становились автоматически христианскими, его индивидуальное восприятие способно было лишить их христианского, то есть легитимного, статуса. Причины такой «отзывчивости» на толкование кроются в первичной многослойности подлинного религиозного символа как такового: в нем можно активизировать разные слои, зоны смысла в зависимости от конкретной интенции, которая, повторяем, определяется прагматикой. Еще более адекватный способ описания структуры символа – восприятие его слоев, так сказать, по вертикали, как его разных пространственных планов, когда можно – согласно собственным намерениям – погружаться на ту или иную «глубину» толкования или останавливаться на том или ином расстоянии от его «передней грани». Мы можем не только заглядывать внутрь символа, представляя его как емкость, но созерцать его перед собой как некое зрелище, как сцену, состоящую из нескольких планов, частично перекрывающих друг друга и отчасти становящихся прозрачными под воздействием взгляда. Очевидно, что последний – пространственно-фронтальный – способ восприятия более соответствует архитектурной ситуации, в которой может участвовать и пользователь. Именно факт пользования, применения образа, прохождения некоторой смысловой дистанции делает его не только образом воспроизводящим, но и образом действия, с ним совершающегося. Другими словами, подобные образы становились христианскими сначала в руках и только затем в головах христиан. Сам по себе образ-символ «в себе не содержит указания на более глубокий, переносный смысл»[542], как резонно замечает Дайхманн, имея в виду, например, изображение рыбы, ставшее символом и Самого Христа, и Евхаристии[543].
Иными словами, восприятие такого рода символов связано не просто с пониманием, уразумением определенного значения, а с толкованием, выбором возможных значений из числа многих. И только такое толкование – согласно контексту – и станет актом понимания, когда, например, необходимо будет выбрать следующие значения изображения голубя: мир, Логос, Св. Дух, невинность, апостол, верующая душа, домашний уют и т. д. Итак, дополнительное значение существует за символом, над ним и внутри него, но каково оно – это результат взаимодействия контекста зарождения и сферы проявления символа, многозначного, неопределенного и небуквально по своей природе.
Тем сложнее обстоит дело в случае с более сложными изображениями, например, Доброго Пастыря или Оранты. Их толкование тоже связано с переходом между слоями и планами смысла. Крайне существенно, что эти планы могут и исключать друг друга, хотя их появление в христианской иконографии связано с очень простым актом непосредственного заимствования. То есть эти процессы рецепции фактически происходят не на уровне собственно изобразительного искусства и не в сфере богословия, а в области религиозной жизни как таковой, где оказываются задействованы значения общеэкзистенциального порядка, например, «стремление к мирному и блаженному посю– и потустороннему бытию»[544]. Это тот самый наиболее глубинный слой или наиболее задний план смысла, который един для любого религиозного контекста и формально-синтаксически, изобразительно проявляется в виде единой сцены, например буколической. Но сам тот или иной контекст возникает, когда изобразительный мотив разделяется на отдельные элементы (фигура того же пастуха), каждый из которых используется уже изолированно, превращаясь тем самым в аллегорию, то есть в способ манипуляции, оперирования смыслом через применение, использование отдельных изобразительных мотивов. Если же снять момент изобразительный, то тогда станет очевидным, что данный механизм действует во всяком архитектурном проектировании, связанном с комбинаторикой форм.
Рекомбинация форм может создавать новые – уже аллегорические – контексты, когда тот же пастух с овечкой на плечах будет означать человеколюбие как таковое. Это своего рода воссоздание смысла может совершаться на уровне литературной формулировки, а может представлять собой чисто фольклорные процессы. Первый случай дает более умозрительные, идеологизированные значения, второй случай касается аспектов народной психологии, то есть чего-то более непосредственного и непосредственного связанного с поведением. В первом случае имеют место быть смысловые отношения, мыслительные связи, во втором – речь скорее идет о состоянии прежде всего души, и, соответственно, чувства. Налицо, на самом деле, достаточно разнородные явления, объединенные общим механизмом аллегорических построений, в основе которых – система ассоциативных цепочек, насыщенных, в том числе, и аффективными явлениями.
И все это вместе – предмет христианской рецепции, в результате которой, повторим, получаются образы, лишь внешне ничем не отличающиеся от языческих, но по своему содержанию перегруженные дополнительными коннотациями, в том числе и не вполне осознанными. Заметим, что рецепция как таковая – это тоже не совсем простой процесс прямого заимствования и усвоения. За ним стоит пусть и не передаваемый визуально, но крайне важный процесс адаптации или, по крайней мере, перцепции, восприятия, что тоже есть акт риторический, а значит, аллегорический, связанный с использованием соответствующих фигур перцептивной «речи».
Но существенно другое: каково намерение, приводящее к использованию данных аллегорий, каков смысл, то ли требующий, то ли вынуждающий прибегать к ним? Дайхманн косвенно, но довольно лапидарно отвечает на этот вопрос, упоминая Откровение, действующее посредством освящающей благодати и «многообразными способами, в том числе и через значение “добрый пастырь”»[545]. Одновременно это значение, его появление в изобразительном искусстве в виде изобразительного мотива есть результат прочтения соответствующего места из Евангелия от Луки и плод сознательного выбора из череды прочих событий Священной истории и корпуса прочих образных мотивов. Этот выбор мог быть и другим, можно было бы вовсе от него воздержаться, как это предпочитал делать, например, Тертуллиан в свой поздний монтанистский период, подобно Клименту Александрийскому, подвергавшему жесточайшей критике практику использования языческих образов в христианской среде. В целом, мы имеем дело со «свидетельством веры», с желанием наглядно проявить «божество Иисуса», тем самым соединив контекст сугубо типологический с контекстом христологическим, в то время как в случае не с фресками, а с саркофагами Добрый Пастырь превратится в «психопомпа». Тем самым мы вновь сталкиваемся с многозначностью символа, у которого при разных обстоятельствах и в разных исторических условиях могут «зазвучать разные значения»[546].
Случай же с образом Оранты несколько усложняет ситуацию, потому как это уже прямая персонификация известных добродетелей и одновременно воспроизведение определенной ситуации – молитвы. Отсюда получается не только персонификация, например, Церкви, но и прямое воспроизведение духовного состояния и собственно человеческой души. Другими словами, та область, к которой отсылает такой вариант аллегоризма, оказывается не просто набором умозрений и идей, но самой жизнью, причем в ее наиболее специфических, особых проявлениях.
Следующий уровень усложнения достигается в том случае, когда изображаются, иллюстрируются определенные эпизоды Писания. Этим сценам можно приписать и аллегорический, и символический, и типологический, и нарративный, и даже непосредственно богословско-догматический смысл, но главное другое: эти сцены – примеры Божественного делания, перед которым бледнеют все и умозрительные, и изобразительные возможности человека. Изобразительное искусство в данном случае не способно воспроизвести, передать то самое, что стоит за теми или иными примерами Божественного вмешательства. А стоит за ними – собственно Божий промысел, Божественный замысел, превращающий любое событие в часть общего потока Откровения. Как добраться до такого уровня смысла? Исключительно через привлечение сверхизобразительных отношений, которые обеспечивает архитектура, сакральное пространство храма, определяющее все частные способы и варианты взаимодействия отдельных изображений, их группировку, чередование, сопоставления, противопоставления, повторения и проявления. Иначе говоря, храм обеспечивает динамическое место, которое и определяет, а точнее говоря, устанавливает, то есть утверждает значение конкретного изображения внутри единого изобразительного убранства храма. И восприятие этих образных отношений порождает в сознании тоже систему отношений, но уже ассоциативных: там – череда сцен, здесь – цепочка ассоциаций, образующих внутренний эквивалент внешнего храмового пространства. Храм материальный способен – при участии изображений – возводить основание духовного святилища, в которое вмещается вся полнота смысла, вращающегося, на самом-то деле, вокруг одного центра – Таинства, будь то Крещение или Евхаристия.
В общем же виде действует следующее правило касательно переносного значения: это изобразительное значение «зависит от той области, в которой оно (изображение) возникло»[547]. Но у нас нет права «заранее признавать, то есть считывать, одно и то же значение в одних и тех же изображениях, если они происходят не из одних и тех же областей». Более того, следует признать, что «та или иная семантическая традиция складывалась применительно к определенному контексту, прежде всего к тому, что связан с назначением сакрального сооружения»[548]. Мы очень давно ждали этого признания от Дайхманна, и вот – получили, чтобы тут же почти что лишиться его в следующих уточнениях. Дело в том, говорит Дайхманн, что существуют такие значимые контексты, которые, став почти что обычаем, уже не воспроизводят приписанные им первоначально значения. Это означает, что, например, когда сцены располагают способом, ставшим уже традиционным, то никаких дополнительных мыслей к этому не примешивается. Сложившаяся традиция способна лишь воспроизводить первичный смысл, но никак не развивать его и, между прочим, никуда не переносить. Поэтому когда язычески-мифологическое изображение подвергается христианизации посредством аллегоризации, то тем самым оно вовсе не становится сразу же христианским.
Как же получается собственно христианское искусство? Ответ на этот вопрос можно получить вслед за Дайхманном, рассматривая порядок расположения фронтальных сцен т.н. фризовых саркофагов начала IV века. Изобилие ветхо– и новозаветных сцен, их регистровое расположение – все это позволяет предполагать их скорее повествовательный, чем дидактический характер и последовательное развертывание смысла, что отличает их от композиций саркофагов III века, где вокруг центрального медальона сцены группировались достаточно произвольно и случайно. Здесь же местоположение каждой сцены соотнесено с соседними сценами, они все ориентированы на плоскости, и их единство формирует трехмерную смысловую структуру высшего порядка, некое пространство, которому соответствует и некоторый объединяющий смысл или аллегорического, или чаще типологического свойства. Причем, что очень существенно, одни и те же сцены при разном соседстве, то есть контексте, приобретают новый смысловой оттенок. Другими словами, взаимодействие сцен создает или предполагает пространство взаимодействия, которое и порождает (или выявляет) дополнительный смысл. Налицо стремление к сверхъединству, сверхпорядку, сверхконтексту, которое обеспечивает опять же одна только архитектура.
Но что же за смысл получается в результате, и откуда он берется? Повествовательный характер этих «отчасти сознательно сгруппированных и приведенных в соответствие друг с другом» сцен, их единство на уровне сообщения свидетельствует, что перед нами «непрестанно возобновляющееся и многообразное обнаружение Священной истории», в том числе и как «парадигма спасения отдельной души»[549]. И несомненно происхождение этого иконографического и композиционного принципа из несохранившихся монументальных росписей тогдашних церквей, то есть из «церковного искусства» в буквальном смысле слова – искусства, заключенного в церковном здании.
По сути, это церковное искусство становится на рубеже IV-V веков искусством украшения, убранства церковного сооружения, его стен и сводов посредством живописи и мозаики, а также искусством украшения предметного убранства, литургических сосудов и т.п. И проблема толкования смысла этих сооружений становится не просто сложнее, но и более многоаспектной, более многослойной и, соответственно, требующей большего проникновения и проницательности. Возникают изобразительные циклы, представляющие собой прямое указание на такое значение, что присутствует в качестве обязательного фона, на котором выстраиваются значения как отдельных изображений, так и целостного контекста, их определяющего, ключом к ним являющегося и от них, в свою очередь, получающего уточнение. И если уж говорить о смысловом, так сказать, «сверхфоне», то таковым оказывается необыкновенно развитая к тому времени патристическая экзегеза, не имеющая, правда, прямого эстетического выхода в искусство хотя бы на уровне теории, что справедливо и для догматических достижений рассматриваемой эпохи.
Особенно это касается типологического значения, прямо построенного на сопоставлении, соотношении и соотнесении сцен, расположенных в пространстве, задающем своим строением и, так сказать, настроение, то есть характер взаимоотношения типа и архетипа, которые, в свою очередь, представляют собой образы соответствующих событий. Именно они являются, строго говоря, «носителями значений», источниками смысла, переходящего посредством Слова и Писания из пространства исторического, временнóго в пространство храмовое, сохраняя главное свое качество – действие, обнаруживающее себя в сценах. Последние представляют собой фактически отдельные лексемы, так сказать, образы места и действия, изобразительные «наречия».
Более того, сама храмовая архитектура оказывается сценой, то есть местом действия, которое активно перестраивает значение тех изобразительных сцен, что на нем (и в нем) выстраиваются. Это касается прежде всего такого существенного, значимого и значительного элемента христианской базилики, как триумфальная арка, обрамляющая алтарную апсиду. Хотя и сама базилика – это тоже целый семантический мир, строго организованный с точки зрения пространственных связей. Отношение пространства нефа и триумфальной арки (то есть места) – это своего рода генеративная и трансформационная грамматика, регулирующая процессы смыслового плана. Помещенные на стенах нефа ветхозаветные сцены имеют не просто продолжение в новозаветных сценах триумфальной арки и апсиды; образы значимых событий находят свое завершение и исполнение в лице Христа. Типы соединяются с архетипом, совмещаются в Нем и Им обогащаются. И возможным это становится именно благодаря форме арки и ее функции. Значение типологическое преображается в значение прототипологическое, прямое – историческое – значение прелагается в сверхсмысл типологический, и происходит это опять-таки событие – но уже в мире смысла – в пространстве триумфальной арки, внутри ее пространственно-пластического синтаксиса. Фактически, перегруппировка сцен – уже вариант интерпретации Св. Истории, и совершается она на «сцене», образуемой аркой, что не случайно хотя бы по двум причинам: арка – это и апогей, кульминация и завершение собственно пространства храма и одновременно граница, порог иного мира, явленного в пространстве алтаря. Архитектура оказывается средством экзегетического прочтения и онтологического комментирования. Что же объединяет эти значения и регулирует все эти пространства? Дайхманн отвечает на этот вопрос довольно прямо, указывая на всяческое подчеркивание «Евхаристического значения» практически всех сцен, за которым скрываются вопросы христологии[550].
Мы вслед за Дайхманном пользуемся пространственными метафорами, говоря о «более глубоких» значениях, о «множественности задних планов», почти не отдавая себе отчет в том, что мы описываем вполне реальную архитектурную среду, в которой «запечатлеваются» события и факты Св. Истории, выступающие, в свою очередь, строительным материалом для возведения «здания богословской мысли»[551]. И наиболее существенно то, что многомерность пространственно-литургическая происходит из «многослойности» как раз богословской экзегезы Св. Писания, где переплетаются и соотносятся планы предвечного бытия плана спасения, проявления его в Ветхом Завете и осуществления, реализации его в Новом Завете. Подобная трехмерность экзегетического взгляда делает всякое историческое событие потенциально усложненным для толкования в зависимости от конкретной его связи и местоположения в ряду ему подобных. Иначе говоря, модусам Откровения соответствуют модусы толкования и планы или, лучше сказать, измерения в пространстве смыслового воздействия образов.
А ведь именно воздействие – цель всех подобных циклов, что подчеркивает Дайхманн. И, всматриваясь в это визуальное богословие с точки зрения именно воздействия, то есть прагматики, нетрудно продолжить эту многообещающую трехмерность, трехчастность, например, в сторону триады перцепции, чувства и знания, уложив в нее или наложив на нее всю конкретность архитектурных форм и получив в результате столь же конкретную формальную типологию и благочестия, и мировосприятия. Но, как мы уже не раз говорили, данная иконологически-герменевтическая перспектива выходит далеко за пределы как археологии, так и иконографии. Хотя именно в рамках этих подходов становится особенно проблемной вышеописанная многочастность и многомерность, принципиальная неоднозначность и смысла, и его толкования…
Хотя, как это замечательно показывает Дайхманн, именно чувствительность к буквальному смыслу позволяет той же археологии улавливать все его трансформации и переходы, которые могут быть вызваны и чисто изобразительными средствами, правда, вкупе с архитектурными. Это замечательно видно в системе мозаического убранства Сан Аполлинаре Нуово в той же Равенне, где смысл изображений напрямую уже не связан с текстом Писания, но непосредственно происходит из него, выходит, излучаясь и получаясь в результате сознательной перегруппировки событий и фактов Св. Истории, превращаемой в актуальное сверхнастоящее Литургии, открывающей сверхсмысл сверхреальности Божества. И все это можно увязать с соответствующими зонами Евхаристического пространства, прежде всего алтаря, так что получается система «указаний на воскресение мертвых и вечную жизнь»[552]. Парадокс – и еще один повод задуматься над проблемами смысла – заключается в том, что только что сформулированное значение является переносным с точки зрения изображения, но, попадая или, лучше сказать, обнаруживая себя внутри литургического контекста, оно становится значением буквальным: именно это и значит Евхаристия, хотя и она имеет свои выходы в следующий смысловой план, оставляющий далеко позади сугубую изобразительность зримых вещей и образов…
Для нас существеннее оказывается определение этой семантической структуры как «типологически-эсхатологическое значение сравнения», то есть притчи, параболы, где, как уже не раз указывалось, смысловой изоморфизм, семантическая переходность от буквально-исторического к аллегорическому и тропологическому уровню представляет собой не просто возможность, но конкретную реальную функцию изображения (и текста, лежащего в обязательном порядке в его основании). Изображение содержит в себе в свернутом виде целый дискурс, развертка которого в процессе усвоения, кроме всего прочего, порождает и соответствующую иконографическую последовательность, как это весьма тонко отмечает наш автор[553], указывая, между прочим, и на то немаловажное обстоятельство, что иконография, тем не менее, не затрагивает глубинных измерений смысла, так что и в арианском сооружении мы найдем изображения, ничем не отличающиеся от православных по внешним параметрам. Только в сознании воспринимающих – напомним еще раз – совершается процесс толкования, восприятие в свете того или иного учения или доктрины.
Следующий этап слияния сакрального изображения и сакральной архитектуры – это мозаики Сан Витале, где «речь идет уже о цикле, составленном строго по осевым направлениям архитектуры и состоящем из групп, выстроенных, в свою очередь, из отдельных фигур, персонажей и сцен»[554]. Более того, архитектонизм проникает и внутрь библейских сцен, представляющих отдельные события, слитые, тем не менее, в одну единую сцену – не без участия «пейзажного контекста». Тем самым снимается всякая историчность, и смысл сцен становится доступным лишь благодаря осведомленности во вторичном сверхзначении, происходящем из Священной истории, то есть, фактически, из сверхистории, имеющей, таким образом, определяющее значение (тавтология здесь неизбежна – на уровне дефиниций, во всяком случае).
Архитектурность и архитектоничность изобразительного ряда определяются двояким образом: во-первых, отдельные элементы и членения архитектурного целого (прежде всего стены и своды) оказываются буквально носителями изобразительного убранства, а переносно – и заложенного в изображении смысла; во-вторых, общее построение изображений подчинено основным размерностям архитектурного пространства, в первую очередь распределению по трем ярусам, соответствующим трем этажам храма (нижняя зона, зона эмпор и зона сводов). И это не просто этажи (конструктивный аспект) и не только зоны (пространственный аспект), но и «области», заключающие в себе аспект уже символический. Так, например, о сводах и о апсиде можно говорить, что это «область Неба», а в целом изобразительные построения, соответствующие данностям, например, патристической мысли, «следуют за архитектурой и тем самым (выделено нами – С.В.) образуют преображенное в реальность интеллектуальное здание»[555]. И этот образ здания следует понимать буквально: изображение не просто сравнивается с сооружением, последнее, можно сказать, сравнивает изображение с собой, будучи самой настоящей метафорой, инструментом выстраивания смысла, сооружения некой семантики, подчиненной логике возвышающей трансформации, если говорить в самых общих понятиях, отражающих те символические универсалии, которые действительно общие у изобразительного и у архитектонического образа.
Действительно, первый ярус – это Ветхий Завет, это типология и зеркало событий прошлого, в котором отражается грядущее. Это семантика в модальности ожидания, предчувствия и пророческого предвосхищения. Осуществление Обетования – Новый Завет второго яруса, изображения которого подразумевают символизм актуальности и реальности Божественных деяний, выраженных образами евангелистов (Матфей – Воплощение, Лука – Страсти, Марк – Воскресение, Иоанн – Вознесение). Наконец, своды третьего, уже апокалиптического яруса – это «указание на мир иной, отчасти и на эсхатон, на последние времена»[556].
Но за этой наглядной космологией и сотериологией стоит и более конкретная сакраментальная семантика, связанная с Евхаристической темой, влиянием римского литургического устава и Sacramentarium Leonianum. Но прямой и непосредственной зависимости между текстом и мозаиками обнаружить невозможно. Скорее можно говорить об общих и для литургических текстов, и для изображений богословских представлениях, в которых укоренено и то, и другое. Искусство и Литургия имеют общее духовное основание, единое смысловое звучание. Применительно к Сан Витале этот единый контекст описывается так: «Действие Св. Истории, указание на явление Спасителя, осуществление обетования в Самом Христе, Его Второе Пришествие и Его Предвечное Царство»[557]. Нетрудно заметить, что подобная программа – это символизм Дома Божия как такового, и потому упоминавшимся выше единым основанием искусства и Литургии, их общим пространством как раз и будет церковная архитектура.
Из анализа изображений апсиды нетрудно сделать вывод, что именно архитектура как целостная структура задает не просто тему Апокалипсиса, но саму ситуацию, состояние последних дней (состояние – это нерасчлененный опыт переживания). Изобразительность этой ситуации, возможность ее иллюстрирования – это уже признак состояния визионерского. Изображением формируется состояние видения. Другими словами, без архитектуры общие понятия лишены были бы своего воплощения, они не были бы общими у всех молящихся, оказались бы буквально не у места.
И именно архитектура организовывает восприятие, усвоение, просто встречу с изображениями в определенный момент, в определенном месте и в определенном состоянии. И благодаря подобной собирательно-символической функции архитектуры оказывается возможным соединять разные экзегезы, создавая сверхтекстуальную семантику, включающую в себя, например, и традицию толкования Апокалипсиса как образа Предвечного Царства, и Второго Пришествия. Другими словами, толкований может быть несколько, так как существует единовременная возможность нескольких различных «смысловых задних планов одной единой изобразительной композиции». И устойчивость, константность, и постоянная востребованность и действенность этого «заднего плана» – результаты воздействия архитектурного (пространство) и архитектонического (композиционная структура) контекста, который есть тоже «задний план», но уже изобразительности как таковой. Архитектура, повторим, не просто поддерживает изображение, не просто является условием его функционирования. Она пользуется изображением, достигая добавочного смысла, который на самом-то деле существует как проявление собственно архитектурного смысла, связанного с присутствием перед некоторым Богооткровением и с участием в некотором теофаническом событии. Благодаря архитектуре и само изображение, и изображаемые предметы, события и т. д., становятся актуальными, то есть действенными и действительными, оказывающими воздействие на созерцателя, который, в свою очередь, исполненный действия, сам оказывает обратное воздействие на образы, воспринимая их и истолковывая, становясь тем самым участником происходящего здесь и сейчас.
Но, по словам Дайхманна[558], существует и иная – более сложная – проблема толкования, и представлена она в полной мере в другом ансамбле Равенны – в Сан Аполлинаре ин Классе, где имеет место быть прямое и сознательное использование образной символики для выражения и одновременно изъяснения предзаданного, то есть заранее сформулированного, богословского смысла. Речь идет о наделении евангельского события (Преображения) «символико-аллегорической формой», за которой стоит «многочастная и интенсивная богословская экзегеза Преображения не столько западной, сколько восточной патристикой». Но, описывая апсидальную композицию и приписывая ей «многослойный смысл», Дайхманн подобное «символическое изображение» обозначает довольно знакомым для нас и характерным способом, говоря, что оно представляет собой «зеркало» вышеупомянутой экзегезы.
Куда девался методологический пуризм, лексическая лапидарность и терминологическая строгость нашего автора? Откуда такая метафора и что она значит, кроме простого оборота речи? Видимо, перед нами пример своего рода методологической симптоматики: образ зеркала возникает всякий раз, когда случается затруднение в толковании. Это пример механического образа, т.н. естественного, не зависящего от человеческого сознания автоматического отображения, отпечатка, который как действие, как даже процесс не несет в себе дополнительного смысла. Можно сказать, что в том случае, если интерпретатор не желает быть таковым, стремится воздержаться от, так сказать, соучастия в смысле, то тогда он и прибегает к такому «зеркальному» приему. По всей видимости, в данном случае Дайхманн стремится избежать роли (или участи) богослова. Посмотрим, по силам ли археологу такого рода воздержание и не отражается ли в зеркале данного приема сам интерпретатор?
На самом деле, конечно же, участь богослова неизбежна при такового рода материале, и вопрос заключается в степени этого самого участия и в месте, занимаемом богословом-искусствоведом. В чем же сугубо богословская проблема и как она касается проблем историко-художественных, в частности проблем архитектурной семантики?
Фактически, переходя к богословию, мы переходим от интерпретации изображения со сценой Преображения, к толкованию самого Преображения, в частности беседы преобразившегося Христа с Моисеем и Илией об исходе в Иерусалим. В чем Слава Христа? Ответ традиционный, восходящий к св. Иоанну Златоусту и Кириллу Александрийскому, имеет в виду славу грядущих Страстей и Воскресения. Но почему тогда Крест изображен парящим на фоне звездного неба? Потому что это изображение уже Христа, Вознесшегося на Небо вместе со своими спасительными страданиями, вместе со Своей Жертвой, символом которой является Крест. Иначе говоря, изображение иллюстрирует не евангельское событие, а собственно толкование события, его восприятие глазами богослова, для которого-то Крест присутствует уже в Преображении и которому важно, чтобы всякий верующий узрел Славу Господню столь же зримо, как и апостолы, и уяснил себе смысл события столь же ясно, как и автор программы.
И стоит особо обратить внимание на то обстоятельство, что подобное двойное по своей семантике изображение, сочетающее евангельское событие со вневременным и даже сверхэсхатологическим состоянием, возможно только в апсиде, за которой закреплен соответствующий смысл. Это и предел богослужебного пространства, и его средоточие, и его возвышающее преодоление в акте молитвенного поклонения. Другое дело, что проблема усложняется обстоятельством чисто исторического порядка: реальным видением Креста на небе в 351 году. Таким образом, данная композиция представляет собой воспроизведение, точнее говоря, обозначение сразу нескольких областей смысла, смысловых пространств, вращающихся вокруг Креста. В их числе – результаты богословско-экзегетического созерцания (идея вечного предсуществования и т. д.), аллегорическая образность (знак Иисуса Христа) и историческая событийность (реальное чудо-знамение). Замечательно в этой связи замечание Дайхманна, которое можно считать итогом всех его рассуждений: невозможно и не нужно стремиться выбрать какое-либо одно толкование, принять одну экзегетическую перспективу. Каждый раз требуется решать заново, какой аспект смысла существен в данный момент. Иначе говоря, важно определить, истолковать этот самый момент, связанный с состоянием самого интерпретатора.
Итак, как уже говорилось, важно различать смысл самого события и смысл его воспроизведения. Полнота толкования охватывает оба этих аспекта-измерения, хотя методологически важно переходить от одного уровня к другому, используя, между прочим, разные подходы, начиная с простого интеллектуально-когнитивного усилия, способного отчасти реконструировать первоначальный, интендированный, «заложенный» смысл. Но это будет уровень собственно изображения. Как можно достичь того первичного и одновременно конечного уровня видéния-откровения? Только если четко встать на позицию зрителя-соучастника, который не может ограничиваться одним уровнем, подходом, заключенным в рассматривании и размышлении. Его способность к сопереживанию и сочувствию предполагает позицию созерцания, через которую можно достичь и уровня собственно визионерского.
Поэтому последовательность рассматривание – созерцание – видение – это: 1) этапы приближения к первоначальной ситуации; 2) степени усиления реальности и ее трансцендирования; 3) уровни участия, включенности, захваченности действительностью, то есть задействованности зрителя в происходящем перед ним и, главное, вокруг него, а может быть, и в нем самом. Нетрудно узнать в этих триадах известную схему молитвенного созерцания-восхождения (lectio-meditatio-contemplatio), а главное – порядок приближения к пространству и архитектуре.
Проиллюстрируем эту несколько расширенную нами идею Дайхманна его же собственным примером – мозаиками Мавзолея Галлы Плацидии в той же Равенне. Речь идет об изображении Креста на фоне усеянного звездами неба с характерными апокалиптическими облаками в сопровождении апокалиптических зверей и апостолов Петра и Павла. Крест вытянут на восток, то есть имеет специфическую литургическую ориентацию, следует «литургической направленности постройки». Один даже золотой цвет Креста говорит о визионерском характере изображения, о воспроизведении, как тонко замечает Дайхманн, «процесса восхождения», направленности, заданной и задаваемой именно Крестом, образ которого – и это самое существенное – воспроизводит основные направления здания. Примечательно выглядит итоговая характеристика композиции, которая «представляет то самое появление знамения Сына Божия на Небесах, которое, согласно Евангелию от Матфея, непосредственно предвосхищает пришествие Господа»[559]. Изображенные апостолы приветствуют Христа, а животные – это Его сопровождение. Так что перед нами все аспекты, модусы причастности к этому событию через подобное изображение. Но какова смысловая функция архитектуры? Для ответа на этот вопрос обратим внимание на многочастность только что воспроизведенной дефиниции, состоящей, по крайней мере, из следующих «степеней защиты» смысла: 1) воспроизведение; 2) появление; 3) знамение; 4) согласно евангельскому тексту…
Именно архитектура превращает эти барьеры на пути к смыслу в аспекты, стороны, измерения, векторы единой, ставшей многомерной и многогранной среды, в которую помещен зритель и через которую он как раз и приобщается ко всем вышеобозначенным аспектам. Они превращаются в его собственные состояния, и происходит это потому, что обеспечивается непосредственный доступ, зритель становится соучастником этих событий, – если он участник богослужения. И это, как нам представляется, является главным свойством той архитектуры, которая способна интегрировать и трансцендировать чисто визуальные переживания в целостный опыт теофании: она имеет в виду реального человека, причем не только в его когнитивных, но и в сугубо телесных и экзистенциальных, а значит, и сакральных характеристиках.
На уровне собственно визуальной герменевтики совершенно справедливы наблюдения Дайхманна о том, что при соответствующем рассмотрении ни один элемент изображения не должен противоречить другому, но лишь подтверждать его. Но это возможно, если мы будем отталкиваться не от «литературной экзегезы», а от самого изображения как единого контекста «значимых элементов, то есть носителей значения, <…> из собственной образной традиции происходящих и в ней развивающихся»[560].
Вначале происходит реконструкция значимых элементов, а затем из них выстраивается, то есть конструируется, уже здание актуального смысла, который, таким образом, оказывается делом интерпретатора, захваченного происходящим и потому таковым себя, можно предположить, не осознающего.
Стилистика и изобразительность раннехристианского искусства
Но кем осознает себя творец такого рода искусства? Можно ли воспроизвести самосознание раннехристианского художника? Если мы в силах описать и осознать стиль этих творений, то косвенно станет понятным и тип творчества, а отсюда – пара шагов и до понимания творца, если таковое понятие уместно в данных, так сказать, эстетических условиях.
Но Дайхманн далек от этого, и разговор о стиле сводится у него к стилю изобразительному, то есть к набору средств представления изображаемого предмета. Весь вопрос состоит в том, что считать и что выбирать этим предметом. Именно это волнует археолога, а вовсе не то, кто считает и кто выбирает. Весьма тонкие и порой решающие наблюдения за стилистикой ведутся на принципиально безличностном, как мы увидим, уровне. В целом же, скажем сразу, именно проблема стиля выдает, по-видимому, наиболее сокровенные – даже не концептуальные, а именно методологические и, более того, эстетические – позиции Дайхманна, его собственные предпочтения, связи и зависимости.
И поэтому, пытаясь объяснить новые стилистические явления, ознаменовавшие приход нового – христианского – искусства, Дайхманн начинает с самого фундаментального: с отношения образца и его отображения, указывая на «решающее изменение» в этих отношениях, заключенное в том, что не подражание природе есть цель и художественная задача, а воспроизведение «идеи образца»[561]. В средоточии творческого процесса теперь заключено не отображение природного или индивидуального характера и не идеализация природы, а «представление, типическое, постоянное, идея». Центр тяжести смещается с формального на содержательное, на значение: «“что” становится важнее, чем “как”». Форма подчиняется значению, и последствия этих перемен глубже всего проявляются в стиле изображения.
Признаки этих стилистических изменений – отказ от «естественных связей», то есть от воспроизведения предметов в их «естественном соседстве и соприкосновении», отказ от естественных пропорций человеческой фигуры и подчинение ее «отношениям, иератически выстроенным внутри образного целого»[562]. Вместо движения – застылость или фронтальная самопрезентация, соединение фигурных групп или рядов в т.н. центрическую композицию. Другими словами, «идеизм» вместо «симилизма».
Последние понятия взяты из терминологического репертуара Пауля Франкля, чья методология, как выясняется, оказывается единственно приемлемой для Дайхманна. Это тем более примечательно, что демонстрируемые на протяжении всей книги нашим археологом концептуальный пуризм и методологическая разборчивость с трудом сочетаются с весьма специфической и порой экзотической теорией искусства Франкля[563]. Но тому есть причины, и их мы попытаемся обнаружить, сперва чуть углубившись в стилистические разыскания Дайхманна, верно следующего заветам лучшего ученика Генриха Вельфлина.
Характеризуя раннехристианскую пластику, Дайхманн указывает на исчезновение пластичности, на ее даже «полный упадок», на плоскостность, линеарность, на потерю пространственности. Уходит природно-растительный орнамент, его место занимает орнамент геометризированный, который начинает полностью покрывать изображение, подобно ковру. Орнаментализм и, соответственно, схематизм открывают возможность чисто формальным и при этом синхронным вариациям внутри общего мотива-узора, так что невозможно уже говорить о последовательной смене стилистики, то есть о стилистическом развитии. Но тем не менее, это не означает исчезновения «классического искусства», традиции римско-эллинистического художества, элементы которого сохраняются в виде, например, т.н. цезурной композиции, соседствуя порой в одном памятнике с элементами новой ориентации и представляя собой своего рода классические «цитаты», не предполагающие стилистического единства произведения. Дайхманн замечает, что именно такого рода удержание в художественной памяти прежнего стиля, сохраняющаяся стилистическая двойственность порождали постоянно возобновляющиеся ренессансы и классицизмы. Время от времени происходил сознательный отказ от вышеперечисленных свойств именно позднеантичного искусства ради возврата в прежние эпохи, что, как замечает Дайхманн, вообще было свойством римского искусства как такового с его ретроспективизмом. Причем эти возвраты могли подразумевать не только вкусовые приоритеты, но и предпочтение тех или иных стилистических элементов как просто определенных тем, как моделей, за которыми стояли, естественно, и иконографические мотивы, вставляемые внутрь готовых композиций.
Но самое главное другое: эти стилистические контрдвижения ни в коем случае нельзя рассматривать как нечто спонтанное. Их мотивация сугубо интеллектуальная, определяемая «внехудожественными силами», просто – «идеологическими мотивами», которые всегда – пусть и на заднем плане – дожидались своего часа, оставаясь тем самым постоянно актуальными, принадлежащими настоящему, а не прошлом у.
Но тем не менее, общие свойства позднеантичного искусства обладали фундаментальным, структурообразующим характером, что особенно видно в портретном искусстве – этом преимущественно римском феномене с его сугубым реализмом, от которого теперь не остается и следа. Рождается новый тип портрета – «идеический» (выражение Франкля), для которого характерно изображение не отличительных черт человека, а его функций, его места в Божественном миропорядке, когда над человеком постоянно возвышается вечно действенная идея.
Но что это за идея? Нельзя ли ее как-то конкретизировать? Нетрудно заметить, что место и функция – это даже не признаки, а структурообразующие принципы вполне определенного искусства, искусства строительного, с особым напором и смыслом переносящего свои качества в данную эпоху на искусства, ему пока еще подчиненные, хотя и более изобразительные. Мы снова подмечаем в характеристиках Дайхманна латентную архитектурность и архитектоничность, так сказать, «идею архитектуры», ставшую идеей изобразительной, то есть, фактически, эйдосом.
Может быть, именно подобная скрытая фундаментальность позднеантичной художественной ситуации, выражающая себя на поверхности в виде стилистических явлений, заставляет Дайхманна уделить особое внимание именно методологии, в том числе и проблемам понятийным и терминологическим, что он сам особо подчеркивает[564].
Главная из проблем – это неизбежный пересмотр модели стилистического развития искусства, которое в данную эпоху обнаруживает не просто усложненность, но скорее многосложность, многосоставность стилистической ситуации. В этом случае исключается устоявшееся и довольно удобное представление о развитии однолинейном и однонаправленном, от одного полюса к другому (от абстракции к природности, от живописного к линейному, от оптического к гаптическому, от аддитивного к дивизивному и т. д.). Такой подход только искажает картину позднеантичного искусства и затрудняет его понимание. Вместо него следует видеть множественность формообразования, многослойность стилистических явлений в рамках единого исторического периода. Тогда последовательность и целенаправленность стилистического развития будут возможны исключительно внутри определенного круга явлений, принадлежащих общей формальной традиции или просто мастерской. Но не более того: искусство целиком – это «переплетающееся многообразие», причины которого заключены в том, что данная эпоха заключает в себе одновременно и процессы новые, и процессы завершающие. И на подобную ситуацию накладываются разнообразные стилеопределяющие факторы, происходящие из разных областей жизни и из разных слоев общества. Но главное – другое: стиль определяет «образное содержание и его глубинное значение», то есть внехудожественные факторы – идеологические и теологические. «Форма служит уточнению, а также и упорядочиванию содержания согласно его рангу».
Итак, многослойность и многоаспектность стилистических явлений позднеантичного искусства, частью которого является и раннехристианское искусство, наличие многообразных корней и истоков в более раннем времени – все это требует особого структурирующего подхода, который археология в лице Дайхманна заимствует у того же Франкля с его детально разработанной теорией стиля. Стиль – это явление, прежде всего обладающее своим строением, структурой, иначе говоря, синхронией, позволяющей исследователю делать своего рода стоп-кадр, мгновенный снимок, поперечный срез стилистического явления и обнаруживать его составляющие, то есть элементы, узловые точки, которые, впрочем, как раз благодаря теории известны заранее. Элементы стиля («частные стили»: здесь и далее – терминология Франкля) распределяются по таким параметрам, как «дивидуальность» (система членения произведения), «визинальность» (система распределения изобразительных элементов по основным осям) и «фигуральность» (термин говорит сам за себя). Причем для раннехристианского искусства, по мнению Дайхманна, характерны процессы, происходящие преимущественно в первых двух аспектах изобразительности, стилистическая активность в зоне фигуральности – черта преимущественно «народного», то есть низового, искусства, которому противостоит искусство элитарное[565]. Но куда существеннее и глубиннее стратификация стиля не просто социальная, а с добавлением культурно-исторических аспектов, когда можно говорить и о т.н. субантичной культуре (нижние зоны народной жизни, не затронутые собственно античной цивилизацией), а также и о «предантичной» (культура внеантичного варварства). Нельзя забывать и о собственно эллинистическом элементе. И все это внутри того, что обозначается одним понятием – «римская античность», от которого поздняя античность отличается одним, но крайне принципиальным свойством: теперь все подобные скрытые и подавленные течения выходят на поверхность, уже не сдерживаемые унитарным официальным искусством Империи, игравшим прежде роль «нормативного масштаба»[566].
Но как сосуществовали эти многоразличные стили в реальности художественной жизни? Понятно¸ что они затрагивали все искусство целиком, так что вышеописанная стилистическая структура накладывается на видовую структуру искусств, причем вновь приходится выделять особое положение и функцию архитектуры, выступающей – на уровне отдельной постройки – в качестве именно места встречи и пространства взаимодействия стилистических явлений[567].
Но тогда возникает законный и неизбежный вопрос: если архитектура способна вмещать в себя различные стили, не является ли она сама – хотя бы на уровне строительной практики как таковой – чем-то «сверхстилистическим»? Или, быть может, наоборот, каким-то таким уровнем, который предваряет и предвосхищает последующую стилевую дифференциацию? И что дает архитектуре подобная, так сказать, «субстильность»? И на каком уровне постройка обходится без стиля и когда включается (и какими своими элементами) в подобные стилистические «игры»?
Дайхманн отчасти отвечает на некоторые из этих вопросов, когда обращается к еще одному понятию стилевой теории Франкля – к т.н. материальному стилю, обладающему целым рядом свойств особого рода. Это должно быть предметом отдельного разговора, так за ним может стоять ответ на вопрос, почему архитектуре в концептуальных и методологических рамках археологии почти не удается удерживаться в роли «носителя» значения. Мы хотим показать, что именно столь развитая теория стиля, понятого прежде всего как практика изобразительности, не дает увидеть всю ту предстилевую семантику, заключенную, соответственно, и в вещах предизобразительных, то есть архитектурных, с которыми, как выясняется, практически не совмещается иконография.
Но не будем предвосхищать события и позволим себе еще немного проследить за логикой стилистической интерпретации, обнаруживая в ее направленности на изобразительные искусства желание осмыслять и то, что обеспечивает эти искусства локализацией и, можно сказать, легализацией.
Так, обращаясь к характеристике римской пластики, Дайхманн, пользуясь уже известными нам понятиями, указывает на то обстоятельство, что в стиле изображения фигур («фигуральный стиль») мы наблюдаем устойчивость, однородность и родственность. Именно последние качества только и дают право говорить о стиле, демонстрируемом в фигурах, как основном стилевом течении, которому противостоят дивидуальность и визинальность стиля, противостоящие, в свою очередь, друг другу. Налицо двухслойность стилистической структуры, аналогичной слоистости самого рельефа как способа построения пластического изображения, за которым стоит и структура формирования визуального образа как такового (фигура на фоне). Вся подобная двухслойная структура откровенно гештальтно-психологического свойства закрепляется т.н. ординальным стилем, то есть способом выстраивания отношений онтологически-космологического порядка (регулярность – иррегулярность, космос – хаос). В результате можно за слоями изображения увидеть и слои общества (народные свойства изображения обязательно формируют фон).
Итак, визуализация, психологизация, социологизация – и все это нанизывается на стержень стилистически-эстетических характеристик. Чем не стена, которую пронизывает на разную глубину испытующий взгляд аналитика-интерпретатора?[568] Мы далеки (пока!) от обнаружения у Дайхманна «диафанической стены» Янтцена, здесь нет прозрачности и экранности, это, действительно, больше рельеф, чем витраж, и средство проникновения – скорее проемы в стилистической «стене», которые формируются изобразительным символизмом как таковым, то есть иконографией. Недаром же она противопоставляется стилю, точнее говоря, выступает равнозначным компонентом искусства[569]. А сами стилистические элементы выстраивают своего рода стилистическую типологию, которая сродни архитектурной типологии. Причем именно фигуральность как способ (образ) обращения с фигурами (и отчасти предметами) ближе всего к иконографии, тогда как визинальность отвечает за пространственные характеристики, а дивидуальность – это, несомненно, те же пропорции.
И что особенно существенно для нас, эти разнородные аспекты (измерения) искусства отличаются и различной степенью изменчивости, динамикой развития, когда, например, фигуральность и иконография (особенно это заметно в живописи) представляют собой элементы более статичные. Другими словами, изображение представляет собой довольно разнородную структуру, которую объединяют, организуют некие принципы, равным образом и доизобразительные, и достилистические. Что о них можно сказать, если следовать за рассуждениями Дайхманна? Скорее всего, организующие принципы соответствуют сквозным пространственно-пластическим структурам, равным образом влияющим и на стилистику, и на иконографию, и на видовые различия.
И именно поэтому так легко – как раз анализируя подобные максимально общие, всеобъемлющие качества – можно переходить к социально-религиозным характеристикам этого искусства[570]. Но архитектура, как мы стараемся показать, призвана сохранять специфику искусства, даже если оно утрачивает стилистическую определенность[571]. Характерно в этой связи использование именно архитектонического параметра для общей характеристики тех же восточно-христианских мозаик: они все к V веку утрачивают всякий пространственно-перспективный иллюзионизм и замыкаются в плоскости, которой подчиняются и фигуры, лишенные, в свою очередь, и пластики, и светотени, будучи замкнуты в орнаментализированном схематизме.
Так, проходя в своих наблюдениях по регионам ойкумены, по видам искусства, по художественным традициям, социальным слоям и конфессиональным ориентациям, Дайхманн, не упоминая архитектуру, тем не менее, задумывается о том, что же может служить объединяющим, просто общим началом всего это многообразия? И ответ его поистине фундаментален, ибо он открывает универсальную зависимость любого стилистического явления от материала, вещества, из которого художественная вещь изготовлена. Так что «феномен материального стиля» лежит у истоков не только самой вещи, но и ее замысла, будучи первичным условием ее появления и сохраняя и в готовом творении следы его происхождения и признаки тех закономерностей, которые формируют и поддерживают всякую изобразительность, если не креативность вообще. Здесь важно подчеркнуть и то обстоятельство, что материальный стиль содержит в себе и предполагает личностное начало, которое в нем проявляется двояко: и положительно, и негативно, когда, с одной стороны, свойства вещества диктуют условия для художника, а с другой – испытывают его мастерство и дают повод проявить свою волю в преодолении материального начала и даже его подчинения. Поэтому можно сказать, что именно при встрече с чистой материальностью проявляется и чистая идеальность или, лучше сказать, формальность, из которой проистекает и всякая стилеобразующая сила.
Но, находясь у истоков всякого развития и потому не принадлежа ему, материальный стиль обладает и еще одним свойством, негативно обнаруживающим себя в том, что с его помощью никак нельзя производить датировку памятника. Иначе говоря, материальный стиль находится вне времени, ибо он ближе всего к природе и максимально схематизирован – все по той же причине своей предельной приземленности, что выражается, фактически, в геометризме. Но геометрия и материальность – это и главнейшие свойства архитектурной формы, так что мы вновь сталкиваемся с архитектурой и вновь – как бы невзначай. Получается, что архитектурная типология еще и вне времени, и это многое объясняет…
Но у материального стиля есть еще один аспект, связанный с прагматикой изображения, с исполнительскими сторонами произведения, ведь материал требует своего освоения, подчинения и преодоления, как уже говорилось. Поэтому там, где присутствует материальный стиль, он подразумевает и в себе проявляет технику, мастерство и, соответственно, личность мастера, а значит, и все его связи – и социальные, и психологические, и конфессионально-общинные, и, в конце концов, сугубо художественные[572]. Поэтому не случайно Дайхманн – со все присущей ему точностью – констатирует, что материал, несомненно, «решающим образом определяет стиль», но одновременно предстает таким стилистическим компонентом, который «противостоит единому стилистическому развитию поздней античности»[573]. И тому причина – уже упоминавшийся личностный компонент, а также, что особо нам интересно, – способность искусства изображать допредметный мир, мир вещества, субстанций, их качеств, свойств и характеров, их, так сказать, поведения, а также и поведения человека перед их лицом, в их присутствии. С материальной изобразительностью связана и изобразительность телесная, и все подобное выводит нас вновь к самым сокровенным свойствам, аспектам, измерениям архитектурного образа, только одной стороной которого являются пространственно-топологические характеристики и зависимость от подобной топологии того стиля, что выражается, например, в изменении стилистики согласно местоположению изображения внутри архитектурного целого (иерархия мест переносится и на ранжировку стилистики, т.е. на аранжировку изображения). Так, если в рельефах Арки Константина мы еще видим традиционную римскую манеру варьировать стилистику (фигуральный стиль) в зависимости от темы, то уже в мозаиках Санта Мария Маджоре стиль изображения меняется по мере приближения к алтарю (от большей плоскостности, схематизма и цветовой сдержанности к пространственности, детализированности развитого фона и цветовому богатству). Другими словами, «местоположение в Доме Божием определяет манеру изображения»[574].
Вывод из всего сказанного для Дайхманна почти очевиден: позднеантичное искусство являет собой полную аналогию тогдашней (и более ранней) риторической теории и практики (поддерживаемой, между прочим, тем же Бл. Августином). Одна и та же тема может быть выражена разными риторическими стилями в зависимости от манеры речи и ее смысла, то есть цели. Стиль, если он принадлежит риторической речи, не зависит от содержания и связан с намерением так или иначе воздействовать на аудиторию. Аналогии с изобразительным и особенно со строительным искусством очевидны. Стиль изображения зависит от местоположения внутри постройки (тогда постройка – та же риторическая речь) и от необходимости производить впечатление на зрителя и просто посетителя данного сооружения, то есть от его функционального наполнения. Фактически, здание отделяет с помощью места и цели стиль изображения от его содержания, а на самом деле – и от его иконографии, которая в этом случае обретает своего рода свободу и самостоятельность – и уже на равных, напрямую вступает в контакт с тем же церковным зданием. Художественность становится своего рода субстратом изобразительности, вообще образности. Стиль становится не просто материальным, он превращается в материал. И этот материал используется в процессах более сложных, чем изготовление жизнеподобных изображений…
Аналогия с риторической топикой предполагает уточнение того «синтаксиса», который использует та же архитектура в своей «речи». Уже из всего вышесказанного понятно, что структура этого дискурса, только отчасти схожего с риторикой, обусловлена сочетанием двух аспектов – телесным опытом созерцающего и присутствующего и присущим всякому зрительному восприятию схематизмом с характерным сдвигом от телесно-тактильных навыков к оптическим переживаниям, что описано и истолковано уже многократно (хотя требует отдельного разговора тактильный символизм взгляда, его, так сказать, ощупывающе-истолковывающие возможности).
Существенно также и то, что упоминавшийся «материальный стиль» предполагает не только индивидуально-исполнительскую прагматику, но и, так сказать, топику преодоления и освоения всякой субстанциональности, в том числе и пространства, освоение, актуализация и даже упразднение которого возможны посредством телесности, телесных актов в широком смысле слова, включающих и сакраментальные действия. Это позволяет видеть, так сказать, сверхматериальную размерность, например, образов Евхаристического пространства и Евхаристической телесности.
Иными словами, умаление стиля, его растворение в содержании, подчинение изобразительности образности предполагает, тем не менее, заполнение образовавшейся пустоты, и совершается это восполнение посредством смысла, но далеко не буквального. В определенные состояния изобразительного искусства становится возможным, чтобы образы обретали свою собственную и самостоятельную жизнь, которая может проявляться и локализоваться, но не художественно, а символически.
И мы уже видели, как недостаток изобразительности восполняется последовательными аналогиями – сначала межвидовыми (с выходом – пусть и непроизвольным – на архитектуру), а затем и внехудожественными (и опять – через архитектуру, которая обеспечивает топику, то есть конкретизацию всякой символики).
Но в череде дополняющих аналогий-коннотаций в какой-то момент появляется личностный (индивидуальный) аспект, который почти неизбежно – через личность планирующую и возводящую, через личность созерцающую и присутствующую, священнодействующую и внимающую – упирается и в личность познающую, а также и встречается – просто с Личностью…
ИКОНОГРАФИЯ РИТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Мы должны иметь в виду то, что фикцией является различение между «реальностью» и теорией этой реальности…
То, что подобает Гоголю, не подобает историку искусства.
Стаале Синдинг-ЛарсенЛитургический подход к христианской иконографии
Уже сейчас можно сделать несколько предварительных наблюдений касательно иконографии как метода, тем более что впереди у нас разбор концепции с подчеркнуто методологическими установками и выводами. Можно сказать, что иконография в том виде, как мы ее наблюдали до сих пор, – это методология, преимущественно предназначенная для пользователя особого рода, выступающего в роли внешнего наблюдателя, каковым оказывается, как правило, историк искусства.
При этом он старается остаться в рамках классической когнитивной парадигмы: смысл – вне исследователя, он заключен в предмете исследования, что особенно подходит именно для сакрального материала, по определению независимого от внешнего наблюдателя. Но ситуация осложняется в том случае, если противоположную сторону представляет сакральная архитектура со своим ритуальным пространством. Поэтому, казалось бы, внешний, незаинтересованный и, значит, объективный наблюдатель, пребывая в такого рода пространстве, помимо своей воли втягивается в смыслопорождающие процессы.
Именно поэтому только что нами проанализированный Дайхманн со своим стремлением к строгому научному пуризму так восстает против первичной сакральности церковной архитектуры, настаивая на ее первоначально мирском характере, ибо только так он может сохранить познавательную самостоятельность и не оказаться в зависимости от символически активной окружающей среды.
Кроме того, мы убедились, что и литературно-источниковедческий потенциал иконографического подхода, его, так сказать, главный объективистский козырь, не безграничен и даже наоборот: именно обращение к архитектурному пространству заставляет предполагать, что чисто иллюстративных функций и возможностей – даже понятых со всею широтою как отношение копия – оригинал (образ – прообраз) – все равно недостаточно для охвата всей полноты и всей специфики именно архитектурного формо– и смыслообразования, где существенный момент связан как раз с пространственно-динамическими отношениями.
И выстраиваются они посредством совершаемого богослужения, то есть ритуала, за которым можно и должно (но не обязательно сразу) видеть священнодействие, мистериальные акты, в которых соединяются и Писание, и Предание, а главное – в котором проявляется сакральная среда, артикулируемая с помощью столь же сакральной архитектурной формы (но уже, можно сказать, не по содержанию, не по наполнению, а по назначению). Фактически, иконографический метод совершает своего рода круг, возвращаясь в своих трансформационных процессах к своему началу в лице Йозефа Зауэра, уже в 1902 году специально обращавшего внимание на литургические измерения и аспекты архитектурно-церковной символики.
Теперь уже Стаале Синдинг-Ларсен (род. 1929) постулирует в самом начале своей «Иконографии и ритуала» (1984)[575] смену методологических ориентиров, призванных найти тот способ толкования и понимания архитектуры, который не заставлял бы архитектуру заниматься совсем не главными своими делами, например быть иллюстрацией, системой репродукционных техник, предназначенных для воспроизведения или текста Писания, или текстов литургистов.
Уже в предисловии автор подчеркивает главную особенность своего изыскания: оно есть прежде всего методологически-систематический опыт пересмотра одного из самых традиционных подходов в истории искусства – иконографии, которая в своем прежнем состоянии себя исчерпала, и «потребность в новом подходе» стала почти что вопиющей.
Замечательно то обстоятельство, что с целью проиллюстрировать новый подход (и потребность в нем), Синдинг-Ларсен обращается к двум примерам интерпретации мозаики, украшающей гробницу уже хорошо нам известного Вильгельма Дуранда в церкви Санта Мария сопра Минерва в Риме. Обеспечение участия в Литургии – вот основная цель храмового пространства, и ради этого в нем собираются молящиеся. Таково значение и образов, внутри этого пространства представленных. И их интерпретация возможна исключительно через Литургию. Можно сказать, что и методологическое «участие» в Литургии, то есть признание за ней когнитологического, познавательного значения, – «сущностный инструмент» решения специфических задач анализа образов[576]. Обращаясь к наполнению, то есть, фактически, к содержанию храмового пространства, можно сказать, что таковым является молящийся народ, земная жизнь которого как раз и заключается в участии в богослужении и приближении к Божественной реальности через опыт Литургии, которая «предлагает правила этого участия и модусы выражения подобного опыта»[577], в том числе и модус изобразительный, которому соответствует метод иконографический.
По этой причине непонятно, почему история искусства в лице иконографии христианского искусства претендует на какую-то изолированную позицию, которая не соответствует самому материалу, интегрированному в Литургии и, главное, предполагающему восприятие себя через Литургию. Поэтому, говорит Синдинг-Ларсен, выглядит курьезным, например, избрание Писания в качестве единственного источника для понимания образов. Возникает ситуация все той же «утраты середины» (наш автор пользуется известным выражением Зедльмайра), но, добавим мы, не на художественном, а на концептуальном уровне, когда происходит «забвение центральных факторов».
Причем главный парадокс в развитии иконографического метода обусловлен тем, что основные инновации связаны с исследованиями в области до-христианского, языческого материала, на основании чего вырабатываются общегуманистические исследовательские процедуры, в своем «аритуализме» (выражение Синдинг-Ларсена) остающиеся просто чужеродными для христианского материала.
На самом же деле литургический подход больше соответствует не только идеологическим и социологическим параметрам христианских памятников, но и принципу функционализма, так как Литургия – это прямое назначение христианских образов и потому в ней заключено и их значение. Кроме того, литургический подход имеет и сугубо формальный аспект, так как пространство Литургии идентично пространству христианской образности, в этом пространстве пребывающей и в нем открывающейся. Именно поэтому уже в самом начале первой главы Синдинг-Ларсен говорит о «пространственной иконографии», сфокусированной на алтаре в широком и узком смысле слова «фокусировка».
Попробуем проследить за аргументацией нашего автора. Но прежде, по нашему обыкновению, коснемся общей структуры книги, которая представляет собой одновременно и предварительный контур новой иконографии, построенной на самых актуальных на момент написания книги теориях, среди которых выделяется, несомненно, семиология как подход именно систематизирующий и моделирующий[578]. Обратим сразу внимание, что вновь мы встречаемся с языковой парадигмой, без которой, создается впечатление, иконографии просто не жить, что, конечно же, не совсем так.
Так как же устроена книга Синдинг-Ларсена? Самое общее членение ее отражает структуру самой идеи обновленной иконографии: 1) «функциональный контекст христианской иконографии», включающий, например, такие аспекты, как «Церковь», «богословие», «традиция», «Литургия»; 2) эмпирические параметры (в них присутствуют следующие измерения: описание предмета, предмет и его референция, взаимодействие между иконографическими предметами, текстовые референции, литургическое пространство, пространственные отношения, ритуал и восприятие изобразительного окружения, фокусирование ритуала и т. д.); 3) «системы во взаимодействии» (речь идет о сугубо методологических моделях). Как видим, перед нами законченная система иконографического подхода, развиваемого под знаком Литургии, понятой как системообразующий и смыслопорождающий принцип и одновременно процесс. Фактически, речь идет об иконографии литургически-архитектурного дискурса.
Итак, первичный контекст образуется понятиями богословия, Церкви, традиции и Литургии. Это именно области функционирования иконографии, так что определения этих понятий достаточно важны. Богословие определяется в рамках католической и конкретно – тридентской традиции. Объекты богословия – Сам Бог и все сотворенные вещи в их отношении к Богу. Источники богословия двоякого рода: это или сверхнатуральное Откровение, или естественное знание о Боге, полученное посредством разума и мышления вообще. Характерная черта традиции – «постоянное развитие богословия»[579]. Но в контексте христианской иконографии наиважнейшее значение имеет экклезиология – «изучение Церкви и учение о Церкви». Экклезиологические концепты имеют функциональное и символическое отношение и ко всем отдельным частям церковного здания, понимаемого как функциональное единство, и ко всем частям его иконографии. Церковь – это общение частей, членов церковного единства, и Христос есть глава этого мистического Тела, а главная цель Церкви – прославление Бога посредством Литургии и спасительных дел. То есть Литургия как высшая форма богопочитания есть универсальное состояние универсальной Церкви, и потому ангельские силы и святые на небесах совершают непрестанно Небесную Литургию пред лицом Св. Троицы, в то время как на земле верные творят земную службу. И Евхаристия есть выражение церковного согласия между Небом и землей. Это важнейший аспект экклезиологии, предполагающей на сущностном уровне необходимость участия в таинствах. Синдинг-Ларсен подчеркнуто ссылается на Тридентский собор, излагая католическое учение о Церкви, оговаривая его историческую вариативность, наличие нюансов и различий, которые, впрочем, суть аспекты все той же традиции[580].
И вот, после первичного контекста в виде непосредственного богословия и следующего – более обширного – в виде богословия экклезиологического, наступает пора контекста, казалось бы, самого емкого – церковной традиции. Ее можно определить как вместилище учения и утверждений, озвученных как самой Церковью, так и через Литургию, которая есть свидетельство и декларация веры. Традиция может складываться, разрабатываться и частично видоизменяться на протяжении веков. Современное представление о традиции предполагает шесть составных элементов. Во-первых, это Писание с особым акцентом на библейской христологии. Во-вторых, последующая интерпретация Нового Завета церковной традицией. В-третьих, апостольское преемство. В-четвертых, правило или Символ веры, предполагающий интерпретацию Писания в соответствии с развитием веры среди верующих в их сакраментальной и литургической жизни. В-пятых, это, конечно же, присутствие в Церкви Св. Духа (мы бы этот пункт поставили первым). И в-шестых, более поздняя традиция. И каждая из этих сфер проявляется в Литургии и литургических обычаях. Причем историк искусства должен быть готовым встретить в любой исторический период отклонение от основной традиции, хотя, как замечает Синдинг-Ларсен, это будет означать, что просто обнаружены новые измерения традиции. Нельзя делать исходным пунктом исследований идею, будто существуют некие «современные» (для того или иного периода) характерные черты. На самом деле принципиально представлять себе «нормальные» и более ранние стандарты, параметры традиции, и иконография обязана отталкиваться как раз от классической, то есть нормальной, традиции и уметь изолировать все отклонения именно как отклонения (а не, например, новые черты чего-либо)[581].
Литургия как центр иконографического пространства
И вот внутри всех вышеизложенных контекстов богословия, экклезиологии и собственно традиции как раз и совершается Литургия. Ее можно определить (если иметь в виду католическую традицию) как «целостность культового поведения, предписываемого Церковью, и предполагающую говорение, декламацию и пение, равно как и движения, а также и использование специфических символов…»[582]. Ядро Литургии – вера в ее установление Самим Христом и Его участие в каждой Литургии. Литургия не просто содержит в себе несколько интересных для историка искусства особенностей, которые можно учитывать в иконографических штудиях. Литургия на самом деле есть систематическое обнаружение, демонстрирование догматики. Литургия, кроме того, мыслится как действие, регулирующее человеческую активность, отвечая за функции сообщения в контексте богослужения в широком смысле слова (как служения Богу). Это есть «система процессов, которые формируют часть внутри более обширной системы Церкви, богословия и традиции». Но самое главное другое: Литургия содержит в себе элементы, которые регулируют и разного рода иконографические процессы (например, гимнография может предложить «разнообразные уровни прославления Христа»)[583]. А в целом Литургия не скрывает того, что это есть Жертвоприношение, и подобная тема не может не давать сугубо изобразительные выходы, хотя, конечно же, общая функция Литургии – делать настоящим все аспекты и измерения Церкви, ставить Ее в присутствие Бога. И потому иконография неизбежно вытекает из Литургии, так как именно последняя, можно сказать, обеспечивает образность как таковую: создавая ее, она создает и условия ее функционирования. И главное из этих условий, по мысли Синдинг-Ларсена, – наличие концептуального оформления или, лучше сказать, наполнения и Литургии, и иконографии.
И потому, что существуют концепты (их «покрывает догма или доктрина»), сама Литургия, собственно богослужение, существует в форме текстов, в виде богослужебных книг, миссалов, ординалов и бревиариев. Но как решить, какой текст важен в конкретной исследовательской ситуации? Это можно сделать исключительно через исторический контекст, который предполагает выяснение, в том числе, того, что действительно сказал тот или иной, например, литургист, а не то, что на эту тему произнес другой историк искусства[584]. Внутри же текстов сохраняется принцип приоритета Литургии: предпочтительнее и важнее тексты, прямо связанные с Евхаристической Жертвой, то есть с главной составляющей, ядром той же Мессы. Итак, чтобы стать предметом иконографии, концепты должны быть представлены в виде текстов, желательно письменных, но не только письменных, так как в церковной традиции присутствуют не только концепты.
Важно другое: церковная традиция, включающая и Литургию, дает материал и идеи для дальнейшей разработки, уточнения и художественного творчества «в различных контекстах», начиная с профессионального литературного комментирования и заканчивая театральной драматургией и поэзией. Все эти уровни активности внутри одной Традиции, перекрывая отчасти друг друга, тем не менее могут быть разделены на несколько самостоятельных категорий. В первой категории, именуемой «литературный или устный комментарий», присутствуют следующие позиции: 1) аллегорическое изъяснение и интерпретация Литургии; 2) литературный комментарий событий или концептов, прославляемых в Литургии; 3) комментарии на богословские концепты, не выделяемые самой Традицией. Вторая категория – «аудио-визуальная реализация/воспроизведение» – включает: 1) литургическую драму; 2) драматические добавления к Литургии и постановочные действия (собственно, «перформансы»), отсылающие к литургическому материалу; 3) драматическое развитие богословия. Взаимодействие между двумя категориями как раз и составляет аналитическую проблему каждого специфического материала. Обычная ситуация, когда, например, драма (вообще все составляющие второй группы) формирует набор свойств, которые можно соотнести с иконографией. Но это не значит, что подобные свойства, черты, признаки способны «объяснять» иконографию[585]. Но иконография как способ «расширения» Литургии (Синдинг-Ларсен говорит, что иконография воспроизводит «расширения» Литургии) сама способна иллюстрировать или комментировать указанные категории и тем самым выступать как «сущностный элемент церковной традиции».
Вот несколько примеров по каждому пункту этих двух категориальных групп. Пример литературно-аллегорического комментирования, воздействующего и на церковное строительство[586], – это, конечно же, тексты типа знакомых нам трактатов Дуранда или Сикарда. Можно сказать, добавим мы, что, ссылаясь в этой связи на книги Юнгманна и Зауэра, Синдинг-Ларсен расширяет эту ссылку двумя новыми примерами все той же экзегетической и одновременно литературной традиции[587]. Прославляемые в Литургии события и концепты получают свое оформление в текстах типа Legenda auera или Biblia pauperum. Поэтическую и промежуточную между литературным комментарием и драматическим исполнением форму могут приобретать выраженные словесно видения святых (Бригитты Шведской или Терезы Авильской) или собственно богословская поэзия (тексты, например, Бернарда Клервосского, посвященные Коронации Девы Марии). Собственно богословское комментирование богослужения представлено, например, в текстах Савонаролы, описывающего триумфальное шествие Христа и святых в Небесном Граде. Стоит заметить, как незаметно вопросы изобразительно-иконографической типологии превращаются в литературоведческую проблематику, включающую, между прочим, и вопросы жанровой принадлежности.
Драматические постановки внутри Литургии – это и просто значимые жесты священника, и более зрелищные ритуалы, например несение Евангелия на Малом входе или перенесение его из центра Престола к правому верхнему краю. Наш автор справедливо замечает, что некорректно и непродуктивно изолировать «драматические» или «театральные» черты из их контекста. Благодаря как раз средневековому и барочному методу символических и аллегорических комментариев мы сегодня видим весь диапазон и степень театрализации ритуала. Драматические добавления к Литургии – это вся масса церковных или околоцерковных, даже политических процессий и церемоний, начиная с обрядов Рождественского Сочельника, Пасхальной заутрени, шествий на праздник Тела Господня и заканчивая римскими процессиями с Sancta Sanctorum или венецианскими – с Никопеей. Отдельная сфера – собственно традиция (во всех ее формах) театрализации событий Страстного Пятка. Самый очевидный пример драматического и литургического воспроизведения богословских концептов, по мнению Синдинг-Ларсена, – это обычай элевации освященных Св. Даров, хотя именно этот пункт самый сложный, емкий и универсальный, так как все наиболее фундаментальные концепты богословия выражаются в Литургии и соответственно проходят путь визуализации, в том числе и всеми вышеизложенными способами, становясь тем самым, как мы только что убедились, и предметом, и инструментом христианской иконографии[588].
Функционирование иконографии
И внутри всей подобной контекстуальной системы иконография исполняет свои функции. И следующая часть книги Синдинг-Ларсена как раз и посвящена «типам иконографической функции». Функция же определяется как действие, для которого некая личность или некая вещь предназначена или используется или для которой существует. Причем слово «действие» необходимо понимать широко, имея в виду как физические действия вроде жестов или поступков, так и действия речевые, акты слуха, а также визуальную коммуникацию. Сюда же относится и духовная энергия, связанная с молитвою, призыванием или привлечением особого внимания к чему– или кому-либо.
Иконография способна служить Литургии двояким способом, исполняя или формальные функции, или функции вспомогательные. Или визуально фиксировать важные моменты богослужения (например, целование Распятия), или просто украшать службу. Формальное функционирование того или иного образа определяется официальным предписанием его использования, хотя, как признается Синдинг-Ларсен, на практике трудно определить моменты обязательно-конвенциальные и какие-либо иные. Во всяком случае, почитание образа – это, несомненно, обязательный и, значит, формальный момент. Любой обычай, устойчивая практика обращения с образами даже вне собственно Литургии или, говоря в терминах нашего автора, вне «центральной Литургии», в случаях любого «паралитургического ритуала» (например, покрывание специальной тканью Распятия на период Великого Поста, использование образов в процессиях и т. д.), – все это позволяет рассматривать образы как необходимые и поэтому формальные элементы соответствующих ритуальных структур.
Примеры добавочно-вспомогательного функционирования образов (иконографии) можно искать и находить везде, где образ рассматривается как иллюстрация. И прежде всего, это все обучающие, проповеднические потребности, когда используются именно дидактические возможности образа, его способность наглядно убеждать. Но образ может просто привлекать, фокусировать внимание и подчеркивать те или иные истины, присутствующие в Литургии и потребные к усвоению. Образ как средство организации процессий и образ как средство индивидуального благочестия внутри храма или во внелитургических обстоятельствах – все это, по мысли Синдинг-Ларсена, примеры дополнительной функциональности. Поэтому мы можем говорить о прямом и косвенном применении иконографии или, пользуясь терминами самого автора, о центральном и периферийном функционировании, литургическом и паралитургическом. Последнее объемлет все пограничные зоны ритуала, его пределы и метаморфозы как социального, так и психологического, но прежде всего – топологического, пространственного порядка, и поэтому мы можем отметить, что именно в этой сфере следует искать и сугубо архитектурное функционирование иконографии, и сугубо архитектурную иконографию как таковую[589].
Но иконография способна включать в себя самые гетерогенные элементы, и если касаться уже «эмпирических параметров» иконографии (название следующей – первой основной – части книги) и «общих характеристик иконографии» (название первой внутри нее главы), то подобная объединяющая функция визуально-изобразительной образности есть не что иное, как отражение самой фундаментальной ее характеристики – способности хранить «всеединый свет экклезиологии» и, значит, Литургии. Именно так воспринимали, казалось бы, разрозненные образы средневековые посетители церковных пространств, и именно эту способность утратили современные ученые. Поэтому задача книги Синдинг-Ларсена как раз и есть – описать иконографию в ее «отношении к Евхаристии как системе»[590]. И это не отрицает возможность несистематического создания образов или непредсказуемых художнических инвенций. Это предполагает системный подход к иконографии, которая сама обладает системностью, что в данном случае звучит, повторим еще раз, как синоним экклезиологичности и, так сказать, Литургичности: системность как проявление соборности или кафоличности, если пользоваться западной терминологией. Попробуем выяснить вместе с Синдинг-Ларсеном, способны ли обладать теми же характеристиками научные методы…
Ведь как раз требование адекватности метода предмету – признак научности, и поэтому христианская иконография, как подчеркивает Синдинг-Ларсен, должна обладать свойством системности, ибо это, повторяем, признак принадлежности к Литургии. Пример системных свойств образа – это погрудное изображение Христа, которое в разные моменты Литургии приобретает разные значения (от отсылки к Св. Троице до Евхаристической Жертвы) – причем внутри единого принципиально литургического значения Богоприсутствия. Но каждый из этих концептов может быть воспроизведен и другими средствами. Поэтому «иконография как набор изобразительных экспрессий в согласии с набором правил не есть устойчивое, неизменное и недифференцированное единство, принадлежащее в таком качестве системе функций и ценностей, вне ее расположенной. Она есть часть системы не только в том смысле, что базовые элементы, конституирующие иконографию, взаимодействуют друг с другом и таким способом со всей системой целиком, но и в том, что каждый из них взаимодействует с другим элементом из системы, расположенной вне самой иконографии»[591].
Та же мозаика гробницы Дуранда с изображением коленопреклоненного епископа, предстоящего Деве Марии, должна быть истолкована именно в литургическом контексте, так как прямой сюжет мозаики – это предстояние перед Богом, и человеку подобное возможно через участие в Литургии, и поэтому данная иконография «неизбежно взаимодействует с системой». Истолкование в духе Страшного Суда невозможно именно потому, что этот сюжет не учитывает того буквального смысла, что выражен через участие епископа в Небесной Литургии, уже предполагающее благоприятный ответ на Суде. Другими словами, изолированное восприятие мозаики и ее иконографии не учитывает сквозной и объединяющий экклезиологический смысл: если бы епископ предстоял перед Судом, это было бы как раз неучастие в Литургии, которая, между прочим, на земле совершается в «архитектурной церкви» (буквальное выражение Синдинг-Ларсена) только благодаря способности пребывать в согласии с Литургией, совершаемой на Небе и т. д. И именно такое истолкование помещает данное изображение в «многозначную систему», тогда как «судебное» понимание изолирует и обедняет сюжет. Мы видим здесь один крайне важный для нас момент: решающим контекстом в данной ситуации оказывается именно архитектурно-литургическая среда, та самая «архитектурная церковь», которая, так сказать, отвечает за системную ориентацию изображения. Перед нами «замещающая система», когда один элемент отвечает за все целое. И архитектура как раз и отвечает за «опосредование и взаимосвязь» как основополагающие принципы, когда иконография оказывается сопряженной с «системой отсылок, выраженных в Литургии».
Но с другой стороны, иконография имеет дело с произведением искусства, наполненным неконтролируемыми, аффективными и прочими человеческими ценностями в большей степени, чем формализованными ритуалами и текстами. И потому-то никакое систематическое исследование не должно делать материал более системным, чем он есть на самом деле. Мы не сможем описать многозначность аффективных и социальных ценностей, пока будем стремиться только к систематической методологии. И опасность сверхсистематизации становится еще реальнее в том случае, когда историческое исследование не проникает в глубину материала ради обогащения нюансами, отыскания вариантов или хотя бы отклонений от господствующей системы. Хотя, с другой стороны, верно замечает Синдинг-Ларсен, как раз наличие подобных нюансов делает систематический подход привлекательным, полезным и просто неизбежным.
И поэтому понятно, что предмет литургической иконографии внутри общей системы лучше всего описывается как процесс, а вовсе не как какая-то константа или инварианта. Без этого допущения, имеющего и методологические последствия, невозможно обсуждать, в частности, и вопросы социологии искусства. Их не следует воспринимать внутри общего контекста как «всего лишь фоновый рисунок». Мы могли бы добавить, что без перемены общего взгляда на искусство, на изобразительную активность как таковую, для более обширных, сложных и емких контекстов (той же Литургии вкупе, например, с богословием) мало что в проблематике искусства будет казаться чем-то большим, чем дополнительная орнаментация или в лучшем случае эстетизация ситуации и материала.
По мнению Синдинг-Ларсена, начало этого методологического пересмотра материала – в признании того факта, что варианты и отклонения от иконографически-литургической системы – это сама суть литургической иконографии, ибо это признаки процесса интерпретации. И она может быть двоякой: вертикальной и горизонтальной. Горизонтальная означает то, что один и тот же образ для разных пользователей может означать разные вещи. Вертикальная интерпретация предполагает, в терминах нашего автора, или коротко– или длинноволновые перемены. По ходу совершения Литургии один и тот же образ претерпевает смысловые изменения, предполагая различные степени внимания («коротковолновые» различия). Если эти смысловые колебания спроецировать на литургический год, то можно будет говорить и о «длинноволновых» переменах.
И опять же особая ситуация возникает, если мы учитываем, что материал иконографии – это произведения искусства. Тогда процессуальность заключена и в различии между первоначальным смыслом и замыслом и тем конечным эффектом, тем сообщением, который получает и переживает «получатель», то есть зритель. Поэтому, говоря вообще, основной предмет литургической иконографии способен наделяться различными интерпретациями, которые следует рассматривать как заложенные или привнесенные в него перемены. Позволим себе сделать одно полезное (для наших целей) замечание: процесс может быть и более наглядно обозначен в том случае, если речь идет о реальных – телесно-физических движениях и связанных с ними движениях смысла (как перемены, например, восприятия). Понятно, что условие такого процесса – реальное пространство и опыт его освоения, усвоения и уяснения, что возможно в случае архитектурного контекста.
Говоря о «методологических последствиях» процессуально-динамического подхода как новом слове в иконографии, невозможно не коснуться другого, более раннего опыта обновления этой почтенной дисциплины, произведенного под условным обозначением «иконология». И этого слова не найти в книге Синдинг-Ларсена, и он дает достаточно детальное объяснение, почему ему не кажется достаточным то, что ввел в практику интерпретации тот же Эрвин Панофский[592].
По мнению нашего автора, проблематика иконологии может утратить свою остроту и просто специфику, если более внимательно произвести различение понятий «сюжет», «мотив» и «тема». Последнее понятие предпочтительно употреблять в качестве прилагательного, что освобождает место для сюжета и мотива. Сюжет – это то, о чем говорится, что воспроизводится, то есть полностью или частично описанный контент образа. Тогда мотивом можно называть «доминирующую идею» или «господствующий элемент», что особенно важно и полезно выделять в случае с сюжетами повторяющимися или имеющими варианты. Объединять и роднить их друг с другом может именно идентичный мотив.
По мнению Синдинг-Ларсена, Панофский в своем знаменитом эссе 1939 года[593] позволяет себе терминологические неточности, когда говорит о «вторичном, или условном, сюжете» и о «внутреннем значении или содержании», определяя первому предмету иконографию в качестве адекватного метода, а второму, соответственно, иконологию. И при этом, согласно Панофскому, в основании лежит еще один смысловой уровень, первичный, элементарный и, главное, исходный, именуемый «естественным сюжетом» (то есть предметным, который, добавим мы, является объектом узнавания, идентификации с непосредственным предметным наполнением, содержанием внешнего мира или внутреннего опыта, а также памяти). Идентификация с предметом вторичного – культурно-религиозного, например, мира – это уже проблема иконографии, которая выясняет отношение между предметом и его изображением точно так же, как формально-стилистический подход на более простом уровне сравнивает изображение и предмет непосредственной реальности, учитывая и истолковывая отклонения, выясняя их смысл. На этой разнице и покоится вся интерпретация на любом уровне, в том числе и на уровне культурных симптомов, отражающих символизм душевного, внутреннего плана, но, замечает Синдинг-Ларсен, именно символизм, выражение, проявление того, что скрыто и лишено непосредственного выражения. Видимо, так, психологически, следует понимать иконологический проект Панофского, и Синдинг-Ларсен совершенно прав, говоря, что сугубо гуманистический пафос иконологии, желание иметь дело с данными чисто человеческого опыта приводит не просто к обеднению, а к упрощению ситуации, сложность которой в случае с христианским (вообще религиозным) материалом состоит в том, что в нем присутствует и не-человеческий материал, в том числе и сакральный. Его выражение в христианском контексте – это все та же Литургия, хотя обращение к более сложному, чем у Панофского, образу (ко Христу вместо св. Варфоломея) заставляет убедиться в том, что не все образы имеют «исторически фиксированное значение». Образ Христа, взятый в литургическом контексте, дает коннотации существенных вещей «за пределами исторической идентичности Христа» (например, Христос-Первосвященник). Другими словами, полный смысл улавливается только в случае, если учитывается «функциональный контекст», сфокусированный на алтаре (обращаем внимание, что средство, так сказать, трансцендентной контекстуализации – все та же архитектура: как ни покажется парадоксальным, но образ обнаруживает свои скрытые смысловые измерения и отношения только через пространственную локализацию, то есть через уловление местом).
Образ, функционирующий внутри Литургии, обнаруживает свою многосоставность, где каждый элемент, взаимодействуя друг с другом, дает новые качества, подобно вступающим между собой в реакцию молекулам. Но правил взаимодействия много, и именно от контекста зависит, какое используется именно сейчас, в данный момент (отсюда и происходит свойство процессуальности). И коммуникация элементов, и наша коммуникация с ними – все осуществляется через Христа, и именно для этого, для приобщения к данному смыслу, помещается в том или ином месте храмового пространства изображение Христа, а не просто для того, чтобы возможно было Его лицезреть.
То есть благодаря учету «литургического процесса», иконография приобретает настолько мощное дополнительное (или как раз основное) измерение, что она оказывается в состоянии просто поглотить иконологию, как ее понимал Панофский: она оказывается не дополнительным уровнем, не расширением иконографии, а совсем наоборот – всего лишь одним из ее аспектов. Определяя иконографию максимально широко, как «идентифицирующие и интерпретирующие операции с сюжетной стороной образов», Синдинг-Ларсен совершает уже перетолкование концепции Панофского, у которого, действительно, представление об иконографии имеет математически-механический характер, предполагающий в качестве главного принципа собирание и классификацию материала. Иконография Синдинг-Ларсена, по его собственному выражению, предполагает, что между отдельными неподвижными типами прежней иконографии вдруг обнаруживается серьезный зазор и даже целые пространства, отличающиеся постоянной подвижностью. Но все дело в том, что прежней не то что иконографии, а уже и иконологии давно не существует. Во всяком случае, как мы убедимся на примере концепций, независимых от Панофского и в чем-то приближающихся к Варбургу, иконология сама способна расширять и свое поле деятельности, и свои методы, лишний раз доказывая, что имя и этой дисциплины, и этого способа обращения с образами – это все-таки метафора, терминологическая аллегория, в то время как «иконография» – прямое и недвусмысленное описание метода[594].
Иконографические параметры
И в подтверждение того, что перед нами все-таки иконография, обширнейшая следующая часть книги посвящена как раз «описанию предмета», хотя, как выясняется, это дескрипция особого рода, представляющая собой чисто аналитический инструмент, позволяющий выяснить отношение иконографии к Литургии и – что особенно для нас важно – к архитектурному контексту. Причем последний аспект предполагает именно выяснение отношений к пространству, а также проблему восприятия живописного пространства с учетом влияния Литургии.
И начало всему – т. н. предварительный, вводный анализ. Когда мы описываем, например, романское Распятие XII века (т.н. Распятие Sarzana), мы можем ограничиться просто идентификацией сюжета, продолжив эту опознавательную процедуру краткой интерпретацией темы как присутствия Христа «здесь». Но тогда мы упустим самое главное, что есть в изображении, а именно парадоксальное сочетание признаков жизни (открытые глаза и поднятая голова) и явных свидетельств смерти (прободенное ребро). Так что это описание содержит проблему, и оно отличается от простого рассказа-отчета об увиденном. Разрешим ли этот очевидный парадокс? Несомненно, если принять во внимание концепцию «эпифании или присутствия прославленного Христа в Евхаристической Жертве» (главнейшая тема для XII века).
Тем не менее интерпретация того, что видно «сейчас» (то есть без углубления в концептуальные коннотации), что называется, сама просится в двери, ибо она кажется объективной, то есть независимой. Но так ли это? В реальности любое объективное истолкование происходит из теории, из допущения, основанного, кроме всего прочего, на материале, добытом в результате сравнения, которое всегда есть «теоретический конструкт». И в данном конкретном случае этот конструкт, результат этой технической компаративистики представляет собой «смесь реализма и аллегории» (тоже два конструкта, и оба нечеткие). То есть цель описания – это вовсе не «рассказ о преобладающих свойствах в функциональной ситуации»[595].
Говоря вообще, сегодня считается общим теоретическим местом признание того, что не существует «объективного» описания, которое на самом деле есть обязательное описание на определенном прагматическом или аналитическом уровне и представляет собой операцию проблематизации, и потому оказывается зависимым от теории, скрывающейся в обязательном порядке за спиной самого «неиспорченного» взгляда. Описание – «центральная операция» в исследовательском труде, и ее, в свою очередь, можно описать как необходимость лучше формулировать проблему.
И потому это предполагает критическую установку уже на самых ранних этапах исследования, и подобного рода установка представляет собой «вопрос продуктивного мышления и коммуникации». «Тотальное игнорирование» этого условия превращает иконографическое описание христианского материала в «пустыню истории искусства»[596].
Опять же показательно для общей характеристики иконографического метода – пусть и в самых актуальных и концептуальных его формах – указание нашего автора (со всеми оговорками) на возможность использования детальных описаний в каталогах, снабженных, между прочим, и детальными иллюстрациями. Вот идеал иконографического метода в любых его формах! Но справедливости ради скажем сразу, что Синдинг-Ларсен не ограничивается каталогом. Его книга внешне и по структуре, может быть, и похожа на каталог, но это уже собрание не изобразительного, но концептуального материала. Замечательно другое: и в этом случае живой изобразительный материал остается материалом иллюстративным, но уже не истории, а теории.
Но в описаниях существуют и некоторые принципиальные ошибки, которые Синдинг-Ларсен объединяет в «три типа симптомов». Довольно характерное обозначение ошибок иконографического описания как симптомов призвано напомнить, что наши ошибочные действия суть неслучайные признаки внутренних процессов, протекающих не всегда убедительно.
Первый тип ошибок связан со «слишком приблизительным и общим определением понятий». Второй имеет в виду применение профессиональных словечек или «технических терминов» в качестве операциональных понятий в целях аргументации. Третий круг ошибок происходит из «некритического использования концепта “тип”»[597].
Характерной вариацией на тему приблизительной терминологии является случай использования слишком литературного стиля ради достижения эффекта убедительности, то есть в суггестивных целях. Очевидно, говорит автор «Ритуала и иконографии», что превращение описания в роман «непродуктивно и нерелевантно». То, что приемлемо для литератора, совсем ни к чему для ученого (см. эпиграф данной главы). Существует и расчет иного рода: иногда кажется, что интуитивная «удачная» характеристика образа способна пробудить продуктивный процесс, выразить «проблемное озарение». Роберто Лонги признается нашим автором непревзойденным мастером такого рода эффектных (во всех смыслах слова) формулировок, в которых, к сожалению, присутствует «больше смущения, чем прояснения». Но все подобные неловкости, страдающие не больше, чем эскизностью, торопливостью манеры выражаться, представляют собой достаточно невинные недостатки по сравнению с попытками претендовать на нечто большее, когда искажение «фундаментальных аналитических понятий» ввергает читателя в «фикциональное приключение»[598]. Пример неудачной характеристики – один из опытов истолкования «Мадонны канцлера Ролена». Самое главное – опознать это произведение как «вотивное изображение», воспроизводящее предвечное состояние блаженства, которое человек может надеяться достичь и которое заключается в прямом созерцании Бога в Раю. Это состояние подтверждается всякий раз заново Церковью. Чтобы описать эту ситуацию, достаточно воспользоваться терминологией, предлагаемой Литургией. Если этого не сделать, то возникает откровенно плачевная ситуация, когда, например, именуется «историческим событием» Коронация Девы Марии, Сама же Она тут же именуется «образом поклонения» относительно донатора. Изображение как бы распадается на отдельные элементы-мотивы из-за подобных неточностей словоупотребления («смесь литургических и богословских концептов»), за которым стоит непонимание, неузнавание всей ситуации целиком, того, что непосредственно изображается на картине Яна ван Эйка. На самом же деле это чисто литургическая ситуация. А именование Девы «героиней духа» выдает, по крайне мере, склонность автора интерпретации к «новеллистическим идиомам», за которыми стоят его личные инвенции. Но если воспользоваться именно литургическим образом Царицы Небесной как важнейшим элементом хотя бы иконографического описания (речь, собственно говоря, не идет пока еще об интерпретации), то картина станет более-менее ясной.
Другой случай – когда литургические понятия употребляются и используются, но при этом воспринимаются самим исследователем как символы, условные концепты, что делает описание «набором компромиссов». Например, облаченного в ризы ангела на «Алтаре Портинари» Гуго ван дер Гуса неверно называть «Евхаристическим символом» наравне со связкой пшеничных колосьев. Если он и символ, то скорее клира или самой Церкви. Его нельзя ставить в один ряд с пшеницей и вином, тоже всего лишь напоминающими вещество Таинства.
Бывает и так, что ставшие традиционными в историографии выражения вдруг порождают проблему: романские распятия издавна в литературе разделяли на изображения Христа живым (тип triumphans) и умершим (тип patiens). Как в таком случае трактовать надписания «Rex gloriae» на крестах с мертвым Христом? Проблема разрешается достаточно просто, если позволить «Литургии вновь вести нас»[599]. Согласно литургическим текстам, страдания Христа – выражение триумфа Воплощенного Слова, и образ мертвого Христа отсылает к жертвенному аспекту этого образа, а изображение живым – традиционный образ присутствия Христа-Первосвященника на Литургии. А просто богословские и тем более исторические и всякого рода «эпические» различения в данной иконографии не действуют.
В такого рода процессах ложного описания скрыт механизм приравнивания одного концепта к другому, что особенно заметно в случае с толкованием иконографии «Девы, облаченной в солнце». Совершенно неверно – хотя это уже стало практически нормой – толковать эту иконографию в духе концепции Непорочного зачатия, так как у этой схемы чисто экклезиологический смысл, для которого указанная тема представляет собой один из смысловых вариантов, причем не совсем уместный в XII веке, когда рождается иконография и когда будущий мариологический догмат только обсуждался (против него был, как известно, и Бернард Клервосский).
Другими словами, образы, которые даже функционально принадлежат канонически утвержденному и формализованному ритуалу, не могут трактоваться вне этого ритуала, предлагающего нам для нашего понимания «фундаментальные понятия и структуры». Существует контекст, обращающийся к нам изнутри ритуала, и мы должны описывать иконографию в терминах тех, кто ее создавал. Так что Литургия обеспечивает нас вдобавок и «контекстуальной терминологией».
Более того, «принципиальная перспектива» всей книги Синдинг-Ларсена и, соответственно, всей обновленной иконографии – это «реконструктивный контекстуальный анализ», под которым следует иметь в виду «анализ исторической ситуации, исходя из ее собственной точки зрения, и в ее собственных терминах». Это означает опору на понятия, обозначения и концепты, которые возможно реконструировать (в том числе и гипотетически), отталкиваясь от условий их использования, от связанных с ними поведения, установок и утверждений, присущих «протагонистам исторической ситуации»[600]. И конечно же, за всем этим стоит известная логическая дилемма об уровнях и элементах описания (таковой элемент – это одна фигура или несколько, одно дерево или группа?).
Следующая проблема, вытекающая из проблем словесного описания изобразительного ряда, – это вопрос об отношениях между образом или иконографической программой и тем, что называется со всей лапидарностью у нашего автора «параметрами и концептами», вписанными в функциональный контекст и, как кажется, иллюстрирующими, репрезентирующими и подразумевающими этот самый контекст. Другими словами, перед нами классическая семиотическая проблема референции, но исходный момент этой «аналитической проблемы» – признание того, что сам ритуал выстраивает наш «дескриптивный аппарат». Поэтому функциональный контекст – это контекст литургический, контекст того, что происходит в алтаре. И уже дальше выстраиваются «более обширные иконографические контексты в их средовых и социальных измерениях»[601]. И хотя во всех измерениях присутствует момент художественно-креативный, тем не менее конечные результаты тех или иных художнических усилий зависят вовсе не от одних лишь художников. Наоборот, «художественная экспрессия» – привходящий фактор, источник всего лишь вариантов базового иконографического значения, определяемого, например, текстом Миссала. Кроме того, всегда следует учитывать потенциал, заложенный в социальном окружении, просто отклик на уровне восприятия. Все это тоже действует как фактор сложения изображения-образа.
В каком же порядке раскрываются подобные контексты? Если взять, например, мозаику на триумфальной арке церкви Сан Клементе в Риме (XII век), то самое первое, «традиционное историко-художественное изыскание» будет иметь результатом объяснение четырех «животных» вокруг помещенной в круг фигуры Христа как символов евангелистов. Добавочное значение – символика Слова Божия, проповедниками которого были авторы Нового Завета. Этот этап толкования может быть подтвержден, например, ссылкой на аналогичные изображения, помещенные на проповеднических кафедрах. Но можно и нужно идти дальше, более непосредственно привлекая литургическое пространство. И тогда следует иметь в виду и торжественные процессии (тот же Малый Вход) с участием напрестольного Евангелия. Тогда станет понятно соединение символов с собственно фигурой Христа. Но те же евангелисты рядом изображаются и отдельно, и именно в своем человеческом облике. Поэтому возникает самый главный иконографический вопрос: а каков смысл в изображении их именно в виде «животных»? Не является ли коннотация с «евангелием» вторичной? Что получается, если обратиться к Литургии с точки зрения ее «центра», то есть Евхаристии, понятой в широком, точнее говоря, универсальном смысле, как молитвенное предстояние пред Богом? В этом случае проявляется смысл данного изображения в соотнесении с соответствующим местом из Апокалипсиса (Откр. 4) и из пророка Исайи (Ис. 6). То есть данное место – изображение Sanctus. Бог в Литургии проявляется во Христе. Это значит, что перед нами «литургическое присутствие Отца», равно как и Христа, а следовательно, и Всей Св. Троицы. Помимо сугубо средневековых примеров, подтверждающих эту «иконографию присутствия», по выражению самого Синдинг-Ларсена, можно обратиться к ренессансной визуализации этой идеи в многочисленных дарохранительницах с ангелами, держащими в руках Евхаристическую чашу или гостию. Так что иконографический «аспект» Присутствия соединяется непосредственно с Евхаристией и выражается в целой череде концептов: Св. Троица пребывает в Церкви, Христос остается со Своей Церковью на протяжении всей ее истории, присутствие Христа в Евхаристии под видом хлеба и вина, Христос присутствует в алтаре как Первосвященник и, наконец, присутствие Божества у небесного алтаря – условие приятия Богом Литургии, совершаемой на земном алтаре. И, как подчеркивает Синдинг-Ларсен, фундаментально исключительный характер этих концептов определяет каждое конкретное изображение безотносительно к любой художнической интенции[602].
Важно подчеркнуть еще два момента, уточняющих сам характер подобных иконографических даже не дескрипций, а скорее дефиниций. Во-первых, все вышесказанное подтверждается соответствующими надписями рядом с мозаиками: сомнений нет относительно того, что здесь изображается именно Небесная Литургия. Во-вторых, – и этот момент нам кажется особенно принципиальным – толкование, выяснение подлинного смысла мозаик связано с учетом их местонахождения, «физической, или лучше сказать, пространственной соотнесенности с алтарем». Эти мозаики в своем значении Литургичны благодаря своей функциональной зависимости от соответствующей сакральной зоны внутри церковного пространства. Другими словами, пространственные ориентиры дают интерпретирующий ключ, пример чему – толкование жеста Бога-Отца в знаменитой фреске Мазаччо в Санта Мария Новелла во Флоренции. Как определить (этот вопрос сквозной в историографии), то ли Св. Троица являет Себя молящимся, то ли молящиеся предстоят Богу? Что изображает данная фреска? Можно ли ответить однозначно на вопрос о смысле данного жеста? Проблема движения здесь приобретает принципиальный момент, но с учетом того, что перед нами все-таки двухмерное и само по себе неподвижное изображение, семантика этого образа остается с художественной точки зрения неразрешенной. Остается принять во внимание, что изображение предназначено было для собравшихся на Литургию, которые воспринимали его как визуальную фиксацию обряда элевации гостии[603]. Фактически, перед нами две точки зрения, отличающиеся не просто разной степенью приближения к Литургии, а разной мерой присутствия концептуальной, богословской рефлексии. Но восстановление непосредственно литургически-пространственной ситуации действительно открывает путь к уяснению первоначального, исходного смысла изображения.
Хотя, с другой стороны, остается открытым самый принципиальный вопрос иконографического метода, его сердцевина: что позволяет нам всегда узнавать в тех или иных изображениях Христа, то есть каждый раз идентифицировать сюжет или мотив? Что обеспечивает «концептуальное единство» иконографического описания? Как осуществляется соотнесение с «контекстуальными понятиями», обеспечивающими понимание, и что это за контекст? Фактически, речь идет о концептуальном обеспечении самой возможности «визуализировать» Божество и узнавать Его в зримом обличье.
Эта возможность обосновывается христологически, хотя сам Синдинг-Ларсен делает попытку подвести под это обоснование и тринитарное основание, что выглядит, конечно же, вполне резонным, ибо Христос – образ Отца с одной стороны, а с другой – Он являет воплощенное Божество.
Структура иконографического целого
Итак, существует «иконографическое целое», включающее в себя отдельные элементы и аспекты, взаимоотношение которых друг с другом представляется предметом отдельного анализа[604]. Эти элементы могут быть двоякого рода: или отдельные образы, или программы, включающие серию образов. Отношения могут существовать между ними или между ними и «внешним миром», который, между прочим, тоже устроен не просто. Поэтому полезно выделять «внутренние» отношения и, соответственно, «внешние». К внешним, что очень существенно, относится и взаимодействие образов и программ с «архитектурной оболочкой», подразумевающей соответствующие литургические функции и интерпретации, а также людей, представляющих собой «пользователей» данной постройки и ее иконографического наполнения.
Базовое различие между отдельным образом и программой основано на том факте, что в случае с программой добавляется момент сознательной запланированности результата, как считает Сидинг-Ларсен, в отличие от большей непосредственности в изготовлении отдельного образа. Кроме того, отдельный образ относительно легко локализуется на конкретном месте в пространстве архитектуры, тогда как программа предполагает использование обширных плоскостей, пространств, обладающих несхожими свойствами. То есть если отдельный образ приспосабливается к пространству, то программа отличается большей активностью, включая в себя пространственный момент или подчиняя его себе. Поэтому, например, такое сложное иконографическое образование, как полиптих, несмотря на разнообразие включенных в него образов, представляет собой отдельный иконографический образ, так как нет реального движения по храму и реальной и последовательной смены образов, что предполагается программой.
Из этого мы делаем существенный вывод: речь идет не о техническом и исполнительском единстве, а о сенсомоторном, возникающем не по факту создания изображения, а по факту его восприятия, усвоения, то есть все того же пользования внутри архитектурного контекста.
Из этого следует, что анализ именно иконографических программ дает существенный прирост наших знаний о семантических свойствах архитектурной среды, тем более что уже на уровне «выбора материала» для наших исследований мы должны иметь в виду, что направлять наш иконографический поиск должна именно задача «функционального определения декорированной стены», которая взаимодействует с нами посредством таких медиумов, как живопись или витраж[605]. Иными словами, материальная и вообще исполнительская сторона дела – это и предлог для коммуникации, и ее существенное условие, задающее поведение, в том числе, и исследователя.
Следующий существенный аспект в теме взаимоотношения иконографических элементов внутри программы – это наличие определенной структуры этих самых элементов. И структура эта задается именно тем обстоятельством, что иконографическая программа является и программой литургической, то есть имеющей прямое отношение к совершающейся на Литургии Евхаристической Жертве. Отсюда и иерархический характер этой структуры, предполагающий развитие от центра, связанного с Престолом, и задающий общий порядок и направленность, определяемые функциями Престола и особенностями самой Литургии.
Поэтому в т.н. центральной Литургии, ориентированной на Престол алтаря, то есть на Евхаристическую Жертву, главная и предпочтительная тема – это изобразительное выражение «присутствия» Христа, а через Него – всей Св. Троицы. Отсюда такие пространственные аспекты, как центральная ось, местоположение изображения над Престолом, на сводах и архивольтах и т. д., а также всякого рода симметризм. И за всеми эти свойствами стоит необходимость «адаптации» программы к архитектуре как к месту присутствия не просто образа, а самого Бога, что задает известную иерархию изображений по степени, так сказать, представляемой реальности[606].
За этим стоит проблема более обширная, связанная с ролью визуального порядка и иерархических построений в изобразительном искусстве как таковом и в иконографии в частности. Если иконография подразумевает сообщение, которое должно быть ясным и не затемненным по смыслу, то средство достижения этих свойств – как раз симметрия и всякого рода визуальная артикуляция, например, с помощью варьирования размера главных и подчиненных частей. За этим стоит и методологический момент, связанный с преимущественным обращением внимания именно на свойства и элементы, выделенные визуально и архитектурно. Другими словами, всякого рода регулярность, архитектурно-пространственно обозначенная, стимулирует, в том числе, и интерпретационную активность исследователя, заранее настроенного на выявление особого смысла таких элементов внутри единого иконографического целого. Поэтому можно сказать, что литургически значимая архитектура скрытым и явным образом присутствует внутри иконографии, задавая не просто компоновку тем, сюжетов, образов как таковых, и не просто порядок их прочтения и усвоения, а способ соприсутствия и соучастия зрителя-пользователя внутри среды, ориентированной на алтарь, Престол и Евхаристию[607].
Впрочем, следует каждый раз определять особым образом направленность иконографического чтения: это может быть движение и от алтаря, и к нему. В первом случае предполагается порядок от источника к выводу, во втором – от первого впечатления к его объяснению. Последний случай кажется более распространенным и потому типичным, так как он связан с условиями посещения церкви и молитвенного в ней пребывания. Это точка зрения общины, которую могут составлять и члены монашеской конгрегации. Позиция от алтаря – это точка зрения клира, священника и – добавим мы – Первосвященника, взгляд Которого, впрочем, трудно представить визуально и человеческими средствами.
В любом случае понятно, что именно архитектурная среда выявляет акт зрения как структурно-коммуникативный инструмент иконографических процессов, протекающих в литургическом пространстве. Взгляд – это сила, благодаря которой возводится целостная постройка, а материал для нее – отдельные визуально-сакральные образы, складывающиеся в определенные последовательности.
И возможные проблемы связаны как раз с определением этих последовательностей, их направленности и порядка как такового. Предваряя дальнейшие рассуждения, можно сказать, что предметом истолкования – еще до самих изображений – могут и должны быть сугубо геометрические отношения, за которыми скрываются опять же архитектурно-пространственные явления, хотя сразу следует оговориться, что пространство – понятие, как мы вскоре убедимся, буквально растяжимое, способное простираться за пределы собственно архитектуры.
Итак, существуют два примера сопряжения двух иконографических целостностей, двух тем – Распятия и Вознесения, то есть Жертвы и Славы. Это мозаики триумфальной арки церкви Сан Клементе в Риме и уже известное нам Распятие Sarzana. В первом случае, напомним, Крест изображается посреди райского сада со всеми его атрибутами, во втором – над Распятием представлена сцена Вознесения. Понятно, что порядок смыслоразличения здесь напрямую связан с выяснением вопроса, какая сцена и какое состояние первичнее, что предваряет, а что следует как результат. Сложность состоит в том, что совмещаются два не просто тематических плана, а два онтологических аспекта: мир земной и мир небесный, так что вопросы исторической хронологии фактически упраздняются (Синдинг-Ларсен говорит, что Вознесение «ускользает из строго исторического контекста»[608] – что же тогда сказать о Райском саде?). Напомним, что проблема совмещения иконографических тем задается самими изображениями, которые, повторим, представляют собой законченные программы, а потому требуют целостного рассмотрения как взаимодействие частей.
Но только понимание этой программности как связанной с Евхаристией дает целостное восприятие, предполагающее не столько подчинение изображений, сколько их соподчинение, согласование внутри единого Евхаристического пространства. В первом случае мы лицезреем мертвого Христа посреди райской витальности Небесной Церкви, в виде, так сказать, преображенной Голгофы, во втором – Христа живого, своего рода «знака активной саморепрезентации в актуальности самопожертвования», окруженного сугубо земными, историческими и евангельскими сценами Страстей. В контексте Евхаристической Жертвы Крест Sarzana – это «выделение факта пребывания здесь и сейчас воплощенного Божества в Евхаристическом священнодействии и посредством его». Сан Клементе – это «связь Жертвы с Небесной Церковью»[609]. Понятно, что оба толкования – это отдельные части, последовательные аспекты именно Евхаристии. И ключевым моментом здесь будет Крест, который включает в себя и Жертву, и Славу, объединяя историю и вечность, земное и небесное.
И точно так же отдельные элементы внутри программы могут повторять друг друга в разных версиях и разных масштабах (принцип кумулятивности) или в разных участках пространства (принцип повтора), дабы или уточнить отдельные аспекты Евхаристического целого, или наделить Евхаристическими качествами пространство как таковое (например, повторение сцены Тайной Вечери в разных частях собора св. Марка в Венеции). В целом же, мы узнаем за подобными программно-трансформационными процессами все ту же динамику литургического священнодействия, включающего в себя и архитектуру как пространственное единство, и отдельные изображения, в которые и процессуальность, и архитектурность, и сакраментальность проникают и функционируют с той же очевидностью и непреложностью, что и в развернутых многосоставных программах.
Другое дело, что в отдельных, изолированных образах иконографическая процессуальность фиксируется в структуре самого изображения, в иерархии его формальных и смысловых уровней, пример чему – «Мадонна Пезаро» Тициана.
Главное, что здесь бросается в глаза, – непривычная асимметрия композиции, когда Дева Мария с Младенцем восседают на троне, смещенном в сторону и напоминающем скорее Престол, вокруг которого группируются остальные участники сцены, в том числе апостол Петр, помещенный как раз в центре. Помимо святых Франциска и Антония Падуанского, а также членов семейства Пезаро, в картине присутствуют воин со знаменем, пленный турок в тюрбане и ангелы, несущие Крест. Каков же «внутренний порядок» этой картины? – задается вопросом Синдинг-Ларсен.
Порядок задается взаимодействием элементов, и в данном случае самый естественный ход мысли связан с вотивным характером данного образа, заказанного Якопо Пезаро, победителем турок у Санта Маура в 1503 году. Отсюда – все остальные связи, в том числе и отношения между святыми персонажами и живыми участниками сцены (между прочим, и находящимися во внешнем пространстве собора и относящимися не только к представителям семейства Пезаро, но и, например, к членам францисканской конгрегации). Но этого толкования недостаточно по той причине, что оно не учитывает места и роли Девы Марии и Младенца, а также сакраментальной тематики, выраженной присутствием Креста в сопровождении ангелов. Экклезиологический аспект тематики Боговоплощения и Непорочного Зачатия представлен фигурой апостола Петра, не случайно помещенного в центре и обращенного к живым участникам той Мессы, что совершается в пространстве собора. И тогда трофеи Якопо Пезаро тоже оказываются элементом священнодействия, так как помещенные перед алтарем, они, как всякое пожертвование, освящались от Евхаристической Жертвы.
Но подобного толкования тоже недостаточно для полной картины взаимодействий внутри и вне изображения, ведь дело не только в «формальной Литургике», но и в реальном участии в Литургии членов общины, молящихся как таковых. Мадонна Пезаро пробуждает активную реакцию и порождает у зрителя-участника реальной Мессы попытки соотнести себя с происходящим в картине, чему способствуют и все та же архитектурная декорация, и вообще архитектурно-пространственные структуры, единые и для изображения, и для собственно собора[610]. Можно сказать, что участник реально совершающейся Евхаристии благодаря таким коммуникативным средствам, как пространство, позы и жестикуляция, становится и участником совершающегося в картине. Другое дело, что в последнем случае он остается пассивным элементом, что, впрочем, только подчеркивает его непосредственно литургическую активность. Другими словами, даже отдельное, казалось бы, изолированное изображение именно своим иконографически-литургическим динамизмом объединяет пространство изобразительное и пространство, так сказать, тайносовершительное, оставляя при этом место и для человека. До сих пор, замечает Синдинг-Ларсен, ни традиционная история искусства, ни формальная Литургика не могли предложить методы изучения таких феноменов, связанных с непосредственной референцией пространственных состояний.
Образ и слово, изображение и надпись, иконография и текст
Но прежде чем обратиться к их обсуждению, по мнению Синдинг-Ларсена, следует выяснить и проблематику текстуальных референций, которые могут присутствовать в иконографии, так сказать, иконически, то есть визуально, в виде надписей, сопровождающих образ и наглядно обозначающих его отсылки к текстам самых разных категорий, начиная с литургических и библейских. Даже не имея прямого надписания, изображение само может быть визуальной отсылкой к самому конкретному тексту, как, например, изображение Св. Троицы в виде трех одинаковых фигур, располагающихся перед Распятием. Это прямая иллюстрация слов конкретной молитвы из ofertorium, с прошением, обращенным к Св. Троице, принять освященную гостию в воспоминание Спасительных Страстей[611].
В целом отношение образа и слова – тема достаточно серьезная и, главное, имеющая выход во все сферы изобразительности. Это, так сказать, референция par exellence, и потому ей уделяется довольно много места, хотя сразу отвергается наиболее простое представление, будто образ иллюстрирует текст или надпись «буквальным способом». Такой простой случай встретить нелегко, что доказывает даже первичный вариант референции, связанный, конечно же, с иллюстрированными свитками и кодексами. Даже здесь мы наблюдаем целую типологию возможных отношений между текстом и миниатюрой[612].
Не стоит забывать и то обстоятельство, что сами тексты бывают полны интерполяций, что, конечно же, усложняет поиск прямой зависимости образа от текста.
Но проблема конкретизируется, если мы обратимся не к собственно литературным текстам, а к такой их разновидности, как надписания, то есть тексты, непосредственно и заведомо соотнесенные с изображением. Это, так сказать, иконографические тексты в буквальном смысле слова, и их можно разделить на литургические, библейские, традиционные и синоптические. Здесь, правда, возникает одна проблема, связанная с необходимостью отделять литургический текст от библейского, что сделать бывает непросто, – потому что цитаты из Писания присутствуют почти в любых христианских текстах, в том числе и в первую очередь – в богослужебных. Критерий только один: необходимо убедиться, что данный текст и соотнесенная с ним иконография предполагают определенный литургический концепт, задействованный в «функциональном целом Литургии». Но очевидные «функциональные коннотации» найти нелегко, они скорее суть предмет гипотез и реконструкций, так что иконографическую интерпретацию текстов необходимо предварять их собственной интерпретацией литературной, стремясь в этом достичь ясности[613].
И тем не менее, все-таки возможно выделить именно литургические надписания и, в частности, те из них, которые представляют собой прямые библейские цитаты. Тут возможны самые разнообразные – чисто литературные и текстологические – варианты (например, замена слов, интерполяции, разные редакции библейских текстов). Но надписями могут стать и цитаты из самих литургических текстов, в которых не-библейское происхождение встречается, как правило, в текстах, связанных с календарными праздниками (или с почитанием святых).
Источник же этих литургических цитаций – тексты Ординала и других богослужебных книг, которые представляют собой своего рода фокусировку основных истин христианской веры, главная из которых – искупительные страдания Христа и возможность приобщения к ним в Евхаристической Жертве, что и является «центральным обрядовым аспектом» – присутствие Бога в Евхаристии[614]. И в этом случае получается, что литургические надписи, присутствующие в изображении, – все те же знаки Божественного присутствия в Литургии.
Но иконографически невозможно и не нужно буквально воспроизводить содержание этих литургических молитв. Достаточно иметь иконографию самого «Небесного алтаря», чтобы каждый раз воспроизводить сугубо литургическую ситуацию возношения Даров пред «Престолом Господа Славы». И поэтому допустимо изображать даже не собственно алтарь, но Самого Бога, пред Лицом Которого все и происходит. Но возможна и обратная ситуация, когда изображение алтаря (то есть Евхаристического Престола), переносит зрителя к Тому, Кто принимает жертву. За этими моментами стоит методика иконографического построения, которая, в свою очередь, задает отчасти и методологию построения научно-исследовательского: в том и другом случае действует формула возвышения, достижения более высокого уровня, который сам оказывается источником смысла.
Иначе говоря, возможна цитация чисто иконографическая, не требующая прямой референции соответствующих богослужебных текстов. Но здесь существуют ограничения, связанные с отношением к определенного рода литургическим текстам, часть которых не считалось возможным цитировать (молитвы Евхаристического канона), поэтому можно представить себе иконографические «фигуры умолчания», когда предпочитали библейские цитаты на месте непосредственно Евхаристических. Или могло быть чисто иконографическое оформление, что тоже, как это ни покажется парадоксальным, является формой воздержания, формой запрета, не допускающего вхождения во святая святых литургической молитвы – собственно Канона[615].
Несколько иная ситуация наблюдается в случае т. н. синоптических надписаний, то есть созданных специально по случаю украшения ими определенного изображения. Такого рода надписания могут иметь и библейские эпитомы, но они будут чем-то оригинальным именно по своей форме: дело в том, что такого типа надписания, как правило, суть версификации. Именно очевидная литературно-поэтическая форма сближает эти надписания с самим изображением (то и другое – плоды поэзии, словесной или визуальной) и заставляет не просто читать, но и интерпретировать их, уясняя те изменения, что претерпевает смысл, когда его включают в определенные литературные рамки – с неизбежными искажениями и всякого рода добавочными эффектами – как эмоционального, так и концептуального порядка[616].
В целом же о надписях следует говорить в контексте не только их происхождения, но и непосредственной локализации в собственно архитектурном пространстве. От местоположения смысл зависит в не меньшей степени, чем от источника. Более того, надпись может сама обыгрывать свое местоположение, превращаясь помимо прочего и в своего рода комментарий соответствующих пространственно-литургических структур.
Итак, «виртуальный субъект христианской иконографии»[617] занят тем, что, читая надписи, выстраивает те или иные референции как текстов (групп текстов), так и концептов, представлений, оживающих по ходу Литургии. Подобные связи могут иметь оттенки и степени, но связь неизбежна, коль скоро образ находится в литургическом пространстве и сфокусирован на Престоле и на тех текстах, что «стоят за ним», то есть используются в совершаемых на Престоле священнодействиях. Другими словами, надписания вызывают аллюзии у тех, кто участвует в Мессе и кто созерцает иконографически выстроенные изображения. Но только ли созерцает? Не предполагают ли «иконографические процессы» тоже особого рода соучастия? Или, выражаясь точнее, не осуществляется ли участие в Литургии, в том числе, и через иконографию? Иначе говоря, аллюзии – это те же связи, отношения, выстраиваемые через тексты, но между людьми и теми, кто является предметом изображения.
Упоминая изображения, например, святых, Синдинг-Ларсен указывает на особую роль, которую им отводит Литургия: они призваны привлекать молящихся, пробуждать у них интерес к службе, то есть стимулировать активное в ней участие. В связи с изображениями святых расширяется круг текстов, участвующих в иконографических построениях: это уже не только Миссал, но и Бревиарий, который содержит в себе темы, расширяющие сугубо литургическое содержание изображений.
Еще важнее тот момент, что тексты типа Бревиария предполагали более индивидуальное с собой обращение, они использовались в частном, а не только в общественном молитвенном обиходе[618]. Отсюда возникают вопросы: кто и как использовал Бревиарий, как его читали и где (в том числе и дома)? Другими словами, в этих текстах было больше собственно чтения, и поэтому они дают личностное и индивидуализированное измерение той же иконографии, предполагающее большую степень близости к изображению, более тесное с ним общение.
Отсюда один шаг к следующей проблеме, связанной с присутствием текста в иконографии. Ведь тексты могли читать не только заказчики изображения, не только просвещенные зрители и участники службы. Персональное измерение иконографии предполагает и делает в определенный период истории искусства вполне возможной и практику чтения самими художниками. Результаты этого чтения неизбежно становятся материалом иконографического построения. Но материалом весьма особого свойства, так как процесс чтения, его характер и последствия совсем не так просто верифицировать. Замечательный пример тому – Сикстинский потолок, автор фресок которого, как известно, весьма прилежно, хотя и на свой лад, штудировал Библию. Что он из Нее мог извлечь – это вне возможностей исторического исследования. Единственный критерий достоверности здесь – чисто функциональный, как вынужден признать Синдинг-Ларсен: мы должны надеяться, что сугубо официальный – папский – заказ не позволял Микеланджело быть слишком свободным в интерпретации и обходиться без согласования образов с высоким заказчиком. Вклад Микеланджело как художника в иконографическую программу, хочется надеяться, был чисто исполнительский, не концептуальный.
Другая практика обращения с текстом, влиявшая на иконографические процессы, – это даже не столько чтение, сколько перечитывание определенного текста, известного сочинения авторитетного автора, например отца Церкви (скажем «О Граде Небесном» Бл. Августина) каким-либо ученым богословом. Его цель – приспособить текст к широкому употреблению, и результат подобной адаптирующей интерпретации – согласование с возможностями иконографии. Впрочем, для самого Синдинг-Ларсена возможность происхождения и объяснения какой-либо иконографической программы, а точнее говоря, «иконографии литургического пространства» из опыта истолкования некоего конкретного текста не кажется идеей приемлемой. Причина заключается в том, что, по мысли нашего автора, подобный «монографический» подход очевидным образом антифункционален, так как не учитывает именно происходящего рядом с изображениями, а именно – самой Литургии. Любой богословский текст предполагает свое включение в «текстуальное литургическое тело», которое находит место внутри себя всякому «фундаментально-ценностному концепту», делая его тем самым доступным для использования. Иначе говоря, если текст имеет церковную рецепцию, то это означает одно: он прошел сквозь Литургию (точнее говоря, его автор) и потому уже не может восприниматься и рассматриваться изолированно. Храмовая декорация – это функция Литургии, понятой, помимо прочего, и как пространство Предания, которое задает первичный уровень смысла всего, что присутствует и происходит в литургическом пространстве. И только вторым слоем задается смысл персонализированный и монографический, и его нельзя рассматривать изолированно от первичного, фундаментального уровня.
Это касается и таких типов изображений, которые, действительно, напрямую не включены в литургический контекст, то есть не сфокусированы на Престоле, не имеют с ним непосредственного контакта. Это, например, вотивные изображения. Но тем не менее, отсутствие прямой связи не означает отсутствия косвенной – «модусы взаимодействия» с Литургией могут быть весьма разнообразными. Главное, что они существуют всегда, и их отыскание – один из аспектов именно иконографического анализа.
Прежде всего, «нет такого аспекта взаимоотношения человека с Божеством или со святыми, который не выражался бы литургически через привлечение важнейших библейских событий»[619] (изображаемых, добавим мы, иконографически). Поэтому, как правило, «религиозная иконография внутри физически не-литургического контекста все-таки не покидает сферу референций, связанных с литургической иконографией». Мы в данном случае привели прямую речь Синдинг-Ларсена, чтобы показать сам порядок его мысли: литургическое пространство включает в себя не только материальные объекты и физические действия, но и смысловые отношения, те самые аллюзии, которые суть именно референтивные отношения, не менее реальные, чем все прочие. И референция пробуждает иные сферы, другие пространства, объемлемые, тем не менее, пространством Литургии.
И по этой причине все эти сферы-пространства включаются в пространство иконографическое, точнее говоря, присутствуют в нем в виде его (пространства) измерений, разного рода иконографических модальностей, описание которых, впрочем, не всегда может быть предметом сугубо научного анализа[620].
Литургия, вообще говоря, обеспечивает коммуникацию религиозных идей как таковых даже вне храмового благочестия, так как литургический характер имела и повседневная жизнь верующих (особенно если иметь в виду жизнь монашескую). Наконец, Литургию можно понимать в качестве иконографического источника и чисто институционально, так как именно ради нее строились храмы.
Но проблема «Литургичности» иконографии имеет еще один аспект. Дело в том, что Литургия представляет собой слишком сложную систему, будучи одновременно процессом. И потому иконография не способна полностью «покрыть», то есть охватить, все те концепты, что «формализованы в [литургических] чтениях и с которыми установлены специфические референции»[621]. Как всякий ритуал, Литургия отличается, например, элементами повторения, и потому любая попытка охватить иконографически лишь «порцию» Литургии будет неизбежно пробуждать ассоциативные ряды с другими частями. Это та цена, которую приходится платить за последовательно системный характер ритуала. Это пример своего рода смыслового «избытка», когда в дело вступают коннотации, на которых первоначальное «сообщение» сфокусировано не было.
Более того, возможен случай, когда та или иная иконография возникает именно в ситуации отсутствия прямого Евхаристического контекста. Это случай с почитанием Тела Господня, что связано с Великим Пятком, когда традиционно не совершается Литургия. Но тем не менее, уже просто фокусировка на Престоле задает литургические значения в расширенной смысловой перспективе, которая, например, учитывает весь богослужебный год, а не только один день Страстной Седмицы[622].
Наконец, следует учитывать, что существуют многозначные отношения внутри самого текста Литургии, особенно если учитывать календарно-богослужебные вариации, связанные с конкретными праздниками (например, известное «Трисвятое», происходящее из текста Исайи, может повторяться в виде особого чтения, например, в неделю после Пасхи и в неделю Всех Святых, что, несомненно, усложняет восприятие этого текста иконографически, в виде надписи на триумфальной арке в Сан Клементе).
В целом, мы можем сказать, что использование текста в виде иконографической надписи – это универсальная ситуация для иконографии вообще, когда оказывается возможным сопрягать, казалось бы, столь разнородные вещи, как письменное слово и визуальный образ. Важно то, что существует место их сопряжения – литургическое пространство, проявляющее тем самым свое фундаментальное свойство служить целям коммуникации в самом широком смысле этого слова, то есть быть посредником между отдельными уровнями и аспектами бытия. Но, скажем сразу, это наблюдение – как и все сказанное выше – только приближение к пониманию литургического и, соответственно, храмово-архитектурного пространства как такового.
Литургическое пространство архитектуры
Как же можно описать это пространство в двух словах? Синдинг-Ларсен предлагает трактовать его в «пределах формально-функциональных ценностей и, исходя из этого, – в терминах собственно символических»[623]. Более того, это пространство должно быть активизировано, и совершается эта активизация, подобно электромагнитному полю, благодаря взаимодействию человеческого, архитектурного и иконографического «оборудования». Кроме того, литургическое пространство – это область, используемая для совершения литургического обряда и для участия в нем. Требование к литургическому пространству в этой связи имеет прежде всего негативный характер: оно не должно мешать или препятствовать совершению Литургии и участию в ней. Поэтому в нем выделяются особые и обособленные места с ограниченным доступом, обеспечивающим беспрепятственное совершение службы (в том числе, алтарь под балдахином)[624]. Если же говорить о положительных аспектах литургического пространства, то это прежде всего такое его обустройство, которое помогает – буквально «содействует» – исполнению литургических функций. Это содействие осуществляется путем установления системы или преград, или направляющих, поддерживающих ход священнодействия (выделение того же алтаря с помощью ступеней или алтарной преграды). И все это достигается, как легко догадаться, архитектурными средствами. Обходная галерея вокруг алтаря романских храмов, обеспечивающая движение паломников вокруг алтаря и его святынь, – вот наглядное воплощение этих, так сказать, «структурирующе-сакраментальных» функций архитектуры. Архитектура буквально располагается позади литургически значимого места, как бы охватывая, обволакивая его. Возникает своего рода «архитектурная оболочка», внешняя пространственно-пластическая «скорлупа», которая внутри себя подразделяется на отдельные компартименты, участки, зоны благодаря всякого рода дополнительным элементам, подвижным и стационарным типа конфессионалов, табернаклей, купелей, кафедр, подсвечников и т. д.
Эта архитектурная оболочка реально содержит в себе пространство вообще и пространственные «секции» в частности и наделяется теми или иными качествами благодаря соответствующим литургическим и иным функциональным, а также символическим и иконографическим значениям, «приписываемым ему». Эти значения проявляют себя двояким образом: они или происходят из общеупотребительных (ходячих) литургических представлений, «окрашивая» собой все, что с ними соприкасается, но без необходимости конкретных, так сказать, формулировок, или непосредственно соотносятся с «систематическими письменными высказываниями» литургического свойства. Замечательный пример первого случая – знаменитая структура Анастасис в Иерусалиме с ее соединением ротонды и базилики. Всякое повторение этого архитектурного типа представляет собой, вне всякого сомнения, способ воспроизведения концепции Св. Града как такового, напоминание об Иерусалиме и обо всем, что с ним связано. А в основе этой практики и подобных представлений лежит фундаментальнейший литургический принцип memoria passionis, то есть воспоминание спасительных Страстей Господа. Второй способ наделения значением архитектурной оболочки – не менее знаменитая концепция христианского церковного здания как образа Небесного Иерусалима. Здесь мы тоже находим в основании идеи литургический аспект (связь земной Литургии с Небесной). Но осуществляется это означивание пространства уже с помощью письменных и при этом – аллегорических текстов[625].
В общем же виде литургическое пространство имеет иерархическое членение, в котором выделяется собственно Престол и само здание. Каждой из названных структур соответствует целый набор смысловых инстанций-измерений, в свою очередь, предназначенных для интерпретации – символической и аллегорической.
Вот, например, четырехмерная семантика Престола: 1. Совершение Литургии, что характеризуется временем совершения, местом, особыми установлениями-условиями (определенный монастырский устав, ситуация собора или, наоборот, приходской церкви и т. д.). 2. Особые функции (высокий алтарь, алтарь для частной Мессы, для погребальной капеллы, алтарь, установленный в соборе, в частной церкви и т. д.). 3. Особое посвящение (Деве Марии или святым, специальные аспекты посвящения – Непорочному Зачатию и т. д.). 4. Напрестольная утварь и прочий алтарный инвентарь и храмовая обстановка.
Семантика самого здания представлена еще более дифференцированно и разнородно: 1. Класс и функция здания (кафедральный собор, приходская церковь, монастырский храм, дворцовая капелла и т. д.). 2. Литургия (в соответствии с условиями пункта 1). 3. Посвящение. 4. Экономически-социальный статус. 5. Особые внутрипространственные решения.
Повторим, что каждый из пунктов – это именно аспект пространственной семантики, который предполагается учитывать даже при простом семантическом описании, хотя за ним стоит и такая ответственная вещь, как интерпретация.
Ответственная, но неизбежная, так как это только оборотная сторона описанного выше процесса наделения значением пространства Литургии. И дело не только в считывании информации, заложенной самой Литургией и всеми прочими средствами. Интерпретация – это продолжение все той же коммуникации, то есть форма участия в совершаемых действиях, способ присутствия в значимой символической среде, которая требует ответной реакции, в том числе и в акте понимания и истолкования, происходящем в общем виде по той же схеме, что и акт означивания. Мы имеем дело или с письменными источниками в сочетании с типологическим подходом к самой архитектуре (Престол и его окружение как место memoria passionis, согласие между земной и Небесной Литургией и т. д.), или с непосредственным опытом, происходящим из общения, в том числе, и с иконографией, включая и надписания.
Наконец, литургическое пространство – это среда не только сугубо обрядовой, но и визуальной, а также и звуковой коммуникации, происходящей, тем не менее, внутри именно пространственных структур и – что самое существенное – благодаря им.
Поэтому более подробное описание архитектурного пространства как такового представляется вещью неизбежной, особенно в контексте иконографических взаимодействий и процессов. Но прежде – определение пространства вообще. И с точки зрения обыденного сознания, которое Синдинг-Ларсен соединяет с «архитектурным и средовым контекстом», оно означает «некоторый тип трехмерного континуума со своими физическими и концептуальными границами». Концепция пространства должна учитывать и «осознание направлений и ограничений, содержащееся в реакциях на эти специфические качества, ради функционирования которых пространство и замысливается и с которыми оно ассоциируется на уровне поведенческих установок»[626].
Поэтому полезно рассматривать отношение иконографии к подобному пространственному окружению в двух аспектах. Во-первых, это т. н. простое отношение, которое проявляется, например, в пространственном соседстве картины и алтаря без учета точки зрения, заданной внешним наблюдателем, будь то молящиеся в нефе или в хоре. Второй тип отношений – «отношение обусловленное», которое устанавливается между иконографией и архитектурным пространством и которое зависит от точки зрения наблюдателя и обусловлено частично мотивировкой его вхождения и пребывания в данном помещении[627]. Сразу следует оговориться, что «наблюдатель» – это член общины, которая понимается тоже достаточно широко, хотя исходная модель – это, конечно, община монашеская (собственно конгрегация).
Но даже и «простые отношения» лишены были бы смысла, если бы не учитывалась функциональная сторона этих отношений. Само помещение, в котором находится картина, может обслуживать целый набор назначений, и она будет комментировать эти назначения или те представления, что стоят за ними. Поэтому иконографическое построение будет именно сообщением, которое отправляет тот, кто составляет иконографическую программу, адресуя его тем, кто заведомо готов адекватно уяснить эти функции, кто знает о назначении этой иконографии и кто, соответственно, отличается от любого иного потенциального наблюдателя – и своим социальным статусом, и образовательным уровнем, и прочими свойствами. Кроме того, функциональные параметры – это прежде всего Литургия и участие в ней в тех или иных формах.
Иконографическая программа может отсылать к функциям здания как такового или к его особым частям (а может и обыгрывать отношения здания и его частей)[628]. Но в любом случае это будут отношения, построенные на функциональном содержании самой архитектуры. И это содержание передается по принципу «смежности» (то есть, фактически, метонимически) и иконографической программе. Связующее звено у архитектуры и иконографии, как нетрудно заметить, одно – это интенции строителей и заказчиков постройки вкупе с авторами иконографической программы. Можно сказать, что пространство литургической архитектуры и пространство литургической иконографии соприкасаются в пространстве намерений и желаний чего-либо добиться, иными словами – в прагматике (пусть даже и умозрительной).
Другое дело, когда сами пространственные условия определяют иконографию, когда смысл изображения зависит от восприятия его в архитектурной среде, когда от его места (и места зрителя) зависит его значение. Порядок исследования «обусловленного значения», согласно Синдинг-Ларсену, таков: сначала фиксация всех форм взаимодействия архитектуры и иконографии безотносительно к перспективным аспектам и позициям зрителя, а затем – тщательное описание отношений, существующих благодаря перспективным эффектам и точкам зрения в свете литургических функций и практик, церковным социальным отношениям и т. д. Другими словами, «обусловливающими» факторами оказываются пространственно-перспективные аспекты вкупе со зрительскими позициями, которые, в свою очередь, объясняются литургической практикой, идеями, социальными факторами. Отсюда преимущественная роль архитектурных планов, обустройства постройки, положения алтаря и, конечно же, композиционных структур изображения. Другой фактор, столь же значимый, – это более узкий аспект пространственных отношений, связанный со степенью приближенности наблюдателя, например, к изображению, степенью его обозримости (та же близость, но визуальная) и степенью приближенности к Престолу – как его самого, так и изображения вместе с иконографией. Последний момент имеет в виду то, что доступность изображения зрению может быть связана с его положением относительно Престола (на нем самом, по одной с Престолом оси – вертикальной или горизонтальной, сбоку от Престола и т.п.).
Собственно говоря, речь идет о том, что иконография питается, так сказать, не только визуальной приближенностью наблюдателя к Престолу, но и степенью приближенности его к священнодействию как таковому, то есть степенью его участия, вовлеченности. Тот же аспект присутствия Христа в образе может иметь обратную зависимость от степени присутствия молящихся в Евхаристии: чем более они отделены от нее, тем более Евхаристические качества могут переноситься на те же изображения Христа. Полная вовлеченность молящихся в священнодействие делает образы менее значимыми и литургически, и иконографически. Можно даже сказать, что сокращение дистанции ведет к сворачиванию архитектурного пространства, к его упразднению в акте прямого Богопочитания, между прочим, выражаемого и буквально – в акте Причастия, о котором наш автор, кстати, практически не упоминает[629].
Но если вернуться к сугубо художественным отношениям, то и здесь мы видим схожие проблемы редукции трехмерного архитектурного пространства к двухмерному – живописному, относящемуся к изображению и, соответственно, к иконографии, а также и к зрителю, для которого живописное пространство выступает посредником в его преимущественно визуальном опыте общения с пространством трехмерным. Поэтому трудно обойтись без внимания к подобным двухмерным аспектам литургической иконографии.
Дефиниции Синдинг-Ларсена, как всегда, точны: «живописная композиция со своей частичной аранжировкой пространства интерьера посредством некоторых образов определенной протяженности пробуждает в наблюдателе ощущение связи – в понятиях, например, доступности или расстояния – с изображенным предметом»[630]. Выражение «определенная протяженность» означает то, что живописное пространство действует как компонент литургического пространства в той мере, насколько оно воспринимается наблюдателем (достигает наблюдателя). Живописное пространство способно передавать представление о реальном пространстве – о его закрытости (и недоступности) или о его разомкнутости (доступности). На эффекты, достигаемые с помощью живописного пространства, влияют и отношения между определенной иконографией и архитектурой, а также известные живописные схемы.
Восприятие живописного пространства участником Литургии зависит и от того, в каком отношении к Литургии находится данная иконография. «Регулируемая и регулирующая ритуальная система» определяет и понимание и того, как взаимодействует живописное пространство с реальностями земными и трансцендентными. Именно Литургия определяет «модусы взаимодействия в деле и идее» зрителя или общины с теми вещами, что «иллюстрируются» в литургической иконографии. Литургия обладает «регулирующим эффектом» и как артикулированная система проявляет себя внутри определенных временных отрезков, в которых иконография действует исчерпывающе, как тоже система, благодаря которой человек – участник священнодействия[631] достигает тех сущностей (Божественное присутствие, Жертва), которые иллюстрируются иконографически. И достигает он их внутри пространственного контекста, который на уровне перцепции пробуждается той же системой. Литургия формализует восприятие таких сущностей, как Божество и Жертва, а также и отношение к ним в реальности. Одновременно и совместно с этим формализуется и восприятие иконографической иллюстрации этих же вещей. И происходит это в едином процессе, в виде одной операции.
Понятно, что речь идет о «строго ритуалистической точки зрения», которая может расплываться и казаться нечеткой, если смотреть на подобные вещи с обыденной точки зрения. Для исследователя же все вышесказанное суть самые базовые принципы, необходимые при любом обсуждении иконографической проблематики. Но и для составителей иконографических программ, для клира и общины, то есть для первоначальных пользователей изображениями такого рода, «регулирующие эффекты» вполне могли планироваться по ходу выработки программы и разработки требований к ней. Поэтому общим требованием должно быть сложение в контексте Литургии той терминологии, что описывает «отношения между наблюдателем и живописным пространством внутри образа, находящегося внутри церкви или капеллы». Это должно быть предварительным условием всякого анализа живописного пространства с точки зрения как зрителя, так и пользователя. Этими терминами должны быть такие понятия, как «дистанция», «близость», «доступность», «недоступность» и проч., охватывающие самые существенные моменты в Литургии и в литургическом пространстве с учетом «различных модусов Божественного присутствия в Мессе». Собственно говоря, саму Литургию и Того, Кому мы обязаны ее происхождением и Кто является ее целью, нетрудно описывать в терминах пространства. Как Христос – посредник между миром Небесным и миром земным, так и Литургия – мост, возведенный над бездной богооставленности, а участник Литургии – viator, странник на пути к небесным сокровищам.
Поэтому крайне полезно выделять такие иконографические случаи, когда подобные термины расстояния выражены эксплицитно, когда они проиллюстрированы и потому могут быть описаны. Можно выделить иконографию, так сказать, соотнесенную с расстоянием и доступностью, и лишенную подобной референции[632].
То есть возможны два различных типа изобразительности применительно к основным предметам иконографического их представления. Первый тип воспроизводит близость и прямую доступность, второй – дистанцию, которая преодолевается участием в Литургии. Этим двум типам соответствуют два типа пространственных концепций: первый иллюстрирует близость в виде пространственного единства или прямого взаимодействия лицом к лицу; второй передает дистанцию, которую требуется преодолеть посредством прямого проникновения.
Наблюдатель поэтому может по-разному контактировать с живописным пространством и содержащимися в нем предметами, но эти контакты всегда артикулируются трояким способом: достижимость через движение, достижимость через пространственное объединение, достижимость через проникновение.
Первый иконографически-изобразительный тип имеет в виду ту самую фундаментальную идею, что жертвоприношение совершается пред Лицом Бога, Пребывающего на Небесах. И это предполагает «иконографическую технику», передающую доступность в понятиях движения, безотносительно к обозначению пространственной дистанции как таковой. И согласно этой технике изображаемое лицо (Божество или святые) предстает в центре изображения и лицом к лицу с молящимся. При всей очевидности этого иконографического приема он вызывает некоторые методологические затруднения, которые можно проиллюстрировать примерами фресок Джотто в Капелле дель Арена и фресок Орканьи в табернакле Ор Сан Микеле. Сравнение сцен Введения во Храм Девы Марии позволяет говорить о ритуалистичности, схематизме композиции Орканьи и свободе, реализме Джотто. И что, мол, первый – симптом заката тречентистского стиля… Но крайне важно иметь в виду местоположение пусть и одинаковых сцен: Джотто – это нарратив боковых стен, а Орканья – это центральный предмет поклонения и почитания.
Изобразительный тип, реализующий принцип пространственного единообразия, известен с раннего Средневековья. Живопись в этом случае в своих композиционных структурах представляет собой своеобразное эхо своего реального архитектурного окружения. Когда, например, мозаики апсиды с изображением Девы Марии с Младенцем в римской церкви Сан Франческа Романа (сер. XII в.) воспроизводят на заднем плане аркатуру самой церкви, то, несомненно, возникает ощущение, что «земное церковное здание продолжается уже в небесной базилике»[633]. Именно архитектурные мотивы воспроизводят идею связи земной церкви и торжествующей, отражения в земной Литургии – Небесной. Реализуется же это через продолжение написанного пространства в реальном, которое, напомним, есть пространство архитектурное и литургическое.
Третий тип – самый специфический и при этом – наиболее поэтический. Это видно в той же церкви Сан Клементе, где в апсиде изображено весьма реалистическое Распятие, то есть историческое событие, воспроизводимое в Литургии, которое помещено в окружение из разнообразной символической растительности, напоминающей о Райском саде и о его эсхатологическом воплощении – Небесной Церкви… Синдинг-Ларсен выражается так: «Реально пребывающая в Мессе Жертва с помощью живописи переносится в высший мир, в который и мы силимся проникнуть…»[634]
Участник священнодействия и пользователь иконографии
Но Литургия – это не только идеи, представления и переживания, но и ритуал, священнодействие. И в терминах, так сказать, сакраментально-ритуальных необходимо тоже описывать иконографию, понимание которой поэтому только расширяется, если учитываются такие моменты, как совершение Таинства и участие в нем (хотя бы на уровне внимания).
Уже говорилось о центральных и вспомогательных функциях Литургии. К этому следует добавить и те аспекты, которые связаны с позицией наблюдателя, коль скоро речь идет об иконографии. В ритуальном контексте образы следует обозначать как процессуальные, имея в виду не только процессии и использование в них образов, но и процессы (прежде всего – коммуникации), в которых образ предстает как сообщение, как передача значения. Так что речь идет не только о производимых с образами действиях, но и о знаках внимания, оказываемых образам (коленопреклонение, лобзание и т. д.).
Но действия имеются в виду вполне физические, что, между прочим, возвращает нас к проблематике пространства. Если же иметь в виду, что действия могут носить характер и потенциальный («нефизический модус»), то становится понятным, что за силы заложены в переходе от трехмерной архитектурной среды к двухмерному миру иконографии как таковой. И все это не только способ привлечения внимания, но и средство пробуждения «специфически релевантных коннотаций», говоря языком Синдинг-Ларсена.
Внимание к иконографической программе фокусируется тремя способами: физическими действиями, о которых уже говорилось, положением иконографии в литургическом (и всяком прочем) пространстве, а также разного рода значимыми контекстами, специально для этой цели сформированными самой Литургией. Главная проблема здесь состоит в том, что внимание к иконографии предполагает прежде всего визуальный контакт, который не так легко реконструировать хотя бы по той причине, что такого рода опыт трудно зафиксировать письменно. Но в любом случае этот опыт зависит от разнообразных способов или модусов взаимодействия молящихся с самим литургическим пространством и его наполнением (литургическими объектами), где действуют и соответствующие предписания поведения, и разного рода обычаи, так что эту проблему внимания можно прямо обозначить как социальный аспект литургической иконографии[635]. Следует помнить, что всякое обращение с вещью, пусть и освященной, сакральной, выводит нас в область повседневного существования с обычаями и правилами предметного окружения даже самых простых людей. Эта объектная среда, как известно, исполнена особого символизма, не без экзистенциального оттенка…[636]
Но внимание к иконографии – это и внимание к ритуалу, где существуют и моральные аспекты дела, так как противоположность вниманию – рассеянность, равнодушие, пустая мечтательность, формальное, внешнее отношение к богослужению. Наконец, эмоциональное соучастие в службе тоже заслуживает внимания – со стороны историка, который, впрочем, обязан прежде выяснить, а что же такое для людей того или иного времени были сами «священные образы»[637].
Столь же очевидная проблема в предлагаемом литургическом анализе иконографии – та модальность иконографического построения, которая описывает его как «сообщение», то есть носитель значения, интендированного со стороны «отправителя»[638]. Сложность здесь состоит в том, что в качестве сообщения – пусть и невербального – иконография должна отражать опыт, компетенцию и интересы двух сторон: отправителя и получателя. И здесь могут быть известные несовпадения, во всяком случае, всегда могут возникнуть случаи, когда требуется дополнительное согласование желаний и потребностей этих двух сторон.
Синдинг-Ларсен иллюстрирует данную проблему примером пожертвования неким частным лицом некоего шедевра живописи некоему приходу во главе с неким духовенством. Какое значение «сообщается» в акте жертвования, то есть дарения, когда невозможно, что называется, отказаться? И как значение чисто формального, художественного достоинства жертвы восполняется и дополняется его содержанием, о котором даритель мог и не задумываться? Для него смысл дарения состоит в том, что это шедевр со всеми вытекающими коннотациями, в том числе и социального, и эстетического свойства. Для духовенства же того прихода, где совершено было пожертвование, все подобные символико-эмоциональные аспекты («включая специфические стилистические характеристики»[639]), должны были мыслиться в иной модальности, позволяющей этому дару соответствующим образом – и концептуально, и эмоционально – воздействовать на прихожан. Проблема имеет в данном случае двоякую направленность: что необходимо делать с подобным «шедевром» – принять его как есть или концептуально модифицировать, чтобы он «соответствовал первичному уровню эффективности внутри коммуникативной системы, как ее видят [духовные] авторитеты», и не рассматривать ли его как своего рода намек, повод для некоторого расширения сферы действия той коммуникативной системы, которую он представляет?[640] Оговаривая всю искусственность, но тем самым и показательность данной ситуации (ни одно произведение искусства невозможно рассматривать только как шедевр, и ни один священник не думает только о том, какое производит впечатление на его паству то или иное пожертвование), Синдинг-Ларсен указывает, со всей справедливостью, на возможность и альтернативного прочтения «сообщения», и альтернативной реакции на требования заказчика. То и другое возможно и расширять, и сужать, и обновлять, и вводить в прежние рамки и требований, и ожиданий. Поэтому столь важно определить некий исходный уровень, релевантный всякому иконографическому сообщению.
Этот уровень отражается в трех модусах проявления иконографии как сообщения. Первый случай – это когда «выбранный иконографический паттерн или морфологическая схема принимается полностью или в качестве приемлемой тем, кто оказывается в данном контексте «подателем» сообщения <…>, так что первичное литургическое сообщение оказывается объектом коммуникации, так сказать, автоматически (или когда некоторый набор сообщений согласуется с определенным этапом в литургическом процессе)»[641]. Самый крайний пример такого рода – заказ копии какого-либо прославленного образа для украшения некоторого Престола (просто алтаря).
Второй модус предполагает случай, когда некоторая иконография предлагает новую «морфологическую формулировку» такого сообщения, для которого используются обычно иные «морфологические идиомы». Наличие альтернативы предполагает выбор и, значит, тех, кто этот выбор осуществляет, преследуя свои интересы и проявляя свою компетенцию.
Если первый модус предполагал равенство и равновесие между двумя инстанциями – исполнителем и заказчиком, а точнее говоря, между отправителем и получателем, – то второй модус имеет в виду, как уже говорилось, выбор и, соответственно, инициативу получателя (он же заказчик, патрон, пользователь)[642].
Третий модус – это такой «набор иконографий, которые воспроизводят сообщения, представляющие собой приемлемые смещения того [исходного] сообщения, что принимается за основное (первоначальное)». И достигается подобная «транспозиция» посредством вмешательства в «художественную разработку» изначальной и изначально приемлемой схемы (ее или редукции, или, наоборот, усложнения). Выработанная новая иконография пробуждает в «отправителе» модифицированное коммуникативное пространство, способное расширяться на столько, на сколько необходимо, чтобы включать в себя и последующие коннотации. Разработка же предполагает или углубление, прояснение или смешение смысла согласно компетенции и участию различных групп адресатов. Синдинг-Ларсен к этому модусу относит случаи изображения Распятого Христа не мертвым, согласно евангельскому рассказу, а живым – согласно литургическому контексту, имеющему в виду живое присутствие Спасителя в Евхаристическом собрании.
Третий модус предполагает активность художника, его способность к инновациям и просто творчеству, что имеет и сугубо конструктивный смысл, так как обогащает не только морфологический репертуар, но саму коммуникативную ситуацию, демонстрируя возможности взаимодействия и общий уровень тех или иных «семантических систем», к которым, несомненно, относятся и все иконографии, и все стили, и все формы богослужения.
Но самое главное другое: в цепочке «отправитель – медиум – получатель» мы обязаны узнавать «открытую систему», так как сам факт принятия «сообщения» или его отвержения приводит в действие и заставляет то «окружение», что стоит за каждым из звеньев, взаимодействовать с каждым из них. И потому мы имеем здесь «область интуитивной реконструкции», за которую отвечает аналитик, избегающий, как выражается Синдинг-Ларсен, исследований в терминах пропозициональных исчислений. Это область «максимальной системной открытости», область, «генерирующая социальные ситуации». А системы, которые постулируются в качестве обязательных, равно как и чистая интуиция, ни чем не обусловленная, – все это не оставляет шанса на «аналитическую продуктивность»[643].
Итак, все упирается в пользователя – как иконографии, так и ритуала. Учет его роли в истории искусства тем более необходим, чем более оценка самих художников зависит от «проспективного пользователя», которым может быть и непосредственный заказчик, и всякий последующий заинтересованный (так или иначе) зритель, которым не в последнюю очередь, между прочим, является историк искусства.
Но кто же такой этот «пользователь»? Это, несомненно, вопрос социологический, и ответ на него зависит от меры включенности историка искусства в соответствующую дисциплину. Но возможен вполне непосредственный ответ: это община, «снабженная иконографией» и пользующаяся этой самой иконографией. Но пользователей можно сгруппировать, например, по образовательному признаку (неграмотный пользователь – это особая категория, существенная для иконографического анализа). Можно и нужно выделить и т.н. непрямого пользователя, то есть, такие группы возможных зрителей, например, которым первоначально данное изображение не предназначалось[644]. Но само выражение «предназначаться» напоминает нам еще об одном типе пользователя, его трудно обозначить одним русским термином, который был бы эквивалентен английскому planner[645] (автор программы).
Проблема состоит не в том, кому приписать замысел изображения и кого считать ответственным за его содержание, а в том, что за теми или иными социальными группами стоят определенные интересы и потребности, удовлетворение которых связано именно с потреблением, то есть с восприятием и уразумением данного изображения, организованного тем или иным иконографическим способом. Итак, проблема пользователя – это проблема не только происхождения изображения, но и его дальнейшей судьбы. Другими словами, интересы и компетенция пользователя определяют и последующие смысловые коннотации, и не заложенные, быть может, в первоначальном «проекте». Иначе говоря, мы возвращаемся на новом уровне к проблеме функционирования иконографии, имея теперь в виду, что она не только исполняет поставленные перед ней первоначальные цели и задачи, но может служить инструментом в достижении целей, ею не предусмотренных и ее превосходящих. И подобная, так сказать, «расширительная прагматика» иконографии, несомненно, требует особого подхода, который, действительно, можно назвать «литургической социологией».
Вопрос восприятия и усвоения изображения, способов обращения с ним требует учета и стилистики, которая есть набор приемов использования художественно-выразительных средств. Готовы ли пользователи данного изображения воспринимать не только его содержательную, но и стилистическую сторону? Особенно если стиль отличается индивидуальностью и, быть может, необычностью, неожиданностью, нарушающей привычные ожидания заказчика. Кто и как, например, воспринимал и усваивал в маленьком провинциальном городке столь необычную живопись, что являет нам «Снятие со Креста» Россо Фиорентино (Музей Вольтерры)?
В любом случае становится понятным, что пользоваться слишком общими понятиями вроде понятия «община» не совсем удобно, и полезнее применять более мелкие членения, всегда имея в виду, что и за этим более мелким социальным масштабом стоит «оценка иконографии в понятиях нормативных и исследовательских предположений, учитывающих и смысловой горизонт, и произведенный эффект»[646].
И если уточнять степень вовлеченности в происходящее в той же «Мадонне Пезаро» Тициана разных групп наблюдателей[647], то удобно, включая в поле внимания «социологический потенциал Литургии», разделить «соучастников» картинного действия на три группы, которые, между прочим, взаимодействуют друг с другом.
Первая группа – это, естественно, те, кто изображен на картине и кто себя на ней узнает, то есть сам наблюдает свое в ней участие. Вторая группа – это те, кто ощущают свою «социальную эквивалентность» изображенным на картине и могут представить себя на месте семейства Пезаро (или по той или иной причине ощущать себя исключенными из происходящего хотя бы потому, что Пезаро отчасти их превосходят или находятся чуть ниже или, в конце концов, просто занимают их место). И наконец, самая сложная ситуация – с третьей группой, к которой относятся, так сказать, «обычные люди». Они могли себя ощущать в стороне от происходящего потому, например, что главное действующее лицо в данном алтарном образе – Дева Мария (образ посвящен Непорочному Зачатию), рядом с Которой они себя по смирению и представить не смели (картина действовала на них как некая сакральная сверхценность). Или их чувство исключенности питалось положением апостола Петра в центре картины и явной сконцентрированностью сюжета на поклонении Пресвятой Деве именно со стороны Якопо Пезаро, а не кого-то еще. Или, наоборот, они ощущали свою причастность к происходящему в, так сказать, замещающей манере, ведь те, кто социально был выше их, были и ближе к святым и представляли пред ними и тех, кто был ниже, являя им своего рода пример для подражания в религиозном, моральном и политическом смысле слова. Или – в качестве идеального варианта – простой человек способен был полностью усвоить «общую адресацию сакраментальной аллегории» (ее направленность на всякого участника Литургии вне социальных различий). И тогда он мог данную картину воспринимать «строго в понятиях самой Мессы», ощущая себя включенным именно в Евхаристию, переживая свою принадлежность Евхаристическому собранию и – тем самым – причастность к происходящему в данном конкретном алтарном образе[648]. Нетрудно, однако, заметить, что, достигая такого рода уразумения Литургии, рядовой участник богослужения переставал быть таковым – с одной стороны, и ему не требовалось вовлечение в конкретную картину – с другой, ибо он был вовлечен и принят в нечто большее – в Евхаристию и Причастие, с чем не сравнится никакой образ и никакая иконография…
И опять, все это соображения самого общего порядка. Более конкретные вопросы, если следовать Синдинг-Ларсену, выглядят примерно так: кто составлял тот же клир в указанную эпоху? Каковы были обычаи клира и как выглядели его представители? Каков был на тот момент конкретный взгляд францисканцев на Литургию, на концепцию Непорочного Зачатия, на участие народа в Литургии, на роль изобразительности в Литургии и т. д.? Как замечает Синдинг-Ларсен, ответы на эти и подобные вопросы требуют «более тонких аналитических техник»[649].
Таково общее проблемное поле, связанное с феноменом «пользователя» в его, так сказать, конечном изводе. Но ведь, как мы выяснили, существует и пользователь более непосредственный, исходный, тот, кто напрямую обеспечивает замысел изображения и чье участие в нем крайне существенно и в буквальном смысле слова продуктивно. Именно автор программы принимает изображение из рук художника, и удовлетворенность его исполнением является залогом и легитимности, и нормативности, и действенности изображения в дальнейшем. Поэтому пользовательский вопрос продолжается в вопросе планирования, изготовления изображения и его общих ресурсов[650].
«Планировщик» изображения, по Синдинг-Ларсену, – это «патрон(ы) и(ли) художник(и) и(ли) прочие ответственные лица». Планировать некое изображение, имеющее некоторую иконографию, – значит осуществлять «планирование и окончательное изготовление, следующее за иконографическим замыслом». Момент окончательной изготовленности здесь тоже не последний, так как он подразумевает открытость произведения навстречу требованиям и способность их удовлетворять. Термин «планировщик» удобен как раз в тех случаях, когда имеется в виду и «пользователь». Эти термины комплиментарны подобно «патрону и художнику».
Синдинг-Ларсен прямо говорит, что впечатления от истории архитектуры всегда доказывают прямую зависимость действенных конечных результатов строительства от условий и технических обстоятельств управления строительством и его порядком (администрация предваряет продукцию). И термин «условия производства» в данном случае подразумевает не только меры по облегчению строительства, но и просто все те контексты (экономические, политические, социальные и психологические), которые прямо влияют на составление проекта и его реализацию. Поэтому приходится говорить о нескольких уровнях внутри единого процесса проектирования здания и его возведения.
Точно так же актуализируя и понятие «патрон», не нужно думать о традиционных биографических процедурах, сильно упрощающих дело. «Патрона» невозможно изолировать от его единомышленников («соавторов», если он автор проекта), на разных уровнях располагающихся и в разных ситуациях участвующих. Эти ситуации можно рассматривать как «множественные Я, находящиеся во взаимной коммуникации», где, с одной стороны. есть официальная легитимизация изображения (его «формальный мандат»), а с другой – осуществление частных интересов.
Но так как «проекция и продукция» (позволим себе и такой терминологический вариант) – это процесс, то, значит, и «продукт» не следует оценивать как нечто неподвижное и окончательное. Особенно в случае с большими проектами, требующими немалого времени, могут рассматриваться и частично осуществляться различные решения. Поэтому следует учитывать при анализе данных куда больше, чем можно обнаружить, например, в письменных источниках. При учете многих альтернатив внутри заданного функционального контекста может сформироваться примечательная «обратная связь» разнообразных окружений данного произведения, затрагивающая даже оценку конечного произведения[651]. Процесс создания произведения вызывает ожидания, которые окрашивают в свои тона и восприятие конечного результата. Инициатору проекта хочется достичь определенного финала, завершения предпринятой им инициативы. Кроме того, следует позаботиться об источниках и средствах, которые должны пробудить определенную ответную реакцию у зрителя или пользователя.
Можно выразиться и более определенно: тот, кто планирует произведение, формирует своего рода «теорию предсказания» относительно успеха предпринятых действий. Собственно говоря, сам процесс порождения произведения похож на «контекстуальную разметку», характерную для предсказательных методов: наглядно проступает на поверхность та самая взаимосвязь, что существует между исследовательским предвидением и предвидением нормативным (отношение целей и мотивов)[652].
Наконец, в структуру планирующей деятельности входит и проверка готового продукта с точки зрения его воздействия: насколько результат совпадает с тем, что было замыслено, и каковы побочные эффекты при достижении желаемого.
Но в целом, мы имеем дело с «неписаной» историей иконографических проектов и планов, о которых возможно получить какие-то сведения только после Тридентского собора, позаботившегося о местном епископском контроле за иконографическими процессами, что, между прочим, быстро привело к двояким последствиям, так как диоцезная власть, как правило, предпочитала проверенные и привычные иконографические версии, в то время как для епископов было делом престижа демонстрировать свою свободу в выборе новых направлений.
Остается ли место в этих процессах для художественных усилий? Каково участие художника? Может ли он считаться полноправным «проектировщиком»? Положительный ответ возможен, если мы принимаем за эквиваленты иконографической типологии некоторый морфологический типологизм, наличие устойчивого формально-стилистического репертуара, повторяющиеся художественные схемы. Только так художник-исполнитель превращается в полноценного и влиятельного участника процесса реализации «проекта», или поддерживая его, или отвергая своими творческими усилиями. Вариантов поведения здесь немало: художник может, например, поддержать «текущую схему, содержащую сообщение», с помощью новых «визуальных идиом» или предложить некоторые готовые идиомы для только замысленного сообщения. В любом случае он сближается с «отправителем» сообщения со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами (вышеупомянутая «обратная связь»). Обладая набором морфологических типов и способов трактовки тем и сюжетов, художник способен являть компетенцию в выборе «визуальных схем» в соответствии с конкретными «вызовами», влияя на способы трактовки предметов и на последующую направленность в осмыслении изображенного.
Поэтому Синдинг-Ларсен довольно строг в своих методологических суждениях: вышеописанный вклад художника в силах покрыть куда более обширные области, чем ему отводит обычная позиция историка искусства, склонного к упрощению. Участие художника в литургической иконографии невозможно реконструировать, например, по таким традиционным для искусствознания источникам, как контракты художника и заказчика. Ведь в этих сугубо деловых документах нет ни слова об обсуждении замысла, о возможных дискуссиях и их участниках. Тем более не найти практически никаких сведений о «живописных формулировках» заказанной вещи в подобных сугубо экономических источниках[653]. Но экономическая модель имеет и расширительный характер еще и в том смысле, что любой проект должен обеспечиваться определенными ресурсами, которые могут быть и интеллектуальными, и концептуальными, но главное, они представляют собой именно «запасы», собрание разных альтернатив. И из них не обязательно «черпать» все без остатка, и наличие этих не разрасходованных «накоплений» дает дополнительную надежность, эффективность и успешность любому «проекту». Нет сомнений, что понимая эту сторону дела не только материально, но и идеально, мы получим ту самую парадигматическую размерность любого художественно-иконографического процесса, которая есть не что иное, как типологические ресурс и поддержка каждого конкретного произведения, существующего на фоне нереализованных, так сказать, прибереженных на будущее возможностей и формально-стилистического, и иконографического, и вообще символического свойства[654].
Иконографические типы и архитектурные типологии
Поэтому анализ разного рода типов и типологий, присутствующих в изображении, – важнейшая сторона все того же иконографического анализа, имеющая к тому же принципиальнейшие методологические измерения.
Синдинг-Ларсен сразу оговаривает очень важный постулат: иконографический тип – это на самом деле тип морфологический. А его определение должно звучать так: «некоторый предмет или сюжет, изображенный или оформленный с целью передачи одного или нескольких специфических сообщений»[655]. Но вот тут-то и начинаются «мучительные сложности»…
Дело в том, что, казалось бы, чисто когнитивная задача выяснения значения какого-либо изображения (например, образ Девы с полумесяцем означает идею Непорочного Зачатия) незаметно приобретает социально-психологический характер, как только появляется публикация на данную тему и она получает признание. Значение фиксируется и приобретает однозначность, и уже искусствоведческий текст становится источником для определения типа, а вся последующая практика истории искусства направлена на поддержание достигнутого знания и сопротивления всем посягательствам на однозначность и определенность[656]. Другими словами, изобразительная типология (морфологическая и иконографическая) фактически замещается типологией эпистемологической. Как же этому сопротивляться?
Прежде всего, необходимо вспомнить основные свойства морфологического типа. Их несколько, и вот они.
Разные морфологические типы могут выражать одно и то же значение. Один и тот же морфологический тип может исполнять разную роль в разных контекстах. Морфологические типы могут быть объектом различных внутренних модификаций (изменений некоторых характеристик) и приобретать дополнительные атрибуты без изменения сущностного значения. Морфологический тип может содержать компоненты, содержащие коннотации или взаимодействия столь различные по функциям и означениям, что тип, который используется в исследуемом произведении, вынужден разлагаться на части. Конвенциональная атрибутика, принадлежащая данному типу, не обязана решающим образом влиять на содержание[657].
Что же значит ситуация, когда различные морфологические типы служат одному и тому же предмету? Под этой рубрикой Синдинг-Ларсен упоминает такое типичное заблуждение, как представление, будто иконография отражает исключительно особые литургические концепты, в то время как в реальности она прямо выражает Литургию, которая сама содержит все упомянутые специальные концепты. Иллюстрация этой достаточно тонкой идеи – иконография Гентского алтаря, где, по мысли Синдинг-Ларсена, следует говорить не об иконографическом «типе Всех Святых», который предполагает умозрительную конструкцию, иллюстрируемую с помощью данного изображения, а о собственно Всех Святых, которые собраны вокруг Агнца, Совершающего Небесную Литургию[658]. Другими словами, данный пример призывает нас буквально воспринимать изображенное и находить смысл непосредственно в увиденном, а не приспосабливать впечатление к готовым смысловым конструкциям. Морфологический и, соответственно, иконографический тип – это типология прямого и значимого визуального опыта. Но не только визуального, но и ритуального и сакрального, добавим мы, предвосхищая последующие рассуждения[659].
Второй пример – тоже из произведений Яна Ван Эйка – это «Мадонна канцлера Роллена» с коленопреклоненным каноником в хорошо известном интерьере «небесных покоев», отсылающих зрителя ко всему спектру архитектурно-литургических коннотаций, а также с Девой, коронуемой ангелом. С точки зрения иконографической типологии перед нами хорошо известная иконография «Коронации Марии», которая, впрочем, нарушается всевозможными деталями, позволяющими уточнять эту типологию как «Марию-Церковь во Славе». Таким образом, акцент смещается с «исторического события» Коронации на его аллегорическое истолкование в духе эсхатологической экклезиологии. Синдинг-Ларсен справедливо замечает, что затруднительно говорить об историческом аспекте Коронации и отличать его от умозрительных построений, равно как не обязательно в качестве решающего момента рассматривать корону на главе Девы. Куда важнее, что перед нами сцена поклонения Младенцу и почитание спасительных Страстей Христовых, то есть все та же Небесная Литургия. Фактически перед нами элемент все той же иконографии, что представлена в центральной сцене Гентского алтаря, и целостная литургическая семантика присутствует в «Мадонне канцлера Роллена» по принципу pars pro toto.
Оба этих примера демонстрируют случай, когда различные, казалось бы, морфологические типы имеют в виду один и тот же сюжет, а точнее говоря, – тему. А если быть совсем точным, то и не тему, а реальную ситуацию, просто реальность Небесной Литургии.
Нетрудно ответить на очевидный вопрос о причинах того, что разные морфологические типы (разные изображения) используются для одной и той же референции. При этом мы постараемся избежать соблазна номинализма и не станем говорить, что, мол, нашему автору угодно все сводить к одной излюбленной или просто очевидной теме «Небесная Литургия». Мы поступим реалистически в духе самого Синдинг-Ларсена и в духе обсуждаемых вещей (буквально – реалий). И тогда станет понятным, что сама Небесная Литургия все объемлет, невзирая на детали и различия… Можно сказать, что референция исходит от того, что (или Кто) изображается… И в этом-то и состоит подлинный литургический смысл и функция такого рода изображений: они реально имеют сакраментальную, то есть, мистически-медиальную функцию, приобщая к небесным чертогам тех, кто взирает на изображенное из этого мира. Напомним, что начало рассуждений подобной направленности – это выяснение места действия, то есть все та же архитектура, которая сама о себе напоминает как о предварительном условии всех литургических актов (и один из них – наши подлинно медитативные и даже контемплативные усилия на тему «морфологических типов»).
Непосредственным продолжением этой темы является другой типологический случай, когда одно иконографическое (вообще, изобразительное) решение служит различным контекстам, которые напрямую «ассоциируются» с неким единым сообщением, релевантным всем этим контекстам. И потому-то именно этому «сообщению» можно придать одно единое типологическое выражение. Этим сообщением, как нетрудно догадаться, будет обсуждавшаяся выше идея «присутствия» Божества в Евхаристической Жертве. Эта тема сквозная, а точнее говоря, основополагающая, и если можно найти ей однозначное иконографическое воплощение, то тогда мы и получим тот случай, когда разные контексты просто окажутся разными аспектами, измерениями одного единого Текста, которым является Теофания как таковая (в том числе и выраженная в Писании)[660].
Но продолжим наблюдения за иконографическим типом, который, как выясняется, способен порождать внутри себя новые отношения и изменения в отдельных компонентах, не меняя само сообщение. Так, появление в руках Христа Пантократора чаши с вином не меняет никак иконографический тип Maiestas Domini, а только раскрывает дополнительный – Евхаристический – аспект этой вполне распространенной композиции[661]. И опять мы вынуждены делать уточнение: не столько морфологический тип, сколько тема позволяет варьировать детали без потери или искажения смысла, хотя, конечно же, тип должен быть устроен так, чтобы в нем содержались элементы, поддающиеся замене или видоизменению.
Так что вопрос о компонентах типа, несомненно, весьма существен, и мы должны помнить о принципиальной составленности и многосоставности многих иконографических схем, которые, даже превращаясь в устойчивые типы, сохраняют внутри себя – уже в качестве компонентов – полноценные и значимые элементы, имеющие свою самостоятельную, порой весьма длительную историю, быть может, даже и вне рассматриваемого типа[662].
Поэтому корректнее, анализируя тип, говорить не просто о компонентах, а об атрибутах, которые отличаются более конкретным и более условным значением, а главное – привязкой к определенной теме. Поэтому изменение в атрибутике часто воспринимается как серьезное «событие» в иконографии. Но это не совсем так. И пример тому – наблюдение за иконографией ангелов, для которых, как выясняется, такой, казалось бы, обязательный атрибут, как «покрытые перьями крылья», оказывается не самым решающим[663]. Анализ типологии должен строиться на функциональной основе, а не на одной только морфологической. Так что понимание иконографического типа возможно только в литургическом контексте и ни в каком другом.
Зато восприятие типа и, значит, его классификация неизбежно сопровождаются оценочной и эмоциональной активностью, которая способна исказить усвоение типологии. Проблема состоит в том, что подобная эмоциональная составляющая связана со стилистическими особенностями изображения. И потому-то в сугубо иконографический анализ могут подмешиваться и моменты, например, психологические, в том числе и такое явление, как торможение восприятия и понимания изображения из-за особенностей стиля, который может буквально отвращать зрителя. Хотя возможна и прямо противоположная ситуация. Проблема состоит в том, признавать ли за эмотивно-суггестивной стороной изображения семантическую функцию. По нашему мнению, различение Синдинг-Ларсеном эмотивного и ритуального варианта изображения не должно быть слишком строгим: важно не только исполнение обряда (ритуала), но и участие в нем, сопереживание – и эмоциональное, и интеллектуальное.
Другая проблема – сугубо изобразительного свойства: что дает изображение эмоций, чувств и т. д.? Показательный пример – традиционное различение иконографии Maestà и Sacra Conversazione как раз по признаку большей интимности и эмоциональной близости персонажей второй иконографии, где фигуры святых – можно продолжить такого рода иконографический анализ – оказываются уже не в роли посредников, а в роли непосредственных участников поклонения, являя пример личного благочестия. И только литургический взгляд на обе иконографии показывает, что никакого противопоставления здесь быть не может хотя бы потому, что Евхаристия, особенно с точки зрения предстоящего перед Престолом священника, всегда предполагает соучастие – в том числе и эмоциональное – всей Церкви. Другое дело – изображать ли эмоции или делать это не обязательно? И как их анализировать: иконографически или стилистически? Или, быть может, психологически?
Впрочем, существует не только синхрония анализа актуального состояния иконографии как таковой и иконографических типов, ее составляющих. С точки зрения диахронии, то есть происхождения типов, эмоциональный момент просто неизбежен по той причине, что историческая наука уже давно отказалась от каузальной схемы происхождения явления из набора причин, предпочитая говорить о «ситуации», в которой изучаемое явление впервые обнаруживает себя (та же иконография Девы Марии с Младенцем Христом)[664].
Синдинг-Ларсен обращает внимание в связи с проблемой появления новых иконографических типов на догматическую конституцию Бенедикта XII Benedictus Dei (1336 года) о т.н. блаженном созерцании, где подчеркивается возможность интуитивного зрения Божественной сущности непосредственно, лицом к лицу, «без посредничества чего-либо тварного». Чем это не причина появления иконографических инноваций в Позднем Средневековье и в эпоху Возрождения? Однако стоит помнить, что подобные официальные документы являлись скорее реакцией на уже сложившиеся явления, на уже определившиеся тенденции, за которыми стоят процессы, принципиально не определяемые традиционными историческими методами, – разнообразные формы народной жизни и индивидуального благочестия. А помимо этого – и разнообразные формы политической и идеологической активности, выражавшейся в тех или иных изобразительных репрезентациях, носивших в связи с этим характер откровенно окказиональный, лишенный общеобязательного статуса[665].
Именно поэтому столь важно подчеркивать, что иконографические типы суть и типы морфологические, связанные с явлениями не только семантически-идеологической коммуникации, но и коммуникации вообще, взаимосвязанности и взаимозависимости вещей принципиально гетерогенных, имеющих различное происхождение и «переплетающихся» друг с другом не столько корнями, сколько ветвями, тянущимися вверх, то есть к Небу и к иному…
В связи с чем вопрос о «происхождении», о корнях и истоках неизбежно дополняется проблематикой влияний и традиций, что тоже можно рассматривать каузально, как серию причин и случаев воздействия, повторяющихся во времени.
И точно так же мы не получим удовлетворительного средства решения вопроса о происхождении по той простой причине, что «действие традиции и развитие в истории иконографии предполагают активное человеческое участие»[666]. Традиция – это не что иное, как повторение с незначительными вариациями одного и того же иконографического типа в определенной области и в течение определенного периода, а влияние – это идентификация определенного типа в одном месте и последующая идентификация его же – в другом. То есть ничего, кроме последовательного обнаружения явления в разных местах. Но традиция истории искусства вкладывает в эти понятия некий сверхсмысл, используя их не столько в аналитических, сколько в ритуальных целях, не без иронии замечает Синдинг-Ларсен.
И единственный релевантный взгляд на «влияние» – только с позиции того, кто его испытывает, то есть получателя. В этом случае иконографические типы и иконографическое влияние будут предметом освоения (adoption) и усвоения (adaptation) – сознательного или неосознанного – под давлением, например, конвенций и привитых установок. И только контекстуальный и ситуативный анализ способен справиться с подобными «освоениями» и «усвоениями». И лишь при условии, что будет приниматься во внимание присутствие в подобных контекстах и ситуациях «получателя» и «пользователя», которых необходимо признать подлинными и единственными «факторами» иконографического процесса, не поддающегося анализу с помощью бездумно употребляемых слов «влияние» и «традиция».
Иллюстрация к сказанному – объяснение факта появления в итальянской живописи XII века иконографии мертвого Христа с помощью тезиса о византийском влиянии. И этот, казалось бы, вполне нормальный – и столь привычный – тезис разрушается простым вопросом: каким образом осуществлялось это влияние и как его ощущали художники и заказчики?[667]
Проблема не становится более понятной и решаемой благодаря простой ссылке на словечко «влияние», которое помогает лишь «сместить внимание с мнимого взаимодействия живописного прототипа и живописной имитации на мнимое значение модного слова»[668].
А на самом деле необходимо начать с изучения возможных альтернатив, доступных для оценки в специфическом историческом контексте и применительно к определенному морфологическому типу, в котором отражается и относительно константное значение, но который порождает и «ситуационно изменяемое значение». Впоследствии следует изучить определенную систему значений, которая в специфической ситуации отражается в отдельных иконографических альтернативах, существующих (потенциально) в одно и то же время. Но это не значит, что мы должны исследовать некие историко-культурные системы вне времени и пространства. Наоборот, предлагаемый предмет анализа – это «типы ситуаций, которые включают в себя в высшей степени сложные паттерны значений, как они сфокусированы на иконографии и ее функциональных контекстах в зависимости от интересов и компетенций, в этих контекстах заключенных»[669]. И на этом только основании станет возможным анализ тех самых «общностей», которые могут представлять собой всякого рода институции, формализованные и узаконенные в разного рода ритуалах.
Излагаемое до сих пор ни в коем случае не должно создавать впечатление, что выше упоминавшиеся «сложные фрагменты реальности»
постигаемы и доступны для анализа исключительно на теоретическом уровне, представляя собой «аналитические конструкты». Строго говоря, исторические обзоры – это необходимый инструмент «экстернализации» определенных свойств, отличающих наше отношение к прошлому и актуальному настоящему. Поэтому трудно ожидать от исторического «развития», что оно сможет само себя продемонстрировать[670].
Конечно же, всякого рода исторические структуры представляют собой устойчивые общности. Но наличествуют они не потому, что «самостоятельно существуют во времени», а потому, что они сохраняют некоторые «инвариантные характеристики», которые, в свою очередь, являются таковыми просто по причине сохранения у людей прямого и косвенного к ним отношения.
Точно так же, если брать уже «контекст в настоящем», историческая ситуация может быть признана и принята не потому, что имеет место влияние неких организационных или ритуальных факторов, заведомо присутствующих в ней (ситуации), а благодаря добрым намерениям тех, кто готов на значимый анализ[671]. Так вновь проявляется антропологический фактор, имеющий не просто методологическое, но и моральное измерение: этическое встречается с эстетическим именно в пространстве конкретного смысла, то есть личностной аксиологии.
Но смысл проявляется в коммуникации, в общении и в причастности к общности, превышающей индивидуум, но не упраздняющей его. Поэтому столь важны «организационные» параметры иконографии в самых разных значениях понятия «организация». И одно из самых существенных значений связано с порядком, структурой, системой правил и предписаний, а также с их осуществлением. Таким образом, христианская иконография, рассмотренная организационно, оказывается иконографией церковной.
Если же говорить о самых общих свойствах организации, то прежде всего – о наличии неких целей и соответствующих усилий, направленных на их достижение. Причем цели могут быть разными, что не обязательно должно порождать противоречия и парадоксы, так как организация, как всякая структура, способна иметь несколько уровней функционирования. Поэтому нет противоречия, что, например, францисканцы могли оформлять Нижнюю церковь в Ассизи со всей роскошью, не отказываясь от идеала бедности, – это «выражение другого набора целей внутри единой организационной системы»[672].
Тем не менее следует помнить, что система, даже будучи целостностной структурой, не выражает себя непосредственно, предпочитая обнаруживать себя в собственных компонентах. Качество же именно «системности» – и в этом состоит методологический аспект обсуждаемой проблемы – открывается по ходу аналитических усилий, то есть в результате пользования, рецепции того или иного явления.
Так что фактически даже историк искусства, ученый, отделенный от явления исторической дистанцией, оказывается элементом все той же системы – в ее внешнем проявлении. Что же говорить о непосредственных пользователях подобной иконографии? Они вместе с иконографией формировали особую метасистему ритуальных действий и ритуальной, обрядовой действительности, представляющей собой наиболее емкий аспект иконографии, ее самое значимое и наиболее значащее «измерение». Не случайно последняя часть иконографической теории Синдинг-Ларсена посвящена именно ему.
Ритуальная действительность
Выше уже упоминались, с одной стороны, «ритуальное воздействие», связанное с формальными литургическими установками по отношению к пространству, а с другой – «ритуальная фокусировка» как технические условия сосредоточения внимания на иконографии. Осталось лишь расширить наш анализ, включив в него «когнитивные и эмотивные факторы ритуальной ситуации как контекста восприятия иконографии»[673]. Ритуал воздействует регулятивно на перцептивные отношения между сообщением, осуществляемым посредством ритуала, иконографическими структурами, предназначенными для реагирования на него (ритуал), и той самой концептуализацией, что сопровождает участие в ритуале, причем на двух не всегда различаемых уровнях. Один уровень, структурированный функционально, заключает в себе формально предписанные отношения внутри вышеописанного треугольника (перцепция сообщения – иконография восприятия – осмысление участия в ритуале) и отношения, которые можно отнести к специфическим качествам самой прагматики ритуала и использования пространства, и, наконец, отношения в регистрах и уровнях иконографии и надписаний.
У второго уровня природа менее специфична. Ритуальная система способна порождать общие паттерны поведенческих установок и самого поведения, формируя, так сказать, пространственно характерное силовое поле, чем-то напоминающее электромагнитное и пробуждающее особую восприимчивость к ритуальным сообщениям и склонность удовлетворять их требования. Примечательно, что подобная ритуализация на эмотивном уровне порождает или предпочитает именно удовлетворение внутри общины, которая в своем повседневном существовании способна характеризоваться совершенно разным образом. Само место ритуала становится сакральным в широком смысле слова по той причине, что именно здесь сдерживаются и ослабляются межгрупповые напряжения и возникает ощущение существования на более высоком плане бытия.
И крайне существенно, что повседневное существование отличается разными формами, и ритуализации подвергаются установки не только поведенческого свойства или связанные с групповой идентификацией, но и такие, что связаны с искусством и литературой. Отсюда и необходимость «таких исследований искусства, которые обращают внимание на канонически формализированные обряды»[674].
И фактически новый способ научного объяснения связан не столько с репрезентацией непосредственной истины, сколько с поиском «ритуализированных отчетов» о повседневной жизни. В конце концов, ритуальный импульс может выглядеть как побуждение к демонстрации «специфических сигналов и характеристик, с помощью которых индивидуум или группа стремятся к самоидентификации и самообнаружению»[675]. Ритуализация посредством художнической и литературной активности не всегда требует или предполагает вложение «глубинного смысла», и даже классическая и буколическая иконография не снабжается в обязательном порядке «скрытым символизмом»[676]. В данном случае куда более полезный источник можно обнаружить, исследуя паттерны «социальной ритуализации», относящиеся, например, к тому окружению, чьи требования должен был удовлетворять тот же Джорджоне своей «Грозой». Но отчего возникает потребность скрывать, казалось бы, вполне невинное значение? Ответ связан (в том числе) с учетом такого социального обстоятельства, как опасность слияния разных «поведенческих паттернов». И подобный процесс, доведенный до определенного предела, требовал обратной реакции – выстраивания своего рода защитного экрана перед слишком любопытным взглядом низших слоев общества. Между прочим, непонимание со стороны историков искусства тоже можно рассматривать как своего рода социальную симптоматику (то есть свидетельство их не принадлежности к тому классу пользователей, которому изображение было адресовано непосредственно).
Другими словами, упомянутое полотно Джорджоне можно рассматривать как всего лишь «высказывание-утверждение со стороны культурно сверхурбанизированного класса»[677] по поводу его собственного «антиобраза» в лице всякого рода «деклассированных элементов» типа цыган, обнаженных женщин, солдат и пастухов и их принадлежности к беспорядочному, нечистому и аполитичному природному миру, в котором можно бродить без цели и ответственности… Именно такого сорта люди стали предметом аллегории, и возникает вопрос: почему нам хочется здесь видеть «скрытый символизм», а не открытую демонстрацию социальных ритуалов? Только потому, что мы привыкли обращаться к литературным источникам и рассматривать живопись как иллюстрацию чего-то, что за ней скрывается, что прячется за покровом живописи и за экраном очевидности. Можно также добавить, что подобные иконологические процедуры суть те же ритуалы, но только когнитивного, а не социального свойства.
Но какие же из них предпочесть? Именно те, что обладают действенностью, эффективностью в человеческом существовании, представляя тем самым не только познавательную, но экзистенциально-религиозную и общинно-общественную, коммуникативную («общительную») ценность. Можно сказать, что в этом состоит главный пафос всей книги Синдинг-Ларсена и, пожалуй, самых принципиальных ее частей, посвященных «ритуальным измерениям» не только иконографии, но и всей христианской образности и изобразительности.
Ведь если «ритуальный импульс[678] представляет собой столь универсальный фактор в человеческой жизни, то тогда Литургия как своего рода точка выхода этого импульса обладает в этом смысле особой ценностью, причем совершенно независимо от ее эффективности в истории спасения»[679]. Ритуал – это сама жизнь в ее упорядоченном и, соответственно, осмысленном состоянии. Литургия в этом понимании представляет собой канонически регулируемую активность, и она показательно «общинна» в своих действиях, упраздняя всякие социальные различия. И, будучи «формой ритуала», она создает ситуацию «совершенно исчерпывающей предсказуемости», соответствующей «наиболее коренным» потребностям человека. Ритуал усиливает общинные и, так сказать, проективные, предсказательные качества существования.
«Канонически выстроенная, повелительная ритуальная система Литургии, содержащая предписанные формальные высказывания в сопровождении предписанных невербальных коммуникативных жестов и голосовых реакций – и при этом в виде взаимодействия паттернов, – все подобное представляет собой нечто большее, чем просто разновидность ритуализированных человеческих взаимодействий»[680]. Повседневная ритуальная система стремится к классификации людей социологически, то есть в соответствии с целями, интересами, привязанностями, «литургические ритуалы» склонны объединять и подчеркивать участие в более или менее формализованной организации и создавать соответствие между участниками внутри сферы действия данной организации…
Возможны ли варианты внутри такой, казалось бы, строгой системы, построенной именно на воспроизведении собственных ритуальных правил? Не кажется ли Литургия самодостаточной и замкнутой в себе структурой, исключающей всякое движение в сторону индивидуации? Но варианты, понятые как личностное наполнение богослужения, как ее персонализированное измерение, не только возможны, но и необходимы. И они возникают благодаря существованию внутри ритуализированных структур особого зазора, отражающего условия восприятия ритуала. И хотя эти условия по большей части заложены в самой системе, тем не менее сама она связана с окружением, которое представляет собой хотя и ритуальное, но все-таки пространство, то есть нечто независимое от ритуала и, быть может, ему предшествующее.
Чтобы понять подобный аспект ритуала и оценить его применительно к нашей теме архитектурного символизма, следует обратить внимание на участников той же Литургии. Это момент крайне существенный: пространство, среда, окружение – это прежде всего система, набор мест, топосов (то есть отчасти правил), причем ритуал, хотя и освящает, трансформирует пространство, но не трансцендирует его. Более того, ритуал как система действий сам должен быть освящен, чтобы служить целям освящения, что предполагает еще одну сторону, участвующую в ритуале. Это – сам Бог, из чего следует, что ритуал представляет собой не только некую функциональную, то есть прагматическую, систему, но и просто обращение к Богу, импульс, интенцию выхода за пределы той же повседневности, которая, как не раз подчеркивалось, не может существовать в не ритуализированном состоянии. А молитва может и должна…
В контексте тех проблем, что обсуждаются под рубрикой «иконография и ритуал», крайне существенно учитывать подобную парадоксальную природу всякого священнодействия, так сказать, сверхритуальную сторону ритуала, когда не только устанавливаются границы, но и выстраиваются условия их преодоления. И наша сквозная идея, которая проходит через все рассматриваемые нами методологии семантического анализа архитектуры, состоит в том, что именно она, архитектура, очерчивает смысловой круг собственного сакрального бытия. И слово «круг» здесь отражает двоякую подоплеку: это и круг в значении предела, границ некоторой области (если сакральной, то это теменос), и круг герменевтический, предполагающий условием постижения сакрального контекста его полное исчерпание, обхождение по кругу, по внешним границам, по крайним рубежам и внешним пределам. Для того чтобы убедиться в неисчерпаемости и беспредельности того мира, который является не столько объектом сакральных ритуалов, сколько их субъектом или, повторяем, их условием.
Другими словами, если говорить об окружении «ритуальных систем», то оно способно дополнять и видоизменять их, влияя не только на их восприятие, но и на само функционирование, определяя «место действия» самого священнодействия.
По этой причине выяснение характера священных мест и самого порядка сакрализации места ритуала представляется достаточно существенной проблемой, от решения которой зависит оценка не просто иконографичности, но и изобразительности как таковой.
Несомненно, концепция христианского богослужения (Литургии), сконцентрированного на Евхаристии, предполагает, в первую очередь, сакрализацию именно пространства как места Богоприсутствия, и уже во вторую очередь – времени, чем, собственно говоря, христианская богослужебная практика отличается от схожих практик иудейской (особенно постхрамовой) и мусульманской, где акцент делается преимущественно на сакрализации времени[681].
Сама сакрализация понимается как результат непосредственного присутствия священного. Проблема состоит в том, как человеческими средствами возможно указать на сверхчеловеческое, а более конкретно, технически – как возможно различать эти два уровня сакрализации визуально? По всей видимости, только на уровне различения двух основных способов репрезентации – образа и письма. Первый несет в себе пространственно-пластические измерения священного, второй – темпоральный, хотя время здесь тоже имеет преимущественно пластический извод, ибо чистая темпоральность слова – это речь, звук, а письмо – это уже словесный жест.
Тем не менее обращение к Богу через Его именование, другими словами, молитвенное Его призывание, а главное, воспроизведение Имени, – все это следует признать или альтернативой христианской образности, или ее темпоральным аспектом. Но можно увидеть в поминании Имени и, главное, в Его визуальном воспроизведении в виде отдельного слова все тот же образ, близкий к христианскому.
Существенно другое: Имя Божие можно понимать как «абсолютное выражение Божества, а не специфического аспекта, уровня или контекста…». И это выражение, эта экспрессия не нуждается в неизбежной «проекции» в виде «образа», предназначенного для внешнего наблюдателя. Соответственно, для столь же абсолютной экспрессии веры в Абсолютное Божество годится любая индивидуальная молитва и не требуется какой-либо особой литургической формы, неизбежно относящейся к сакраментальной системе: «Бог присутствует не сакраментально»[682]. И потому не требуются никакие ни иконографические элементы, ни надписи, чтобы существовала связь между идеей Абсолютного Бога и индивидуальным представлением о Божестве как открывающейся посреди людей силе.
Для христианства крайне существенно и принципиально представление о Божестве как Троическом Единстве, «воплощенном и сакраментальном Присутствии». Богословские триадологические представления являются «теоретическим конструктом для никогда не прекращающихся последовательных рядов взаимодействий…». Отсюда происходит «процессуальная модальность и подвижность» христианской иконографии, ее открытость вовне (в том числе и в социальном аспекте), обнаруживающая иконографию (изобразительность) как аспект церковного целого, которое предсуществует всякой конкретной изобразительности. В христианском контексте существуют структуры, отражающие, воспроизводящие «системность» христианской иконографии, наличие за ней норм, формирующих идеальные «модели», соотносящихся, в свою очередь, через «канонически определенные» паттерны с «внешним сообществом». Иудейские и мусульманские эквиваленты христианской иконографии (именование Бога и надписание Его Имени) отличаются случайным, окказиональным свойством, не требуя устойчивых правил, норм, паттернов и т. д.[683]
Христианская же образность по своей первичной природе коммуникативна, причем и в аспекте, предваряющем конкретное изображение, и в том, что следует за ним, обеспечивая не только устойчивость смысла, но и его расширение.
Показательно в этом плане сравнение с мусульманской практикой украшения мечетей надписями, повествующими о природе Бога и о вере в Него (одновременно эти надписи воспроизводят условия «установления», санкции на богослужение, богопочитание). Во всем этом нет ничего такого, чего бы не было в христианской иконографии, хотя исламские тексты не содержат в себе коннотаций присутствия Бога в «сакраментальном смысле». Но два аспекта остаются принципиально отличными от христианства и не имеют в нем никаких параллелей (по мнению Синдинг-Ларсена). Во-первых, исламские надписи предназначены для чтения, они не содержат образов, воспринимаемых рассматривающим взглядом. Во-вторых, исламские надписи – это цитаты из Корана, и они представляют Божество на ином уровне, так как коранический текст представляет собой копию небесного прототипа, который имеет нетварную и вечную природу. Соответственно, в тексте Корана следует различать нетварное и тварное (сам текст и его чтение во всех формах) и, значит, то, что свято, – или потому, что сами буквы используются для написания Имени Божия, или потому, что священны цели использования искусства письма. Поэтому коранические надписи – это прямая экспрессия Божества, тогда как просто наличия христианской иконографии недостаточно, чтобы наступило чувство «присутствия».
В церковном здании «реальность в абсолютном смысле этого понятия открывается в сакраментальном присутствии Бога в Евхаристии, простым отражением или аллюзией на которую является иконография»[684]. В мечети подобная реальность составляется присутствием Божественных слов, «задокументированных» самой иконографией.
И если существуют социальные параметры, определяющие меру восприятия коранических надписей, то тем не менее, отсутствует структурированное соотношение со специфическими ролями внутри общества, как это видно в христианской иконографии. Христианский случай – это «сакраментальная интеграция общины в такой контекст, который сакрализуется Божественным присутствием» и призван укреплять социальные силы, действующие в произведении искусства посредством весьма определенных ритуальных актов, обесценивающих всякую социальную стратификацию, вместо которой возникает состояние отделенности от всего того мира, что находится снаружи. Поэтому христианская иконография, сфокусированная на Боговоплощении, конкретизируется визуально в форме «человеческих состояний» и, как следствие, отличается скорее эмоциональной действенностью, чем описательностью посредством высказываний, как это происходит в иконографии мусульманской. Коранические надписи не соотносятся с определенным местом, тогда как иконография христианская функционирует лишь при наличии канонически освященного места. В подобного рода местах образность артикулируется «в известной степени» посредством воспроизведения пространства. А в надписаниях такое измерение отсутствует. Уровни реальности подтверждаются, таким образом, посредством пространственных построений, предполагающих интерес и участие со стороны общины, воспринимающей эти самые уровни реальности и отвечающей, в конечном счете, когнитивно на концептуальную изощренность подобных построений[685].
Какие же выводы делает наш автор из подобных «простых эмпирических наблюдений»? Фактически становится понятным, что ритуальное измерение в соотнесении с христианской иконографией не есть «изолированный технический феномен», взаимодействующий исключительно со «специфической космологической Überbau», как это предполагается при соединении Литургии с богословием. Исходя из литургического ритуала, складываются ритуальные системы, действующие в жизни и экологической, и социальной, и политической. Так сказать, живое определение ритуала могло бы звучать так: «Процесс, стандартизированный посредством авторитетных предписаний и/или санкции со стороны традиции и состоящий из вербальных и/ или невербальных актов или наглядных представлений, которые повторяются при заданных обстоятельствах и соединяются экспрессивно и посредством самоотдачи с некоторыми системами ценностей, формируя предсказуемый порядок, воспринимаемый как ответ на определенные нужды»[686]. Существуют достаточно удобные и выразительные понятия – «трансцендентная сила» и «трансформационная сила», описывающие ту самую динамику, что действует в ритуале и творит внутри него и посредством его особую реальность, пребывание в которой помогает обрести контроль над хаосом, налагая на него обязательную и неотторжимую форму и очерчивая круг безусловных ценностей.
В связи с подобным методологическим контекстом становится понятным, что и сам «системный анализ» есть «только инструмент», полезный в целях «значимых сопоставлений повседневной рутины, ритуалов, драматических представлений и иных репрезентаций, где не совсем ясными оказываются различения символов, мифов и обрядов»[687]. Столь же не просто различать обряд, где Бог присутствует в ритуально воспроизводимом слове, и формы непосредственного мистического слияния с Богом.
Итак, ритуал следует представлять как ориентированный на образец процесс, имеющий специфический и целенаправленный результат или набор результатов (одним из этих результатов можно считать сам факт правильного совершения ритуала). Ритуал сопровождается когнитивной и эмотивной вовлеченностью в него как участников, так и внешних наблюдателей, которые через это сами оказываются вовлеченными в разного рода контексты, задаваемые ритуалом. Другими словами, это такой процесс, в котором «упорядоченные действия порождают и поддерживают всякого рода символизм»[688].
А схематически ритуальный процесс можно, согласно Синдинг-Ларсену, представить следующим образом:
Что же привносит ритуал в иконографию? Прежде всего – динамику, представление об изобразительности, о сакральной образности как элементе постоянно действующего структурированного целого, функционирующего благодаря участию в нем двух инстанций, несомненно, несопоставимых по отдельности, но объединяемых в священнодействии – Бога и человека, общности верующих. Поэтому иконография – это средство коммуникации и пробуждения разнородных уровней – как онтологических и символических, так и когнитологических и аксиологических. Последний, то есть ценностный, аспект выводит иконографическую семантику на уровень и моральных, и экзистенциальных, и просто эмоционально-мистериальных измерений смысла.
Кроме того, крайне существенно, что совершаемые действия, обладающие своей структурой (см. таблицу), исполняют определенные функции, которые призваны выстраивать конкретные знаковые, ситуационные и прочие контексты, действующие как известные точки, места, топосы в символических пространствах.
И наконец, функционирующие структуры проявляют себя как механизмы референции, то есть смыслопорождения, где существует и отсылка к символическим отношениям, порождающим соответствующие ценностные наборы, и привязка к контекстам, что дает определенное воздействие на участников ритуала, то есть на тех, кто присутствует в пространстве смысла.
Напомним, что изобразительная иконография может быть расширена и до иконографии сверхизобразительной, сохраняющей главные параметры всякой, как выясняется, иконографии: привязка к месту, фиксация присутствия и функция приобщения к сакральному пространству через вовлечение, воздействие. Фактически, обрисован самый каркас такой иконографии архитектуры, которая способна описать все аспекты и функции этого вида искусства как активного и динамического процесса не только построения пластических масс, не только выстраивания типологических элементов, но и «встраивания» внутрь их пространства, среды – сверхзначимой, сверхнаполненной и сверхценной, ибо активно воздействующей – и эмотивно, и когнитивно, и, так сказать, оперативно.
Иконография и «здание теории»
Итак, иконография обладает системным характером, представляя собой постоянно действующий процесс взаимодействия весьма разнородных контекстов, объединенных, тем не менее, в определенные уровни.
Но коммуникативность иконографии означает и нечто особое: она имеет также и специфический методологический аспект, предполагающий контакты этой системы с системой другой – с научной традицией истории искусства. Этому посвящен особый – и последний – раздел труда Синдинг-Ларсена, уклониться от обсуждения которого никак невозможно, в силу хотя бы его несомненной новизны…
Но, следуя систематическому принципу собственного изложения, автор «Иконографии и ритуала» предваряет методологическую тему достаточно детализированным суммирующим описанием христианской иконографии во всех ее аспектах и на всех уровнях, прибегая, между прочим, к такой примечательной метафоре, как «здание теории» и подчеркивая его незаконченный и гипотетический характер[689].
И состоит это самое здание из череды выводов-итогов, предваряемых «фундаментальным постулатом» о том, что «иконография, пространственно взаимодействуя с алтарем, тематически устанавливает связь с функциональной операцией, выражаемой Литургией и соотнесенной с алтарем».
«Следствие относительно регулятивности»» – это утверждение способности иконографии «выражать, представлять или отражать концепции <…> в такой манере, что «модусы иконографических взаимоотношений между концептами не нарушают и не искажают принцип, согласно которому концепты-прототипы взаимодействуют в Литургии формально или в согласии с традиционной интерпретацией». Другими словами, речь идет о структурной коммуникативной изоморфности Литургии и иконографии.
Случай, когда соблюдается «фундаментальный постулат» и имеет место «следствие регулятивности», следует именовать «нормальным», то есть типичным, иконографическим условием. И если оно соблюдается, то тогда можно говорить и о «системном следствии», предполагающем «тенденцию к систематическому порядку внутри иконографии самой по себе и с точки зрения ее отношений с Литургией, где тоже «преобладают системные качества». Артикуляция согласно первичным и вторичным целям, а также соотносящиеся функции – вот что характерно для этого аспекта иконографии.
При наличии достаточного масштаба (объема, размаха) иконографии и ее дифференцированности возможно предполагать ее пространственную градацию ценностного порядка относительно алтаря («иерархическое последствие»).
Литургия способна быть направляющим и контролирующим фактором для ее участников с точки зрения их ориентации в системе и в восприятии пространственных координат. Так получается «последствие относительно направления».
Но внутри Литургии существуют «подсистемы», которые, подчиняясь требованиям структурной иерархии, вносят субординационные отношения внутрь отдельных иконографических систем, что, тем не менее, не отражается на системе в целом. Таково «стратификационное последствие».
Если иконография следует за процессуально совершаемым ритуалом, то она обогащается значением, меняющимся по ходу совершения ритуала («последствие относительно вертикальной дифференциации»).
Интересный случай, когда по крайней мере два иконографических образа, расположенных на разных местах, начинают взаимодействовать, сообщая друг другу то или иное значение или устанавливая коннотации, связанные с функциями соответствующих мест. При этом сообщения и коннотации могут передаваться различными иконографическими способами («последствие относительно горизонтальной дифференциации»).
При определенных условиях внутри системы всякого рода прибавления или изменения исходной иконографической программы стремятся учитывать, расширять или просто исполнять коммуникативные функции самой исходной программы. Исходный проект как бы продолжается, пролонгируется в подобного рода «кумулятивном проекте». Таково «кумулятивное последствие», которое можно описать как сохранение в том или ином варианте, изменении, деталировке основной программы ее основных качеств, прежде всего функции коммуникации.
Проектировщики, авторы программы, могут учитывать все последующие концепции или интерпретации запланированной иконографии со стороны пользователей. Опыт «релевантных пользовательских установок» влияет на разработку программы как таковой («последствие относительно разработки программы»).
Пользователь сам способен выстраивать, конструировать индивидуально и социально дифференцированные подходы к восприятию литургической образности («пользовательское последствие»).
Важное наблюдение: вклад художника в дело иконографии зависит от контекста, который описывается существующей теорией («художническое последствие»). Можно сказать, что теория – это часть артистических (и просто исполнительских) установок, которая способна или подчинить мастера (каноническое искусство), или сделать его свободным, если он сам, например, оказывается предметом теории (а лучше – самотеории).
Автор программы, пользователь и художник-исполнитель образуют своего рода треугольник, элементы которого невозможно рассматривать отдельно, но при этом каждая из подобных составляющих оказывается источником одной из одновременно возможных интерпретацией иконографической темы (законна и приемлема каждая интерпретация). Кроме того, от масштаба, размера самой иконографии зависит и диапазон, подвижность различных и допустимых интерпретаций, градация их «свободы» относительно единственно возможной интерпретации с точки зрения, например, догматики (обширные и развитые иконографические схемы могут предоставлять внутри себя «уголок» для какой-либо частной интерпретации, удаляя ее от неустранимого «центра», связанного с обязательной или идеологией, или догматикой).
Наконец, отдельная тема – «предсуществование» тех или иных иконографий, а также открытость иконографической системы влиянию извне, которое описывается в понятиях «потребностей», учитываемых внутри «воспринимающей системы»[690].
Главное же, что сама представленная теория иконографии является моделирующей системой и предполагает взаимодействие с непосредственным опытом восприятия конкретного материала, который способен или открываться предлагаемой ему моделью интерпретации, или противоречить ей, являться ее альтернативой и даже отрицанием, что только способствует пересмотру теории, ее переформулировке и переходу на следующий уровень «систематического знания». Настоящая научная теория совершенно далека от стремления быть исчерпывающей, и, более того, существуют такие случаи, когда просто невозможны утверждения истинностного порядка. Ведь различия «реальности» и теории реальности достаточно фиктивны (см. эпиграф к этой главе), и то, что мы именуем моделью или аналитическим каркасом, – это лишь средство «артикуляции новых значений того, о чем уже говорилось»[691].
Вспоминая Й. Хейзингу и его «Осень средневековья», Синдинг-Ларсен солидарен с его наблюдением о необходимости и важности конкретного и, по возможности, наглядно-художественного образа для каждой мысли. Но подобный образ, однако, постепенно приобретает устойчивый и – что самое печальное – ригидный характер. То же самое справедливо и неизбежно и для науки: она просто обязана быть немного «средневековой», чтобы уметь выражать знание не просто словами, а создавая те самые «модели», что подобны все тем же образам. Они способны сделать науку «более подвижной, чем это обычно происходит в традиционных областях знания»[692], где модели, такие, например, как «историческое развитие» (а это именно модель, а не факт, не реальность, не свойство истории и т. д.), принимаются скорее бессознательно и потому становятся ригидными, ибо подвергаются «ритуальному повторению».
Конечно, невозможно обойтись без такого инструмента, как аналитические модели. Но модель – это и нечто иное, хотя и весьма нам знакомое. Нередко в научных целях мы заимствуем и адаптируем для себя что-то такое, что было разработано не нами и не для наших целей, в иных исследовательских областях и даже иными методами. И подобный процесс адаптации можно считать междисциплинарной интеграцией[693].
Но пользование моделями – это адаптация не только инструментальная, касающаяся приемов и методов исследования, но и материальная, касающаяся отношения к исследуемому материалу, когда применяются более элементарные паттерны на месте более сложного материала (то есть наука склонна пользоваться не столько непосредственно самим материалом, сколько заменяющими его образами-подобиями)[694].
Но тем не менее, практически любой фрагмент «эмпирического материала» истории искусства – это воплощение той или иной проблемы, решение которой посредством метода, учитывающего социально-коммуникативные аспекты, позволяет выявлять и подчеркивать сложность самого материала и справляться с ней, не соблазняясь ни упрощением, ни усложнением ситуации[695].
Когнитивные модели иконографии
Итак, после столь детализированного описания образов (то есть собственно иконографии) только и начинается теория иконографии как явления и методология иконографии как подхода. Нам придется пройти до конца вместе с Синдинг-Ларсеном этим путем, дабы уже с чистой совестью судить о столь непростом опыте, каковым является книга «Иконография и ритуал».
В качестве самых основных постулатов уже теоретического построения принимается следующее положение: мы признаем «особого рода систематические отношения между иконографически разворачивающимся процессом означения, ритуальными процессами и индивидуальным участием в таких ситуациях, которые порождены этими двумя процессами»[696]. При этом следует разобраться в типах индивидуального участия в ситуациях, созданных ритуальной иконографией. Необходимо также сосредоточиться на «специфическом регулирующем эффекте Литургии[697] с учетом той же иконографии».
Священнодействия Литургии, совершаемые общинно, создают «темпорально формализированную реальность», а также систему таких поведенческих реакций, которые исходят как от клириков, так и от лаиков, а контролируются с помощью скоординированного внимания и реагирования на специфические сигналы, передаваемые с помощью повторов и жестикуляций.
Наконец, как представляется, иконография в подобном контексте утверждается посредством «наглядно систематического ядра», состоящего из функциональных типов означения, которые выявляются подвижными и изменчивыми системами смысловых структур или морфологических типов.
В результате приходится иметь дело с разнообразными уровнями, такими, например, как ритуальный формализм и следующие напрямую из него интерпретации, или, наоборот, нечто противоположное: одобрение системы с точки зрения социальных и средовых условий. Возможно ли такое, чтобы одна и та же иконография одновременно удовлетворяла требованиям столь разнородных уровней?
Ответ на подобный вопрос предполагает наличие некоторой независимой, внеположенной материалу когнитивной системы, вмещающей в себя и иконографию, и то, что с ней и с чем она вступает в коммуникативные отношения. И потому из сказанного вытекает необходимость «аналитической системы взглядов в терминах в некотором роде предсуществующей, модально неспецифической (выделено нами. – С.В.) системы коммуникативной логики, такой, например, что разработана в лингвистике и семиологии, нередко в тесном контакте с теорией информации и коммуникации»[698].
Итак, что такое иконография: «семиологическая знаковая система, “язык” или “сакральное письмо”»?[699]
Ответ на столь ясно поставленный вопрос, тем не менее, не представляется делом достаточно простым по той причине, что в дело вступают традиции (как концептуальные, так и терминологические), своей обширностью и дифференцированностью, а также специализированностью с трудом вписывающиеся в традицию истории искусства, к которой – опять же традиционно – принадлежит иконография. Но сделаем попытку окунуться во всю эту проблематику вслед за Синдинг-Ларсеном, начав с самого начала – с различения смысла и знака. Со смыслом – проще, так как понятно, что это то же значение, но отягощенное неотделимыми от него концептуальными контекстами. Смысл представляет собой элемент «конститутивных структур»: это принцип построения лингвистических единств и принцип прочтения этих единств согласно их составу. Несомненно, стоит вспомнить различение парадигматических и синтагматических аспектов структурных построений, где важно представлять себе селективную (ассоциативную) природу парадигмы и ту комбинаторику, что лежит в основе синтагмы. Естественно, ассоциативное значение по сути своей коннотативно, зато внутри коммуникативных актов действует значение тематическое, содержащее в себе именно то, что является предметом коммуникации, передачи сообщения, организованного в понятиях «порядка, фокусировки и акцентуации». Излагая подобные общесемиологические истины, Синдинг-Ларсен обращает внимание на то, что «наши морфологические типы, присутствующие в иконографии, сами склонны редуцироваться до наборов дискретных единиц, сравнимых с семантическими единицами»[700]. Но возникает неизбежный вопрос: а существуют ли сходные и подобные наборы единиц у двух данных модальностей – языка и иконографии и дают ли они сравнимые коммуникативные и перцептуальные эффекты и каков их диапазон (range)?
Другими словами, возможно представить себе язык и иконографию как разновидности (модальности) коммуникации, и эти модальности способны сами друг с другом взаимодействовать, а точнее говоря, перетекать друг в друга (как и полагается модальностям). И потому должны быть механизмы этого превращения, должна существовать логика превращения одной модальности (например, связанной с формами восприятия – зрением, обонянием, осязанием, слухом и т. д.) в другую[701]. И должны существовать внемодальные, то есть лишенные модальности, средства трансформации, которые, вслед за Личем, можно собрать в десять категорий (сигнум, символ, знак и т. д.), поделенных на два типа – индекс и сигнал, которые различаются способом означивания: или автоматическим, механическим и инстинктивным (сигнал), или требующим участия сознания (индекс). Соответственно, если «сигнум» – это результат конвенционального, произвольного выбора двух составляющих коммуникации, то «знак» – это уже случай отношений, построенных на «первичных внутренних связях», подразумевающих общий культурный контекст.
Развивая подобные положения Лича, Синдинг-Ларсен делает крайне существенное уточнение: вышеизложенные различия ориентированы на способ порождения всех подобных символов и знаков, без учета того обстоятельства, что акт появления знака полагает начало процессу сотворения самого культурного контекста. Более того, невозможен в принципе произвольный акт знакопорождения: если знак появился, то это что-то уже значит.
В реальности очень трудно найти произвольный знак в чистом виде: всегда обнаруживается тот или иной культурный контекст, и всегда существует коммуникативный процесс[702]. Знак и символ ничего не значат и никак не действуют, прежде чем не будут использованы, прежде чем не будет создан для них культурный контекст или прежде чем они не будут в него помещены. Более того, следует, видимо, признать, что с точки зрения аналитической методологии иконография – это набор операций, осуществляемых при тех же условиях, что и у прочих медиумов, под которыми, напоминаем, следует подразумевать именно средства трансформации разных модальностей.
Модальность языка и иконографическая модальность
Язык – это тоже модальность, но «более специфическая». Лингвистические модели вполне распространены в искусствознании, в чем мы уже имели возможность убедиться. Но тем не менее, остаются открытыми две проблемы: формирование «вокабулярия», в данном случае литургической иконографии, и влияние на подобный вокабулярий паттернов таких значений, интересов и компетенций, что имеют средовое, ритуальное и социальное происхождение. Скорее с аналитической, чем с лексической точки зрения нельзя игнорировать такой аспект иконографии, как ее не-фигуративные элементы, например, композиционные структуры и архитектурные декорации. И, учитывая все стороны иконографии, можно сказать, что базовой единицей или первичным элементом иконографии следует считать «характерный признак» или просто «черту» (feature). Этот элементарный признак можно описать в сугубо скалярных терминах как «визуальное несходство», которое можно измерить (длина волны или кривизна линии). Собственно говоря, любой визуальный образ можно описать количественно. В этом смысле иконографию можно определить как систему признаков, сформированную с целью референции чего-то такого, что не идентично самой системе. И тогда, согласно этой дефиниции, будет «аналитически непрактичным» выделять, например, живопись за счет символически нагруженного церковного пространства или последнее – за счет архитектурной сценографии внутри той же самой живописи. Равным образом непродуктивно начинать анализ с отделения «содержания» от композиционной структуры. Все друг с другом находится в отношении референции. Поэтому положительная аналитическая программа будет звучать так: «всецелый учет дискретных единиц <…> или последовательностей с точки зрения художественно-исполнительских или пространственных качеств, которые, в свою очередь, стремятся превратиться в концептуальные или эмоциональные символы»[703].
Из этой дефиниции иконографии вытекает ее принципиальное несходство с языком, который как специфический медиум состоит из предписанных временных последовательностей, тогда как иконография зафиксирована в пространстве и ее значение ей только приписывается, но не предписывается даже иерархически. Иконография лишена грамматики и синтаксиса, а значит – и «глубинной структуры», в ней нет такого набора правил, как в языке, но за счет этого она более открыта в окружающую среду и более подвержена социальному воздействию[704].
Все сказанное иллюстрируется следующими примерами. Комбинация таких признаков, как «человеческая фигура», «молодое бородатое мужское лицо, окруженное сиянием с крестом», «благословляющая правая и держащая книгу левая рука», дает коннотации многих (если не всех) концептов в различном порядке и предпочтении, начиная со Христа как Слова Божия и заканчивая Св. Троицей. Равным образом комбинация таких черт, как стоящая фигура пожилого мужчины, с белыми волосами и бородой, в «библейском» костюме и с ключами в руках, – все это позволяет думать о целом наборе коннотаций. Но стоит нам произнести слово «Св. Петр», как все они растворяются и остается только одно значение. Язык более определен и детерминирован, тогда как иконография совершенно открыта внешнему влиянию (лучшее доказательство тому, не без юмора замечает Синдинг-Ларсен, – это существование такой профессии, как историк искусства). Если некто пожелает заняться дешифровкой по словам и по иконографии, то в последнем случае у него будет намного более обширное поле деятельности – перед лицом одних и тех же признаков.
Кроме того, отдельное слово не имеет направления, только предложение дает ход процессу интерпретации, покидая при этом грамматический или синтаксический контекст, из которого произошло. Визуальные признаки порождают наблюдения, которые выражаются опять-таки в предложении или в похожих на него структурах. «Со всей неизбежностью фигура обязана что-то делать или не делать, со всей неотвратимостью ей следует находиться в определенном месте, на пустой стене или листе бумаги – или в иконографической программе»[705]. Бюст этого делать не обязан, но он вынужден, тем не менее, являться, открываться в пространственном смысле слова. А словесное понятие лишено активности. В этом-то и заключена вся разница между вербальной и невербальной коммуникацией[706]. Хотя визуальное явление и может выражаться словами, в этом случае остается открытым вопрос о переходе от словесного уровня на уровень фразы.
Но в любом случае принципиально различным остается эффект, производимый визуальным и словесным явлением: нарисованная фигура всегда принадлежит тому окружению, в котором возникла, словесное описание – фрагментарно, избирательно и потому неизбежно сверхценно, – эффект, не обязательно возникающий при зрительном рассматривании того же контекста… Два рядом помещенных слова не выглядят взаимодействующими друг с другом: синтаксическая связь не возникает от одного их соседства на листе бумаги, пространственное их взаимоположение не содержит готовую грамматику. Казалось бы, то же самое можно сказать и о зрительных образах двух фигур, но для их «комбинаций в пространстве» этого и не надо: они полностью принадлежат своему окружению и с точки зрения пространства, и с точки зрения смысла, который им можно приписывать достаточно свободно, с массой вариантов, исходя из одного лишь факта их сближенности (тоже пространственная характеристика). «Факт их пространственного взаимообнаружения уже задает интерпретацию»[707].
Фигуры разыгрывают своего рода мизансцену, выстраивают некоторый поведенческий сценарий, некое подобие саморепрезентации иератического или эмоционального порядка. Хороший писатель способен предложить достойное словесное описание всего этого, но само описание в состоянии (и то с трудом) выделять лишь отдельные моменты действия, и только своего рода «центральное сообщение». Поведенческая установка нарисованной фигуры может вовсе не быть в фокусе внимания, но она будет действовать в качестве basso continuo по краям основной темы, ибо обе темы действуют симультанно, если мы имеем дело с иконографией[708].
Особенно четко проблема «ненаправленной акцентировки» обнаруживается при сравнении словесного и визуального описания прямого действия. Изображая Иону «во чреве китове», художник может позволить себе неопределенность: мы не всегда готовы четко сказать, проглатывает чудище пророка или, наоборот, выпускает его из своей разверстой пасти. В Сикстинской капелле эта неопределенность обыгрывается литургически, представляя, соответственно, смерть и Воскресение Христа. Но одновременно именно эта самая двусмысленность требует словесного своего оформления[709]. Но то, что в визуальных медиумах выглядит вторичным смещением (split-second shif), в письме становится жестким подчеркиванием альтернатив. Подобное различие в акцентуации проявляется и в отношении написанной и описанной фигуры к внешнему миру. Не составляет труда просто произнести два слова: «Святой Петр», но совсем не просто нарисовать Первоапостола, не награждая его облик определенной долей «натурализма» или «абстракции», порождающих последующие, и весьма различные, реакции зрителя (между прочим, с трудом описываемые в терминах «профессионального понятия стиля»). «Конечно, игра неопределенностями возможна; несомненно, можно достичь схожего эффекта при словесном описании, но подлинный эффект будет утрачен уже по ходу «представления», ибо переакцентировка понятий заложена уже в правилах игры», чего, добавим мы, нет при визуальных репрезентациях[710].
В языке воздействующие на чувства элементы поддерживаются заранее установленными правилами грамматики и синтаксиса. Визуальная система иконографии не содержит операциональных правил, «специфичных для подобной системы». Она представляет собой внекатегориальную, «определяемую собственным окружением логику», которая создает «нарисованные нарративы, переводимые в символы таких понятий, как “субъект”, “предикат” и “объект”». Структурирует же иконографию именно Литургия. Но так как визуальные медиумы иконографии не подчинены предустановленным правилам, то прирост числа «признаков» в изображении неизбежно дает прирост и альтернативных вариантов восприятия (то есть, чем богаче, детализированнее изображение, тем больше онo дает вариантов собственного понимания).
Соответственно, это означает и отсутствие правил обращения со всеми подобными «признаками», из чего следует невозможность заведомых предписаний на уровне стилистики: иконография равным образом способна существовать и в натуралистическом, и в абстрактном исполнительском ключе. И пользоваться этим ключом имеют право многие модальности, внеположенные иконографии, в том числе и наука об искусстве. «Иконографии не хватает “емкости”, чтобы быть не специфической», подобно языку. И она же выглядит внекатегориальной с точки зрения «операционального формализма», каковым характеризуются алгебра, грамматика или препозициональное исчисление.
Образы моральной идентичности
Но принципиальнее всего другое: с точки зрения условий порождения значения в иконографии все усложняется тем обстоятельством, что «изображения представляют собой обычно “подлинник”», который воздействует как индивидуальный, уникальный (Синдинг-Ларсен использует именно немецкое слово «einmalige») объект, относящийся к «конкретному месту и специфической ситуации». Характерным примером такого рода является чудотворный образ или освященная гостия, а также всякое изображение, с которым можно вступать в индивидуальные отношения посредством, например, эмоционального переноса. Можно ли, вслед за одним автором (Р. Трекслером), именовать эти изображения «объектами», которым приписывается сакральная сила, требующая наделения себя формой (речь идет о флорентийском благочестии XV века, хотя подобная идея достаточно универсальна)? И корректно ли отождествлять народные верования, будто Дева Мария незримо присутствует внутри своих статуй, с идеей о телесном присутствии Христа в Евхаристии, хотя через эту идею в народные массы и проникала потребность в т. н. Евхаристических чудесах[711], то есть в зримом явлении Христа в момент пресуществления Даров? Существенно, что согласно церковному учению (например папскому посланию 1202 г.) освященные Дары суть «sacramentum et non res», то есть не являются объектами. И поэтому, как тонко – и, главное, адекватно – замечает Синдинг-Ларсен, следует говорить о силе, которую можно приписать «фундаментально иным феноменам». Образ поэтому не «объект», и верующий человек, в том числе и необразованный, видит только во вторую очередь в образе «объект», созданный из дерева и краски, а в первую – ощущает непосредственную близость к воспроизводимому прототипу[712].
Связь изображения и прообраза можно именовать «практической идентичностью», как это делает тот же Трекслер, а можно и более точно, вслед за известным ученым доминиканцем (о. Эллерт Даль[713]), – «моральной идентичностью», которая отличается и от «реальной идентичности» (реликвии), и от «идентичности через репрезентацию» (случай простого портретирования). Идентичность эта возникает потому, что у святого есть особый «интерес» – открыть себя через данный образ: кто имеет дело со статуей, имеет дело и со святым. И потому общение со священными образами исполнено жизни и, что самое важное, не однонаправлено: «почитающий образ не только сам созерцает, но и оказывается созерцаемым»[714].
И подобные качества священного образа можно описать как «колебание между материальным и спиритуальным». И это состояние доступно зрению и только через зрение, и потому то, что открывается в изображении, следует признать присущим только этой модальности (изображению) и отсутствующим и недоступным в модальности языка и письма[715].
Зритель, находящийся лицом к лицу с «физически постоянным и пространственно устойчивым образом», обнаруживает свою и активность, и креативность в возведении поверх образа особого рода интеллектуальной и эмоциональной конструкции»[716].
Итак, все выше сказанное подводит нас к порогу понимания и сакральной архитектуры, которая, как нам представляется, прямо и обеспечивает подобную активность и зрителя, и образа, будучи сама прообразом того самого пространства и того, собственно говоря, мира, который, являясь местом не явления, а пребывания Священного, обеспечивает наличие мира нашего…
Воспринимающий индивидуум перед лицом иконографии
И тем не менее, все начинается со зрительного восприятия, которое в общем виде можно определить как «высокоспециализированное, последовательно целенаправленное поведение», которое поэтому может определяться соответствующей программой и целью и одновременно – определять таковые. Из этого следует, что индивидуальный «участник» ситуации, порождающей иконографию, – будь то проектировщик, художник или пользователь – проявляет креативность во всех из этих ролей, обнаруживая многосложность отношений, касающихся иконографии и усугубляющихся тем обстоятельством, что за всем этим могут стоять ритуалы, в которых участвует «обширная, многоуровневая и сильно разветвленная организация»[717].
Но что за индивидуум способен полноценно участвовать в подобных отношениях, имеющих, напомним, своим центром литургическое пространство церковного здания? Проблема может быть сформулирована как выяснение того влияния, которое оказывает Церковь как организационная структура на конкретного индивидуума, на степень и уровень его участия в «иконографическом процессе», то есть в смыслопорождающем взаимодействии между ним и структурами ритуала. Но еще важнее организационные структуры Церкви, которая порождает различные категории участников и целый репертуар ролей, нацеленных на достижение одной цели – совершение Литургии, но подразумевающей целый спектр подчиненных целей. Одна из них – сакраментальная, реализуемая ex opere operato через правильно совершаемые священнодействия. Им подчиняется целый набор целей, связанных с удовлетворением всякого рода духовных потребностей, объединенных потребностью в приобщении и принадлежности к жизни высшего порядка, то есть в освящении. Ради этого организация владеет аппаратом (framework) «конституирования смыслонаполняемости» того, что ею (организацией) порождается, генерируя символы, предназначенные для выражения и передачи значения. И все это предполагает способность к внутреннему взаимообмену и взаимодействию с окружением.
Участие означает наглядное развертывание (display), что способствует удержанию позиции в системном окружении, удержанию системы от дисбаланса и совместное участие в развертывании культурной доминантности с присущими ей ролями в строго ритуальном применении. Роли исполняют и с целью особой ритуализации, сосредоточенной на самореализации.
Поэтому понятно, что «значение порождается социально», но совершается это в согласии с «типами индивидуальности», и с ними связаны типы смыслопорождения, типы психологические и социальные, которые руководствуются мотивами, соответствующими данной ситуации, происходящими из отдельных фрагментов опыта. И это дает возможность просто приписывать разные значения одним и тем же аспектам «реальности».
И если уже о реальности зашла речь, то приходится помнить, что современная теория имеет особую ее дефиницию: «если люди определяют ситуации как реальные, то они реальны во всех своих последовательностях». Индивидуум не «преднаходит», но «конструирует» свое окружение. Более того, «персональные процессы движутся <…> по каналам такого направления, чтобы предвосхищать события – отчасти через ментальные образы»[718]. Окружение должно быть предсказуемо, что достигается посредством социального поведения и путем изготовления когнитивных паттернов. Реальность – это набор разных карт одной и той же местности.
Итак, перцепция и концептуализация движимы интересами и регулируемы компетенцией. И потому «интерпретация произведения искусства должна артикулироваться в согласии с социальными и средовыми факторами, открывающимися внутри данного контекста»[719].
И контекст, воспринимаемый под знаком перцепции и концептуализации, обладает целым набором параметров, таких, как интенция, склонность, поведенческий импульс, целенаправленность. мотивация, внимание и т. д. И все это объединяется единым понятием «интерес», который отвечает за всю ту же компетенцию, способность индивидуума воспринимать и понимать. Применительно же к иконографии компетенция включает в себя «способность принимать интендированное значение, концепт, исходящий как от автора иконографической программы, так и от ее пользователя, а также трансформировать его».
И подобную компетенцию можно анализировать на двух уровнях: на полуэмпирическом уровне «понимания» и на уровне формализованной, внесодержательной чистой когнитивности (типичной для математики и кибернетики). Ясно, что для иконографических целей приемлем лишь первый уровень рассмотрения, в котором можно выделить как «лингвистическое», так и «концептуальное» понимание. Причем лингвистическое, построенное на самом факте употребления соответствующих слов и выражений, является не чем иным, как «декларативным» представлением и, соответственно, пониманием. Это такой способ изображения, когда тот или иной набор образов вызывает «серию ассоциаций, связанных со всякого рода взаимодействующими концептами, которые могут, повторяясь, в конечном счете трансформироваться в конгруэнтный набор других ассоциаций»[720]. Так, изображение Девы Марии с Младенцем неизбежно вызывает следующую ассоциативную последовательность: воплощение – спасение – Церковь – Таинство. На этом же принципе построена и идентификация иконографических персонажей: происходит простая замена иконографических элементов на заранее известные лица той же Св. Истории.
Концептуальное понимание основано на выстраивании отношений между формальным языком и семантическими моделями (то есть между иконографическими схемами и тем, как об этом же можно сказать, рассказать словами). Концептуальное понимание может быть эксплицитным, предполагающим знание формального языка, а может быть имплицитным, когда знание языка не нужно в силу внутренней связи с той областью, которая описывается формальным языком. Применительно к иконографии данный тип понимания означает существенное расширение простого ассоциативного подхода по той причине, что реально выявляет, если не утверждает, возможный набор связей между иконографией и литургическим «обрамлением», а через него – с экклезиологическими контекстами, с традицией и социальным окружением. Другими словами, это путь понимания иконографии как системы, взаимодействующей с другими системами – ритуальными и средовыми.
Один из аспектов этого эксплицитного понимания – его коллективный характер, предполагающий, в том числе, и своего рода когнитивную кооперацию, обмен знанием, что особо наглядно видно опять же в случае общественного богослужения в церковном здании. В свою очередь, имплицитное понимание может свидетельствовать о том, что познающий индивидуум испытал силу убеждения и влияния тех концептов, что заложены в иконографии, делающей для него и обязательным, и необходимым участие не только в литургических, но и в политических ритуалах (за той же «Мадонной Пезаро» стоят и политические контексты, и обычаи Венецианской республики).
Итак, иконография – это «система значений и правил». Аналитический подход к иконографии подразумевает, соответственно, «порождение теоретического аппарата альтернативной семантической системы и соответствующей структуры правил»[721]. Другими словами, мы познаем, потому что не понимаем: данная семантика остается для нас недоступной и ее заменяют альтернативной. Применительно к истории искусства данный постулат предполагает, в частности, целый набор усилий «за пределами документальных свидетельств». Теория предполагает сосуществование концептов как исторически определяемых и, соответственно, «истинных», так и реконструируемых, предположительных. А взаимодействия между этими двумя уровнями устанавливается интуитивно, если не провидчески. Так что создаваемые модели знания носят характер не столько определений, сколько просто примеров-экземпляров.
В целом же аналитическую систему следует оценивать не столько с точки зрения ее истинности, сколько с точки зрения продуктивности, которая предполагает целый набор признаков. Продуктивная модель способна адаптировать новые эмпирические данные или открытия, видоизменять, расширять или повторно адаптировать всякого рода добавления в первичные фактические ресурсы или восстанавливать свою целостность, если новый материал подверг разрушениям первоначальную модель. Наконец, система должна постоянно порождать новые теории, способствующие обнаружению нового материала.
Модели знания и образы смысла
Итак, анализ – это креативная процедура, направленная на порождение особых образов того, что подвергается анализу. Эти образы содержат в себе «ссылки» на те смысловые контексты, что стоят за предметом анализа, но служат они интересам тех, кто занят анализом. Но в силу системности самого предмета анализа аналитик не в состоянии отделять себя от предмета своего интереса, и его интересы вступают во взаимодействие с интересами тех, кто создавал ту же, например, иконографию. Ученый исследователь становится частью того, что он анализирует, и подобная трансформация заложена в самой сути познавательной деятельности, которая как всякая деятельность, определяется участием, компетенцией и целями. Как определить и оценить результаты взаимодействия этих двух систем (системы иконографии и системы ее познания) или, точнее говоря, их образов или моделей? Подобное возможно лишь через построение модели их взаимодействия, что будет уже образом, моделью познания не столько иконографии как предмета, сколько иконографии как подхода. Так возникает модель методологическая…
Собственно говоря, у Синдинг-Ларсена речь идет об оценке «аналитического потенциала» всех только что обсуждавшихся теоретических концептов, взаимодействующих друг с другом. Во-первых, как считает Синдинг-Ларсен, существует три модели, описывающие иконографию с точки зрения «формального авторитета»: иконографическое значение с точки зрения поддержания ритуальных функций, то же значение в более обширном контексте взаимоотношений Литургии и литургических источников и, наконец, модель, имеющая дело с живописной стороной иконографии. Во-вторых, существуют две модели, описывающие то значение, что формируется у участника иконографической ситуации, порождающей «некоторую форму координирующего ритуала и иконографического восприятия». Одна из этих моделей описывает «поле действия», другая – соответствующие «определяющие процессы».
Фактически, построение методологии – это, так сказать, «реконструирующая идентификация» основных параметров иконографии («базовые уровни» Литургии, сообщения, концепций образа, ритуала), пропущенных сквозь упомянутые пять аспектов с учетом того, что в результате должны получиться «нормативная аксиология и структура правил, взаимодействующих со всеми релевантными системами значения»[722].
Итак, первая модель «концепций авторитетности» имеет дело с иконографией, соотнесенной с литургическим функционализмом, стоящую из трех взаимодействующих аспектов смысловой значимости и учитывающей, что исток и цель Литургии связаны с участием в ней духовенства, священнослужителей в широком смысле слова. Первый аспект – это когда иконография прямо воспроизводит реальное или трансцендентное присутствие Прототипа (Христа-Бога в Евхаристическом контексте). Второй аспект – когда иконография представляет скрытое проникновение и прямое или косвенное участие в обряде Прототипа (Христос как Первосвященник в Евхаристии и общение с ним святых, участников Небесной Литургии). Третий аспект действует в том случае, когда иконография воспроизводит признаки аналогии между обрядом и его прототипом (например, изображение Небесного Престола, для которого земная Литургия будет «отражением в контрапункте»).
Подобную «трехчастную систему, которую возможно интерпретировать по разным направлениям», Синдинг-Ларсен предлагает рассматривать как «первичный движущий фактор и регулирующую силу» во всех типах иконографии, когда, например, всякого рода вторжения и отклонения, присущие историческому развитию, результируются в иконографических корректировках, направленных на поддержание системы в равновесии. Кроме того, эта трехчастная система представляет собой основной компонент в том самом «поле деятельности», которое отражает «официальные канонические интересы» по отношению к литургической иконографии. Собственно говоря, речь идет о своего рода сценарии, на основании которого разнообразные параметры «иконографического процесса» оцениваются и соизмеряются в соответствии с «фундаментальными нормами и высшими целями»[723].
Более того, подобная система (и все ее подсистемы) наполнена концептами и значениями, описывающими одновременно понятия, относящиеся к системам еще большего масштаба – Св. Писания, литературы (богословской, литургической, агиографической и т. д.) и обрядовой традиции. Все это можно объединить триадой Догмы – Доктрины – Литургии, которая представляет собой «точку схода», фокус каждого момента совершаемой Литургии. И такого рода действительно фундаментальная система может быть представлена в виде схемы:
Подобная схема является и аналитическим каркасом для интерпретации, так сказать, со стороны авторитетов, с любого места и в любое время (момент) Литургии, причем любой ее части. И, в свою очередь, осуществляемая таким способом интерпретация определяет важнейшие элементы и структуры иконографии, причем и в расширительном плане, касаясь уже и внелитургических тем и аспектов (например, агиографических).
«Но решающий момент заключается в том, что Литургия сакраментально трансформирует пространство совершаемых действий и в нем те же самые концепты выражаются на уровне формализирующего ритуала посредством освящающих слов и действий»[724] (выделено нами. – С.В.). Литургия определяет и выбор источников, и отбор концепций, и, что самое существенное, определяет порядок их восприятия и усвоения.
Более того, иконография предполагает, что ее визуальные параметры не просто дополняются ментальными, концептуальными усилиями, но именно истолковываются ими при условии использования догматических и литургических понятий в качестве необходимого инструментария. А владение этим инструментарием и есть, собственно говоря, компетенция авторитета…
Пример, приводимый Синдинг-Ларсеном в качестве иллюстрации, по-своему замечателен, тем более что связан он с именем Э. Гомбриха – тоже авторитета в своем роде и в своей области, которая, однако, как оказывается, может не совпадать с областью литургической иконографии.
Истолкование Гомбрихом центральной фигуры Гентского алтаря как «Бога-Отца» поражает своей неточностью. Это, во-первых, и не столь уж старческий образ. Во-вторых, вовсе не метафорическое изображение Первого Лица Св. Троицы, а прямое воспроизведение пророческого видения «Ветхого Деньми», что есть, по выражению Синдинг-Ларсена, «альтернативное изображение Бога, созерцаемого “через” Христа», который как раз представляется напрямую как Воплощенное Божество и в видении Апокалипсиса. В-третьих же, этот образ следует воспринимать христологически (королевские регалии сочетаются с первосвященническими атрибутами и аллегориями Искупительной Жертвы). Характерное изображение Св. Троицы в виде трех идентичных фигур (известны изображения, современные Ван Эйку) тоже следует воспринимать с точки зрения Воплощения как равное подобие Вочеловечившемуся Слову, через Которое Отец действует Духом Святым.
Можно ли сказать, что подобное толкование не предполагается внутри самого изображения, что оно возникает по ходу богословских рассуждений по поводу изображения? Или что весь этот смысл и так предполагается независимо от конкретного изображения? Стоит ли учитывать церковное учение, чтобы понять изображение? Для Гомбриха это учение не было авторитетным, и потому он увидел у Ван Эйка только метафору Отца. Позиция Синдинг-Ларсена особенно рельефно показывает специфику его методологии, основанной на обязательно системном взгляде на иконографию, где невозможно не учитывать все уровни восприятия и функционирования сакрального изображения, в котором, в том числе, и церковные, институциональные, авторитетные, предписывающие аспекты составляют обязательную структуру изображения. Оно без них не могло возникнуть, не могло функционировать и потому не может быть усвоено сейчас.
Каким же способом делается обязательным концептуально-догматическое содержание? Дело в том, что «иконография сочетает в своей структуре специфические визуальные признаки, которые имитируют вовсе не прототипы как таковые, а их концептуализацию в сознании авторитетных лиц, зрителей-участников [богослужения] и в нашем собственном»[725]. А структура этих визуальных концептуализаций (то есть не самих концептов, а порядка их порождения) задается «последовательными актами выбора релевантных отношений к релевантным концептам и отказ от прочих специфических альтернатив»[726]. Этот процесс можно представить в виде дерева, где ответвления образуются новыми визуальными признаками и новыми концептами, порожденными сочетаниями данных признаков по ходу рассматривания иконографии и ее анализа (тот же самый процесс, вероятно, присутствовал и при ее рождении). Иначе говоря, крайне существенно, что «символическое содержание и способ представления» обязаны проявляться вместе, чтобы произошло узнавание и толкование, которое, повторяем, заложено в структуре самого иконографического изображения. И подобная структура содержит операции выбора, отраженные в ответвлениях того самого «древа»: выбор «фокуса или цели концептуализации», отказ от альтернативы, выбор типологии, локализация, положение, идентификация, «интермедиальная концептуализация», атрибуция. Нетрудно заметить, что описанная структура – это структура ориентации в ритуально-храмовом пространстве, что не случайно: церковное здание есть прежде всего образ, модель функционирующей Церкви, определяющей и состояние, и поведение своих членов, и их сакраментальную и когнитивную активность…
Итак, иконография – это то, что заставляет участвовать не только в обрядах, но и в их понимании. Совершается строгая ритуализация самого познавательного процесса, который оказывается процессом идентификации и ориентировки в готовых контекстах. Задается, подчеркивает Синдинг-Ларсен, «наша аналитическая стратегия», цель которой – реконструкция. И она достигается через учет или «креативной стратегии авторитетных лиц, отвечающих за продукцию», или «концептуализационной стратегии современного зрителя». Начало иконографической аналитики – «концептуальная фокусировка на Боге», выбор Его в качестве цели понимания, конечный предел – «интермедиальная концептуализация, представляющая собой или заложенную, или индивидуально реализованную атрибуцию значения». И опять же осуществление подобной семантической аналитики возможно исключительно через взаимодействие с «базовыми» уровнями и «скалярными признаками» иконографии, отвечающими за ее, собственно говоря, художественно-изобразительный статус. Это есть не что иное, как знакомые нам стилистические параметры («манера»), дополняемые количественными характеристиками, недискретными качествами (колорит), линейно-графическими особенностями, «топологией поверхностей», – всем тем, что задает разнообразные пути и направления «эмоционального истолкования», предполагающего «поэтическую интуицию»[727].
Но даже если ограничиваться вышеприведенным «древовидным» аналитическим процессом, то все равно существует крайне показательное условие его реализации: восприятие иконографии как своего рода предлога (или предложения) совершить некоторую последовательность интеллектуальных решений доступно исключительно «высокообразованной личности своего времени»[728]. Для менее подготовленных в теории зрителей достаточно будет одной лишь фиксации внимания на отдельных символах, выбор которых обусловлен не «стратегией» самой системы, а привходящими социальными обстоятельствами и окружающей средой.
Но учет такого фактора, как зритель-участник, неизбежен, так как чисто формальная система – только часть и выражение более обширных систем ценностей и поведения (например, Литургии и ее производных). Происходящие в этих системах процессы предполагают личное участие и порождают по этой причине «символические структуры самоидентификации», которые могут включать и элементы иконографии. Даже «средний» участник, фиксируясь на одном из подобных символов или прямо на каком-либо концепте, способен интуитивно усвоить важные свойства самой структуры позади символов. Но делает он это лишь частично, перераспределяя свойства и не замечая порой «чужих» элементов. В любом случае существенно иметь в виду не только то, на что способна «картинка» как таковая, но и то, на что способно сознание и поведение индивидуального «участника».
Принципиальный момент состоит в том, что иконографическая система способна стать «полем деятельности» пользователя, «вторжение» которого выводит ее из равновесия, обретаемого вновь посредством выбора некоторого определенного ответа на сомнения, возникающие по ходу прежде всего рассматривания, то есть зрительской активности участника. И даже если мыслить, например, в историзированных терминах и именовать последовательность изменений системы как «развитие», то все равно первичным остается уровень связи с «реальным миром», представителем которого является зритель-участник. Именно в его сознании вырабатываются образы-конструкты самых разных модальностей, в том числе и тех, что именуются «визуальным представлением “реальности”». Но и об уровнях сверхперцептивных интересов, то есть социальных и средовых, тоже удобнее говорить как о соответствующих конструктах сознания, которыми оно так или иначе оперирует.
Тем не менее вопрос, как изображение воспроизводит что-либо, требует своего ответа, хотя, конечно же, главная проблема состоит в том, что этих ответов слишком много. Синдинг-Ларсен довольно бегло перечисляет их: изображение – это и «этиологический» процесс копирования-повторения, и информационно-теоретическое воплощение данных, и семантически-информационный процесс. Рисунок – это и воплощение намерений передать сообщение, это и иллюзия, и набор подобий. В последнем случае важна степень сходства, которая получается по ходу целенаправленного процесса сравнивания и сопоставления результатов более частного процесса «подделывания-подстраивания» (выражение Гомбриха) визуальных эквивалентов-аналогий или кластеров.
Можно попытаться психофизиологически объяснить процесс зрительного восприятия активными усилиями сознания по фокусировке «наиболее информативных» частей изображения на «центральной ямке» сетчатки с одновременной активизацией периферийных зон. Отвлеченные образы, лишенные конкретности, стимулируют перцепцию и внимание, которые заняты выделением «абстрактных» форм и «их нормализации», приведением их к привычным, «каноническим» конфигурациям. По ходу «эмпатии» запоминающееся или просто значимое поведение нарисованных персонажей «в некотором роде программирует внутренние системы наблюдателя, пробуждая в нем известную готовность принять сходное поведение: ритуальные установки нарисованных лиц стимулируют ритуальное поведение в наблюдателе»[729].
Синдинг-Ларсен еще раз подчеркивает: действенность образа, соотнесенного с когнитивно приемлемым «реальным миром» и его «реализмом», зависит от сложных паттернов, состоящих из материала, предоставляемого культурой. Несомненно, любое изображение, соотнесенное с «реальными» предметами, представляет собой художественную «абстракцию», но обсуждение ее в терминах стилистической парадигмы неадекватно, в лучшем случае недостаточно. Но с какой же тогда реальностью соотносить изображение? Конечно же, с «литургической ситуацией», в которой происходит прямая фокусировка на присутствующей истине и которая истиннее всякой словесной реальности. Пример такого подхода – сравнение двух изображений Тициана, которые в стилистических понятиях («скорее закрывающих, чем начинающих обсуждение») описываются как более уравновешенное и более экспрессивное. «В реальности» же перед нами изображение «двух различных типов благочестивого усилия», при том, что вовсе не обязательно различать их по степени эмоциональной насыщенности (просто это разные эмоции).
Но мы должны себе представить «реального» индивидуума, способного почувствовать две разновидности отношений в двух альтернативных изображениях конкретных ритуальных установок. И это будет два разных места: частное жилище и, соответственно, стена (генуэзская «Мадонна Бальби») и публичное и сакраментальное место и, соответственно, церковный алтарь («Мадонна Пезаро»). Мы не можем судить о функциональном соотношении, например, живописных форм и типов окружения, но вполне можем допустить, что «взрослая личность», столкнувшись с «Мадонной Пезаро», сможет сразу же уловить важное соответствие между литургическим жертвоприношением как повторением Крестной Жертвы и участием в общественной жизни как форме самоотдачи, если не самопожертвования.
Все последующие связи наш средний зритель выстраивает благодаря своей способности существовать через участие в чем-либо и аккумулировать системы значений, усваивая их из всякого рода взаимодействий с современной жизнью. Синдинг-Ларсен пишет, так сказать, портрет подобного зрителя-участника: он более-менее регулярно участвует в Мессе, регулярно созерцает официальные венецианские церемонии или участвует в них, чувствуя себя частью единого целого, которое репрезентирует его как гражданина, позволяя быть и индивидуумом, и приобщаться к государству и Церкви. Быть может, он не проявлял исключительного интереса ко всякого рода идеологическим коннотациям и политико-религиозным функциям публичных ритуалов или к официальному символическому аппарату, разработанному для их осуществления. Но в своих ключевых моментах и на уровне основных ролей ритуал обозначал для подобного зрителя соответствующие символы и просто прямые сигналы, заставлявшие его интуитивно соотносить то, что он видит, с тем, в чем он участвует, – во всех подобных процессиях, обрядах и прочих церемониях, сфокусированных в конечном счете на одном – на Мессе.
Замечательный пример такого символа – изображенное в картине боевое знамя, которое выступает самым настоящим ключом, открывающим доступ к массе контекстов, как сугубо политического, так и идеологического, и мифологического, и исторического содержания[730]. И делает этот символ таковым то простое обстоятельство, что, как всякое боевое знамя, оно было освящено и потому достойно быть принесенным в качестве жертвоприношения пред Престолом победоносного Небесного Владыки[731].
Так что при взгляде на «Мадонну Пезаро» обсуждаемый индивидуум сталкивается с «богатейшим диапазоном символов, принадлежащих обширным и сложноустроенным системам значений, поддерживаемых ритуально и порождаемых религиозно, социально и политически». Ему нет нужды аналитически познавать или концептуально осознавать подобную систему как связанную структуру. И именно поэтому «живопись, являющую его взгляду некие символы, он способен увидеть – в тех или иных формах и при разных обстоятельствах – исполненной несомненной жизненной важности лично для него и как индивидуума, и как гражданина, и как прежде всего «viator’а» на пути к Раю[732].
Поэтому всякий зритель-участник обладает своим «концептуальным сценарием» со всеми присущими ему «семантическими атрибуциями», действующими как своего рода фокусировка в конкретных ситуациях (то есть речь идет о способности при конкретных обстоятельствах приписывать то или иное значение тому, что принимается в данный момент как существенное). Реализация подобного сценария – это не просто семантическое расширение, а утверждение своего рода индивидуального «поля активности», включающего в себя и объекты, и концепты, используемые в «фокусировочном процессе» данного индивидуума – концентрации внимания, реализации интересов, проявлении компетенции, то есть, всего того, что вносит перемены в порядок порождения значения. Из этого обстоятельства следует, что индивидуальная активность, проявляющаяся в приписывании значения, движима именно интересами, регулируется компетенцией и должна быть в обязательном порядке рассматриваема в перспективе индивидуального зрителя-участника, чьи, вдобавок, две «семантически креативные роли» – «проектировщик» и «пользователь» – нередко пересекаются с некоторыми другими.
Так что традиционные биографические различения «патрон и художник», говорит Синдинг-Ларсен с присущей ему ироничной лапидарностью, не в состоянии скрыть крайнюю значимость индивидуумов как представителей-репрезентантов социальных и средовых систем, специфические поля активности которых не обязательно должны выдавать «биографические ролевые паттерны»[733].
Наконец, последняя важная тема внутри этой проблематики – учет того факта, что формирование значения, релевантного для всех «партнеров иконографического предприятия», представляет собой процесс, который когнитивно охватывает всю ситуацию и ее участников. Структура «ситуации» – крайне сложный объект для анализа, и потому вполне благоразумно, замечает Синдинг-Ларсен, ограничиваться рассмотрением ролевых отношений «типичных партнеров» и важнейших смысловых перспектив, им и через них нам открывающихся[734].
Итак, перспектива «проектировщика» описывает поле активности как выстраивание уже упоминавшегося «иконографического древа», плоды которого выявляются как интересы и компетенция. За этим стоят определенные цели, ожидаемые блага (вознаграждения), а в целом все это представляет собой оценку на количественном и качественном уровне. Внутри этих же перспектив можно обнаружить и такие цели вкупе с требованиями, которые ориентированы на участие в ритуалах и отражают помимо прочего и реакцию на иных участников, выступающих порой в роли «соучастников» и, значит, «сопроектировщиков». Таковыми могут быть как артисты, так и последующие «пользователи». Поэтому подлинный «проектировщик» вынужден как бы вычерчивать карту той местности, что задается этими двумя перспективами. И наконец, самое существенное: точка схода обеих перспектив – это сам процесс проектирования той же иконографической программы, а главное – участие в нем. Это напоминает, говорит Синдинг-Ларсен, современные «полные» модели архитектурного проектирования, которые представляют собой не что иное, как предельно приспособленный для использования аналитический инструментарий для ретроспективного описания процесса проектирования. Основа подобных моделей – формулировка оптимального проекта, в котором учтены все воображаемые факторы и отношения, что предполагает и нас, то есть современных аналитиков, оснащенных «приемлемым инструментарием» для обращения с подобными ретроспективными проектами. В результате такого рода анализа возникает уже не ретроспективная, а проективная и более широкая модель[735].
А что же пользователь? Каковы его перспективы, если столь исчерпывающими выглядят возможности «проектировщика»? Фактически, пользователь – это индивидуальная, личностная сторона проектировщика: индивидуальная концепция «иконографического древа» в рамках собственного поля активности (интересов и компетенции), оценивание интенций и действий проектировщика и, самое принципиальное, – самоидентификация в связи с предлагаемыми «поведенческими паттернами» и реакцией на других участников.
Так что же такое в этом случае собственно ситуация, участниками которой равным образом оказываются и проектировщики, и пользователи? Ситуацию можно описать как темпоральные отношения между специфическими перспективами (только что описанными) и системами иконографии (описанными в виде древовидной структуры чуть выше). Важно, что участие проектировщика и пользователя в ситуации описывается как исполнение (evaluate) соответствующих ролей. Ситуацию можно узнать по тому признаку, что имеет место взаимодействие следующих сущностей: один субъект (А), другой субъект (В), ритуальная (литургическая) система. И все подобное должно взаимодействовать с окружением. Должны наличествовать специальные ценностные системы (теология, политика, организационные намерения и т. д.). И обязательно следует учитывать «пространственные условия», а также собственно «специфическую иконографию»[736].
Последний методологический рывок связан с попыткой принятия непосредственно социологической точки зрения, которая, в частности, предполагает понимание «социальной системы» как процесса порождения «паттернов отношений между индивидуумами и коллективами», что подразумевает и наличие явлений, вносящих смысл в визуальный мир, – делает добавление сам Синдинг-Ларсен в приводимую им цитату известного социолога Э. Гидденса. Более того: социальные системы предполагают «репродуцирующие отношения между индивидуумами и коллективами» (здесь тоже цитата, и тоже выше обозначенная добавка о видимом мире). Но главное, как подчеркивает автор «Иконографии и ритуала», – это «фактор цели» (социальные системы и целиком, и в своих частях конституируются конкретным целеполаганием). Почему же цель существенна для наших изысканий? Потому что она «имплицирует темпоральную размерность и ситуационное подтверждение системы» (в данном случае иконографической).
Из этого опять же следует полная бесполезность сугубо биографических изысканий на тему индивидуальности. Когда перед нами встают в полный рост все вышеописанные контексты, способен ли, говорит Синдинг-Ларсен с присущей ему неподражаемой иронией, «биографически индивидуальный NN со своим свидетельством о рождении и справкой о доходах и прочими документами выступать в качестве единицы анализа»? Ведь если обобщать, то эта «аналитическая единица» должна отражать именно ситуацию, то есть, меняющееся окружение, изменение целей и т.п., сталкивающихся под знаком личностных концепций и поведенческих навыков – причем в конкретный момент и достигая индивидуальной специфики, сохраняющейся в потоке времени. Отрицая деперсонализирующий, сугубо социологический проект интеграции микро– и макроуровней социальной системы («макрофеномен формируется из концентрации и повторения микроэпизодов»[737]), Синдинг-Ларсен предлагает в качестве резюме пространственную метафору проникновения системы в индивидуум и обращения его в сторону «ситуационной типологии». Это и есть «поле активности» личности, подразумевающее все тот же сценарий, согласно которому личность опознает концептуально и поведенчески «целеполагающий конструкт текущей реальности»[738].
И именно на основании подобных проидентифицированных конструктов происходит усвоение и переработка индивидуумом особенностей той же иконографии, ее возможных связей с окружением как результата согласования ориентации и положения индивидуума внутри заданной ситуации, атрибутом которой он сам является. Другими словами, социальная ситуация – насквозь искусственна, в ней нет ни начала естественного, ни завершения, из чего следует, что ее участники точно так же результат организованного отбора и контроля со стороны окружающей, исключительно социальной, среды.
Методологический вывод из этих, казалось бы, столь чуждых истории искусства концептуальных раскладов мало с чем сравним по своей фундаментальности: «ситуацию невозможно определить извне: это есть когнитивный и поведенческий конструкт, который мы, исследователи, в порядке реконструкции призваны приписывать или “деятелю”, или “участнику” в зависимости от той формы активности, что возбудила наш интерес»[739].
Итак, если иконография – это та же «ситуация», то тогда степень ее постижимости прямо зависит от степени включенности в нее интерпретатора, который уже не может довольствоваться позицией стороннего наблюдателя, а вынужден выбирать одну из ролей в сценарии, хотя им и не начатом, но им – насколько он сам вписался в него – продолженным.
Иконография, подобно всякому социальному явлению, проникает в индивидуума, становится фактом его внутреннего пространства, но прежде, как мы убедились (или нас убедили), индивидуум сам должен оказаться частью социально-визуальной среды, проявляющей себя пространственно. Проникнуть в нее, чтобы стать проникновенным – проницаемым и проницательным.
Что же способно обеспечить иконографии ее ситуационную устойчивость, что позволяет индивидууму ощущать себя внутри некоей значимой среды и участником всего, что в ней и с ней происходит? Ответ прост и нам хорошо знаком: это только архитектура, обладающая помимо прочих своих свойств способностью вмещать и удерживать. И ее место в подобной ситуации очень бегло можно описать следующими моментами, предполагающими, что архитектура – это:
1) средство организации иконографической ситуации (планировка постройки подразумевает планирование ситуации и построение отношений);
2) средство отображения (репрезентации) ситуации; 3) соответственно, средство фиксации и уловления ситуации;
4) следовательно, и путь преодоления ситуации: архитектурная среда может быть и альтернативой социальным отношениям[740].
Итак, всегда остается открытым вопрос: где, с кем и ради чего все подобное происходит?. И этот вопрос можно назвать, между прочим, сакраментальным и в буквальном смысле слова, ибо и за ним, и за архитектурой все так же присутствует Таинство, а за ним – его Тайносовершитель, для Которого реально небезразлично не только где что происходит, но и с кем и зачем. Налицо и весь круг интерпретирующих вопросов, и Лицо, к которому можно их обратить, не потеряв лица…
Визуальные образы, семиологические модели и социологические парадигмы: паттерны иконографии и универсалии методологии
При желании подход Синдинг-Ларсена можно назвать семиологическим и структуралистским, хотя бы по причине активного использования коммуникативной парадигмы. Идея коммуникации помогает ему рассматривать иконографию динамически и как предмет рецепции со стороны самых разных инстанций, прежде всего – участников Литургии, которая тоже есть коммуникация (быть может, Коммуникация всех коммуникаций). Система разнообразных актов взаимодействия образует то самое силовое поле, которое выступает и как поле семантическое. Что в него возможно еще включить, чтобы картина обрела трехмерность? Видимо, момент исполнительский, то есть сугубо художественный, связанный с использованием архитектуры и как инструмента, и как отчасти цели коммуникативных актов. И это уже будет своего рода поэтика иконографического дискурса, тогда как Синдинг-Ларсен по большому счету – это только риторика, прагматика использования литургической иконографии.
И здесь, несомненно, требуется повторное внимание к архитектурной форме, которую можно понимать и типологически, как устойчивые «фигуры» архитектурной «речи», и которую необходимо воспринимать иносказательно, наподобие притч, то есть как параболы, пример использования и усвоения которых дает нам самый главный текстуальный источник всякой христианской иконографии – Св. Писание, особенно Евангелие. Не является ли архитектурная типология все той же системой «семантических универсалий» Анны Вежбицкой? Кроме того, следует учитывать такую проблему, как «паралитургический» статус архитектуры, образующий прежде всего оболочку, скорлупу для литургического пространства, которое – в изложении Синдинг-Ларсена – не зависит от архитектурной формы, хотя мы можем ошибаться в том смысле, что данного автора интересовало лишь пространство, но никак не его обрамление и способы его пластической артикуляции. От архитектуры остаются только направление, ориентация и стены.
Создается впечатление, что иконография способна просто элиминировать, упразднять архитектуру. Как это напоминает Зауэра, которому под конец его книги стала очевидной ненадобность архитектуры!
Примерно то же самое – у Дайхманна, имеющего даже богословское обоснование ненужности сакральной архитектуры. Случайно ли у столь разнородных авторов такое единодушное отрицание архитектуры? Видимо, виноваты не они, а сам иконографический метод, который стремится свести трехмерные, стереоскопические ценности к плоскости, к сугубо визуальным качествам, стараясь приблизиться и уподобиться своему источнику и идеалу – тексту и письму, предназначенному для чтения, а не для переживания. Впрочем, в том же двухмерном пространстве поверхности можно – и не сложно – вступать в конфликт с письмом и словом, оставаясь с ними на одной плоскости[741].
Иные методы необходимы, чтобы сохранить или, точнее говоря, восстановить трехмерность смысла и воссоздать объемность сакрального (и не только) здания. Если зрение и чтение – это те самые два измерения, которыми пользуется иконография, то переживание сооружения как опыта сознания – и создателя здания, и своего собственного зрительско-пользовательского – это уже та самая размерность, которая воздвигает над плоскостью смысл постройки.
Но крайне примечательно, что сам текст, словесные образы способны быть инструментом восстановления, если они готовы и приспособлены действовать целенаправленно и по направлению не просто к сознанию, но к воображению зрителя-слушателя.
Поэтому не случайно у двух из рассмотренных нами авторов присутствует более положительный образ сакральной архитектуры. У Краутхаймера это вызвано тем, что источник архитектурного смысла у него связан с самой практикой возведения постройки и исходит из человеческого сознания, из области памяти, к которой обращаются и заказчики, и авторы программ, и художники-исполнители. Это тот путь, что ведет к «архитектурным принципам», к неокантианской, кассиреровской редакции иконологического метода.
У Маля преобладает иной аспект, другая размерность архитектурного символизма, в контексте которого готический собор представляется почти что субъектом смысла, устремленным к другому субъекту, которым оказывается вовсе даже и не зритель, а слушатель, ибо для Маля собор – это проповедь в камне. Это еще один путь к иконологии, который сам Маль проделывает в своих последующих книгах с иными концепциями смысла и его источников – театра и личного благочестия. Напомним лишь, что именно Маль заново открывает Рипу и его «Иконологию».
Но концепция простого зрителя-слушателя, неискушенного, неподготовленного, но нацеленного на восприятие всеми чувствами, – за этим стоит еще более многообещающая методологическая перспектива уже феноменологического свойства. В заключение нашего повествования обратимся к особого рода художественно-поэтическим текстам, смысл которых столь многомерен, что помимо всего прочего имеет и сугубо методологический, то есть путеводный, смысл.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: описание и продолжение
Ибо зритель <…> воображает, что его личный опыт передается церковному зданию.
Патриарх ФотийОсобенности и ограничения иконографического подхода
Подводя итог нашим наблюдениям за иконографией и архитектурой в их взаимодействии, необходимо указать на некоторые основополагающие моменты.
Иконография – это всегда обращение к истоку, к происхождению явления: рассматривая его как образ, мы стремимся, если мы иконографы, к прообразу. Это источниковедческий подход в глубинном смысле слова.
Но подобный исток с точки зрения иконографии связан с изучаемым материалом генетически, то есть логикой происхождения и возвращения: чтобы понять данный феномен, надо повернуться вспять.
Отсюда еще более, так сказать, основополагающая связь иконографии с археологией.
Можно даже сказать, что мы обнаруживаем иконографию архитектуры как метод, происходящий из археологического взгляда на памятники и предполагающий процедуры реконструкции, восстановления – как первоначального вида, плана, внешнего облика, так и смысла. Подобно тому как историк архитектуры по данным археологических раскопок усилием своего воображения (прежде всего) пытается графически воссоздать, восстановить постройку, точно так же восстанавливается, воспроизводится и описывается смысл и значение памятника, постройки.
Поэтому мы противопоставляем иконографию всякого рода «современной» методологии не просто как подход преимущественно традиционный, но как подход историзирующий, ориентированный на образец в широком смысле слова – и как прообраз, и как образ, способ обращения с материалом.
За всем этим стоит потребность освоить этот смысл, понять значение через его расшифровку и описание (оно соответствует этапу восстановления облика и плана и его фиксации через графическую схему). Описание – это то же восстановление и фиксация, но посредством другого медиума – уже не изобразительно-визуального, а изобразительно-вербального.
Следующий (не по порядку, а по важности) аспект – средства восстановления. Если для собственно археологии таковыми являются раскопки, усилия физические, связанные с раскрытием, можно сказать, погребенного материала, вынесением его на поверхность земли и превращением его из чисто физического объекта в артефакт и достояние взора и разума (так сказать, эксгумация-оживление, аутопсия земли, почвы), то для иконографии эквивалентные усилия связаны с помещением памятника «на поверхность языка» и превращением его в достояние литературы, текстуального источника. Понятно, что эта процедура – своего рода рудимент первичной связи всякого образа, в том числе и архитектурного, с Писанием или даже изображения с письмом.
Такого рода методологические черты дают и достаточно простое представление о содержании как преимущественно наполнении. Функция архитектуры – учитывать и включать в себя, вмещать все то, что ей предписано. Даже если принимается в расчет т. н. пользователь, то и он включается в схему, в правило, канон, ритуал (для этого Синдинг-Ларсен и использует социологию). Архитектура мыслится буквально как емкость, вместилище. Стоит обратить внимание на то, что это довольно архаический, собственно говоря, мифологический образ архитектуры, понятой как сакральный топос, теменос.
Фактически, рассматривается исключительно предметное содержание, требующее, соответственно, буквального к себе отношения, что исключает всякого рода смысловую переходность, перенос значения внутри архитектурной формы. Поэтому любой символизм и аллегоризм – вне архитектуры, это область литературы, словестности, вербальности в широком смысле слова. Это почти неизбежная отсылка к языковым реалиям, функциям и аналогиям.
Поэтому у иконографии есть и особые – методологические – отношения с языком, который зачастую воспринимается как наиболее универсальная и адекватная парадигма всякого содержательного подхода. Именно по этой причине вполне приемлемой кажется такая метафора как «язык архитектуры». Как мы видели, этим концептом объединяются самые разные методологические стратегии. Это и непосредственное смещение разговора с архитектуры как явления на архитектуру как тему, помещенную в экзегетический и литургический контекст (Зауэр). Это и признание архитектуры как своеобразного сакрального письма, особой разновидности иероглифики (Маль). Это и разделение архитектуры на набор лексем («вокабулярий») и плана (замысла, проекта), реализация которого – использование предзаданного словаря (Краутхаймер). Это и рассматривание архитектуры как элемента иконографического символического поля, заполняемого тематически (Грабар).
Из подобных языковых аналогий возникает и соответствующая языковая модель иконографии вообще, образ или даже развернутая метафора визуального языка, который используется для передачи тех или иных сообщений, содержащих информацию не только о самом памятнике, но и об окружающей среде в широком и узком смысле этого слова. Языковая модель предполагает и соответствующую визуальную морфологию, систему, так сказать, икономорфем (где есть иконография визуального языка, там присутствуют и его иконограммы). А значит, и соответствующий иконосинтаксис, чья природа применительно к архитектуре коренится в общей типологии архитектурных форм и в правилах их функционирования, то есть назначения и использования. Но в отличие от первых двух уровней, прагматика иконографического языка имеет место в сфере сознания, чем она, между прочим, кардинально отличается от прагматики собственно архитектурного языка, выражающейся в практике строительной.
Но этот подход, не без оговорок, годится для иконографии изобразительной (живописи, скульптуры), где очевиден как раз иллюстративный, просто описательный потенциал. Именно здесь понятно, что иконография как исследовательский подход, метод точно отражает иконографию как качество исследуемого предмета.
Не так обстоят дела в архитектуре. Здесь иконографические качества и функции проявляются всего лишь в способности архитектуры к самовоспроизведению: иконография сводится к изографии, к самоповторению, к самовоспроизведению – не без вариантов и отклонений, конечно же. И в подобной практике копирования существенными оказываются не собственно архитектурные процессы, а сопровождающие их процессы мыслительные, отражающие отношение к образцу и проявляющиеся в отклонениях от этого образца, в его искажении, припоминании, узнавании и забвении. Именно эти сугубо ментальные, идеологические структуры уже становятся предметом истолкования со стороны исследователей-историков, а вовсе не сама архитектура.
С одной стороны, памятнику, архитектурному произведению уже не надо нести непосильное бремя самосвидетельства, ему не надо рассказывать ни о себе, ни о других вещах, теперь о нем говорят и посредством других вещей, иных даже по природе своей, ибо они суть тексты.
Но с другой – архитектура, фактически, остается молчаливым свидетелем собственного косвенного комментирования со стороны всякого рода заинтересованных сторон в лице богословия, психологии, социологии, литературоведения и просто истории идей[742]. Сама же она не в состоянии предложить от себя ничего своего, кроме набора самых общих характеристик или пластических форм, или пространственных отношений. И именно эмоция, чувство кажутся нередко прямым значением, содержащимся в такого рода характеристиках. Но ничего иконографического, то есть типологического, в этом уже нет. Чистая иконография архитектуры рискует раствориться в морфологии вчувствования. Поэтому-то такого варианта иконографии просто не существует.
Кроме того, нетрудно усомниться в первичности самих литературных источников и предположить, что раскопки (возобновляя археологические аналогии) следует продолжить и достигнутый уровень литературных источников не является последним и что сам литературный текст представляет собой такое же произведение, но уже поэтического искусства со всеми привходящими коннотациями как религиозного, так и просто социального или даже культурно-исторического порядка[743].
Возникает желание добраться до следующего уровня, продолжить раскопки и понять, что раскапывается не просто земля, грунт, культурный слой, а погребения (в широком смысле слова), что внизу расположены не только остатки материальной культуры, но и останки человеческого существования. Желание углубиться в сознание того, кто оставил эти остатки и останки, эти следы и знаки, требует других подходов и, прежде всего другого представления о предмете изысканий и раскопок. Памятник вдруг предстает как произведение, как порождение художественных усилий, в свою очередь порождая зрительные и вообще когнитивные ответные реакции в пользователе. Так возникает уже иконология архитектуры, представляющая собой прежде всего метод смещения эвристических, аналитических усилий со строения произведения-памятника на сознание производителя-пользователя.
Более того, можно предположить – в качестве темы будущего изыскания, – что, в свою очередь, именно включение, вторжение архитектурной морфологии в область иконологии порождает такую концептуальную установку и методологическую тенденцию, как феноменологическая герменевтика архитектуры – когнитивная парадигма, которая прошла все испытания со стороны и языка, и психологии и пытается обрести покой в пространстве человеческого экзистенциально-феноменологического опыта.
Наконец, небесполезно предположить, что архитектура – это особая динамическая среда, пространство смыслопорождающих дискурсов, нацеленных на взаимодействие с человеком и на воздействие – и на него, и с его стороны. Условие и результат этих и взаимообратимых, и взаимообогащающих воздействий – вот что должно быть предметом анализа, вхождения и самого интерпретатора внутрь этой самой среды. Синдинг-Ларсен практически вплотную приблизился к такому подходу. Но тем не менее, в нем еще очень много от иконографа, привыкшего к классическим когнитивным установкам и полагающегося на сугубо субъектно-объектные отношения. «Пользователь» пользуется пространством ритуала, относится к нему как к собственному инструменту, хотя, если оставаться в контексте Литургии (именно это постулирует Синдинг-Ларсен), то необходимо представлять себе и учитывать, хотя бы косвенно, и те инстанции, которые сами с радостью пользуются «пользователем». И не без пользы без него!
Экфрасис – образ описания
Так, незаметно для себя, мы подошли к методологическому истоку всякой символической описательности – к специфическому литературному жанру экфрасиса, который можно рассматривать как наиболее емкую форму, образ взаимоотношения с архитектурой, в частности, и с образностью вообще[744].
Но проблема заключается в том, что эта форма все-таки словесная, литературная. Быть может, нет никакой беды, если слово, речь, письмо будут помещены в начало – в качестве истока, который должен по определению отличаться от всего последующего, вытекающего из него?
Действительно, мы постоянно обращали внимание на то обстоятельство, что проблема верификации и в истории искусства, и в нашей теме особенно, упирается во всю ту же источниковедческую проблему, связанную хотя бы с тем, что важно обнаружение достоверных свидетельств, прежде всего современников, по поводу тех или иных памятников.
Можно выделить несколько групп источников. Одни – это просто тексты-рассуждения современников (прежде всего богословов) на интересующую нас тему. Таковыми источниками пользовался Зауэр, и отчасти Маль. Эти авторы в соответствии с избранными ими подходами ощущали и осознавали себя непосредственными продолжателями той традиции, к которой принадлежали их источники и их предшественники. Фактически, этот подход содержит в себе идею возобновления-воссоздания взгляда, точки зрения, установки, которая сопровождала памятник при его появлении на свет. При таком подходе текстуально-языковая проблема как таковая не стоит: источник-текст мыслится непосредственным и удобным средством уяснения смысла памятника, его прямым комментарием. Проблема понимания, таким образом, касается самого текста, а не произведения искусства. Уяснив смысл текста, значение тех или иных понятий, мы можем с чистой совестью экстраполировать результаты на сам памятник, который рассматривается в этом случае как своего рода иллюстрация соответствующего текста. Как уже отмечалось в связи и с Зауэром, и с Малем, столь развитые, столь специализированные и столь определенные в своих многочисленных интенциях тексты, каковыми являются тексты богословские, не могут не подчинять себе материал принципиально гетерогенный, каковым является архитектура, даже и рассматриваемая как тоже своего рода текст. Если же мы, желая сохранить независимость и самостоятельность архитектуры и как вида искусства, и как рода деятельности, и как разновидности творчества, и, наконец, как способа хранения и воспроизведения информации, семантики, символики и т. д., – желая оставить архитектуре шанс на автономность и специфичность, будем искать другого рода текстуально-источниковедческий материал, более адекватный творческой природе зодчества, то мы неизбежно, как это видно с особой силой на примере Дайхманна (в меньшей степени – Краутхаймера), должны будем ограничить свой поиск областью все того же художества, но уже словесного. Но художественная литература как исторический источник – это свой круг проблем, рассмотрение и частичное разрешение которых, как нам кажется, значительно расширяет наши представления о специфике искусствоведческого дискурса как такового. Именно поэтому, повторяем, особой наглядностью и поучительностью отличается анализ такого специфического вида словесности, как экфрасис, история которого восходит чуть ли не к истокам литературы как таковой (знаменитое описание щита Ахилла у Гомера).
Крайне интересно и поучительно рассмотреть возможности и результаты совмещения усилий двух смежных дисциплин: истории искусства и филологии, к которым добавляемся и такая почтенная наука, как собственно литературоведение, представляющее собой в сфере языка точный эквивалент того, что принято называть искусствоведением. Как это можно совместить и что это совмещение может дать полезного? Попробуем ответить на этот вопрос с помощью современной исследовательницы Рут Уэбб, не так давно опубликовавшей, на наш взгляд, эпохальную статью, посвященную жанру архитектурного экфрасиса, причем в его христианском, а конкретнее – византийском, изводе[745].
Сразу отметим, что главный урок данного текста заключается в том, что уже нами отчасти отмечалось в связи с вышерассмотренными подходами как иконографического, так и археологического свойства. Словесный текст не может рассматриваться как прямой и незамутненный источник смысла, который в архитектуре скрывается, а в литературе – раскрывается. Литература – просто иной уровень или способ подачи смысла, который равным образом не принадлежит ни словесности, ни зодчеству, а имеет иной источник, о котором мы и постараемся сейчас поговорить, обратившись к анализу самой практики говорения, то есть ведения речи по поводу архитектуры, но не только об архитектуре.
По-другому всю проблематику можно выразить следующим образом: как сопрягаются два вида топосов – вербальный и визуальный, – и что таит в себе это сопряжение, возможно ли вообще соединение столь непохожих «мест»?
С этого и начинается текст самой Рут Уэбб – с напоминания, что столь характерные ламентации византийских авторов по поводу сложности их задачи – это не только общее место риторической традиции: «До какой степени возможно изобразить материальный объект в таком нематериальном, интеллигибельном материале-посреднике (medium), как язык? Как можно изобразить [описать] какой-либо статичный трехмерный объект в материале, который раскрывается во времени? Как может человек изобразить в словах целостность визуального опыта – бесконечное разнообразие цвета, глубину пространства, фактуру, свет и тень, открывающиеся зрителю при лицезрении даже простейших предметов?»[746]
Итак, главное слово произнесено: слово – это посредник, медиум, связывающий архитектуру, или что-то в ней, с инстанцией особого рода – со зрителем, который, как вскоре выяснится, тоже выступает в особом аспекте. Одновременно экфрасис показывает, насколько существенна роль и, так сказать, «первозрителя», то есть самого оратора, задача которого состоит именно в переводе своего визуального опыта в опыт словесный, что подразумевает преодоление или уклонение от той самой неадекватности образа зрительного и словесного. Оратор не только отбирает детали, подлежащие словесному переводу, но и занимается куда более фундаментальным процессом: переводом пространственно-динамических переживаний в темпоральное переживание повествовательного дискурса. Цель статьи Рут Уэбб (и соответственно, наших комментариев) заключается именно в описании тех приемов («стратегических хитростей»), которые вынуждены были использовать авторы архитектурных экфрасисов, отвечая на «вызов» столь сложного предмета описания, как сакральное сооружение, церковное здание, где важно не только воспроизведение облика здания и внутреннего пространства (хотя уже только это – задача не из легких), но и передача предельно многомерного символического наполнения такого рода архитектуры[747].
В любом случае, как справедливо и с самого начала указывает автор статьи, было бы иллюзией рассматривать эти комментарии как источники объективной информации, позволяющей реконструировать описываемое сооружение (это, конечно же, особенно насущно в случае с полностью утраченной Церковью Святых Апостолов). Если экфрасис и зеркало реконструируемых реалий, то зеркало искажающее, исключающее объективное описание хотя бы потому, что существует отбор деталей, вообще (добавим мы) избирательность самого восприятия. Но это не уменьшает, а только меняет информативность экфрасиса: в этих зеркалах отражается не столько сам предмет описания, сколько их автор, его отношение к материалу, его способ подачи (репрезентации) материала, часто выражая косвенным образом скрытые аспекты памятника, «не всегда материальные»[748]. Другими словами, перед нами источники не столько историко-художественного, сколько именно эстетического порядка, что, несомненно, только увеличивает их познавательную ценность.
Касаясь самого жанра архитектурного экфрасиса, следует иметь в виду особенности и его составления и функционирования, в частности существенно представлять себе и повод написания, и условия произнесения, в том числе и место. Экфрасис мог декламироваться и внутри самой церкви, и тогда слушатели могли сопоставлять свои впечатления от услышанного с впечатлением от увиденного, но мог произноситься и в совершенно ином месте (например, в императорском или патриаршем дворце). Но стоило иметь в виду и последующую аудиторию, и будущих читателей, в том числе и не знакомых с описываемыми предметами. Так что контекст многое говорит о самом экфрасисе и о способе подачи и восприятия услышанного. Кроме того, ораторы вполне осознавали (например, Лев Мудрый), что они создают вербальный эквивалент, словесный артефакт, равный описываемому материальному творению. А для Николая Месарита его труд – это словесный памятник, в своем роде прославляющий св. апостолов и возведенный тоже из материала, но словесного. Более того, сам порядок сочинения – это такого рода процесс возведения словесного сооружения, которое способно дополнить сам памятник. Причем участниками этого возведения оказываются и ритор, и его слушатели, в равной степени испытывающие воздействие наиважнейших качеств вербального медиума – его «темпорального измерения и способности эвоцировать, вызывать к жизни то, что отсутствует…»[749].
Собственно, это и есть, согласно еще античной теории описания, цель экфрасиса как жанра: не столько дать точное и исчерпывающее описание предмета, сколько воспроизвести «воздействие, которое произвело на созерцателя восприятие этого объекта»[750]. И средство достижения этой цели – обращение к воображению слушателя посредством обобщенных образов, пробуждающих в аудитории прежний опыт и вызывающих у слушателей эффект присутствия, как будто они присутствуют на том же месте и в тот же момент. Другими словами, язык использовался еще у античных авторов не только для передачи внешних и материальных свойств, но и для воспроизведения «интеллигибельных характеристик», что особенно важно было уже для авторов византийских.
Фактически, экфрасис не соблюдал современное разграничение описания (изображение статичных объектов) и повествования (изображение действий и событий). Это было описание, но событий, в том числе и такого события, как сам факт восприятия какого-либо предмета. Главное, чтобы описание обладало особым свойством – качеством «живости», которое заставляло слушающую аудиторию превращаться в аудиторию видящую, пусть и посредством воображения. Как возможно было в экфрасисе совместить описание и действие? Не через приостановку событийного ряда, а через воспроизведение, имитацию действия посредством собственной внутренней темпоральности, заключенной в потоке речи.
Понятно, что подобная стратегия «анимации» вполне реализуема в случае описания, так сказать, действительных действий, например знаменитых сражений. Можно отвлечься и от статики живописного произведения и описывать изображенные в нем действия как происходящие, так сказать, «наяву», переживая их и описывая их и вызванные ими чувства достаточно эмоционально, чтобы пробудить интерес публики. И если живопись «легко превратить в нарратив», то архитектура, то есть здание и место, таит в себе проблемы…
И решение этой проблемы заключено в изначальном значении и назначении понятия экфрасиса как «периэгесиса», который буквально означает «речь, обводящую кругом», имея в виду как буквальное руководство-бедекер, так сказать, чичероне, так и метафору рассказа, который «ведется по порядку», представляя собой, фактически, исходный организующий принцип всякого экфрасиса.
Возникает ситуация словесного путешествия – вместо статичного отчета о неподвижном объекте мы имеем изображение пространства через ход времени, когда каждая деталь подчиняется «требованиям языкового потока». Еще одно удобное средство – введение мотива движения в «вербальную презентация» предмета, когда описание драматизируется и персонализируется, предполагая не столько слушателя, сколько зрителя-участника, чьи эмоциональные реакции подразумеваются и учитываются, а также и прямо описываются. Оратор же превращается в этом случае во внимательного провожатого, постоянно призывающего слушателей следовать за ним и обращать взор в соответствующем направлении (Хорикий).
Собственно, периэгезис – это самая «стандартная процедура» экфрасиса мест, еще в античной литературе предназначавшегося для описания прежде всего городов. Периэгезис обеспечивал – в форме воображаемого путешествия – детализированное описание, но если требовалось передать впечатление от целого, то использовался уже другой прием, отличный от периэгезиса. Этот прием – сравнение, зачастую довольно неожиданное, но тем более впечатляющее, опять же производящее своей живостью впечатление на аудиторию (каменные блоки, составляющие кладку храма, могут, например, сравниваться с самим храмом, который сравнивается со священным местом, оно же, в свою очередь, сравнивается с городом). «В то время как периэгесис – способ организации отсылок к видимым чертам предмета, обращение к сравнению вводит новое измерение, в котором настоящий, наличный вид (часто доступный зрению первых слушателей) сопоставляется с какой-то другой, отсутствующей сущностью»[751]. То есть сравнение – это способ отсылки к тому, что аудитория не может видеть – или в данный момент, или по существу. Византийская литература этой способности сравнения придает новое значение, хотя и продолжает использовать общие приемы античной традиции. Но античная литература, сконцентрированная на внешнем обличье вещей, уже не могла помочь византийским авторам, когда речь заходила о внутреннем пространстве храма, когда требовался «подробный риторический отчет о сакральном интерьере». Сложность и необычность этой задачи заключались и в символической насыщенности внутреннего храмового пространства, и в парадоксальности его, так сказать, сакрального функционирования, предполагавшего задачей пространства Дома Божия – служить вместилищем невместимого Божества, что не менее парадоксально, чем само Боговоплощение. Но византийские авторы приняли вызов «насыщенного смыслом места».
Главное в этой тактике – максимально естественно перейти от описания внешнего вида к внутреннему пространству, используя периэгесис как организующий принцип, причем расширяя его смысл и используя его как метафору не только описания, но и самого составления текста, когда процесс сочинения (логос) воспринимается как тоже некое путешествие. Логос – это и речь, и слово, и мысль, и дискурс-текст, и Сам Божественный Логос, и потому нетрудно персонифицировать речь-описание, делая ее воображаемым посетителем церкви («λόγος испытывает эмоции, соответствующие различным описываемым сценам: убегает от автора, от своего имени обращается к женщинам у надгробия, озирается с любопытством, сам по себе подмечает детали»[752]). Так что, добавим мы, экфрасис описывает не только соответствующий предмет, но и отношения автора с собственным текстом, а также отношение текста к предмету (то есть взаимоотношения речи и церкви как таковых). Великолепие постройки может не только вызвать затруднение с ее описанием, когда нелегко подобрать слова, но и просто помешать войти внутрь (Хорикий о церкви св. Стефана), может заставить зрителя прирасти к земле, превратиться от изумления в дерево (гипербола принадлежит патриарху Фотию). Мы, так сказать, наглядно видим, как реально-архитектурный топос (сакральное пространство) воздействует на топос воображаемо-риторический, влияя на движение речи и через нее – на воображение, эмоции и аффекты зрителя, слушателя, посетителя, то есть на движения его души и тела.
Более того, известный прием прерывания речи, ее движения вспять может использоваться и для описания внутренней логики сооружения, когда, например, Константин Родосский с увлечением начинает описывать декоративные детали Церкви Св. Апостолов, но тут же спохватывается и переводит свое внимание на конструкцию. Таким способом внутрення логика самого описываемого архитектурного произведения противопоставляется свободной импровизации его литературного вос-произведения, за которым стоит и свобода его восприятия… Автор экфрасиса желает внушить своей аудитории, что только он своим описанием вносит порядок в запутанное восприятие, организуя его и приводя одновременно в соответствие со скрытым порядком самого сооружения. Тем самым литератор отчасти уподобляет себя зодчему, по ходу дела внушая ту идею, что визуальный опыт «истощает» речь, превосходит ее возможности.
Но главное, что подобные и воображаемые, и реальные трудности, осложнения, препятствия восприятия и описания служат главной цели – подчеркнуть, зафиксировать момент перехода от внешнего к внутреннему, от наружного облика к интерьеру, от видимого к незримому… Этот переход осуществляется на всех регистрах: и на уровне языка меняется сам стиль изложения, и на уровне чувственных впечатлений рождается, по словам патриарха Фотия, чувство экстаза, и, наконец, на мистическом уровне возникает опыт уже пребывания не Небе, созерцания Горнего мира. И соответственно, что особенно важно для нас, меняются и сугубо эстетические параметры восприятия, когда перестают действовать обычные земные законы и разрушается обычное различение между объектом и субъектом. Можно даже сказать, что зритель-посетитель превращается в часть внутреннего устройства церковного здания, сливаясь с ним, впуская в себя сакральное пространство и растворяясь в нем, не теряя при этом способности воспринимать, замечать и переживать увиденное и испытанное.
Другими словами, подвижность речи воспроизводит подвижность впечатления, опыт перехода, в том числе и на уровне души, что отражается и на подвижности предмета восприятия, когда и части церковного пространства кажутся подвижными, вздымающимися, танцующими, парящими, растущими и т. д. На уровне риторических приемов эта метафорика вполне понятна и служит все той же цели – сделать материал более живым для слушателя. Но можно и нужно идти дальше и видеть в этих мотивах движения попытку передать реальное воздействие на посетителя (а не только слушателя) самого здания и его качеств[753]. Здание – это уже не архитектурный объект, а некое зрелище, трансцендирующее и человеческий опыт зрителя, и, фактически, его самого. Будучи постройкой, церковь служит сокрытию, но в этом своем мистическом и сокровенном аспекте оно уже есть опыт и средство Откровения. Потому-то слушатели того же Месарита совершают «путешествие еще в одном смысле», обретая понимание важности возведения своего восприятия от материального к духовному. Смущение от внешнего блеска здания и боязнь войти внутрь – это тоже опасность, препятствие духовного плана, когда зритель не понимает, что материальное здание представляет собой лишь знак того чуда, что именуется духовным обновлением, и ограничить себя материально-объективными аспектами постройки означает не достичь чего-то большего и иного.
Можно предположить, что раскрытие духовных, трансцендентных тайн церковного здания предполагает прояснение значения архитектурных форм. Но ничего похожего на мало-мальски систематическое обсуждение архитектурных элементов мы не найдем в византийском экфрасисе. Можно обнаружить лишь очень общие указания условно-символического порядка. Зато в тексте Михаила Диакона можно встретить очень неожиданную, но, на наш взгляд, крайне показательную метафору церковного здания, которое благодаря обширности и округлости, вместимости, емкости своего пространства пробуждает мысль о том, что оно может быть «как бы беременнным многими тысячами тел» (ως πολλάς αν σωμάτων μυριάδας έγκυμονειν). За этим, несомненно, стоит целое мариологическое богословие, где Пресвятая Дева – воплощение одушевленной Церкви и одновременно вместилище Невместимого. Богородица – это и Лоно, которое «пространнее Небес», и Престол Божества. Все это являют нам и архитектурные формы, и прежде всего – внутреннее пространство, которое оказывается как бы самоупраздненным, ибо, обступая созерцателя, оно открывает ему беспредельное, не умещающееся в материальные формы как таковые. Можно расширить, кстати говоря, этот аспект указанием и на сугубо церковнославянские аллюзии: беременность – это та же непраздность (Лк, 2, 5), то есть непорожность, отчего возникает характерная антиномия: подлинная трансценденция в церковном здании связана не с пустотой, не с упразднением материального наполнения, а наоборот, с его преизбытком, с полнотой, с исполненностью. Подобное ощущение исполненного, полного, непраздного материнского лона свидетельствует о предельно достоверном опыте не только душевного, то есть психологического, порядка, но и порядка сугубо духовного и эсхатологического – опыта Божественного «благоутробия», опыта пребывания на «лоне Авраама», то есть уже в Царстве Небесном.
И, как очень точно замечает автор статьи, подобный скрытый смысл присутствует в самих структурах здания, из которого его можно извлечь через опыт восприятия – как материального, так и духовного, как средствами перцепции, так и апперцепции, как с помощью телесных ощущений, так и через интеллигибельные состояния. Но того же можно достичь и с помощью встроенных в архитектуру нарративов, то есть собственно изображений, которые можно, воспринимать и переживать, но можно, подобно авторам экфрасисов, и читать и пересказывать их как реально, на глазах у публики происходящие события, расширяя тем самым еще в одном направлении церковное пространство.
И самое, пожалуй, главное, во всяком случае обязательное, событие – это появление самого здания, то есть история его возведения, понятого как рассказ о том, как каждый элемент постройки был помещен на свое место. А этому мог предшествовать рассказ о происхождении самих этих элементов (например, колонн Св. Софии) и материала, из которого они изготовлены, в каких местах он добывается и какими путями был доставлен. Уже это по-своему расширяет пространство сооружения. Поэтому даже непосредственно материальные объекты – уже содержат в себе нарративы, пробуждают, эвоцируют повествование; нарративы вложены в них реальной историей строительства, а также не менее реальной предысторией замысла и всех обстоятельств и условий появления памятника (особый случай, конечно же, – это история сооружения, точнее говоря, возрождения, Св. Софии императором Юстинианом).
Но существует и следующий пласт «повествовательной сложности», касающийся изображений, помещенных, например, в той же Церкви Св. Апостолов. Месарит воспроизводит изображенные события, так сказать, в их архитектурном обрамлении, переходя от сцены к сцене, руководствуясь при этом логикой самих событий, а не архитектурным контекстом. Так, повествование о земной жизни Спасителя «воспроизводится в структуре воображаемого движения в пространстве», драматически перенося события прошлого в настоящее – в момент присутствия в церкви и рассказчика, и его аудитории. При том, что в повествование включен и богословский, евангельский смысл событий, оно «трансцендирует обычный темпоральный порядок».
Более того, повествовательная речь экфрасиса может предложить и нечто совершенно особое по части взаимоотношения: «множественные пласты, актуализируемые этими текстами – вымышленное время периэгесиса и прошедшие времена “оживших” событий, – можно рассматривать как вербальный, а значит, темпоральный эквивалент пространственной трехмерности самого здания»[754]. Таким образом, добавляет Рут Уэбб, «литературная структура повторяет – на своем языке – структуру архитектурную».
И вот здесь, собственно говоря, и начинается самое примечательное, так как именно презентация образов средствами экфрасиса позволяет обнаружить все подобные скрытые структуры и отношения: как темпорального порядка (перевод разных временных модусов пространственные отношения), так и связь между образами собственно повествовательными. И все это благодаря «повествовательному каркасу периэгезиса», который превращает пространство во временную последовательность, демонстрируя, как «здание способно победить время». Повествование обнажает последовательно все пласты значения, скрытые в разного рода структурах – как временных, так и пространственных, а главное – архитектурных.
Интерьер всякого церковного здания – это особый микрокосм, в котором действуют и свои законы восприятия, и свои способы преодоления времени, превращения прошлого, вообще повседневного, времени – в «вечно длящееся настоящее». С ссылкой на Роберта Остерхаута наш автор заключает, что именно средствами архитектуры создается пространство ритуальное, в котором «сходятся прошлое, настоящее и будущее» и которое можно и должно соответствующим образом воспринимать и переживать (и вести себя в нем, добавим мы).
Итак, «вплетение нарратива» – инструмент как темпорального развертывания пространственных характеристик архитектуры, так и особого способа комментирования-истолкования, своего рода словесной экзегезы, позволяющей обнаружить в здании неявное и скрытое.
Но какова роль того, кто пользуется этим инструментом? Каково место автора в той сложной структуре смыслов, которую экфрасис порождает или проявляет? Замечательно, что сами авторы этих текстов вполне осознавали связь своих текстов с описываемыми постройками: как здание постепенно строится, так и тексты постепенно сочиняются, и процесс сочинения тоже имеет свой порядок и свою последовательность. Именно подобная эквивалентность созидательных процессов позволяет автору экфрасиса непосредственно ощущать себя внутри и здания, и событий. Одновременно отсылка к личным литературным усилиям позволяет напомнить и о собственном искусстве, и о Божественной помощи, что особенно важно, так как задает еще одно измерение и описанию, и предмету описания.
А если тот же Месарит упоминает еще и чернила и перо, уподобляемые веслу и водам Иордана (в связи со сценой Крещения), то тем самым приоткрывается глубинная структура самого экфрасиса, ведь выясняется, что возникающее ощущение непосредственного описания того, что оратор видит на стенах церкви, – это только иллюзия. На самом деле все эти сцены живут в его памяти и оттуда извлекаются, дабы стать предмет описания. В момент сочинения текста авторы пользовались «неосязаемым духовным образом, запечатленным в их памяти».
Таким образом, «замечательная черта экфрасиса – использование способности слова вызывать к жизни отсутствующее, выражать интеллигибельные значения, скрытые в материальном». Более того, для экфрасиса и для всей византийской эстетики интеллигибельное и материальное не различались, более того – сознательно совмещались, позволяя, в том числе, «открывать значение, спрятанное более или менее глубоко внутри здания». Это означает, между прочим, и отсутствие разницы между качествами воспринимаемыми и мыслимыми. И это есть главное свойство сакрального пространства как такового, в котором «видимое и невидимое, осязаемое и интеллигибельное равно реальны»[755].
Остается только описать место совмещения двух, так сказать, степеней интеллигибельности: уровня собственно сакрального пространства и уровня того впечатления, того образа-отпечатка, которое оно оставляет в душах и автора экфрасиса, и его слушателей, и последующих читателей…
Несомненно, этим местом оказывается человеческое сознание, способное порождать, в том числе, и метафоры, действие которых имеет совершенно универсальный характер. Собственно, сам жанр экфрасиса можно рассматривать как сугубо метафорическую деятельность, где совмещаются и риторика вербальная (сам текст), и риторика визуальная (переживание сакрального пространства), и риторика собственно архитектурная, ибо, как выясняется, архитектура способна оказывать воздействие, проникать в душу, оставаясь одновременно открытой и для воздействию на себя, прежде всего в плане раскрытия скрытых качеств и свойств. И один из этих латентных аспектов – символика и семантика, вот почему одной из реакций на архитектуру, в первую очередь на ее пространство, будет попытка истолкования, уразумения, усвоения и приятия смысла (через восприятие формы).
В связи с этим экфрасис можно рассматривать и как метафору отношения к архитектуре как таковой, в том числе и отношения познавательно-ознакомительного, то есть историко-художественного дискурса, недаром в основе экфрасиса лежит периэгесис. Так что образ пути, поэтика и риторика движения (одология) приводят нас к проблематике собственно методологии, к теме приближения к истине через выбранный предмет интереса, который может или сам быть местом пребывания истины, или только указывать на нее, то есть быть всего лишь участком, отрезком пути.
Так мы вновь возвращаемся к экфрасису и характерному для него отождествлению хода изложения (речи) и порядка прохождения церкви. То и другое именуется периодом. И не являются ли в таком случае методы-подходы тоже своего рода периодами в двояком смысле слова: и как этапы в развитии науки, и как части единого целого – процесса разумения архитектуры? Из чего, между прочим, следует, что невозможно предпочитать один метод другому только потому, что одним пользовались раньше, а другим позже. Ведь нельзя предпочесть один участок дороги и исключить другой. Тем более, что один метод отвечает за один аспект единого целого, а другой – за другой.
Другими словами, множественность методов отражает многомерность, многослойность объекта, то есть архитектуры, которая, впрочем, обладает еще одним фундаментальным свойством, а именно – свойством двойственности своих состояний – внешнего вида и внутреннего устройства в широком смысле слова, включающего в себя и скрытую конструкцию, и сокрытое пространство. И как в экфрасисе, если верить его авторам, вызывает затруднение переход от наружного облика к пространству интерьера, так и в толковании архитектуры сложности поджидают при переходе от внешнего впечатления к внутреннему переживанию.
Ведь в какой-то момент требуется дать отчет о мере объективного и субъективного, и это может оказаться просто невозможным в силу особого, трансцендирующего и амбивалентного состояния сознания, пребывающего в иноприродном сакральном пространстве. Снятие субъектно-объектных отношений – это есть и признак интенциональности сознания как такового, что требует, как можно понять, уже феноменологического взгляда на те же самые вещи.
Так что не исчерпывается ли иконография, которую мы описали практически во всех ее изводах, своими когнитологическими возможностями? Не есть ли иконографический, а тем паче археологический подход, если продолжать пользоваться поэтикой архитектурного экфрасиса, остановка перед входом в само здание, предпочтение, так сказать, атриума интерьеру, когда здание остается внешним объектом наблюдения без всякой попытки хоть как-то слиться с ним или с находящейся в нем аудиторией? Ведь исследователь может быть не только внешним наблюдателем или проводником: он способен испытывать те же состояния, что и его слушатели. Кроме того, необходимо решить и вопрос о том, что же является предметом описания: сама постройка или ее образ все в том же сознании, – неважно, зрителя или посетителя, рассказчика или исследователя.
Невозможность, с одной стороны, ограничить способности души одним лишь мышлением, важность включения в поле зрения, например, аффективной динамики, сенсомоторики и телесно-пространственного опыта, а с другой стороны, потребность учитывать иные измерения архитектуры, которые направлены на столь же иные аспекты сознания, – все это заставляет задуматься о том, где и когда иконография претерпевает трансформацию в принципиально иные подходы, обладающие четко выраженными герменевтическими и антропологическими параметрами, обращенностью к человеческому сознанию, в частности, к душе как таковой в целом и к тому, что за ним стоит.
РЕТРОСПЕКТИВА: иконография и архитектура в отечественной науке
…Но к типу прирастает со временем определенная историческая мысль или идея общечеловеческого свойства…
Н.П. Кондаков.Содержание благодаря чувствам, которые оно пробуждает, <…> становится стилеобразующим фактором.
Х. ТитцеДевятнадцать лет спустя
Данная книга была задумана как опыт восполнения некоторых теоретических – реальных и воображаемых – лакун отечественного искусствознания, связанных с семантическим (и систематическим!) изучением сакрального зодчества.
Предлагаемая «Ретроспектива…» означает в свою очередь последнюю попытку восполнить уже написанную книгу. Попытаемся восполнить опыт восполнения опытом восполняемого.
Это сделать крайне необходимо и потому, что, сосредоточив внимание на опыте мирового искусствознания, мы, как может показаться заинтересованному и искушенному читателю, пренебрегли явными и многочисленными достижениями, отраженными в текстах русскоязычных. Их, действительно, много, и уже по этой причине мы имеем право на избирательность. Эта избирательность двоякого рода: с одной стороны, мы ограничиваемся исследованиями преимущественно сакрального зодчества, с другой – исследованиями с несомненным концептуальным и методологически отрефлексированным уклоном.
Сразу же введем и третье ограничение: речь пойдет о текстах достаточно недавних[756]. Наконец, просто не обсуждается в качестве критерия отбора то условие, что упоминаемые работы так или иначе должны приближаться к признакам иконографического метода. Хотя, как видно, мы надеемся, из нашего труда (в этом-то и состоит его пафос), «иконография архитектуры» – понятие довольно расплывчатое, что есть, впрочем, его не недостаток, а скорее свойство. Принцип неопределенности – не есть признак неполезности, и это касается не только квантовой физики.
Подобно тому, как сердцевиной всего нашего труда явилась небольшая, но эпохальная статья Рихарда Краутхаймера «Введение в иконографию архитектуры» (1942), так и ядром нашего по сути историографического обзора отечественной иконографически-архитектуроведческой литературы будет не менее эпохальный, хотя и не столь скромный по размерам сборник «Иконография архитектуры» под редакцией А.Л. Баталова, который наряду с некоторыми своими тогдашними коллегами по ВНИИТАГ был и автором самой концепции сборника[757]. Попробуем – спустя без малого 20 лет – перечитать его, тем более что автору данной книги посчастливилось участвовать в нем со своей первой научной публикацией (см. Приложение I).
Скажем сразу, что сборник был программным и потому совершенно репрезентативным с точки зрения в первую очередь материала и периодов истории архитектуры (и византийский, и древнерусский материал, и поздняя готика, и Ренессанс, и русский классицизм, и столь же русский неоклассицизм). Хотя самое главное и до сих пор ценнейшее его свойство – последовательная и продуманная концептуальность, что обусловило его и методологическую представительность. Можно сказать, что каждая из помещенных в нем работ – отдельный аспект того единого (как казалось тогда) иконографического подхода. Показательна и опосредующая функция сборника в историографии: он и кумулирует некоторые прежние тенденции и одновременно задает исследовательские перспективы, оставаясь совершенно акутальным и поныне[758].
Уже в лаконичном, но крайне важном вступлении «От редколлегии» мы находим определение иконографии архитектуры, именуемой, между прочим, «классической методикой архитектуроведения». Дальше говорится следующее: «под иконографией архитектуры понимаются устойчивые композиционные структуры, проходящие сквозь архитектурные школы, стили, эпохи»[759]. Другими словами, речь идет об иконографии как свойстве самой архитектуры, причем о свойстве структурном. Метод же иконографический предполагает столь же «сквозное изучение» этих сквозных структур. Можно задаться вопросом: не есть ли это просто структурный метод, что в нем такого иконографического?
Дальше впрочем идут важные уточнения, связанные с возможностью различать, но не разделять внутри иконографии архитектуры два подхода. Первый подход именуется археологическим и связан как раз с вычленением и генетическим анализом подобных структур («от общего плана до конкретного облома»). То есть структурами именуются архитектурные формы в широком смысле этого слова. Они именуются – здесь мы встречаем настоящий и характерный иконографический термин – «конкретным мотивом», который понимается как «знак» мастера, школы и т.д. Все это можно вычленять, анализировать и истолковывать. Получается своего рода морфология архитектуры, понятой тематически как система значимых мотивов.
Логично предположить, что «за каждым таким мотивом стоит конкретный смысл». На этой «презумпции» основан второй подход, именуемый «семантическим» и предполагающий «сопоставление памятника с конкретными текстами или с общей идейной направленностью эпохи», что позволяет «по-новому взглянуть на генезис архитектурной формы, ее типологию, стилистические изменения»[760]. Авторы предисловия оговариваются, что эти разделения условны. Мы можем сказать, что никакого разделения просто нет. Фактически описывается один единственный метод культурно-исторической интерпретации архитектурной формы, предполагающий и внимание к архитектурным мотивам, к их смысловому наполнению, и выход к характеристикам мастера, школы, эпохи – с привлечением, несомненно, текстуальных источников. Этот еще вполне позитивистский метод, характерный для XIX века, был обновлен, как известно, в рамках неогегельянской герменевтики усилиями того же Макса Дворжака («история искусства как история духа»).
Специфическим оказыватся в данном контексте утверждение, что «в основе архитектуры оказывается ее смысл». Нам представляется, что этот постулат – самый многообещающий, и, собственно говоря, все последующие тексты сборника объединены общим вниманием к смыслу прежде всего. Вся проблема – в дифференциации «смысла» в двух перспективах: как понятия и как феномена[761].
Предположим, что собственно статьи сборника к этой дифференциации и призваны, и ее осуществляют, обеспечивая тем самым необходимую конкретизацию, а, значит, и реализацию заявленных, постулированных задач иконографии архитектуры.
Иконография иконных структур повествования
Несомненной сугубой программностью в рамках общей программности сборника обладает статья собственно редактора и автора концепции сборника А.Л. Баталова «К интерпретации архитектуры собора Покрова на Рву (о границах иконографического метода)». Характерный подзаголовок «о границах метода» выдает именно методологически отрефлексированный характер данной заметки, примыкающий к целому ряду родственных публикаций автора[762].
Статья полезна и важна уже своей историграфической составляющей, дающей представление об истории отечественной иконографии архитектуры. Становится понятным и очевидным, что заявленное в предисловии к сборнику приобщение к мировому опыту семантического подхода к архитектуре возможно лишь через пробуждение интереса к опыту отечественному, явленному в традиции «церковной археологии», черпавшей, между прочим, силу в своей конфессиональной определенности и конкретности.
Возможны два направления в иконографии древнерусской архитектуры. Первое предполагает «инетерпретацию архитектурных форм, определенных влиянием программы заказчика»[763]. Второе направление – это раскрытие православной символики храмовой архитектуры. И если первое связано с изученим «обстоятельств заказа», которые подверждаются историческими источниками, то со вторым все сложнее. Ведь, по мысли автора, символика – это «художественное воплощение образов экзегетики, которые скрыты для нас во внутреннем переживании христианина Средневековья»[764]. Поэтому мы можем судить только о самых общих толкованиях, применимых для любого христианского храма. Это то самое, добавим мы сразу, вслед за Й. Зауэром можно назвать «символогией»[765] и что, как верно замечает Баталов, настоятельно требует своей конкретизации.
Мы находим в этой статье крайне важные замечания: всякая христианская церковная постройка с точки зрения всякой экзегетики – икона Небесного мира, но при этом «архитектура лишена прямой изобразительности». Тем не менее вполне допустимо соединить определенные формы с конкретной богословской концепцией[766]. Делается сразу принципиальная оговорка: сама идея реконструкции и интерпретация смысла основана, с одной стороны, на традиции иконографической, имеющей дело с изобразительным искусством как таковым, а с другой – с искусством католическим, где больше предметности и рационализма. Последний обретает признаки аллегоризма и становится уже объектом иконологической интерпретации[767]. К этому добавляется и сугубо православное, но позднее школьное богословие, «стремящееся объяснить трансцедентное <…> видимыми и повествовательными образами»[768].
Итак, возможно попытаться найти «связь теологической концепции с художественными образами». Сделать это можно на примере собора Покрова на Рву с его совершенно уникальной архитектурой. Дальше говориться о попытке реконструкции «смыслового сюжета, заложенного в архитектуру собора». Сразу вслед – «сопоставление уникальных композиционных и декоративных мотивов с идейно-культурным контекстом». Другое ключевое выражение: концепции «воплощаются через обращение к образам конкретных святынь». Выделенные нами речевые обороты – это вполне различные подходы, предполагающие столь же различные представления о вазимодействии смысла и формы. Тем более что, как видно, это разные смыслы: и идеологические, и теологические, и исторические контексты, и идейные замыслы. Все они могут или «закладываться» в постройку, или «воплощаться» в ней, а могут «выявляться» через сопоставление равнозначных реальностей. В любом случае вопрос состоит в возможности единственно верной интерпретации. Баталову совершенно справделиво подобное кажется проблематичным хотя бы по той причине, что предполагает наличие в сознании средневекового человека «конкретных экзегетических образов, предметно выраженных в архитектуре»[769].
Он уточняет проблему, говоря о параллельном «сосуществовании» концепции и программы возведения храма. Но, спросим мы, где сходятся эти параллели, образуя смысл собственно постройки? Быть может, в сознании не средневекового человека, а современного? Или мы обсуждаем смысл не самой постройки, а его возведения? Поэтому Баталов и упоминает об истории строительства: именно эта конкретная фактология, документально подтверждаемая, как кажется, и приближает нас к правильной интерпретации. В этой истории строительства существенным выглядит нарушение строителями первоначальной программы и добавление ими – как кажется многим исследователям, из эстетических соображений – дополнительного девятого придела[770]. Как резонно замечает Баталов, сомнительна сама идея эстетического подхода в то время, тем более, что можно найти именно смысловое, идейное обоснование этого добавочного придела. Им оказывается явление нового чудотворного образа свт. Николая Великорецкого и желание царя-заказчика этот образ почтить. Как вполне убедительно доказал Баталов, эта идея у Ивана Грозного могла сложиться еще до начала строительства каменного храма.
С другой стороны, смысл дополнительного придела если и проясняется таким образом, то тем не менее остается проблемой его, так сказать, порядковый номер. Другими словами, в чем смысл именно такого количества приделов? Первоначальное число приделов (восемь) обладает абсолютно очевидным нумерологическим символизмом, который настолько общераспространен, что в данном конкретном случае может расцениваться просто как смысловой фон – со всей своей эсхатологической подоплекой вкупе со ссылкой на Притч., 9, 1 («Премудрость созда себе дом и утверди столбов седмь»). Нумерология – это обсуждается в основной части нашей книги – живет своей жизнью, реализуя себя в полной мере в литературных текстах. Прилагать эту числовую символику к архитектуре значит отвечать на вопрос, не каков смысл числа, например, восемь, а каков смысл использования этого смысла при строительстве данного церковного здания и каков смысл присутствия этого символизма в данной уже готовой постройке.
Именно поэтому, как верно замечает Баталов, добавление девятого придела не нарушает символику, а именно утверждает новый смысл или обнаруживает новое ее измерение (можно говорить о символизме апокалиптических городов, о Казани как восьмом граде, где совершается проповедь Евангелия и проч.).
Получается картина «множественности интерпретации», которая, как может показаться, свидетельствует о беспомощности интерпретаторов, не способных к никакому точному знанию.
Но по мнению Баталова, столь плачевная методологическая ситуация разрешается, если мы будем ее оценивать с точки зрения самого предмета, которой по своей природе не предполагает и даже исключает всякую однозначность.
Приведем достаточно обширную выдержку из текста статьи. «Мы будем исходить из свойств самого предмета. Нам придется затронуть такую фундаментальную идею (sic!) христианского сознания как преобразование (sic!) образов, что связано с обращением к самой структуре символического мышления. Его природа может быть увидена в той области, которая составляла основу жизни православного христианина – то есть в богослужении праздников годичного цикла. Она связана с представлениями об осуществлении Промысла, Домостроиельства Спасения. Их основа заложена в тексте Священного Писания, в котором происходит преобразование Ветхого Завета в Новом»[771].
Мы позволим себе обратить внимание на характерные терминологические и концептуальные трудности, отраженные в данных формулировках. Начнем с конца, который и есть начало. Ветхий Завет переходит (преобразуется) в Новый. Ветхий предвосхищает, предуготовляет (прообразует) Новый. С точки зрения линейно разворачивающегося в истории процесса Спасения падшей твари, в начале уже был заложен Замысел Спасения как Боготокровения. Этот Замысел и есть Прообраз всех последующих Божественных деяний. Таким образом, в Ветхом Завете уже можно найти прообразы новозаветные. Это и есть то, что именуется символической типологией. которая явлена в том числе и в тексте Писания. Знакомство с Писанием порождает то самое знание, что формирует набор идей-представлений в том числе и касательно Домостроительства. Эти идеи (но не только они) формируют содержания годичного (но не только) богослужения, которое составляет основу христианской жизни. Это целая область, включающая в том числе и специфическое мышление (лучше сказать ментальность) со специфической природой, предполагающей и свою структуру. Это мышление порождает идеи, в том числе и касательно образов. Можно предположить, что эти образы выступают в качестве символов, они составляют содержание данного сознания, которое по этой причине можно назвать символическим. Затруднение в данном сулчае сугубо методологическое: надо ли говорить об идеи сознания, то есть его порождении?[772]
Или мы можем прямо говорить, что символическое мышление, присущее христианскому сознанию, имеет дело с образами, выступающими в своей типологической структуре. Таким способом мы обозначаем действительно фундаментальное свойство, основополагающее качество и кардинальный признак религиозного сознания вообще. Для него образы-символы формируют самостоятельную реальность, область трансцендетных сущностей, открывающих и себя, и то, что за ними стоит и ими себя обнаруживает, в том числе и в богослужении, в том числе в благочестии, в том числе и в прочих формах и актах Богообщения. Одна из этих форм – уже нам известная богословская рефлексия, в том числе и в виде литургической экзегетики. Но для нас и наших исследовательских задач это уже будет отклонением. Нас должны интересовать и более непосредственные, и более нерасчлененные формы обаружения христианского сознания – та самая богослужебная практика, которая отражает жизнь не просто религиозного, но именно верующего сознания. Хотя и понятие «сознания» здесь тоже не совсем полезно, так как лучше говорить о личности, душе, индивидууме, то есть о чем-то менее отвлеченном и более реальном, составляющем жизнь как таковую и живущем этой жизнью.
Итак, в поисках смысла мы добрались если не до его истока, то во всяком случае до его носителя или вместилища – до человеческого сознания. Но остались ли мы в пределах заявленного иконографического метода? По всей видимости – нет, что следует уже из заявленного обращения к сознанию, которое само ориентировано и осуществляет себя литургически, то есть особым образом – через эпифанический символ, о котором в свою очередь со ссылкой на о. Александра Шмемана сказано, что он «приобщает к иной реальности, являет ее, а не изображает»[773].
А там, где нет изображения, там уже нет и иконографии, предполагающей именно идентификацию изображенного предмета, его узнавание и описание в первую и непременную очередь[774]. Мы же имеем в качестве исходного момента Литургию, литургическое сознание и даже «сакральную среду»[775]. И дело не только в том, что «система теологического мышления в своей основе не предполагает единожды зафиксированного конкретного толкования». Не конкретен сам предмет толкования, природа которого имеет в виду просто иное отношение к смыслу. Символ не есть объект толкования, а его субъект, он вызывает, стимулирует и направляет толкование. Мышление может быть символичным не потому, что оно мыслит себе символы, а потому что оно ими самими мыслится, ими определяется, если не конституируется.
Строго говоря, эпифанические образы-символы предпочительно не столько объяснять, обнаруживая их значение, сколько переживать, обнаруживая их значение для индивидуума, социума, культуры и т.д. Фактически, мы имеем дело с сакральной аксиологией, предполагающей качественные параметры того же мышления.
Не случайно Баталов обращается к характеристике данного типа мышления в данный период (XVI век)[776]. Это мышление теряет как раз свою непосредственность, перестает быть «реалистическим», а становится повествовательно-символическим. Опять мы, кстати говоря, имеем дело с терминологической проблемой: чуть раньше символ совершенно справедливо именовался эпифаничеким образом, теперь же – со ссылкой уже на Л. Успенского – символ практически отождествляется с аллегорией.
Но существенно другое: именно такая характеристика данного типа мышления позволяет сравнивать архитектуру с иконописью, которая в то же самое время демонстрирует те же свойства повествовательности и буквальности восприятия Откровения как череды конкретных деяний Божественного Промысла. Обетные храмы становятся свидетельствами памяти, знаками воспоминания о тех или иных благодеяний, их посвящение – это конкретное содержание этих воспоминаний[777]. Отсюда и та ключевая мысль статьи, что многопредельность подобна клеймам житийных икон. Это, конечно же, аналогия достаточно внешняя и планиметрическая. Посвящение приделов относится к священным лицам, за которыми стоят деяния-действия. Многопредельный храм скорее напоминает какую-нибудь многофигурную иконографию по типу «Собора святых», хотя как раз композиционно, структурно, с точки зрения организации изобразительного поля аналогии несомненны, тем более, что придел – это отдельный храм. Или, быть может, многопридельность сродни типу высокого иконостаса?[778]
В любом случае, повторяем, аналогии с изобразительным искусством необходимы именно для обоснования и легитимизации иконографии применительно к архитектуре. Этому служат и такие характеристики-эпитеты как «наглядность», «демонстративность», «повествовательность» вкупе с оборотом «желание <…> воплотить в храме <…> находит и пространственное выражение»[779]. Мы незаметно перешли из области мышления в область желаний, устремлений, склонностей и прочее. Эти способности души в отличие от мышления обладают свойствами иррациональности и непосредственной данности. Введение их в рассуждение – это несомненно средство убеждения, то есть способ придания уже иконографически-архитектуроведческому дискурсу все тех же качеств наглядности, демонстративности и рациональной доказуемости[780].
Подобной цели отчасти служат аналогии уже литературоведческие, когда образы иконографические этого времени сравниваются с образами апокрифов, для которых характерны выстраивание сакральных образов в «зримой, близкой чувственному восприятию причинно-следственной связи»[781]. Применительно к архитектуре собора сказано, что в ней «выстраивается зримое обоснование восхождения образа храма к Небесному Иерусалиму»[782]. Получается, что архитектура тоже в известном смысле апокриф. Вот только по отношению к чему? Что выступает по отношению в ней в качестве канонического текста?
Чуть дальше появляется замечательная идея, что важно не столько опознание того или иного образа или смысла, сколько «восхождение от этого конкретного образа ко всей цепи преобразуемых смыслов»[783]. Архитектура являет данный конкретный образ для обнаружения всей цепи, которая «никогда не замыкается». Совершенно здравая и совершенно герменевтическая мысль о принципиальной темпорально-сти, историчности всякого толкования. Можно только добавить, что данная цепь составлена из различных смысловых уровней: каждое звено – это отдельная реальность, отдельная модальность, отдельная область смысла, отдельный контекст. И архитектура, и архитектуроведение – тоже только отдельные звенья, объединенные разного рода усилиями – познавательными, понимающими, переживающими – как человека, так и Бога. Для одного – это храмоздание, для Другого – мироздание, для одного – это строительство сооружения, для Другого – Домостроительство Спасения…
Итак, подведем некоторые промежуточные итоги. Самое существенное в данном по-настоящему принципиальном тексте – это даже не столько идея неоднозначности и незавершенности толкования, сколько наблюдение о наглядной, демонстративной доступности части смыслов в архитектуре, что только и делает ее в свою очередь объектом возможных интерпретаций, которые могут и должны предваряться иконографическим описанием[784].
И, конечно, очень важно проговорить несколько важных моментов касательно иконы и иконности. Икона – это воспроизведение явления, в том числе и теофании, но через ориентацию на образец. Главное понять, что икона – это не сама теофания и не образ теофании, а образ образа. Это воспроизведение того, как совершилась теофания (быть может, и с участием иконы, которая в этом случае почитается чудотворной). Можно технически различать, например, эйдос и эйкон или явленный прообраз и прообраз воспроизведенный. То есть мы ни в коем случае не должны умалять, упразднять момент рукотворности иконы, ее человеческого аспекта. Если икона – форма богообщения, если в ней есть моменты литургические, то это предполагает в том числе и человеческое участие, которое тоже требует к себе внимания. Можно сказать, что икона – это визуальная фиксация молитвы (как есть ее фиксация вербальная). Это визуальная форма воспроизведения опыта богообщения. Но это не есть отдельная форма богообщения, выделенная на равных с другими формами или тем более превосходящая их. Иначе мы рискуем впасть в излишнюю, просто не полезную эстетизацию. Не полезную логически и методологически (мы не касаемся вопросом идеологических или теологических). Иконный образ – это часть, элемент, аспект, измерение более обширного целого, большей реальности, именуемой литургическим опытом Церкви. Это, другими словами, сакраментально-экклезиологический образ. Но таким образом (с помощью образа) мы актуализируем эту самую реальность большей размерности и вынуждены ее касаться, причем в той мере, насколько она касается нас.
Так мы незаметно – в который раз – приближаемся к главному условию всякого понимания архитектуры: уяснению природы этого феномена во всей его собственной многозначности и неопределенности. Мы не случайно в цепи смыслов, подлежащих толкованию, поместили в качестве самостоятельных звеньев архитектуру и архитектуроведение. Эти два звена даже при отсутствии прочих элементов существуют в нераздельном единстве. Мы со всей определенностью должны представлять, что является предметом нашего толкования: или строительная практика, или сама постройка, или ее замысел, или ее использование или все вместе. Все может быть предметом внимания и заказчика, и автора проекта, и строителя, и теоретика-современника, и историка последующих эпох[785]. И всякое внимание предполагает воспроизведение – ментальное и материальное, виртуально-воображаемое и реально-воплощаемое. И среди все подобных способов, модусов, образов взаимодействия с архитетурным произведением как объектом есть один, отвечающий, как нам кажется, глубинным свойствам архитектуры или, точнее говоря, структуре архитектурного образа. Мы имеем в виду его способность создавать в пользователе впечатление, формировать переживание посредством непосредственно данной схематической наглядности своих визуально-телесных конфигураций-паттернов. Повторяем, что именно эта исходная непосредственность, интенциональность опыта взаимодействия с архитекурой является исходным моментом и условием всех последующих толкований – на всех возможных уровнях[786].
Поэтому еще одним замечательным свойством сборника «Иконография архитектуры» является его, так сказать, внутренняя иконографичность, когда, как мы уже говорили, каждый текст представляет собой отдельный извод единой проблематики, которую можно сформулировать как «имитационные аспекты архитектурной образности». Что может быть образцом для воспроизведения средствами архитектуры (замысел, программа, идеология, «дух времени», конкретные постройки или их части или качества)? Какие существуют варианты и способы воспроизведения (имитация, копирование, цитата, реплика, аллюзия, бессознательное или сознательное следование традиции, вдохновение образцом или его развитие и трансформация, самоповтор)? Кто ответственен за воспроизведение и какова роль каждого участника строительства (заказчика, автора программы, проектировщика, строителя, окружения)? Попробуем кратко коснуться каждого измерения данной темы в том виде, как они обнаруживаются в каждой из статей.
Иконография протохрама
Опуская статью С.С. Ванеяна по независящим от нас обстоятельствам[787], обратимся к весьма показательной статье А.М. Лидова «Иерусалимский кувуклий. О происхождении луковичных глав». Задумываясь о проблеме, вынесенной в подзаголовок статьи, автор совершенно справедливо и весьма уместно говорит о луковичных главах как об «иконографически значимом мотиве, имеющем конкретное символическое содержание»[788]. Ключевым здесь является понятие «мотива». Именно оно делает возможным соотнесение разномасштабных, разновременных и разнофункциональных явлений (луковичная глава, киворий Гроба Господня, древнерусские сионы и проч.). Морфологически это на самом деле очень похожие образы-мотивы, которые можно рассматривать и сопрягать независимо от их конкретного назначения, но в контексте общего символизма, который, как верно замечает Лидов, произрастает из семантики ротонды Анастасис и помещенного внутри, в середине ее балдахина, удачно названного Лидовым «своеобразным протохрамом»[789]. Желание передать форму этого кувуклия, по мнению Лидова, руководило авторами древнерусских сионов, а потребность реализовать и сделать наглядной идеологию «Москвы – Второго Иерусалима» объясняет введение луковичных глав.
Автор заметки пользуется такими оборотами речи как «символическое указание на внутреннее единство каждой церкви с первохрамом Гроба Господня», «вызывать мысль об идеальном храме как точном образе Нового Иерусалима», «подчеркнуть изначальный символический замысел» и т.д. Понятно, что непосредственно иконографический замысел заметки скрывает под собой замысел изначально символический (в концептуальном плане): показать, что церковное пространство не зависит от реалий исторических и совпадает с пространством идейным. Мысль, представление, некий умозрительный или идеологический проект становятся самостоятельной реальностью, включающей в себя вещи и несопоставимые, и несовместимые, и случайные. Делается бессознательное допущение, что форма («мотив»), попав в сознание, отрывается от своего первоначального контекста и становится достоянием этого сознания, его собственностью. Следующий шаг – представление о том, что историческая форма может быть и трофеем сознания исследовательского, вольного оперировать этими формами по своему усмотрению (или настроению).
Двусмысленность подобной методологии заключается в том, что она желает сохранять обличье историзма, иметь некоторое историзирующее алиби, приписывая прошлому мыслительный опыт современного сознания. Сохраняется, так сказать, оболочка иконографии (разговор о «происхождении», об источниках форм), внутри которой действует весьма подвижное мышление, принципиально отделенное и отдаленное от исторического материала. Последующие публикации А.М. Лидова[790], о которых у нас еще будет повод говорить, только подверждают эту довольно раннюю, как мы видим, тенденцию[791].
Вся проблема и трудности такого подхода заключаются в следующем: мы должны различать потребность идентификации первичного (буквального) смысла и вполне законную потребность и надобность в его расширении, в выстраивании ассоциативных рядов, в поисках контекстов, в выявлении метаисторических тенденций символизма и прочее, то есть всего того, что и именуется толкованием, интерпретацией, смыслопорождающей активностью последующего пользователя (зрителя, читателя, историка, поэта), несомненно вольного в выстраивании своих дискурсов. Одно другого не исключает, но и не должно подменять. Способности воображения не должны заменять возможности разумения: незнание, незнакомство, отчужденность от исторического предмета (по объективным и субъективным причинам) должны стимулировать реконструкцию первоначального «положения дел», того, что именуется «атомарным фактом», чтобы уже вслед за этим складывать из подобных кирпичиков смысла пусть свои – почему бы и нет! – конструкции, которые, впрочем, поджидает столь же правомочная и законная деконструкция. Главное – ни в коем случае не претендовать на статус научных «открытий» и всячески избегать имитации якобы найденной новой, доселе неведомой фактографии.
Иконография архитектурной типологии
Обширная и крайне насыщенная статья Ю.Е. Ревзиной «Некоторые иконографические источники центрических храмов XV века в Италии» вскрывает целый ряд проблемных моментов иконографического метода, понятого достаточно широко. Автор статьи находит в центрических храмах Раннего Возрождения «наиболее напряженную точку слома в архитектурной иконографической традиции этого времени»[792]. Слом связан с тем, что, как может показаться, новая неоплатоническая идеология (в лице того же Альберти) требует в качестве идеального сакрального сооружения центрический тип вопреки базиликальной традиции всего Средневековья. Но, как выясняется, обращение к центрическому типу на практике предполагало преимущественно мемориально-реликварный характер храмов и имело в виду обращение к раннехристианской традиции, от которой эти храмы прямо зависели (то есть от «традиционных иконографических образцов»[793]). Традиционные архитектурные типы остаются обязательными факторами не только строительной деятельности, но и деятельности теоретической, связанной с изучением античного наследия («большая роль традиционных структур в представлениях архитекторов»[794]). Таким образом, налицо взаимодействие традиции, выраженной в иконографии, и новаторства, проявляющегося в типологии (мы несколько упрощаем мысль автора). Это крайне важный момент: имеет ли дело иконография с типами, или с образами?
Вот еще один пассаж: «Римская античность будет давать образцы “правильной” архитектуры, Средневековье – образцы христианской архитектурной иконографии, ряд символических значений, связанных с определенными структурами»[795]. Смысл фразы несколько плывет: и античность, и Средневековье дают образцы, но в первом случае – прямо архитектуры, а во втором – иконографии. Не есть ли наличие образца признак иконографии? Быть может, в первом случае лучше говорить не об образцах, а об образах (образ как идеальное представление)? А что значит подобное откровенно номиналистическое определение иконографии как «ряда символических значений, связанных с определенными структурами»? Не наоборот ли? Видимо, таким слегка бессознательным способом делается попытка соединить принципиально разнородные явления: теоретически-идеологические изыскания и сложившуюся строительную традицию. Практика наделяется чертами чистой семантики, ставится на один логический уровень с теорией, то и другое именуется «пластами» и под конец (этого пассажа) говорится, что взаимодействие этих пластов дает опять иконографию, но уже центрического храма итальянского Кватроченто. Проблема усугубляется чуть ниже, когда центрический храм понимается (совершенно резонно) как тип, но тут же заявляется, что определению подлежат «круг иконографических источников и композиционных решений, влиявших на сложение того или иного типа»[796]. То есть тип – больше иконографии, а композиция отделена от иконографии. Почти буквально та же формулировка повторится в заключительном абзаце статьи: «взаимодействие двух традиций, обращение к дальним и непосредственным прототипам, поиск нового образа преломляются в индивидуальном подходе каждого мастера, обращающегося к новым композиционным решениям и переосмысляющего существующие. Затем новые представления о Боге, об устройстве мироздания <…> формируют новый круг значений»[797]. Прототип накладывается на образ и трансформируется в индивидуальном подходе, ориентированном на композицию (так сказать, в образе действия). И с этим пространством собственно формотворчества сопрягается (в сознанни теоретиков, заказчиков, самих архитекторов или историков архитектуры) пространство представлений, то есть идей, мыслей и т.д., которые формируют круг значений (надо думать, значениями наделяются результаты творчества).
Статья крайне насыщена, повторяем, всевозможными оговорками, обогащающими и уточняющими образ иконографии архитектуры. Так, говорится, что источники и изучались, и наблюдались, к ним было обращено внимание, они представляли интерес с точки зрения обретения «новых образцов, утраченных законов гармонии и красоты»[798]. Это очень важный момент: фактически признаками иконографии обладала сама активность теоретиков и практиков ренессансной архитектуры (поиск образцов и источников, а также законов, то есть все того же канона). Но эта иконографическая деятельность (вспомним «структуралистскую деятельность» Р. Барта) явно окрашена психологически: зрительное, ментальное и «мемориальное» внимание, переживание и преодоление утрат – все это свидетельствует о том, что речь идет не столько об иконографических схемах, сколько о «формулах пафоса», если пользоваться варбургианской терминологией[799].
Другими словами, перед нами, несомненно, очертания не столько иконографии, сколько иконологии архитектуры, и различия здесь носят принципиальный характер. Это подверждается и дальнейшими весьма ценными наблюдениями Ревзиной: памятники архитектуры, чтобы служить образцами античного зодчества, должны были именно таковыми «расцениваться»[800]. То есть, мы имеем дело с ценностным суждением, которое тоже есть источник – но уже идеологии, внутри которой античные образцы наделены признаками идеологем, если не мифологем, а в целом – качествами культурно-исторических и религиозных симптомов, которые вдобавок обладают и признаками относительно вневременных символов, обладающих своей скрытой, латентной семантикой[801].
Зрительный опыт оказывался еще одним принципиальным фактором в иконографических процессах, когда, например, сама форма (например, баптистерия) по ходу своего восприятия пробуждала античные представления и давала саму «идею храма». Форма (в своем геометрическом аспекте) – как прямой источник переносного значения, не отрицающего и буквальное, первичное (символика крещения), которое, в свою очередь, «закрепляет за этими формами и структурами определенное содержание», стимулирующий в свою очередь новый виток поисков иконографических источников, но уже древних структур[802]. Строго говоря, проблема, так сказать, визуальных стимулов и оптических факторов иконографических процессов как раз на примере ренессансных реалий выступает как почти что центральная. Если новая архитектура (прежде всего церковные постройки) должна была соответствовать требования изолированности, легкой обозримости, узнаваемого и акцентированного внешнего облика[803], то не получается ли, что мы имеем дело, так сказать, со вторичной иконографией, со своего рода набором метаобразов, просто некоторой растянутой во времени и пространстве книгой пространственно-визуальных образцов, своего рода архитектоническим лицевым подлинником или с некоей «моделирующей системой», где «модель» – и феномен, и концепт предельно емкий и наглядный[804]? Еще один неплохой повод настаивать на различении значения и смысла, иконографии и иконологии (хотя бы для начала на уровне оптики и тектоники).
Иконография внутреннего пространства
Впрочем, и более традиционные на первый взгляд подходы демонстрируют довольно многообещающую внутреннюю структуру. И все это благодаря сквозному и, получается, универсальному для всех подходов понятию «тип».
Название статьи Вл. В. Седова «Об иконографии внутреннего пространства новгородских храмов XIII-начала XVI веков» звучит многообещающе[805]. Действительно, внутренняя организация церковных интерьеров вполне может подчиняться закономерностям иконографического порядка и, значит, может соответствовать и иконографии как методу, если есть «налицо попытка воспроизвести определенный тип, что, несомненно, связано не только с подражанием далеким образцам, но и со стремлением решить художественную задачу интерьера…»[806]. Снова знакомая нам дихотомия смысла и формы, содержательности и художественности. Впрочем, мы уже могли убедиться, что одно и другое образуют единое целое, хотя и то, и другое требуют дифференциации. И вот после весьма подробного типологического анализа новгородских церковных интерьеров мы встречаем очень важную и показательную формулу «каноническая форма храма», имеющая ряд принципиальных – и типично иконографических – признаков: традиционная устойчивость, медленное изменение, избавленное от прямой эволюционности, и приемлемость для заказчика[807]. Но в середине XV века самый новгородский и, добавим мы, самый, как может показаться, иконографический тип становится «скорее исключением». Его сменяет тип двухколонного храма, который представляет собой «высокохудожественное решение пространственных задач». Этот тип связан с монастырской средой, связан с заказом архиепископа. Дается характеристика этого типа как образца «рафинированной архитектуры», что позволяет связать его с «интеллектуальной элитой Новгорода – окружением архиепископа», где возможно было знакомство с византийскими образцами, которые использовались с идеологической целью[808]. Обращаем внимание, что иконографическим образцом может выступать и среда – не столько буквально пространственное окружение, сколько окружение социальное и культурное как вместилище идеологии и смыслов как таковых. Понятно, что обращение к внутреннему пространству храма облегчает такого рода фактически – метафорические переходы-смещения, так как храм тоже есть вместилище, впускающее в себя пользователей-носителей значения и потому допускающее рассмотрение себя как носителя того же идентичного значения. Важно также, что эта среда-окружение окружает и храм снаружи – в качестве заказчика. Внутри та же среда – это уже последующие пользователи. Получается своего рода семантически-социальная гомогенность, для которой храм, как остроумно замечено в конце статьи, представляет собой «оболочку»[809], а она для него – специфическую антропологически-идеологическую субстанцию, свободно и втекающую внутрь него, и обволакивающую его снаружи. Другими словами, типологические отношения могут быть значимыми и потому формировать системы смысла, доступные своего рода пространственно-средовой иконографии[810]. Единственная существенная оговорка – необходимость внятного соответствия между текстуальными источниками и архитектурной практикой как таковой. Слово применительно именно к архитектоническому целому служит не только смысловой аналогией архитектурным формам, но и аутентичным наполнением, звучащим и озвучивающим содержанием молчащаго или замолкнувшего пространства[811].
Иконография отношения к образцу
Довольно тонкий аспект иконографии архитектуры обнаруживает статья Д.А. Петрова «Опыт иконографического анализа архитектуры новгородского СпасоПреображенского Хутынского собора». Морфологический анализ памятника позволяет сделать чисто, казалось бы, иконографические выводы о различном отношение к формам, по-разному ориентированным на разные образцы. Очень точно для понимания этого подхода сформулировано итоговое наблюдение: «в строительстве собора участвовали новгородские мастера-“стенщики”, московские резчики <…> и иностранный “большой мастер” (возможно итальянский), руководивший строительством»[812]. Можно сказать, что в данном случае мы имеем своего рода «исполнительскую иконографию», описывающую следы присутствия-участия отдельных мастеров в процессе строительства. Каждый из них демонстрирует разные варианты-изводы отношения к конкретным формам, соотносимым с определенными образцами, разную степень осознанности этого отношения и разную степень самостоятельности. Но опять же приходится напоминать, что семантика, основанная на модальности (ценностном отношении к форме как форме и значимой, и значащей – и что-либо, и для кого-либо), – это уже компетенция иконологии, которая для этого и задумывалась[813].
Итак, иконография-типология может быть ориентирована на отдельных своих носителей и исполнителей, участников иконографического процесса. Возможна даже индивидуальная иконография как таковая, связанная с личностью просто творческой, способной быть не только «осуществителем» той или иной иконографии, но и ее прямым породителем. Это предполагает иной тип творчества и иной образ самого искусства, что нам и демонстрирует статья О.А. Медведковой «Царицынская псевдоготика В.И. Баженова: опыт интерпретации».
Иконография эмблематики и энигматики
Уже подзаголовок статьи подсказывает, что мы – на выходе из пространства иконографии и, сразу скажем, – из пространства архитектуры как таковой. Уже хотя бы потому, что, во-первых, речь идет об интерпретации, а во-вторых, предмет интерпретации – царицынская псевдоготика, то есть «антиклассическая среда»[814]. Если антиклассическая, то, значит, и антиобразцовая, и антииконографическая. Впрочем, как скоро выяснится, речь идет просто о чем-то большем, чем образец: Баженов занят поисками новых «основательных правил», которые, кстати, «перекрыли намерения заказчицы». Еще один, между прочим, признак антииконографии – затмение и упразднение заказа, внешнего замысла, программы, место которых замещает собственные намерения автора проекта, то есть архитектора. А характер этого проекта, как точно замечает О.А. Медведкова, – подобен мистической картине-видению, миражу[815]. И при том – основательные правила, то есть принципиальный канон, но не только и не столько художественный, сколько жизненный. Причем, по замечанию автора, это жизнь самой свободной Натуры, которая проговаривается о своих тайнах. Но это – лишь первое впечатление, если это и жизнь, то вовсе не природная, как нам кажется.
Главное же на данном уровне интерпретации – это типичный переход к характеристике именно форм, которые не только мистичны, но и произвольны, «либеральны», а потому заставляют искать «идейный источник <…> в оппозиции к рационалистической системе ценностей»[816]. Только что постулировалась антиклассичность, как тут же возникает поиск источников. И не существенно, что они мыслятся иррациональными. Главное, что предполагается их наличие, их первичность по отношению к готовому памятнику (или проекту), предполагается рациональная связь источника и результата его использования и столь же рациональная методика обретения смысла этих отношений и связей. На самом деле, реализуется типичная исследовательская дискурсивная схема: впечатление от формы, ее характеристика и – по принципу ассоциативных связей – объяснение данного явления (архитектурно-визуального, пространственного-пластического, декоративно-визуального) явлением аналогичным и одновременно метонимичным. Поиск и обретение ключевого объяснительного феномена обеспечиваются расширением мыслительного пространства и перемещением его содержимого: исходное и искомое явления соседствуют и сосуществуют в сознании и исследователя-зрителя, и художника-мыслителя.
Причем, что крайне важно, соблюдается именно порядок от зрителя к мыслителю: первый задается вопросом об источнике, второй обеспечивает его идейность, то есть принадлежность идеологии, к которой примыкает, первоначально из идейности, то есть из звристических соображений, уже и зритель, меняющий теперь свое обличье и становящийся фактически читателем. Но и идеи, и источники могут быть разными, и их содержание передается интерпретатору и его образу действий.
В случае Баженова мы имеем дело с масонской доктриной – крайней формой рационализма. Его крайность состоит в том, что он посягает на собственную противоположность – на мистицизм, делая его прикровенно доступным для все того же чтения. Со ссылкой на Ю.М. Лотмана говорится о некоторых эпистемологических постулатах масонства: эта идеология предполагает понятийную синонимичность «древности» и «истины», древность покоится в текстах, тексты, соответственно, должны быть и древними, и, по возможности, забытыми, неведомыми. Они должны быть утраченными (так как истина тоже потеряна) и обретенными заново. Еще один важный признак истинности этих текстов – их непонятность, герметичность.
Итак, уже не образы являются образцами, а тексты. Образ действия – уже не созерцание, а чтение, а способ (образ) воздействия – не создание впечатления, а нанесение надписей, отпечатывание, оставление следа от письма – желательно древнего. Читать как раз и значит воспроизводить, но данный вид повтора-реплики имеет в виду воспроизведение, возобновление, восстановление умолкнувшей речи, которая в свою очередь тоже была воспроизведением еще более раннего текста. Фактически, это есть воспроизведение временности, и подобное значит, что мы имеем дело с воспроизведением или имитацией герменевтики как таковой, причем в своей первозданной исконности – в виде герметизма, традиция которого непрерывна, а масонство – его не самая типичная разновидность.
Создается подобие толкования, имитация исторического знания, что автор статьи именует вслед за Лотманом «псевдоархаическим документом», по праву обозначая таковым и баженовскую псевдоготику. Позволим себе цитату: «древнерусские архитектурные формы превращаются в знаки, имеющие определенный смысл и значение, они интерпретируются как элементы “языка”, “внешние чертежи великих сокровенных истин”. Вся средневековая архитектура <…> толкуется как архитектура символическая, “говорящая”, но говорящая на темном, полузабытом языке. Этот язык, переведенный на язык масонских символов, и становится у Баженова основой для создания новой “говорящей” архтектуры…»[817]. Интерпретация мыслится как превращение, как некий магический акт. Но важнее то, что этому магическому воздействию подвергаются отдельные формы, которые уже в таком изолированном виде являюся знаками. Но уже будучи таковыми, они, если верить автору статьи, становятся еще и знаками даже не транскрипции, а трансформации, трансмутации, При том что субстанцией, подвергающейся такому воздействию, является речь, а превращается она в письмо. И все это, повторяем, средствами архитектуры, которая становится то ли стенограммой, то ли, наоборот, некоей озвучкой, декламацией.
Уточнить эту проблему можно, приглядевшись именно к характеру использования упомянутых архитектурных форм. А используются они не просто магически, но ритуально, как верно подмечает автор статьи, напоминая, что масонство обладало и своей актуальной обрядностью и символикой, и – по происхождению – связью с легендарно-мифологической архитектурно-строительной практикой. Масонство по своей природе уже было имитацией, повтором: и строительной деятельности, и деятельности как таковой.
Поэтому в своей реальной проектной активности архитектор-масон продолжал (или предуведомлял?) обрядность, характерную для собрания лож, трансформировал историю в мифологию, которой пользовался в свою очередь в целях идеологизации со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Итак, имитация имитации с использованием изолированных архитектурных форм как «единиц текста» и, самое существенное, как элементов убранства, декора готовых сооружений. Реальные постройки выступают в роли изобразительного поля, своего рода тетрадного листа, на котором выводятся «прописи»[818] из иероглифов или, вернее сказать, из предметных идеограмм. Они, в свою очередь, выглядят подобно неким шифрограммам, но не потому, что содержат в себе некую сокрытую для непосвященных тайну. Это не так: «говорящая» архитектура, наоборот, вполне говорлива, пытается даже быть красноречивой, она позволяет всячески проступать на поверхности разным неведомым, а точнее говоря, прописным истинам. Впечатление шифра – это именно впечатление и впечатление от элементарности, приблизительности и схематической условности этих «символов», наносимых на архитектурные поверхности и буквально испещряющих их, проделывая, так сказать, смысловые отверстия, зияния в семантическом теле постройки по причине своей приблизительности, туманности и, как следствие, необязательности.
Эта энигматическая декорация пытается говорить обо всем и потому не говорит ни о чем. Ее трудно читать, так как смысл ее не конкретен. Спасает лишь одно: эта архитектура на самом деле говорит, всячески демонстрируя свою смысловую насыщенность, отличаясь характерной тавтологичностью самосвидетельства: «характер и назначение архитектурногно сооружения выражены в его облике, то есть здание само “говорит” о себе»[819]. Эта архитектура просто обращает на себя внимание, показывает (но не доказывает!), что она нечто значит, своим невнятным, но навязчивым «бормотанием» провоцируя попытки себя прочесть, чему и поддается автор статьи, вполне, как нам кажется, осознавая не только рискованность, но именно заданность подобной псевдогерменевтической реакции.
Пространство архитектуры трансформируется в экспозиционное пространство, предназначенное для наглядной демонстрации многозначительно-банальных ребусов-поучений, составленных, как и полагается ребусу, из предметных мотивов, что превращает архитектурный ансамбль в пространственную эмблему-диаграмму (идеограмму!), а всю программу интерпретации возвращает в состояние первозданной доиконографической описательности. С одной, правда, оговоркой: мы должны узнать, идентифицировать не изображенные предметы, а использованные «символы», перенесенные из воображаемого словаря на поверхность стены[820].
Фактически, мы давно покинули область иконографии. Хотя и используется слово «программа», но аналогии со «словарем», состоящим из «архитектурных форм-знаков» и уточнение, что эта программа есть «текст», составленный, между прочим, «не одним Баженовым» и представляющий собой «целое идейное предприятие», – все эти оговорки-уточнения свиедетельствует о том, что пора уже задуматься даже не об иконологии, а скорее о методологии дискурс-анализа в терминах М. Фуко и не только его[821]. Тем более, что очень уместно Фуко цитируется автором статьи – тоже в качестве своего рода источника (наряду, например, с Лотманом). Но как не похожи эти источники на источники иконографические! Но именно они – со всем запасом своих эпистем – объясняют исторические феномены или помогают их толковать, выступая в роли когнитивных прототипов, воспроизводимых последующими интерпретаторами-изографами. Именно они – авторы и замысла, и программы интерпретации, они тоже участвуют в «идейном предприятии» и цитация их текстов, опора на их концепты – тоже акты индексации и идентификации, а по большому счету – обряды инициации. приобщение к «рассказу»-дискурсу.
Иконография идеологического буриме
Серьезность намерений участников этих эпистемологических ритуалов – повод и залог последующего чтения. Но как вести себе зрителю-читателю, если перед его взором разворачивается не проповедь, а театр, не масонская обрядность, а императорская игра? Ответ на этот вопрос содержится в заметке Д.О. Швидковского «К иконографии садово-парковых ансамблей русского Просвещения», где с самого начала обозначается проблема «влияния идеологии Просвещения», которое сказывалось не в формообразовании, а во все той же идеологии, но уже зодчества, то есть – в его «смысловых характеристиках»[822].
Более того, конкретный предмет анализа – садово-парковые ансамбли императрицы Екатерины II – не так уж и конкретен с точки зрения своего содержания, ибо оно чрезвычайно емко и совершенно разнородно. Это и «мир грез», и «восточная игра, основанная на энциклопедическом видении разнооборазия мира», это и «мир политических мечтаний, составляющий насыщенное аллегориями пространство, где политические символы совмещались с географическими ассоциациями». Это и «реально созданный мир <…> с картинами идеального города» и многое другое. Это «художественно осмысленная реальность», составленная из отдельных миров, «рожденных различными оттенками просветительской мысли и объединенная в единое целое территориально и пространственно». То есть если перед нами и иконография, то особая – имеющая своим предметом среду, тоже говорящую (как все в Просвещении), но озабоченную и своей ненавязчивостью (отличие от масонской проповеди). Подобная ненавязчивость обеспечивается ориентацией на чувства, которые следует увлечь в первую очередь, чтобы затем перейти к серьезным вещам, рассчитанным уже на разум. Такой риторический сценарий и одновременно пропагандистская режиссура законно рождают мысль о театральности всех подобных мероприятий, для которых пейзаж – это сцена и декорация. «Нарушаются обычные представления о пейзаже, который приобретает терпкий, надломленный, неправильный облик. Намеренно создается впечатление забытости, таинственности и страшноватой девственности…»[823].
Как характерно, что русский язык позволяет находить подобие между ментальными образами и театральным действием, называя то и другое «представлением»! И связывается воедино ментальное и театральное посредством чувств, точнее говоря, эмоциональных переживаний в сопровождении все тех же идей. Но каков образ этой связи, каков механизм удержания внимания зрителя и превращения его из наблюдателя в участника такого рода «постановки»? Ответ таится в свойствах одно конкретной игры, которой предавалась императрица и ее окружение. Это – буриме, и этим все сказано. В реальной практике садово-паркового искусства подобными рифмованными фразами оказывались отдельные постройки, виды местности и т.д. Смысл игры – в чувстве удовольствия от самого факта сопряжения частей, в, так сказать, удовлетворяющей комбинаторике элементов, а не в них самих.
Не менее замечательное свойство подобных «представлений» заключается в том, что их участником оказывается и архитектура. Она не выступает в роли более или менее имитационной декорации, призванной подчеркнуть условность происходящего перед ней. Наоборот, она тоже «представляет», но не собой, но из себя, старается казаться, подражать чему-то заведомо иному, устраивая специфический «архитектурный карнавал»[824]. И объектом притворной имитации, игровой реконструкции и игривой археологии становится древность, прошлое, память[825]. Фактически, перед нами классицизм, пародирующий и упраздняющий сам себя – изнутри себя, но не по своей воле, а по желанию играющих творцов «идеологизированной среды». А ведь идеологизация – это враждебная противоположность идеализации[826].
Итак, критическая точка всякой иконографии – момент сознательной имитации и даже репродукции, способность или даже стремление к «технической воспроизводимости», которая лишает произведение искусства самого свойства художественности. Особенно это заметно в ситуации самовоспроизведения, авторепродукции. Спасает положение дел момент рефлексии, сознательной отстраненности-отчуждения от собственных методов, своего рода самоирония, подчеркивающая и критичность, и несерьезность собственных интенций. В этом случае смысл страдает меньше, так как умаленный содержательно небогатым актом копирования, он обогащается за счет дополнительных значений, аллегорических коннотаций и прочих семантических тропизмов, вызванных к жизни игровой ситуацией[827].
Иконография культурно-исторического дискурса
И в этом случае остается рассмотреть, наверное, последний извод, вариант «иконографизма» как явления и метода. Мы имеем в виду ситуацию воспроизведения не внешней предметности или идеологии, не внутренних образов и состояний, а того, что просто находится за пределами содержательности как таковой и относится к области формы, системы художественных средств, к области визуальной выразительности, именуемой – совершенно традиционно – стилем. Иначе говоря, мы проходим насквозь область тематики и семантики и вступаем в сферу стилистики и поэтики. Именно подобной проблематике посвящена заключительная статья сборника «Ренессансные мотивы в архитектуре неоклассицизма начала XX века», автор которой – Гр.И. Ревзин. Здесь мы встречаемся с попыткой объяснить появление в рамках неоклассицистического движения ренессансной ретроспекции.
Но сразу обращаем внимание на весьма симптоматическое обстоятельство: уже в названии статьи стилистическая категория («ренессанс») берется в своем семантическом изводе, активно подвергаясь тематизации («мотив»)[828].
Присмотримся к тексту и к его самым первым положениям. Излагая наиболее ходовую точку зрения историографии, Ревзин замечает, что «семантика классических мотивов исчерпывается идеей русской национальной классики со всем комплексом сопутствующих ей историософских смыслов». Однако, «ренессансные мотивы сами по себе с Россией связаны не были. Поэтому объяснить отказ от русских прототипов в пользу ренессансных исходя из русской классической идеи достаточно затруднительно. Но тем самым ренессансные мотивы не только нарушают видимую логику эволюции движения, но и выпадают из того наиболее фундаментального смысла, который связывает неоклассицизм с русской художественной ситуацией. Обращение к Ренессансу в начале ХХ века оказывается бессмысленным. Отсюда естественно возникает предположение о том, что смысл неоренессансного направления возникает исходя не из современной ему художественной ситуации¸ но приходит из предшествующего этапа»[829]. Столь искусное изложение прописных истин стилистической истории искусства, осуществляемое Ревзиным, достигает своей цели: мы видим, насколько бессмысленными и беспомощными оказываются такого рода постулаты, если они оперируют не смыслом самих художественных явлений, а содержанием категорий и понятий, которые, конечно же, обессмысливаются, как только их начинают использовать не по прямому назначению. Ситуацию усугубляет еще одна парадигма, связанная с понятием «стилизация», от которой отличают «стилизаторство». Десемантизация достигает своего апогея по той уже простой причине, что в действие вводятся такие терминологические фантомы, как «архитектурная форма вообще», «культурный смысл», который вбирается архитектурной формой, принадлежащей «своей эпохе».
Эти парадигмы по-настоящему обессмысливают и проблему, и сами феномены, потому что они призваны их формализовать: разговор о стиле, стилизации, стилизаторстве (можно добавить и «стильности») – это, как правило, способ уклонения от разговора о содержании. И потому со всей определенностью Ревзин противопоставляет такой парадигме именно иконографию, которая «ориентирована не на смысл архитектурной формы вообще, но на смысл конкретного мотива»[830].
Но как вскоре выясняется из мастерских описаний образцовых построек отечественного неоренессанса, это особая иконография, имеющая дело с образцами специфического рода. Чему подражает и что воспроизводит Жолтовский и иже с ним, выбирая палладианский образец и поправляя или, наоборот, акцентируя, его барочные (маньеристические) черты с помощью позднеготических памятников? Ответ должен быть заключен в таких терминах и формулировках как, например, «иконография ордера» или «палладианская схема соединяется с барочным мотивом»[831]. Почти незаметно иконографической семантизации подвергаются знакомые нам морфологические и стилистические категории (или даже феномены). Столь же незаметно совершается и переход от семантики собственно архитектуры к семантике архитектурной деятельности и ее участников-деятелей: смысл ищется и обретается не в свойствах построек, а в сознании строителей и, скажем сразу, забегая чуть вперед, – в сознании их толкователей[832].
Но постараемся по порядку проследить ход мысли автора статьи. Основная промежуточная идея заключается в констатации «обостренного внимания к проблема стиля», понятого не на уровне отдельного архитектурного мотива как «знака стиля», а вполне фундаментально – как «внутреннего движения формы»[833].
Из этого положения-наблюдения выводится следующее: если стиль ощущается обостренно, то столь же обостренно переживается и разница между классикой и не-классикой. Более того, «аклассичность фиксируется архитектурой сознательно»[834]. Следующий смысловой переход осуществляется с помощью ссылки на Лукомского, говорившего о «душе стиля», и на Буркхардта, обращавшего внимания на «культ индивидуализма» именно в Ренессансе. То есть, «стиль» одушевляется, «эпоха» одухотворяется, и тем самым мы (интерпретаторы) обретаем право на такие формулировки: «восприятие и понимание Ренессанса в неоклассике <…> укладывается в эту трактовку»[835]. И дальше – череда примеров, подтверждающих иконографическое трактование архитекторами-неоклассиками ренессансных форм (триумфальных арок, башен, гербов) как мотивов мифологических, как символов «духа горделивого индивидуализма»[836].
Но где Я. Буркхардт – там и его ученик Ф. Ницше (рядом с которым, так сказать, на подхвате другой его ученик – Г. Вельфлин): «обращение к Ренессансу можно рассматривать именно в этом “ницшеанском” ключе»[837]. Мистический дух Кватроченто ассоциируется с хтоническим смыслом, Возрождению приписывается «дух иррациональной мистики, через который легко транслировались все смыслы новой романтической философии от ницшеанства до фрейдизма[838].
Еще одна принципиальная формулировка-оговорка: «в этом контексте восстанавливается смысл обращения к Ренессансу в неo-классике». Итак, все прежние усилия направлены были на поиск или сложение контекста, в который можно вписать данный исторический факт и тем самым восстановить, реконструировать его смысл, без которого, понятно, любой факт остается всего лишь фактом – принципиально иррациональной величиной (постулат, между прочим, современного русской неоклассике немецкого неокантианства).
И, наконец, последнее и, вероятно, самое важное положение данной в высшей степени принципиальной статьи: кроме «радости узнавания настоящего в прошлом» и «новизны инверсии классической ясности в романтическую мистику» обращение к Ренессансу имеет еще и «чрезвычайно значимый профессиональный смысл». И для архитекторов-неоклассиков, и, добавим мы, для архитектуроведов (наверно, все же, неклассиков, как мы постараемся показать чуть ниже).
Еще одна цитата: «одной из наиболее принципиальных проблем, с которой столкнулся неоклассицизм, была проблема противостояния идивидуализма как фундаментальной мифологии романтического творца, и классического канона, этот индивидуализм отрицавшего. Переход мастеров, пришедших из эклектики – архитектуры свободного выбора, и модерна – архитектуры свободного самовыражения – на позиции канонической архитектуры при всем их желании было невозможен»[839].
Локальное решение этой неразрешимой проблемы – «классика, но без классического канона». И без «духа свободы», свойственного Ренессансу, здесь не обойтись. Более того: не обойтись и без категории игры – «игры с классикой», которой предан модерн и от которого отказывается неоклассика. Жертвуя собственной свободой, она обретает свободу самой классики. Но необходимо было отказаться и от стилизации, так как в ней заложена двойственность (идея Бахтина) и перейти к прямому подражанию классике, но не совсем классике классической, чтобы оставаться «искренним и рациональным». А если обретена истинная архитектура, то ею можно пользоваться как надежным и подлинным инструментом даже жизнеустроения.
Так постепенно, шаг за шагом захватываются все новые и новые смысловые регионы, идейные пространства: от противоречий историографии к парадоксам теории, от архитектуры к архитектурному творчеству, от проблем стиля и формы к вопросам нравственности и морали, от профессионализма архитектурного к профессионализму уже искусствоведческому, так как именно ссылка на параллели из области немецкого искусствознания завершает статью[840]. В ней мы обнаруживаем почти все возможные и все важные для обсуждения смысловые измерения одного конкретного художественно-исторического феномена, на который, как на некую ось, можно нанизать слой за слоем практически все логически допустимые темы-парадигмы, успешно черпаемые из «истории искусства как истории духа», остающейся, к сожалению, скрытым или неназываемым символическим источником такого рода методологии[841]. И, обладая правом иметь источник, она вправе именоваться иконографией, пусть и не классической, а, например, маньеристической, которая обретает, впрочем, свой – аклассический – канон в лице уже иконологии, возникающей почти синхронно с русским неоклассицизмом[842].
Герменевтика архитектуры – молчание и говорение
Итак, мы прочли – с нескрываемым удовольствием и удовлетворением – один из самых принципиальных отечественных научных сборников, посвященной интересующей нас теме. Остается последний и наиболее опять-таки принципиальный шаг: предложить некое резюме, которое одновременно может оказаться своего рода суммирующим образом иконографии архитектуры. Но сделаем мы это не совсем традиционным способом, проанализировав еще один текст, присутствующий в сборнике и являющийся к нему Введением, написанным А.Г. Раппопортом. Мы как будто проигнорировали его в начале и оставили его для финального разговора именно потому, что таким способом мы стремились соответствовать природе данного текста. Ведь несомненно, он составлялся автором после прочтения текстов сборника и по-существу выглядит скорее Послесловием-Заключением, чем Предисловием-Введением. Просто нам не хотелось, чтобы он оказался и Предвосхищением, ведь уже название «Архитектура и герменевтика» таит такую опасность.
Но при чтении Введения ощущение опасности вытесняется чувством если не признательности. то уж точно почтения к его автору – настолько точно и уместно расставлены крайне важные акценты. Кроме того, для нас это Введение-Послесловие крайне важно и по той причине, что она является по-настоящему редким примером отечественно методологической рефлексии, столь нам любезной.
Итак, что же это за акценты? Главный – указание на необходимость рассматривать иконографию в контексте исторической герменевтики как таковой, для которой в общем виде архитектура (памятник или проект) представляет собой текст, имеющий в виду архитектуру именно «говорящую»[843]. Исток исторической герменевтики – диалектика Гегеля, преодолевающего нормативность Винкельмана. Подобный заряд антинормативности сопровождает герменевтику в ее дальнейшем развитии, которое характеризуется сотрудничеством с археологией и филологией[844].
Но нормативность продолжает свое существование в архитектуроведении, в «проектной линии развития профессионального мышления», которое в силу своей прагматической природы имеет дело с системой универсалий («надысторические принципы и критерии оценки») и потому уклоняется от контактов с герменевтикой. Такое «профессиональное» архитектуроведение, по-хорошему формалистическое, противостоит архитектуроведению академическому, ученому, университетскому, для которого архитектура «не особый вид проектной практики», а «феномен культуры», нуждающийся в «общем культурном контексте». Его поиск и попытки вписать в него архитектуру и есть задача такого подхода. Собственно говоря, первое архитектуроведение принимает облик архитектурной критики, которая, движимая желанием все большей точности и достоверности своих постулатов парадоксальным образом, прибегая к услугам семиотики, утрачивает чистоту формального функционализма, ибо в нем обнаруживается «скрытый символизм».
В свою очередь второе архитектуроведение синтезирует историко-археологическую и эстетико-феноменологическую линии и дает на выходе «парадигму иконологии, освящающей до сего дня историко-искусствоведческие исследования».
Пока невозможно придраться к столь блестящей в своей лаконичности картине развития методологии. Но дальше начинаются некоторые досадные неточности, касающиеся все той же многострадальной иконологии, которой приписывается ориентация на «традицию вербальной рефлексии, позволяющей связывать все изобразительные мотивы с теми или иными теологическими, мифологическими или историческими сюжетами»[845]. С точки зрения Раппопорта (и в этом он не одинок), вербальность и есть признак иконологии. Но это не совсем так, точнее говоря, это совсем не так. Иконологический проект как раз и основан на потребности перейти от иконографии, которой традиционно вменялось в обязанность заниматься текстуальной (вербальной) традицией и источниковедческой проблематикой, к иконологии, призванной заняться символами в их первоначальной и непосредственной данности как трансцендентных ценностей (вспомним родовую связь иконологии с неокантианством). Иначе говоря, иконография вовсе не обязана ограничиваться буквальным, предметным, прямым значением. Вся ее польза видится именно в гетерономном сопряжении образа вербального и визуального, в анализе всякого рода иносказания – и иконического, и аллегорического, и эмблематического, и всякого прочего.
Сразу оговоримся, что речь идет именно об иконологии Панофского (автор Введения тоже говорит о нем), а не об иконологии, например, Рипы. Путаница легко объяснима, но с трудом преодолима, так как сразу возникает вопрос, что делать с архитектурой: иконология, понятая в текстуально-вербальном ключе, конечно, противопоказана архитектуре и архитектуроведению. Но иконология, усвоенная в виде визуальной аксиологии (да еще обогащенная гештальт-теорией и феноменологией вообще), – только и спасает архитектуру от бессловесного формализма и открывает ей просторы подхода смыслового, то есть осмысляющего и потому осмысленного[846].
Именно такую иконологию-герменевтику, не называя ее по имени, имеет в виду Раппопорт, когда касается «препятствий к иконографической интерпретации архитектуры»[847]. Одно из них – это «особенности восприятия и понимания архитектуры, споряженной с постижением памятника в движении и активном участии зрителя в сопряженных с функционированием сооружения жизненных процессов, далеких от созерцательного чтения памятника как некоторой криптограммы или историко-культурного документа». И чуть далее: «герменевтика архитектуры предполагает расширение и развитие как способов исторического истолкования памятников, так и форм переживания, выходящих за рамки тех или иных исторических толкований»[848]. Еще раз подчеркнем: именно иконология и является герменевтическим расширением иконографии, и в такой роли она не препятствие, а горизонт всякого иконографического усилия.
Поэтому, как это не покажется, быть может, странным, границы иконографии связаны не с ограниченными возможностями метода, даже не с состоянием самого материала, а с прерогативами других подходов, которые имеют право рассчитывать, что их будут узнавать и к их услугам прибегать.
Собственно говоря, единственная серьезная претензия к сборнику и в этом, несомненно, прав автор Введения, заключается в чрезмерном расширении содержания термина «иконография». Он готов в себя принять и традиционную церковную археологию, совмещенную с литургическим богословием (Баталов), и разнообразные тоже традиционные типологические изыскания, обогащенные социологией архитектуры, предполагающей учет как заказа, так и исполнительских параметров (Седов, Петров). Это и совершенно типичная для ренессансных штудий «история идей», прилагаемая к архитектуре, рассмотренной в ее проективной практике (Ревзина). Это и весьма тонкая культурологическая эссеистика, взятая в своем архитектуроведческом изводе (Швидковский). В этом смысле наиболее иконографична статья Медведковой, пытающейся ответить на типично иконографический вопрос, что значит тот или иной мотив-элемент. Совсем не иконографична заметка Лидова, к которой приложимо замечание Раппопорта о «субъективной внеисторичности» как характерной угрозе иконографического анализа. И, конечно же, принципиально вне иконографической «парадигмы» остаются архитектуроведческие рассуждения Ревзина, сделавшего попытку соединить все возможные и невозможные «гетерономии», оставаясь и в границах конкретного исторического феномена, и в пределах «условного, экранного пространства фасада», на который фактически проецируется «умозрительное пространство исторического воображения»[849]. Очень полезное и уместное упоминание «воображения», – явление и понятие, симптоматически отсутствующие в статье Ревзина: эта фигура умолчания-отрицания призвана сокрыть то принципиальное методологическое обстоятельство, что пространство аналитики, представленной в блестящей по-своему статье, – тоже умозрительное и воображаемое. Но это опять же фасадное пространство, двухмерная плоскость чтения «с листа»[850] точнее, даже не чтения, а перевода, результат которого – подстрочник, требующий своей обработки, перечитывания, редактирования, комментирования, корректуры. Парадигмы разного происхождения собраны вместе, размещены на листе в виде некоторого коллажа. Остается этот концептуальный «гербарий» просмотреть и извлечь из него некое знание. Представим себе варбургский Атлас «Мнемозина», но вместо фотовоспроизведений – цитаты и ссылки. Именно так репродукционно-комбинаторно устроен текст Ревзина, что делает его парадоксальным образом и атипично иконографическим (точное следование канону научного дискурса со всеми опознавательными терминами-атрибутами), и типично антииконографическим, так как посягательству подвергается святая святых иконографического принципа – предмет воспроизведения должен быть внешним и вещным. Здесь же, как уже не раз говорилось, воспроизводятся внутренние парадигмы отдельных дисциплин[851].
И в заключении коснемся наиболее ценных и при том максимально умозрительных замечаний Раппопорта, выводящих проблематику метода на просторы теоретического архитектуроведения, без которого – в этом состоит пафос и нашей всей книги – никакое самое конкретное историческое изыскание не то что невозможно, но, так сказать, необязательно.
Уже не раз упоминались и феноменология восприятия архитектуры, и опыт ее переживания (в том числе и в темпоральном модусе), и интенциональные переходы (в том числе игровые, маскарадные[852]). Все это говорит обо одном: невозможно никак обойтись без соответствующей и желательно по-настоящему феноменологической метатеории[853]. И пусть крайне эскизно, но она обрисована во Введении[854].
Наблюдения за литургическими пространствами древнерусского храма и готического собора (не без помощи авторов соответствующих статей)[855] позволяет Раппопорту поставить «существенный для иконографического анализа вопрос о дистанции между текстом и читающим». Здесь на первое место выступает, по точному замечанию Раппопорта, не физический, а метафизический смысл пространства, не оптическая, а умозрительная дистанция, и архитектура, как «явление глубоко пограничное, чудесным образом соединяет реальное и воображаемое, умозрительное и физическое, создавая совершенно особую архитектурную реальность»[856].
И как подлинная реальность и подлинная пограничность – со своей природой и онтологией – архитектура способна соединять воедино или, выражаясь точнее, удерживать в единстве разные виды, типы, образы изобразительности. И это единство – текстуальной природы: все видимое можно не только воспринять и узнать, но и воспроизвести, соотнести с другими реальностями и прочесть. Но прежде – записать, то есть разместить в пространстве, которое, обладая своей размерностью, наделяет таковой разные виды «письма» (живопись, рельеф, саму архитектуру), разные виды чтения и, как промежуточный итог, разные виды понимания, среди которых у иконографии место почетное, но не центральное. Нюансы понимания – это степени вовлеченности человека в видимое, где на одном полюсе – отстраненное чтение-разглядывание, а на другом – захваченность человека «силовыми линиями» архитектуры. Посередине – рельеф, который есть образ вторжения стены (как преграды и, между прочим, предела) во внутреннюю среду, часть которой – сам человек в своей и телесности, и духовности.
Автор Введения настаивает на «двойственности изобразительных и натуральных смыслов архитектуры», которая создает «оппозицию архитектуры и текста», так что архитектура (внутри подобной оппозиции) становится «обрамлением смысла». Архитектура в этой ситуации – «значащая пустота и своего рода тишина, позволяющая тексту стать голосом»[857].
Можно говорить о «метапространственной акустике архитектуры», соотносимой с особой «диоптрикой», которая действует подобно объективу с переменным фокусным расстоянием: фокусировка на одном объекте на больших фокусных расстояниях дает размытие периферии, отрывает изображение от фона. Применительно к архитектуре можно говорить о «нейтрализации смысла внешних ограждающих конструкций». Очень тонкое и крайне уместное замечание: такого рода нейтрализация одновременно наделяет конструкцию (скажем от себя – всю физическую, вещественную предметность постройки) «вторичной, независимой от основной смысловой песрпективы изобразительностью – тектонической или метафорической»[858].
Крайне важные уточнения: если мы говорим об «оптической дистанции», то с ней следует соотносить не умозрительную дистанцию (умозрение когерентно зрению), а гаптическую близость. Если мы говорим о «метапространственной акустике», то необходимо иметь в виду и темпоральность всякой речи. Тогда – в соединении телесности (гаптического) и темпорального (последовательное движение в пространстве, смещение, перемена места) и возникают эффекты обрамления (конечно, эффект «фигуры/фона»), нейтрализации, тектонической (и атектонической) метафорики, то есть топики, взятой в своем фундаментальном тропизме (топос как троп). Именно в этой смысловой конфигурации (если угодно, «парадигме») становится понятным, что все границы и ограничения, пределы и, соответственно, определения полагаются в переживающем сознании, имеющим, по крайней мере, следующие онтологические аспекты-измерения: замысел-программа (заказчик, автор идеи и т.д.), исполнение-творчество (художник и его среда), испльзование-толкование (получатель-зритель в широком смысле слова, в том числе и исследователь-толкователь). На каждом из уровней-слоев границы-пределы обретают свойства проекций-переходов, внутри которых и таится смысл – и присутствует и скрывается, обретается и уклоняется, ибо трансцендируется в своей и прозрачности[859], и в своей тайне[860], и в своем молчании[861].
Итак, иконография – часть герменевтики архитектуры. Ее основная методологическая проблематика – границы, определяемые взаимодействием таких двух фундаментальных начал, как текстуальность и изобразительность. Мы еще раз напоминаем о замысле нашего труда, имеющего в виду достаточно четкое различение подходов не только с точки зрения их возможностей или предмета, но и с учетом основополагающих метафизических итенций, в них заложенных.
Приведенные в сборнике статьи, высказанные в их связи комментарии и расширения, краткое обсуждение столь же краткого, но крайне принципиального Введения позволяет и на материале отечественного искусствознания говорить о том, что основная ценность именно иконографического метода – в его благородном самоограничении, способности сказать все, что в его силах, чтобы уступить место или самому предмету внимания в его иных, не учтенных измерениях, или иным подходам, имеющим расширенные возможности толкования. Характерный источниковедческий пафос иконографии в чистом виде (если такое возможно) свидетельствует не только и не столько о ее верности историзму. За этим в большей степени приверженность одному единственному (из многих) аспектов памятника, а именно его происхождению, под которым может пониматься не только автор (его может не быть, или он мог «умереть»), но и замысел, история создания, да и просто письменный источник. И, между прочим, отсутствие источников означает конец иконографии, а вовсе не истории искусства. Самое интересное, как, мы надеемся, стало ясно из чтения нашего труда, только начинается: можно говорить о самом памятнике в его исполнительском аспекте, и тогда иконографический метод преобразится в то, что именуется иконологией, но можно говорить и о его взаимоотношении со зрителем-пользователем, тогда мы вправе говорить о герменевтике. Хотя герменевтикой можно и нужно именовать все, что стремится к поиску и обретению смысла или хотя бы значения.
Проблема отечественной традиции – в чрезмерном доверии формально-стилистическому методу вообще и в размытости границ смыслового подхода в частности. Методы во многих русскоязычных текстах как бы мерцают, отсвечивают рефлексами смежных подходов, окрашиваются в несвойственные оттенки, так что нередки оказываются всякого рода методологические абберации, когнитивные «дисторсии», разного рода смысловые «шумы», вызванные или недостаточным «разрешением» данного подхода (не той эвристической «чувствительностью»), или неправильно выбранной «зоной фокусировки» (не те объекты попали в зону аналитической резкости). Изменить параметры «съемки», сменить «объектив» и так далее – и мы получим совсем иную картину. Методология – это искусство выбора.
Общие места иконографии и архитектуры
…Получается, что еще раз необходимо воспроизвести известные положения.
Итак, начало всему – положение о том, что иконография – это и свойство искусства (материала), и свойство науки (метода). Иконография-метод занимается иконографией-феноменом.
Иконография-свойство – это определенное содержание произведения или его некоторая часть, аспект, измерение. Если речь идет об изобразительном искусстве, то это содержание связано с изображением, то есть оно есть предметное содержание, предполагающее некоторый объект (предмет) изображения. Сама природа изобразительности предполагает, что он должен быть внешним по отношению к данному произведению и должен быть предметом внимания, интереса и, соответственно, воспроизведения. Причем воспроизведения с точки зрения своего узнавания – то есть воспроизведения облика, отличительных признаков, характерных черт, специфических качеств.
Так мы оказываемся, между прочим, очень быстро на пороге не только изобразительности как таковой, но и искусства как такового, ибо, как видно с самого начала, мы, занимаясь предметом изображения, вынуждены выбирать между «предметом изображения» и «предметом изображения». Или, если выражаться в терминах Янтцена, делать выбор между «предметом изображения» и «изображенным предметом», тем, что было предметом внимания автора изображения, составителя программы, носителя заказа и тем, что стало предметом внимания уже зрителя, пользователя, владетеля, исследователя[862]).
Первый случай – предмет изображения – это то самое, что именуется специальным знанием самого предмета (немецкий термин Fachkunde). Узнавание предмета в изображение обусловлено предварительным знанием самого предмета, а уже потом – его узнаванием в изображении. Это есть доиконографический анализ, если пользоваться выражением Панофского. Занимаясь сакральной архитектурой, трудно так сразу проиллюстрировать это положение. Но в случае, например, с иконописью все становится чуть четче: чтобы понимать изображение какого-либо святого (или святого, священного события), я должен, в частности, быть знаком с его житием (или с соответствующим местом Св. Писания). Я должен знать, например, что такое Hortus conclusus: откуда это выражение, что оно значит в своем первоначальном контексте Песни Песней, как толкуется оно и т.д. Внутри какого-либо изображения с иконографией «вертограда заключенного» весь этот семантический комплекс будет представлен, его можно будет анализировать, обсуждать его варианты, конкретные изменения, находить их причины и т.д. Но – и это самое основное – я должен понимать, что здесь изображен сад, должен представлять, какие это сорта растений здесь изображены, просто догадываться, что это именно растения, причем цветущие. Это-то и есть Fachkunde, именно предварительное, предваряющее всякое последующее разумение – знание предмета изображения.
Но здесь вмешивается другое предварительное знание – знание того, как изображается данный предмет. То есть знание всех вариантов, способов правил его изображения. Соединение этих двух знаний – того как выглядит сам по себе предмет изображения, как «выглядят» правила его изображения и как выглядит он сам после применения этих правил, – все это только и обеспечивает уже собственно иконографический анализ.
Сразу обращаем внимание на практически бесконечную перспективу расширения возможностей доиконографического этапа. Ведь существует очень много предметов изображения, то есть того, что можно изображать. Мир объектов – это весь мир, со всеми его связями, отношениями, со всем его содержанием. Это, прежде всего, весь мир вещей, мир их свойств, качеств, состояний и мир отношений между вещами. Это весь мир человека, его особенностей и его отношений и связей с вещами и их отношениями. Это мир отношений человека с себе подобными, с живыми существами и неживыми сущностями (если таковые вообще существуют). Это мир природы и это мир человека в их взаимодействии. Это мир истории, мир культуры, социальных, политических и прочих отношений. Это, наконец, мир отношений человека к себе самому, мир рефлексии, мир памяти, мир эмоций, чувств, желаний, потребностей. Это мир мыслей, понятий, идей. Это мир, собственно говоря, искусства. И так – до бесконечности. Точнее говоря – до пределов возможностей конкретизации и детализации. И все это, повторяем, возможно изображать, если иметь знание и умение. И, соответственно, все это возможно узнавать в изображении, тоже если иметь об этом знание. Другими словами, условие знания – все свойства и признаки самого предмета знания (искусства).
Поэтому, чтобы избежать столь катастрофической для знания неопределенности, необходимо ограничение. Таковым оказывается одно условие: мы говорим о предмете изображения.
Но и здесь возможно некоторое разнообразие, так как изображения тоже бывают разные. Мы вновь приближаемся к вопросу о том, что такое изображение, какова его природа и каков его смысл. Прежде всего изображение – это очень частный случай отношений подобия, репрезентации, аналогии, эквивалентности и т.д. То есть логики связи двух или нескольких элементов. Изображение получается из образа. И этим уже все сказано[863].
Эта логика воспроизведения характеризуется следующими аспектами: тип – образ – символ – знак – икона. Самый общий феномен (и, соответственно, категория) – это тип, задающий типологию, то есть порядок, строй, систему, структуру, типологические связи и отношения как таковые. Тип – это прообраз, утверждающий последующий ряд, где главенствует образ, образные отношения, отношения репрезентации и отношения к прообразу. Различия – в степени автономности, степени реальности, в силе воздействия. В отличие от символа, где мы видим прямое самообнаружение образа в конкретной форме, в ограниченном обличье, знак озабочен уже потребностями коммуникации, что делает его конвенциональным, более человеческим[864].
Мы имеем дело с образностью в разной ее модальности, которая в свою очередь есть образ отношения субъекта к объекту. Осознание этих отношений, осознание самой образности позволяет иметь и образ, репрезентацию самих этих отношений: их наличия, их важности, длительности, воспроизводимости. Образы становятся образцами, что подразумевает и аспект аксиологический. Другими словами, можно изображать и важность (жизненную, культурную, просто вкусовую), и интерес (внимание, сосредоточение), и оценку, и желание, потребность, устремленность, влечение и т.д. Всякая, так сказать, вторичная интенциональность, призвана, если приглядеться и признаться себе в этом, к одному: к восстановлению утраченного единства, к возвращению самого предмета или его образа.
Кстати говоря, неосознание этого обстоятельства не отменяет его, но возвращает нас из ситуации прямого воспроизведения к ситуации символической и типологической, где больше автономности образов, где все определяет их независимость от человека и одновременно, и соответственно – зависимость человека от них.
Потребность в воспроизведении связана, как было сказано, с потребностью в наличии, актуальном присутствии образа и, по возможности, овладении им. Впрочем, возможно и воспроизведение ситуации, положения дел, связанного с данным образом. Фактически, воспроизведение – попытка повторения, повторной встречи, что, конечно, связано с узнаванием, припоминанием, которое, в свою очередь, предполагает воспроизведение внешнего облика.
Для терминологического удобства, воспроизведение зримого облика, узнаваемых черт образа, его визуальных свойств и признаков можно именовать иконичностью, предполагающей всяческое подражание, мимесис и т.д. В связи с этим следует очень четко указать, что иконичность не есть ни «осуществление», ни «воплощение», ни «отражение». Все это случаи реализации, конкретизации, качественного перехода одной реальности в другую. Того, что именуется оформлением, наделением формой. Подражание – это именно имитация, удвоение, отпечаток, паттерн, который не дает внешнее, материальное существование эйдосу-прототипу, а заменяет его, точнее подменяет, указывает на его реальное отсутствие. Это дубликат, в лучшем случае налаживающий связь с прототипом, в худшем превращающий эйдос в эйдолон.
Остановимся на лучших вариантах, чтобы продолжить наши рассуждения указанием на то, что пока мы оставались в пределах процессов морфологических, связанных с формой как условием, инструментом, средством, способом (опять же – образом) существования идеального в материальном, внутреннего во внешнем. Подобный образ существования – переход, движение, динамика изменения, в том числе – смысла, содержания, которое, чтобы обрести присутствие в этом мире, отказывается от себя, принимает видимое обличье, конкретное, постоянное и устойчивое устроение, структуру, конкретность и ограниченность, заключенность в пределы предметности, не просто вещественности, но вещности.
Из всего сказанного видно, что только попадая в мир человеческого опыта, образы могут стать образцами. Хотя и образность, по всей вероятности, тоже признак человеческого мира – с его основополагающими принципами апперцепции, ассоциативности, гештальтности, интенциональности как проявления целостности, единства человека и его мира.
Поэтому образцовость можно встретить не только в мире предметном, но и в мире сознания как такового.
И везде, где есть образец, присутствует и иконография, то есть буквально описание, письмо, наглядная репрезентация изображения, конкретной образцовости, являющей себя в повторении.
Но иконография – это и качество подхода, подступа, взгляда на изображение, то есть все та же репрезентация, но на следующем уровне, где само изображение есть образец, но уже для сознания не просто познающего или узнающего образы, но и отдающего себе отчет в том, что увидеть, узнать, но промолчать – этого и мало и это не безопасно. Узнать как опознать – и засвидетельствовать, признаться в знакомстве или даже в родстве – вот чего требует ситуация: я внутри нее, я не внешний зритель, а участник и причастник происходящего в изображении и с изображением. И мой опыт, который я осознаю, заставляет меня говорить, то есть репродуцировать на следующем уровне – уже словесном, языковом, текстуальном и дискурсивном – то, что я узрел, но не мог выразить тем же образом – визуальным и непосредственным. Происходит смена образов, и прежние становятся образцами, достойными или подражания, или забвения.
Неопределенность, приблизительность интерпретации – это ее примерность, то есть зависимость от примера, от того, что только примеряют, но не одевают, от того, что прилагают, но потом отставляют. Интерпретация – это опыт прилаживания одного смысла к другому, приблизительность – это опыт приближения, но не слияния, близости, но не тождественности. Другими словами, мы касаемся самой природы интерпретации, толкования, понимания.
Если потребна интерпретация – значит уже мы имеем не буквальный смысл, а нечто скрытое, не явленное, не прямое, не доступное, уклоняющееся. Но толкование следует отличать от дешифровки, где мы имеем дело с неизвестностью, так сказать, по умыслу, тогда как интерпретация – это тайна по смыслу.
Где не прямое – там значит и нечто непостоянное, подвижное, движение смысла – или навстречу, или в сторону, или сближение со смыслом, или отклонение. Да и сама природа творчества – тоже процесс, движение, накат эйдоса и поток логоса, способного и захлестнуть, и выбросить на берег.
Наконец, приближение к некоему не просто искомому смыслу, а смыслу исходному – тоже таит в себе парадоксы. Ибо поиск того, что потеряли по забывчивости исторической, предполагает оглядку, фокусировку не на том, что перед глазами, а на том, что за спиной. Это буквально обратная перспектива, обращаемая вспять, негатив или «диапозитив» того, что перед взором, того, что грядет. Это перспектива уходящего и ретроспектива остающегося. И если точка схода, что перед нашим взором, – это исчезающие возможности различения, возможности взора – его силы и бессилия, то, что мы ищем в прошлом, то, что мы пытаемся разглядеть у себя за спиной, – это точка не схода, а ухода, не исчезающая точка, а точка исчезновения. Впереди, в грядущем нам не хватает разрешающей способности видеть, а позади, в прошлом, прошедшем – способности жить, ибо в той точке, что позади, – исчезает сама способность существовать, а не только понимать и разуметь.
Хотя это и есть основание историзма – вера в возможность вернуться и все восстановить (реконструировать). Во всяком случае представить, поместить перед взором воображения исходную ситуацию, систему первоначальных отношений, в том числе и «заложенного смысла»[865]. Прошлое мыслится пространственно, как вместилище, нечто, имеющее свою размерность и ориентированность[866].
Итак, иконография в своем самом общем и общеобязательном виде – это всякого рода изобразительная типология, присущая произведению искусства. Типологичность предполагает ориентацию на воспроизведение некоторого первоначального положения дел, ситуации в широком опять же смысле слова – как системы всякого рода отношений, в частности, отношений смысловых, идейных, но также и вообще социальных, религиозных, духовных, а также отношений человеческих, природных, предметных и прочее. И эти отношения становятся объектом воспроизведения, повторения, копирования в широком смысле слова. То есть, еще раз: это изобразительность типологическая, визуальная типология, отношения оригинала и копии, образца и его вариантов-изводов. Можно говорить об отношениях образ-прообраз, если мы в состоянии ограничивать себя визуальностью, зримостью и не переступать порог онтологии и метафизики. Поэтому мы различаем иконичность и иконографичность. Поэтому можно говорить и об иконографии как о методе, способе отношения к изображению, ведь иконография присутствует внутри изображения, это его свойство именно как созданного образа, изготовленного определенным образом. Как само изображение описывает нечто внеположенное ему, так и мы можем описывать эти самые отношения описания.
Иконография по этой причине не есть описание свойств описываемых вещей, но свойств процесса и результата описания. Если же мы зададимся вопросом о том, как происходит этот процесс, почему результаты именно такие, то тем самым мы вторгнемся уже в проблематику средств выражения, языковых отношений, которые по определению обладают относительной незавимостью от конкретного содержания, хотя и не лишены своей типологии и общей структуры.
Соединяя семантику со стилистикой, мы получим своего рода визуально-изобразительную поэтику, в идеальном виде учитывающую изучаемый феномен (изображение) во всей его целокупности, то есть с точки зрения зарождения, созидания и дальнейшего пользования (знакомая всем триада замысла-реализации-рецепции). Если в замысле, повторяем, присутствует момент воспроизведения некоторого образца (или предмета, или идеи, или ситуации, мыслимых как образец, как нечто, достойное воспроизведения), то в этом случае мы можем говорить об иконографии и пользоваться иконографическим методом. Если же мы задумываемся о способе, об образе этого воспроизведения, об участвующих в процессе реализации замысла факторах (содержательные свойства замысла, отношение к нему участников процесса реализации, влияние дополнительных обстоятельств, контекста, свойств личности, ментальности, душевных и духовных структур, социального окружения, духовной среды или жизненнной ситуации), – при учете этих моментов мы можем и должны говорить об иконологии. С помощью этого термина или как-то иначе мы обретаем возможность отличать от устойчивых и однозначных отношений образец-копия отношения динамичные и многозначные, свойственные творчеству как таковому, человеческому сознанию как таковому, сакральной реальности как таковой, этому миру как таковому и миру иному, каков бы он ни был для каждого из нас.
ПЕРСПЕКТИВА: антропологические аспекты иконографии и иконологии
Иконография универсальна, но не университетна.
У представителей иконографии и иконологии меньше от истории искусства, больше – от искусства истории.
Искусство – это не только искусство.
Генрих ЛютцелерВне содержания, но не вне значения
Как нам кажется, подобающим завершением нашего труда могла бы стать попытка обозначить его уже совсем дальние перспективы, о которых мы даже не решились говорить в Заключении, ведь цель всякого заключения – именно заключить, замкнуть на ключ проблему (или просто сдать ее «под ключ»). Предлагаемое же ниже обсуждение еще одного текста – это, если можно так сказать, следующий виток проблематики, новый уровень и иная степень тематизации архитектурного символизма. Это уже уровень осознанно методологической и откровенно теоретической рефлексии, недвусмысленный выход за пределы истории искусства. И в то же время – настойчивое желание как раз вернуться к самому искусству.
Перед нами – практически единственное последовательно методологическое обсуждение проблем иконографии – и как раз с точки зрение применения ее к архитектуре. Мы имеем в виду соответствующие разделы капитального труда «Восприятие искусства и наука об искусстве» (1975)[867]. Его автор – один из самых, видимо, интересных немецких историков искусства – Генрих Лютцелер[868].
В этом, вне всякого сомнения, наиболее фундаментальном в истории искусствознания обзоре всех методов и подходов, существовавших и существующих в науке об искусстве, иконографии уделено место во второй книге, в обширной 7-й ее части, озаглавленной «Автономное обоснование искусствознания». Иконография рассматривается вкупе с иконологией в 1-й главе, названной крайне просто и емко: «Мотив», под которым подразумевается вся содержательная (inhaltliche) сторона искусства.
Сразу Лютцелер обращает внимание на то, что содержательное – это не всегда предметное, поэтому «бессодержательное» в беспредметной живописи или в орнаменте не предполагает отсутствия «значения» (Bedeutung). Еще в большей степени это справедливо для интересующей нас архитектуры, в которой вовсе не очевидно, что ее «видимая бессодержательность не воспроизводит, тем не менее, определенного смысла»[869].
В целом трудно оспаривать тот несомненный факт, что мотив есть самое важное в искусстве, ибо в нем заключены «и магия, и религия, и власть, и общество, и эрос, и природа, короче говоря, – все живое»[870]. Мотив – это тематическое в искусстве, а тема, соответственно, – это выражение в искусстве всего того, что «человек способен испытывать: очарование, отвращение, воспоминание, агрессия, игра, удовольствие, радость»[871]. Мотив уравнивает чувство и мышление.
Очень важны аспекты взаимодействия мотива и формы. Только последняя обеспечивает мотиву его «силу воздействия», хотя осознание этого требует рефлексии, в то время как зритель воспринимает мотив как «сырой материал» (иначе говоря, непосредственно) и наблюдает его трансформацию в процессах гештальтного порядка (иначе говоря, опять же в наглядной непосредственности чувственного опыта). Поэтому, отмечает Лютцелер, форма обладает преимуществом на сущностном уровне, мотив же – на уровне восприятия. «Образные содержания» и по сю пору, в современном искусстве отличаются все той же интенсивностью, что и в искусстве прошлого. «Мотив имеет в искусстве центральное значение»[872].
Иконография как проблема темы
Наука же, изучающая «образные содержания», именуется иконографией – так определяет эту дисциплину Лютцелер, и прежде, чем мы проследим детальную структуру этой науки, обратим внимание на несколько важных моментов. Главное – это строгое различение содержания (Inhalt) и значения (Bedeutung). Второе – признание за предметной областью (это и есть содержание) максимальной по интенсивности силы воздействия на человека – вкупе и на его мысли, и на его чувства. Это аффектное воздействие связано с тем, что предметное непосредственно возбуждает в человеке связь с жизнью, пробуждает опыт недетерминированной связанности с существованием. Но только через форму искусство и зритель усваивают эту «экзистенциально-онтологическую» меру своего, казалось бы, сугубо визуального опыта. В связи с этим обращаем внимание и на термин «образное содержание» (Bildinhalt), передающий то важное обстоятельство, что мы, изучая искусство, общаясь с ним¸ имеем дело только с содержанием визуальных, наглядных образов предметов, но не с самими предметами (это будет крайне важно при обсуждении проблем иконологии).
Перейдем теперь к содержанию этой самой науки, именуемой иконографией. Она, по словам Лютцелера, «по ходу расширенного духовно– и культурно-исторического исследования задается вопросами относительно предмета, источника, смысла и формы образа-изображения»[873]. Разделами этой науки будут религиозные мотивы (собственно область христианской иконографии), последующая жизнь античности, светские символы и аллегории, воспроизведение мира и человека. Собственно говоря, это-то и будет именоваться темами, точнее говоря, тематическими полями (это уже наше выражение, отчасти отсылающее к лингвистическим парадигмам, которых, между прочим, Лютцелер принципиально избегает[874]).
Обращаясь к каждой тематической группе, Лютцелер обозначает основные проблемы. Для области христианской иконографии это, например, наглядное воспроизведение «богословского созерцания», богословия истории и времени как такового. Отдельная проблематика – это необходимость «образного воспроизведения по сути безóбразного», а именно самой сердцевины христианской веры – почитания Св. Троицы[875]. Образность в таких случаях вынуждена обретать черты отвлеченного символизма, и архитектурные образы здесь оказываются вполне уместными (в этом случае архитектура, как это ни парадоксально, обретает качества изобразительного мотива – Капелла в Оберпфальце Георга Дитценхофера). В связи с необходимостью изображать «последние вещи» вообще, то есть все то, что уклоняется от возможностей человеческого воображения как такового (ибо находится, например, за пределами человеческой истории), Лютцелер делает важное наблюдение: «искусство ограничивает себя минимумом наглядной образности и становится простым стимулом внесловесной и внеобразной фантазии, пребывающей на самом дне человеческой души»[876]. Существует особое самосмирение, самоограничение искусства перед лицом Божия величия.
А с другой стороны, искусство способно обретать качества настоящего романа, обращаясь, например, к многочисленным апокрифическим темам. И снова проблема: «Что, в конце концов, сильнее – правда Евангелия или чары фантазии?»[877]
И изображения святых – это не только проблема источников (жития и проч.), но и опять же границ фантазии и произвола как составителей легенд, так и художников, их иллюстрирующих. Показательна и проблема бытования символов в христианском искусстве. Они могут быть и наивны, и агрессивны, и высокоинтеллектуальны, и наделены многими привходящими аспектами. Происходить символы христианского искусства могут и из античной сказочно-животной традиции, и из совсем не христианского мира переднеазиатской религиозности[878]. К этому добавляются и разнообразные и разнородные источники (Библия, апокрифы, легендарная традиция, поэзия, Литургия, проповедь, духовный театр). Лютцелер не скрывает своего сдержанного отношения к богословским текстам как к будто бы прямым источникам иконографии. Лишь очень редко они определяли программы росписей, по большей части, они только «сопровождение» соответствующих художественных произведений (аббат Сугерий или Винсент из Бовэ). А ведь еще есть проблема распространения, передачи иконографических тем…
И только после подобной эскизной проблематизации возможен разговор о задачах христианской иконографии. Главное же помнить следующее: иконография – необходимая дисциплина, лишь она может сказать, чтó мы видим. Иконография – «радикально историческая» дисциплина. Поле деятельности иконографии принципиально «комплексно» (она, замечает Лютцелер, «не озабочена границами специальностей» – см. эпиграф). Но одновременно иконография предпочитает не замечать «напряжения между материалом и произведением»[879], то есть «превращения содержания в искусство», когда возможны несовпадения исходного предмета и его изображения. Так возникает проблема «онтологической законности иконографических схем»[880], которые всегда остаются схемами, зачастую огрубляющими и искажающими христианский смысл изображения. Особенно это касается изображения святых, когда художники нередко «затуманивают и упраздняют» многие качества святых (их отвагу, их сомнения, их выдержку и т.д.), смягчают их облик, приводят его в соответствие с принятыми идеалами, стачивают все углы и грани их индивидуальностей или просто приближают их страдания и деяния к требованиям чуть ли не кинематографического кича. А иконографии до всего этого нет и дела, печально замечает Лютцелер, она все ищет и ищет или нового святого, или новый атрибут, или новый вариант изобразительного типа и так – ad infnitum. Уже из этого горестного перечисления проступает то основное обвинение в адрес иконографии, которое и отличает как мы увидим, всю специфику методологической позиции Лютцелера: игнорирование художественного.
И это только проблемы христианской иконографии! А впереди – список вопросов и к такой великой теме, как «последующая жизнь античности», за которой стоит более чем тысячелетняя история «встреч так или иначе современного искусства с античной традицией»[881].
Рецепция античности начинается уже в раннехристианском искусстве, следующем важному принципу: заимствованию подлежат не «великие боги» античности, а всякого рода «украшения-аксессуары», религиозно индифферентные (ветры, водные божества, дельфины вместе с тритонами, а также всевозможные буколические персонажи). Но и это пустяки по сравнению с таким фундаментальным обстоятельством, как возможность использования античных протоформ в качестве основ композиции.
Античность – это и источник образцов, и сравнений, и историй, и, наконец, античность способна выступать и «в своем собственном значении»[882], когда – здесь Лютцелер прибегает к весьма характерным выражениям – она (античность) является «по ту сторону мира христианских переживаний в качестве великой легенды о человеке со всеми его радостями и злоключениями, в том числе и с его тягой к низшему и подпольному»[883].
Лютцелер обобщает эти наблюдения довольно принципиальным образом. Отношение европейского искусства к античности заключает в себе «исключительный по важности жизненный процесс», состоящий в следующих операциях: античность вытесняется из области сознания, принимается в качестве атрибута, в средние века используется как exemplum historicum или symbolicum и, наконец, «мощно вырывается из границ христианства и обретает собственную власть, в том числе и со всем присущим античности мраком»[884]. Очень четкое и довольно трезвое описание всех процессов, связанных с ростом демонического и просто языческого. После этого, естественно, остается только вспомнить Аби Варбурга, что Лютцелер и делает, обнаруживая в данном случае не свойственную ему резкость и однозначность характеристик. Помещая Варбурга в контекст сугубой иконографии (пусть и античной), Лютцелер подчеркивает, что он не был одарен художественно, а был всего лишь «обеспеченным книголюбом», для которого «200 тысяч его книг были, по сути, важнее искусства как такового»[885].
Существенное обвинение в адрес Варбурга звучит так: он следил за функционированием искусства внутри культуры как целого и именовал произвольной и вредной абстракцией «научное извлечение» его из этой самой культуры. Программа, которую наметил Варбург, выглядит довольно привлекательно: что значат определенные силы культуры – религия и миф, поэзия и наука, общество и государство – для «образной фантазии» и наоборот? Но сам он не пошел далеко в ее реализации… Творческое начало в искусстве, художественный гений – все это было ему чуждо. Он с большим удовольствием занимался «маскарадными процессиями, настенными драпировками и убранством свадебной опочивальни, чем достижениями великих мастеров»[886].
И опять, как и в случае с христианской иконографией, звучит болезненный вопрос о границах иконографии. А следующее тематическое пространство – «профанные символы и аллегории» – способно только усугубить эту чисто методологическую проблему; недаром круг задач, с ними связанный, «труден, а, может быть, и недоступен для прояснения»[887], как прямо свидетельствует Лютцелер.
Наглядная антропология
Тем не менее выход имеется, но он, как не скрывает того Лютцелер, – вне компетенции иконографии. Для «общей ориентации» им предлагаются шесть «существенных тем, которые объемлют человека в его индивидуальном и историческом бытии и в совокупности являют в некотором роде наглядную антропологию»[888]. Итак, задается новая перспектива, которая является не просто сменой компетенции или вводом компетенции новой, ведь в таком случае проблемы христианской иконографии могли быть решены с помощью теологии, а античной – с помощью варбургианской иконологии. Они, однако, были отвергнуты, так как представляли собой соблазн гетерономии (и Варбург, как его понимает Лютцелер, – это все та же культурология).
Почему не отвергается антропология? По нескольким причинам. Первая: профанная тематика слишком обширна, и необходима некоторая ее систематизация. Человеческая (антропологическая) рубрикация очень удобна, так как задает некоторый устойчивый сверхмотив, которым является человеческое существование и вокруг которого многое можно сгруппировать. Но антропология не есть очередное посягательство на автономию искусства, которой так озабочен Лютцелер, еще по одной причине: для него антропологичность – в сердцевине искусства, понятого как аспект человеческой экзистенции, как жизненный опыт человека. Причем непосредственная данность этого опыта и возможность его визуальной (наглядной) символизации средствами искусства только стимулируют последующую его интерпретацию (и опыта, и искусства).
Вот эти антропологические рубрики и их тематические эквиваленты:
1. Нравственность – добродетели и пороки; пословицы; образ охоты как этический символ.
2. Мудрость – созидательные силы, выражающие себя в триумфах (героя, мира, правды, целомудрия, времени, победы).
3. Образование – семь свободных искусств; музы; вдохновение.
4. Право и государство – знаки власти; изображения для ратуши; законодательство; dextrarum junctio.
5. Природа человека – возрасты жизни; образы пяти чувств; vita activa, vita contemplativa; любовь, замок любви, сады любви, источник молодости, неравная пара; vanitas, смерть, пляска смерти.
6. Космос – элементы, ветер, моря, потоки; части земли; день, ночь, месяцы, времена года ; звезды, зодиак, планеты[889].
Каждая из тем сопровождается у Лютцелера достаточно емким комментированием и обсуждением сквозной проблемы: подобные темы не всегда приспособлены для наглядного воспроизведения в силу своей отвлеченности, и искусство, пытаясь это делать, зачастую выходит за пределы себя, приспосабливаясь к нуждам иллюстрирования и аллегоризации, предлагая всего лишь «наивные и элементарные знаки»[890].
Вот, к примеру, как раскрывается тема «человеческая природа», которой «в искусстве посвящено необозримое богатство мотивов…, сообщающих нам о биологических непреложностях – о возрасте, о болезнях, о старении, смерти; указывающих на духовные силы – в жизни активной и созерцательной; следующих за поворотами судьбы – в счастье и несчастье, в любви и инстинкте, в опыте всеобщей бренности»[891]. Весьма поэтичный список, указывающий на то, что человеческую природу человек может только «испытать на себе», в нерасчлененном и иррациональном опыте.
И наконец, тематический круг, обозначенный как «человек и его мир». Антропология нарастает, одновременно концентрируясь на своей сердцевине. Что здесь нового по сравнению с «профанными символами»? Только одно – воспроизведение окружающей среды и форм взаимодействия с ней. Наполнение внешнего мира и реакции на него. Это, в первую очередь, разнообразные состояния и занятия человека (обнаженное тело – в момент купания, любовного общения, искушения). Это и повседневность (тоже представленная во всякого рода делах), и прерывающая ее реальность праздника. Общество обнаруживает себя и в охоте, и в танце, и в театре, и музыке.
Ну и, конечно же, – история во всех ее проявлениях.
Перечисление и обсуждение всех подобных тем и мотивов завершается указанием на тот момент, что изучение всего этого тематического материала предполагает и постижение соответствующих «мыслительных форм», что означает превращение самого искусства тоже в материал. Сохраняем ли мы все еще право, говоря об иконографии, говорить о «гетерономном самоопределении искусствознания»?
Частичный ответ на подобный «вечный вопрос» («вечный» в рамках методологического изыскания) содержится в истории иконографии как метода, начало которому, по мнению Лютцелера, следует искать у Фердинанда Пипера и Антона Шпрингера.
Последний в своих знаменитейших «Иконографических заметках» (1860) определяет абсолютно современный круг проблем и их решений.
Существеннейший постулат, полезный для наших (архитектурных) целей, звучит так: «При иконографических исследованиях нельзя обходить стороной вопросы формы; мы обязаны учитывать неотъемлемые права художника на свое независимое творчество, не забывая при этом и о том, что художник – дитя своего времени и разделяет со своими современниками одну духовную пищу»[892]. И вот после этого общего заявления начинается самое главное, касающееся архитектуры (напомним, что этому тексту более 150 лет).
Главное – это указание на то, что увязка изображения с архитектоническими формами заставляет признать, что «композиция (изображения) рассчитывается с учетом того, что это определенный элемент постройки, поэтому образ происходит из живого и жизнеутверждающего созерцания архитектурных линий»[893]. И далее: «Невозможно сомневаться, что в расположении (элементов изображения) действовало и чувство архитектонического стиля», причем если отдельные фигуры размещаются не без насилия, как бы «вывихиваются», то это значит, что данный изобразительный мотив только приспосабливается к данной архитектонической ситуации, будучи создан раньше.
Напомним, что все это – высказывания Шпрингера. Интересно и поучительно, как Лютцелер комментирует данные места, им же самим и приведенные. Главная идея этих комментариев заключается в том, что иконографические исследования, понятые как «понимание содержания», неизбежно приводят к осознанию «противоположности творчества и типа», за чем стоит и «ритмика исторической жизни, которая не разворачивается из одного лишь творчества или из одного лишь типа»[894]. Тип может «противостоять творчеству вплоть до его разрушения», равно и творчество, внешне оберегая тип, внутренне способно «видоизменять его до неузнаваемости». Причем если иконография озабочена проблематикой изменений образа, то она неизбежно упирается в социологические факторы.
Лютцелер перечисляет «действующие исторические силы», ведущие к постановке формальных вопросов (историчность образного содержания, антиномия традиции и новаторства, изменения в обществе как исток формотворческих (gestalterischer) возможностей), и обращает внимание на то, что Шпрингер почти не касается важности этих вопросов для архитектуры, предвосхищая концепцию формы Анри Фоссийона. Смысл этой концепции – в признании за формой способности быть «полой моделью», наполняемой различной материей. Особенно явно этот подход проявляется при обсуждении взаимоотношений архитектуры и пластики.
Мы обязательно вернемся к этой проблеме, но вначале проследим, как излагается Лютцелером история иконографии, которая, по его мнению, в начале XX века усилиями Эмиля Маля достигает в своем развитии высшей точки. Чем же так любезен Лютцелеру Маль? Ответ одновременно и прост, и глубок. Знаменитая малевская четырехтомная «сумма средневекового искусства» выгодно отличается как «освоением материала, так и усвоением смысла». «Факты складываются в жизненные единства и достигают своего собственного присутствия в настоящем»[895]. Что значит эта экзистенциальная формулировка? На самом деле очень многое, так как подразумевает прежде всего понимание «общественных функций созданного образа»[896].
Очень важная характеристика: благодаря мастерству Маля формируется «образ времени, который одновременно содержит в себе и человеческое»[897]. Другими словами, словесное творчество ученого (его «мастерство») создает образ, но уже – времени, в котором, однако, есть и человек: образ человека во времени и времени в человеке. И иконография благодаря такому взгляду и подходу – это уже не просто «рассказ о позабытых курьезах, а известие о пребывающей исторической жизни». Да и само произведение искусства, рассмотренное в его возникновении и распространении, – это «не изолированная форма, а сосредоточение исторического события»[898].
Необходимо понимать эти выражения буквально, чтобы оценить их эвристический заряд: отдельное произведение, понятое как творческое событие в структуре человеческого жизненного горизонта, вбирает в себя и форму, и смысл и, будучи сообщением (известием), заставляет или стимулирует и нас понимать себя в переживании смысла, явленного в конкретном обличье.
Лютцелер постепенно усиливает экзистенциальные аспекты иконографического подхода, указывая, например, на то, что иконография выявляет в искусстве способность выражать «человеческие страсти, нужду и надежду». Иногда ей (иконографии) удается открывать в искусстве способность «обозначать неопределенное и неопределяемое бытие». Иконография в силах (иногда) делать осознаваемыми протекающие в искусстве процессы, «проясняя спутанное, делая выразительным сбивчивое и о пережитом в рассеянности ведя разговор насыщенный и чеканный»[899]. Другими словами, у иконографии имеется редкая и крайне полезная функция прояснять и расширять повествовательные, выразительные возможности искусства: иконография помогает искусству высказаться, хотя само искусство тоже провоцирует попытки угадать и четко обозначить то, что оно желает сказать. Причем все это замешано на человеческих переживаниях, на потребности человека иметь ясную картину или внятное объяснение. Лютцелер хочет сказать, что нередко эти попытки имеют почти что рефлекторный характер – все дело в той степени остроты, актуальности, напряженности и непосредственности в переживании того или иного смысла. Понятно, что такими характеристиками может обладать только «человеческий» смысл, не сводимый и не редуцируемый к художественной форме, то есть к сугубо эстетическому опыту, который способен снимать, сглаживать и гасить напряженность явленного смысла. Но так ли это хорошо для самого искусства, если присутствующий в произведении искусства смысл переводит внимание с самого художественного творения на прилегающие области веры, культуры, повседневности и т.д.?
Поэтому, несмотря на обширнейший послужной список иконографии, Лютцелер вынужден признавать, что в иконографии не реализуется понятие истории искусства, в ней не проясняются никак проблемы взаимоотношения формы и значения.
Конечно, бывают случаи, когда форма терпит просто крах (небесполезный для нее) перед лицом несравнимо более существенного смысла, когда смысл непреодолимо влечет за пределы и формы, и искусства, когда, наконец, форма и значение идут каждое своим путем, не проникая никак друг в друга.
Но где проходит граница между искусством и не-искусством? Не слишком ли просто устроено наше представление о том, что такое искусство? Лютцелер прямо говорит, и эта идея представляет собой одно из главных сокровищ его теоретической мысли, что собственно искусство «окружено большим количеством близких искусству образований, таких как знаки и аллегории, в которых форма и содержание по-разному соотносятся друг с другом, и присутствующие в них достижения в разной степени приближаются к тому, что называется искусством»[900]. Иначе говоря, художественность и, значит, форма, так сказать, «размазаны» по поверхности человеческой изобразительной активности, существует своего рода градиент художественности, и содержание, можно и должно предположить, выступает своеобразным субстратом, основанием, устойчивость которого обепечивается одним способом – соотнесенностью с человеческой жизнью.
Причем, что весьма важно и полезно, существует конкретная область изобразительности, которая оказывается моделью подобных отношений между формой и содержанием. Это, конечно же, архитектура и скульптура, и потому, прежде чем мы перейдем к более внимательному разбору способов и разновидностей взаимоотношения жизненно-смыслового субстрата и формально-эстетического переживания, вернемся к оставленной чуть выше проблеме взаимоотношения двух начал – архитектонического и пластического.
Архитектура и пластика
Первое, о чем необходимо сказать, – это несомненное единство композиционно-архитектоническое и, соответственно, зависимость пластики от архитектуры (которая тоже по-своему пластична).
Вообще говоря, архитектура представляет собой источник и условие всяких построений во всех прочих видах изобразительного искусства (типах изображения).
Итак, в каждом изображении есть слой архитектуры. Каковы же признаки архитектурного присутствия? Наиважнейший признак – наличие той самой типологии, то есть устойчивых, повторяющихся и повторяемых, но не изобразительных структур, отношений, схем.
Эти структуры должны не зависеть от задач изобразительных – быть не связанными, не принимающими, не приемлющими предметного изображения.
Но возможно ли такое, если всегда существует главнейший «предмет» – человеческое тело, предваряющее, и предполагающее, и приемлющее всякую последующую телесность?
Фактически, вопрос репрезентации должен предваряться вопросом презентации, то есть присутствия тела. Но как объекта или как феномена?
Здесь важен почти что вечный вопрос о месте и роли декорума: архитектура только украшается скульптурой или она ею снабжается, наделяется? И чем скульптура архитектуру снабжает? Собой, своей изобразительностью, присутствием предметной референции…
Одновременно важно, что скульптура присутствует на поверхности, на границе архитектурного объема, архитектонической телесности. Не являются ли феноменологически архитектура и скульптура единым сверхцелым, имеющим отдельные измерения – архитектурные и пластические, переходящие друг в друга? Своего рода метарельефом, системой разноуровневых поверхностей?
И каковы векторы перехода? Быть может, существуют разнонаправленные процессы: и архитектура проступает на поверхности, и скульптура поглощается архитектурным объемом. При этом важно представлять и структуру архитектурного пространства, которое всегда служит фоном, основой для всяких пластических явлений, так что скульптура, погружаясь в архитектурный объем, в конце концов претерпевает и процесс развеществления, если мы проследим полностью этот процесс близкого контакта скульптуры и архитектуры. Архитектура как объем, получается, является неумолимым и действенным инструментом трансформации телесности (пространство – тоже форма тела). А почему архитектура? Да потому, что в ней заложен потенциал геометрии и нумерологии, где главное – отношения, то есть промежутки, дистанции, интервалы, места-топосы.
Так за вопросом перехода проступает и вопрос проницаемости, проникновения, вхождения и вторжения или, наоборот, задержки, сопротивления, паузы, остановки.
И вся эта динамика переживается в состояниях человеческого тела, обладающего целой гаммой разнообразных телесных модальностей.
Не лишним будет и напоминание о том, что непрерывность всех подобных переходно-трансформационных процессов, их единство обеспечиваются общностью материала…
Нельзя ли, не без элемента упрощения, но все-таки предположить, что в случае с архитектурой возможно говорить, что пространство – это преимущественно форма, а содержание – это объем, пластическая и телесная масса (например, стены, перекрытия, скульптура и люди)?[901]
Созерцание как соучастие
На самом деле вышеописанная феноменология архитектурно-пластического, и соответственно, содержательного единства предполагает некоторую дополнительную инстанцию – воспринимающую, анализирующую и переживающую позицию зрителя, который есть больше, чем зритель. Замечательный ряд интерпретаций одного и того же памятника – скульптурного убранства тимпана церкви в Везле – позволяет Лютцелеру сделать некоторые принципиальные наблюдения, имеющие первостепенное значение для нашей темы. Эти интерпретации принадлежат Эмилю Малю, Абелю Фабру и Вильгельму Мессереру, причем последний выступает как альтернатива по отношению к классическим подходам двух французских ученых, чьи почти синхронные тексты (1924 и 1923), между прочим, отделены от текста немецкого ученого почти половиной столетия (1964). Именно на основании его текста Лютцелеру удается сформулировать, если так можно выразиться, расширительную версию иконографии. Еще раз напомним, что в основе – анализ скульптурного убранства архитектурного сооружения, и характерен даже подзаголовок, данный Лютцелером тексту немецкого ученого. Если французские авторы выступают под сугубо иконографическими рубриками (у Маля – «чудо сошествия Св. Духа», у Фабра – «отправление апостолов на проповедь перед Вознесением»), то Мессерер – под программным «смыслом форм», что очень точно отражает подход немецкого ученого.
И смысл этот заключается в том, что формы, обладая собственным характером, будучи выразительными в своем внутреннем бытии, представляя собой систему красноречивых отношений, обнаруживают и порядок того, как «произведение строится». И этому построению произведения «соответствует и способ того, как его (произведение) должно смотреть и “читать”»[902]. Причем Мессерер делает крайне важное уточнение: речь идет не о том, что, мол, спокойный взгляд «следит» за формами, однолинейно, «последовательно-суксессивно считывает» их. На самом деле все устроено сложнее: даже самая незначительная, малая форма воспринимается как особый импульс, будучи нередко отзвуком импульса иного, ответом на него. То есть формы стимулируют некоторое состояние в воспринимающем и переживающем человеке.
И чтобы понять, что это за состояния, опять же существенна связь форм с архитектурой, в данном конкретном случае – их (форм) «привязанность к архитектуре благодаря интенсивному сплачиванию»[903]. Но ведь это не просто формы, а «лицезрение чуда сошествия Св. Духа», потому привязанность к архитектуре на семантическом уровне – это соприкосновение подобного видéния с «основополагающими структурами бытия», что «воплощается» в столбах, колоннах и прочих архитектурных членениях. «Так в себе покоящийся духовный мир соединяется как с земными горизонталями, присущими миру свершающегося события, так и с вертикалями, вздымающимися вверх наподобие и самого события, и стоящих “репрезентативных” фигур». Христос и Его Дух не представлены на тимпане, но сама сцена заставляет думать о культовом присутствии Его через веру. Так как Сошествие Св. Духа – это акт основания Церкви, то и данное церковное здание, как и всякая церковная постройка – это и церковь духовная. Нет ничего невозможного в том, и строителями церкви осознавалась подобная зависимость портала как элемента церковного сооружения от самой сцены, от запечатленного в ней события. Изображение «указание в обратном направлении».
Нет нужды говорить, сколь поучительна и эвристична должна быть попытка уже Лютцеллера откомментировать опыт столь радикального взимопроникновения даже не столько формы и содержания, сколько формального строя, построения и того события, которое запечатлено пластически и которое переживается верой не просто как тема, а как живое присутствие Бога – именно в данном тимпане, в данном храме, в данный момент времени и в данном верующем, которым может быть интерпретатор.
Верующий как продолжение архитектуры и пластики
Лютцелер справедливо замечает, что описание Мессерера при беглом ознакомлении может показаться «чересчур детализированным, быть может, даже несколько искусственным». Но на самом деле «все детали сориентированы на взаимосвязь форм, позволяя постепенно проступить целому как некоей конструкции или ткани, где одно поддерживает другое, одновременно находясь от него в зависимости». В результате мы имеем то, что можно назвать «пластическим событием», но что «очень трудно» обозначить, и потому мы имеем столь неизбежное – и необходимое – «внешнее напряжение языка». Вновь мы сталкиваемся с парадоксами истории искусства: явление образного порядка вынуждено переводиться «в совершенно отличный от него медиум языка»[904].
Но через это обстоятельство проясняются функция и значение архитектуры: она «объемлет собой порядок бытия», помещая конкретную сцену в структуру мироздания – как материального, так и духовного[905]. Эта сцена, принципиальным образом именуемая «событием» (событие – это всякое значимое действие), развертывается на знаменитом паломническом месте, на пути к Сантьяго-де-Компостела. Паломник становится благодаря всем этим обстоятельствам и особенностям «соработником», содетелем происходящего: изображение отправляющихся на проповедь над вратами церкви переживалось паломником, покидающим храм и вступающим в мир, как повеление, ему лично адресованное, – «жить в апостольском преемстве», вершить дела, совершавшиеся ими.
Таким образом, «архитектура и скульптура завершаются в верующем христианине»[906]. Более того, «искусство и воспринимающий его человек принадлежат друг другу, да проще говоря, только вместе и образуют искомое целое».
И вот очень принципиальный итог наблюдений за всеми перипетиями анализа Везле. Главное то, что по ходу изыскания встретились различные направления искусствознания. «Иконография вводит в духовное пространство, соотнесенное с данным произведением искусства; только так возможно добиться приближения анализа к фактическому положению дел». Но до поры до времени это пространство «с художественной точки зрения остается пустым и индифферентным», так как сказанное относительно отправления апостолов на проповедь равным образом касается и высокого искусства, и низкого, и искусства как такового, и китча»[907]. То есть иконография всегда пребывает в опасности остаться глухой к произведению как искусству.
«Только когда содержание произведения и его форма взаимодействуют друг с другом и друг из друга уясняются, только тогда произведение представляет собой в качестве единства предмет опыта». Мы можем сказать: предмет анализа – только предмет опыта!
Чисто методически «при изъяснении форм исследователь осознает себя ограниченным иконографией и одновременно ею застрахованным – в том смысле, что он взирает на то или иное художественное творение в его (творения) индивидуальных исторических предпосылках, исходя из его собственных образных оснований, то есть не произвольно и не из собственной позиции»[908]. Только так «открывается формообразующая сила мастера, ценность его творчества, а отдельные частности постигаются осмысленными. И еще один ключевой пассаж: «принимаемые художником решения изъясняются, исходя из самой сердцевины переживания». Именно он позволяет сформулировать, как нам кажется, наиболее чеканные формулы данного – весьма плодотворного – подхода. «Становятся доступными взору и взаимосвязи сил, формирующих образность произведения: упорядоченность мотивов раскрывается как порядок образного мира согласно степени их важности».
Интересно, что это за степени или ступени, уровни важности. Лютцелер их перечисляет: характер основания рельефа, движение на нем образов (букв. – гештальтов), форма и ритм складок. Так проясняется «жизнь отдельных форм в целостной форме» и снимается самодостаточность отдельной скульптуры, а творение и пользователь оказываются отдельными аспектами «единой реальности искусства».
Иконография сопрягается с социологией искусства, она уже не всего лишь частный аспект понимания, а «начало целостного понимания: произведение как полное напряжения единство содержания, формы, исторического происхождения и соотнесенности с обществом»[909].
Понятно, что после таких предварительных постулатов, главный из которых – наличие в иконографии сугубо герменевтических и при этом религиозных перспектив, возникает потребность в более детализированном описании самого иконографического метода, точнее говоря, методов, так как мы уже убедились, что иконография – это скорее место встречи разных подходов, точка схода несхожих точек зрения... И это еще одна почти что уникальная заслуга Лютцелера.
Иконография как система методов: схемы и угрозы
Сама практика иконографического анализа сформировала «проверенную схему» последовательных исследовательских действий. Схема подразумевает:
– уяснение исторического значения мотива – с точки зрения времени (момент проявления, расцвет, упадок и т.д.), пространственного распространения (среди стран и среди народов);
– источники происхождения мотива – письменные (Писание, богословие, гимнография т.д.) и изобразительные (образцы, предшествующие образы и т.д.);
– трансформации тем (различные типы мотивов, типы формальной организации).
Но главное не эта, в-общем-то, очевидная схема, а то, что при всей ее неизбежности, устойчивости и надежности иконография, тем не менее, постоянно подвергается угрозам со стороны по крайней мере четырех проблем:
– сверхинтерпретация (далеко идущие обобщения на основании недостаточного количества данных);
– предрешенная интерпретация (ее связь с позицией интерпретатора и игнорирование исторических обстоятельств);
– отрыв от художественного (равнодушие к ценностному статусу произведения перед лицом задач расшифровки содержания); – отрыв от целостности (частность, деталь без учета ее места в целостности большего порядка).
Последний пункт особенно полезен для размышления, так как в нем сокрыта сама суть художественного: понимание отдельного мотива в корне меняется, если он соотносится с целостными структурами, как, например, всякого рода демонические образы, смысл которых зависит от «места и веса в архитектоническом порядке церковного здания и в совершающемся в нем культе»[910]. То есть существуют уровни целостности, открываемые и усваиваемые зрением: от «единичности мотива» взгляд переходит к «целостности отдельного архитектурного элемента» и наконец к «целостности церковного здания». Но одновременно интерпретация должна учитывать еще два уровня: целостность самого мотива и целостность его наглядного оформления (Gestaltung).
Так, незаметно, иконография обретает все признаки структурного анализа, точнее говоря, конечно же, гештальт-анализа, предполагающего уровни и элементы членения, их взаимодействие, их интеграцию и их встраивание в единство следующего порядка или уровня. Специфика этого подхода, как видно и в изложении Лютцелера, заключается в том, что подобные структурные уровни не суть некоторые логические сущности, они представляют собой содержание уже зрительного опыта, имеющего тоже свои структуры, которые регулируют не только перцептивную, но и концептивную содержательность.
И, что естественно, вся эта заманчивая проблематика иллюстрируется и истолковывается на основании теоретических взглядов Панофского, взятого в своем раннем – еще немецко-язычном – обличье.
Следует, правда, заметить, что сам Лютцелер – и это характеристика уже его собственных теоретических взглядов – в контексте иконографической проблематики предпочитает не употреблять термин «структура». Нелишне, кстати, сказать, что и ранний Панофский тоже обходится без него.
Три сте(у)пени иконографии
Знаменитая трехчастная схема Панофского представлена, как было уже сказано, в ее ранней, немецкоязычной редакции, где сохранены аутентичные термины и, самое существенное, более четко проступает структурно-динамический подход к изобразительному смыслу, так как перед нами не просто измерения, аспекты, уровни, а именно ступени или даже степени интерпретации. Причем интерпретации исключительно иконографической, ни о какой иконологии пока еще речи не идет. Более того, скажем сразу, что, по мнению Лютцелера, идти и не может. То есть для Лютцелера Панофский есть не воплощение иконологии, а скорее завершение, предельный случай именно иконографического и метода, и взгляда.
Со взгляда, обращенного на конкретное изображение Imago pietatis в исполнении Лоренцо Монако (1404), все и начинается. Первая ступень смысла – это «феноменальный смысл» или, наверное, лучше сказать «смысл феномена» («Phänomensinn»). На этом этапе созерцания предполагается наблюдатель, только регистрирующий то, что он видит и узнает, и не более того. Это уровень просто знакомых и незнакомых вещей, предметного, прямого смысла и буквального восприятия пространства как глубины и как места расположения предметов (средняя зона, передний план, задний план).
Второй этап – уровень «смысла значения» («Bedeutungssinn»), когда возникает вопрос (а порой и ответ): что значит это изображение, каков смысл данного образного содержания (Bildinhalt)? Ответ в данном случае заключен в Евангелии, так как данное изображение с ним связано, его иллюстрирует и к нему отсылает. Связь с Евангелием делает данное изображение образом некоторого события, точнее говоря, группы, последовательности событий, предполагаемых, но прямо не изображаемых. Поэтому помимо литературности данное изображение на данном уровне интерпретации обнаруживает и свою аллегоричность, а в целом – особый способ воспроизведения некоторого смысла – событийного, морального, сакрального. Этот особый способ и отношение именуется «образным типом», и в данном случае мы имеем т.н. «страстной образ», который отличается от более ранних типов «исторического образа» и «репрезентативного образа». Первый – применительного к Страстям – это их «хроника», рассказ, второй тип – это вневременное настоящее священных событий. Imago pietatis – это активное преодоление как исторической дистанции, так и вообще противопоставления жизни и смерти, прошлого и настоящего, а также изображения и зрителя. Поэтому очень точной выглядит формулировка «Христос предстает нам, и мы – Христу»[911]. В целом за тем или иным изобразительным типом стоит определенный тип благочестия. Крайне существенный, если не решающий момент в рассматриваемом нами типе – это его связь с визионерским опытом, с мистическим переживанием Богооткровения in visu.
Наконец, «смысл сущностный», который в данном случае подразумевает «сущность всего того, что Христос претерпел за мир, усвоенную в качестве возвышенного символа». «Жительствуя в новой временности, после своей смерти во времени Он живет ради спасения грешников». «Тем самым между нами и Христом устанавливается диалог, мы душой сливаемся с Ним»[912]. Иначе говоря, этот уровень смысла есть не просто обобщение, а скорее приобщение к всеобщей ценности. Зритель, созерцатель приобщается к этой высшей реальности, становится причастником подобного смысла. Мы можем говорить о специфической литургичности этого смыслового уровня, свидетельствующего о реальности и действенности жертвы и жертвенного самоотвержения. От предстоящего такому образу и внимающему такому смыслу тоже требуется готовность к самоотдаче, к преданию себя Тому, Кто Сам отдает Себя.
Описание подобных степеней иконографического смысла и ступеней иконографического анализа имеет продолжение в их теоретическом комментировании.
Для «феноменального смысла» важно то, что никакое не то что описание, а и просто восприятие произведения искусства как такового невозможно без предварительного помещения зрителя в контекст истории искусства, он должен быть предварительно «соориентирован в истории стиля»[913]. Чистый взгляд, незнакомый с изобразительной традицией, с правилами того, как принято было создавать изображения вещей в то или иное время, оказывается невозможен уже на первичном уровне.
Коррелятом «смысла значения» становится вся история литературы, ориентация в которой зрителя (и одновременно читателя) предполагает умение выбирать из литературного материала именно релевантные источники. И это обстоятельство пробуждает сомнения в действенности иконографического метода, его адекватности искусству: «не погребается ли произведение искусства под массой пыльных пандектов»? Не страдает ли иконография «амусическим отношением к искусству»?[914]
Теоретическое определение Панофским «сущностного смысла» Лютцелер воспроизводит полностью. И оно стоит того благодаря своей лапидарности и фундированности: «В произведении искусства совершается невольное и неосознанное самообнаружение основополагающего отношения к миру, в равной мере показательного для индивидуального творца, для отдельной эпохи, для конкретного народа и неповторимой культурной общности». Понятно, что в данном случае ограничения и коррективы вносит история духа. И вновь сомнение: не умаляется ли произведение искусства историей духа и «не превращается ли оно просто в набор парадигм»?
И наконец, венец теоретического обоснования – определение цели интерпретации, которая заключается в «усвоении и фиксации совокупности воздействующих моментов… как документации единого мировоззренческого смысла». Итак, в итоге – рождение еще одного смысла, происходящего из мировоззрения, или связанного с ним, или его обнаруживающего. Главное, что этот результирующий смысл – продукт интерпретации, причем интерпретации таких качеств произведения, которые производят воздействие на зрителя, делая это тотально, иначе говоря, совершая воздействие через «задействие», вовлечение всех человеческих способностей в опыт созерцания и сопереживания.
Возражение и возвращение
Мы несколько забежали вперед со своими комментариями Панофского, хотя у Лютцелера есть собственное мнение на этот счет, не совсем, между прочим, позитивное.
Первое, с чего начинает свой анализ теории Панофского Лютцелер, – это признание того факта, что «свои собственные требования сам Панофский так никогда и не реализовал»[915]. Сам он останавливался, как правило, лишь на втором уровне «значимого смысла», и искусство для него было не более чем «отсылкой к системе религиозной и культурной истории»[916]. Качество для него – это всего лишь эпифеномен, оно не выводится из самого процесса формообразования, наделения гештальтом. Но одновременно Панофский всегда ограничивается историческим смыслом, он не пытается даже понять, почему «образы поклонения совсем не случайно, а совершенно по праву преодолевают время»[917]. Для Панофского исключительность исторического значения оставляет сокрытым «вневременной смысл» искусства. В случае с образным типом «Мужа скорби» Лютцелер говорит о «муках всех матерей и всех их убитых сыновей», о «смирении и любви», о «сиянии человеческого величия посреди покинутости» и т.д. Это тот самый антропологический смысл, о котором уже шла речь и который еще возникнет по ходу дальнейшего разговора.
Но для Панофского ближе более простое различение иконографии как «знания об изобразительных содержаниях» и иконологии как «знания о значении содержания» (Ibid.). Это все то же различение содержания (Inhalt) и значения (Bedeutung), которое трудно передаваемо на иных языках, и потому уже в «Studies in iconology» вводится знаменитая «иконология», призванная, как нам кажется, фактически обойти стороной всяческие терминологические и концептуальные нюансы семантики, подчеркивая интуитивный и синтетический характер третьей стадии анализа.
Кстати, иконографии остается теперь довольствоваться только вторым уровнем, тогда как формально-стилистические аспекты – это уровень первоначальный. Как легко заметить, при всей внешней преемственности немецкого и английского варианта последний претендует на большую универсальность, это методология всего искусствознания, а не только смыслового подхода.
Для Лютцелера же очень важно другое: иконография должна ограничиваться именно изобразительностью – прямой (предметной) или косвенной (аллегории, иллюстрирование), тогда как иконология – это анализ семантики не-изобразительной, вне-предметной, к которой принадлежит, в первую очередь, архитектура. Именно эта исследовательская перспектива важна для Лютцелера – и для нас.
Но прежде он предпринимает попытку доказать – с помощью некоторого ряда критиков иконологии и иконографии, – что проблемы иконологии заключены в неправильной направленности этой методологии.
Первый критик – это Эрик Форсманн, указавший, что «в иконологическом методе не представлен характер произведения как гештальта и как переживания»[918]. Имеется в виду восприятие произведения как «труда художника». Этот аспект связан со «сферой интуиции» и потому исключается из иконологии, мнящей себя строгой наукой. Согласно Форсманну, для иконологии, соответственно, и «ценностный ранг» произведения – всего лишь «побочный продукт», автоматически отвергаемый при иконологических операциях, вместо того чтобы делать его предметом «методических усилий»[919]. Более того, если задумываться о том, есть ли конечные пределы в развитии искусства, то придется признать, что они достижимы именно посредством иконографических изысканий, имеющих дело с материалом за пределами искусства. Другими словами, иконография – это прямая угроза искусству…
Второй оппонент – это Лоренц Диттман, для которого сомнительное достижение Панофского – «непомерное обогащение искусствознания сведениями об образах». Возражениям Диттмана присуща известная тонкость. Иконография имеет дело только с таким содержанием, «непосредственная понятность» которого подверглась забвению. И при этом не делается попытка «заново воссоединиться» с содержанием «другого мышления», восстановить связь современного сознания с «другим» знанием, которому присуща своя «правда». То есть в иконографии (читай: иконологии) не идет речи о «мыслящем посредничестве между прошлым и настоящим». Проще говоря, согласно Диттману, содержание не принимается с той серьезностью, которая была ему присуща изначально. Диттман идет дальше, говоря, что иконография подменяет произведение искусства особыми, ею самой сотворенными «иконографическими объектами», которые суть не более чем иллюстративные экземпляры, элементы-образцы, вплетенные в сеть «всеобщих исторических процессов». Для Панофского закрыт путь «постижения в единственно подлинном смысле слова художественной составляющей» произведения искусства. Диттман не без известного ригоризма сравнивает Панофского с Вельфлиным и ставит тот же диагноз: «история искусства без имен», подменяющая художественность «способностью представления».
Лютцелер оставляет без комментария подобные весьма схожие и весьма однозначные обвинения, но они явно небесполезны для него, так как помогают перейти к наиболее основополагающему тезису, ради которого, быть может, все и затевалось: то заманчивое обогащение нашего понимания искусства, что постулировалось как «сущностный смысл», возможно не за пределами изобразительного искусства вообще, но за пределами изобразительности предметной…
Эта внепредметная изобразительность, как уже говорилось, лучше всего представлена архитектурой, но, прежде чем мы перейдем к ней (напомню: это есть и наша цель), сделаем несколько оговорок относительно иконологических триад, схем, таблиц и проч.
Первое, что бросается в глаза, – это, несомненно, переход от методологического реализма немецкого варианта к номинализму английской версии, где трехступенчатая схема характеризует именно подходы, а не свойства самого материала: не в искусстве присутствуют три типа смысла, а в науке об искусстве. Присмотримся к первому столбцу известной таблицы: существуют, например, фактическое и экспрессивное содержания (subject matter), конституирующие «мир художнических мотивов». Действительно, ни слова о произведении искусства и его восприятии, его переживании, его воздействии и т.д. Исходный материал интерпретации уже препарирован в тот или иной «мир», в который интерпретатор проникает с помощью того или иного «акта интерпретации» (второй столбец), оснащенный тем или иным «средством интерпретации» (третий столбец), по ходу корректируя себя тем или иным принципом, проверяя себя на соответствие той или иной традиции (четвертый столбец).
Конечно, остается все так же манящим и интригующим уровень «символических ценностей», иконологической интерпретации, синтетической интуиции и истории культурных симптомов. Сами эти термины выглядят крайне эзотерично, в них чувствуется легкий оккультизм немецкого философского гнозиса и магия глубинной психологии. Но совсем уже нет того, что присутствовало и в образном типе Imago pietatis, и в его восприятии: приближения к тайне самораскрытия истины, слияния со смыслом в акте упразднения временного и дискурсивного… Ведь недаром избран был для постулирования новой познавательной схемы именно тип «образа поклонения», который сам, по своей природе, требовал интенционального опыта.
А здесь уже нечто иное: череда последовательных экспрессий – формы выражают объекты или события, которые выражают темы или концепции, которые выражают «сущностные тенденции человеческого разума». И все это – под знаком «уразумения» (буквально – инсайта) той «манеры», с помощью которой и происходит выражение. И эта «манера» присутствует везде – и на уровне формы, и на уровне темы, и на уровне тенденции ума. Это не просто игра слов, это есть попытка описания идеального знания, пропускающего через себя реальность, фильтрующего эту реальность и, фактически, адаптирующего ее к условиям, как это ни покажется странным, забвения и недопонимания (вспомним Диттмана).
В то время как три типа смысла – феноменальный, значимый и сущностный – это и три аспекта художественности (внешний облик, типологическая контекстуальность, воздействие на зрителя-пользователя), и три способности человеческой психики (чувство, разумение, воление), наконец, это и степени онтологизации (перцепция, апперцепция, трансценденция). Да и сама динамика перехода, трансформации, переноса многого стоит.
А иконологическая таблица позволяет уклониться от опыта непосредственной встречи с реальностью, говоря поэтически (но не метафорически) – от предстояния живому Христу и живой изобразительности. И столь настойчивое возвращение Лютцелера к архитектуре – это обращение к реальности, в том числе и сакральной.
Иконология архитектуры или Смысл неизобразительного
Иконология архитектуры, начавшаяся, по мнению Лютцелера, с известной нам статьи 1939 года Густава Андре, представляет собой именно трансформацию традиционной иконографии, но обращенную к внепредметному искусству, и, в отличие от нее, с самого начала сопровождавшуюся «богато дифференцированной методологией» и постоянным критическим переосмыслением. Мы можем добавить, что объяснение тому – довольно позднее время рождения этого направления, когда искусствознание как таковое уже имело богатейший опыт методологической рефлексии. Этим иконология выгодно отличается от иконографии, которая, как не раз указывалось, несет бремя не совсем сформировавшейся и не очень самостоятельной науки об искусстве XIX столетия.
Подобное размежевание с чем-то более традиционным как важный признак именно иконологии архитектуры заставляет Лютцелера противопоставлять ее не только и столько иконографии, сколько хорошо нам знакомой символогии архитектуры.
Последняя, по мнению Лютцелера, характеризуется одним методологическим признаком: для нее архитектурное значение являет себя не посредством построенной (строительной) формы, а с помощью выстроенной аналогии. Поэтому симвология никогда не будет иконологией, которая одна – и это существеннейшее положение в теории Лютцелера – способна иметь дело с архитектурой как таковой, то есть непосредственно, напрямую, минуя всякого рода внехудожественных посредников, хотя бы в лице той же самой литургики. Последняя пользуется метафорами, анализируя, например, базилику, и потому выявляемый ею смысл может возвышать душу (быть «erbaulich»), но происходит он не из самой постройки (он не является «baulich»).
Метафоры сопровождают символогию при анализе, например, нефа и хора базилики (продольная ориентация как «корабль спасения», противопоставление хору как месту клириков и лаиков). Это все не удовлетворяет Лютцелера. «В действительности», указывает он, за всем этим стоит определенная концепция сакрального пространства (императорский зал приемов и дворцовых церемоний) или просто богословская концепция (восточная ориентация как отсылка к Христу как sol salutis et sol invictus и т.д.).
Зато при толковании портала симвология «приближается к иконологии»: ведь здесь обнаруживается смысл самого момента вхождения и исхождения – прохождения сквозь эту архитектурную форму; смысл рождается при использовании и переживании этого пространственно-объемного элемента (пребывание на пороге «Евхаристической мистерии», приобщение к ней или воздержание от нее). Другими словами, критерий верного толкования – задействованность форм в происходящем (в данном случае – в священнодействии), а признак хорошего интерпретатора – включенность в переживание форм, а фактически – все того же священнодействия. Это нам напоминает ситуацию с образным типом «imago pietatis»: значение рождается при осмыслении опыта воздействия архитектурных форм, переживание их и посредством их – приобщение к некоторому источнику смысла, его откровению (см. Приложение II нашего исследования. – С.В.).
Потому-то Лютцелер и говорит, что «иконология архитектуры формирует собственное отношение к строительному искусству», весьма отличное от традиционных способов взаимодействия с архитектурой.
Эти способы всем известны: изучение строительной техники, история строительства, морфология, монографическое исследование и история стилей. «Во всех подобных способах рассмотрения архитектура ведет себя… как лишенная дара речи, она может вызывать удивление, но непосредственно говорить со зрителем способна едва ли; иконология архитектуры размыкает ей уста, так что отныне она сама обращает к нам слова, обладающие самым разным значением»[920].
Подобные разнообразные значения характеризуются тем свойством, что они привязаны к постройке как целостности, они присущи ей имманентно. Благодаря усвоению нами подобных значений постройка «входит в новый круг архитектонической действенности»[921]. Архитектура обретает тем большую «проникающую способность», чем больше вложено в нее в процессе создания сил и фантазии.
Весьма тонко и умно Лютцелер замечает, что существует так много хороших исследований по иконологии архитектуры по той простой причине, что подобные интепретации уже не рассматривают постройку как внепредметный «набор отношений», а стараются с помощью архитектуры «возвестить знание о Боге, человеке, мире»[922].
Весьма показательно в этом отношении, что, приводя примеры иконологических исследований архитектуры, наряду с текстами Гюнтера Бандманна Лютцелер приводит и тексты хорошо нам известного Краутхаймера. И он квалифицируется именно как иконолог, а не как иконограф по той причине, что в его исследованиях факт зависимости раннехристианских крещальных храмов от мавзолеев предстает не какой-то «мертвой примечательной чертой» – одной из многих, случайно сохранившихся в истории. «Иконология открывает, что подобное непонятное “влияние” реально содержит в себе экзистенциальный выбор, в котором ощущается дыхание истории»[923]. И точно так же для иконологии уже в лице Бандманна понимание вертикальных – небесных – направлений в структуре средневековой церковной постройки как способа переживания Вознесения не есть простой случай: в этом заключен «космологический опыт человечества»[924]. Совпадения превращаются в смысл благодаря иконологическому усилию, содержащему в себе все тот же экзистенциальный выбор.
Тем не менее иконология разделяет с иконографией все ее особенности и проблемы. Специфическое – наличие все тех же трех «фаз» исследования – смысл феноменальный, значимый и сущностный или доиконографическая, иконографическая и иконологическая стадии. Да и проблемы у нее с иконографией общие: отвержение отдельного произведения в пользу «групповой интерпретации», равнодушие к «художественному формообразованию», неспособность «суждения о художественном ранге».
И насколько иконография вкупе с иконологией не способна оценить искусство как таковое, настолько она в силах соединить его с «внехудожественной историей». Иконография и иконология перекидывают мосты между искусством и историей. Представители иконографии и иконологии «в меньшей степени историки искусства, они больше представители искусства истории», умеющие из искусства вывести науку истории.
Так, собственно говоря, и постигается «комплексный феномен искусства», которое есть не только воплощение и наделение гештальтом, но и отражение и толкование исторического события. Так эти дисциплины оказываются «между историей искусства, историей повседневной активности и историей культуры»[925].
Типы значения и конгруэнтность смысла и формы
Наиболее наглядные и впечатляющие образцы иконологии архитектуры в сопровождении традиционной истории искусства являют Гюнтер Бандманн и Ханс Зедльмайр. Эти авторы достойны отдельных изысканий, поэтому очень кратко упомянем главные моменты их подходов, чтобы сосредоточиться на комментариях самого Лютцелера.
Самое важное у Бандманна – это, конечно же, его теория трех типов значения, имеющая в своем основании теорию самого значения. «Значение» Бандманн четко отличает от «художественного смысла» и «содержания», которые «возникают каждый раз заново вместе с самой формой»[926]. В отличие от них, «значение» имеет априорный характер, ибо указывает на «вышестоящее содержание, на смысловой контекст». И далее: «когда говорят, что произведение искусства имеет значение, то тем самым предполагают отсылку к чему-то такому, что выходит за пределы материальной и формальной организации произведения… Область художественного оказывается позади, когда произведение искусства воспринимают как сравнение, как замещение, как материальную эманацию Другого…»
Таких иных областей, на которые может даваться ссылка с помощью художественного произведения (например, архитектуры), существует, по крайней мере, три: область символического, эстетического и исторического. В частности, последний – исторический – тип значения имеет в виду все формы рецепции архитектурных форм, то есть помещение или, лучше сказать, перемещение, перенос их «в нередко чужеродные им культурные контексты». Причем делается это на немалых временных и пространственных расстояниях.
Но, повторяем, Бандманн требует более детального обсуждения: за типами значений стоят типы сознания, чувствования, переживания, мироощущения, поведения и т.д., что крайне важно в перспективе антропологического расширения искусствознания.
Зедльмайр не менее фундаментален в своем различении собственно изобразительных («отобразительных») возможностей архитектурных форм и возможностей их применения в аллегорических или, точнее говоря, в аллегоризирующих целях. Между прочим, Лютцелер не жалеет места в своей книге для воспроизведения текстов именно этого историка искусства, видимо, довольно близкого ему по духу и убеждениям.
Отобразительные, репрезентирующие возможности архитектуры прямо связаны с ее сакральными функциями, с мифологической космологией, где используются многочисленные образы, имеющие, так сказать, обратную связь с архитектурой и геометрией, что и облегчает архитектуре задачу служить, фактически, иллюстрацией, наглядным воспроизведением соответствующих образов и символов (земля, дерево, мир как дом, небо как полусфера и т.д.), за которыми стоит, как весьма точно замечает Зедльмайр, «космически понятое пространство, где обитает действующее во всецелом мире божество»[927].
В целом же отобразительные возможности сакральной архитектуры определяются двумя «тематическими кругами». Во-первых, архитектура способна представлять потусторонний мир, прежде всего – Небо, связывая его с Землей и делая это самыми разнообразными средствами. И все оттенки значения «пронизывают и перекрывают друг друга». Во-вторых, архитектура способна воспроизводить мир или космос, имея в виду самые различные мифически-космологические представления.
Но подобной прямой «конгруэнтностью» архитектурных форм и мифологических образов смысловой потенциал архитектуры не ограничивается. Конгруэнтность в данном случае означает взаимообратимость фактически двух медиумов – вербально-литературного и визуально-архитектурного – перед лицом единой и универсальной, в буквальном смысле слова основополагающей образности мифологически-религиозного порядка (или сверхпорядка). Подобная иллюстративно-репрезентативная функция предполагает подчиненную, служебную роль архитектуры, ее зависимость, производность от значения.
Зедльмайр задается вопросом: возможно ли даже не просто сосуществование архитектуры и значения, а их функциональная взаимная необходимость? Такое возможно в случае использования аллегорического метода обозначения смысла, что выявляется Зедльмайром в его знаменитом анализе фасада венской церкви Св. Карла Борромео.
Самый существенный результат этого воистину блестящего анализа – выявление не просто аллегорической многозначности, а способности архитектурных форм вмещать в себя и актуализировать всю эту «аллегорическую полифонию», так что подобные значения не просто мыслятся, но и наглядно наблюдаются и переживаются. Как всегда, Зедльмайр выражается предельно емко: «Внутри и позади этой формальной красоты – которая сегодня выглядит изолированной и опустошенной, как незанятый саркофаг – открываются во взаимной игре, непредвиденно широкие горизонты образного и мыслимого, но вовсе не незримого»[928]. Это обстоятельство, добавим мы, значит только одно: архитектура имеет возможность являть истину в ее несокрытости как горизонт и мыслей, и чувств, и переживания, и проживания – жизни во всех ее аспектах.
Итак, существует явление аллегоризма как особого проявления или, можно сказать, «поведения» смысла, где очень важны способы обращения с ним со стороны тех, кто его использует. И способов обращения с аллегорическим смыслом Зедльмайр – вслед за Андре Шастелем – выделяет два: риторический (Шастель именует его аристотелевским идеалом оратора) и поэтический (платоновский идеал поэта). Иначе говоря, аллегории могут быть риторической и поэтической модальности. При этом архитектура, по мнению Зедльмайра, всецело принадлежит риторическому модусу, когда соблюдаются правила использования соответствующих топосов.
В любом случае существуют и художественные, и внехудожественные аспекты аллегоризма, который настоятельно требует своей обязательной реабилитации именно как механизм взаимодействия гетерономных реальностей.
Наивность и метафизика
Лютцелер припас и выложил свои комментарии, в первую очередь к Зедльмайру, под самый конец посвященного иконографии раздела. Можно сказать, что это и есть его личное завещание в отношении смыслового анализа архитектуры. Так что будем достаточно скрупулезны в анализе его собственного текста. Серьезность намерений Лютцелера становится понятной уже по тому, что именно здесь мы встречаем прямую ссылку на его учителя Макса Шелера, всегда напоминавшего, что естественный человек ближе к метафизике, чем представитель специализированного знания[929]. Наивный вопрос звучит так: человеческая жизнь так коротка и так важна, стоит ли заниматься всеми этими владыками, возводившими себе резиденции и храмы? «Иконология со всей очевидностью остается всегда позади восприятия искусства». Вопрос метафизический, точнее говоря, «экзистенциально-онтологический» выглядит следующим образом: не ведут ли иконография и иконология к историзации искусства, не похищают ли они у искусства все то, чем оно на нас действует? «Сверхвременной смысл угасает».
Ответ на этот невеселый вопрос заключается в том, что над подобной историзирующей иконологией возвышается «иконология первичных человеческих феноменов». Это предполагает, как образно выражается Лютцелер, «уравнивание мавзолея и баптистерия или обновление ветхого человека Божией силой, смерть как воскресение и смерть и воскресение как опыт уже этой жизни»[930].
Вот образцы подобной иконологии, к сожалению, представленные в виде беглого перечисления: «символы мира как целого» – вавилонская башня, египетский храм и барочный дворец; «излучение творческой веры из бесконечного времени в бесконечное время» – обелиск Св. Петра в Риме; «человек между восхождением и низвержением, между Богом и демоном» – обращенные к Небу векторы церковного здания. «Это не просто куски истории… То, что удерживают в себе произведения, принадлежит человеку как таковому»[931].
Поэтому-то в иконологии архитектуры вырисовываются два направления: «от произведения удаляясь – в сторону историзации, от произведения отталкиваясь – по направлению к основополагающим человеческим впечатлениям». В первом случае произведение соскальзывает в историю, во втором – раскрывается неизменно Подлинному»[932].
Обе познавательные формы «трансцендируют произведение» – первая в сторону исторического, вторая – в сторону сверхисторического: «произведение или сужается до документа события во времени, или расширяется до истока и сердцевины всего человеческого».
Лютцелер добавляет, что вся эта проблематика до сих пор не осмыслена знатоками иконологии, не видящими разницы между историчностью и «протофеноменальной силой художественного творения». Действительно, добавим мы, то, что предшествует истории, не может ею быть, но может за ней скрываться.
Но точно такая же структура сокрытия и одновременно просвечивания незримого сквозь очевидное, наглядное и, казалось бы, доступное характеризует всю ситуацию с архитектурным смыслом и архитектурной формой: мы говорим вслед за Лютцелером о первичности внепредметного, прафеноменального, внеисторического и т.д. Но за этим на уровне формы стоит и первичность плоскости, геометрии, что позволяет и делает необходимым обращение к области орнаментального. Важно, что, делая это, Лютцелер обеспечивает себе и переход от содержательного к формальному, что, конечно, вполне разумно.
Орнаментальное и иконологичное
Лютцелер прямо говорит, что достижение именно иконологии – прорыв сквозь «терминологической непроходимости» слов «орнамент» и «декорация» и «открытие полноты человеческого бытия там, где большинство видело лишь украшение»[933]. Действительно, для одних орнамент – это только «форма убранства», для других – «преступление», для третьих – дополнительное средство атрибуции, для четвертых – вообще способ «затуманивания» стилистических понятий («орнаментальный или декоративный стиль»).
Интересна психологическая точка зрения, обнаруживающая в орнаменте нечто за пределами содержательного как такового: глубинные слои личности, зону Оно, где в противопоставлении направлений, ясности и затемненности, цветов, тенденций, движений вверх и вниз, диагоналей и равновесий пробуждаются «первозданные стороны нашего существа». Но эти заманчивые мотивы и перспективы для Лютцелера лишены всякого итереса только потому, что в них не остается места символическому пониманию орнамента и, следовательно, его социальному функционированию… Несколько спорное суждение, ведь для того же психоанализа область Сверх-Эго – это одно из измерений бессознательного, то есть социального, культурного, мифологического и религиозного, иными словами, имперсонального и как раз символического. Главное, видимо, в другом: психология остается в области гетерономного постижения искусства, то есть, даже и не постижения, а использования в своих целях.
В чем же смысл иконологического прорыва в понимании орнаментального? Прежде всего в осознании смысла функционирования орнамента, будь то первобытная татуировка (символизация жизненных состояний, связь с нуминозным), древнеегипетская раскраска мебели (отсылка к потустороннему ложу Ра, победителя смерти), полихромия античных триглифов (опознавательный знак жилища божества), имитация материала в романике (признак природных свойств), натуралистический декор готических храмов (приближение к Богу через верность Его творению), иллюзионизм драгоценных облачений у Ван Эйков (зримое свидетельство достоинства и величия Бога Отца), ренессансные ордерные или флоральные мотивы (косвенный образ античности и непосредственное проявление дионисийства), барочные занавеси и драпировки, скрывающие самые разнообразные вещи (средство выделения пространства и его наделения сакраментальным смыслом как места жертвоприношения, посвящения и освящения).
Как удачно выразился Лютцелер, орнамент при таком взгляде – не предмет рассмотрения, а средство усмотрения. Орнамент – не случайная акциденция, а неустранимая субстанция «сущностной осмысленности». Орнамент – «средство воздействия на человеческий круг в определенной ситуации и с определенными целями»[934].
Иконология в толковании орнамента открывает «жизненность всецелого человека»: его природу, Бога и зло, дружбу и вражду, историю, настоящее, миф, идеальность.
Но главное, таким способом «ставятся на место» две весьма устойчивые и влиятельные художественные теории: искусство для искусства и натурализм, которые оказываются теперь всего лишь незначительными аспектами искусства как такового, – способного и преображать природу, и уподобляться знаку.
Подобная крайне специфическая символико-трансформационная функциональность орнамента содержит и нечто универсальное и типическое. Можно сказать, что орнамент свидетельствует о существовании некоторой вне– или лучше сказать сверхпредметной организации целого, которая вовсе не сокрыта внутри, в недрах произведения, но всячески наглядно себя демонстрирует, являя одновременно и тот факт, что в ней заключено некоторое вполне предметное содержание, выступающее таковым в буквальном смысле слова (то, что содержание содержится, может быть вовсе не очевидным, и это не есть плеоназм).
Мы, помимо этого буквального, предметного, то есть «содержащегося содержания», воспринимаем и переживаем, в том числе и эмоционально-непосредственно, смысл функционирования подобной структурно-гештальтной (потому что наглядной) организации. Этот смысл – предельно универсальный – можно описать понятиями «вмещение», «обрамление», «ограничение» и т.д.
Но не только таким способом. Более конкретный смысл обнаруживается при анализе двух крайне фундаментальных внепредметных форм предметного (и сверхпредметного) содержания – алтарного триптиха и Евхаристической чаши. Рама и сосуд – что может быть абстрактнее? Но осязаемость и, главное, четкое функционирование этих абстрактных форм делает их предельно конкретными.
Лютцелер обсуждает всю подобную проблематику на примере двух изысканий, касающихся триптиха и литургического сосуда-чаши, которые в некотором смысле суть одно и то же, а именно – приспособления, убранство (то есть декорация) алтаря, который, что крайне важно, тоже представляет собой вместилище, но уже пространственно-трехмерное.
Клаус Ланкхайт, исследователь триптиха[935], видит в нем не только принцип организации сакральной образности, но и способ организации почитания этой образности, что заключено уже в самом тройном членении, где есть центральная часть и есть обрамляющие и поддерживающие ее боковые элементы. Это форма группировки, концентрации и поклонения как такового. И такого рода «форму» Лютцелер вполне справедливо называет «базовой интенцией», а Ланкхайт – вслед за основателем иконологического метода – «формулой пафоса», где пафос – способ («форма») проявления некоторого состояния как чувств, так и мыслей в их неразложимости и единстве (единомыслии и «единочувствии» христианской общины). Эта «формула» вполне независима от конкретного содержания, что видно при сугубо историческом прослеживании ее функционирования в разные эпохи (от средневековых ретаблей, через босховскую секуляризацию, если не демонизацию, через трехчастность как уже композиционную «форму умолчания», безмолвного поклонения Незримому у Фридриха и к ее ресакрализации у Бекманна, превращающего триптих в способ упорядочивания и драматизации «бытийственного опыта»). Триптих в общем и целом наделяет внешним обликом такие состояния и переживания, которые можно описать как «переступание границ абсолютного»[936]. И воистину трагическое, хотя и показательное, обстоятельство – отказ от триптиха со стороны церковного здания как такового, предпочитающего в XX веке «чистый Престол». Христианский культ отвергает, казалось бы, вполне заслуженный и освященный традицией способ организации священного материала, ибо он (этот способ) осквернен «псевдомифологиями, человеческими легендами и всякого рода исповеданиями прометеевской веры»[937].
Все вышеописанное и есть иконология в чистом виде. История искусства ее предваряет, исследуя типы триптиха и их последующее существование, не касаясь «внутреннего веса» подобных процессов. А внутри этих процессов заключены «побудительные импульсы истории и человека»: проект и попытка, замена исконного смысла, опустошение смысла и его имитация, демонизация священного и отказ (от всей предыдущей цепочки) в акте катарсиса-очищения. И все эти в общем-то онтологизирующие моменты, повторяем, находятся в ведении иконологии.
Но чтобы оценить масштабы подобной онтологизации, следует обратить внимание на нечто уже, казалось бы, совсем незначительное в своей малости и конкретности – на форму и назначение Евхаристической чаши.
В данном случае Лютцелер следует за «достойным подражания» исследованием Виктора Эльберна, посвященным чаше св. Лебуина (нач. IX в.)[938], сделанной из слоновой кости и покрытой орнаментацией, имеющей четкое архитектоническое членение по вертикали на плинф, базис, капители и архитрав. Получаются, по мысли исследователя, составные части потенциального храма, реконструкция которого позволяет говорить о его круглой форме. Более того, сходные толосы встречаются в тогдашней книжной миниатюре и представляют собой символическую аббревиатуру «источника жизни» вообще и Гроба Господня в частности («источник нашего воскресения»). И ему «идентичны по смыслу» все прочие архитектурные мотивы, в том числе, например, и тип баптистерия. А если учитывать часто встречающуюся растительную декорировку, то возникает и прямая отсылка к «всеобщему смысловому пространству райского сада»[939].
Самое же в данном случае приницпиальное то, что Евхаристическая чаша не просто сравнивается с вышеуказанными вещами – она им идентична как «носитель сверхземной действительности». При этом надо помнить и о патене с Пречистым Телом, водружавшейся на чашу со Св. Кровью. Собственно, патена – это Гроб, а в чаше собирается излиянная за мир Св. Кровь, так что в целом получается (слова Эльберна) «мистически-реальное отображение дарующего жизнь Гроба и узреваемого в нем источника жизни, явленной в Св. Крови, благодаря которой людям вновь даруются райские реки милости»[940].
Итак, форма в сочетании с декорировкой дает выход из области художественной реальности в реальность, к которой может принадлежать зритель или к которой он может приобщаться. И все подобное, повторяем, познается иконологически[941].
Разные типы и степени реальности как бы стягиваются воедино в одном месте, обозначенном определенным орнаментом. Можно ли это «место» считать все еще сугубо художественной целостностью или мы уже пребываем за пределами искусства?
Так иконология ставит крайне принципиальный вопрос о том, что такое художественное творение, каковы его признаки, каковы его границы и каковы средства его обнаружения и утверждения – или расширения и преображения.
Иконологические границы художественного
Основы рассуждений на подобную тему – тексты Дагоберта Фрая[942], чья главная идея – «подобно творческому, символическое тоже весьма определенно переступает пределы художественного». Символу не обязательно быть произведением искусства, которое способно, в свою очередь, действовать как символ благодаря смысловым контекстам, которые или вовсе, или отчасти расположены вне художественного. Именно потому, что мы можем занимать позицию, не подчиненную произведению, мы имеем возможность рассматривать его не только как чисто эстетический объект, но и во всецелом круге его внеэстетических связей. Только так оно становится постигаемо как исторический объект и как целостность. «Нуминозные, магические, религиозные, политические, правовые, социальные смысловые контексты, в той или иной мере связанные со всяким произведением искусства и определяющие, в том числе и нехудожественным способом, его смысловое содержание, постигаются не как простые акциденции, но как сущностные признаки, необходимым образом принадлежащие целому»[943].
В общем-то, за определением произведения искусства стоит определение способов взаимодействия формы и значения. Причем, как правило, значение прямо использует форму как «средство передвижения», как способ проникновения в историю. Можно насчитать, согласно Лютцелеру, пять видов взаимодействия:
1) значение в сугубо нехудожественной форме;
2) значение в противоречащей искусству форме;
3) форма как простое основание более «значительного» значения;
4) нарушение единства формы из-за «безоглядного продвижения» значения;
5) полное переоформление значения.
Но в любом случае – и это момент принципиальный – значение в обязательном порядке выходит за пределы формы, так как оно «всегда остается самодостаточным и принадлежащим собственному существованию»[944].
Что же располагается за пределами формы? Оказывается, в первую очередь – история, с которой у иконологии свои, порой довольно необычные связи. Главное то, что и из истории следует уметь выбираться как раз с помощью иконологии, чтобы суметь выстроить правильный и прямой с ней (историей) контакт, обнаруживая посредством толкования «нечто исключительное, соприкасающееся с самыми корнями человечества».
Лютцелер завершает свои наблюдения и размышления воистину основополагающими формулировками: «иконологию можно оценивать в правильном ключе лишь тогда, когда на нее не давит понятие искусства. Подчинение значения искусству не характерно ни для Ренессанса, ни для барокко, ни для классицизма. Ведь искусство – это не только искусство, но и запечатленная и запечатлевающая история…»[945]. И в подтверждение это высказывания – вновь ссылка на «блестящие дефиниции» Дагоберта Фрая.
Монумент и власть
К этим определениям Фрая Лютцелер позволяет себе добавить и свои собственные формулировки – крайне выразительные и, фактически, итоговые для темы архитектуры. Взяты они из книги «Мировая история искусства» (1959), где термин «мировая история» не есть синоним «всемирной истории», так как здесь имеется в виду «мир» в онтологическом аспекте как содержание и горизонт бытия, открывающегося, в том числе, и посредством искусства. Таким образом, промежуточный итог рассуждений на тему архитектурного значения звучит нескрываемо феноменологически, что не может не радовать. Кстати говоря, подобная «мировая» тема находит свое отражение и развитие и при обсуждении «формы», представленной в следующей после «Мотива» главе, где тема «стиль и религия» обсуждается на основании другой книги Лютцелера – «Основные стили искусства». «Основным» в данном случае именуется то, что является основанием, фундаментом, фактически – религиозное чувство, культ, способы взаимоотношения с трансцендентным и Божественным.
В данном же случае, в продолжение разговора о возможностях и границах иконологии, Лютцелер прямо связывает общую изменчивость исторического с необходимостью существования некоторых констант. «Формы возникают и уходят. Стили меняются. Даже мотивы, несомненно обладая большей продолжительностью жизни, чем формы и стили, <…> внутренне связаны с временной последовательностью, задающей контексты»[946]. Константы же – это, например, конструктивные формы горизонтального перекрытия и купола, типы образности (например, культовая статуя или культовая постройка, посредством восходящей вверх лестницы обозначающая гору).
Но есть, так сказать, сверхконстанта – монумент (das Mal)[947], предельно универсальный смысл которого заключается в том, что он представляет собой «пластическое сгущение всеобъемлющего человеческого переживания»[948]. Лютцелер прямо говорит об «открытии облеченных в гештальт первичных феноменов». И этим открытием, не скрывает Лютцелер, мы обязаны именно иконологии, и больше никому и ничему.
Остановимся достаточно подробно на основных параметрах монумента. Крайне важно, что Лютцелер перечисляет и описывает их в терминах власти. С учетом того предельно серьезного и торжественного тона, которым отличается данный текст, и той степени подробности и обширности всех дефиниций (напомним, что это малая часть целой книги), можно сделать вывод, что мы приближаемся к сердцевине собственной теории искусства Лютцелера.
Итак, вот эти измерения монумента. Их всего шесть, и попробуем проследить логику повествования Лютцелера, чтобы все-таки предложить под конец некоторые собственные комментарии.
Во-первых, монумент – это Божественная власть, явленная, например, израильтянам в пустыне в виде огненного столба[949]. То же самое можно сказать и о микенской цивилизации, и о древних арабах, и об архаических культах древних греков с их четким представлением, что именно в колонне, в вертикальном столбе осуществляется эпифания лишенного образа божества (того же фиванского Диониса, дельфийского Аполлона, аргивской Геры, Артемиды с Патроса).
Важно то, что и народы доисторические знают подобную форму монумента – менгир.
Во-вторых, монумент – это космическая власть. И опять отсылка к Св. Писанию и повествованию о патриархе Иакове, которому, уснувшему на камне, во сне явилась небесная лестница: «камень превратил Небо и Землю в единую ось». Камень был утвержден в качестве жертвенника (то есть монумента).
То же самое можно сказать и о пагоде, и об обелиске. Вообще всякая башня есть «корректура преднайденного ландшафта с помощью геомантики, то есть с использованием сил земли». Башня «низводит на данную местность освящающий момент высоты, она как земное воплощение благодатных небесных светил»[950]. Точно так же и всякий обелиск – это среднее звено между Небом и Землей. Точно так же и уничтоженный Карлом Великим Ирминсуль в верованиях германцев – мировой столб, поддерживающая Небо над Землей. Понятно, что дерево как материал – это отсылка к Мировому древу как образу мироздания.
Важно, что и доисторические народы знают священный характер входа в жилище, вмещающего полноту земного и небесного, явленную в поддерживающих вертикальных опорах.
В-третьих, монумент – это власть мертвых. «От богов до мертвых – один шаг. Те и другие властвуют и господствуют под покровом тайны. Мертвые обеспечивают живым власть и знание, но при одном решающем условии – если вместо их утраченного тела им приготовят новый, преодолевающий временность облик, «исключающий тлен». И это все тот же менгир, являющийся в данном случае уже телом умершего. Кроме того, существенно то обстоятельство, что камень стоит вертикально. В этом заключен «пафос устойчивости».
Умерший вблизи общины живых обретает покой и может благодаря переданной ему камнем длительности существования осуществлять свою власть вплоть до возвращения жизни тем, кто с ним связан. Подобная «деятельность умершего» тем явственнее, чем больше его почитание концентрируется в одном определенном месте. «Поля менгиров означают сгустившуюся власть припоминания». Мертвые могут наставлять живых, в связи с чем Лютцелер позволяет себе игру слов: «Так места упокоения мертвых (Rastplätze) становятся местами увещевания (Ratsitze) живых»[951]. В этом заключается всякая культовая активность, связанная с менгиром (возливание масла, украшение венками, возжигание светильников): «преображают камень, дабы соединиться с духом»[952].
И христианству тоже знакомо использование каменных столбов при кладбищах (например, т. н. светильники мертвых в местечке Фенуа, близ Олне, во Франции). Назначение этих довольно замысловатых сооружений (высокий башнеобразный столб, образованный пучком колонн и увенчанный некоторого рода беседкой-колоннадой под высокой кровлей) – привлечение с помощью возженных огней бесприютных заблудших душ умерших и их «привязка» к каменному столбу. В нем они могут поселиться (хотя бы на время праздника Ивана Купала, с которым и связан этот обычай). То есть менгир, скажем мы, как своего рода маяк – но для гибнущих в море незримого, в волнах бестелесности и в пучине беспросветности…
Несколько блекнет менгир как «каменное тело умершего» в практике установки надгробий и стелл: функция менгира в данном случае уже совсем обнажена, и менгир выглядит, так сказать, «остывшим».
В-четвертых, монумент – это власть жизни. «Власть менгира как Божественной силы, как мировой оси и как месторасположения мертвых с трех различных сторон обозначает его власть, связанную с сохранением и распространением жизни. Камень не мог бы так долго жить, если бы он не заключал в себе безмерную жизнь»[953]. Поэтому к камню можно прикасаться больным и бесплодным, его можно обходить кругом, добиваясь новых сил. Обратим внимание, что с менгиром обращаются, как с непроницаемой массой, с ним не соединяются, не сливаются, а только соприкасаются – с его поверхностью или приближаются к нему – обходя вокруг. Последнее действие – это переживание размерности, спроецированной опять же на поверхность, но уже земли[954].
Главное, что менгир может порождать образность, давать жизнь изображению. И совершается это в несколько, так сказать, приемов, точнее говоря, актов. «Сила жизни способна выходить из каменного монумента вовне в виде некоторого образа» (gestalthaf). «Сила жизни может также в оформленном виде (gestaltenhaf) в самом менгире становиться зримой». Заметим, что гештальт в данном случае – это сам выход силы!
Тем самым намечается путь к круглой статуе, лучшее воплощение которой в данном контексте – это, конечно же, кариатида. Ее главнейшая задача, с точки зрения Лютцелера, – служить выражением «священного служения», «в акте свободного выбора нести как ношу то, что расположено выше»[955].
Готические статуи XII века, в свою очередь, не скрывают своей связи с кубами и столбами, которые есть элементы архитектуры, так что статуи соответствующих форм обозначают свое желание быть частью некоторого сверхцелого – являться теми камнями, из которых созиждется Небесный Иерусалим. Это «человеческий вздох пред лицом Божия Царства». «Не человеческое самовластье открывается здесь как сущностное свойство, а его колебание в спасительном ритме экклесии».
И вновь указание на «традицонные культуры», где нередка символика главной опоры дома как образа человека (если опоры две, то, соответственно, слева – мужская, справа – женская).
В-пятых, монумент – это власть царя и закона. «Мы остаемся в окружении великой, Божественной жизни, когда осознаем монумент как знак царя или как символ права. Король выступает в ранних культурах как податель Божественной жизни, как сын Божества и священник-жрец, да и закон был тоже священной властью, а не только суммой предписаний»[956].
Монумент обозначает величие и власть владыки, начиная с рельефов царских врат в Микенах и вплоть до колонны Константина Великого и его гробницы в церкви Двенадцати апостолов (12 колонн в форме креста окружают само погребение императора подобно страже, обозначая одновременно и собственно апостольскую власть Церкви). То же самое использование колонны молжно наблюдать и в различных способах обозначения мест законодательных и судебных.
И в данной сфере монумент тоже способен или соединяться с образом, или в него полностью превращаться (и пограничные столбы Саргона, и стелла Хаммурапи, и римские «колонны Юпитера»).
Наконец, монумент – это власть истории. «История тоже обладает могучей силой: кто в нее войдет, тот переживет собственную смерть. Что содержится в воспоминании, то и воздействует…»[957].
Колонна как поддержка исторической памяти и обеспечение славы являет себя в различных формах: и как напоминание о вкладчиках тех или иных святилищ (например, дельфийских), и как запечатление побед (Ника Пеония), и как надгробия, напоминающие о заслугах умерших, и как повествования о подвигах и достижениях исторических личностей ли Самого Бога (римские триумфальные колонны, колонна в церкви Св. Михаила в Гильдесгейме, барочные статуи Мадонны на пьедестале-колонне). Царь Ашока устанавливает в середине III века до Р. Х. на границах своей империи тридцать 10-метровых колонн, а Харальд Голубой Зуб в конце X века по Р. Х. в Руненштайне, близ Йеллинга, использует древний менгир для памятника своим родителям – Горну и Тире…
Заметим, что тема исторической власти монумента – наименее развернутая, что, быть может, объясняется тем, что весь текст Лютцелера – тоже своего рода монументальное свидетельство власти истории, но уже искусства.
Тем не менее в конце этого важнейшего раздела одной из важнейших глав можно видеть некоторую сумму всех наблюдений за монументом. «Все, что значимо для человека, собрано в монументе: космос, божество, мертвые, жизнь, власть и право, события истории. В монументе представлена всеобъемлющая антропология. Но, насколько выразительны эти знаки, настолько они остаются всего лишь знаками – указаниями на numen, tremendum, fascinas, potestas, eventum и memoria. В качестве указателей они отсылают непосредственно к самой вещи, высвобождают ощущения и мысли, укрепляют поведенческие установки, собирают воедино и уплотняют переживания. Порой это происходит в выдающихся художественных формах… Но тем не менее, художественный ранг не обязателен: достаточно обеспечить воздействие монумента как такового, поэтому достаточно сокращенных символов, простых надписей, столбов-опор или камня побольше – то есть или никакого искусства, или искусства поменьше. Эти обстоятельства распространяют проблематику науки о мотивах до предметной области мировой истории: эта дисциплина должна расширяться до искусства, не-искусства и антиискусства»[958].
Тело монумента и опыт тела
Спрашивается: отчего у монумента такая воистину магическая власть и над миром, и над человеком, и над знанием? Какой силой он одновременно и расширяет границы, и уплотняет очертания, соединяет Небо и Землю, живых и мертвых, владык и рабов, прошлое и настоящее, указывая всему место и выводя за пределы привычного существования? Вопросы настолько монументальны и фундаментальны, что никакой методологии и теории искусства с ними не совладать. Сама эта проблема есть всего лишь знак-указатель, направляющий взоры в сторону онтологии и метафизики, экзистенциально-феноменологической аналитики бытия и интенциональности.
Все это не так страшно, как может показаться неиспорченному взгляду историка искусства, более того, именно углубление в проблематику архитектурной семантики делает эти области знания предельно актуальными и единственно спасительными для архитектурной эпистемологии, а значит, герменевтики. Просто всему свое время, и мы пока остановимся исключительно на чистой феноменологии монумента в его телесности.
Главное в монументе – это его полная неуловимость с точки зрения хотя бы видовой принадлежности: он и архитектура, и пластика одновременно, он и абстрактен, и изобразителен, он и природен, и художествен. Он и нуминозен, и антропологичен.
Чем обеспечивается подобная универсальность? Видимо, самой формой монумента, его обликом, точнее говоря, конечно же, его гештальтом, за которым стоят самые решающие установки и ориентации человека. Монумент – это явленная телесно вся совокупность отношений, связей человека и того, что им не является. Но только связь, только функция.
Уже говорилось, что монумент непроницаем: это означает и недоступность его внутреннего состояния, и отсутствие такового. Внутри себя монумент – нерасчлененная масса, чистая материальность, еще не ставшая телесностью хора-кормилица. И потому-то это облик-гештальт внешнего в его состоянии до встречи с человеком или даже Логосом. Поэтому понятно, почему так важна и сущностно неизбежна его связь с землей, с поверхностью, а также его функция возвышения, трансцендирования. Впрочем, за этим может стоять и символизация пережитого опыта и его возобновление, повторение.
Принципиальный момент – это всеобъемлющий символический характер монумента: он включает практически все аспекты, измерения человеческого бытия, но взятые под одним определенным углом, которым является сила. Поэтому монумент – это претерпевание воздействия власти, силы воздействия, которая не может быть усвоена, принята как свое и потому она отчуждается, становится чем-то внешним – и только так выносимым. В двух смыслах слова: выносимым как переносимым, претерпеваемым и выносимым – в смысле полагаемым вовне, вне собственного человеческого бытия – как личного, так и коллективного. Впрочем, последнее измерение – коллективное – в своем роде сродни монументу, и потому, созерцая монумент и вступая с ним в общение, человек может узревать и себя – но в интегрированном, сверхиндивидуальном измерении, в аспекте приобщения через общение, опыт причастности как части.
Поэтому так хочется сблизиться с монументом, приблизиться ко всему тому, что он являет: так мы оказываемся буквально в преддверии архитектуры – на пороге преодоления монумента через обнаружение самой возможности оказаться внутри и слиться, поглотиться всем тем, что прежде воспринималось извне. С появлением потребности и возможности открыть в монументе его проницаемость, внутреннюю пустоту, скрытое отсутствие, узнать в монументе вместилище, емкость, сосуд – и сокрыться в нем или слиться с Тем, Кто в нем, – вместе со всеми этими состояниями и переживаниями рождается и возможность сакральной архитектуры, точнее говоря, потребность и желание распространить опыт жилища, обитания на трансцендентное, властное и неизбежное.
Следующий, или параллельный, шаг – отождествление собственной телесности с телесностью (открытой и пережитой) монумента: возможна перспектива не только вхождения в монумент; проникновение в него в акте культовом и (или) магическом может отражаться или восполняться, или продолжаться в акте вхождения силы, власти монумента в человека, слияния с ним. Человек, так сказать, на себе может испытать сгустившуюся, уплотнившуюся, сконцентрированную власть монументально-нуминозного.
В этом случае акт вхождения в сакральное пространство будет означать, что всякая телесность оказывается внешней оболочкой, пусть и плотной, массивной, но тем не менее окружающей, обволакивающей – и выступающей в роли диафанического экрана, проницаемой «пелликулы», говоря языком современного психоанализа, на которой фиксируются все основные репрезентанты, прежде всего – мир, осязаемо и зримо ставший окружающей средой.
В целом же, вся подобная, описанная в самом общем виде картина телесной трансформационности заложена в монументе как таковом и в его наполненности властью Божественной, космической, животворящей и преодолевающей историю и время. Таким образом, иконология архитектуры, пройдя узким путем феноменологии, обрела успокоение в аксиологии. Собственно говоря, все это и есть герменевтика архитектуры, к горизонту которой нас так последовательно и неумолимо приближает Лютцелер.
Между формой и значением: ценностные аспекты
Дабы сполна воздать должное усилиям Генриха Лютцелера, очень кратко наметим последующие шаги его методологического движения навстречу подлинному восприятию, знанию и переживанию искусства.
Напомню, что все воспроизведенное и откомментированное нами выше, относится к первой главе внутри обширного целого, именуемого «автономным подходом». Напомню также, что ему предшествовала необозримая масса вообще не научных, а любительских, сугубо литературно-поэтических, художественно-критических, преднаучных подходов и самосвидетельств художников (весь первый том), его предваряла довольно плотная и четкая группа гетерономных точек зрения (богословие, философия, психология, социология, математика и т.д.), наконец, за ним следует практически необозримая и величественная картина искусства, описываемая формулой «открытость художественного произведения», где представлены весь мир и человек – но сквозь творчество и благодаря ему.
Внутри же автономного подхода за мотивом следует «форма», за ней – «материал», за которым – самое интересное – «единство и целостность произведения».
Но между мотивом и формой есть еще одна, совсем небольшая, но крайне емкая, глава именно с таким названием. И, как сразу замечает Лютцелер, в пространстве между формой и мотивом место иконографии и иконологии довольно подвижно, они как бы раздираемы между историей искусства и внехудожественной историей.
Вне всяких сомнений, несмотря на очевидную важность вопросов содержания, «как таковые они не являеются актом восприятия искусства». «Наука о мотивах привязывает наше знание об искусстве к широчайшему основанию, включающему и архитектуру, и орнамент, виды изобразительного искусства и художественную утварь, делая это с позиции истории»[959].
Но тут-то и возникает дилемма: все эти несомненные данные не имеют ничего общего с качеством того, что именуется «художественным творением».
Лютцелер прямо указывает на то, что науки о мотиве «свободны от ценности», используя для иллюстрации этого утверждения вновь текст Панофского, на этот раз объясняющего свою трехчастную схему примером из повседневности – обычаем приветствия в западной культуре поднятием над головой шляпы, наклоном головы и улыбкой. Лютцелер не обращает специального внимания на характер этого примера, но его обыденность – это не только доходчивость, но и указание на достаточную универсальность, применимость ко всякой ситуации понимания. В связи с этим особый интерес представляет собой третий, «сущностный смысл» этого заурядного действия. Согласно Панофскому, приветствующий обнаруживает в приветствии свой «дух, характер, происхождение, окружение и жизненную судьбу», причем – независимо от своей воли и своих знаний. Применительно к искусству «сущностный смысл» – это опять же «невольное и неосознанние самооткровение основополагающих отношений к миру...», документация целостного смысла, присутствующего в мировоззрении.
И вот такая повседневная доходчивость примера играет недобрую роль, так как позволяет говорить об «основополагающем недостатке» иконологии, для которой представляется чем-то периферийным ценность произведения искусства.
Вроде бы третья степень или ступень иконологического анализа (или синтеза) говорит о том же, но, замечает со всей неумолимостью Лютцелер, – только «в программе, без фиксации методически ясного пути».
Что такое «феноменальный смысл» и «смысл значения» – это понятно, но «достижение сущностного смысла требует уже скачка, посредством которого мы, покинув область осязаемого, оказываемся в полном тумане»[960]. Что значат все эти «последние сущности» – «самооткровение основополагающих отношений», «целостный смысл, присутствующий в мировоззрении»? Какая за этим стоит эпистемология, как они выглядят конкретно? Проблемы собственно искусства представляются этой теории в слишком общем виде, и путь к искусству покрыт мраком...
Почему вроде бы крайне сдержанный Лютцелер позволяет себе в данном случае столько сарказма? Что для него значит «ценность», кроме памяти об учителе – Максе Шелере?
Итак, главная слабость и иконографии, и иконологии – в их отношении к искусству как искусству, в их «исключении ценностного аспекта», что, в свою очередь, имеет несколько аспектов. Вот этот буквально «бесценный» список:
1. Науки о мотивах довольствуются «индифферентными к ценности утверждениями» (основные понятия барочной иконологии – аллегория, аллегация, аллюзия – могут быть реализованы с точки зрения живописи по-любому: «плохо, хорошо, новаторски»).
2. В науках о мотивах в процессе интерпретации частности «не входят в целостность произведения, но остаются отдельно взятыми элементами»[961].
3. Представители наук о мотивах часто «отталкиваются от произведения, но не проникают в него»[962].
4. В иконографии и иконологии из-за их отстраненности от ценности отсутствует возможность выбора в процессе толкования, так как толковать можно все, что угодно.
5. Науки о мотивах превращают произведение искусства в исторический документ. Они склонны к полной историзации искусства. «Тот онтологический факт, что произведение искусства – это равным образом и прошлое, и настоящее, порождающий напряжение противоположностей, из-за давления историчности полностью игнорируется»[963].
6. Науки о мотивах легко приходят к уравниванию темы и произведения, так как в них мало исследуется смысл «гештальтной и внегештальтной силы искусства», что особенно важно для архитектуры.
7. Итак, вот из чего состоит процесс «вынесения за скобки художественного качества»:
1) ценностно индифферентные утверждения;
2) объяснение элементов произведения без соотнесения с его целым;
3) преждевременное прерывание анализа как задержка в «преддверии» искусства;
4) возможность бесконечного и бесцельного манипулирования любыми изобразительными темами;
5) ограничение произведения ролью исторического документа;
6) пренебрежение способностью художника вступать в творческий конфликт с предзаданной темой.
В силах ли все то, что составляет художественное качество, – цвета, композиция, ритм, пространственность – найти себе место в науках о мотивах?
Лютцелер задается явно риторическим вопросом: не стоит ли сравнить то, что привносит наука о мотивах в понимание Св. Софии, скульптуры Шартра или произведений Рембрандта, с тем, чем эти творения являются в действительности? (курсив наш. – С.В.)[964].
Без труда замечается новый теоретический мотив творчества, заставляющий переходить от разговора о смысле содержания произведения к смыслу, заложенному в самом факте и в самом процессе его сотворения. Это совсем разные смыслы…
Поэтому на вопрос, почему ценности, можно ответить: потому что – творчество, человеческая активность, все та же антропология. Но этот путь от творения к творчеству, к «открытости художественного творения» пролегает, как мы уже говорили, через неведомые земли, именуемые «формой».
В завершение этой небольшой, но ключевой главы Лютцелер предлагает сравнение формального и иконологического анализа одной и той же вещи – «Алтаря Всех Святых» Альбрехта Дюрера – в исполнении Генриха Вельфлина и все того же Эрвина Панофского.
Для Вельфлина мотив не есть нечто не существующее, но он решительно подчиняет его форме, которую, впрочем, рассматривает вовсе не как «свободный от выражения, чисто оптический стилевой феномен». Формальный анализ направляет взгляд на «творческое становление образа», он уразумевает образ как «конструкцию» (Gefüge).
Иконология, в свою очередь, сильнее подчеркивает момент выражения в отдельном образе, а также историческое. Ссылка на источники объясняет прежде необъяснимое. Только так становится очевидным, почему было создано именно такое произведение. Относительно всего прочего иконология склонна, конечно, к суммарности, она не вникает в тонкости композиции, не говорит о цвете, не интересуется напряжением форм...
Несомненно, заключает Лютцелер, иконология и формальный анализ с научной точки зрения неотделимы друг от друга. Но нередко отсутствует рефлексия по поводу их ограниченности, так что остается открытым вопрос о возможном их взаимопроникновении.
На пороге герменевтики
Другими словами, вполне допустимы тесные и продуктивные контакты между, в общем-то, не такими уж противоположными вещами: содержание и форма представляют собой две стороны единого целого, которым может быть и произведение искусства в его жизненном и функциональном единстве, но может быть и сам процесс создания произведения или процесс его использования. В первом, более «статичном», случае мы все равно имеем возможность добиться целостного, всеобъемлющего взгляда на произведение, если увидим в нем результат некоторых усилий, действий, поведенческих навыков, установок и т.д., то есть аксиологическую размерность. Целостность, цельность как проявление целеполагания. Осмысленность как наличие некоторого общего основания, где встречаются и художник, и заказчик, и время, и вечность, идеология, общество и проч.
Представления о том, что в основании всех подобных разнородных феноменов может располагаться некоторая онтологически определенная система качеств, некоторая буквально осново-полагающая формальная структура, позволяют выстроить, как уже говорилось, методологию, ориентированную на ценностные аспекты искусства. Можно сказать, что при таком подходе форма становится «жизненной темой», с которой имеет дело человек, в том числе и в своей художественной активности. То или иное сочетание подобных онтологически-аксиологических протофеноменов способно порождать разные гештальтные системы («виды искусства»), характеризующиеся разным отношением к главному из онтологических качеств – пространству. Пространство можно наделять гештальтом (архитектура), можно быть гештальтом в пространстве (пластика), можно быть пространством для гештальтов (живопись). В первом случае базовые феномены – конструкция и оснащение, во втором – осязание и тело, в третьем – полнота и дифференциация. Так рождаются «фундаментальные стили» – тектонический, пластический и живописный. Прямая связь с человеком, со способами его самоосуществления (Verhaltenweisen) делает эти стили прямыми вместилищами смысла – весьма конкретного и одновременно относительно свободного от истории[965].
Остается только уметь постигать значение основных стилей. Эта задача предполагает знакомство с их «смысловой логикой», нацеленной на «всеобщее человеческое содержание». Важно, что подобная смысловая логика имеет четко выраженную тематическую структуру:
Это, во-первых, череда отношений – к действительности, к смыслам и идеальности, к природе. К этим отношениям присоединяется такой параметр, как «отпечаток общественного порядка в формах композиции». Далее идет «позиция стиля по отношению к конечным сущностям, к основанию бытия». Вполне логично вслед за этим – отношение стиля к религии и – вполне экзистенциальное измерение – соответствие стиля фазам человеческой жизни, тому или иному возрасту. Очень выразительно замечание Лютцелера: «Человек и история в своем единстве принадлежат настоящему»[966].
По сути, основные стили в своей смысловой логике представляют собой разнообразные формы взаимоотношения с действительностью – опять же во всех ее проявлениях («каждый стиль ограничивает свою область возможного и невозможного опыта восприятия»[967]). Вот, например, какова смысловая структура (то есть лейтмотивы) отношения стиля к религии: сущность Бога – Его отношение к миру – верующий между Богом и миром – пути его спасения.
А если мы расширим наше рассмотрение «динамическим» взглядом на искусство как на процесс, то тогда мы придем, во-первых, к творчеству как прямому объекту анализа и прямому источнику смысла, а во-вторых, к уяснению такого качества искусства, как его «открытость»[968]. Подобная открытость имеет целый ряд аспектов: от принципиальной разнородности элементов отдельно взятого произведения, в котором как бы оставлено место для иной реальности, как бы сохраняется пустота, лакуна для возможного вхождения иного, внешнего или высшего (идеи Дагоберта Фрая), через признание принципиальной незавершенности произведения (non fnito), даже невозможности пребывать в статичном состоянии (точка зрения Йозефа Гантнера) – до фундаментального тезиса о продолжении, выходе произведения в реальность зрителя-пользователя (позиция самого Лютцелера).
Мы крайне бегло наметили методологические перспективы, подробнейшим образом излагаемые в книге Лютцелера, сделав это только для того, чтобы показать, во-первых, актуальность всех этих теоретических положений для архитектуры (быть может, для нее – в первую очередь) и, во-вторых, реальность расширения, выхода смыслового подхода за пределы иконографии и иконологии архитектуры в сторону герменевтической безбрежности. Правда, мы могли убедиться, что эти отдельные подходы не какая-то цепочка сменяющихся этапов анализа, перечеркивающих и упраздняющих друг друга, а скорее грани, плоскости, уровни и слои единого и многосложного смыслового тела, включающего в себя склонность человека не только к мышлению и знанию, но и к переживанию и пониманию[969].
ПРИЛОЖЕНИЕ I ХРАМ КАК ИКОНА: иконография архитектуры и архитектурная иконография в североитальянской поздней готике[970]
Иконное как прямое значение[971]
По определению Я. Бялостоцкого, иконография – это «дескриптивная дисциплина, основывающаяся на систематизирующей группировке отдельных тем», которые «соотносятся с традиционными категориями объектов, определяемых по их отношению к религиозным, концептуальным или социальным источникам своего происхождения»[972]. В иконологической таблице Э. Панофского иконографии уделено место «конвенционального значения», между «прямым» и «символическим» значениями[973]. Все то, что стало после Панофского именоваться «иконологией», есть, по замечанию О. Пэхта, «символическая иконография», никак не соответствующая требованиям «философии символических форм» Э. Кассирера, на которую опирался Панофский[974].
Но каков же предмет «символической иконографии»? Как видно уже из определения, речь идет о содержании изображения, предметном или тематическом. Реально это есть поле деятельности семиотики или герменевтики, где всякий выделяемый образ рассматривается как знак, «симптом», «символ» или даже «иллюстрация». Так, например, для Э. Гомбриха, «определение текста, иллюстрацией к которому является данная картина (на светский или религиозный сюжет), считается... делом иконографии»[975].
Однако существует иной тип изображения, соотносимый с онтологически более высоким уровнем смыслов, с позиции которого вся множественность «знаков», «символов», «симптомов» и т.д., есть только система вариантов. Этот уровень требует, видимо, иного подхода, который можно назвать «платоновским», сакрально-символическим. Он существенен, в первую очередь, для сакрального искусства.
С этой точки зрения под христианской иконографией можно понимать не только определенную отрасль знания (своего рода «сущностную экзегетику»), но и канонически закрепленную систему образов, имеющих сакральный смысл. В системе истории искусств как самостоятельной дисциплины в изучении христианской иконографии возникает тогда проблема определения ее границ: где кончается собственно «иконный» смысл и начинается ряд всевозможных коннотаций стилистического, литературного и исторического порядка? Ответ на этот вопрос можно найти, если попытаться выделить «прямое», сакрально-символическое значение иконного образа, являющего Прообраз.
Икона есть воспроизведение того или иного исторически реального священного события, события теофании, Св. Истории (Св. Предания и Св. Писания)[976]. Специфически иконное значение определяется не через уяснение этого принципиально внеположенного содержания, а через определение смысла данного конкретного факта воспроизведения прообраза: анализу должна быть подвергнута система отношений «икона – канон – прообраз», причем с точки зрения последнего. Иначе говоря, всякая икона – событие онтологического порядка. Особое значение поэтому имеют чудотворные образы, в акте чуда становящиеся в один ряд сущностно и ипостасно с миром первообразов[977].
Эквивалентом чудотворных икон, порождающих свой особый культ, являются реликвии, святые мощи, также совмещающие в себе исторический и вневременной аспекты. «Иконный» характер реликвий важен преимущественно для западной традиции, о которой и пойдет речь[978].
В отличие от иконографии, ориентированной на Первообраз, являющей священное и священной являющейся, светская иконография ориентирована на «подражание природе». Источник «первообразов» в этом случае – внешний мир, все многообразие которого подчинено некоторым промежуточным визуально-эстетическим (изобразительным, техническим) схемам[979]. Проблема содержания такого искусства лучше разрешается в современной иконологии, доискивающейся до смысла, закодированного достаточно однозначно. Такой смысл подчинен конвенциональной изобразительности, буквально «изобразительной риторике», порождающей, конструирующей смысл внутри изображения[980].
Образное, но не иконное
Но изобразительность, наличие предметного содержания, объединяет иконы и иные типы изображения. От них существенно отличаются искусства, принципиально лишенные миметической связи с объектами из другого онтологического уровня (будь то Природа, или Небо, или Книга). Таковым искусством является архитектура, которая сама есть отдельный уровень – сфера материально оформленной среды человеческого существования. В христианской сакральной архитектуре эта самостоятельность дает фундаментальное значение экклезиологического порядка – ни к чему в этом мире не сводимой Церкви, Земной и Небесной[981]. Положение о Церкви как Мистическом Теле Христовом, догмат о Пресуществлении Св. Даров в Литургии придает христианскому храму статус универсальной реальности – и бытийной, и космологической, и спиритуальной[982].
Поэтому сам храм не может быть «иконой», ибо прямо ничего не изображает. Еще в большей степени невозможной кажется тогда и иконография архитектуры (в том смысле, в котором возможна иконография святых), ибо на небесах нет ничего, подобного архитектуре[983]. Что же тогда может стать предметом архитектурной иконографии, то есть системы архитектурно выраженных иконных образов?
Видимо, в контексте сказанного следует исключить всякого рода архитектурную типологию, практику копирования так или иначе прославленных построек (в первую очередь – Св. Земли)[984], а также весь комплекс воплощенных литературных аллюзий и иллюстраций, которые не могут быть собственно иконами, так как в них не заложена сущностная и ипостасная образность, передающая восхождение от материального к нематериальному (что и делает икону предметом поклонения): «Новому Храму» или Небесному Иерусалиму поклоняться невозможно, ибо он сам есть видение, образ Царства Божия[985].
Вне иконного значения должен остаться весь комплекс интерпретаций храма как «носителя значения» в контексте всей системы «символической Церкви»[986]. Эта его функция важна, но она выходит за пределы даже изобразительного искусства в целом, являясь отраслью теологии и литературы. В этом плане важна традиция собственно экзегетики, толкования в историческом, аллегорическом, тропологическом и анагогическом плане (источник восприятия и понимания храма).
Итак, в традиционном понимании сакральной иконографии говорить об архитектурной иконографии невозможно: храм как архитектура ипостасно принадлежит этому миру[987]. Но икона – часть убранства храма, составляющая его среда, и храм содержит в себе икону, в том числе и в монументальных формах (мозаика, фреска), почти сливающихся с самим храмом. То есть храм может быть сакрален своим «содержанием», тем, что он вмещает[988]. Но решающее обстоятельство – нахождение внутри храма алтаря, имеющего и реликварный характер (в алтарь вкладывается освящающие его св. мощи), и реликварную образность (всякий алтарь – образ Гроба Господня). Именно эти моменты позволяют нащупать[989] связи храмовой архитектуры с сакральной изобразительностью, причем не только в виде архитектурной иконографии, но и в виде иконографии архитектуры, то есть иконного изображения храма. Это как бы две стороны единой проблемы – проблемы храмовой образности, храма-иконы.
Позднеготическое изображение готической архитектуры
Существование такого рода иконы возможно не в любую эпоху и зависит от развития самого сакрального искусства, и прежде всего – от развития в нем композиционных структур. «Портретный» характер иконного построения, четкое деление на личное и до-личное (или на фигуры и окружение) исключал равноправное существование в нем архитектурного мотива. Иное дело – монументальное изображение, где уже на заре христианского искусства возникают два несхожих композиционных принципа: с декорацией-фоном и декорацией-обрамлением (в обоих случаях архитектурная декорация обозначает пространство)[990]. Не менее важно было и изменение в самом потенциальном предмете изображения, в архитектуре, где перелом наступил в готическую эпоху. Это изменение характеризуется прежде всего отказом от античной традиции, от антикизированного репертуара архитектурных мотивов в живописи. Современная и очень характерная готическая архитектура, попадая в изображение, актуализировала его, устанавливала иные, вневременные (внеисторические) коннотации. Недаром уже аббат Сугерий осознавал анагогический характер того, что он создал[991].
На примере изображения готической архитектуры, готических мотивов – причем учитывая, что эти изображения для готики эквивалентны монументальной живописной декорации и оформляют преимущественно алтарные пространства, – мы попытаемся решить, примеры ли это иконографии архитектуры и возможна ли архитектурная иконография.
В ХV веке некогда единый организм готического искусства превращается в разветвленную систему хорошо развитых, но удалившихся друг от друга отдельных видов и техник. «Родовое» происхождение сохраняется, но только в самых общих аспектах – в строении композиции[992], в самой архитектуре интеграционные процессы замирают, но в живописи можно проследить вторую жизнь архитектуры в «отраженном», изображенном состоянии. Важно, что архитектура в этом своем состоянии есть не только изобразительный мотив, но и композиционное средство, способ организации среды – как вполне материальной (плоскости, пространства, часто соединяя их), так и идеальной.
Обращение к североитальянскому позднеготическому материалу в этой связи особенно удобно, ибо здесь, во-первых, как повсюду в Италии, готическая архитектура, запаздывая, давала редуцированные, также по-своему «отраженные» варианты, во-вторых, в отличие от заальпийских стран, здесь готика представлена не только в миниатюре и станковой живописи, но и в монументальной[993].
Рассмотрим несколько характерных, по нашему мнению, образцов. Одной из наиболее интересных работ венецианца Микеле Джанбоно является мозаичная декорация Капеллы деи Масколи в Сан Марко, ее левый от алтаря свод с подписью мастера, где, в частности, помещена сцена Введения Марии во Храм (примерная датировка – 1444 год)[994]. Изображение Храма по своим декоративным элементам отсылает к венецианской поздней готике, хотя реальный аналог подобрать трудно. Общий же изобразительный тип постройки происходит из богатейшего репертуара архитектурных декораций Альтикьеро[995]. Однако имеются и более близкие аналогии – в одном из рисунков Пизанелло, где повторен самый интересный элемент – парапет-загородка вокруг Храма[996]. Этот элемент указывает на распространенный в этом регионе тип гробницы, например Скалиджеров в Вероне. Подобный мотив оказывается ключом к смыслу композиции: Введение во Храм – Принесение во Храм – Положение во Гроб (в сочетании с мариологической и соответственно экклезиологической семантикой). Сюда же добавляется и значение ветхозаветного Храма как гробницы «ветхого» человека и одновременно – обетования Нового Иерусалима. Тема гробницы устанавливает связь с алтарем, вместилищем реликвий и образом Гроба Господнего. Алтарь же имел и ограждение-преграду. Но актуализирующая столь богатую смысловую систему архитектура дает и самый важный аспект: это есть обозначение особенного, а главное – здесь же присутствующего пространства, где совершается погребальная служба, в том числе и Литургия. Поэтому данное изображение не просто иллюстрация Св. Писания, оно освобождено от исторического аспекта, ибо имеет в виду особую, храмовую реальность, онтология которого – предмет дальнейших наблюдений. Существенно помимо прочего, что тема гробницы позволяет нам, не ограничиваясь представленным внешним видом Храма, как бы проникнуть в его Святая Святых (в христианской традиции, эта часть Храма Соломона – прообразует в аллегорическом плане Церковь).
Погребальная тема обогащена темой Инкарнации в одной из ранних работ Антонио Пизанелло – декорации гробницы Бренцони в Сан Фермо Маджоре в Вероне, где живопись весьма оригинально соединена со скульптурой (может быть более поздней)[997]. Над барельефным балдахином гробницы, на стене, в треугольных тимпанах представлена сцена Благовещения, а над ней – живописные ажурные пинакли (сейчас утерянные), внутри которых были расположены живописные фигуры святых и Девы Марии (также сейчас утраченные). Здесь уже реальность гробницы проецируется на стену. Для нас же особенно существенно перенесение в собственно архитектуру конструкции алтаря, причем вместе с ретаблем (для того времени несколько архаизированной немецкой формы). В данном случае архитектура, правда, в более редуцированном состоянии, в качестве обрамления ретабля, указывает на литургическое пространство. Но внутри этого псевдоретабля, в правой части сцены Благовещения, в традиционном портике, лоджии, в своеобразной капелле, где расположена фигура Девы Марии, узнаются те же архитектурные элементы – вимперги, фиалы и т.п. Можно предположить, что эта «капелла», в свою очередь, воспроизводит табернакль.
Очень похожая ситуация благодаря архитектурному мотиву возникает в собственно станковых формах, например, в образце зрелого творчества Антонио Виварини и Джованни д’Алеманья, в триптихе для Скуола Гранде делла Карита 1446 года (Венеция, Галерея Академии)[998]. Если у Пизанелло фигура Девы Марии помещалась внутри архитектурного обрамления (сначала ретабля, а внутри него – портика-табернакля), то здесь фигура Девы Марии с Младенцем Христом и святыми располагаются перед весьма внушительной, на все три створки развернутой архитектурной ширмой. Эта конструкция, хотя и выглядит несколько искусственной, воспроизводит или обрамление сидений хора, или своеобразную алтарную преграду (возможно – сочетание того и другого). Об этом свидетельствует строение ширмы: она имеет нижний элемент – цоколь с седалищем в середине для Мадонны и более высокую заднюю часть с проемами, напоминающими гнезда для образов или рельефов[999].
Собранные вместе, эти архитектурные мотивы уже прямо отсылают нас в алтарное пространство храма, в хор. Существенно подчеркнуть расположение фигур перед выгородкой-преградой: пространство, среда этого образа благодаря столь четкому обозначению места мыслится не внутри, а перед живописной плоскостью. Это воспроизведение наиболее сакрального места всякого храма – места Пресуществления Св. Даров, т.е. места на алтаре[1000]. Причем нематериальность образов Девы Марии, святых только усиливает онтологическую значимость сконцентрированного на плоскости целого пространства хора.
Можно было бы привести также варианты из миниатюры, особенно ломбардской, например из Часослова Джан-Галеаццо Висконти с его стройной и красноречивой системой обрамления листов[1001].
Иконография литургической среды
Однако уже и на рассмотренных примерах можно сделать важные выводы: 1. Во всех трех случаях архитектура фигурирует не как декоративный или формально-выразительный мотив. Везде мы видим ее целостное использование как элемента конструкций – или гробницы, или ретабля, или даже всего хора. 2. Во всех трех случаях воспроизводится, по существу, одна ситуация: использование реальной архитектуры (пространство капеллы, стена с рельефами гробницы, реальное обрамление триптиха), т.е. вполне конкретной сакрально-литургической среды, и отображение этой архитектуры, ее сознательная трансформация, перенос буквально в другое целостное состояние изображения. У Виварини и д'Алеманьи эти структурные отношения обострены до предела, до своеобразного «литургического иллюзионизма», навеянного другим типом изображения – «образами поклонения» (Andachtsbilder), образами, родившимися из иного источника, иного способа теофании, из видений[1002]. Один из источников – т. н. Месса св. Григория – представляет явление священнослужителю Христа, сошедшего с иконы на алтарь во время Литургии. Почти буквально это воспроизводится у венецианцев в образе Мадонны и святых, как бы спустившихся с ретабля.
Откуда же исходит такая своеобразная иконография Литургии, точнее ее среды?
В Литургии, в акте Пресуществления Св. Даров, происходит сущностная трансформация одного плана бытия в иной – в самом строгом смысле оживление символа, превращение образа в свой прообраз[1003]. В алтаре происходит не только соединение двух миров, причащение мира этого Миру Тому, но и явление Неба в этом мире. Поэтому всякий храм можно рассматривать как структуру созерцания видения, и это созерцание направлено на алтарь. В корпоральности этого видения (у Бл. Августина три ступени созерцания: корпоральное – спиритуальное – интеллектуальное)[1004] собственно и заложена тема Инкарнации[1005].
Спецификой готики является фиксированность этого созерцания: осязаемым становится горизонтальное направление. Весь храм проецируется на алтарную композицию. Фасад переходит в алтарную преграду, далее – в балдахин алтаря, в сам алтарь, цибориум, остенсориум (иное после преграды направление – табернакль), ретабль, где эта структура отражается вся вместе, но уже в другом измерении[1006]. Вся эта именно архитектурно выраженная система объемлет образ Тела и Крови Христовой, то есть Св. Дары[1007]. Одновременно в этой готической системе наглядно осуществлена была известная традиция экзегетики (ее начало – трактаты Беды Достопочтенного): Скинии Завета, Иерусалимского Храма и далее «Нового Храма» пророка Иезекииля и Нового Иерусалима св. Иоанна Богослова[1008]. В экклезиологическом смысле были поняты все членения Храма (столь же концентрические) как частей ессlesiae universalis. Исторические обстоятельства, потребовавшие сделать наглядным, явленным весь комплекс прообразов алтаря и соответственно Церкви, известны. Это распространение в Западной Европе византийского культа чудотворных икон (со второй половины XI века)[1009]. В изображении происходит непосредственное общение с Богом в акте последовательных ступеней созерцания, возвышающего человека от телесного к умопостигаемому. Икона стала парадигмой для всякого образа: изменения происходят и в структуре реликвария – определяющего звена в системе сакральных артефактов в Западной Европе.
Реликварии, раки всегда имели архитектурообразные формы – гробница и алтарь одновременно (первоначально алтари ставились на погребениях мучеников). Усиление анагогической функции архитектуры в готике (программным это стало уже у Сугерия) вызвало проникновение созерцания и внутрь реликвария – знака, места и средства единства живых и мертвых. Окончательное утверждение созерцательно-анагогических аспектов и соборного и частного благочестия осуществилось в изменениях литургического канона: в конце ХП века в Германии впервые был введен акт Элевации (подъятие Св. Даров и благословение Ими)[1010], что и породило новый литургический сосуд, ставший символом эпохи, – остенсориум, монстранц, заменивший собой реликварий в форме саркофага-капеллы.
Концентрируясь в алтаре, собираясь в точку по законам гармонии, готическая архитектура именно через свою реликварную семантику претерпевает не только масштабные, но и качественные трансформации. Качественный порог – ретабль, где концентрированно воспроизводится вся структура храма, часто буквально в виде его фасада. В этом смысле особенно показательны немецкие резные ретабли-складни ХV века, центральная часть которых включала реликвии и именовалась в современных документах «саркофагом»[1011]. При этом закрытый ретабль (а таковым он бывал почти всегда, так как согласно своей программе открывался он даже не во всякий праздник) являл собой тоже своего рода реликварий, но уже по отношению к помещенным в нем статуям. Тем более что возникли такого рода ретабли из типа алтарей-реликвариев с емкостями для реликварных сосудов-бюстов.
Реликварное формообразование
В целом принцип этих трансформаций-переходов заложен, собственно, в готическом формообразовании, не лишенном апофатических качеств: готический храм как бы растворен в некой невидимой среде, полной особой субстанции (света), и пропускает ее сквозь себя. Выразительный геометризм, схема-модуль травеи легко позволяли, например, или разворачивать стрельчатую арку в портал, или сводить ее до обрамления переносного реликвария[1012]. С реликвариями, а также с табернаклями могут быть соотнесены игравшие, вероятно, решающую роль в этих превращениях строительные модели. Главное же качество подобной архитектуры, каменной массы и каменных форм – в абстрактности, очищенной от какой бы то ни было изобразительности. Собственно архитектура становится лишь организующим началом того мира, который называется готическим храмом[1013]. Отсюда столь интенсивное насыщение его сугубо миметическими объектами – скульптурой, витражами, живописью. Причем и этот миметический уровень развивается концентрически от скульптуры фасада к декорациям стен, к витражам, к алтарному комплексу с ретаблем и оформлением алтарной Библии. Именно здесь особенно заметны диафанические качества этой системы: все одновременно и пропускает среду, пространство сквозь себя, и проецирует на себя, как на экран. Причем чем ближе к алтарю, к средоточию, тем более «внутрь», тем площе, имматериальнее образы[1014]. Красноречивый пример – внутренняя сторона главного портала собора в Реймсе, где воспроизводится на всю высоту как бы уплощенный скульптурный портал, своеобразный многоуровневый ретабль[1015].
На самом же алтаре (это присуще было почти всему периоду Средних веков) помещалась своеобразная квинтэссенция всего алтарного пространства (а для готики – всего храма) – сочетание трех предметов: т.н. корпорале (покрывающий потир плат), сам потир и т.н. пала (плат под потиром). Эти две ткани, традиционно в обязательном порядке имевшие изображения, восходят к погребальным пеленам Иисуса Христа и содержат в себе все строение и смысл храма как иконы. Подобная структура имеет и более подвижные варианты («изводы») – т.н. «мапулла», переносной балдахин над епископом (ср. и оформление епископского места) – все то же производное от алтаря с киворием. Существовала, наконец, и практика временных построек внутри храма; с XI века, например, к Пасхе в храмах ставились модели Храма Гроба Господня. И истинное воплощение всего нового благочестия готической эпохи, знаменитый праздник Тела Господня (наибольшую популярность получил он в Германии), с его выносом реликвий, шествиями и т.д. буквально выводил наружу, вовне всю эту богатую изоморфными членениями-артикуляциями храмовую среду.
И именно внутри подобных структур, построенных по принципу иерархических подобий и аналогий, вполне релевантных синтаксически и логически и традиции «Зерцал» и «Сумм», вообще средневекового рационалистического литературного дискурса, и представлению об упорядоченной «аналогии бытия», пронизанной числовыми соответствиями, – именно внутри этого мира наглядной гармонии и коренится законченная система образов типично иконографического характера, с отношением онтологически неравных уровней (ср. пространства портала и остенсориума как два крайних полюса). Однако в отличие от исторически актуальной, развернутой во времени иконографии живописной здесь иконография имеет литургический характер: теофания происходит здесь и сейчас, причем и внутри человека, который к тому же сам в момент Литургии есть образ ангельского чина. Храм в умопостигаемом измерении пронизывает все уровни бытия и небытия благодаря происходящему внутри него и способен в себе самом воспроизводить эту упорядоченность наглядно. Но эти упорядоченность и телесность благодаря опять же Литургии приобретают качества нерукотворной иконы, прообраз которой невидимо и в то же время видимо присутствует на алтаре. Можно утверждать, что подобная одновременно сворачивающаяся и разворачивающаяся, статическая и мобильная, непрерывная и дискретная система готического храма с его положенной в основании всего ярко выраженной реликварной семантикой явилась ответом на византийский «вызов» в лице чудотворных икон, вообще культа икон. Храм превратился в грандиозный реликварий, своим «хранением» и своей демонстрацией святыни порождавший те же иконографические структуры, что и все Св. Предание, Св. История.
Однако эта унифицированная самодостаточность в изобразительном плане таила опасность повтора, и недаром с ХIV века сначала архитектура, а затем и изобразительное искусство вступают на путь чисто изобразительных инвенций, что в ХV веке породило уже просто репродуцирование храмовой среды в живописи. Можно даже сказать, что этот без-óбразный, апофатический вариант, тип иконографической системы просто требовал заполнения своей столь значимой среды, пространства. Однако за полную самостоятельность этого типа, помимо прочего, сказанного выше, говорит тот факт, что требовалось иное измерение, переход к иному виду искусства (собственно к изображению), чтобы эта «пустота», которая сродни Божественному «сумраку» Дионисия Ареопагита, была заполнена. Мы это наглядно видим в одном немецком остенсориуме из Кельна (ок. 1400 года), где башнеобразное тело сосуда с пинаклями, шпилями, балдахином воспроизведено в изображении на подставке, в конструкции тронов, на которых восседают апостолы[1016].
От архитектурной иконографии к иконографии архитектуры
Вышеприведенные примеры из живописи, которые осторожно можно обозначить как изобразительную типологию архитектурных мотивов, собственно говоря, суть образцы архитектурной иконографии. Ведь соблюдаются два непременных условия: 1. Воспроизводится не просто архитектура, а сакральная (повторим, что об иконографии, по нашему мнению, можно говорить в связи с сакральными по сути вещами). Причем воспроизводится не просто «мотив», а законченная, целостная ситуация – ситуация Литургии, как бы описываемой через архитектуру; 2. Налицо необходимый для священного образа переход одной онтологической реальности в другую: храмовая среда буквально воплощается – оказывается заполненной и, следовательно, видимой.
При этом необходимо учитывать, что храм не есть предел восхождения к Небу. Когда же архитектура перестает быть средством иконографии и становится ее предметом? Когда она сама становится прообразом. Собственно готический храм со всем его убранством – законченная система пространственно-литургической симультанной иконографии, хотя ради особенной терминологической точности пришлось бы употребить выражение «реликвио– и сакрография». Но он же и источник прообразов: каждому его сакральному и смысловому аспекту соответствует элемент конструкции, композиции, компартимент пространства, единого и целостного именно как пространство Богослужения.
Подводя итог, можно сказать следующее:
– Храм как часть и воплощение Церкви есть коммуникативное звено, его онтологическая ипостась – осуществленная связь миров; – готический храм актуализировал созерцательно-анагогический аспект этой связи, особенно настаивая на ее изоморфно-иерархическом характере;
– в Литургии этот «ступенчатый порядок» (Блаженный Августин) обретал свой источник и центр – вечное, вневременное чудо теофании, приобретающее «видимые» черты через систему «вставленных» друг в друга архитектурных членений. Поэтому готический храм, понимаемый как целое, и в первую очередь как сакральная среда, есть воплощение архитектурной иконографии;
– это уникальное единство храма, иконы и реликвария эпохи высокой готики в готику позднюю само становится предметом изображения – возникает иконография архитектуры[1017].
ПРИЛОЖЕНИЕ II ГОТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА: собор как Sancta Sepulchra и Vesperbild[1018]
Готика –визуальная риторика сакрального
…Мы убеждены, что полезно не прятать, а выставлять на всеобщее обозрение Божии дары.
Аббат СугерийИтак, Храм – тот вариант теофании, который в христианском контексте приобретает характер не просто богоявления внутри человеческой экзистенции, но и приобщения через веру человеческого естества к тайне Божественной жизни. Для христианства такой «охватывающей» структурой оказывается церковь, ecclesia, «символические формы» которой сконцентрированы в образе, форме «Дома Божия», kyriakon’а-церкви в более узком смысле слова. Другими словами, если можно говорить о визуальных, видимых аспектах церкви-ecclesia, то это будут именно ее мистериальные стороны.
Именно готическая архитектура со всей очевидностью содержит в себе и являет собой наиболее отчетливую в западно-христианской традиции парадигму Богоприсутствия как вмещения-сохранения, удержания сакрального, его фиксацию в определенном месте, в определенном визуальном и ментальном поле. И одновременно эта парадигма заключает в себе риск отчуждения-экстериоризации того мистического средоточия и сосредоточения, что характерно для храмового пространства и храмового сознания как прежде всего пространства внутреннего, глубинного.
После работ Ханса Янтцена и подчеркнуто следующего за ним Зедльмайра[1019], открывших структурно-феноменологический этап в архитектуроведении, очень скоро общим местом становится указание на изоморфизм дискурсивно-риторических (например, схоластических) схем и балдахинно-травейных охватывающих структур готических храмовых пространств. В обоих случаях действуют единые modi operandi, именуемыe manifestatio и concordatio, – принципы и способы приведения истин веры к наглядности, которую понимали прежде всего как внятную и соразмерную «демонстрируемость», «показуемость» неописуемого[1020].
Но, по нашему мнению, следует говорить также и о гомологии готического формообразования («гештальтизации») и сенсорно-визуальных схем воспринимающего сознания. В готическую эпоху рождается своеобразная сенсорно-моторная риторика, вызванная к жизни, как нам кажется, столкновением двух начал, равным образом характерных для христианства (особенно западного): спиритуалистических традиций эллинистического, позднеантичного неоплатонизма и вещественности, непосредственности и чувственного синкретизма народной веры, нуждающейся в своем собственном, более доступном варианте Писания: «Если исходной точкой была вера, то целью – исчерпывающее постижение смысла бытия <…> Без приближение Бога к себе это понимание невозможно. <…> Как собор мог помочь познать смысл существования? По сути, это происходило двумя способами. Во-первых, собор был «зерцалом мира». Его иконографическая программа соединяла небесную и земную сферы внутри многосложного повествования, в виде Biblia pauperum рассказывающего неграмотному человеку об истории мира с первого дня творения, о догматах религии, о примерах святости, об иерархии добродетелей, об уровнях наук, искусств, ремесел. <…> Во-вторых, архитектура сама по себе была проявлением упорядоченного христианского космоса. <…>[1021]
Именно антропологически-экзистенциальный «зазор» между Словом и Образом в средневековом храмовом сознании в конце концов и порождает специфические готические пространственно-пластические конфигурации, где, как мы стараемся показать, комбинируются визуальная доступность и эмоциональная дистанция, совершается взаимообмен между двумя фундаментальными состояниями христианского Откровения, евангельской керигмы, и, соответственно, верующей души: богооставленности и богообщения. На другом уровне это проявляется в невозможности сказать, оформить в дискурсе то, что открывается мысленному и порой телесному взору.
Именно об этом говорит с неподражаемой убедительностью и Эрвин Панофский. Его работа о схоластике написана после зедльмайровского «Возникновения собора», но столь же программно питается концептуальными достижениями гештальтпсихологии: «Современная гештальт-психология, в отличие от представлений психологии девятнадцатого столетия и в почти полном согласии с доктринами века тринадцатого, “отказывается наделять возможностями синтеза высшие умственные способности человеческого ума” и подчеркивает “решающее значение формирующих сил сенсорных процессов”. <…> В этом плане неудивительно, что ментальность, которая почитала необходимым сделать веру “яснее” посредством обращения к разуму и сделать разум “яснее” посредством обращения к воображению, также испытала потребность сделать воображение “яснее”, через обращение к чувству. <…> Стремление к “прояснению” достигло своих величайших триумфов прежде всего в архитектуре. Подобно тому, как в высокой схоластике царил принцип manifestatio, так и в архитектуре высокой готики доминировало (как об этом писал Сюжер) то, что можно назвать “принципом прозрачности”»[1022].
Крайне важно, что очевидная соборная диафания достигает уровня уже урбанистической диафании. А все вместе – это универсальный habitus религиозного существования, что подметил уже Норберг-Шульц: «Мы видели, что огораживание-вмещение (enclosure) – одна из древнейших значимых форм в истории архитектуры, но средневековый город – это нечто больше, чем просто физическая ограда; его можно охарактеризовать как результат интериоризации, это нечто похожее на спиритуализированное пространство раннехристианской церкви. Это все равно, как если бы экзистенциальный смысл, конкретизированный с помощью церковного здания, распространился до уровня целостной среды обитания. Характер средневекового habitus’а может быть понят как распространение вовне того характера, что первоначально заключался в церковном интерьере, и поэтому этот характер предполагает новое отношение между церковью и ее окружением. <…> В готической церкви оптическая или символическая дематериализация заменяется реальным растворением стены, которая становится транспарентной и взаимодействует с окружающей средой. Теперь постройка представляет собой диафанический скелет-каркас, масса которого в идеале редуцируется до сети абстрактных линий. Средневековое церковное здание, свершив полное развитие, больше не кажется только отправной точкой, она соотносится с более обширным целым, исполняя функцию центра значимого, пространственного организма. <…> Растущее стремление к взаимодействию с окружающей средой делает особенно важным движение в глубину, и неф собора можно теперь понимать как идеальное продолжение того пути, вдоль которого сформировалось прилегающее к собору поселение (surrounding settlement); портал тогда оказывается глубоким и приглашающем внутрь портиком. Впрочем, несмотря на продольный план, готический собор воспроизводит подлинный центр. <…> В общем мы можем сказать, что готическая эпоха распространяет концепцию Civitas Dei до уровня городского окружающего пространства, понятого как единое целое…»[1023].
Стоит особо отметить, что такого рода «диафания» имеет не только планиметрический горизонтальный характер. С одной стороны, на одном уровне собор активно взаимодействует с городской, мирской и внешней «окружающей» средой, а с другой – собор сам может быть внешней и окружающей средой для того, что сокрыто внутри него, равно как и внутри бытия. Это можно назвать «транспарентной трансценденцией», взаимной «прозрачностью» небесной и земной сфер. Более точное и менее метафорическое словоупотребление заставляет говорить об аналогическом, прообразовательном характере событий, принадлежащих двум планам человеческой экзистенции: уровень трансцендентной, но спасительной благодати и уровень имманентного переживания встречи со священным во времени и в истории. Так что собор – это и вполне реальное «interacting» мистериальных, литургических пространств, вмещающих в себя и то, повторяем, что находится внутри собора, и то, что «толпится», в широком смысле слова, за его пределами.
Собор: вера как литургическое видение
Поэтому, в частности, тот же самый «принцип прозрачности» действует и на уровне почитания реликвий. Более того, готическая «диафания» добирается и до «святая святых веры», которую она хотя и отграничивает от ratio, но, однако же, стремится к тому, чтобы «содержание этого святилища оставалось четко различимым»[1024]. Панофский под «святилищем» имеет в виду истины Откровения вообще. Мы же настаиваем, что речь может идти и о сакраментальном святилище буквально, которым является храм и в котором, действительно, возникают именно в готическую эпоху самые характерные его порождения – прозрачные сосуды-остенсориумы, хрустальные дарохранительницы-монстранцы.
Более того, уже на чисто морфологическом уровне видно, что сам готический храм – это реальный табернакль, настоящая скиния-балдахин, и его содержание (не только семантическое, но и субстанциальное) невозможно понять без аналогии с литургическим сосудом-потиром, вместилищем священной драгоценности-тайны. Храм представляется, если пользоваться достаточно плодотворным понятием психолингвистики, подлинным «фреймом» целенаправленного движения к истине, к священному смыслу, открытому в видéнии Тайны и обретаемому в Таинстве – в его созерцании и переживании.
Не вызывает сомнений реликварный характер всего западного средневекового зодчества, когда ковчег с мощами и реальный храм демонстрируют очевидный изоморфизм или, если быть более точным, гомологию стандартных составляющих, независимую от масштабов. Готическая эпоха ознаменовалась трансформацией храмообразного типа реликвария в тип остенсориума, старательно воспроизводящего главный структурообразующий элемент готического здания – травею.
Но возникает вопрос: остенсориум происходит из собора или собор – из остенсориума? В любом случае это – единая типология, связанная общей интенцией храмово-литургического сознания, зародившегося вместе с первыми готическими соборами XII века. Начиная с этого времени, Тайна уже может демонстрироваться. Это совершается или в процедурах manifestatio схоластических сумм[1025], или в не менее убедительных для разума (а также и для чувства) «доказательствах», предоставляемых в хрустальных сосудах готических реликвариев, тем более – в собственно остенсориумах-монстранцах, где хранится и почитается глазами (и сердцем) освященная гостия, сберегаемая с помощью подобной «микро-архитектуры[1026]».
Но, казалось, достигнутая наглядность теофании оказывается и симптом недостижимости трансцендентного в посюстороннем бытии. И это при том, что поиски подлинного богообщения становятся все более изощренными и, главное, все более непосредственными. Готическая эпоха пронизана мистическими видениями, зримыми подтверждениями Откровения. Вся последующая Реформация латентно присутствует в готической потребности непрестанно искать исток веры внутри человека, в личном мистическом переживании[1027]. Поэтому, перефразируя известный постулат Лютера, можно сказать со всей определенностью: sola fde, понятая как sola visio.
И даже такая конкретная ренессансная вещь, как центральная перспектива, тоже связана с концентрацией сакрального пространства на одной точке – на Св. Дарах, которые упраздняют, «свертывают», выносят за скобки пространство пред лицом бесконечности и безвременности: «Исчезающая точка как вершина пространственной пирамиды находится на определенном расстоянии, однако, она олицетворяет собой бесконечность. Она находится в границах досягаемости и недосягаемости в одно и то же время, точно так же как предел в математических расчетах[1028].
Место кенозиса
Место Слова не может быть выговорено.
Умберто ЭкоМожно сказать, что именно готический храм, точнее говоря, храмовое сознание зрелого и особенно позднего Средневековья, творит модели той самой фундаментальной диалектики присутствия и отсутствия: «…Пустое пространство между двумя сущностями, которых нет, обретает значение только в том случае, если все три значимости – «да», «нет» и пустое пространство между ними взаимообусловливают друг друга»[1029].
Полемизируя с Лаканом, Эко, дабы подчеркнуть не научность методологии оппонента, прибегает к сугубо религиозным оборотам и описывает «лакановский универсум», в центре которого «конститутивное» Не-бытие, – в терминах христианской керигмы: «…Формирование цепи означающих как последовательное различение того, что есть, и того, чего нет, обусловливается изначальным разрывом, ущербностью, первородным грехом, в связи с чем “Я” может быть определено как некая обделенность чем-то, чего никогда не заполучить, и это что-то – Другой, существо на самом деле не существующее, во всяком случае, до него не добраться»[1030].
Для нас нет никаких сомнений, что применительно к готическому (и не только к готическому) христианскому сакральному пространству эту дефиницию следует понимать буквально, как точное описание базовых интенций западно-христианского храмового зодчества.
Более того, в этом «различении», как точно указывает Эко, опознается все та же христологическая апофатика, призванная даже не описывать, а скорее указывать на кенозис и онтологический, и сотериологический (а значит, и экклезиологически-мистериальный), когда Абсолют-Логос как Творец, созидая свое творение, именно отличает его от Себя, «уступает» ему место, отходит на второй план бытия, превращаясь, как иногда кажется, в онтологический фон, «реликтовое излучение», сопровождающее человеческую экзистенцию во времени и вне его...
Как Искупитель того же творения Он умаляет себя почти до исчезновения (смерти), творя его за-ново, то есть новым, обновленным. Только благодаря этому в мире вновь водворяется изначальная истина и искомый смысл, что дает санкцию и мысли, и философии, и вере, и таинству: «Мыслить различие как таковое – это и значит философствовать, признавать зависимость человека от чего-то такого, что именно своим отсутствием его и учреждает. Позволяя, однако, постичь себя на путях отрицательного богословия»[1031].
Желание если не остановить, то хотя бы зафиксировать мгновение Евхаристического чуда дает характерную, отмечаемую всеми исследователями «визуализацию тайны»[1032]. И эта «воля к зрению» выражается прежде всего в росте визионерских настроений, а также в окончательно утверждающей себя практике сохранения и почитания освященной гостии. Напомним, что в «Парцифале» Вольфрама фон Эшенбаха Грааль – это, как оказывается, камень (lapis), освящаемый раз в году в Страстную Пятницу благодаря голубю, который приносит с самого Неба освященную гостию.
И храм, и даже город превращаются в дарохранительницу, в специфическое обрамление для святыни, в место не столько свершения, сколько сохранения чуда. Подлинно сакральное, мистическое пространство, сама «Божественная (Евхаристическая) среда», постоянно сужается, «сгущается», становясь в конце концов трудно уловимой «исчезающей точкой», непрерывно ускользающим горизонтом Тайны, горизонтом Бытия. Храмовое пространство «кумулируется», если вспомнить выражение Зедльмайра, ссылающегося на целый ряд авторов, в первую очередь на Янтцена, у которого мы можем видеть еще более спиритуалистическую картину храмового пространства. Собственно янтценовское толкование диафанической стены выглядит так: «Готическая стена стилистически кажется рельефным полем, слоями уходящим на различную глубину (Tiefenschichtungen). И это поле как целое противопоставляет себя вертикальному единству и связям сводов»[1033].
В результате освобождается новое пространство: пространство чисто эстетического переживания, сопровождающегося или даже санкционируемого активностью воображения. Так возникает «соблазн» замены экзистенциально-мистериального пространства пространством концептуально-экзегетическим, что применительно к мистерии, к таинству можно рассматривать как некий вполне кризисный симптом, следующий, очередной шаг в тотальной и фундаментальной «поступи означающих»[1034], шаг другого дискурса, может быть, иного Другого, ведь любое фантазирование в области нуминозного дает «выбросы» архетипических образов: мифологически-мистериальный, теургический мир вновь выбирается на поверхность сознания.
Гроб Господень – смысловой и сакральный исток собора
«Мертвый центр» никогда не бывает мертв.
Рудольф АрнхеймВпрочем, не так все страшно, ведь есть одно очень важное связующее звено между храмом и реликварием-монстранцем. Храм – место совершения Жертвы, остенсориум – место поклонения этой Жертве, воспоминание о ней, созерцание видимого напоминания об этой Жертве, то есть освященной гостии, медитация пред лицом знака Таинства Искупления и тайны Воскресения. Между этими событиями располагается еще одно священное событие и одна священная инстанция, обладающая своим местом, пространством и временем. Это Положение Христа во Гроб. Последний имеет два важнейших аспекта: это место погребения Бога, место его телесного смертного упокоения, знак Его Сошествия во ад и одновременно это знак его Воскресения. Первый аспект сокрыт от человеческого взора, второй обнаруживается именно при попытке узреть мертвого Христа и поклониться Ему. Существенно, что эти два смысла Гроб Господень символизирует косвенно, через отсылку к тому, что принадлежит иному плану бытия, хотя и предназначено для этого мира, адресовано человеку. Гроб Господень – прообраз всех возможных гробниц-реликвариев, начиная с саркофагов мучеников – свидетелей искупительной Жертвы и заканчивая собственно литургическими сосудами, прежде всего потиром и дискосом, соединение которых в некое единое целое и дает форму остенсориума. Собственно говоря, сама Литургия есть наиболее адекватный образ той череды событий, что составляют искупительное жертвоприношение.
В ней находится место и для Распятия, и для Погребения, и для Воскресения. Но, что особенно важно, Литургия не только воспроизведение Жертвы, но и ее возобновление, знак предвечности, сверхтемпоральности Заклания Агнца. Собственно говоря, поэтому Литургия только видимо завершается в данном богослужении. Реально она продолжается и в истории, и в сознании участников-причастников. Собственно, это и символизирует довольно древний (уже во II в.) обычай сохранения освященных Даров после Литургии: Христос неизменно пребывает в единстве со Своей Церковью, которая есть Его Тело, Литургия только на время приоткрывает завесу над Тайной мистического, вечного и постоянно возобновляемого communio.
Вокруг Литургии образуется своего рода сакраментальный «пояс», «зона» внелитургического почитания Богоприсутствия. Если можно так сказать, сама Литургия – это сотериологически-сакраментальное богопочитание, а весь комплекс обычаев вокруг Литургии (собственно говоря, все богослужение, приготовляющее к Литургии и следующее за ней в форме, например, процессий) – это его экклезиологически-реликварный аспект.
Повторим еще раз: Гроб Господень – знак Божественного присутствия-отсутствия, близости-недоступности, и эта только внешне парадоксальная ситуация точно воспроизводится в храмовом пространстве, где Литургия то совершается, то не совершается, притом что Христос продолжает присутствовать в Своей Церкви[1035].
Кроме того, в круге годичного богослужения существуют дни, которые еще ближе соприкасаются со страстными днями земной жизни Христа. И в эти дни в западно-христианской богослужебной практике, помимо Литургии и даже вместо Литургии, примерно с X века совершаются особые чинопоследования, воспроизводящие те самые события, что происходили вокруг Смерти и Воскресения Христа[1036]. Это именно символические depositio, погребение, или visitatio, посещение, в которых участвовали и некоторые священные предметы и изображения, например образ Распятия или даже мертвого Христа и освященная гостия. Но не менее важно, что эти литургические действа совершались вокруг изображения-копии Гроба Господня. Более того, уже с того же X века существует развитая практика литургических «духовных действ». По ходу, например, Visitatio Sepulchri три клирика, изображавшие трех жен-мироносиц, шествовали до специально выставленного «Св. Гроба», обменивались там антифонными репликами с двумя мальчиками в роли ангелов и возвращались к алтарю в хоре собора (т.н. Hochaltar), где совершались опять же антифонные песнопения уже на тему Воскресения. Гробницей первоначально служил специальный плат, в который в Страстную Пятницу оборачивалось Распятие, чтобы на Пасху быть из него извлеченным и «возвышенным». С XVI века, между прочим, вместо Распятия стал использоваться как раз монстранц. Более того, разновидностью Погребения было как раз использование крестов-реликвариев, с помещенной, например, внутри фигуры Распятого Христа освященной гостией. Изъятие гостии из «Гробницы» в пасхальную ночь, торжественное перенесение ее на Hochaltar и поклонение ей составляло чинопоследование т. н. Repositio Sacramenti. Постепенно вместо временного сооружения, приуроченного к Пасхе, стали изготовляться постоянные копии Гроба Господня, которые литургически и типологически можно соотнести со специфическими табернаклями-дарохранительницами[1037].
Но копии Гроба Господня в виде капелл ставились и на кладбищах, в том числе и там, где были похоронены, например, казненные преступники: близость к образу Гроба Господня давала и им надежду на Воскресение[1038]. Специфически францисканское благочестие уже Нового времени формирует практику поклонения Крестному пути в Иерусалиме, что порождает массу воспроизведений этого священного маршрута по всей Европе[1039].
Наконец, невозможно не учитывать и довольно ранний обычай посвящения Престолов и целых церквей sub voce Sancti Sepulchri, когда копия Св. Гроба, украшенная изображениями сцен Снятия со Креста, Оплакивания и Погребения, могла соединяться с самим Престолом. И, как совершенно резонно замечает Дальманн, «если каждый Престол мыслился в качестве Св. Гроба и благодаря гостии обретал связь с Телом умершего Христа, то тогда вполне возможно допустить, что и церковь могла строиться по образцу Анастасис»[1040].
Более того, всякий христианский храм потенциально есть образ Св. Гроба и внутри себя содержит его символ – Престол, на котором происходит Литургия. Потому-то любой христианский храм оказывается немного саркофагом-реликварием, вместилищем распятого Богочеловека. И потому-то получается, что Бог не всегда находится в нем. Именно ощущение этой временной мистической «недостачи» порождает и все Евхаристические споры, спровоцированные учением Беренгара Турского, и формирование особой Евхаристической мистики, кристаллизация и легитимизация которой – и учение о «реальном присутствии», и почитание Corpus Christi, что увенчивается установлением в XIII веке праздника Тела Господня[1041].
Но помимо смысловой и морфологической линии, берущей начало от иерусалимской Анастасис, всякий христианский храм имеет и более древнюю мистическую генеалогию, происходящую от целой череды еще ветхозаветных loci sancti, мест богоявления и богопочитания: Ноев ковчег, Скиния Завета, Храм Соломона. Общее у них у всех с Анастасис – невидимое присутствие Бога и наличие видимой, материальной святыни – или Ковчега Завета, или Гроба Господня. Отличие, однако, одно, но крайне важное: это разница между Заветом Ветхим и Новым.
Анастасис – это альтернатива ветхозаветному храму, она была возведена в период триумфа христианства над языческой верой, христианизации Империи и эллинизации и ромизации Церкви. Кроме того, – это представляется для нас крайне важным, – сами обстоятельства возведения и освящения этого храма связаны с арианскими спорами, в частности, оправданием Ария на Тирском соборе 331 года Так что акцент на телесном аспекте Жертвы кажется не случайным.
Вместе со всей чередой копий Анастасис, самого Гроба, на протяжении всего Средневековья сохраняется особое внимание к материальным доказательствам, видимым знакам свершившегося спасения. Кажется, что ранняя и средневековая Церковь упорно повторяет путь жен-мироносец, будучи не в состоянии, подобно им, охваченным страхом, заглянуть в глубь Гробницы…
И только в Литургии приоткрывается тайна пустующего Гроба, становится понятным, почему он пуст – потому что Жертва отныне приносится за стенами Храма, за пределами Закона. Христос – «иерей по чину Мельхиседекову», то есть приносящий жертву царь, имеющий свое Царство, что не от мира сего, и потому обладающий властью принести в жертву Самого Себя, причем там, где Он Сам того пожелает...
Храм Грааля – пространство богооставленности?
Отдаление Рая, играя,
Заглушало тоску о Граале.
Борис ПоплавскийТак что понятно, почему Храм Грааля как бы двусоставен: в нем таится символический зазор между Страстной Пятницей и Пасхой, и в этот промежуток умещается Страстная Суббота, характерная черта которой – отсутствие видимых событий[1042]. И если Литургия и совершается, то она имеет как бы дважды трансцендентный характер, ибо связана с самым потусторонним «спасительным событием» – Сошествием во Ад.
Из этого следует, что совершенно не случайно у Вольфрама «ein dinc» становится собственно Граалем именно в Страстную Пятницу, когда Литургию совершать не положено. Это как бы долитургический и одновременно необходимо и неизбежно вне-литургический аспект Мессы, ее предвосхищение, зарождение до и накануне Воскресения. И структура Храма св. Грааля – это структура Гроба Господня, где момент Смерти Бога выдвинут на передний план. Грааль – символ временной и только кажущейся богооставленности, «подвешенное» состояние мира после Голгофы, но до Воскресения. Но за этим состоянием сокрыта сама сердцевина тайны: приятие свершившейся Жертвы Тем, Кому она была принесена. Хотя и здесь явлен парадокс: Жертва возносится на Небо, но жертвенный Агнец спускается в нижние пределы бытия, до грани не-бытия, не-жизни, того состояния, что ниже самой смерти, до состояния подлинной богооставленности, то есть разлучения с Отцом[1043].
Так что Грааль оказывается теменосом, символизирующим целый ряд крайне важных, во-первых, переходов (от Ветхого Завета к Новому, от Погребения к Воскресению, от Страстной Пятницы к Пасхе), а во-вторых, переносов (ветхозаветной пасхи на новозаветную, Храма Соломона – на христианский храм).
И все же Гроб Господень остается неким промежутком, какой-то смысловой и онтологической паузой. Кажется, что это действительно некая отверстая пустота, заполняемая, в конце концов, живым свидетельствованием тех, кто заглянул внутрь, кто приобщился тайне смерти, чтобы иметь возможность причаститься, соучаствовать жизни.
Нет сомнения, что выставленный на всеобщее обозрение монстранц – сведенный к минимуму сакраментальный знак-жест, анаграмма всей Литургии, своего рода мистериальный троп-метафора, перенос в одну точку и совмещение всех страстных и пасхальных событий, чтобы сделать их предметом созерцания, медитации буквально для того, чтобы охватить их единым взором, не только мысленным, но и вполне телесным.
Существенно и то, что Чаша, которая была со Христом в Гефсиманском саду после Тайной вечери и которую Он пьет, присутствует и в Мессе. Не случайно в иконографии «Моления о чаше» она очень рано начинает изображаться в виде литургического сосуда[1044]. Более того, Христос Сам является Первосвященником, приносящим Себя в жертву, и Сам же ее принимает. Поэтому в совершаемой Мессе Он присутствует сразу в двух местах, в двух обличьях: в алтаре и в храме; Он как Глава своего Тела, не отделим от своей Церкви. Поэтому сакраментальным смыслом наполнено и пространство лаиков, созерцающих тайны алтаря (и таинства Неба) как бы с другой стороны (отсюда вся антифонная структура пасхальных действ)[1045].
И это обстоятельство возвращает нас к истокам готического формообразования, к обстоятельствам рождения того набора морфологических признаков, что условно именуется «готикой». Напомним, что разнообразная деятельность аббата Сугерия имела и визионерскую составляющую. Для него Небесный Иерусалим был объектом если не прямого мистического опыта, то, во всяком случае, некой эстетизированно-обрядовой (типично, видимо, клюнийской) медитации, конечно, далекой от молитвенной практики, например, Сито, Клерво и св. Бернарда.
Очевидно, что апокалиптическая тема весьма усложняет ситуацию: созерцание на тему созерцания лишает ситуацию непосредственной достоверности, так как в дело включаются процесс фантазирования и результаты деятельности воображения.
«Насколько я могу судить о природе этих видений, мне кажется правдоподобным, что уже в оригинальном тексте некие содержания, порожденные фантазирующей медитацией, облекли ядро какого-то подлинного сновидения, теснейшим образом с ним переплетаясь. <…> В конечном счете, видение есть не что иное, как прорвавшаяся в явь греза»[1046].
Именно об этой специфической промежуточной зоне воображения, как нам кажется, свидетельствует и «отец готики», рассказывая о своем визионерском опыте: «… Мне казалось, что я вижу себя обитающим неким, так сказать, образом в некоем странном месте вселенной, которое существует и располагается не полностью в мерзости земли или в чистоте Небес, и что я, Божией милостью, могу быть неким анагогическим образом перенесен из нашего дольнего мира в мир горний»[1047].
Полезно особенно подчеркнуть отождествление anagogicus mos с «переносом», буквально трансфером («materialibus ad immaterialia transferendo»). Хотя крайне важно уточнить и то, что Сугерий созерцает не буквально Небесный Иерусалим, и даже не буквально видение св. Иоанна Богослова, а дело своих собственных рук, «opus» собственного творческого воображения, которое позволяет ему подниматься над «мерзостью» земли, но не над самой землей.
«Чудеса превращения» – «размерность» Евхаристии, благочестия и морфологии
Но готику сопровождают видения и в собственно литургической области: череда Евхаристических чудесных видений. Они имеют сложную типологию, но всем им присуще одно решающее свойство – это опыт народного воображения, только отчасти объясненный тогдашней (и последующей) теологией таинства. Одновременно это и «победа народных экзотерических направлений над эзотерическими»[1048].
Но тем не менее, именно богословская рефлексия на тему Евхаристии дает самую адекватную аналогию между готикой и схоластикой, хотя последняя представляет собой только одну, самую риторическую и дискурсивную, форму средневекового богословия.
Т. н. чудеса превращения очень рано стали предметом богословских размышлений, но только в XIII веке удалось выделить проблему объективности чудесного зрелища. Видел ли чудо один человек или несколько, как долго длилось чудо (имело ли оно мгновенный характер, или «превращенное состояние» было устойчивым)?
Но одновременно существовала проблема и принципиально субъективных аспектов: кто видел чудо (был ли это благочестивый человек, для которого Младенец Христос явился в гостии в награду, или чудо, наоборот, имело обличительный смысл)? Но только св. Фома Аквинский (вслед за Альбертом Великим) сделал самое существенное различение: идет ли речь об оптическом эффекте, или превращение субстанции хлеба в кровоточащее тело имеет место в реальности.
Крайне важно, что раньше, то есть в XI-XII веках, такие вопросы не возникали по одной простой причине: даже на богословском уровне чудо такого рода воспринималось буквально. Александр Гальский был первым, кто, хотя и очень осторожно, но задумался о том, есть ли это присутствие «живого Христа». Проблему очень удачно уточнил Дунс Скотт, указав, что единственная цель «чудес превращения» – доказательство реальности присутствия Христа в Евхаристии, поэтому отдельное почитание чудесной гостии, которая есть только инструмент убеждения, – может привести к идолопоклонству, что и наблюдается нередко в простом народе. С другой стороны, по мнению, например, Петра Аурелия, необходимо и в этом случае различать положительное назначение чуда, например для укрепления веры или в награду, и, наоборот, чудо как наказание и обличение маловерия или богохульства. В первом случае можно говорить о реальности присутствия Бога, во втором следует ограничиваться предположением об оптическом эффекте. Но все эти концепции были возможны исключительно внутри францисканского, скоттистского богословия. Томисты вслед за самим Аквинатом рассуждали иначе: так как в пределах земного существования одновременное пространственное присутствие в разных местах («мультилокация») невозможно, то, значит, и Христос с точки земной реальности присутствует сейчас на Небе и невозможно допустить, чтобы Он был связан конкретной чудотворной гостией, долгое время пребывающей на определенном месте в том или ином храме. Последователи Дунса Скотта, повторяем, принципиально допускали наличие многих реальностей в одном и том же настоящем[1049].
«Но возникает вопрос: что в таком случае наблюдается, если, с одной стороны, превращение не есть просто оптический обман, а с другой, – никакая часть прославленного Тела или Кровь Христова не наличествует в настоящем?»[1050]. Это самый принципиальный вопрос, так как данные в XIII-XV веках ответы на него обнаруживают самые важные основы и мистериального, и рефлексирующе-экзегетического, и храмово-литургического сознания западного христианства.
Томистский ответ связан был с основополагающим учением св. Фомы о природе и структуре акциденций, которые могут быть как первичными, так и вторичными. Реальность присутствия Христа в Евхаристии (идея т. н. сакраментального Христа) обеспечивалась устойчивостью первичных акциденций – трехмерностью, пространственной протяженностью (dimensio) Св. Даров, которые в «нормальных» условиях совершения Литургии прелагались в субстанцию Тела и Крови, тогда как вторичные акциденции – форма, цвет, вкус, запах – оставались неизменными и делались «внешней оболочкой таинства, чувственными знаками Христова присутствия в настоящем»[1051]. В случае же «чуда превращения» ситуация несколько менялась, и богословское истолкование ее составляло известную трудность. Допуская взаимообусловленность первичных и вторичных акциденций, следовало признать, что отсутствие акциденций хлеба и вина означало отсутствие самого таинства и, следовательно, отсутствие в таинстве Христа (Альберт Великий и другие). Св. Фома доказывал обратное, используя аргумент чисто богослужебный: Христос присутствует, если ему возносятся молитвы и совершается поклонение (идея т. н. перманентности сакраментального настоящего). Впрочем, существовал и чисто метафизический аргумент: единственной подлинной «первичной акциденцией» является как раз dimensio, трехмерность, которая, несомненно, сохраняется, так что невозможно сомневаться в реальности сакраментального богоприсутствия. Это крайне важный момент: на самом деле именно непрерывность теофании, Откровения обусловливает и сакраментальное Богоприсутствие, на которое не влияют никакие исключительные обстоятельства, возникающие по ходу Мессы. Хотя и здесь имеется одно возражение, на которое у св. Фомы нет ясного ответа: не получается ли так, что исключительно эмпирические данные становятся доказательствами реальности Богоприсутствия? Многие даже из числа томистов склонны были отказаться от идеи «первичных акциденций», обращая внимание на такой немаловажный, если не решающий, фактор, как усилие веры, фактически формирующее как раз особую реальность, не совпадающую ни с реальностью дискретно-трехмерной, ни с континуально-темпоральной[1052].
Самое характерное в данной ситуации – это допущение того, что трансцендентное может быть хотя бы отчасти усвоено в своих акцидентальных свойствах, причем основа этих свойств, обеспечивающая буквально устойчивость и непрерывность теофании, – dimensio, трехмерность. Другими словами, допускается – особенно в массовом сознании – возможность «уловления» таинства, не просто материальность сакраментальных знаков, а соседство этой специфической трехмерности рядом с трехмерностью повседневной: Таинство может иметь свое пространство и свое время, к которому можно приобщиться в акте поклонения, физического, а не духовного, молитвенного приближения, как это предполагается в Мессе, которая не случайно повторяется каждый раз заново, так как каждый раз заново человеку дается шанс измениться, разделив с Богочеловеком не только славу Воскресения, но и унижение Голгофы. «Чудо превращения» принципиально меняет ситуацию: это действительно нарушение хода Мессы, то есть фактически Жертвоприношения, или его ускорение, смещение в область визуальной и сиюминутной реальности. Храм, в котором появляется и сохраняется чудесная гостия, становится уже чем-то иным, не совсем Храмом, так как «чудо превращения» заменяет один способ богообщения на другой, Литургия явно отходит на задний план. Кажется, что наконец символ заменяется реальностью, особенно если вместо гостии появляется Младенец Христос.
Но это чудо прямо происходит из Литургии, зависит от нее. Возникает впечатление, что народная вера требует окончательного исхода Литургии, стремится к «последней Литургии» и достигается это почти насильственным прорывом к трансценденции… Причем насильственность надо понимать буквально: ведь нередко чудо имеет увещевательный или обличительный характер, оно обращено к конкретной личности, испытывающей сомнение или просто враждебно настроенной. «Чудо превращения» в этом случае – своего рода трансцендентный «окрик сверху», некое кардинальное, сильнодействующее средство, родственное тому, что случилось со св. апостолом Фомой, которому было предложено воочию и осязательно убедиться в Воскресении. Собственно говоря, Голгофа – самая решительная мера в истории мира и человечества. Ее подлинное повторение – но уже с участием мира – станет возможно только в конце мира, а все, что находится между – в обязательном порядке должно происходить прикровенно, в замещающих, как мы уже показали, хотя и не подменяющих, структурах Литургии. Поэтому любая фиксация Литургии именно как таинства воспоминания, таинства, освящающего время, приводит к остановке мира. В реальности храм продолжал оставаться храмом только потому, что, несмотря на «чудо превращения», Месса возобновлялась. Более того, теологическая рефлексия в духе св. Фомы смогла «нейтрализовать» его указанием на обязательную инстанцию dimensio, то есть смещением «разговора» в область аристотелевского эссенциализма. Возведение реального храма, в котором вместо чуда транссубстанциации происходило бы «чудо» трансакциденциации, то есть бесконечное обличение мира и человека, означало бы появление или торжество совсем иной религии, просто противоположной христианству. Такого рода храм был возведен только в поэтическом воображении, если не считать «предварительные» опыты катаров, святилища которых находились в пещерах… Храм Грааля, можно сказать, – это вывернутая наизнанку манихейская (и платоновская) пещера, зеркальное отражение всего того, что происходит в христианстве[1053].
Но возможно и альтернативное (отчасти) толкование: основная акциденция – dimensio, которая обеспечивает сакраментальное presentio. Но что является границей этой сакраментальной «размерности»? Не сам ли созерцающий, приобщающийся, причащающийся, то есть вступающий в общую с Богом реальность, становящийся частью этой реальности?
Если это «размерность» близости, включенности, расположенности, любви (то есть налицо все акциденции таинства как онтологической ситуации), то, значит, это размерность ипостасная. Но тогда становится понятным «вынесение за скобки» посредством «дискурса Грааля» всей сакральной архитектуры как пространства, вещества, формы таинства, то есть акциденции второго порядка.
Об этом и свидетельствует как раз структура Храма Св. Грааля.
Храм Грааля – архитектонический и темпоральный симптом
Всякая точка времени в настоящем потенциально представляет собой священное время, способна в любой момент времени стать священным временем. «Профанное» время и «священное» время суть области, которые появляются благодаря не принципу, а культовым действиям, благодаря конкретной актуальности совершающихся и свершившихся процессов.
Курт ГольдаммерСамое важное и самое таинственное, что мы замечаем в Граале, – это то, что он не твердая субстанция, а флюид <…> В любом случае гостия <…> составляет самую сокровенную сущность Грааля.
Ларс-Ивар РингбомПервостепенное значение имеет тот факт, что Чаша Св. Грааля участвует в Тайной Вечери, а затем присутствует и на Голгофе, обозначая собой продолжение (реализацию) Жертвы в Распятии (Предвечная Жертва и Ее образ – Тайная Вечеря – обретают еще один символ в литургическом анамнезисе и – в виде Грааля – в литературной метафорической фиксации).
Крайне существенно – быть может, это самый главный аспект Грааля, – что историческое измерение задается временным и сверхвременным промежутком между Тайной Вечерей и Голгофой – то самое время и безвременье Гефсимании, в которой, однако, тоже фигурирует Чаша, изображаемая, между прочим, всегда как Евхаристический потир. Одновременно здесь налицо переход в план (в перспективу) личного выбора (то есть в Граале можно разглядеть экзистенциальное время, открытое к смерти, текущее или скорее «стекающее с бытия»).
Храм земной как terminus, как предел земных поисков священного (со-умирание Христу и упование Воскресения). Исчерпание Храма как образа – в Евхаристической явленности и доступности прообраза в Св. Дарах, которые, однако, могут усваиваться и как архетипические феномены (прежде всего в народном сознании), то есть вновь в пределах данного, земного бытия, ограниченного уже областью, сферой, «регионом» души, психики.
Попробуем теперь выяснить, какое пространство формирует, подразумевает Грааль, какой «мир» складывается вокруг него. Крайне показательно, что Граалю требуется собственный Храм…
Замечательный исследователь проблемы Грааля Ларс-Ивар Рингбом начинает свое фундаментальное исследование описанием храма св. Грааля, уточняя его в свете последних текстологических исследований[1054]. Наше внимание должны привлечь следующие моменты:
В целом храм – гигантская ротонда (ок. 180 м диаметром), состоящая из внешнего кольца капелл-алтарей, каждый алтарь содержит внутри себя реликварии, священные изображения, росписи и кивории. Каждый алтарь снабжен специальным механизмом, с помощью которого во время Мессы сверху спускается изображение голубя (ст. 18-25).
В центре гигантской ротонды имеется уменьшенная ее копия – «Святая Святых». Это как бы ротонда в ротонде (видимо, тоже с венцом капелл по кругу). В центре находится еще один алтарь, и уже там содержится собственно Св. Грааль[1055].
Рингбом в целях составления «чистого», отвлеченно-универсального образа Храма Грааля, не упоминает о его очень конкретном и многочисленном скульптурном убранстве (статуи, например, евангелистов), о наличии в нем всевозможных механических приспособлений (часы, орган). Эти подробности обстановки придают Храму Грааля очень конкретный вид – он оказывается вполне укорененным в готической традиции и в позднесредневековом храмовом благочестии. Кроме того, очевидно, что автор этого описания представлял в своем воображении это сооружение, он описывал свои зрительные образы, хотя при этом, отдельные детали своей чисто практической нереальностью напоминают нам о виртуальности, сочиненности, а не построенности этого «сооружения», о его литературном происхождении. На самом деле перед нами, можно сказать, один из ранних образцов «бумажной архитектуры», архитектурной аллегории-утопии. Для того чтобы восстановить первоначальный образ Храма, помимо текста «Титуреля» полезно более раннее, более описательное, менее аналитическое, но и менее избирательное, по сравнению с текстом Рингбома, исследование Б. Ретлисбергер[1056]. Алтарная часть каждой капеллы устроена так, чтобы священник мог смотреть во время Мессы на восток. Не совсем понятно, как это можно сделать практически – ведь упоминается и леттнер, служащий одновременно и балдахином для дополнительного алтаря, впрочем, и над каждым главным Престолом – свой киворий-балдахин и велум[1057]. Особая проблема – механизм с голубем, который в нужный момент Мессы опускается сверху к Престолу. Голубь[1058], в свою очередь, выпускает ангела, который как раз и достигает Престола, доставляя гостию для освящения. В малом храме, то есть в Святая Святых, высоко вверху покоится Св. Грааль. По стенам этого внутреннего храма – тоже статуи святых и истории их жизни на свитках.
Первое впечатление, возникающее от знакомства с такой «архитектурой», – это то, что обретенный в своем Храме Грааль – очевидный возврат к началу, причем, как бы по инерции минуя собственно евангельскую историю, возврат прямо к дохристианским, может быть, даже доветхозаветным, временам (вспомним, что, согласно литературной традиции, Чаша была сделана из камня, украшавшего корону т.н. «нейтрального ангела», воздержавшегося от схватки с Денницей).
Но стоит допустить, что воспроизводится все-таки некоторая положительная теофания, что Грааль – образ (или инструмент) богоприсутствия, соучастия божества в судьбе мира здесь и сейчас, то тогда ситуация с Храмом Грааля требует прояснения с точки зрения связи всей этой и пространственной, и смысловой структуры с Евхаристией, с совершающейся там же Мессой. Правда, возникает вопрос, а одновременно ли совершается Месса с пребыванием покоящегося рядом Грааля?..
Или, быть может, данная ситуация аналогична «чуду превращения»? В этом случае картина несколько проясняется: «реальное присутствие» Христа в таинстве удостоверяется, доказывается живым присутствием Грааля. Близость его – просто условие совершения таинства: своего рода материализовавшаяся «тайносовершительная формула». Мы склонны именно так толковать всю эту структуру потому, что «Святая Святых» Грааля – это все-таки гигантский остенсориум, окруженный целым сонмом настоящих храмов, хотя если бы центральное пространство не описывалось как отдельный не просто алтарь, а именно храм, то мы могли бы эту самую «святая святых» воспринимать просто как дополнительный Престол в средокрестье. Но в реальности все несколько сложнее: в большую ротонду, состоящую из венца капелл-храмов, вставлен малый храм, предназначенный для Грааля, который, повторяем, помещен где-то наверху. Или даже все сооружение предназначено для Грааля, так что это огромный литургический сосуд, дарохранительница-остенсориум, для которого отдельные Евхаристии (если здесь уместно множественное число) – только украшения, только элементы-вставки обрамления, камни в короне Грааля… Все дело только в том, что в настоящих остенсориумах хранится сама святыня, освященная гостия. Получается, что Грааль – это буквально запасные дары, сохраняемые на крайний, последний случай, своего рода причастие конца времен…[1059]
Храм Грааля – для его хранения, то есть это не настоящий храм, где совершается жертвоприношение, а скорее канопа, в лучшем случае – капелла, в худшем – прообраз всех музеев XIX и XX веков.
Это как бы остановленная, если не прерванная, Евхаристия. Важно, что Грааль становится святыней только один раз в году – на Страстную пятницу (Karfreitag). Иначе говоря, существуют две возможности:
– Грааль есть конечная святыня, тогда его храм – образ «земного рая»;
– Грааль есть образ, отпечаток, метафора небесной реальности, тогда его храм – вообще не храм, а именно сокровищница в которой хранится нечто наподобие чтимого нерукотворного образа[1060].
Как выйти из этого затруднительного положения? Можно предположить вслед за Рингбомом, что Грааль – это не предмет, не чаша, не камень, не дискос, а сама истинная, первичная, изначальная, домирная субстанция, так что подобное отношение с ней допустимо не только мистериально, но и вообще онтологически[1061]. Но тогда теряют всякий реальный характер те самые Литургии, что совершаются «по соседству», буквально – «по краям».
Кроме того, Храм Грааля, да и святую гору Монсальват, непрестанно охраняют рыцари, за внешней стеной постоянно отражая атаки врагов. Грааль, согласно Вольфраму (и не только ему) находится в осаде[1062]. А венец капелл – внутреннее кольцо обороны от внешнего врага, последний рубеж защиты. Так что же Евхаристия: служит прикрытием, укрытием, средством спасения или «отвлекающим маневром»?[1063]
Все дело в том, что вознесенному вверх в своем внутреннем святилище Граалю ничего не соответствует здесь, внизу. Или вся скала из оникса – Престол для Грааля? Или – вся земная твердь, вся Земля?..
Фактически, в середине Храма Грааля остановлено движение сверху вниз и снизу вверх, прервано сообщение между двумя сферами бытия. Снимается двоичность, бинарность и диалогичность мироустройства. Небесное возносится вверх, земное остается внизу. Горнее и дольнее разводятся по своим изолированным регионам. Кроме того, проблема заключается и в том, что все знаки христианской церкви, в первую очередь – Евхаристия, тоже удерживаются в нижнем регистре.
Или Грааль освобождает место внизу чему-то еще, поднимается вверх, чтобы очистить путь чему-то такому, что следует по смыслу за ним? Еще раз, что значит это противопоставление: внизу и по краям множественность Евхаристии, наверху и в центре – единичность, единственность, уникальность и одиночество Грааля? Структура данного сакрального (если сакрального) пространства – центробежная: главное с христианской точки зрения находится на периферии, главное – на выходе вовне, туда, где происходит непрестанная битва рыцарей Грааля…
Хотя все может быть гораздо сложнее: ведь мы исходили из того, что именно Евхаристия составляет реальность теофании, а Грааль – только символ. А что, если эта ситуация отражает и предполагает совершенно иную духовность, когда как раз месса – только знак, а реальность – в «вещи», именуемой Граалем, в его вещественности, субстанциональности и, главное, самодостаточности? Тогда, допустимо было бы сказать, открывается перспектива как раз «земного рая». Но вернее было бы выразиться иначе: открывается ретроспектива утраченной сердцевины мира, земного бытия и одновременно разверзается перспектива милленаристской «революции собора», которую поминает в своей книге Зедльмайр. «Грааль можно соотнести с некой господствующей сердцевиной мира, которая в некотором смысле управляет и звездами <…> Подобно им и [Граалю] тоже присуща похожая роль некоего instrumentum макрокосма: свои силы он черпает в Боге (через гостию) <…> Благодаря тому что Грааль во многом подобен макрокосму, его вполне можно обозначить как малое отображение или концентрацию всего того творения, что располагается между Богом и человеком. Так что смысл и функции Грааля – быть средством общения с Богом. <…> Сходство Грааля с совершенным творением одновременно определяет его как некую райскую dinc, что подтверждается его происхождением из райского пра-времени. Поэтому точнее Грааль можно описать как Рай in nuce; он пребывает в согласии с той частью творения, которое остается в прежнем – райском и неповрежденном – состоянии. В связи с этим кажется не лишенным смысла связывать Грааль с райским камнем, присутствующем в легенде об Александре Македонском»[1064].
Грааль на самом деле не находит себе места даже в собственном Храме… «Подвижность» Грааля, скоротечность его явления людям, избирательность видения, неопределенность, так сказать, топографическая и субстанциональная, – все это не позволяет локализовать Грааль в богослужебной повседневности. Точнее говоря, все это признаки исключенности Грааля не только из канонической (уставной) литургической практики, но и вообще – из земного бытия Церкви.
Впрочем, нельзя, повторяем, забывать о сугубо текстуальной природе этого храма и, как хочется порой надеяться, самого Грааля. Это описание-экфрасис, если не фантазии, то некоторого видения, реализация некоторой интенции, связанной с замещением отсутствующей материальной святыни святыней воображаемой. Мы еще раз сталкиваемся, вероятно, с ситуацией мирского восприятия Евхаристии, когда кажется недостаточным пассивное приятие совершившегося Пресуществления. Дело в том, что для мирянина оно есть только результат, а не процесс, как для священника. В земной Мессе эти две инстанции, две стороны Литургии разведены, соединение возможно только усилием веры.
Поэтому-то так существенно понимать Литургию во всей совокупности ее смыслов, и за sensus tropologicus, который мы только что поминали, стоит со всей неизбежностью и sensus historicus, составляющий смысловое основание и Евхаристии, и, между прочим, того пространства, в котором она совершается. И этот исторический смысл возвращает нас к евангельским событиям: к Распятию, Снятию со Креста, Погребению, посещению Гроба и не-обретению Те л а Спасителя, но – обретению вести о Воскресении[1065].
Иначе говоря, крайне важно заметить, что главное, центральное событие христианской керигмы обращается вокруг пустого пространства, связанного с местом погребения, перехода и т. д. В данном случае это место опустошено, середина отсутствует, точнее говоря, в ней нет Того, Кого надеялись найти, встретить именно здесь. Но это была неточная, неверная надежда, основанная на ошибочно истолкованных словах и делах Учителя, лишенная веры в Воскресение, причем именно телесное Воскресение Того, Кто именовал себя «путем и истиной» (Ин. 14, 6), то есть и целью, и средством ее достижения.
В Воскресении упраздняется прежняя телесность и одновременно выясняется, что новую, изменившуюся следует искать и обретать в другом месте, там, где встреча была назначена заранее (Галилея, не Иерусалим!). В любом случае Грааль – это место и вместилище, но если его нет здесь и сейчас, то, значит, оно освобождает место Другому, в котором соединяется и священник, и мирянин (в данном случае Царь).
Подобное суждено было и Парсифалю, и его рыцарское священство – тоже символ сакраментального порядка: он сам и вся его жизнь – «акциденция» Первосвященника, принесшего жертву вне стен Иерусалимского Храма. И эта жертва – Он Сам, Его собственное Тело, которое и есть подлинный Храм, согласно евангелисту Иоанну Богослову.
Поэтому идея Рингбома[1066] относительно реального существования одной «главной» гостии не совсем верна, так как, по нашему мнению, необходимо учитывать всю феноменологию чудотворных гостий, которых было много, а единственным, уникальным феноменом оказывается нечто иное – именно факт трансформации или одного внешнего облика облатки, или даже ее субстанции. Правда, в плане метафизическом и мифологическом жертва Мельхиседека действительно есть первое литургическое чудо, иначе говоря, возможно выявить «миф о происхождении», возвращении к единственному истоку (и источнику), что и дает право говорить о некоей единственной и, соответственно, подлинной гостии[1067]. Возможность поиска актуализирует некий путь, странствие по лику земли, поиск и обретение земной, посюсторонней святыни, участие в мистерии центра мироздания[1068].
Подобная потребность обретения первоначала, заставляющая двигаться из настоящего в прошлое, делает все исторически актуальные святыни – в том числе и Храм Гроба Господня в Иерусалиме – только промежуточными пунктами этого движения, так сказать, вспять по историческому времени и поперек сакрального времени, то есть вечности. «В церкви Гроба Господня невозможно найти Прото-Грааль», – замечает Рингбом.
Но в том-то и дело, что Гроб, повторяем, обретается как пустой, ибо в Нем открывается иное измерение, другое состояние, иная онтология, где врéменное Отсутствие Бога есть знак Его Предвечного Присутствия и побуждает хотя бы на время как раз прервать земные странствия, остановиться, чтобы, вероятно, уже себя обрести как предмет поиска, хотя, быть может, требуется особое мужество продолжать движение земными, вещественными, материальными путями, чтобы в конце пути остановиться у очевидного порога, предела[1069].
Поэтому если прав Рингбом, говоря о «мистериальном параллелизме» христианства и зороастризма, то из этого невозможно сделать вывод о сходстве сакраментальном, так как в христианстве присутствует крайне специфический аспект кенозиса-жертвы – самоупразднения, священного отсутствия, покоя-смерти Бога (причем не без транстемпоральных коннотаций). Поиск продолжается, если он открывает новые грани бытия, можно сказать, творит новые стороны реальности, ведь в этом поиске участвует сама трансценденция.
В этом смысле крайне важно представлять себе всю ситуацию Тайной Вечери, где Богочеловек-Первосвященник Сам Себя приносит в жертву и Сам же разделяет с учениками жертвенную, пасхальную трапезу. И это – только начало: Христос покидает трапезу, чтобы принести себя в жертву еще раз – но уже, если можно так выразиться, на другом уровне реальности, в другой реальности, в другом состоянии времени и мира. И эта новая реальность как раз этой жертвой и сотворяется.
Но крайне существенно, что речь все-таки идет о поиске. Подразумевается путь, движение, совершаемое и в пространстве (пространство храма, пространство паломничества), и во времени (земное странствие «народа Божия», общины, Церкви, то есть исполнение времен). Причем «пространство» и «время» следует понимать и чисто инструментально: как познавательные метафоры ориентации, выбора правильного пути (через поиск примет этой самой «правильности»).
Поэтому стоит говорить не о двух аспектах Грааля, как у Рингбома (ему принадлежат первые два пункта)[1070], а о трех:
1) сосуд, вместилище (акцент на внешнем виде Грааля, его форме);
2) содержимое (субстанция Грааля, из чего сделан и что вмещает);
3) те действия, что с Граалем совершаются (его использование).
Очень показательно эту триаду иллюстрирует эволюция формы реликвария в Средние века: в романскую эпоху – это закрытый сосуд в форме храма (внешний аспект). В эпоху готики происходит освоение в богословии таинства (и соответственно закрепляется в новой форме реликвария) уже второго пункта этой триады: осуществляется субстанциальная привязка Евхаристии (тезис о транссубстанциации и реальном присутствии в Евхаристии всего Христа, Christus totus)[1071]. Постепенно акцент переносится на содержимое сосуда. И это содержимое обретает собственную форму (независимую от сосуда). Причем форму вполне абстрактную, геометрическую (круг – гостия). Акцент теперь – на устойчивости, телесности: Св. Кровь как бы исчезает из поля зрения. Она именно становится неуловимой, невидимой, единовременной, так как это Кровь Голгофы.
Еще раз напомним порядок событий, в которых фигурирует Грааль: после Тайной Вечери Чаша оказалась пустой, удерживается в Гефсиманском саду и оказывается вновь «наполненной» на Голгофе, чтобы затем исчезнуть: ведь Тело Христово было прободено язычником, то есть внешним. Поэтому и Кровь была излияна вовне, в мир профанный, в нем Она растворилась, пропитала то пространство, которое только должно будет наполниться Евангелием, именно Св. Кровь и есть та закваска Царства Божия, о которой говорит Христос.
Именно гостия становится сосудом для Св. Крови, подобно тому как тело – вместилище крови.
Другими словами, подлинная сакральная телесность теперь как бы сжимается, обретает свои отчетливые границы внутри освященной гостии. Уже литургический сосуд рядом с этой подлинной сакральностью – только обрамление. Что уж говорить о храмовом пространстве! Храм – уже не мир иной, это только ограждение от профанного мира, только обрамление, только фон. Но с другой стороны, возникает впечатление, что сакральным смыслом начинает обладать уже одно только присутствие рядом с подлинной сакральностью. Важна остановка, может быть, перед самым главным шагом.
Ситуация начинает напоминать (или повторяет) сцену перед Голгофой: стояние у Распятия, соучастие в жертвоприношении, созерцание, молитва и одновременно какая-то нерешительность, ожидание чего-то большего и оцепенение одновременно. То самое, что именуется «тайной Субботы» и что уже наполнено предчувствием-предвкушением Воскресения.
Рингбом весьма удачно определяет Грааль как unicum. Это «актуальная реализация» сакральной персональности, неповторимости. Однако это своеобразная персональность – персональность без субъекта (это не сам Христос): всего лишь субстанциональная, а не ипостасная уникальность[1072].
Но у Рингбома Грааль является unicum в количественном смысле: есть некоторая вещь, которая одна претендует на звание святыни (другое дело, что эти претензии обусловлены ее сущностными свойствами).
Но можно и нужно смотреть на этот Грааль-unicum и качественно: это персональная, личностная единственность, неповторимость в силу невозможности повторения и в силу всеобъемлющего характера этой «вещи», точнее говоря, того, самым непосредственным знаком чего (Кого) эта вещь выступает, а именно – corpus Christi.
Действительно, есть литературный Грааль (Грааль-мотив), а есть, с одной стороны, пра-Грааль (если двигаться вспять по чисто мифологически-исторической оси), а с другой – сверх-Грааль (если совершается движение трансцендирующее).
Другими словами, Грааль может быть уникальным в силу своей подлинной трансцендентности или потому, что призван быть знаком того, что выходит за пределы множественности. Или знаком самого этого выхода, то есть смерти, жертвенной смерти. Если означающее остается на одном онтологическом уровне, а означаемое – на другом, трансцендетно ему, то тогда неизбежно актуализируется инстанция прагматическая: «потребитель» знака, его адресат сам оказывается втянутым в отношения данной символизации, редуцирующей его, адресата, фактическое присутствие по эту сторону означающего. Именно такова онтология подлинного мистериального акта. Вопрос состоит только в том, насколько Грааль является таковым.
Если двигаться в сторону мифа и в сторону, альтернативной христианству духовности, то придется отправиться на восток, в область дуалистических религий, например манихейства, а через него – к митраизму и зороастризму. В результате и впрямь можно сделать вывод, что Грааль – это освященная гостия, символизирующая в контексте «мистерии Гохара» через образ и мотив священной Пра-Жемчужины субстанцию священного Тела зороастрийского Спасителя (эта субстанция, говоря конкретно, – его семя)[1073].
Но можно совершить иконологическое, мифологическое паломничество и на Запад, уже к кельтским истокам западного христианства, что дает тему и мотив, например, священной ихтиофагии, обряда инициации через поедание рыбы. Важно, что в обоих случаях акцент делается на поглощении, вмещении святыни, ее, так сказать, интериоризации со стороны участвующего в ритуале[1074]. Еще один – уже чисто «северный» – мифологический маршрут – это, конечно же, дуалистическая скандинавская мифология, где «глаз Одина» может тоже рассматриваться как эквивалент и гостии Грааля; и образов сирийских литургических текстов, и даже той жертвы, что «отец племени» приносил «царю деревьев» согласно якутской космологии[1075].
Если же мы допускаем трансцендентность Грааля, то тем самым возникает обратная ситуация: предполагается поглощение со стороны Другого.
Поэтому не случайно Месса служит в Храме Грааля оболочкой для посюстороннего Грааля: утрата земной святыни означает обретение святыни небесной. Чтобы совершить «редукцию» этого мира, необходимо повернуться к нему лицом и увидеть его, этот мир, в его несвятости (его святыня укрыта от него же в крепости-храме). Именно в этом заключается высокий и безысходный трагизм «земного рая» – это мир, предоставленный самому себе, избавленный, освобожденный, очищенный от собственной святости, тайны и таинства, мир, который вывел сам себя «за скобки» благодати.
Возвращение к этому миру, прохождение сквозь него, шествие его путями (вместе с ним) к Тому, Кто сущностно на него не похож, но его, этот мир, оправдывает и принимает, приобщает Себе, – вот в чем заключается sensus plenus дискурса о Граале: Грааль есть тот центр мира, который оказывается одновременно только серединой пути, ведь «человеческая ситуация», инстанция мирского человека – это на самом деле посредующее звено в иерархии бытия. Говоря конкретно, от «Храма Грааля» только начинается путь, ведущий, например, к «Внутреннему замку» св. Терезы Авильской. Эпоха готики одновременно и завершает весь предыдущий путь христианства, и открывает новую, барочную перспективу, точка схода которой – уже на горизонте Нового времени, а может быть, и на горизонте этого эона, за пределами которого – Новый Иерусалим, – Град Божий, свободный от храма, «ибо Господь Бог Вседержитель – храм его и Агнец» (Откр. 21.22.). Это еще одно истолкование характерной приметы Храма, описанного в «Младшем Титуреле», – помещение в его центре той самой неуловимой «вещи», именуемой Граалем, которая, видимо, все-таки знаменует конец тех странствий, что неизбежны в этой жизни.
Поэтому-то, например, готический собор стремится стать образом всего мира-универсума: в нем нельзя находиться всегда, его можно посетить, чтобы приобщиться к святыни, и его надо покинуть, подобно тому как мы оставляем или даже покидаем этот мир, дабы эту святыню сохранить в себе, то есть, в более достоверном, реальном храме – в храме собственной бессмертной души, ставшей вместилищем святыни, благодатным сосудом Духа…[1076]
Если материальный, земной христианский храм и является образом, иконой, то исключительно Небесной церкви, экклесии. Важен этот сущностный переход: храм – церковь, «дом Господень» – «собрание верующих». Только так можно понять необходимость храма как символа, призванного обозначать незаконченность, незавершенность данного уровня рассмотрения (в данном случае уровня земного) и возможность выхода на более высокий уровень (то есть важнейшая функция храмового символа – анагогическая). Только так можно избежать той типичной тавтологии, что присуща семиотике архитектуры («архитектура – иконический знак архитектуры»).
Так что образ Храма Грааля – это попытка (быть может, на уровне бессознательных эпистем) своего рода архитектонической экзегезы евангельской сотериологии, которая, в свою очередь, как было показано, имеет прямые экклезиологические коннотации[1077].
Современный богослов Эври Даллз, говоря о «модели» Церкви как мистическом общении, выделяет два варианта понимания этой экклезиологической парадигмы и указывает на «некоторое напряжение между Церковью как дружеским межличностным общением и Церковью как мистическим приобщением к благодати. <…> Что важнее: Церковь как дружеское братство людей или как мистическое общение, имеющее свою основу в Боге? Первый взгляд, преобладающий в некоторых формах протестантизма, склонен расчленять Церковь на множество автономных конгрегаций; последний, более распространенный в восточном монашестве, кажется одобрением своего рода бегства в мистический внутренний мир. <…> Во многих случаях попытка найти в Церкви наилучшее межличностное общение приводит к фрустрации, если не к отпадению. Когда Церковь обещает общение, она не всегда предлагает его в предельно очевидных формах. Христиане обычно воспринимают Церковь как скорее братство путешественников, идущих одним маршрутом, а не как союз возлюбленных, обитающих в одном жилище»[1078].
Но симптом Храма Грааля позволяет не только описывать модели и способы богообщения, встречи с теофанией, но через это – оценивать их в культурно-историческом контексте, понимая историю сакральной архитектуры не просто как историю культа, но и как историю благочестия, обнаруживая в ней критические парадигмы храмового сознания. Из всех этих объективно непростых вопросов можно сделать один несложный вывод: все выше обозначенные проблемы связаны именно с «нынешним» состоянием и церкви, и верующих; это проблемы мира, одновременно и преобразившегося под действием Евангелия, и сохраняющего отличие от мира небесного; это проблемы земной церкви и земной Литургии, и земного храма. Поэтому в рамках земной онтологии, земного «онтологического таинства» христианское средневековое храмовое сознание удерживало равновесие между двумя реальностями: реальностью непосредственного литургического опыта, почти не отличавшегося по своей структуре от опыта повседневности, и реальностью богословской Евхаристической герменевтики. Последняя имела символический, то есть метафорический, «трансферный», опосредующий, характер и назначение. Она соотносилась с первой, как можно заметить, посредством третьей – через практическое, моральное измерение веры, дававшей, в конечном счете, последний и одновременно, вероятно, первичный и универсальный аспект всего того, что мы именуем храмовым сознанием. Как существует различие между миром земным и миром небесным, между Христом страждущим и прославленным, между церковью «воинствующей» и «торжествующей», так существует и разница между «внутренним» и «внешним» культом (выражения Аквината).
Эта разница онтологически должна присутствовать, и она должна приниматься, претерпеваться, поддерживаться и переживаться структурами верующего сознания и формами храмового праксиса в широком смысле слова, включающем и Литургию, и собственно сакральное пространство, и зодчество.
Чтобы, так сказать, оттенить средневековую точку зрения, полезно представлять принципиально иной взгляд на Евхаристию и, соответственно, на храм и «мистерию Грааля». Существенно, что этот угол зрения станет актуальным не в XIII, а только в XVI столетии, продолжая, однако, тенденцию, обозначенную уже в позднем Средневековье, – желание вывести проблему из жестких тисков аристотелевской метафизики и платонического спиритуализма, снять давление объективизма, переместив разговор внутрь сознания, точнее говоря, открыв новую объективность – реальность нравственного сознания, вступающего в общение с Богом через общение с ближним: «Грааль – это Логос, Слово Божие, которое в силах быть сообщенным человеку в любой момент. Это свидетельство из мира иного, которое в этом мире способно стать доступным непосредственно, помимо церкви и отцов церкви, помимо соборов и папской санкции, совершенно как в эпоху апостолов и пророков. Грааль <…> сродни Св. Писанию на Престоле в церковном алтаре, однако он есть не документ исторического Откровения а символ живого настоящего Господа. <…> Религиозная идея Грааля не знает трансформации материи; кушанье не есть Тело и Кровь Господа, это пища совместной трапезы общины, пребывающей в Божественном настоящем. Функции священника понимаются не магически, а спиритуалистически: он возвещает свершившуюся перемену сердец. Таинство Грааля – это все еще mysterion, sacramentum в старом, раннехристианском смысле слова “тайна”. Чудо веры, являющее Церкви ее Господа, представляет собой чистое деяние Божие; посредничество Короля Грааля остается исключительно душевным, пророческим и апостольским. Церковь является собранием верующих и их Господа, Который в самой сердцевине Церкви символизируется Граалем, посланным с Неба ангелом[1079].
Но в том-то и дело, что в контексте готической парадигмы даже Грааль нуждается в своем Храме, хотя этот храм и отличается от собора, в «самой сердцевине» которого – Евхаристия как все-таки Пресуществление, как Таинство, продолжающее историю и прелагающее ее в спасительную благодать.
Imago pietatis как двухмерная проекция собора (и его истолкование)
Своего рода кристаллизация всех полумистических, полуэстетических переживаний именно готического, а не, например, кальвинистского благочестия происходит в особом типе медитативного изображения, в т. н. imago pietatis, где объединяются практически все сюжеты, связанные со страстными событиями. Не случайно один из вариантов именуется Vesperbild (имеется в виду связь с вечером Страстной Пятницы: Оплакивание-Pietá). Этот тип изображения – почти буквальная семантическая проекция собора на плоскость.
Важно то, что они имеют литургическое происхождение – то же, что и в другом типе imago pietatis – т.н. Johannesminne[1080]: там – «эпизод предельной интимности, взятый из Тайной Вечери, здесь – из сцены Оплакивания»[1081]. Еще В. Пиндер указывал, что «поэтическое напряжение Оплакивания в Vesperbild становится пластически осязаемым».
Можно уточнить: связь с Литургией как раз и выражается в максимально личном отношении с Богом, Которого даже можно осязать, правда, только когда Он мертв, когда Он предлагает Себя в качестве жертвы. Лютцелер обращает внимание на то, что в немецкой пластике в сцене Vesperbild речь идет о «напряженном лирическом монологе»[1082]. На самом деле это не монолог: готовящийся умереть, мертвый и воскресший Бог отвечает, но уже на мистериальном – сотериологическом и литургическом – уровне, в своем Воскресении даруя воскресение своему Телу, то есть Церкви.
Это парадокс и евангельской керигмы, и литургического символизма, и того позднесредневекового благочестия, которое основано на персональной и эмоциональной мистике.
Но одновременно это и парадокс, как мы хотели показать, христианской экзегезы, пытавшейся в своем средневековом изводе служить связующим звеном между священной историей, евангельской керигмой и мистериальными аспектами Церкви. Эта экзегеза носила преимущественно аллегорический характер и вынуждена была балансировать между историей спасаемого человечества и сверхисторией человечества спасенного. В течение как раз раннего и зрелого Средневековья вырабатываются две когерентные парадигмы: система смыслов Св. Писания и состояний Церкви: «Экзегеза апокалиптического видения civitas coelestis указывает на анагогическое значение “Иерусалима”. <…> Апокалипсис сам превращает аллегорию в средство определения Небесного Иерусалима. А там, где истина открывается непосредственно, нет нужды ни в каком символе. Если апокалиптическое видение – всего лишь символическая конструкция, представляющая собой с точки зрения sensus anagogicus как раз signum, знак patria coelestis, то в этом случае само небесное отечество в Апокалипсисе не созерцаемо. <…> Тезис Зедльмайра об отличии готического собора от романской церкви как отображения Небесного Иерусалима, не имеет основания in re. К Небесному Иерусалиму готический собор не ближе собора романского. Западный портал готического собора не есть porta coeli, а всего лишь porta, принадлежащие ecclesia universalis или ecclesia praesens. Представление Бандманна о том, будто каролингский вестверк и романская церковь воспроизводят Град Иерусалим, – не более чем представление, это есть результат ассоциации, а вовсе не иконографическое исследование. <…> Не существует никакой специфической церковной символики, свойственной именно готике или романике. Однако ecclesiae symbola, представляющие собой результат экзегезы, сами могут становиться условием символической конструкции. Начиная с патристики, в дискуссии о возможности христианского искусства выдвигается постоянно аргумент, что наглядная репрезентация символа в образе необходима для познания “духовного смысла”. Этот довод оказывается предпосылкой того, что архитектура сама становится интерпретацией церковной символики. Не существует отчетливых отношений между архитектурой и символическим значением. <…> Интерпретация церковной символики посредством архитектуры не должна допускать ложную метафизику. “Конструктивный принцип готики” – это никакая не “дематериализация”. Готическая архитектура интерпретирует символы: altitudo, fenestrum, oraculum и т.д. Она не только воспроизводит signa, но и отдельно указывает на процесс трансцендирования. Она показывает и символ, и одновременно то, что он есть не просто материальная вещь, а нечто большее. <…> Готика, подобно Св. Софии, способна воспроизводить трансцендирование символа исключительно в качестве зрелища-видения. Тем самым она, однако, превращает это трансцендирование в то, от чего познание “духовного смысла” как раз обязано абстрагироваться. Правда, в этой несоразмерности изображения готический собор обнаруживает себя в качестве художественного творения, являя в этом момент самодостаточности вопреки собственным предпосылкам. Не существует специфически готической или романской церковной символики. Но ecclesiae symbola, которые суть результат экзегезы, в состоянии сами становиться условием символической конструкции»[1083].
Можно сказать, что готическая архитектура указывает и на то, что это самое «трансцендирование» связано с переносом-выходом смысла за пределы трехмерного объема, функционирующего как обрамление и актуализация сакрального пространства в двух своих аспектах: пространства богослужения и пространства собрания. Эти два аспекта объединены литургически, когда теофания открывается как communio, то есть экзистенциально и мистериально одновременно. Точка схода – ипостась Богочеловека и личность верующего. Именно последующая (следующая за Евхаристией) рефлексия, заполняющая смыслом «отсутствие» Бога, как раз и порождает процесс аллегорической интерпретации, которая есть, повторяем, одновременно и трансцендирование, ибо аллегория – вид тропа, разновидность «метаболы», выводящей сознание за пределы видимого, материально ограниченного храма, если выражаться опять же метафорически. Эти выходы имеют те же векторы, что и основные уровни смысла в экзегетических процедурах: буквальный смысл – актуализация референта (в том числе истории), аллегорический смысл – актуализация экзегетики, скрытого, непрямого смысла Писания (в том числе и текстов его истолкования), тропологический (моральный) смысл – указание на человеческую душу (в том числе и на возможность этой души к изменению), наконец, анагогический смысл – это, как нам кажется, актуализация потенциальной «трансферности», диафаничности уровней бытия.
Переход между рядами и уровнями смысла подразумевает усилие интерпретатора-зрителя, его созерцательную, то есть медитативную, активность, приобщение к тому самому «онтологическому таинству». Он тоже вершит свой opus, на что справедливо указывает тот же М. Бюксель.
Интертекстуальность Собора: зазор и выход
Но самом деле, как нетрудно заметить, вся трудность заключается в совмещении целой череды, так сказать, серии «гетерономных» текстуальностей – знаков непосредственной теофании («дела спасения»), знаков-символов Св. Писания, символов мистериально-богослужебных. На институционально-коллективном уровне полем значимой интерактивности этих смысловых полей оказывается христианский Храм, который, однако, как мы хотели показать, может и сам быть источником новых смыслопорождающих дискурсов, связанных и с активностью индивидуального благочестия, и с бессознательными структурами храмового пространственно-пластического «синтаксиса».
Возникает новый виток новой интертекстуальности, порождающей символы, так сказать, обратной и обращенной, негативной «храмовости»: теменос, как и полагается архетипическому образу, является своей скрытой доселе стороной: он уже не объем, не сосуд, а граница, знак и признак выхода, перехода и преодоления. В контексте зрелого и особенно позднего Средневековья объект преодоления – институционально-аллегорическая, дискурсивно-опосредованная парадигма благочестия, заменяемая непосредственно-визуальной практикой богообщения[1084].
Грааль в таком случае – подлинный интертекстуальный символ-симптом, метаисторический и метакультурный, свободно обращающийся как в текстуальной реальности, так и в межтекстуальной. Это не собственно архетип, это и не спонтанный образ «нуминозной» активности, а скорее отрефлексированная, эстетизированная, если не отработанная симптоматика храмового сознания, претерпевающего достаточно радикальные трансформации. Грааль – негативный знак, знак Божественного отсутствия, которое порой более значимо, чем присутствие, особенно если «Божественная пустота» переживается в том типе сакрального пространства, которое образовано молитвенным собранием верующих[1085]: «…Показательно <…>, что пространство религиозного собрания исполняет и совершенно иную функцию в качестве нуминозного пустого пространства. Можно постоянно наблюдать, как сильно воздействует не заполненное, фактически пустое, просто не обрамленное богослужебное пространство. Молитвенные залы буддизма, мечети (а в них совершенно по-особенному – незаполненная молитвенная ниша михраба), “пустые” зальные позднеготические церкви, прежде всего те, что перешли в реформированное употребление (где-нибудь в Голландии). Они все – выражение нуминозного, и за пределами своего богослужебного использования они являют с совершенно потрясающей интенсивностью то самое Нечто, Священное. <…> Есть особая символика пустоты, предназначенной для Божественного, для Трансцендентного…»[1086]
Стоит заметить следующее: то, что стало явным в протестантизме, скрыто происходит в Новое время и в католичестве эпохи барокко: пустым, а значит, и заполняемым вместилищем Божественного становится уже человеческая душа, совершающая собственное паломничество в поисках «внутреннего замка», а в нем – в поисках Бога.
«…Душу можно сравнить с замком из цельного алмаза или ясного кристалла, в котором много комнат, как в раю много обителей. <…> Не стоит тратить силы, стремясь уразуметь красоту замка. <…> В этом замке <…> много комнат: одни наверху, другие внизу, третьи – по сторонам, а посреди – самая главная, где и совершается сокровеннейшее общение между Богом и душой. <…> Так и кажется, что я говорю несуразное, ибо, если замок – наша душа, незачем в него и входить, это мы и есть – ведь нелепо сказать, чтобы вошел в комнату тот, кто уже в ней. Но поймите, что пребывать можно по-разному. <…> Насколько я могу понять, ворота в замок – молитва и размышление. <…> Прежде чем идти дальше, я скажу вам: подумайте о том, как опасно видеть сверкающий, прекрасный замок, эту жемчужину Востока (выделено нами. – С.В.), это древо жизни, посаженное у вод живых, если ты – в смертном грехе»[1087].
Хотя ту же цель можно обретать и вообще вне стен храма-замка, находясь в непрерывном странничестве по жизни: «В христианстве обычаи странничества, прежде всего паломничества в Иерусалим, соединяются с мыслью о вечном Иерусалиме, взятой из круга символики Рая, с мыслью о пути жизни, о странствовании в пустыне израильтян, с мыслью о вообще странствующем народе Божием, то есть со всем тем, что предлагает Новый Завет, наследуя культовое, повествовательное, символическое и метафорическое богатство Ветхого Завета. В результате это приводит к идее небесного пути странника. <…> В реформационном идейном мире <…> возникает благочестие и богословие “бытия как скрытого пути”, неустанного и никогда не прекращающегося странствования по этой земле, благочестие и богословие духовного паломничества, которое в качестве переживания становится самостоятельной ценностью, специфической формой религиозного бытия, даже если цель узревается как сверхземная и внемирная величина, принадлежащая совершенному миру»[1088].
В заключение мы должны вновь вспомнить о той «дистанции» между верой и разумом, что столь серьезно волновала умы готической эпохи. За этим стоит более универсальный «порог», отделяющий человеческую экзистенцию – реализованную, осуществленную, «просветленную», ставшую прозрачной для Света – от той, что обнаруживает себя в модусе заботы, «заброшенности», сомнения, в критическом состоянии, неспособной локализовать «эго» в тотальной топографии личностного микро– и онтологического макрокосма: «Благодаря своей визуальной логике собор являл собой образ космического порядка. <…> Вследствие этого человек понимался не более как фрагмент внутри единого творения, и, не будучи в состоянии самостоятельно обрести эту тотальность, он находил себе место в пределах Царства Божия. Достигая подобной конечной цели, вера превосходила разум, и состояние смирения было императивом. Поэтому собор конкретизировал не только разум св. Фомы Аквинского, но и смирение св. Франциска Ассизского. А Бог приближался вплотную к человеку не только чтобы его просветить, но и чтобы в смысле человеческой экзистенции присутствовали любовь и милость. Выйдя из собора, экзистенциальное значение, присущее христианству, было перенесено на среду человеческого обитания как единого целого, и город занял то самое место, в котором средневековый космос воспроизводил живую реальность»[1089].
Тот факт, что архитектуроведение плавно переходит в нравственное богословие, должен нас только вдохновлять, так как это симптом прежде всего методологического порядка. Наша аналитика-интерпретация может для пользы дела уподобляться своему предмету, то есть собору, который является, несомненно, прежде всего мистагогическим инструментом, проявлением универсального anagogicus mos[1090]. И этот путь предполагает такую ценностную иерархию, внутри которой историческая наука далеко не вершина.
Если сакральное пространство и его оболочка – храмовое сооружение – средство реализации иллокутивной функции теофании, то любой «рассказ» о храме, будь то экзегеза смысла, именуемого ecclesia symbolorum, будь то поэзия («Храм Грааля»), – все это будет уже реализацией фатической функции. Тем более что в этом аспекте мы видим наглядно общую риторику Храма как обращения-увещевания вовне. Поддержание речи подразумевает внимание к синтаксису, к «форме», иначе говоря, актуализацию и «эстетической функции», а вместе с ней и благодаря ей… того «открытого творения», что рождает «непрерывное кружение» форм ( У. Эко), в том числе и «критических». Любая «критичность» скрывает надлом, паузу, зазор, остановку, сбой, «фрустрацию» и т.д. И все это отражается на смысле и особенно остро протекает в той его области, что наполняется так или иначе Священным.
В таком случае кризисы – это уже, возможно, и вынесение приговора, который может быть и окончательным, если свершаются «времена и сроки». Таким способом в храмовое пространство и храмовое сознание вторгается эсхатон.
Но критические формы способны и прервать замкнутый круг «эстетической функции». В образовавшийся структурный разрыв нечто может проникнуть извне: структурно-критическая форма становится экзистенциально-критической. Ведь может наступить конец, окончательное состояние. Хотя и здесь важно не ошибиться и понять, что все только начинается.
И новое тело уже будет принадлежать обновленной душе – в свободе от всякого символа[1091].
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Следует оговорить тот момент, что наша библиография не претендует на полную исчерпанность и охватывает преимущественно литературу последних десятилетий (если не считать обязательных классических текстов), воспроизводя в первую очередь смысловой подход к архитектуре. Но внутри этого подхода присутствует вполне традиционная рубрикация по всем аспектам архитектуры, но взятая, повторяем, с точки зрения смысла. А также – с точки зрения методологических парадигм, моделей, концепций, установок. Уже поэтому данная библиография исполняет расширительную и дополняющую функцию по отношению к основному тексту книги, посвященной малой части того, что можно назвать понимающим искусствознанием вообще и интерпретирующим архитектуроведением в частности. Фактически, данная бибилиография исполняет и роль некоего тематического указателя, охватывающего в том числе и все возможные виды отношения к архитектуре, и способы обращения с ней, и формы ее изучения. Где-то на горизонте подобного аналитического и одновременно поэтического пространства рисуется всеобъемлющая герменевтика, оберегающая и питающая всякое человеческое усилие, обращенное в поисках смысла в том числе и к архитектуре.
Немалая часть литературы приводится в Примечаниях к основному тексту и поэтому в Библиографии, как правило, не дублируется. Как без труда заметит внимательный читатель, в данной библиографии почти не представлены отдельные статьи.
Методология истории искусства в целом
1. Adams, Laurie. Te Methodologies of Art: an Introduction. New York, 1996.
2. Altmeister moderner Kunstgeschichte. Heinrich Dilly (Hrsg.), Berlin, 1990.
3. Appuhn, Horst. Einführung in die Ikonographie der mittelalterlichen Kunst. Darmstadt, 1991.
4. Te Art of Art History: a Critical Anthology. Donald Preziosi (ed.) Oxford, 1998.
5. Bätschmann, Oskar. Einführung in die kunstgeschichtliche Hermeneutik. Die Auslegung von Bildern. Darmstadt, 1992.
6. Bazin, Germain. Histoire de l’histoire de l’art: de Vasari à nos jours. Paris, 1986 (русск. пер.: М., 1995).
7. Belting, Hans. Te End of the History of Art? [Das Ende der Kunstgeschichte?]. Chicago, 1987.
8. Belting, Hans; Dilly, Heinrich; Kemp, Wolfgans; Sauerländer, Willibald; Warnke, Martin (Hrsg.). Kunstgeschichte. Eine Einführung. Berlin, 1990.
9. Belting, Hans; Dilly, Heinrich und Kemp, Wolfgang. Kunstgeschichte. Eine Einführung. Berlin, 2003.
10. Bogen, Stefen; Brassat, Wolfgang und Ganz, David. Bilder – Räume – Betrachter. Köln, 2006.
11. Brassat, Wolfgang und Kohle, Hubertus. Methoden-Reader Kunstgeschichte. Köln, 2003.
12. Dilly, Heinrich. Kunstgeschichte als Institution: Studien zur Geschichte einer Disziplin. Frankfurt am Main, 1979.
13. Frankl, Paul. Das System der Kunstwissenschaf [1938]. Berlin, 1998.
14. Fruh, Clemens; Rosenberg, Raphael; Rosinski, Hans-Peter. Kunstgeschichte – aber Wie? Zehn Temen und Beispiele. Berlin, 1990.
15. Gombrich, Ernst. «Kunstliteratur». Atlantisbuch der Kunst: eine Enzyklopädie der bildenden Künste. Zürich, 1952. P. 665-679 (англ. пер.: «The Literature of Art». Translated by Max Marmor // Art Documentation, 11. No. 1, Spring 1992).
16. Gooch, G. P. History and Historians in the Nineteenth Century. 2nd edition. New York, 1952.
17. Gowan, James. Style and Confguration. New York, 1994.
18. Histoire de l’histoire de l’art: cycles de conférences organisés au musèe du Louvre par le Service culturel, du 10 octobre au 14 novembre 1991 et du 25 janvier au 15 mars 1993. Pommier, Edouard (ed.), 2 vols. Paris, 1995-1997.
19. Imdahl, Max. Giotto. Arenafresken. Ikonographie – Ikonologie – Ikonik. Stuttgart, 1996.
20. Jahn, Johannes (ed.) Die Kunstwissenschaf der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Bd. 1-2. Leipzig, 1924.
21. Jencks, Charles. What is Post-Modernism? London, 1986.
22. Johnson, W. McAllister. Art History: Its Use and Abuse. Toronto, 1988.
23. Kaufmann, Georg. Die Entstehung der Kunstgeschichte im 19. Jahrhundert. Opladen, 1993.
24. Kemp, Wolfgang. Der Betrachter ist im Bild. Kunstwissenschaf und Rezeptionsästhetik. Berlin, 1992.
25. Kleinbauer, W. Eugene. Modern Perspectives in Western Art History: An Anthology of 20th-Century Writings on the Visual Arts. New York, 1971.
26. Kleinbauer, W. Eugene. Research Guide to the History of Western Art. Sources of Information in the Humanities. No. 2. Chicago, 1982.
27. Köhler, Helmut. Strukturale Bildlichkeit. Studien zum Begrif der Struktur in der Kunstgeschichte. München, 1984.
28. Kopp-Schmidt, Gabriele. Ikonographie und Ikonologie. Köln, 2004.
29. Kultermann, Udo. Geschichte der Kunstgeschichte: Der Weg einer Wissenschaf. Wien-Düsseldorf 1966]. 2nd ed., Frankfurt am Main – Wien, 1981.
30. Kultermann, Udo. Kleine Geschichte der Kunsttheorie. Darmstadt, 1987.
31. Kunsthistoriker in eigener Sache. Zehn autobiographische Skizzen. Martina Sitt (Hrsg.). Berlin, 1990.
32. Lavalleye, Jacques. «Histoire de l’histoire de l’art» // Encyclopédie de la Pléiade: Histoire de l’Art. vol. 4. Paris, 1969. P. 1320-1366.
33. Locher, Hubert. Kunstgeschichte als historische Teorie der Kunst 1750-1950. München, 2001.
34. Lützeler, Heinrich. Kunsterfahrung und Kunstwissenschaf: systematische und entwicklungsgeschichtliche Darstellung und Dokumentation des Umgangs mit der bildenden Kunst. Bd. 1-3. Freiburg i. Br., 1975.
35. Minor, Vernon Hyde. Art History’s History. New York, 1994.
36. Moxey, Keith and Holly, Michael Ann. Art History, Aesthetics, Visual Studies. New Haven – London, 2003.
37. Te New Art History. A. L. Rees and F. Borzello (eds.). New York, 1988.
38. Panofsky, Erwin. «The History of Art» In Te Cultural Migration: Te European Scholar in America. Introduction by W. Rex Crawford. P. 82-111. Philadelphia, 1953 [rep.: «Three Decades of Art History in the United States», in Meaning in the Visual Arts, 321-346. Garden City (NY), 1955 (русск. пер.: СПб., 1999).
39. Pakesch, Peter. Abbild: Recent Portraiture and Depiction. Princeton, 2002.
40. Pfsterer, Ulrich; Zimmerman, Anja. Animationen/Transgressionen. Das Kunstwerk als Lebewesen. Berlin, 2005.
41. Podro, Michael. Te Critical Historians of Art. New Haven – London, 1982.
42. Prager, Brad. Aesthetic Vision and German Romanticism: Writing Images. Rochester (NY), 2006.
43. Preziosi, Donald. Rethinking Art History: Meditations on a Coy Science. New Haven – London, 1989.
44. Prochno, Renate. Das Studium der Kunstgeschichte. Eine praxisorientierte Einführung. Berlin, 2003.
45. Rebeyrol, P. «Art Historians and Art Critics» [series] // Burlington Magazine, 44 June (1952). P. 196f.
46. Rotberg, Robert I. and Rabb, Teodore K. Art and History: Images and Teir Meaning. Cambridge (Mas.), 1988.
47. Salerno, Luigi. «Historiography» // Encyclopedia of World Art. 7. P. 509-559. New York, 1959-68.
48. Schwarzer, Mitchell. «Origins of the Art History Survey Text» // Art Journal, 54 (Fall 1995). P. 24-29.
49. Schlosser, Julius von. Die Kunstliteratur: Ein Handbuch zur Quellenkunde der neueren Kunstgeschichte. Wien, 1924.
50. Schlosser, Julius von. «Stilgeschichte» und «Sprachgeschichte» der bildenden Kunst // Sitzungberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaf. Philos.-hist. Abteilung, 1935, Hef 1.
51. Schmarsow, August. Grundbegrife der Kunstwissenschaf am Übergang vom Altertum zum Mittelalter [1902]. Berlin, 1998.
52. Sousslof, Catherine. «Historicism in Art History» // Encyclopedia of Aesthetics, 2. P. 407-12.
53. Springer, Anton. «Kunstkenner und Kunsthistoriker» // Neuen Reich, 11 (1881). S. 737-758.
54. Spruit, Leen. Species Intelligibilis: From Perception to Knowledge: Renaissance Controversies, Later Scholasticism and the Elimination of the Intelligible Species in Modern Philosophy // Brill’s Studies in Intellectual History. Vol. 2. Gronningen, 1995.
55. Straten, Roelof van. Einführung in die Ikonographie. Berlin, 2004.
56. Tiel, Manfred. Enzyklopädie der geisteswissenschaflichen Arbeitsmethoden. Lfg. 6. Methoden der Kunst– und Musikwissenschaf. München – Wien, 1970.
57. Tietze, Hans. Die Methode der Kunstgeschichte. Leipzig, 1913.
58. Waetzold, Wilhelm. Deutsche Kunsthistoriker. 1-2 Bde. [1921-1924]. Berlin, 1986.
59. Wölfin, Heinrich. 1864-1945: Autobiographie, Tagebücher und Briefe. Joseph Ganter (Ed.). Basel, 1984.
60. Women as Interpreters of the Visual Arts, 1820-1979. Contributions in Women’s Studies 18. Sherman, Claire Richter and Holcomb, Adele M. (Eds.). Westport (CT), 1981.
61. Zaunschirm, Tomas. System der Kunstgeschichte. Dissertation der Universität Salzburg, 5 // Verband der wissenschaflichen Gesellschafen Österreichs. Wien 1975.
62. Ванеян С.С. Искусствознание как наука и как поэзия // Русский исторический вестник. № 3.
63. Ванеян С.С. «Возникновение собора» и возрождение науки // Искусствознание. 2/99.
64. Ванеян С.C. Пределы смысла и границы пространства. Проблемы интерпретации архитектуры в искусствоведческой рефлексии переходного периода // Искусство и наука об искусстве в переходные периоды истории культуры. М., 2000. С. 327-346.
65. Россинская Е.И. Новые методы анализа выразительности архитектуры. М., 1981.
66. Славина Т. А. Исследователи русского зодчества. Л., 1983.
67. Славина Т.А. Проблемы исследования в архитектуре. Дисс. д-ра архит. Л., 1985. Т. 1.
68. Ювалова Е.П. О некоторых интерпретациях ранней и высокой готики в современном западном искусствознании // Современное искусствознание Запада о классическом искусстве XIII-XVII вв. М., 1977.
Теория архитектуры в целом
69. Abercrombie, Stanley. Architecture as Art: an Esthetic Analysis. New York, 1986.
70. Ackerman, James S. Origins, Imitation, Conventions: Representation in the Visual Arts. Chicago, 2002.
71. Alexander, Christopher. Te Phenomenon of Life: Nature of Order. An Essay on the Art of Building and the Nature of the Universe, Vol. 1. Toronto, 2004.
72. Ballantyne, Andrew. Architecture Teory: A Reader in Philosophy and Culture. New York – London, 2005.
73. Benjamin, Andrew. Architectural Philosophy: Repetition, Function and Alterity. New York – London, 2000.
74. Benoît Goetz. La Dislocation. Architecture et philosophie. Paris, 2001.
75. Brinette, P. ; Wills D. (eds.). Deconstruction and the Visual Arts: Art, Media, Architecture. Cambridge (Mas.), 1994.
76. Bruyn de, Gerd, Truby, Stephan. Architektur_theorie.doc. Texte seit 1960. Basel – Boston – Berlin, 2003.
77. Capon, Smith David. Architectural Teory. Vol. 1: Te Vitruvian Fallacy: A History of the Categories in Architecture and Philosophy; Vol.2: Le Corbusier’s Legacy – Principles of 20th Century Architectural Teory by Category. New York, 1999.
78. Choay, Francoise. Rule and the Model. Cambridge – London., 1997.
79. Colin St. John Wilson and Roger Stonehouse. Architectural Refections: Studies in the Philosophy and Practice of Architecture. Manchester, 2000.
80. Collins, Peter. Architectural Judgement. Toronto, 1971.
81. Cook, Peter Bettella, Andrea (Ed). Te Paradox of Contemporary Architecture: the Lowe Lectures. London, 2003.
82. Davidson, Cynthia (ed.). Anybody. Cambridge (Mas.), 1997.
83. Davidson, Cynthia (ed.). Anyhow. Cambridge (Mas.), 1998.
84. Davidson, Cynthia (ed.). Anymore. Cambridge (Mas.), 2000.
85. Davidson, Cynthia (ed.). Anyplace. Cambridge (Mas.), 1995.
86. Davidson, Cynthia (ed.). Anytime. Cambridge (Mas.), 1999.
87. Davidson, Cynthia (ed.). Anything, Cambridge (Mas.), 2001.
88. Davidson, Cynthia (ed.). Anyway. New York, 1994.
89. Davidson, Cynthia (ed.). Anywhere. New York, 1993.
90. Davidson, Cynthia (ed.). Anywise. Cambridge (Mas.), 1996.
91. Diani, Marco (Ed.); Ingraham, Catherine A. (Ed.). Restructuring Architectural Teory. Evanson (Ill.), 1989.
92. Dripps, R. D. Te First House Myth. Paradigm and the Task of Architecture. Cambridge (Mas.), 1999.
93. Evans, Robin. Translations from Drawing to Building and Other Essays. Princeton, 1996.
94. Foster, Michael (ed.). Architecture. Style, Structure and Design. London, 1982.
95. Gelerntner, Mark. Sources of Architectural Form: a Critical History of Western Design Teory. Manchester, 1995.
96. Gidion, Sigfried. Space, Time and Architecture. Cambridge (Mas.), 1941 (сокр. русск. пер.: М., 1975).
97. Gins, Madeline, «Arakawa». Architectural Body. Tuscaloosa (Alabama), 2002.
98. Gregotti, Vittorio. Inside Architecture. Cambridge (Mas.), 1996.
99. Hubbard, William Jr. Teory for Practice Architecture in Tree Discourses. Cambridge (Mas.), 1996.
100. Harbison, Robert. Tirteen Ways: Teoretical Investigations in Architecture. Cambridge (Mas.), 1997.
101. Hearn, Fil. Ideas Tat Shaped Buildings. Cambridge (Mas.), 2003.
102. Heynen, Hilde. Architecture and Modernity: a Critique. Cambridge (Mas.), 1993.
103. Hill, Richard. Designs and Teir Consequences: Architecture and Aesthetics. New Haven – London, 1999.
104. Ingraham, Catherine. Architecture and the Burdens of Linearity. New Haven-London, 1998.
105. Ingraham, Catherine. Architecture, Animal, Human: Te Asymmetrical Condition. London, 2005.
106. Jencks, Charles and Karl Kropf (eds.). Teories and Manifestoes of Contemporary Architecture. New York, 1997.
107. Johnson, Paul-Alan. Te Teory of Architecture: Concepts, Temes and Practices. New York, 1994.
108. Jonathan Hill (ed.). Architecture: Te Subject Is Matter. London, 2000.
109. Jormakka, Kari. Heimlich Manœuvers. Ritual in Architectural Form. Weimar, 1995.
110. Krier, Leon. Architecture: Choice Or Fate. London, 1998.
111. Kwinter, Sanford. Architectures of Time: Toward a Teory of the Event in Modernist Culture. Cambridge (Mas.), 2002.
112. Leach, Neil. Te Anaesthetics of Architecture. Chicago, 2000.
113. Lynch, Kevin. What Time is Tis Place? Cambridge (Mas.), 1972.
114. Mitchell William J. Te Logic of Architecture: Design, Computation, and Cognition. Cambridge (Mas.), 1990.
115. Noever, Peter (ed.). Architecture in Transition: Between Deconstruction and New Modernism. München, 1991.
116. Pevsner, Nikolaus, Richards, J.M. and Sharp, Dennis. Anti-rationalists and the Rationalists [1972, 1978]. Oxford, 2000.
117. Pahl, Jurgen. Architekturtheorie des 20. Jahrhunderts: Zeit-Räume. München; 1999.
118. Papadakis, Andreas. Te End of Innovation in Architecture. London, 1998.
119. Perelmann, Marc. Construction du corps. Fabrique de l’architecture Figures, histoire, spectacle. Paris, 1994.
120. Perez-Gomez, Alberto. Architecture and the Crisis of Modern Science. New York, 1985.
121. Pevsner, Nikolaus. Sources of Modern Architecture and Design. London, 1968.
122. Picon, Antoine; Ponte, Alessandra (eds.). Architecture and the Sciences: Exchanging Metaphors. Princeton, 2003.
123. Piotrowski, Andrzej and Robinson, Julia Williams. Te Discipline of Architecture. Minneapolis, 2001.
124. Rudofsky, Bernard. Architecture without Architects: a Short Introduction to Non-Pedigreed Architecture. Albuquerque, 2001.
125. Rybczynski, Witold. Te Look of Architecture. New York, 2003.
126. Saarinen, E. Te Search for Form in Art and Architecture [1950]. New York, 1985.
127. Sauter, Florian, Mateo, Josep Lluis (Eds.). Natural Metaphor. An Antology of Essays on Architecture and Nature. Barcelona – New York. 2007.
128. Schafer, Debra. Te Order of Ornament. Te Structure of Style: Teoretical Foundations of Modern Art and Architecture. Cambridge, 2003.
129. Scruton, Roger. Te Aesthetics of Architecture. Princeton, 1996.
130. Siegel, Kurt. Strukturformen der modernen Architektur. Stuttgart, 1960 (русск. пер.: М., 1963).
131. Stansfeld-Smith, Colin, Conway, Hazel, and Roenisch, Rowan. Understanding Architecture: An Introduction to Architecture and Architectural History. London, 1994.
132. Teymur, Necdet. Re-architecture: Temes and Variations. Liverpool, 2002.
133. Transparences. Sous la direction de Pascale Dubus, Maître de conferences à l’Université Paris I. Textes de Maurice Brock, Claude Frontisi, Jean-Pierre Gref, Michel Makarius, Tierry Paquot, Marc Perelman, Emmanuel Saulnier et Anca Vasiliu. Paris, 1998.
134. Tschumi, Bernard. Architecture and Disjunction. Cambridge (Mas.), London., 1996.
135. Unwin, Simon. Analysing Architecture. London, 1997.
136. Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture [1966]. New York, 1977.
137. Watkin, David. Te Rise of Architectural History. London, 1980.
138. Wigley, Mark. Architecture of Deconstruction: Derrida’s Haunt. Cambridge (Mas.), 1995.
139. Zumthor, Peter. Tinking Architecture. Basel, 2006.
140. Азизян И.А., Добрицына И.А., Лебедева Г.С. Теория композиции как поэтика архитектуры. М., 2002.
141. Габричевский А.Г. Морфология искусства. М., 2002.
142. Некрасов А.И. Теория архитектуры [1945-1946]. М., 1994.
143. Раппапорт А.Г., Сомов Г.Ю. Форма в архитектуре. Проблемы теории и методологии. М., 1990.
144. Ревзин Г. И. Очерки по философии архитектурной формы. М., 2002.
145. Соболев Н.А. Общая теория изображений. М., 2004.
146. Таруашвили Л.И. Эстетика архитектурного ордера от Витрувия до Катрмера де Кенси. М., 1995.
147. Теория архитектуры. Сборник научных трудов под ред. И.А. Азизян. М., 1988.
148. Шевелев И.М. Логика архитектурной гармонии. М., 1973.
История архитектурной теории
149. Ackerman, James S. Distance Points: Studies in Teory and Renaissance Art and Architecture. Cambridge (Mas.), 1994.
150. Biesler, Jörg. BauKunstKritik. Deutsche Architekturtheorie im 18. Jahrhundert. Berlin, 2005.
151. Borden, Iain and Rendell, Jane. Intersections: Architectural Histories and Critical Teories. London, 2000.
152. Bouvier, Béatrice. l’edition d’architecture à Paris au 19-e siecle: les maisons bance et morel et la presse architecturale. Geneve, 2003.
153. Buonazia Irène; Marc Perelmann. Giulio Carlo Argan (1909-1992). Historien de l’art et maire de Rome. Paris, 1999.
154. Ulrich (Hrsg.). Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts. Berlin – Frankfurt am Main – Wien, 1964.
155. Coenen, Ulrich. Die spätgotischen Werkmeisterbücher in Deutschland als Beitrag zur mittelalterlichen Architekturtheorie. Untersuchung und Edition der Lehrschrifen für Entwurf und Ausführung von Sakralbauten. München, 1990.
156. Concerning Architecture: Essays on Architectural Writers and Writing Presented to Nikolaus Pevsner. Baltimore, 1968.
157. Contessi, Gianni. Ecritures dessinées. Art et architecture de Piranèse à Ruskin. Gollion (Suisse), 2002.
158. Crook, J. Mordaunt. Te Architect’s Secret: Victorian Critics and the Image of Gravity. London, 2003.
159. Dohmer, Klaus. In welchem Style sollen wir bauen? Architekturtheorie zwischen Klassizismus und Jugendstil. München, 1976.
160. Evers, Bernd a. o. Architectural Teory. From the Renaissance to the Present. Köln, 2006.
161. Fichet, Françoise. La théorie architecturale à l‘âge classique. Sprimont, 1995.
162. Frankl, Paul. Te Gothic Literary Sources and Interpretations Trough Eight Centuries. New York., 1959.
163. Germann, Georg. Einführung in die Geschichte der Architekturtheorie. Darmstadt; 1993.
164. Günther, Hubertus. Deutsche Architekturtheorie zwischen Gotik und Renaissance. Darmstadt, 1987.
165. Günther, Hubertus. Das Studium der antiken Architektur in den Zeichnungen der Hochrenaissance. Tübingen, 1988.
166. Huet, Bernard. Sur un état de la théorie de l‘architecture au XXe siècle. Paris, 2003.
167. Jencks, Charles and Kropf, Karl Teories and Manifestoes of Contemporary Architecture. London, 2006.
168. Jormakka, Kari. Geschichte der Architekturtheorie. Wien, 2002.
169. Jormakka, Kari. Architekturtheorie und dergleichen. Wien; 2004.
170. Hanisch, Ruth; Lampugnani, Vittorio Magnago; Schumann, Ulrich M. Architekturtheorie 20. Jahrhundert. Ostfldern – Ruit, 2004.
171. Heuer, Christopher P. Te City Rehearsed: Te Architectural Worlds of Hans Vredeman de Vries (Te Classical Tradition in Architecture). New York, 2009.
172. Hays, Michael K. (Ed.). Architecture Teory since 1968. New York, 1998.
173. Hubertus, Gunther. Deutsche Architekturtheorie zwischen Gotik und Renaissance. Darmstadt, 1988.
174. Kruf, Hanno-Walter. Architekturtheorie. Von der Antike bis zur Gegenwart. München, 1985.
175. Lavin, Sylvia. Quatremere de Quincy and the Invention of a Modern Language of Architecture. Cambridge (Mas.), 1992.
176. Lefaivre, Liane, and Tzonis, Alexander (Eds.). Te Emergence of Modern Architecture: A Documentary History from 1000 to 1810. London – New York, 2003.
177. Leniaud, Jean-Michel et Bouvier, Béatrice (ed.). Periodiques d’architecture. XVIII-e – XX-e siecle. Recherche d‘une methode critique d‘analyse. Paris, 2001.
178. Leniaud, Jean-Michel et Bouvier, Béatrice (ed.). Le livre d’architecture XVème-XXème siècle. Edition, représentations et bibliothèques. Paris, 2002.
179. McEwen, Indra Kagis. Socrates’ Ancestor. An Essay on Architectural Beginnings. Cambridge (Mas.), 1993.
180. McEwen, Indra Kagis. Vitruvius: Writing the Body of Architecture. Cambridge (Mas.), 2003.
181. Mallgrave, Harry Francis. Architectural Teory: An Anthology from Vitruvius to 1870. Oxford, 2005.
182. Mallgrave, Harry Francis; Contandriopoulos, Christina. Architectural Teory: Volume II: An Anthology from 1871 to 2005. Oxford, 2008.
183. Mallgrave, Harry Francis. Modern Architectural Teory: A Historical Survey, 1673-1968. Oxford, 2009.
184. Middleton, Robin (ed.). Te Beaux-Arts and Nineteenth-Century French Architecture. London, 1982.
185. Moravanszky, Akoš. Architekturtheorie im 20. Jahrhundert. Eine Kritische Anthologie. Wien; 2002.
186. Nesbitt, Kate. Teorizing a New Agenda for Architecture: An Anthology of Architectural Teory 1965-1995. New York, 1996.
187. Neumeyer, Fritz. Quellentexte zur Architekturtheorie. München, 2002.
188. Noever, Peter (ed.). Te End of Architecture? Documents and Manifestos: Vienna Architecture Conference. Wien, 1993.
189. Ockman, Joan (ed.). Architecture Culture 1943-1968: a Documentary Anthology. Princeton, 1993.
190. Payne, Alina. Architectural Treatise in the Italian Renaissance: Architectural Invention, Ornament and Literary Culture. Cambridge – New York, 1999.
191. Alina Payne, Ann Kuttner, and Rebekah Smick. Antiquity and its Interpreters. Cambridge – New York, 2000.
192. Pevsner, Nikolaus. Some Architectural Writers of the Nineteenth Century. Oxford, 1972.
193. Philipp, Klaus J. Vom Dilettantismus zur Zensur. Zur Geschichte der Architekturkritik. München, 1996.
194. Quill, Sarah. Ruskin‘s Venice: Te Stones Revisited. ASHGATE PUBLISHING COMPANY, © 2000.
195. Salmon, Frank. Summerson and Hitchcock: Centenary Essays on Architectural Historiography (Essays In British Art 16). New Haven – London, 2006.
196. Schuler, Stefan. Vitruv im Mittelalter. Wien – Köln – Weimar. 1999.
197. Tafuri, Manfredo. Teories and History of Architecture [1971]. Granada, 1980.
198. Toenes, Christoph; Evers, Bernd. Architectural Teory, From the Renaissance to the Present. New York, 2003.
199. Tilger, Peter. Die Architekturtheorie des Filarete. Berlin, 1963.
200. Unrau, John. Ruskin and St. Mark‘s. London, 1984.
201. Vidler, Anthony. Histories of the Immediate Present. Inventing Architectural Modernism. Cambridge (Mas.), 2008.
202. Vignau-Wilberg, Peter. Perspektive und Projektion. Andrea Pozzos Architekturtheorie und ihre Praxis. München, 1998.
203. Wheeler, Michael and Whiteley, Nigel. Te Lamp of Memory: Ruskin, Tradition and Architecture. Manchester, 1992.
204. Wiebenson, Dora (Ed.). Architectural Teory and Practice from Alberti to Ledoux. Chicago, 1982.
205. Wieczorek, Camillo Sitte et les débuts de l’urbanisme moderne. Bruxelles, 1995.
206. Watkin, David. German Architecture and the Classical Ideal, 1740-1840. London, 1987.
207. Вопросы теории архитектуры. Архитектурное сознание XX-XXI веков. Разломы и переходы. Сб. статей. М., 2001.
208. Вопросы теории архитектуры. Архитектурно-теоретическая мысль Нового и Новейшего времени: Сб. научных трудов. Сб. статей под ред. И.А. Азизян. М., 2006.
209. Добрицына И.А. От постмодернизма к нелинейной архитектуре. Архитектура в контексте современной философии и науки. М., 2004.
210. Евсина Н.А. Архитектурная теория в России XVIII века. М., 1975.
211. Евсина Н.А. Архитектурная теория в России второй половины XVIII-начала XIX века. М., 1985.
212. Ефимова Е.А. Теоретические сочинения Филибера Делорма // Вопросы искусствознания IX (2/96). М., 1996. С. 245-275.
213. Зубов В.П. Архитектурная теория Альберти. СПб., 2001.
214. Зубов В.П. Труды по истории и теории архитектуры (Библиотека журнала «Искусствознание». Вып. III). М., 2000.
215. История архитектуры в избранных отрывках. Сост. М. Алпатов, Д. Аркин, Н. Брунов. М., 1935.
216. Кириллова Л. Теория композиции в современной архитектуре. М., 1970.
217. Кириченко А.И. Архитектурные теории XIX века в России. М., 1986.
218. Михайлов Б.П. Витрувий и Эллада. Основы античной теории архитектуры. М., 1987.
219. Очерки истории теории архитектуры Нового и Новейшего времени. Под ред. И.А. Азизян. СПб., 2009.
220. Петрович Д. Теоретики пропорций. М., 1979.
221. Ремизова Е.И. Развитие представлений о композиции в западно-европейской архитектурной теории Нового времени. Дис. канд. арх. Харьков, 1987.
222. Таруашвили Л. И. Витрувий как художественный критик. М., 2002.
223. Тасалов В.И. Очерк эстетических идей архитектуры капиталистического общества. М., 1979.
224. Теория композиции в советской архитектуре. М., 1986.
Феноменология архитектуры
225. Bradley, Richard. An Archaeology of Natural Places. London, 2000.
226. Diani, Marco. Restructuring Architectural Teory. Evanston (Il.), 1989.
227. Frey, D. Wesensbestimmung der Architektur // Idem. Kunstwissenschafliche Grundbegrife. Prolegomena zu einer Kunstphilisophie. Wien, 1946.
228. Harmon, Robert B. Towards a Phenomenology of Architecture: A Selected Bibliography. Monticello (Ill.), 1982.
229. Hempel, E., Der Realitätscharakter des kirchlichen Wandbildes im Mittelalter // Kunsthistorische Studien. Festschrif für D. Frey, Breslau, 1942.
230. Holl, Steven, Pallasmaa, Juhani, and Perez-Gomez, Alberto. Questions of Perception: Phenomenology of Architecture. San Francisco, 2006.
231. Images et imaginaires d’architectur en Europe aux XIX-e et XX-e siecles. Centre Georges Pompidou [Exposition] 1984. Paris, 1992.
232. Mugerauer, Robert. Interpretations on Behalf of Place: Environmental Displacements and Alternative. New York, 1994.
233. Norberg-Schulz, Christian. Architecture, Meaning and Place: Selected Essays. New York, 1993.
234. Norberg-Schulz, Christian. Architecture: Presence, Language, Place. Milano, 2000.
235. Norberg-Schulz, Christian. Genius Loci. Towards a Penomenology of Architecture. New York, 1991.
236. Norberg-Schulz, Christian. Intentions in Architecture. Cambridge (Mas.), 1966.
237. Norberg-Schulz, Christian. Meaning in Western Architecture. New York, 1993 (русск. пер. неск. глав: Искусствознание 2/2004).
238. Norberg-Schulz, Christian. Principles of Modern Architecture. London, 2000.
239. Norberg-Schulz, Christian. Te Concept of Dwelling. New York, 1985.
240. Seamon D. (ed.). Dwelling, Seeing and Designing: Toward a Phenomenological Ecology. New York, 1993.
241. Seamon, David and Mugerauer, Robert. Dwelling, Place and Environment: Towards a Phenomenology of Person and World. New York, 1989.
242. Sedlmayr, H., Das erste mittelalterliche Architektursystem // Kunstwissenschafliche Forschungen, 2. Bd., 1933. S. 25 f.
243. Tilley, Christopher. Te Materiality of Stone: Explorations in Landscape Phenomenology. Oxford – New York, 2004.
244. Tilley, Christopher. A Phenomenology of Landscape: Places, Paths and Monuments. Oxford – New York, 1994.
245. Валери Поль. Эвпалинос, или Архитектор [1921] // Валери, Поль. Об искусстве. М., 1993. С. 166-182.
246. Зиммель Георг. Руина // Зиммель, Г. Избранное. Т. 2. М., 1996. С. 227-233.
247. Ингарден Р. О произведении архитектуры // Исследования по эстетике. Пер. с польск. М., 1962.
248. Степун Ф.А. К феноменологии ландшафта // Сочинения, М., 2000, с. 804-806.
Архитектура и архитекторы (проблемы архитектурного творчества)
249. Andrews, Francis B. Mediaeval Builder and His Methods. New York, 1992.
250. Balakier, Stewart Ann; Balakier James J. Te Spatial Infnite at Greenwich in Works Christopher Wren, James Tornhill and James Tomson: Te Newton Connection. New York, 1995.
251. Booz, Paul. Der Baumeister der Gotik. München-Berlin, 1956.
252. Brothers, Cammy. Michelangelo, Drawing, & the Invention of Architecture. New Haven – London, 2008.
253. Coulton, J. Greek Architects at Work: Problem of Structure and Design. London, 1977.
254. Downey, G. Byzantine Architects, their Training and Methods // Byzantion, 18, Paris-Liège, 1946.
255. Edgerton, Samuel Y. Te Heritage of Giotto’s Geometry: Art and Science on the Eve of the Scientifc Revolution. Ithaca (NY), 1994.
256. Goldberger, Paul; Gray, Susan (Ed.). Architects on Architects. Cambridge (Mas.), 2002.
257. Jarzombek, Mark. On Leon Baptista Alberti: His Literary and Aesthetic Teories. Cambridge (Mas.), 1990.
258. Kostof, Spiro (Ed.). Te Architect: Chapters in the History of the Profession. Berkeley – Los Angeles – London, 1977.
259. Kreul, Andreas. Johann Bernhard Fischer von Erlach. Regie der Relationen. Salzburg, 2006.
260. Lefaivre, Liane. Leon Battista Alberti’’s Hypnerotomachia Poliphili: Re-Cognizing the Architectural Body in the Early Italian Renaissance. Cambridge (Mas.), 2005.
261. McNeill, Tom. Faith, Pride and Works: Medieval Church Building. London, 2006.
262. McPhee, Sarah. Bernini and the Bell Towers: Architecture and Politics at the Vatican. New Hawen – London, 2002.
263. Müller, Claudia. Unendlichkeit und Transzendenz in der Sakralarchitektur Guarinis. Hildesheim – Zürich – New York, 1986.
264. Peter, John. Te Oral History of Modern Architecture. Interviews with the Greatest Architects of the Twentieth Century. New York, 1994.
265. Pollak, Martha. Te Education of the Architect: Historiography, Urbanism and the Growth of Architectural Knowledge. Cambridge (Mas.), 1997.
266. Raguin, Virginia C., Draper, Peter, Brush, Kathryn (Eds.). Artistic Integration in Gothic. Toronto, 1995.
267. Ricken, Herbert. Der Architekt. Geschichte eines Berufs. Berlin, 1977.
268. Sedlmayr, Hans. Johann Bernhard Fischer von Erlach [1956]. München, 1997.
269. Sekler, Eduard. Der Architekt im Wandel der Zeichen // Der Aufau, H. 12, Wien, 1959.
270. Архитектурное творчество Микеланджело. Сб. пер. М., 1936.
271. Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI века. Проблемы художественного мышления эпохи. М., 1996.
272. Глазычев В.Л. Эволюция творчества в архитектуре. М., 1987.
273. Данилова И.Е. Брунеллески и Флоренция. Творческая личность в контексте ренессансной культуры. М., 1991.
274. Мастера архитектуры об архитектуре. М., 1972.
275. Мастера советской архитектуры об архитектуре. Т. 1-2. М., 1975.
276. Муратова К. Мастера французской готики XII-XIII веков. Проблемы теории и практики художественного творчества. М., 1988.
277. Ревзина Ю.Е. Обманчивые птенцы. Модель в архитектурной практике итальянского Возрождения // Итальянский сборник. Вып. 2, М., 2000, с. 69-104.
278. Она же. Инструментарий проекта. От Альберти до Скамоцци. М., 2003.
Архитектура, конструкция, типология
279. Architektur des Mittelalters. Funktion und Gestalt. Weimar, 1983.
280. Banham, Reyner. Teory and Design in the First Machine Age. Cambridge (Mas.), 1970.
281. Brandi C. Struttura e architettura. Torino, 1971.
282. Chitham, Robert. Te Classical Orders of Architecture. New York, 1985.
283. Coulton, J. Ancient Greek Architects at Work: Problems of Structure and Design. Ithaca (NY), 1982.
284. Engel, Heino; Rapson, Ralph; Bandel, Hannskarl. Tragsysteme/Structure Systems. Ostfldern, 1998.
285. Fitchen, John. Building Construction before Mechanization. Cambridge (Mas.), 1989.
286. Fitchen, John. Te Construction of Gothic Cathedrals: a Study of Medieval Vault Erection. Chicago (Il.), 1997.
287. Frampton, Kenneth and Hartoonian, Gevork. Ontology of Construction: On Nihilism of Technology and Teories of Modern Architecture. Cambridge, 1994.
288. Fry, Tony. A New Design Philosophy: An Introduction to Defuturing. Sydney, 1999.
289. Furnari, Michele. Formal Design in Renaissance Architecture: From Brunelleschi to Palladio. New York, 1995.
290. Gelernter, Mark. Sources of Architectural Form: A Critical History of Western Design Teory. Manchester, 1995.
291. Holgate, Alan. Aesthetics of Built Form. New York, 1992.
292. Macdonald, Angus J. Structure and Architecture. Oxford, 1994.
293. Monice Malnar, Joy and Vodvarka, Frank. Sensory Design. Minneapolis, 2004.
294. Parsons, W. B. Engineers and Engineering in the Renaissance. London, 1961.
295. Pevsner, Nikolaus. A History of Building Types. Berkeley (Ca), 1979.
296. Pfammatter, Ulrich. Te Making of the Modern Architect and Engineer the Origins and Development of a Scientifc and Industrially Oriented Education. Chicago, 2000.
297. Rykwert, Joseph. Dancing Column: On Order in Architecture. Cambridge (Mas.), 1996.
298. Simonnet, Cyrille. L’architecture ou la fction constructive. Paris, 2001.
299. Simonnet, Cyrille. Les Architectes et la construction. Paris, 1994.
300. Гуляницкий Н.Ф. Архитектурный образ и конструктивная структура // Проблемы теории советской архитектуры. М., 1973.
301. Демидова М. Ансамбль Фонтенбло и «война дворцов». Метаморфозы античной виллы // Искусствознание 1/02. М., 2002. С. 238-255.
302. Джонс Дж. К. Инженерное и художественное конструирование. М., 1976.
303. Михаловский И.Б. Архитектурные формы античности [1939]. М., 2006.
304. Михаловский И.Б. Теория классических архитектурных форм [1940]. М., 2006.
Архитектурное пространство
305. Arin, E. Objekt und Raumzeichnen in der Architektur. Stuttgart, 1981.
306. Banham, Reyner. Te Architecture of the Well-Tempered Environment. Chicago, 1969.
307. Beatriz, Colomina (Ed.). Sexuality & Space. New York, 1992.
308. Bechman, Roland. Villard de Honnecourt. La pensée technique au XIIe siècle et sa communication. Paris, 1991.
309. Benjamin, Andrew. Architecture, Space, Painting. New York. 1992.
310. Bolnow, Otto Friedrich. Mensch und Raum. Stuttgart, 1963.
311. Casey, Edward. Te Fate of Place: A Philosophical History. Berkely – Los Angeles – London, 1997.
312. Baird, George. Te Space of Appearance. Cambridge (Mas.), 1995.
313. Ching, Frank D.K. Architecture: Form, Space, and Order. New York, 1998.
314. Conti, Flavio. Architecture as Environment. Orlando (Fl.), 1980.
315. Critchlow, Keith. Order in Space. London, 1969.
316. Desportes, Marc. Paysages en mouvement: Transports et perception de l’espace XVIIIe-XXe siecle. Paris, 2005.
317. Doesinger, Stephan (Ed.). Space between People: How the Virtual Changes Physical Architecture. Munich, 2008.
318. Dovey, Kim. Framing Places: Mediating Power in Built Form. London, 1999.
319. Esser, Karl-Heinz. Der Architekturraum als Erlebnisraum. Bonn, 1939.
320. Ford, Larry R. Te Spaces between Buildings. Baltimore, 2000.
321. Frampton, Kenneth; Oswald, Franz; and von Meiss, Pierre. Te Elements of Architecture: From Form to Place. London, 1990.
322. Goldwater, R. Space and Dream. New York, 1967.
323. Grosz, Elizabeth Eisenman, Peter. Architecture from the Outside: Essays on Virtual and Real Space. Cambridge (Mas.), 2001.
324. Habraken, N.J. Te Structure of the Ordinary: Form and Control in the Built Environment. Cambridge (Mass.), 2000.
325. Hanawalt, Barbara A.; Michael Kobialka. Medieval Practices of Space. Minneapolis, 2000.
326. Harbison, Robert. Eccentric Spaces [1977]. Cambridge (Mas.), 1983.
327. Hillier, Bill. Space Is the Machine: A Confgurational Teory of Architecture. Cambridge, 1996.
328. Kaufmann, Tomas Dacosta; Pilliod, Elizabeth. Time and Place: Te Geohistory Of Art (Histories of Vision). London, 2005.
329. Laan van der, Hans. Architectonic Space: Fifeen Lessons on the Disposition of the Human Habitat. Leiden, 1983.
330. Markus, Tomas A.; Cameron, Deborah. Te Words between the Spaces: Buildings and Language. New York, 2001.
331. Menin, Sarah (Ed.). Constructing Place: Mind and the Matter of Place-making. New York, 2003.
332. Mer, Marc. Zur Architektur des Raumes. Eine philosophische Szenerie. Momente und Motive raumbildender Kunst. Münster, 2004.
333. Müller, Werner und Quien, Norbert. Erdachte Formen, errechnete Bilder. Deutschlands Raumkunst der Spätgotik in neuer Sicht. Weimar – Kromsdorf, 2001.
334. Müller, Werner. Barocke Raumphantasien. Gebaute Wirklichkeit und konstruierter Schein. Petersberg, 2004.
335. Paumann, Luisa. Vom Ofenen in der Architektur: Raum-Denken jenseits des Poststrukturalismus. Wien, 2008.
336. Perez-Gomez, Alberto, and Parcell, Stephen (Eds.). Chora: Intervals in the Philosophy of Architecture. Book 1-3. Kingston, 1994-1999.
337. Porter, Tom. Architect’s Eye: Visualization and Depiction of Space in Architecture. London, 1997.
338. Tschumi, Bernard. Questions of Space: Text 5. London, 1995.
339. Ven, Cornelis van de. Space in Architecture: Te Evolution of a New Idea in the Teory and History of the Modern Movements. Assen, 1987.
340. Vogt-Göknil, Ursula. Architektonische Grundbegrife und Umraumerlebnis. Zürich, 1951.
341. Zevi, Bruno. Architecture as Space: How to Look at Architecture. Cambridge (Mas.), 1993.
342. Габричевский А.Г. Пространство и масса в архитектуре. М., 1923.
343. Глазычев В.Л. Образы пространства // Творческий процесс и художественное восприятие. М., 1978.
344. Иконников А.В. Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве. М., 2006.
Архитектура, геометрия и нумерология
345. Blackwell, William. Geometry in Architecture. Emeryville (Са), 1984.
346. Bloomer, Kent. Nature of Ornament: Rhythm and Metamorphosis in Architecture. New York, 2000.
347. Evans, Robin. Te Projective Cast: Architecture and Its Tree Geometries. Cambridge (Mas.), 1995.
348. Hautecoeur, Louis. Mystique et architecture: symbolisme du cercle et de la coupule. Paris, 1954.
349. Hecht, Konrad. Mass und Zahl in der gotischen Baukunst [1970]. Hildesheim, 1997.
350. Hersey, George L. Architecture, Poetry, and Number in the Royal Palace at Caserta. Cambridge (Mas.), 1983.
351. Hersey, George L. Architecture and Geometry in the Age of the Baroque. Chicago, 2001.
352. Kappraf, Jay. Connections: Te Geometric Bridge between Art and Science. London – New York, 2001.
353. Karatani, Kojin. Architecture as Metaphor: Language, Number, Money. Cambridge (Mas.), 1995.
354. Koetsier, Teun and Bergmans, Luc. Mathematics and the Divine: A Historical Study. New York, 2004.
355. Leyton, Michael. Shape as Memory: A Geometric Teory of Architecture. Basel, 2004.
356. March, Lionel, Wittkower, Rudolf. Architectectonics of Humanism: Essays on Number in Architecture. New York, 1998.
357. Pennick, Nigel. Sacred Geometry: Symbolism and Purpose in Religious Structures. New York, 1982.
358. Smith, Peter. Architecture and the Principle of Harmony. London, 1987.
359. Strachan, Gordon. Chartres: Sacred Geometry, Sacred Space. Edinburgh, 2003.
360. Visser, Margaret. Te Geometry of Love: Space, Time, Mystery and Meaning in an Ordinary Church. Berkeley (Ca), 2001.
361. Боков А.В. Геометрические основания архитектуры и картина мира. М., 1995.
362. Комеч А. И. Символика архитектурных форм в раннем христианстве // Искусство Западной Европы и Византии. М., 1978.
Градостроительство (топография)
363. Borden, Iain & Dunster, David (Eds.). Architecture and the Sites of History: Interpretations of Buildings & Cities. New York, 1996.
364. Borden, Iain; Rendell, Jane; Kerr, Joe. Te Unknown City: Contesting Architecture and Social Space. Cambridge (Mas.), 2000.
365. M. Christine Boyer. Te City of Collective Memory. Its Historical Imagery and Architectural Entertainments. Cambridge (Mass.), 1996.
366. Campbell, Ian. Ancient Roman Topography and Architecure. New York, 2004.
367. Eliav, Yaron Z. God’s Mountain: Te Temple Mount in Time, Place, and Memory. Baltimore (Mar.). 2005.
368. Favro, Diane. Urban Image of Augustan Rome. New York, 1998.
369. Gantner, Joseph. Die Grundformen der Europäischen Stadt. Wien, 1928.
370. Greenberg, Mike. Te Poetics of Cities: Designing Neighborhoods Tat Work. Columbus (OH), 1995.
371. Grosjean, Michele et Tibaud, Jean-Paul. L’espace urbain en methodes. Marseille, 2001.
372. Haepfner W., Schwander E.-L. Haus und Stadt im klassischen Griechenland. München, 1986.
373. Hughes, Jonathan. Non-plan: Essays on Freedom and Change in Modern Architecture and Urbanism. Oxford, 1999.
374. Younès, Chris (ed.). Maison – Mégapole. Architectures, philosophies en œuvre. Paris, 1998.
375. Krauitheimer, Richard. Tree Christian Capitals. Topography and Politics. Berkeley-Los Angeles-London, 1983 (русск. пер.: СПб., 2000).
376. Kreuer, Werner; Wenzel Horst; Wehling, Hans W. Imago Civitatis. Stadtbildsprache des Spätmittelalters. Essen, 1993.
377. Kruml, Milos. Die Mittelalterliche Stadt als Gesamtkunstwerk und Denkmal. Wien, 1992.
378. Lucas, Tomas M. Landmarking: City, Church, & Jesuit Urban Strategy. Chicago, 1997.
379. Lynch, Kevin. Te Image of the City. Cambridge (Mas.), 1960 (русск. пер.: М., 1982).
380. Lynch, Kevin. A Teory of Good City Form. Cambridge (Mas.), 1981 (русск. пер.: М., 1986).
381. Mumford, Lewis. Te City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects. New York, 1961.
382. Miles, Malcolm. Art, Space and the City. New York, 1997.
383. Neil, Leach. Te Hieroglyphics of Space: Understanding the City. New York, 2001.
384. Rykwert, Joseph. Te Idea of a Town. Te Anthropology of Urban Form in Rome, Italy and the Ancient World. London, 1976.
385. Глазычев, В.Л. Социально-экологическая интерпретация городской среды. М., 1984.
386. Градостроительное искусство: Новые материалы и исследования. Вып. 1. Памяти Т.Ф. Саваренской. Под ред. Бондаренко И.А. М., 2007.
387. Кириченко, Е.И., Михайлова, М.Б., Хайт, В.Л., Щеболева, Е.Г. Русское градостроительное искусство. Градостроительство России середины XIX-начала ХХ века. Кн. 1-2. М., 2001-2003.
388. Лазарева И.В. Urbi et Orbi. Пятое измерение города. М., 2006.
389. Саваренская Т.Ф. Западноевропейское градостроительство XVII – XIX веков. М., 1987.
390. Саваренская Т.Ф., Швидковский Д.О. Градостроительство Англии XVII-XVIII вв.: Город и природа. М., 2001.
391. Саваренская Т.Ф., Швидковский Д.О., Кирюшина Л.Н. Градостроительная культура Франции XVII-XVIII веков. М., 2001.
392. Сакральная топография средневекового города (Известия Института христианской культуры средневековья, т.1). Ред. А.Л. Баталов, Л.А. Беляев. М., 1998.
393. Турчин, В. C. Монументы и города. М., 1982.
394. Федоров, А.Н. Образно-символический аспект средневекового зодчества как фактор формообразования и градостроительного развития // Проблемы изучения древнерусского зодчества. СПб., 1996.
Архитектура и археология
395. Ackerman, James S.; Carpenter, Rhys. Art and Archeology. New York, 1963.
396. Colleville Vicomte de. Archéologie. eléments d’architecture. Paris, 1887.
397. Pinon, Pierre. Archaeology of Architects. Basel, 1996.
398. Poeschke Joachim. Antike Spolien in der Architektur des Mittelalters und der Renaissance. München, 2002.
399. Rodwell, Warwick. Te Archaeology of Churches. London, 2005..
400. Richardson, Peter. City and Sanctuary. Religion and Architecture in the Roman Near East. London, 2002.
401. Tomas, Julian. Archaeology and Modernity. New York, 1996.
402. Wallace-Hadrill, Andrew. Houses and Society in Pompeii and Herculaneum. Princeton, 1996.
Христианская археология
403. Andresen, Carl. Einführung in die Christliche Archäologie. Göttingen, 1971.
404. Bienert, Wolfgang A.; Koch, Guntram. Grundkurs Teologie III. Kirchengeschichte I. Christliche Archäologie. Marburg, 1977.
405. Braun, Joseph, O.P. Der christliche Altar in seinem geschichtlichen Entwicklung [1924]. Bonn, 2007.
406. Braun, J. Die Reliquiare des christlichen Kultes und ihre Entwicklung, Freiburg in Br., 1940.
407. Braun, J. Liturgisches Handlexikon. München, 1993.
408. Braun, J. Die Liturgischen Paramente in Gegenwart und Vergangenheit. Ein Handbuch der Paramentik [1924]. Bonn, 2005.
409. Braun, J. Die liturgische Gewandung im Occident und Orient. Darmstadt, 1964.
410. Braun, J. Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst. Berlin, 2002.
411. Brucher, Günter. Die sakrale Baukunst Italiens im 11. und 12. Jahrhundert. Ostfldern, 1987.
412. Crook, John. Te Architectural Setting of the Cult of Saints in the Early Christian West, C. 300-C. 1200. New York, 2000.
413. Gamber, Karl. Sancta Sanctorum. Studien zur liturgischen Ausstattung der Kirche, vor allem des Altarraumes. Regensburg, 1981.
414. Gerstel, Sharon E. J. Beholding the Sacred Mysteries: Programs of the Byzantine Sanctuary. Seattle, 1999.
415. Guillaume, Jean (ed.). L’église dans l’architecture de la Renaissance. par Colloque L’église dans l’architecture de la Renaissance (1990: Université de Tours). Centre d’études supérieures de la Renaissance, Paris, 2000.
416. Kessel, Dmitri. Splendors of Christendom: Great Art and Architecture in European Churches. Lausanne, 1964.
417. Lenssen, J.H. (Hrsg.). Liturgie und Kirchenraum. Anstöße zu einer Neubesinnung. Würzburg, 1986.
418. Mylonopoulos, Joannis und Roeder, Hubert. Archäologie und Ritual. Auf der Suche nach der rituellen Handlung in den antiken Kulturen Ägyptens und Griechenlands. Wien, 2006.
419. Nicolai, Bernd. Libido aedifcandi. Walkenried und die monumentale Kirchenbaukunst der Zisterzienser um 1200. Göttingen, 1990.
420. Otte, H., Handbuch der kirchlichen Kunstarchäologie des deutschen Mittelalters. Leipzig, 1883-85.
421. Ousterhout, Robert G. and Brubaker, Leslie (Eds.). Te Sacred Image East and West. Baltimore, 1994.
422. Piper, Ferdinand. Mythologie und Symbolik der christlichen Kunst von der älteren Zeit bis ins 16. Jahrhundert [1847-1851]. Osnabrück, 1972.
423. Piper F. Einleitung in die monumentale Teologie. Gotha, 1867.
424. Platt, Colin. Te Parish Churches of Medieval England. London, 1995.
425. Reinle, A. Die Ausstattung der deutschen Kirchen im Mittelalter. Eine Einführung. Darmstadt. 1988.
426. Reiß, Anke. Rezeption frühchristlicher Kunst im 19. und frühen 20. Jahrhundert: Ein Beitrag zur Geschichte der Christlichen Archäologie und zum Historismus. Dettelbach, 2008.
427. Reudenbach, Bruno: Distanz und Nähe zum Heiligenleib. Über die architektonische Organisation des frühen Märtyrergedenkens in Rom // van Dülmen, Richard u.a. (Hg.), Neue Blicke. Historische Anthropologie in der Praxis. Wien – Köln – Weimar, 1997. S. 71-89.
428. Short, Ernest. Te House of God: a History of Religious Architecture. Oxford, 1955.
429. Smith, Edwin, Cook Olive. Englisch Cathedrals. London, 1989.
430. Toynbee, J. M. C. Death and Burial in the Roman World. London, 1971.
431. Vinken, Gerhard. Baustruktur und Heiligenkult. Romanische Sakralarchitektur in der Auvergne. Worms, 1997.
432. Wilpert, Joseph. Principienfragen der christlichen Archaeologie. Freiburg i. Br., 1889.
433. Wischermann, Heinfried. Grabmal, Grabdenkmal und Memoria im Mittelalter. Freiburg i. Br., 1980.
434. Александр (Федоров), игумен. Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс. СПб., 2007.
435. Баталов А.Л.; Вайнтрауб Л.Р.; Головкова Л.А.; Карпова М.Г.; Скопин В.В. Церковная археология Москвы. Храмы и приходы Ивановской горки и Кулишек. М., 2006 (рец.: Ванеян С.С // Искусство христианского мира. Вып. 10. М., 2008).
436. Беляев Л.А. Христианские древности. М., 1998.
437. Голубцов А.П. Места молитвенных собраний христиан I–III веков. Сергиев Посад, 1898.
438. Голубцов А.П. Сборник статей по литургике и церковной археологии [Сергиев Посад, 1911]. М., 1990.
439. Иерусалим в русской культуре. Сост. А. Баталов и А. Лидов. М., 1994.
440. Кондаков Н.П. Византийские церкви и памятники Константинополя. М., 2006.
441. Покровский Н.В. Очерки памятников христианского искусства [М., 1910]. СПб., 2000.
442. Христианское зодчество. Новые материалы и исследования. Под ред. ИА. Бондаренко. М., 2004.
Архитектура и история
443. Anderson, Christy and Koehler, Karen. Te Built Surface: Architecture and the Visual Arts from Antiquity to the Enlightenment. Vol. 1-2. Burlington, 2002.
444. Banham, Reyner. Teory and Design in the First Machine Age [1960]. Cambridge (Mas.), 1980.
445. Baukunst des Mittelalters in Europa. Hans Erich Kubach zum 75. Geburtstag von Franz J. Much von Stuttgarter Gesellschaf für Kunst und Denkmalpfege. Stuutgart, 1988.
446. Binding, Günther. Der früh– und hochmittelalterliche Bauherr als sapiens architectus. Darmstadt, 1999.
447. Crosby, Sumner McKnight. Te Royal Abbey of Saint-Denis. New Haven – London, 1988.
448. Fajardo-Acosta, Fidel (Ed.). Te Infuence of the Classical World on Medieval Literature, Architecture, Music and Culture: A Collection of Interdisciplinary Studies. New York, 1993.
449. Fletcher, Banister. A History of Architecture on the Comparative Method [1948]. New York, 1975.
450. Frampton, Kenneth. Modern Architecture. A Critical History. London, 1985 (русск. пер.: М., 1990).
451. Frankl, Paul. Principles of Architectural History: Te Four Phases of Architectural Style, 1420-1900 [1914]. Cambridge (Mas.), 1968.
452. Galinski, Karl. Classical and Modern Interactions: Postmodern Architecture, Multiculturalism, Decline and Other Issues. Houston, 1994.
453. Gerson, Paula L. (Ed.). Abbot Suger and Saint-Denis: a Symposium. Columbia University; International Center Of Medieval Art. Washington, 1987.
454. Janatkova, Alena. Barockrezeption zwischen Historismus und Moderne. Berlin, 2000.
455. Hansmann, Wilfried. Baukunst des Barock. Form, Funktion, Sinngehalt. Ostfldern, 1978.
456. Heydenreich, Ludwig H. Studien zur Architektur der Renaissance. Ausgewählte Aufsätze. München, 1981.
457. Icher, Francois: Zielonka, Anthony. Building the Great Cathedrals. New York, 1998.
458. Jones, Mark Wilson. Principles of Roman Architecture. New York, 2003.
459. Klassizismus im Bauwesen. Berlin, 1985.
460. Millon, Henry A. (Ed.). Te Triumph of Baroque. Architecture in Europe 1600-1750. London, 1999.
461. Mitias, Michael H. Architecture and Civilization. Amsterdam, 1999.
462. Mumford, Lewis. Sticks and Stones: A Study of American Architecture and Civilization. New York, 1924 (русск. пер.: М., 1936).
463. Muthesius, Hermann and Anderson, Stanford. Style-Architecture and Building-art: Transformations of Architecture in the Nineteenth Century and Its Present Condition. Los Angeles, 1994.
464. Onsell, Max. Ausdruck und Wirklichkeit. Versuch über den Historismus in der Baukunst. Braunschweig – Wiesbaden, 1981.
465. Ousterhout, Robert. Master Builders of Byzantium. Princeton, 1999 (русск. пер.: Киев. 2006).
466. Pevsner, Nikolaus. An Outline of European Architecture. New York, 1945.
467. Pevsner, Nikolaus. Pioneers of Modern Movement, from William Morris to Walter Gropius, New York, 1936 (rev. in 1949 as Pioneers of Modern Design).
468. Radding, Charles M., Clark, William W. Medieval Architecture, Medieval Learning: Builders and Masters in the Age of Romanesque and Gothic. New Haven – London, 1992.
469. Rykwert, Joseph. On Adam’s House in Paradise: the Idea of the Primitive Hut in Architectural History [1971]. Chicago, 1981.
470. Schapiro, Meyer. Romanesque Art: Selected Papers. Vol. 1. New York, 1993.
471. Sedlmayr, Hans. Die Entstehung der Kathedrale [1951]. Frankfurt am Main, 1978.
472. Stalley, Robert. Early Medieval Architecture. Oxford – New York, 2003.
473. Summerson, John. Heavenly Mansions and Other Essays on Architecture. New York, 1963.
474. Taylor, Rabun M. Roman Builders: a Study in Architectural Process. New York, 2003.
475. Tzonis, Alexander, Lefaivre, Liane. Classical Architecture: the Poetics of Order. Cambridge (Mas.), 1986.
476. Untermann, Matthias. Der Zentralbau im Mittelalter. Darmstadt, 1989.
477. Wilson, Christopher. Te Gothic Cathedral: the Architecture of the Great Church 1130-1530. London, 1992.
478. Архив архитектуры. Общество историков архитектуры. Вып. 1, М., 1992.
479. Архитектура и культура. Сб. под ред. И.А. Азизян и Н.Л. Адаскиной. Ч. 1-2. М., 1991.
480. Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры [1935-1937]. Т. 1-2. М., 2003.
481. Глазычев В.Л. Зарождение зодчества. М., 1983.
482. История архитектуры в избранных отрывках. М., 1936.
483. Кириллов В.В. Путь поиска и эксперимента. (Из истории советской архитектуры 1920-начала 1930-х гг.). М., 1974.
484. Корниенко Т. В. Первые храмы Месопотамии: Формирование традиции культового строительства на территории Месопотамии в дописьменную эпоху (под ред. Мерперт Н.Я.). СПб., 2006.
485. Локтев В.И. Барокко от Микеланджело до Гварини (проблема стиля). М., 2004.
486. Николаева М.А., Николаева С.И. Эстетика символа в архитектуре русского модерна. М., 2003.
487. Проблемы истории архитектуры. Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции. Суздаль, 1991. Часть I-II. М., 1990.
488. Пруст, М. Памяти убитых церквей. М., 1999.
489. Хайт В.Л. Об архитектуре, ее истории и проблемах. М., 2003.
490. Ювалова Ю.П. Сложение готики во Франции. СПб., 2000.
Архитектура и история идей
491. L’architecture, les sciences et la culture de l’histoire au XIXe siècle par France. Centre d’études foréziennes, et École d’architecture de Saint-Étienne. Saint-Étienne, 2001.
492. Arnold, Dana. Tracing Architecture: Te Aesthetics of Antiquarianism. Oxford, 2003.
493. Baldwin Smith, E. Dome: A Study in the History of Ideas. Princeton, 1971.
494. Basic, Rozmeri and Wortman, Robert. Selected Examples of the Carolingian Concept of Modulation in Architecture and Literature. New York, 2001.
495. Bering, Kunibert. Kunst und Staatsmetaphysik des Hochmittelalters in Italien. Zentren der Bau– und Bildpropaganda in der Zeit Friedrichs II. Essen, 1986.
496. Binski, Paul. Becket‘s Crown: Art and Imagination in Gothic England, 1170-1300. New York, 2004.
497. Binski, Paul. Westminster Abbey and the Plantagenets: Kingship and the Representation of Power, 1200-1400. New York, 1995.
498. Cacciari, Massimo, Stephen Sartarelli. Architecture and Nihilism: on the Philosophy of Modern Architecture. New York, 1995.
499. Carpo, Mario and Benson, Sarah. Architecture in the Age of Printing: Orality, Writing, Typography and Printed Images in the History of Architectural Teory. Cambridge (Mas.), 2001.
500. Clark, Kenneth. Te Gothic Revival: an Essay in the History of Taste. London, 1974.
501. Collins, Peter. Changing Ideals in Modern Architecture, 1750-1950. Montreal, 1978 [1965].
502. Conrads, Ulrich (Ed.). Programs and Manifestoes on 20th-Century Architecture. Cambridge (Mas.), 1975.
503. Crowe, Norman. Nature and the Idea of a Man-made World: Investigation into the Evolutionary Roots of Form and Order in the Built Environment. Cambridge (Mas.), 1995.
504. Curl, James Stevens. Egyptomania: Te Egyptian Revival as a Recurring Teme in the History of Taste. Manchester, 1994.
505. Emery, Elizabeth. Romancing the Cathedral: Gothic Architecture in Fin De Siecle French Culture. New York, 2001.
506. Etlin, Richard A. Symbolic Space: French Enlightenment Architecture and Its Legacy. Chicago, 1996.
507. Hartoonian, Gevork. Modernity and Its Other: A Post-Script to Contemporary Architecture. Houston, 1998.
508. Hartoonian, Gevork. Crisis of the Object. New York, 2006.
509. Hendrix, John. Te Relation between Architectural Forms and Philosophical Structures in the Work of Francesco Borromini in Seventeenth-Century Rome. New York, 2002.
510. Jencks, Charles and Kropf, Karl. Teories and Programmes of the Late 20th Century. London, 1997.
511. Jencks, Charles. Modern Movements in Architecture. Nelson, 1973.
512. Kaufmann, Emil. Architecture in the Age of Reason Baroque and Post-Baroque in England, Italy, and France [1955]. New York, 1968.
513. Kolb, David. Postmodern Sophistications: Philosophy, Architecture and Tradition. Chicago, 1992.
514. Kostka, Alexandre; Wohlfarth, Irving and Buddensieg, Tilmann. Nietzsche and an Architecture of Our Minds. Los Angeles, 1999.
515. Lampungani, Vittorio Magniano (Hsrg.). Das Abenteuer der Ideen: Architektur und Philosophie seit der industriellen Revolution, Berlin, 1987.
516. Lang, Peter Werner Heinz von. Musik in der Architektur. Von der Antike zum Mittelalter. Frankfurt am Main, 2005.
517. Lubbock, Jules. Te Tyranny of Taste: the Politics of Architecture and Design in Britain 1550-1960. New Haven – London, 1995.
518. Lützeler, Heinrich. Vom Sinn der Bauformen. Der Weg der abendländischen Architektur. Freiburg in Br., 1938.
519. Murphy, Kevin D. Memory and Modernity: Viollet-le-Duc at Vezelay. Philadelphia, 1999.
520. Pelt van, Robert Jan; Westfall Carroll William. Architectural Principles in the Age of Historicism. New Haven – London, 1991.
521. Pfammatter, Ulrich. Building the Future. Building Technology and Cultural History from the Industrial Revolution until Today. Munich – Berlin – London – New York, 2008.
522. Scott, Geofrey; Barolsky, Paul. Te Architecture of Humanism; a Study in the History of Taste [1956]. New York, 1974.
523. Simson von, Otto G. Sacred Fortress: Byzantine Art and Statecraf in Ravenna. Chicago, 1948.
524. Smith, Christine. Architecture in the Culture of Early Humanism: Ethics, Aesthetics and Eloquence, 1400-1470. Oxford, 1992.
525. Smith, Christine (Ed.). Before and Afer the End of Time: Architecture and the Year 1000. New York, 2003.
526. Topp, Leslie. Architecture and Truth in Fin-de-Siecle Vienna. Cambridge, 2004.
527. Vesely, Dalibor. Architecture in the Age of Divided Representation: Te Question of Creativity in the Shadow of Production. Cambridge (Mas.), 2004.
528. Waldeier Bizzarro, Tina. Romanesque Architectural Criticism. A Prehistory. Cambridge – London, 1992.
529. Wheatley, Abigail. Te Idea of the Castle in Medieval England. York, 2004.
530. Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI века. Проблемы художественного мышления эпохи. М., 1996.
531. Щенков А.С., Шеко Е.Д., Щенкова О.П. Об идее Храма в архитектуре русского классицизма // Искусство Христианского мира. Вып. 4. М., 2000. С. 82-91.
532. Щенков А.С. Культурная обусловленность храмового формообразования в середине и второй половине XIX веков // Христианское зодчество. Новые материалы и исследования. М., 2004. С. 554-565.
Архитектура и идеология
533. Ackerman, J. S. Te Villa: Form & Ideology of Country Houses. Princeton, 1992.
534. Aman, Anders. Architecture and Ideology in Eastern Europe during the Stalin Era. An Aspect of Cold-War History. Cambridge (Mas.), 1992.
535. Andrieux, J.-Y. et Sietz, F. Pratiques architecturales et enjeux politiques: France 1945-1995. Paris, 2000.
536. Buchli, Victor. An Archaeology of Socialism. Oxford, 2000.
537. Buildings and Reality: Architecture in the Age of Information. Austin, 1988.
538. Coleman, Debra. Architecture and Feminism. PRINCETON, 1996.
539. Dodds, Jerrilynn. Architecture and Ideology In Early Medieval Spain. Philadelphia, 1990.
540. Eastmond, Antony. Art and Identity in Tirteenth-Century Byzantium: Hagia Sophia and the Empire of Trebizond. Birmingham, 2004.
541. Ehlers, Caspar. Orte der Herrschaf.Göttingen, 2002.
542. Guéné, Hélène; Loyer, François. L’église, l’état et les architectes: Rennes, 1870-1940 (Institut français d’architecture). Paris, 1995.
543. Harris, Dianne. Te Nature of Authority: Villa Culture, Landscape and Representation in Eighteenth-century Lombardy (Buildings, Landscapes & Societies). Philadelphia, 2003.
544. Jünger, Ernst. Gärten und Straßen. Hamburg, 1942.
545. Lasansky, D.Medina. Te Renaissance Perfected: Architecture, Spectacle, and Tourism in Fascist Italy. Philadelphia, 2006.
546. Lewis, Michael J. Te Politics of the German Gothic Revival. August Reichensperger. Cambridge (Mas.), 1993.
547. Miller-Lane, Barbara. Architecture and Politics in Germany, 1918-1945. Cambridge (Mas.), 1968.
548. Ockman, Joan (ed.). Architecture, Criticism, Ideology. Princeton, 1985.
549. Ragon, Michel. Idéologies et pionniers: 1800-1910 (Histoire mondiale de l‘architecture et de l‘urbanisme modernes). Bruxelles, 1993.
550. Sedlmayr, H., Die politische Bedeutung des deutschen Barock // Festschrif für H. Srbik. München, 1938.
551. Taylor, Robert R.. Te Word in Stone: Te Role of Architecture in the National Socialist Ideology. Berkeley – Los Angelos – London. 1974.
552. Vio, Ettore; Several Contributors. St. Marks: Te Art and Architecture of Church and State in Venice. New York, 2004.
553. Werquet, Jan. Historismus und Repräsentation. Die Baupolitik Friedrich Wilhelms I V. in der preußischen Rheinprovinz. München, 2009.
554. Алленов М.М. Очевидности системного абсурдизма сквозь эмблематику Московского метро, или Абсурд как явление истины // Его же. Тексты о текстах. М., 2003. С. 8-102.
555. Иконников А.В. Историзм в архитектуре. М., 1997.
556. Паперный В.З. Культура «Два». М., 1996.
557. Поплавский В.С. Культура триумфа и триумфальные арки Древнего Рима. М., 2000.
558. Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. Т. 1: Проблемы формообразования. Мастера и течения. М., 1996.
Архитектура и утопия
559. Alison, Jane; Brayer, Marie-Ange; Migayrou, Frederic and Neil Spiller. Future City: Experiment and Utopia in Architecture. London, 2007.
560. Baudrillard, Jean et Violeau, Jean-Louis. A propos d’Utopie: Précédé de L’architecture dans la critique radicale. Paris, 2005.
561. Bauer, Hermann. Kunst und Utopie. Studien über Kunst– und Staatsdenken in der Renaissance. Berlin, 1965.
562. Bek, Lisa. Towards Paradise on Earth: Modern Space Conception in Architecture. Odense, 1980.
563. Bingaman, Amy. Embodied Utopias. Gender, Social Change and the Modern Metropolis. New York, 2001.
564. Borsi, Franco. Architecture and Utopia. Paris, 1998.
565. Chyutin, Michael. Architecture and Utopia in the Temple Era. New York, 2006.
566. Coates, Stephen. Impossible Worlds. Basel, 2002.
567. Chen, Jean-Louis. Le Corbusier et la mystique de l’URSS. Sprimont (Belgique), 1988.
568. Eaton, Ruth. Die ideale Stadt. Von der Antike bis zur Gegenwart. Berlin, 2001.
569. Eaton, Ruth. Ideal Cities: Utopianism and the (Un)Built Environment. London, 2002.
570. Göbel, Gerhard. Poeta faber. Erdichtete Architektur in der italienischen, spanischen und französischen Literatur der Renaissance und des Barock. Heidelberg, 1971.
571. Hart, Vaughan and Hicks, Peter (Eds.). Paper Palaces: Rise of the Renaissance Architectural Treatise. New Haven-London, 1998.
572. Lang, M.H. Designing Utopia: John Ruskin’s Urban Vision for Britain & America. Montreal, 1999.
573. Picon, Antoine. Saint-Simon and the Architecture of Utopia. London, 2008.
574. Posener, Julius, Bollerey, Franziska. Architekturkonzeptionen der Utopischen Sozialisten. Berlin, 1990.
575. Rahmsdorf, Sabine. Stadt und Architektur in der literarischen Utopie der frühen Neuzeit. Heidelberg, 1999.
576. Tafuri, Manfredo and La Penta, Barbara Luigia. Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development. Cambridge (Mas.), 1979.
577. Teut, Anna. Architektur in Dritten Reich 1933-1945. Frankfurt am Main – Wien, 1967.
578. Vidler, Anthony. Claude-Nicolas Ledoux: Architecture and Utopia in the Era of the French Revolution. Basel, 2006.
579. Иконников А.В. Архитектура ХХ века: утопия и реальность. Т. 1-2. М., 2001.
580. Хазанова В.Э. Советская архитектура первой пятилетки: проблема города будущего. М., 1980.
Архитектура и язык (семиотика архитектуры)
581. Barthes, Roland: Sémiologie et urbanisme // Idem. L’aventure sémiologique. Paris 1985, p. 261-271.
582. Alexander, Christopher, Ishikawa, Sara; Silverstein, Murray. A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction. New York, 1977.
583. Ben-Joseph, Eran. Te Code of the City. Standards and the Hidden Language of Place Making. Cambridge (Mas.), 2005.
584. Bonta, Juan. Architecture and Its Interpretation: a Study of Expressive Systems in Architecture. London, 1979.
585. Brandi, C. Struttura e architettura. Torino, 1967.
586. Broadbent, Geofrey; Bunt, Richard; Jenks, Charles. Signs, Symbols and Architecture. London, 1980.
587. Carlson, Marvin. Places of Performance: Te Semiotics of Teatre Architecture. Ithaca (NY), 1993.
588. Clarke, Georgia and Crossley, Paul. Architecture and Language: Constructing Identity in European Architecture, C.1000 – c.1650. Cambridge (Mas.), 2000.
589. De Fusco, R. Segni, storia e proggetto del’arcitettura. Bari, 1973.
590. Fischer, Günther: Architektur und Sprache. Grundlagen des architektonischen Ausdruckssystems. Stuttgart-Zürich, 1991.
591. Forty, Adrian. Words and Buildings: a Vocabulary of Modern Architecture. London, 2004.
592. Hall, Edward. Te Silent Language. New York, 1959.
593. Hanson, Julienne. Decoding Homes and Houses. Cambridge, 2003.
594. Hasselgren, Sven. Te Language of Architecture. Lund, 1969.
595. Jencks, Charles (Ed.). Meaning in Architecture. – 1970.
596. Jencks, Ch. Te Language of Post-Modern Architecture. New York, 1977 (русск. пер.: М., 1985).
597. Jencks, Ch. Te New Paradigm in Architecture: the Language of Postmodernism. New Haven-London, 2002.
598. Klassen, Winand W. History of Western Architecture: a Semiological Approach to Architecture from a Designer’s Point of View. Cebu City, 1980.
599. Koenig, G.K. Analisi del linguaggio architectonico. Firenze, 1964.
600. Koenig, G.K. Architettura e commucazioni. Firenze, 1970.
601. Lawson, Bryan. Te Language of Space. Oxford – Woburn, 2001.
602. Markus, Tomas A. and Cameron, Deborah. Te Words between the Spaces: Buildings and Language. New York, 2001.
603. Mitchell, William J. Placing, Words, Symbols, Space, and the City. Cambridge (Mas.), 2005.
604. Onians, John. Bearers of Meaning. Te Classical Orders in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance. Princeton, 1988.
605. Prak, Niels Luning. Te Language of Architecture: A Contribution to Architectural Teory. Te Hague – Paris, 1968.
606. Portoghesi, Paolo. Borromini: architettura come linguaggio. Milano, 1967.
607. Preziosi, Donald. Architecture, Language and Meaning: Te Origins of the Built World and Its Semiotic Organization. Te Hague – Paris – London. 1979.
608. Preziosi, D. Te Semiotics of the Built Environment: An Introduction to Architectonic Analysis. Bloomington & London, 1979.
609. Reinle, Arnulf. Zeichensprache der Architektur. Symbolik, Darstellung und Brauch in der Baukunst des Mittelalters und der Neuzeit. Basel, 1976.
610. Scalvini, Maria Luisa. L’architettura come semiotica connotativa. Milano, 1975.
611. Schlieben-Lange, Brigitte (Hrsg.): Geschichte und Architektur der Sprachen (Logos semantikos: studia linguistica in honorem Eugenio Coseriu 1921 – 1981, Bd. 5). Berlin, 1981.
612. Schloz, Tomas. Architektursemiotik. Stuttgart, 1998.
613. Summerson, John N. Te Classical Language of Architecture. Cambridge (Mas.), 1966.
614. Venturi, Robert and Brown, Denise Scott. Architecture as Signs and Systems. For a Mannerist Time. Harvard, 2004.
615. Weber, O., Zimmerman, G. Die Probleme der architektonischen Gestaltung unter semiotisch-psychologischen Aspekt. Berlin, 1980.
616. Zajac, Joanna. Beiträge zu einer deutsch-französischen Terminologie der Baukunst unter besonderer Berücksichtigung der Gotik. Frankfurt a. Main, 1998.
617. Zeitlian, Hraztan. Semiotext[E] Architecture. New York, 1989.
618. Zevi, Bruno. Architettura e storiografa. Le matrici antiche del linguaggio moderno. Torino, 1974.
619. Zevi, Bruno. Landscape and the Zero Degree of Architectural Language. Venezia, 2000.
620. Zevi, Bruno. Te Modern Language of Architecture [1978]. Seattle, 1994.
621. Иконников А.В. Художественный язык архитектуры. М., 1985.
622. Маркузон В.Ф. О закономерностях семиотики и развития архитектурного языка // Архитектура СССР, 1970, № 1.
623. Ревзин Г.И. Семиотика в архитектуроведении: проблемы взаимодействия с другими научными парадигмами // Теория архитектуры. Сб. статей. М., 1988.
624. Ревзин Г.И. Стиль как семантическая форма общности. К проблеме культурологического изучения архитектуры // Архитектура и культура. Сборник научных трудов под ред. И.А. Азизян и Н.Л. Адаскиной. М., 1991.
625. Семиотическое окно // Випперовские чтения XXVI. М., 1993.
626. Флиер А.Я. «Язык архитектурных форм» в историко-генетическом осмыслении // Проблемы истории архитектуры. Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции (Суздаль, 1991). Часть I. М., 1990. С. 116-119.
627. Эко У. Функция и знак (семиология архитектуры) // Его же. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. Пер. с ит. М., 1998.
Архитектура и словесность (риторика, поэтика, текст)
628. Antoniades, Anthony C. Poetics of Architecture: Teory of Design. New York, 1990.
629. Antoniades, Anthony C. Epic Space: Towards the Roots of Western Architecture. New York, 1992.
630. Arnulf, Arwed. Architektur– und Kunstbeschreibungen von der Antike bis zum 16. Jahrhundert. München, 2004.
631. Behnisch, Stefan; Hines, Gerald. Poetry, Property and Place. New York, 2006.
632. Binding, Günther; Linscheid-Burdich, Susanne, Wippermann, Julia. Planen und Bauen im frühen und hohen Mittelalter nach den Schrifquellen bis 1250. Darmstadt, 2002.
633. Bloomer, Jennifer. Architecture and the Text: Te (S)crypts of Joyce and Piranesi. New Haven, 1993.
634. Boland, Margaret M. Architectural Structure in the Lais of Marie De France. New York, 1995.
635. Castagno, Paul C. Teatrical Spaces and Dramatic Places: Te Reemergence of the Teatre Building in the Renaissance. Tuscaloosa, 1996.
636. Cowling, David. Building the Text: Architecture as Metaphor in Late Medieval and Early Modern France. Oxford – New York, 1998.
637. Eriksen, Roy. Te Building in the Text: From Alberti to Shakespeare and Milton. Philadelphia, 2001.
638. Frank, Ellen Eve. Literary Architecture: Essays towards a Tradition. Los Angeles, 1980.
639. Frampton, Kenneth; Cava, John. Studies in Tectonic Culture: the Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture. Cambridge (Mas.), 2001.
640. Frühe, Ursula; von Lang, Peter. Das Paradies ein Garten – der Garten ein Paradies. Studien zur Literatur des Mittelalters unter Berücksichtigung der bildenden Kunst und Architektur. München, 2002.
641. Gilbert, Katharine. Aesthetic Studies: Architecture and Poetry. New York, 1988.
642. Hersey, George L. Architecture, Poetry and Number in the Royal Palace at Caserta. Cambridge (Mas.), 1983.
643. Johnson, Anthony W. Ben Jonson: Poetry and Architecture. Oxford – New York, 1993.
644. Kahn, Andrea. Drawing, Building, Text: Essays in Architectural Teory. Princeton, 1996.
645. Lichtenberg, H., Die Architekturdarstellungen in der mittelhochdeutschen Dichtung, Münster 1931.
646. Low, Anthony. Love‘s Architecture: Devotional Modes in Seventeenth Century English Poetry. New York, 1978.
647. Lowe, David; Sharp, Simon. Goethe and Palladio: Goethe’s Study of the Relationship between Art and Nature, Leading Trough Architecture to the Discovery of the Metamorphosis of Plants. Herndon, 2006.
648. Neubauer, Edith; Vanovitch, Katherirne. Art and Literature in Old Russia: Architecture, Icons, Poetry. New York, 1993.
649. Pfsterer, Ulrich; Seidel, Max. Visuelle Topoi. München, 2003.
650. Patterson, Richard. Te Tragic in Architecture. London, 2000.
651. Ruskin, John. Te Poetry of Architecture Or the Architecture of the Nations of Europe Considered in Its Association with Natural Scenery and National Character. Washington, 1972.
652. Schaik van, Leon. Poetics in Architecture. London, 2002.
653. Sedlmayr, H., Die dichterische Wurzel der Kathedrale // Mitteilungen des österreichischen Instituts für Geschichtsforschung, 14, 1939.
654. Tiel, Roger. Anarchitektur: Lektüren zur Architektur-Kritik bei Franz Kafa. Berlin, 2007.
655. Tomas, Charles F. and Tomas, Charles Flint. Art and Architecture in the Poetry of Robert Browning: Vol. 1-2. Troy (NY), 1996.
656. Tostrup, Elisabeth. Architecture and Rhetoric: Text and Design in Architectural Competitions, Oslo 1939-1996. Oslo, 1999.
657. Troupe, Quincy. Te Architecture of Language. Minneapolis, 2006.
658. Wolfreys, Julian. Writing London: Te Trace of the Urban Text from Blake to Dickens. New York, 1998.
659. Vandenbroek, Goldian. Gothic High: Meditations on the Construction of Gothic Cathedrals. Herndon, 1993.
660. Алленов М.М. Архитектура в «Камне» Мандельштама // Его же. Тексты о текстах. М., 2003, с. 210-270.
661. Алленов М.М. Пашков дом в Москве: В. Баженов, А. Иванов, В. Суриков, М. Булгаков – диалоги на фоне Кремля // Там же, с. 302-352.
662. Раппапорт А.Г. Место поэтики в развитии архитектурно-теоретических знаний // Декоративное искусство СССР, 1985, № 4.
663. Таруашвили Л.И. Тектоника визуального образа в поэзии античности и христианской Европы: к вопросу о культурно-исторических предпосылках ордерного зодчества. М., 1998.
Архитектура и мораль
664. Botta, Mario. Ethique du bâti. Marseille, 2005.
665. Cacciari, Massimo; Lombardo, Patrizia, Sartarelli, Stephen. Architecture and Nihilism: On the Philosophy of Modern Architecture. New Haven – London, 1995.
666. Dunne, John. Te City of the Gods: A Study in Myth and Morality. New York – Waschington, 1974.
667. Fox, Warwick. Ethics and the Built Environment. New York, 2000.
668. Harries, Karsten. Te Ethical Function of Architecture. Cambridge (Mas.), 1998.
669. Lincourt, Michel. In Search of Elegance: Towards an Architecture of Satisfaction. Toronto, 1999.
670. Mayerovitch, Harry. How Architecture Speaks: Te Buildings We Make and the Lives We Lead. Toronto, 1996.
671. Perez-Gomez, Alberto and Pelletier, Louise. Architecture, Ethics and Technology. Toronto, 1994.
672. Perez-Gomez, Alberto. Built Upon Love: Architectural Longing afer Ethics and Aesthetics. Cambridge (Mas.), 2006.
673. Ray, Nicholas. Architecture and Its Ethical Dilemmas. London, 2005.
674. Spector, Tom. Te Ethical Architect: Te Dilemma of Contemporary Practice. Princeton, 2001.
675. Stephenson, David. Visions of Heaven: Te Dome in European Architecture. New York, 2005.
676. Wassermann, Barry Sullivan; Palermo, Gregory. Ethics and the Practice of Architecture. New York, 2000.
677. Watkin, David. Morality and Architecture Revisited. Chicago, 2001.
678. Добрицына И.А. Некоторые этические проблемы средоформирования // Архитектура и культура. Сборник научных трудов под ред. И.А. Азизян и Н.Л. Адаскиной. М., 1991. С. 72-81.
Сакральная архитектура (архитектура и ритуал)
679. Adam, Adolf. Wo sich Gottes Volk versammelt. Gestalt und Symbolik des Kirchenbaus. Freiburg–Basel–Wien. 1984.
680. Andrae, W., Das Gotteshaus und die Urformen des Bauens im Alten Orient, Berlin, 1930.
681. Anthonioz, P.-M. Paroles de pierres: Un chemin d’accomplissement à travers la sculpture sacrée du Moyen Age. Bruailles, 1999.
682. Bangs, Herbert. Te Return of Sacred Architecture: Te Golden Ratio and the End of Modernism. Rochester, 2007.
683. Barrie, Tomas. Spiritual Path, Sacred Place: Myth, Ritual and Meaning in Architecture. Boston, 1996.
684. Borger, Hugo. Die Abbilder des Himmels in Köln. Köln, 1979.
685. Boynton, Winifred Case. Faith Builds a Chapel: the Story of an Adventure in Crafsmanship [1953]. New York, 1984.
686. Braunfels, Wolfgang. Monasteries of Western Europe: Te Architecture of the Orders. Princeton, 1972.
687. Davies, J. G. Temples. Churches and Mosques: a Guide to the Appreciation of Religious Architecture. Edinburgh, 1982.
688. Dell, Upton. Holy Tings and Profane: Anglican Parish Churches in Colonial Virginia. New Haven-London, 1997.
689. Dyggve, E., Probleme des altchristlichen Kultbaus // Zeitschrif für Kirchengeschichte, 3. Folge, 59. Bd., 1940.
690. Dilasser, Maurice. Te Symbols of the Church. Collegeville (Min.), 1999.
691. Dragan, Radu and Augustin Ioan. Symbols and Language in Sacred Christian Architecture. New York, 1996.
692. Edward, Norman. House of God: Church Architecture, Style and History. London, 2005.
693. Emminghaus, J.H. Gestaltung des Altarraumes. Leipzig. 1977.
694. Evans, E. P. Animal Symbolism in Ecclesiastical Architecture. London, 2003 [1896].
695. Fulcanelli Master Alchemist: Le Mystere des Cathedrales. Esoteric Intrepretation of the Hermetic Symbols of the Great Work. Albuquerque, 1984 (русск. пер.: М., 2008).
696. Gass, W. Symbolik der griechischen Kirche. Berlin, 1972.
697. Goldman, Bernard. Te Sacred Portal: a Primary Symbol in Ancient Judaic Art. San Antonio, 1965.
698. Hiscock, Nigel. Te White Mantle of Churches: Architecture, Liturgy, and Art around the Millennium. Turnhout-New York, 19 – .
699. Kinder, Terryl N. L’Architecture du silence. Paris, 2000.
700. Kinder, Terryl N. (ed.). Perspectives for an Architecture of Solitude: Essays on Cistercians, Art And Architecture in Honour of Peter Fergusson. Turnhout – New York, 19 – .
701. Kraf, Sabine. Raum und Religion: Europäischer Sakralbau seit 1989. Salzburg, 2005.
702. Lamia, S. and Valdez del Alamo, E. Decorations for the Holy Dead: Visual Embellishments on Tombs and Shrines of Saints. Turnhout – New York, 1999.
703. Lawlor, Anthony. Te Temple in the House: Finding the Sacred in Everyday Architecture. Los Angeles, 1995.
704. Lawrence Hofman. Sacred Places and the Pilgrimage of Life. Chicago, 1991.
705. Legner, Anton. Kölner Heilige und Heiligtümer. Ein Jahrtausend europäischer Reliquienkultur. Köln, 2002.
706. Lehmann, E., Über die Bedeutung des Investiturstreites für die deutsche hochromanische Architektur // ZDVKW 7, 1940, S. 75 f.
707. Lehmann, K., Te Dome of Heaven // Art Bulletin XXVII, 1945. S. 1 f.
708. Liesenberg, K., Der Einfuß der Liturgie auf die frühchristliche Basilika. Freiburg i. Br. 1928.
709. Mainstone, Rowland J. Hagia Sophia: Architecture, Structure and Liturgy of Justinian‘s Great Church. London, 2002.
710. Mann, A. T. Sacred Architecture (Sacred Arts). Longmead, 1993.
711. McClung, William Alexander. Te Architecture of Paradise: Survivals of Eden and Jerusalem. Berkeley, 1983.
712. Meyer, H.B. Was Kirchenbau bedeutet. Freiburg. 1984.
713. Müller, Werner. Die Heilige Stadt. Stuttgart, 1961.
714. Naredi-Rainer, Paul von. Salomo’s Tempel und das Abendland. Monumentale Folgen historischer Irrtümer. Köln, 1994.
715. Ohler, Norbert. Die Kathedrale: Religion, Politik, Architektur. Düsseldorf, 2007.
716. Raphael, Max. Das göttliche Auge im Menschen. Zur Ästhetik der romanischen Kirchen in Frankreich. Frankfurt a. Main, 1996.
717. Raphael, Max. Tempel, Kirchen und Figuren. Studien zur Kunstgeschichte, Aesthetik und Archäologie. Hrsg. von H.-J. Heinrichs. Frankfurt a. Mein, 1988.
718. Ringbom, Lars-Ivar. Graltempel und Paradies. Beziehungen zwischen Iran und Europa im Mittelalter. Stockholm, 1951.
719. Robertson, Anne Walters. Service Books of the Royal Abbey of Saint-Denis: Images of Ritual and Music in the Middle Ages. Oxford, 1991.
720. Robertson, Anne Walters. Guillaume de Machaut and Reims: Context and Meaning in His Musical Works. New York, 2002.
721. Roethlisberger, Bianchi. Die Architektur des Graalstempels in Jungeren Titurel. Bern, 1917.
722. Russell, James. Places of Worship. London, 1999.
723. Scully, Vincent, Jr. Te Earth, the Temple, and the Gods: Greek Sacred Architecture, Revised Edition. New Haven – London, 1962.
724. Schwarz, Rudolf. Von der Bebauung der Erde. Heidelberg, 1949.
725. Seasoltz, Kevin R. Sense of the Sacred: Teological Foundations of Christian Architecture and Art. London, 2005.
726. Stammberger Ralf M. W., Sticher, Claudia. Das Haus Gottes, das seid ihr selbst. Mittelalterliches und barockes Kirchenverständis im Spiegel der Kirchenweihes. Berlin, 2007
727. Stange, A. Das frühchristliche Kirchengebäude als Bild des Himmels. Köln, 1950.
728. Stock, Wolfgang Jean. Europäische Kirchenbau 1900-1950. Aufruch zur Moderne. München – Berlin – London – New York. 2006.
729. Stock, Wolfgang Jean. Europäische Kirchenbau 1950-2000. München – Berlin – London – New York. 2006.
730. Taylor, Richard. How to Read a Church: a Guide to Symbols and Images in Churches and Cathedrals. Toronto, 2005.
731. Восточнохристианскийе храм. Литургия и искусство. Ред.-сост. А.М. Лидов. СПб., 1994.
732. Иеротопия. Исследования сакральных пространств. Ред.-сост. А.М. Лидов. М., 2004.
733. Новые иерусалимы. Перенесение сакральных пространств в христианской культуре. Ред.-сост. А.М. Лидов. М., 2006.
734. Новые иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств. Редактор-составитель А.М. Лидов. М., 2009.
735. Бусева-Давыдова И.Л. К проблеме канона в православном храмостроении // Христианское зодчество. Новые материалы и исследования. М., 2004. С. 63-72.
736. Бусева-Давыдова И.Л. Литургические толкования и представления о символике храма // Восточно-христианский храм. Литургия и искусство. Ред.-сост. А.М. Лидов. СПб., 1994.
737. Бусева-Давыдова И.Л. Символика архитектуры по древнерусским письменным источникам // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 2. XVI-начало XVIII веков. М., 1989.
738. Вятчанина Т.Н. Архитектурная традиция и пути русского благочестия во второй половине XV–первой половине XVI веков (к проблеме взаимовлияния) // Христианское зодчество. Новые материалы и исследования. М., 2004. С. 85-107.
739. Литургия, архитектура и искусство византийского мира. Под ред. К.К. Акентьева. СПб., 1995.
740. Путятин И.Е. Идея русского храма в эпоху Просвещения. М., 2009.
741. Храм Земной и Небесный. Сб. статей под. ред. Ш.М. Шукурова. Т. 1. М., 2003.
742. Шукуров Ш. М. Образ храма. Imago Templi. М., 2002.
Богословие архитектуры (архитектура и мистика)
743. Bayard, Jean-Pierre. La Tradition cachée des cathédrales: Du symbolisme médiéval à la réalisation architecturale. Paris, 1999.
744. Boyer, Louis. Liturgy and Architecture. Chicago, 1967.
745. Boyer, Mark G. Te Liturgical Environment: What the Documents Say. Collegeville, 2004.
746. Brandon, S. G. F. Man and God in Art and Ritual: A Study of Iconography, Architecture and Ritual Action as Primary Evidence of Religious Belief and Practice. New York, 1975.
747. Buscemi, John. Places for Devotion. Chicago, 1993.
748. Coombs, Robert. Mystical Temes in Le Corbusier’s Architecture in the Chapel Notre Dame Du Haut at Ronchamp. Te Ronchamp Riddle. New York, 2000.
749. Congar, Ives M.-J., O.P. Te Mystery of the Temple or the Manner of God’s Presence to His Creatures from Genesis to the Apocalypse [Paris, 1958]. London, 1962.
750. De Sanctis, Michael E. Renewing the City of God. Chicago, 1993.
751. De Sanctis, Michael E. and Trautman, Donald W. Building from Belief: Advance, Retreat, and Compromise in the Remaking of Catholic Church Architecture. Collegevil (Min.), 2002.
752. Hale, Jonathan. Te Old Way of Seeing: How Architecture Lost Its Magic (and How to Get It Back). Boston, 1994.
753. Hall, Edward T. Te Hidden Dimension. New York, 1990.
754. Hammond, Peter. Liturgy and architecture. New York, 1961.
755. Homan, Roger Aldershot. Te Art of the Sublime-Principles of Christian Art and Architecture. London, 2006.
756. Huysmans, Joris-Karl. Te Cathedral. New York, 1997.
757. Jacobsen, Werner. Altarraum und Heiligengrab als liturgisches Konzept in der Auseinandersetzung des Nordens mit Rom // N. Bock u.a. (Hg.). Kunst und Liturgie im Mittelalter (Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana 33, 1999/ 2000, Beihef).
758. Kieckhefer, Richard. Teology in Stone: Church Architecture from Byzantium to Berkeley. New York, 2004.
759. Klein, Peter K. Der mittelalterliche Kreuzgang. Architektur, Funktion und Programm. Regensburg, 2003.
760. Kohlschein, Franz und Wünsche, Peter. Heiliger Raum. Architektur, Kunst und Liturgie in mittelalterlichen Kathedralen und Stifskirchen. Münster, 1998.
761. Kosch, Clemens. Kölns Romanische Kirchen. Architektur und Liturgie im Hochmittelalter. Regensburg, 2005.
762. Kosch, Clemens. Paderborns mittelalterliche Kirchen. Architektur und Liturgie um 1300. Regensburg, 2006.
763. Kostof, Spiro. A History of Architecture; Settings and Rituals. New York, 1985.
764. Künzel, Anja. Kirche bauen – Gemeinde bilden. Zur Beziehung von Architektur, Kunst und Liturgie im Leben katholischer Pfarrgemeinden. Hamburg, 1996.
765. Lara, Jaime. City, Temple, Stage: Eschatalogical Architecture and Liturgical Teatrics in New Spain. Chicago, 2004.
766. Lathrop, Gordon W. Holy Ground: A Liturgical Cosmology. Minniapolis, 2003.
767. Lathrop, Gordon W. Holy People: A Liturgical Ecclesiology. Minniapolis, 2006.
768. Lathrop, Gordon W. Holy Tings: A Liturgical Teology. Minneapolis, 1995.
769. Lethaby, W.R. Architecture and Mysticism. London, 1961.
770. Moraht-Fromm, Anna. Kunst und Liturgie. Ostfldern, 2003.
771. Martin, Gerhard M. Neues und altes Jerusalem. Münster-Hamburg-Berlin-Wien-London, 2004.
772. Martin, Gerhard M. Predigt und Liturgie ästhetisch. Wahrnehmung – Kunst – Lebenskunst. Stuttgart, 2003.
773. Norman, Edward. Te House of God: Church Architecture, Style and History. London, 2005.
774. Rambusch, Viggo Bech. Lighting the Liturgy. Chicago, 1994.
775. Roberts, Nicholas W. Building Type Basics for Places of Worship. New York, 2004.
776. Rose, Michael S. In Tiers of Glory: Te Organic Development of Catholic Church Architecture Trough the Ages. Cincinati, 2004.
777. Rose, Michael S. Ugly as Sin: Why Tey Changed Our Churches from Sacred Places to Meeting Spaces and How We Can Change Tem Back Again. Manchester, 2001.
778. Schloeder, Steven J. Architecture in Communion: Implementing the Second Vatican Council through Liturgy and Architecture. New York, 1998.
779. Schneider, Alfons Maria. Liturgie und Kirchenbau in Syrien. Göttingen, 1949.
780. Seasoltz, R. Kevin. A Sense of the Sacred: Teological Foundations of Christian Architecture and Art. London-New York, 2005.
781. Smith, Peter E. Cherubim of Gold: Building Materials & Aesthetics. Chicago, 1993.
782. Stock, Alex. Zwischen Tempel und Museum. Teologische Kunstkritik. Positionen der Moderne. Padeborn, 1997.
783. Stroik, Christopher V. Path, Portal, Path: Architecture for the Rites. Chicago, 1999.
784. Taylor, Mark C. Disfguring: Art, Architecture, Religion. Chicago, 1994.
785. Vosko, Richard. Designing Worship Spaces: Te Mystery of a Common Vision. Chicago, 1996.
786. Vosko, Richard. God’s House Is Our House: Re-imagining the Environment for Worship. Collegevill, 2006.
787. White, James F.; White, Susan J. Church Architecture: Building and Renovating for Christian Workshop. Nashwille, 1988.
788. Wipfer, Esther P. «Corpus Christi» in Liturgie und Kunst der Zisterzienser im Mittelalter. Münster-Hamburg-Berlin-Wien-London, 2003.
789. Карпушин И.И. Философия христианского зодчества. М., 2005.
790. Настольная книга священнослужителя. Т. 4. М., 1983 (часть 1: «Православный храм, богослужебная утварь и одеяния духовенства»).
Иконография архитектуры
791. André, Gustaw. Architektur und Kunstgewerbe als Gegenstand der Ikonographie // Festschrif für R. Hamann. 1939.
792. Becker, Alexandra Carmen. Der mittelalterliche Reliquienschrein in Architekturform: Kontext – Entstehung – Ikonographie. Saarbrücken, 2008.
793. Flasche, H., Similitudo Templi // Deutsche Vierteljahresschrif für Literaturwissenschaf und Geistesgeschichte. Jg. 23, 1949.
794. Gathercole, Patricia M. Te Depiction of Architecture and Furniture in Medieval French Manuscript Illumination. New York, 2006.
795. Jencks, Charles. Te Iconic Building. New York, 2005.
796. Jones-Franck, Michael. Iconography and Liturgy. Chicago, 1994.
797. Kitschelt, L. Die frühchristliche Basilika als Darstellung des himmlichen Jerusalem. München, 1938.
798. Millon, H.A., Magnano-Lampugnani, V. (eds.). Te Renaissance from Brunelleschi to Michelangelo. Milano, 1994.
799. Nichols, Stephen G. Romanesque Signs: Early Mediaeval Narrative and Iconography. New Haven-London, 1983.
800. Quante-Schottler, Dorothee. Ante aedes. Darstellung von Architektur in römischen Reliefs. Hamburg, 2002.
801. Schmaltz, Karl. Mater Ecclesiarum: die Grabeskirche in Jerusalem. Studien zur Geschichte der kirchlichen Baukunst und Ikonographie in Antike und Mittelalter. Leipzig, 1982.
802. Springer, Anton. Ikonographische Studien. In: Mitteilungen der k. u. k. Zentralkomission f. Denkmalpfege, V. Wien, 1860.
803. Springer, Anton. Über die Quellen der Kunstdarstellung im Mittelalter. In: Sitzungberichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaf. Dresden, 1879.
804. Venturi, Robert. Iconography and Electronics upon a Generic Architecture: a View from the Drafing Room. Cambridge (Mas.), 1996.
805. Баталов Л.А., Вятчанинова Т.Н. Об идейном значении и интерпретации иерусалимского образца в русской архимтектуре XVI-XVII вв // Архитектурное наследство. Вып. 36, М., 1988, сс. 22-42.
806. Бондаренко, И.А. О Тверди Небесной в традициях храмового зодчества // Христианское зодчество. Новые материалы и исследования. М., 2004. С. 45-62.
807. Ванеян, С.С. Рихард Краутхаймер или Возвращение торгующих // Православная иконология: итоги и перспективы. Сб. статей. СПб., 2005.
808. Он же. Иконография архитектуры Рихарда Краутхаймера // Искусство христианского мира, вып. 9. М., 2006.
809. Он же. Симвология, археология, иконография и архитектура. Очерки классической методологии. М., 2006.
810. Он же. Архитектурный символизм и иконографический метод // Вестник МГУКИ, № 1, 2007.
811. Вятчанина Т.Н. О значении образца в древнерусской архитектуре // Архитектурное наследство. Вып. 32, М., 1983. С. 26-31.
812. Иконография архитектуры. Сб. статей. Од ред. А.Л. Баталова. М., 1990.
813. Щенков А.С. и Ватчанина Т.Н Иконография и тектоника Православного храма. М., 1996.
Иконология и герменевтика архитектуры
814. Appleton, Jay. Te Symbolism of Habitat: an Interpretation of Landscape in the Arts. Seattle, 1990.
815. Baldwin Smith, E. Architectural Symbolism of Imperial Rome and the Middle Ages. New York, 1978.
816. Baldwin Smith, E. Egyptian Architecture as Cultural Expression. New York, 1978.
817. Benton, Janetta Rebold. Holy Terrors: Gargoyles on Medieval Buildings. New York, 1997.
818. Carlsson, Frans. Te iconology of tectonics in Romanesque art. Hässleholm, 1976.
819. Dutton, Tomas A. (ed.); Mann, Lian Hurst (ed.). Reconstructing Architecture: Critical Discourses and Social Practices. Minneapolis, 1997.
820. Evers, Hans Gerhard. Tod, Macht und Raum als Bereiche der Architektur [1938]. Paderborn, 1970.
821. Harbison, Robert. Te Built, the Unbuilt and the Unbuildable: In Pursuit of Architectural Meaning. London, 2001.
822. Hawel, Peter. Der spätbarocke Kirchenbau und seine theologische Bedeutung. Ein Beitrag zur Ikonologie der christlichen Sakralarchitektur. Würzburg, 1987.
823. Hersey, George L. Te Lost Meaning of Classical Architecture: Speculations on Ornament from Vitruvius to Venturi. Cambridge (Mas.), 1988.
824. Jantzen, Hans. Die Gotik des Abendlandes. Idee und Wandel. Ostfldern, 1997.
825. Jones, Lindsay. Te Hermeneutics of Sacred Architecture: Experience. V. 1: Interpretation, Comparison: Monumental Occasions, Refections on the Eventfulness of Religious Architecture; V. 2: Experience, Interpretation, Comparison: Hermeneutical Calisthenics, a Morphology of Ritual-architectural Priorities. Harvard, 2000.
826. Lavine, Lance. Mechanics and Meaning in Architecture. Minneapolis, 2001.
827. MacDonald, William L. Te Pantheon: Design, Meaning, and Progeny. Harward, 2002.
828. Mathews, Tomas F. Art and Architecture in Byzantium and Armenia: Liturgical and Exegetical Approaches. London, 1995.
829. Mugerauer, Robert. Interpreting Environments: Tradition, Deconstruction, Hermeneutics. Houston, 1995.
830. Norberg-Schulz, Chr. Existence. Space. Architecture. London, 1971.
831. Portoghesi, Paolo. Nature and Architecture. Milano, 2000.
832. Sedlmayr, H. Über eine mittelalterliche Art des Abbildens // Critica d’arte, 1, 1935/36, S. 261 f.
833. Sedlmayr, H., Architektur als abbildende Kunst // Österreichische Akademie der Wissenschafen, Phil.-Hist. Klasse. Sitzungsberichte. 225. Bd., 3. Abh. Wien 1948.
834. Sutter, Heribert. Form und Ikonologie spanischer Zentralbauten: Torres del Rio, Segovia, Eunate. Weimar, 1997.
835. Vidler, Anthony. Te Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely. Cambridge (Mas.), 1992.
836. Вагнер Г.К. Византийский храм как образ мира // Византийский временник. № 47. М., 1986.
837. Ванеян С.С. Храм и Грааль в Западном средневековье // Храм земной и небесный. М., 2003 (5 а. л.).
838. Ванеян С.С. Иконология архитектуры Гюнтера Бандманна // Искусствознание, 1/2004.
839. Он же. Интенция, экзистенция и гений места // Искусствознание, 2/2004.
840. Гращенков В.Н. «Свод Небесный». О сакральном символизме ренессансного храма и его монументальной декорации // Вопросы искусствознания. 1994. № 4. М., 1994, с. 231-267 (перепечатано: Гращенков В.Н. История и историки искусства. Статьи разных лет. М., 2005, с. 114-161).
841. Ревзин Г.И. Картина мира в архитектуре. «Космос и история» // Вопросы искусствознания, 2-3/94. М., 1994.
842. Тучков И.И. Виллы Рима эпохи Возрождения как образная система: иконология и риторика. М., 2008.
Социология архитектуры
843. Anderson, James C. Roman Architecture and Society. Baltimore, 1997.
844. Bammer, Anton. Architektur und Gesellschaf in der Antike. Zur Deutung baulicher Symbole. Köln-Weimar-Wien, 1985.
845. Beckmann, John (Ed.). Virtual Dimension: Architecture, Representation, and Crash Culture. Princeton, 1998.
846. Borden, Iain; McCreery, Sandy. New Babylonians. London, 2001.
847. Branner, Robert. St. Louis and the Court Style in Gothic Architecture. London, 1965.
848. Conrad, Dietrich. Kirchenbau im Mittelalter. Bauplanung und Bauausführung. Leipzig, 1990.
849. Dovey, Kim. Framing Places: Mediating Power in Built Form. London, 1999.
850. Dutton, Tomas A.; Mann, Lian Hurst (eds.). Reconstructing Architecture: Critical Discourses and Social Practices. Minneapolis, 1997.
851. Fromm, Ludwig. Architektur und Sozialer Raum: Grundlagen einer Baukulturkritik. Kiel, 2000.
852. Giedion, Siegfrid. Architektur und Gemeinschaf. Hamburg, 1958.
853. Grant, Lindy. Architecture and Society In Normandy 1120-1270. New Haven-London, 2005.
854. Guillaume, Jean (ed.). Architecture et vie sociale. Colloque Architecture et vie sociale (1988: Université de Tours). Centre d’études supérieures de la Renaissance. Paris, 1994.
855. Hall, Mildred and Hall, Edward T. Te Fourth Dimension in Architecture: Te Impact of Building on Behavior. Santa Fe, 1995.
856. Harris, Neil. Building Lives: Constructing Rites and Passages. New Haven-London, 1999.
857. Hill, Jonathan. Actions of Architecture: Architects and Creative Users. New York, 2003.
858. Hillier, Bill; Hanson, Julienne. Te Social Logic of Space. Cambridge-New York, 1984.
859. Jarrard, Alice. Architecture as Performance in Seventeenth-Century Europe: Court Ritual in Modena, Rome, and Paris. Cambridge-New York, 2003.
860. Jenkins, Frank. Architect and Patron. London, 1961.
861. Kaye, Barrington. Te Development of the Architectural Profession in Britain. A Sociological Study. London, 1960.
862. Kühlmann, Dorte, Jormakka, Kari (Hgs.). Building Gender. Architektur und Geschlecht. Wien, 2003.
863. Kühlmann, Dorte. Raum, Macht, Diferenz. Genderstudien in Architektur. Wien, 2003.
864. Leipprand, Eckart. Lebensmodell Stadt. Tübingen, 2000.
865. Locock, Martin Paul. Meaningful Architecture: Social Interpretations of Buildings. Aldershot, 1994.
866. Lützeler, Heinrich. Europäische Baukunst im Überblick. Architektur und Gesellschaf. Freiburg i. Br., 1969.
867. Meyer, H. Bauen und Gesellschaf. Dresden, 1980.
868. Parker, Pearson Michael and Richards, Colin. Architecture and Order: Approaches to Social Space. New York, 1997.
869. Read, Alan. Architecturally Speaking: Practices of Art, Architecture and the Everyday. New York, 2000.
870. Rendell, Jane and Penner, Barbara, and Borden, Iain (Eds.). Gender Space Architecture: An Interdisciplinary Introduction. London, 1999.
871. Risebero, Bill. Te Story of Western Architecture [1985]. Cambridge (Mas.), 20033.
872. Saisselin, Remy G. Te Enlightenment against the Baroque: Economics and Aesthetics in the Eighteenth Century. Los Angeles, 1992.
873. Seidl, Ernst. Architektur als politische Kultur. Philosophia practica. Berlin, 1996.
874. Sennett, Richard. La Conscience de l’œil. Urbanisme et société. Paris, 2000.
875. Schäfers, Bernhard. Architektursoziologie: Grundlagen – Epochen – Temen. Wiesbaden, 2006.
876. Stekl, Hannes. Architektur und Gesellschaf von der Antike bis zur Gegenwart. Wien, 1980.
877. Terrenoire, Marie-Odile et Gaudin, Henri. Le travail d‘architecture au temps des cathédrales: Savoirs et savoir-faire. Paris, 2004.
878. Vidler, Anthony (Ed.). Architecture: Between Spectacle and Use. New Haven-New York, 2008.
879. Warnke, Martin. Politische Architektur in Europa vom Mittelalter bis heute. Reprasentation und Gemeinschaf. Ostfldern, 1984.
880. Warnke, Martin. Bau und Überbau. Soziologie der mittelalterlichen Architektur nach den Schrifquellen. Frankfurt a. Main, 1976.
881. White, L. Michael. Te Social Origins of Christian Architecture: Building God‘s House in the Roman World Architectural Adaptation among Pagans, Jews, and Christians. Minneapolis, 1996.
882. Архитектура Запада. Кн. 2: Социальные и идеологические проблемы. М., 1975.
883. Глазычев В.П. Социология архитектуры: что и зачем? // «Зодчество». № 2 (21), 1978.
884. Голомшток И.Н. Тоталитарное искусство. М., 1995.
885. Жилище в России: век XX. Архитектура и социальная история. Монографический сборник. М. 2001 (русск. пер. изд.: Russian Housing in the Modern Age: Design & Social History. Ed. by Wiliam Craf Brumfeld and Blair A. Ruble. Cambridge (Mas.), 1993).
886. Заказчик в истории русской архитектуры (Архив архитектуры, V). Т. 1-2. Отв. ред. Г.И. Ревзин, Вл.В. Седов. М., 1994.
887. Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии, 1920–30 годы. СПб., 1999.
888. Марков Б.В. Храм и рынок: Человек в пространстве культуры. СПб., 1999.
889. Социальные проблемы архитектуры жилой среды. М., 1984.
890. Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. Т. 2: Социальные проблемы. М., 2001.
Антропология и психология архитектуры
891. Agrest, Diana; Conway, Patricia; Kanes Weisman, Leslie (Eds.). Te Sex of Architecture. New York, 1996.
892. Akin, O. Psychology of Architectural Design. London, 1989.
893. Arnheim, Rudolf. Te Dynamics of Architectural Form. Los Angeles, 1978 (русcк. пер.: М., 1994).
894. Bastea, Eleni. Memory and Architecture. Santa Fe, 2004.
895. Bloomer, Kent C., Moore, Charles W. Body, Memory and Architecture. New Haven – London, 1977.
896. Brawne, Michael. Architectural Tought: Te Design Process and the Expectant Eye. Oxford – Burlington, 2003.
897. Brebner, J. Environmental Psychology in Building Design. New York, 1982.
898. Brzoska, M. Anthropomorphe Aufassung des Gebäudes und seiner Teile. Jena, 1931.
899. Burgin, Victor. In Diferent Spaces: Place and Memory in Visual Culture. Los Angeles, 1996.
900. Canter, D. (Ed.). Architectural Psychology. Strathclyde, 1969.
901. Canter, D. Te Psychology of Place. London, 1977.
902. Day, Christopher. Places of the Soul: Architecture and Environmental Design as a Healing Art. Oxford-Burlington. 1994 (русск. пер.: М., 1995).
903. Dodds, George; Tavernor, Robert, Mr. (Eds). Body and Building: Essays on the Changing Relation of Body and Architecture. Cambridge (Mas.), 2002.
904. Frascari, Marco. Monsters of Architecture: Anthropomorphism in Architectural Teory. London, 1991.
905. Geiger, Annette; Hennecke, Stefanie; Kempf, Christin (Hrsg.). Imaginäre Architekturen. Raum und Stadt als Vorstellung. Berlin, 2005.
906. Ganz, David. Barocke Bilderbauten. Erzählung, Illusion und Institution in römischen Kirchen, 1580-1700. Petersberg, 2003.
907. Hendrix, John Shannon. Architecture and Psychoanalysis. New York, 2006.
908. Hesselgren, S. On Architecture: An Architectural Teory Based on Extensive Psychological Research. London, 1989.
909. Hildebrand, Grant. Origins of Architectural Pleasure. Los Angeles, 1999.
910. Hill, Jonathan. Actions in Architecture: Architects and Creative Users. New York, 2003.
911. Homann, Annette. Spielräume des Glaubens: Anthropomorphismus in der Architekturtheorie und die Umwandlung von St. Maximin in Trier. Berlin, 2005.
912. Krell, David Farrell. Architecture: Ecstasies of Space, Time and the Human Body. New York, 1997.
913. Lavin, Sylvia. Form Follows Libido. Architecture and Richard Neutra in a Psychoanalytic Culture. Cambridge (Mas.), 2007.
914. Lym, Glenn Robert. A Psychology of Building: How We Shape and Experience Our Structured Spaces. New York, 1980.
915. Marc, Olivier. Psychology of the House. London, 1977.
916. Meisenheimer, Wolfgang. Das Denken des Leibes und der architektonische Raum. Köln, 2004.
917. Melhuish, Clare. Architecture and Anthropology. London, 1996.
918. Negroponte, Nicholas. Te Architecture Machine: Towards a More Human Environment. Cambridge (Mas.), 1970.
919. Perez-Gomez, Alberto. Polyphilo, or Te Dark Forest Revisited: An Erotic Epiphany of Architecture. Cambridge (Mas.), 1992.
920. Pile, Steve. Te Body and the City: Psychoanalysis, Space and Subjectivity. New York, 1996.
921. Quantrill, Malcolm. Environmental Memory. New York, 1988.
922. Papadakis, Alexandra; Papadakis, Andreas. Sensations: Making Sense of Architecture. London, 2005.
923. Sedlmayr, Hans. Die Architektur Borromini’s. Berlin, 1930. München, 19392, 19733 (фрагменты в русск. пер. – История архитектуры в избранных отрывках. М., 1935. С. 298-338).
924. Sennett, Richard. La Chair et la Pierre. Le corps et la ville dans la civilisation occidentale. Paris, 2002.
925. Smith, Peter. Architecture and the Human Dimension. Westfeld (NY), 1979.
926. Stamps, Arthur E. Psychology and the Aesthetics of the Built Environment. Norwell (Mas.), 2000.
927. Tiis-Evensen, Tomas. Archetypes in Architecture. Oslo, 1987.
928. Vidler, Anthony. Warped Space: Art, Architecture, and Anxiety in Modern Culture. Cambridge (Mas.), 2000.
929. Weber, Ralf. On the Aesthetics of Architecture: A Psychological Approach to the Structure and the Order of Perceived Architectural Spaces and Forms. London, 1995.
930. Wilson, Forrest. Te Joy of Building: Restoring the Connection between Architect and Builder. New York, 1979.
931. Wölfin, Heinrich. Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur. [Basel, 1946], Berlin, 1999.
932. Worringer, Wilhelm. Formprobleme der Gotik. München, 1912.
933. Zug, Beatrix. Die Anthropologie des Raumes in der Architekturtheorie des frühen 20. Jahrhunderts. Tübingen, 2007.
934. Глазычев В.Л. Образы пространства // Творческий процесс и художественное восприятие. М., 1978.
935. Забельшанский Гр. Б., Минервин, Г. Б., Раппапорт, А. Г., Сомов, Г. Ю. Архитектура и эмоциональный мир человека. М., 1985.
936. Каганов Г.З. Страх и радость как средства архитектуры // Архитектура и культура. Материалы Всесоюзной научной конференции ВНИИТАГ. Часть II. М., 1990. С. 4-9.
937. Психология и архитектура. Тезисы научной конференции в Лохусалу. Ч.1-2. Таллинн, 1983.
938. Степанов А.В., Иванова Г. И., Нечаев Н.Н. Архитектура и психология. М., 1993.
939. Столин В.В. Порождение пространственного образа и зрительное поле // Зрительные образы. Феноменология и эксперимент. Душанбе, 1974.
940. Страутманис И.А. Информативно-эмоциональный потенциал архитектуры. М., 1973.
941. Стригалев А.А. Образные представления в архитектуре // Проблемы теории советской архитектуры. М., 1973.
942. Ткачиков И.Н. Архитектурная психология. Киев, 1980.
943. Федоров В.В., Коваль И.М. Мифосимволизм архитектуры. М., 2006.
944. Хмельницкий Д. Архитектура Сталина. Психология и стиль. М., 2007.
Примечания
1
Тем более что природа этого ряда – отдельная проблема, углубление в которую способно погубить не одно искусствознание.
(обратно)2
Русский перевод Н.Л. Трауберг. См.: Честертон Г.-К. Избранные произведения: в 4-х т. М., 1994. Т.3. В конце романа становится понятным, что это никакой не профессор и что за инициалом Л. стоит его подлинное именование (если у этого существа вообще может быть что-то подлинное). И столь же неспроста у отшельника имя то же, что и у победителя существа на букву Л.
(обратно)3
Цит. соч. С. 263-265. Нетрудно догадаться, что под конец существу на букву Л. уже не надо скрываться под обликом профессора-атеиста. Впрочем, это не избавляет его от очередного падения.
(обратно)4
Bandmann, Günter. Mittelalterliche Architektur als Bedeutungsträger. Berlin, 1951. Заметим сразу, что и ограничение архитектуры функцией носителя – тоже один из соблазнов, но уже иконологии архитектуры. Мы же намерены пока заняться иконографией, а это нечто иное, со своими искушениями, главное из которых – свести осязаемую проблемность трехмерных тел к плоской эвристичности двухмерных знаков (см.: Успенский Б. А. Крест и круг. М., 2006).
(обратно)5
В завязке романа Честертона упомянутый профессор, не способный возражать монаху, в конце концов сбрасывает его с аэроплана прямо на Крест собора, а сам улетает прочь… Монах, удерживаясь за Крест, побеждает в себе страх смерти, сползает по шару на галерею собора и в результате оказывается, как ему кажется, в самой преисподней – а именно на улицах Лондона. Но на самом деле это только земля, ад его ждет впереди.
(обратно)6
Portoghesi, Paolo. Nature and Architecture. Milano, 2000. Данный автор следует за Хр. Норбергом-Шульцом в строго феноменологическом подходе к архитектурному символизму, обнаруживая его экзистенциально-космологическую подоплеку.
(обратно)7
Kruft, Hanno-Walter. Geschichte der Architekturtheorie [1985]. München, 2004.
(обратно)8
Речь идет, несомненно, о категории decor, предполагающей, в том числе, и правильное употребление ордера, что «выходит за пределы эстетики и указывает на смысловые составляющие архитектуры, на архитектурную иконологию» (Kruft. Op. cit. S. 27). Учитывая, в свою очередь, антропометрический характер архитектурных пропорций («проявление свойств, присущих человеческому телу», Op. cit. S. 29), можно сказать, что архитектурный смысл в таком случае – тоже производная от человеческой природы. И это дополнительный аргумент в пользу антропологичности и семантического анализа как такового: анализируя смысл, мы анализируем человека.
(обратно)9
Wölfin, Heinrich. Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur [1886]. Basel, 1946. Berlin, 1999.
(обратно)10
Schmarsow, August. Grundbegrife der Kunstwissenschaf am Übergang vom Altertum zum Mittelalter [1902]. Berlin, 1998.
(обратно)11
Frankl, Paul. Principles of Architectural History: Te Four Phases of Architectural Style, 1420-1900 [1914]. Cambridge (Mas.). 1968.
(обратно)12
И о заре, и о последующем восходе искусствоведческого, преимущественно немецкоязычного, солнца, в частности, см.: Podro, Michael. Te Critical Historians of Art. New Haven a. London, 1982.
(обратно)13
Ibid. P. 146.
(обратно)14
Обмен мнениями о Янтцене в связи с возможностью его назначения на профессорскую должность в Гейдельберге см.: Хайдеггер – Ясперс. Переписка. М., 2001. С. 178-181, 185. Сам Янтцен способствовал, между прочим, назначению Хайдеггера во Фрайбург.
(обратно)15
Работы Янтцена собраны в сборнике: Über den gotischen Kirchenraum und andere Aufsätze. Berlin, 1951, 2000. Впрочем, принято считать, что предтеча феноменологии в немецкой науке об искусстве – это все-таки Шмарзов.
(обратно)16
Jantzen, Hanz. Über den gotischen Kirchenraum und andere Aufsätze. Berlin, 2000. S. 32-33. Идеи Янтцена требуют уточнения. Главное в его концепции – представление о том, что диафания – это именно оптический эффект, получаемый благодаря взаимодействию «пластически-фигурной стены» и пространственного фона, который или сильно затемнен (боковой неф), или ярко, ослепляющее окрашен (витраж). Нетрудно догадаться, что перед нами известный гештальтный принцип зрительного восприятия (фигура/фон), перенесенный на архитектуру. Этот принцип действует повсюду. Он самый фундаментальный. Новшество Янтцена – в признании в качестве фона самого пространства, которое, впрочем, лишено своих основополагающих признаков – доступности и глубинности – и потому может рассматриваться как все та же плоскость, как отсутствие глубины (см. идею «беспространственного», свободного от пространства диафанического «ядра культовых процессов»: «пространства как символа беспространственного», присущего сакральному зодчеству как таковому). Но на концептуальном уровне, дополняющем уровень перцептуальный, фигура/фон – это те же форма/содержание, схема/тема.
(обратно)17
В ранних архитектуроведческих работах Зедльмайра, и особенно в работе о Борромини (см.: Sedlmayr, Hans. Die Architektur Borrominis. Berlin, 1930; фрагменты в русск. пер. – История архитектуры в избранных отрывках. М., 1935. С. 298-338), присутствуют самые разнообразные психологические концепции, в том числе и кречмеровская идея «психэстетической пропорции», то есть соотношения мышления (его динамики прежде всего) и уровня чувствительности индивидуума, его восприимчивости к внешним впечатлениям.
(обратно)18
Sedlmayr, Hans. Die Entstehung der Kathedrale. München, 1951. Знаменитую и далеко не всеми понятую идею балдахина можно истолковать как специфическую герменевтическую позицию, предполагающую наличие в соборе даже на пространственном уровне особой структуры богоприсутствия и богообщения, когда само устройство сакральной среды наглядно являет трансценденцию как непосредственный психэстетический опыт (или «эстезиологический», говоря словами экзистенциальной антропологии). Таким же способом следует понимать и зедльмайровскую идею собора как «отображения», отпечатка, проекции Неба. Об «эдикуле» как аналогии «балдахина» см. остроумные наблюдения Дж. Саммерсона: Summerson, John. Heavenly Mansions and other Essays on Architecture. New York, 1963. P. 1-28. Эдикула – это форма защищенности, укрытости и одновременно непосредственности и приобщенности. Понятно, что происхождение ее – из мира детства, как индивидуального, так и коллективного.
(обратно)19
Sedlmayr, Hans. Johann Bernhard Fischer von Erlach. Wien – München, 1956. Мы находим в этой, казалось бы, чисто монографической (но в духе фон Шлоссера!) книге своеобразную «проективную методологию», предполагающую самоидентификацию с предметом внимания и изучения, «почти мистическое единство» с ним, по словам самого Зедльмайра (см., в частности: Зедльмайр Ханс. Искусство и истина. М., 1999. С. 296-297, где говорится, в том числе, и о специфическом, обращенном на историю архитектуры «утопизме» мышления и фон Эрлаха, и его исследователя).
(обратно)20
Этой проблеме посвящен отдельный сборник: Cassirer, Panofsky, and Warburg: Symbol, Art and History. New Haven, 1989.
(обратно)21
Wittkower, R. Architectural Principles in the Age of Humanism. London, 1949. Уже в самом начале автор напоминает, что всякая архитектура опирается на иерархию ценностей, вершина которой – «абсолютные ценности сакральной архитектуры» (P. 1), так что невозможно говорить о «чистой форме», не «заряженной значением». Отсюда и программа книги – исследование именно символически значимой церковной архитектуры, вбирающей и кумулирующей в себе и объективные, и субъективные аспекты, измерения смысла и потому позволяющей судить, в том числе, и о «художнической интенции» ( P. 2-3).
(обратно)22
Panofsky, Erwin. Gothic Architecture and Scholasticism. An Inquiry into the Analogy of the Arts, Philisophy and Religion in the Middle Ages. New York, 1951. Уже в подзаголовке присутствующая «аналогия» есть проявление структурного изоморфизма – одного из главных постулатов гештальт-теории. Напомним, что у Панофского гештальтно едиными и, соответственно, эквивалентными предстают два дискурса – философско-богословский и строительный, хотя, как нетрудно выяснить, за архитектурой у Панофского скрывается преимущественно проектная деятельность, то есть замысел, отчасти зафиксированный графически, иначе говоря, на плоскости и дискретно-линейно, что, собственно, и облегчает всякого рода аналогии, превращая их в общность когнитивно-языковых явлений, и не более того. В виде диаграммы можно представить практически все – и схоластический силлогизм, и готическую травею. Обогащение иконологического «логоцентризма» – концепция Отто фон Симсона, для которого в готическом соборе существен именно сплав непосредственно мистически-наглядного опыта с характерным планиметрическим геометризмом. Собор – это плоскостное, почти что графическое обозначение, отражение визионерского опыта, поэтому чертеж-проект можно рассматривать как «проекцию», имея в виду сакральную планиметрию – «структурно-невидимый», ментальный исток материального развертывания сакрального пространства, проект-проекцию движения, устремления или покоя-пребывания. Другими словами, известная мистика света дополняется мистикой числа, тем специфическим неопифагорейским нумерологическим рационализмом, точнее говоря, интеллектуализмом, который можно обнаружить вслед опять же за Зедльмайром и в «шизотимическом» творчестве Борромини (Die Architektur Borromini’s...).
(обратно)23
Prak, Niels Luning. Te Language of Architecture. A Contribution to Architectural Teory. Te Hague, 1968 (русск. пер. Е.А. Ванеян – М., 2009). Ср.: «эстетическая оценка касается, прежде всего, значения форм, а не их композиции. Это значение может быть постепенно ассоциировано с рассматриваемыми формами или изначально входить в сознательное намерение; оно может быть различным для архитектора, для наблюдателя-современника и для позднейшего зрителя» (Idem. P. 5). И далее: «Символический способ оценки является эвристическим <…>» (Idem. P. 6).
(обратно)24
Ср. его очень характерное рассуждение: «Когда говорят, что произведение искусства имеет значение, то тем самым указывают на выход за пределы материальной и формальной организации художественного творения, на помещение его в смысловой контекст более высокого порядка. Если произведение искусства понимается как сравнение, как замещение, как вещественная эманация чего-то другого, то тогда сфера произведения остается за спиной. Подобное указание-ссылка налицо в том случае, когда произведение искусства или что-то воспроизводит, или что-то передает» (Bandmann, G. Mittelalterliche Architektur als Bedeudetungsträger. Berlin, [1951], 1979. S. 11).
(обратно)25
Evers, Hans Gerhard. Tod, Macht und Raum als Bereiche der Architektur [1938]. Paderborn, 1970.
(обратно)26
Эти формулировки относятся еще к немецкому периоду творчества Панофского и взяты из его статьи: «Imago Pietatis». Ein Beitrag zur Typengeschichte des «Schmerzenmannes» und der «Maria Mediatrix» // Festschrif für Max J. Friedländer zum 60. Geburtstag. Leipzig, 1927. Цит. по: Lützeler, Heinrich. Kunsterfahrung und Kunstwissenschaf: systematische und entwicklungsgeschichtliche Darstellung und Dokumentation des Umgangs mit der bildenden Kunst. Freiburg i. Br., 1975. Bd. 2. S. 972.
(обратно)27
Ibid. S.1014.
(обратно)28
См., например, наиболее популярный текст: Norberg-Schulz, Christian. Intentions in Architecture. Cambridge (Mas.), 1966.
(обратно)29
Jones, Lindsay. Te Hermeneutics of Sacred Architecture: Experience. V. 1: Interpretation, Comparison: Monumental Occasions, Refections on the Eventfulness of Religious Architecture; V. 2: Experience, Interpretation, Comparison: Hermeneutical Calisthenics, a Morphology of Ritual-architectural Priorities. Harvard, 2000.
(обратно)30
См. наиболее показательные образцы семиотики архитектуры: Preziosi, Donald. Architecture, Language and Meaning: Te Origins of the Built World and Its Semiotic Organization. Te Hague – Paris – London. 1979; Bonta, Juan. Architecture and Its Interpretation: a Study of Expressive Systems in Architecture. London, 1979. У Бонты см. довольно незамысловатое различение иконографии и иконологии по характеру литературных источников: или прямых, или дополнительных (Op. cit. P. 77).
(обратно)31
Białostocki J. Iconography // Dictionary of the History of Ideas. New York, 1973. Vol. II. P. 524-541; Idem. Iconography and Iconology // Encyclopedia of World Art. New York, 1963. Vol. VII. Col. 369-385.
(обратно)32
Дж. Аккерманн прямо указывает, что «сведение формы и значения к их истокам» – отличительная черта «позитивистской интерпретации», к которой он относит, впрочем, не только марксизм, но и идеализм (того же Канта), оперируя при этом с легкой совестью все теми же концептами объекта и субъекта (Ackerman, James S. Distance Points: Studies in Teory and Renaissance Art and Architecture. Cambridge (Mas.), 1994. P.37).
(обратно)33
Об иконографии как таковой см. замечательный сборник-хрестоматию: Bildende Kunst als Zeichensystem. Hrsg. v. Ekkehard Kaemmerling. Bd. I. Köln, 1979; Современное состояние метода см.: Straten, R. van. Einführung in die Ikonographie. 1985, 1997; Meaning in the Visual Arts: Views from the Outside; a Centennial Commemoration of Erwin Panofsky (1892-1968) // Institute for Advanced Study. Princeton, New York Irving Lavin [Hrsg.], Princeton-New York., 1995; European Iconography East and West: Selected Papers of the Szeged International Conference June 9-12, 1993 / György Endre Szőnyi [Hrsg.] Leiden [u.a.], 1995; Image and Belief: Studies in Celebration of the Eightieth Anniversary of the Index of Christian Art / ed. by Colum Hourihane. Princeton – New York, 1999; Mundus in imagine: Bildersprache und Lebenswelten im Mittelalter; Festgabe für Klaus Schreiner / Hrsg. von Andrea Löther, Ulrich Meier. München, 1996.
(обратно)34
Определение «классический», если в данном контексте уместен подобный лаконизм изложения, отсылает, в первую очередь, к «классической» онтологии (см., в частности, Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996. С. 84 и далее), в которой четко противопоставляются объект и субъект, и где целое есть производное от частей, их взаимодействия и их свойств. Как видно из всего дальнейшего изложения, архитектура способна сопротивляться подобному теоретическому «классицизму», предполагая и предпочитая – именно в качестве активного участника собственного постижения – методы неклассические, преимущественно феноменологической ориентации. Весь пафос нашего изыскания – подвести и читателя, и самих себя к осознанию необходимости дополнительных теоретических усилий ради приближения к полноте архитектурного смысла. Небесполезно в этой связи вспомнить и психоаналитическую традицию различения «классической теории», связанной с именем самого Фрейда, и неклассическое ее расширение – активность всех его последователей, и прежде всего – сторонников Мелани Кляйн в лице того же Фэирберна (предполагается сопоставление «инстинкт-теории» и «эго-теории»). При том что, классической или неклассической может признаваться также и практика психотерапии, где классическим уже методом («техникой») считается четкое различение инстанции аналитика и пациента, разделенных, между прочим, и положением в пространстве (первый сидит, второй лежит, так что дистанция между ними как раз и задает динамику и направленность отношений). См., в частности: Райкрофт Ч. Критический словарь психоанализа. СПб., 1995. С. 71-72.
(обратно)35
Уже Шмарзов указывал на присутствие темпоральных модусов в самом акте телесного конституирования пространства, когда движущееся тело оставляет позади себя не только образ пространства, но и момент настоящего: пространство, не воспринимаемое непосредственно, место покинутое, обращается в прошлое, перестает существовать актуально (Schmarsow. Op. cit. S. 181). Показательно и то, что Бандманн вводит в качестве особого типа сознания (наряду с символическим и аллегорическим) сознание и историческое, то есть учитывающее течение и истекание времени и пытающееся овладеть им во всякого рода ретроспективных усилиях.
(обратно)36
Ср. классические дефиниции Бл. Августина: «Когда знаки отсылают нас к Божественной реальности, мы называем их таинствами». «Знак – это такая вещь, которая помимо тех образов, что она вызывает в чувствах, порождает в сознании и другую вещь, отличную от себя» (цит. по: Nuovo Dizionario di Teologia. A cura di G. Barbaglio e S. Dianich. Milano, 1985. P. 1355).
(обратно)37
Отражающий универсальный сакраментализм всего сущего, позволяющий говорить об «онтологическом таинстве». Ср. у Г. Марселя: «…именно в любви заметнее всего, как стирается граница между понятиями «во мне» и «передо мной»; наверное, можно было бы даже показать, что в действительности сфера метапроблемного совпадает со сферой любви, что таинство, подобное таинству души и тела, постигается только через любовь и само определенным образом ее выражает» (Марсель Г. Онтологическое таинство и конкретное приближение к нему // Он же. Трагическая мудрость философии. М., 1995. С. 82 (пер. Г. Тавризян).
(обратно)38
Пирс Ч. С. Логические основания теории знаков. Т. 2. СПб., 2000. С. 42 («Ибо всякий символ есть нечто живое в самом прямом смысле, то есть нечто, являющееся чем-то большим, нежели просто фигура речи. Тело символа изменяется медленно…» Пер. с англ. В. В. Кирющенко и М. В. Колопотина).
(обратно)39
André, Gustaw. Architektur und Kunstgewerbe als Gegenstand der Ikоnographie // Festschrif für R. Hamann. 1939. S. 3-11. Другие работы нашего автора: Eine unbekannte Grabfgur aus dem 13. Jahrhundert // Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaf. 1. Bd., 1924 (1924). P. 49-54; Kloster Loccum. München, 1977.
(обратно)40
André, Gustaw. Architektur und Kunstgewerbe… S. 3.
(обратно)41
Ibid. S. 4. Определение, между прочим, принадлежит Зауэру.
(обратно)42
Idid., S. 5. Даже если изображаются воображаемые постройки, то все равно перед нами источник сведений о том, как мыслилась архитектура в соответствующую эпоху, как к ней относились. Но это уже «история форм», как совершенно верно замечает Андре.
(обратно)43
Ibid. S. 7. В оригинале используется глагол «unterlegen», означающий буквально «подкладывать»: у архитектурных форм подкладкой, фоном служит сакральный смысл, что, конечно, справедливо. Ссылка на того же Зауэра призвана подтвердить ту мысль, что таковое священное значение не должно быть «литературным», то есть аллегорическим, взятым из письменного текста.
(обратно)44
Ibid. Вспоминается, конечно, Зедльмайр с его «поэтическими корнями архитектуры».
(обратно)45
Ibid. S. 8. Стоит обратить внимание, что подобные функции прямо зависят от места, условий их проявления: пространство выставки, музея, зоопарка – вот что задает варианты функционирования копии.
(обратно)46
Ibid.
(обратно)47
Ibid. S. 9. В главе о Рихарде Краутхаймере мы еще вернемся к проблемам театрализации.
(обратно)48
Ibid. S. 10. С. ссылкой на Христиана Теве: Töwe, Christian. Die Methoden der Kunstgeschichtsschreibung // Zeitschrif für Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaf. 1937. Bd. XXXI, H. 4.
(обратно)49
Ibid. Андре предупреждает в примечаниях об опасности «псевдоиконографических изысканий», когда иконографический мотив (к примеру, «мадонны XIV столетия») оказывается всего лишь критерием отбора для сугубо формальных упражнений («постановка фигуры» в подобного рода статуях). Как верно замечает наш ученый, выбор иконографического материала еще не означает иконографического анализа. Хотя это не значит, что формальные моменты не могут быть значащими.
(обратно)50
Ibid. S. 11.
(обратно)51
Ко всему перечисленному, отмечает Андре, следует добавить и изучение самого творчества, и специфику творческих личностей, и особенности заказа, и отличительные свойства заказчиков. А также многое другое…
(обратно)52
Lützeler, Heinrich. Kunsterfahrung und Kunstwissenschaf… S. 978. Замечательна формулировка, что иконология архитектуры – это «компетенция относительно Бога, человека и мира» (Ibid.).
(обратно)53
Покровский Н.В. Очерки памятников христианского искусства [М., 1910]. СПб., 2000; Голубцов А.П. Сборник статей по Литургике и церковной археологии [Сергиев Посад, 1911]. М., 1990.
(обратно)54
Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI века. Проблемы художественного мышления эпохи. М., 1996; Беляев Л. А. Христианские древности. М., 1998; Иерусалим в русской культуре / Сост. А. Баталов и А. Лидов. М., 1994; Восточно-христианский храм. Литургия и искусство / Сост. А.М. Лидов. СПб., 1994; Храм Земной и Небесный / Сб. статей под ред. Ш.М. Шукурова. М., 2003 Т. 1.; Иеротопия. Исследования сакральных пространств / Ред.-сост. А. М. Лидов. М., 2004. Общеметодологическую ценность представляет и книга: Вздорнов Г. И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век. М., 1986. Продолжение отечественной традиции церковной археологии: Пентковский, А. Византийский храм и его символическая интерпретация в I тысячелетии // Журнал Московской Патриархии. 2008. № 12. С. 58-63.
(обратно)55
Именно религиоведческая сторона дела обсуждается в соответствующих текстах, например, Мирча Элиаде («Космос и история», 1954; «Священное и мирское», 1957 и др.), а также в фундаментальном компендиуме: Goldammer, K. Die Formenwelt des Religiösen. Grundriss der systematischen Religionswissenschaf. Stuttgart, 1960. См. также: Scully, V. Te Earth, the Temple and the Gods. New Haven, 1962.
(обратно)56
Наиболе величественный и убедительный опыт такого построения (из нам известных) это, несомненно, труд о. Ива Конгара: Congar, Ives M.-J., O.P. Le Mystère du Temple. Paris, 1958.
(обратно)57
Впрочем, напомним, что статусом смысла обладает весь комплекс установок, связанных с архитектурным феноменом: это и замысел, и изготовление (сооружение сооружения), и пользование архитектурой. Мы пока имеем дело именно с пользованием, причем в весьма узком и конкретном его случае использования архитектуры как вместилища смысла, как места приложения экзегетических усилий. Это «место символической силы» восприятия и толкования плодов строительного искусства.
(обратно)58
Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengebäudes in der Aufassung des Mittelalters: mit Berücksichtigung von Honorius Augustodunensis, Sicardus und Durandus. Freiburg i. Br., 1902. (2. Auf. 1924). Есть репринт 1964 года.
(обратно)59
Сразу – и не без удовлетворения – укажем на отечественную аналогичную традицию, до известного момента шествовавшую совершенно синхронно с немецкоязычным богословием христианского храма: Багрецов Л. Смысл символики, усвояемой свв. отцами и учителями Церкви христианскому храму. СПб.. 1910; Дмитриевский А.А. Древнееврейская синагога и ее богослужебные формы в отношении к христианскому храму и его богослужебным формам. Казань, 1910; Троицкий Н.И. Влияние космологии на иконографию византийского куполп. Тула, 1989; Его же. Христианский православный храм в его идее: опыт изъяснения символики храма в систематическом изложении. Тула, 1916. К этой традиции примыкает и заметка чуть более поздняя: Успенский Л.А. Символика храма // Журнал Московской Патриархии.1958, № 1.
(обратно)60
Обращает на себя внимание и близость годов жизни Зауэра (1872-1948) и Вельфлина (1864-1945). Во всяком случае, это одно поколение, предшествующее тому, что заявило о себе после Первой мировой войны.
(обратно)61
О нем у Зауэра см.: Franz Xaver Kraus // Kunstchronik, NF, 13, Nr. 15, 13.02.1902. Sp. 225-233.
(обратно)62
Зауэр покровительствовал молодому Хайдеггеру, который как раз и сменил его фактически в 1933 году на посту ректора. Стоит заметить, что как раз в 30-е годы лекции Хайдеггера во Фрайбурге слушает молодой студент-иезуит Карл Ранер.
(обратно)63
Die Zerstörung von Kirchen und Kunstdenkmälern an der Westfront. Freiburg i. Br., 1917. На ту же тему, но после уже Второй мировой войны см.: Kriegsschäden an alter Kunst in Südbaden // Phoebus, 2 (1949). S. 132-135.
(обратно)64
Kirchliches Handlexikon. München, 1907; Catholic Encyclopedia. New York, 1907; Lexikon für Teologie und Kirche. Freiburg i. Br., 1930.
(обратно)65
Altchristliche Baukunst // Wasmuths Lexikon der Baukunst. Berlin, 1929. Bd. 1. Sp. 98-106.
(обратно)66
Romanische Baukunst // Wasmuths Lexikon der Baukunst. Berlin, 1932. Bd. 4. Sp. 214-220.
(обратно)67
Die kirchliche Kunst der ersten Hälfe des 19. Jahrhunderts in Baden (Fortsetzung) // Freiburger Diözesan-Archiv, 58, NF 31 (1931). S. 243-518; Die kirchliche Kunst der ersten Hälfe des 19. Jahrhunderts in Baden (Schluß) // Freiburger Diözesan-Archiv, 59, NF 32 (1931). S. 47-238.
(обратно)68
См. его книги: Die Anfänge des Christentums und der Kirche in Baden. Heidelberg, 1911; Reformation und Kunst im Bereich des heutigen Badens. Freiburg i. Br., 1918; Alt-Freiburg. Augsburg, 1928; Die kirchliche Kunst der ersten Hälfe des 19. Jahrhunderts in Baden. Freiburg i. Br., 1933.
(обратно)69
См., например: Die christlichen Denkmäler im Gotengebiet der Krim // Oriens Christianus, 3. Ser. 7 (= 29) (1932). S. 188-202.
(обратно)70
См. об этом, в частности: Loome, Tomas Michael. J. Sauer – Modernist? // Römische Quartalschrif, 68 (1973). S. 207-220.
(обратно)71
Некоторые другие важнейшие публикации: Reformation und Kunst im Bereich des heutigen Baden / FreibDiözArch, 19, 1919, S. 323-506; Dantes Bedeutung für die Kunst // 2. Vereinsschrif der Görresgesellschaf für 1921), 1921; Die altchristliche Elfenbeinplastik // Bibliothek der Kunstgeschichte. 38, 1922; Neues Licht auf dem Gebiet der christlichen Archäologie. Rede in der Freiburger Wissenschaflichen Gesellschaf, 1925; Wesen und Wollen der christlichen Kunst. Rektoratsrede, 1926; Alt-Freiburg, 1928; Der Nordafrikanische Kirchenbau im Zeitalter Augustins // Martin Grabmann / Joseph Mausbach (Hrsg.), Aurelius Augustinus. Festschrif der Görresgesellschaf zum 1500. Jubiläum des Todestages Augustins, 1930, S. 243-300; Orient und christliche Kunst. Rektoratsrede 1933; Die kirchliche Kunst der ersten Hälfe des 19. Jahrhunderts in Baden, 1933. Из последних публикаций о Зауэре см.: Hausberger, Karl. Sauer, Joseph // Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon. Bd. 8 (1994), Sp. 1419-1422; Arnold, Claus. Katholizismus als Kulturmacht. Der Freiburger Teologe Joseph Sauer und das Erbe des Franz Xaver Kraus (Veröfentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe B, Bd. 86). Paderborn, 1999.
(обратно)72
Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengebäudes… S. VII. Сразу обратим внимание на мотив зеркала, который мы встретим у Эмиля Маля (см. след. главу).
(обратно)73
Ibid. S. VIII.
(обратно)74
Зауэр специально оговаривает границы своего труда, исключающие как детализированное прослеживание истоков какого-либо символического мотива или темы, так, между прочим, и «историко-археологическую сторону Дома Божия». Последний аспект рассматривается только в той мере, в какой это позволяет понять символику. Обращаем внимание, что собственно художественная сторона дела для Зауэра тоже имеет свою отдельную историю, лишь по касательной сопрягающуюся с историей символогической (Ibid. S. IX).
(обратно)75
Ibid. S. X.
(обратно)76
От книги Зауэра это издание отделяет ровно 300 лет. Второе издание книги Зауэра приходится на 1924 год (при том, что Рипа умер в 1623, а расширенное издание его «Иконологии» увидело свет в 1625). Хочется думать, что симвология, пускай и книжная, не знает случайностей.
(обратно)77
Конечно же, вспоминается Аби Варбург, который в конце жизни предпочел обходиться, наоборот, без текста, составляя свой знаменитый атлас «Мнемозина»... (Последнее изд. см.: Warburg, Aby. Der Bilderatlas Mnemosyne. Hrsg. von M. Warnke. Berlin, 2003). Но об иконологии в новом ключе будет сказано в другом месте.
(обратно)78
Небесполезен и анализ пропорций данного «здания»: вторая часть – лишь четверть всего «сооружения» и заключает в себе ровно два Введения. Фактически, это Заключение, тем более, что резюме составляет всего несколько страниц.
(обратно)79
Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengebäudes… S. 2.
(обратно)80
Иначе говоря, Зауэр придерживается традиционной для церковной археологии XIX века теории происхождения христианского символизма из disciplina arcana. Об этом, в частности, см: Wilpert, Joseph. Prinzipienfragen der christlichen Archäologie. Freiburg i. Br., 1889.
(обратно)81
Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengebäudes… S. 3-4.
(обратно)82
То есть, обоснование сакральной архитектуры у Зауэра – функционально, и потому можно говорить о, так сказать, функционально-литургических символах.
(обратно)83
Имена, составляющие этот достойный ряд, вполне известны: это и Августин, и Григорий Великий, и Исидор Севильский, и Беда Достопочтенный, если брать лишь начало традиции (Ibid. S. 4-5).
(обратно)84
Ibid.
(обратно)85
Ibid. S. 7.
(обратно)86
Ibid. S. 9.
(обратно)87
Так и хочется вспомнить в связи с этим выражением понятие Gesamtkunstwerk’а формально-стилистической истории искусства, что вполне резонно, если допустить (как сделает это спустя полвека после Йозефа Зауэра Ханс Зедльмайр), что за структурами формальными скрываются структуры если не моральные, то уж точно символические.
(обратно)88
То есть, выражаясь опять-таки аллегорически, можно сказать, что вместо символической мозаики ранних литургических текстов мы теперь имеем своего рода кристаллический образ-многогранник, заключающий в себя свет Евангелия, преломленного в Евхаристии, и отражающий его по направлению к церковному разуму.
(обратно)89
Ibid. S. 10.
(обратно)90
Среди мистиков выделяются Руперт из Дейца, Бонавентура, среди проповедников – Бернар Клервосский, среди систематиков – Альберт Великий, и особенно папа Иннокентий III.
(обратно)91
Дело в том, что эти три фигуры Зауэр связывает последовательным влиянием, имея в виду в конечном счете именно Дуранда, признавая его и доныне непреходящей величиной на небосклоне литургического богословия.
(обратно)92
Хотя некоторые чисто исторические вопросы кажутся нам и поучительными, и небесполезными в связи с дальнейшим изложением. Мы имеем в виду, конечно же, полемику вокруг Гонория из Аугустодуна, более известного как Гонорий Отенский, хотя именно в его происхождении и, соответственно, национальности можно сомневаться до бесконечности. Естественно, Зауэр уверен в его немецких корнях, не без иронии поминая мнение «французских бенедиктинцев», к которым, впрочем, следует причислить и Эмиля Маля (Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengebäudes… S. 12-13).
(обратно)93
Ibid. S. 16.
(обратно)94
Стоит обратить внимание, что Маль использует этот текст не только в силу его жанра «зерцала», но и по той причине, что это именно проповедническая литература. Как мы убедимся в главе, посвященной этому великому французскому иконографу, момент непосредственного воздействия на слушателя будет для него крайне важным. Зауэр же практически не учитывает это свойство данного текста: он не иконограф, его задачи – вне проблематики собственно изобразительного искусства, вне художественной экспрессии и способности формы воздействовать на зрителя, подобно тому как проповедник воздействует на слушателя.
(обратно)95
Имеется в виду его эпохальная заметка «Об источниках средневековых образов» (1879): Springer, Anton. Über die Quellen der Kunstdarstellung im Mittelalter // Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaf, 1879. См. также: Springer, Anton. Ikonographische Studien // Mitteilungen der k. u. k. Zentralkomission f. Denkmalpfege, V. Wien, 1860.
(обратно)96
Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengebäudes… S. 21-22. Зауэр, между прочим, подчеркивает, что сам Гонорий совершенно не стремился к какому-нибудь влиянию, тем более среди широких масс.
(обратно)97
Зауэр замечает, что это деление уже встречается у Варрона применительно к языческим мистериям и развивается Бл. Августином (Ibid. S. 24-25).
(обратно)98
Ibid. S. 28-29. Зауэр замечает, правда, относительно его канонических текстов, что его популярность в конце концов одолела даже строгую науку.
(обратно)99
Об убранстве его гробницы см. достаточно подробный рассказ в главе, посвященной концепции С. Синдинг-Ларсена.
(обратно)100
Ibid. S. 38.
(обратно)101
Зауэр как истинный представитель «Общества Иисуса» не упускает возможности выпустить несколько критических стрел в адрес бенедектинцев-мавристов во главе со знаменитым Монфоконом, действительно считавшим, что готические постройки относятся к меровингскому времени. См. гланый труд последнего: Montfaucon. Monuments de la monarchie française. Paris, 1729-33. 5 vols. folio.
(обратно)102
Зауэр с искренней благодарностью упоминает исследования Кайе и Мартана, Монталамбера, Рио, Озанама, дома Питры, графа де Бастара, Фелисии д’Аизак и того же Дидрона, чьи труды, впрочем, страдают одним общим недостатком: отсутствием всякой попытки углубиться в «величественные взаимосвязи средневекового мышления». Единственный подлинный систематик из этого ряда – аббат Обер, который со своим «усердием пчелы», казалось бы, окончательно исчерпал всю проблематику. Но не тут-то было: является Эмиль Маль, для которого, между прочим, вся вышеперечисленная традиция кажется менее достойной благосклонного внимания. См., например: Cahier and Martin. Melanges d'archiologu, d'histoire et de litterature. Paris, 1847-56. 4 vols; Bastard (Cte. de), Études de symbolique chrétienne. Paris, 1861; D'Ayzac (Mme. F.), Les Statues du porche septentrional de Chartres, and the sequel Quatre animaux mystiques. Paris, 1849; Didron, N.-A. L’iconographie chritienne. Histoire de Dieu. Paris, 1844.
(обратно)103
Отдельно добрых слов удостаивается у Зауэра Гюйсманс со своим «Собором», появившимся в том же 1898 году (Huysmans, J.-K. Le Cathédral. Paris, 1898).
(обратно)104
Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengebäudes… S. 47.
(обратно)105
Ibid. S. 49. Все это напоминает, несомненно, «символическое искусство» Гегеля. См. в этой связи: Podro, M. Op. cit. P. 17-30.
(обратно)106
Sauer, Op. cit.
(обратно)107
Ibid.
(обратно)108
Ibid. S. 50.
(обратно)109
Ibid.
(обратно)110
В конце концов, и методы искусствоведения можно классифицировать как «разновидности» отношения к материалу, то есть как интенциональные модальности дискурсивного порядка.
(обратно)111
Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengebäudes… S. 61.
(обратно)112
Ibid. S. 62.
(обратно)113
Ibid. S. 86.
(обратно)114
Ibid. S. 87. Но относятся ли к «внутреннему содержанию числа» пифагорейски-музыкальные коннотации? Их неупоминание Зауэром говорит не столько об их недоступности ученому иезуиту, сколько о неуместности, во-первых, для средневекового контекста (в отличие от Ренессанса), во-вторых, для литургического богословия (в отличие от богословия, например, мистического). См.: March, Lionel; Wittkower, Rudolf. Architectectonics of Humanism: Essays on Number in Architecture. New York, 1998.
(обратно)115
Отдельная и крайне принципиальная по своей значимости тема (особенно в контексте литургической реформы II Ватиканского собора) – это местоположение священника у престола на разных этапах развития Мессы. См.: Nußbaum, O. Der Standort des Liturgen am christlichen Altar vor dem Jahre 1000. Eine archäologische und liturgiegeschichtliche Untersuchung. 2. Bde, Bonn, 1965. Подробнее – Кунцлер, Михаэль. Литургия Церкви [1995]. Пер. с нем. Е. Верещагина. Т. 1. М., 2001. С. 276-277 (автор подчеркивает, между прочим, что положение versus altare и исторически, и литургически вполне приемлемо, хотя после литургической реформы повсеместно распространено versus populum, отвечающее более ранней и ныне возобновленной практике).
(обратно)116
Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengebäudes… S. 98-99.
(обратно)117
Ср. об этом в главе о Дайхманне – в совсем ином ключе.
(обратно)118
Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengebäudes… S. 100.
(обратно)119
Ср. иконологический подход к подобной теме: Vinken, Pierre J. Te Shape of the Heart: A Contribution to the Iconology of the Heart. Amsterdam – London, 1999.
(обратно)120
Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengebäudes… S.105. Обращаем внимание на то, что включение в процесс истолкования не только пространства храма, но и пространства души дает замечательные и многообещающие перспективы уже в контексте современной герменевтики, хотя начало тому – иконологически-антропологическое у того же Бандманна, который опирается на Эриха Ротхакера.
(обратно)121
Нетрудно заметить, что все это есть проблематика феноменологическая и гештальтистская, и она предельно актуальна при любом разговоре о герменевтике архитектуры. Но не менее существенно, что уже средневековая литургическая экзегетика знает эти темы и пользуется ими.
(обратно)122
Кратко коснемся прочих символических аналогий: два железных столпа при входе в Храм Хирама – это ветхозаветные праотцы и новозаветные отцы или Иосиф Обручник и апостол Павел. Семь дней возведения Храма – образ скоротечности земного бытия, его подверженности времени (Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengebäudes… S. 109).
(обратно)123
Именно это, как нам кажется, имеет в виду и Зауэр, когда отмечает тот несомненный факт, что именно устройство ветхозаветного Храма оказывается сердцевиной всей средневековой символики, окончательно реализуемой и завершаемой в соотношении с апокалиптическими образами, в том числе и Небесного Иерусалима. Эту смысловую схему знали еще отцы Церкви, позаботившиеся о ее «словесной фиксации» (Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengebäudes… S.110). Другими словами, схематизм требует слов, чтобы иметь статус реальности, то есть чего-то реализованного, осуществленного. Но тогда культово-литургическая фиксация этой словесной реальности – это уже реальность церковного здания.
(обратно)124
Зауэр ссылается все на того же Дуранда (Ibid. S. 112).
(обратно)125
Продолжение тому – истолкование двух боковых стен центрального нефа как двух составляющих Церкви – иудеев и язычников. К этому символическому мотиву присоединяется символика правого и левого, севера и юга и т. д. (Ibid. S. 116-117).
(обратно)126
Замечательный пример чистого формализма – мотив двойных колонок внутри окна, что должно напоминать тот факт, что апостолы посылались на проповедь по двое (Ibid. S. 121-122).
(обратно)127
У нравственно-тропологического символизма более обширная «сценическая площадка», как выражается Зауэр (Ibid. S. 123).
(обратно)128
Ibid. S. 125.
(обратно)129
Ibid. S. 127. Далее следует опись значений алтарной преграды, проповеднической кафедры, аналоя и т. д.
(обратно)130
Ibid. S.135. Легко догадаться, что у такого элемента убранства алтаря, как епископское кресло, символика, так сказать, однозначно административная. Иногда символизм строится почти что на каламбуре, правда, тоже не лишенном функционализма (седалища хора напоминают о том, что даже забота о теле и его покой не могут быть слишком продолжительными, ибо вечный покой нас только ожидает: Ibid. S. 137).
(обратно)131
Если не к посетителям, то к пользователям здания можно, конечно, отнести тех же самых ученых литургистов, некоторые из которых были епископами. Но тем не менее, их тексты – совсем не то же самое, что тексты аббата Сугерия, о котором в книге Зауэра нет никаких упоминаний.
(обратно)132
Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengebäudes… S. 145.
(обратно)133
Ibid. S. 147.
(обратно)134
Делу сохранения и изучения колокольного звона в родной земле Баден Зауэр отдавал немало сил. См. его статьи на эту тему: Die schönsten Glocken unseres Landes // Ekkhart 1 (1920). S. 91-105; Geschichte und Schicksale der Glocken Badens // Freiburger Diözesan-Archiv, 64, NF, 37 (1937). S. 77-132.
(обратно)135
Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengebäudes… S. 149.
(обратно)136
Ibid. S. 153-154. Понятно, что метафора сверхпроводника – уже наше изобретение, а не автора начала XX века.
(обратно)137
Обратим внимание, что именно на этом тезисе построена вся концепция «религиозного искусства» Эмиля Маля.
(обратно)138
Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengebäudes… S. 172.
(обратно)139
Ibid. S. 177-178.
(обратно)140
Эта наглядность включает не только священные предметы, но и просто буквы, если брать, например, убранство самого Евангелия внутри, то есть его страниц. Hапример, помещение изображения Креста внутрь монограммы, состоящей из закругленных букв V и D, образующих замкнутый круг, напоминает и являет и Божественную природу Христа (deus), и девство Девы Марии (virgo), с одновременным напоминанием о человеческой природе (в отличие от D, у V вверх открыт), и Жертву (Ibid. S. 179).
(обратно)141
Ibid. S. 185-186. Как известно, символизм середины – предельно универсальный. Ср. у того же Зедльмайра, несомненно испытавшего, как нам кажется, влияние книги Зауэра (хотя и не только его).
(обратно)142
Хотя в основании этого не столько символа, сколько метафорического дискурса, пусть и очень краткого, лежит вполне непосредственное переживание составленности, изготовленности данного предмета, то есть свечи, вбирающей в себя вещества, столь различающиеся и своими свойствами, и своим происхождением. Самое главное – это усилие, труд, который имеет и природную (пчела), и человеческую, и словесную, и бессловесную стороны. Но при этом все они полезны и продуктивны. Недаром на моральном уровне свеча – символ усердия, напоминание о той же трудолюбивой пчеле. Огонь же свечи – образ уже усилия человеческого, каковым прежде всего является вера (Ibid. S. 187-188).
(обратно)143
Ibid. S. 189.
(обратно)144
Ibid. S. 191.
(обратно)145
Ibid. S. 193. Впрочем, здесь следует сделать очень важную оговорку: уже в XII веке складывается богословие Евхаристии, которая, таким образом, может быть предметом схоластического дискурса, оставаясь вне возможностей дискурса символического и литургического. Этот момент еще раз напоминает нам об условности и просто литературности жанра символико-аллегорических комментариев. Но еще раз подчеркнем, что, по нашему мнению, этот род деятельности на порядок ближе к сакральной архитектуре.
(обратно)146
Точнее говоря, трех мест одного текста, где встречается это выражение (Ibid. S. 194).
(обратно)147
Ibid. S. 195.
(обратно)148
Например, потир, изготовленный из цинка, – символ человеческого состояния в земном мире, так как цинк располагается посередине между серебром (символ чистоты и невинности) и свинцом (символ отягощенности грехом).
(обратно)149
Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengebäudes… S. 200.
(обратно)150
Ibid. S. 202.
(обратно)151
Ibid. S. 206.
(обратно)152
Экзистенциально-сакральный символизм ощущений, как его описывает Зауэр, может быть предметом особого – «эстезиологического» – подхода. См.: Штраус Эрвин В. Эстезиология и галлюцинации // Экзистенциальная психология. Пер. с англ. М., 2001. С. 251-286.
(обратно)153
Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengebäudes… S. 207.
(обратно)154
Причем опять же: и предметы, и люди (священнослужители) на равных исполняют символические роли (Ibid. S. 209). Зауэр специально подчеркивает углубление смысла при таком угле зрения и необходимость созерцания процессии целиком: на самом деле символизируется не состав процессии, а сама процессия именно как действие, шествие, движение вперед, так что возможна и иная интерпретация данного чина как воспроизведения Бегства в Египет, где тот же сосуд с маслом, накрытый платом, – символ Младенца Христа.
(обратно)155
Как остроумно замечает Зауэр, церковное здание – это настоящий средневековый музей, точный отпечаток большого мира, и алтарь зачастую мыслился как самая настоящая кунсткамера, и потому в нем можно было встретить самые разные курьезы, например яйца страуса – птицы, чей «моральный облик», согласно еще традиции античных «физиологов», характеризовался той самой двойственностью и непостоянством, что присуща и человеку. Дело в том, что страусы, как считалось, отличаются рассеянностью, и потому им не составляет труда просто забыть о своих яйцах на целый день, но при виде вечерней зари они вспоминают свой долг, возвращаются и находят свою кладку. Страусиные яйца могли подвешиваться на обозрение в назидание и напоминание об истинном долге верующего (Ibid. S. 211-213).
(обратно)156
Ibid. S. 220. Замечательно, что даже покровы и занавеси в храме образуют известную, почти что архитектоническую систему, разделяясь (в том числе и терминологически) на убранство алтаря, хора и корабля.
(обратно)157
Ibid. S. 221.
(обратно)158
Ibid. S. 235.
(обратно)159
Ibid. S. 238.
(обратно)160
Ibid. S. 242.
(обратно)161
Ibid. S. 247.
(обратно)162
Ibid. S. 259.
(обратно)163
Ibid. S. 260.
(обратно)164
Аналогии с Малем несомненны, но стоит обратить внимание на бóльшую метафизичность Зауэра.
(обратно)165
Ibid. S. 261-262.
(обратно)166
Ibid. S. 271. Видимо, стремление к исчерпывающей полноте, в том числе и описательно-комментирующих усилий, заставляет Зауэра после возвышенно-метафизических трудов не жалеть сил и на детализированное, многостраничное повествование о каждом времени года, о каждом месяце и о каждом варианте его изображения, сопровождая все это поэтическими характеристиками природных и хозяйственных явлений… (Ibid. S. 265-271).
(обратно)167
Ibid. S. 276-277.
(обратно)168
Народы делятся на знающих почитание образов (халдеи и греки) и не знающих его (иудеи и сарацины).
(обратно)169
Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengebäudes… S. 279.
(обратно)170
Ibid. S. 280. Зауэр находит много общего между известным письмом св. Бернарда аббату Гильельму и статьями современных ревнителей чистоты церковного вкуса.
(обратно)171
Ibid. S. 283.
(обратно)172
Ibid. S. 286.
(обратно)173
Мы можем все-таки возразить в свою очередь Зауэру: именно вторичное, адаптированное знание зачастую имеет наибольшее влияние на смежные области в силу своей доступности, просто популярности. Ведь Зауэр сам удивляется несколько преувеличенному и не вполне заслуженному влиянию того же Дуранда.
(обратно)174
Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengebäudes… S. 288-289.
(обратно)175
Ibid. S. 295.
(обратно)176
Хотя мы обязаны помнить и о благочестии медитативно-созерцательном, связанном с чтением того же Писания. Тогда связующим звеном может быть и тематика, отдельные мотивы, вокруг которых складываются образные структуры – как вербальные, так и визуальные.
(обратно)177
Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengebäudes… S. 300.
(обратно)178
Ibid. S. 304.
(обратно)179
Для Зауэра именно как богослова параллели между «готикой и схоластикой» представляются более сложными, чем для искусствоведов Дворжака или Панофского.
(обратно)180
Еще одно ненавязчивое предвосхищение более поздней концепции, но уже Ханса Зедльмайра и его «Возникновения собора» (1951). Поддерживая целиком пафос последнего, направленный на возрождение церковно-христианского отношения к церковному и христианскому искусству, зададимся, тем не менее, вопросом, а что же делать тем, для кого Христос – быть может, пока еще – не является дверью (или кто еще не готов войти)? Как им войти хотя бы в понимание этого искусства? Видимо, через античное язычество, повторив путь самих христиан. Так и появляется иконология, о которой мы еще будем упоминать в других местах нашей книги, хотя эта тема достойна отдельного исследования.
(обратно)181
Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengebäudes… Ibid. S. 309.
(обратно)182
Абсолютно та же логика руководила и Малем. Правда, он-то прямо именовал этот подход иконографическим, чего Зауэр все-таки не делает.
(обратно)183
Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengebäudes… S. 310, 312. Причем Зауэр различает и «абстрактно-символические», и «конкретные» образы, находя им всем конкретные примеры – один из самых примечательных технических терминов данной главы.
(обратно)184
Как раньше многочисленнейшие и подробнейшие подстрочные примечания содержали ссылки на опубликованные тексты, так и сейчас Зауэр считает крайне важным и просто необходимым ссылаться на памятники и иллюстрации в тех или иных изданиях. Еще один повод вспомнить самые основы иконографической логики, где описание переходит в опись, которая, в свою очередь, есть не что иное, как языковой способ воспроизведения процесса смотрения и рассматривания, перевода взгляда, знакомства с предметами через касание их взором. А где опись – там список и словарь как крайняя форма класcификации. См.: Лакофф Дж. Мышление в зеркале классификаторов // Новое в зарубежной лингвистике, XXIII, М., 1988. C. 12-51.
(обратно)185
Ibid. S. 323.
(обратно)186
Ibid. S. 323-324.
(обратно)187
Поэтому, между прочим, для Зауэра не имеет значения стилистическая разница между романикой и готикой, так как типологически, действительно, «романский портал предлагает уже <…> целиком весь тип…» (Ibid. S. 324). «Могучие соборы Буржа, Амьена, Парижа, Реймса, Руана уже не могут нам предложить никаких существенно новых элементов». Только два момента готических соборов кажутся Зауэру достойными внимания: это более сильное подчеркивание собственно жизни Спасителя с исторической точки зрения и последовательное обращение к личностям отдельных святых (Ibid. S. 337). Это всего лишь нюансы в уже сложившемся образе, тем более что причины этих особенностей – усиление роли церковных праздников в жизни верующих и расширении церковного почитания святых (Ibid. S. 338). Другими словами, архитектура оказывается, так сказать, в облачении из изобразительного смысла, имеющего очевидно повествовательные свойства, в число которых входят и всевозможные стилистические, просто формальные характеристики, не влияющие на глубинные, фундаментальные измерения церковной архитектуры как Дома Божия и образа Небесного Града.
(обратно)188
Ibid. S. 343.
(обратно)189
См., в частности, у Зедльмайра важнейшую для него идею «поэтических корней» архитектуры: Sedlmayr, Hans. Die dichterische Wurzel der Kathedrale // Festschrif Hans Hirsch. Innsbruck, 1939, S. 275-276; Idem. Die Entstehung der Kathedrale. München, 1951, Freiburg, 1998. Bes.: S. 95f.
(обратно)190
Момент описательный, применительно к тексту самого Зауэра, обнаруживает свою почти что непреодолимую силу: почти вся данная часть написанного Зауэром – это практически непрерывное, детализированное и местами непосредственно поэтическое описание многочисленнейших памятников. Фактически мы имеем дело со способом усвоения материала посредством выстраивания его словесного эквивалента. Наша задача – только перечитать написанное и составить мысленный образ того, что хотел сказать Зауэр. А кроме того, – уловить, как он хотел это сказать, что сделать нетрудно, ибо у нас есть надежный ключ: постоянное упоминание Храма св. Грааля из «Младшего Титуреля» (Ibid. S 354). Этот способ – поэзия, обращенная к воображению.
(обратно)191
Ibid. S. 371.
(обратно)192
Ibid. Характерно, что все обобщающие выводы Зауэр делает на примере убранства собора своего родного Фрайбурга.
(обратно)193
Ibid. S. 372.
(обратно)194
Роль художника в изложении Зауэра – почти демиургическая и одновременно дидактическая: «Художник обязан на своем входном портале соединять воедино все богатейшее содержание, присущее символике Дома Божия, индекс, в который предполагалось включать все то, что возможно было прочесть» (Ibid. S. 372). Говоря о своем портале применительно к художнику, можно иметь в виду и авторство, и тот «портал», который, действительно, принадлежит художнику, – его душу.
(обратно)195
Ibid. S. 374.
(обратно)196
Ibid. S. 375. Церковь существовала прежде Боговоплощения. Она была в начале всего сущего. Ее область не только религия, она распространяет свою власть на всю социальную и гражданскую жизнь, на все времена и пространства. Всякий человек оценивается с точки зрения своей принадлежности к Церкви. Равным образом и вся человеческая история – это история Церкви.
(обратно)197
Ibid. S. 377.
(обратно)198
Ibid.
(обратно)199
Büchsel, Martin. Ecclesia symbolorum cursus completus // Städel-Jahrbuch, 1983. S. 69-88.
(обратно)200
Ibid. S. 69.
(обратно)201
Ibid. S. 70.
(обратно)202
Ibid. S. 71.
(обратно)203
Ibid. S. 72.
(обратно)204
Подобное общее место гештальттеории (отношения «фигура-фон») имеет и некоторые частные аспекты: окружающее пластические объемы пространство – это та же масса, но прозрачная, обладающая меньшей степенью плотности (см.: Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974. С. 232-233). Фактически, описываемая диафания – это функционирование «фона» в трехмерном «режиме». Стоит также заметить, что трехмерное пространство возникает именно через привлечение «зрительского фактора»: пространство – это признак и последствие зрения, попытка восстановить равновесие, нарушенное вторжением вертикально ориентированного наблюдателя.
(обратно)205
Упоминавшаяся статья Янтцена «О готическом церковном пространстве» заканчивается напоминанием: диафанический принцип – это формальный принцип, не касающийся вопроса об «экспрессивном значении пространственных эффектов», суть которых – в их бестелесности (Op. cit. S. 32).
(обратно)206
Büchsel, Martin. Ecclesia symbolorum… S. 74-75.
(обратно)207
Краткая библиография работ Маля выглядит следующим образом: Lambert, Elie. Bibliographie de Emile Mâle // Cahiers de civilisation médiévale. Poitiers, 1959; Первая книга ученого: Mâle, Emile. L’art réligieux de XIIIe siècle en France: Étude sur l’iconographie de moyen âge et sur ses sources d’inspiration. Paris, 1898. (англ. пер.: Religious art in France, XIII century: a Study of Medieval Iconography and its Sources. Translated by Dora Nussey. London, 1913); Все тетралогия вышла в виде своеобразного собрания сочинений: L'art réligieux. 4 vols., Paris, 1902-32, в том числе: a) L'art réligieux du XIIIe siècle en France, 1902; b) L'art réligieux de la fn du moyen âge en France: Etude sur l'iconographie du moyen âge et sur les sources d'inspiration. 1908; c) L'art réligieux du XIIe siècle en France: Etude sur du moyen âge les origines de l'iconographie. 1922; d) L'art réligieux après le Concile de Trente: Etude sur l'iconographie de la fn du XVIe siècle au XVIIIe siècle en Italie, France Espagne et Flanders. 1932 (аналогичное изд. на англ.: 1978-1986). См. также: L'art et les artistes du moyen âge. Paris, 1927; L'art Allemand et l'art Français du moyen âge. Paris, 1917; La cathédrale de Reims. Paris, 1915; L'histoire de l'art. Paris, 1915; Rome et ses vieilles églises. Paris, 1942 (англ. изд.: Te Early Churches of Rome. Chicago, 1960); La fn du paganisme en Gaule et les plus anciennes basiliques chretiennes. Paris, 1950.
(обратно)208
Cp. совершенно иной жанр у Ж.-К. Гюйсманса в его «Соборе». Эссеизм последнего попытался соединить с объективизмом Маля Ханс Зедльмайр в своем «Возникновении собора» (1950).
(обратно)209
Здесь и далее цит. по англ. изд.: Mâle, Emile. Religious art in France, XIII century: a study of medieval iconography and its sources. Translated by Dora Nussey. London, 1958.
(обратно)210
Состояние искусствознания накануне его перехода в более-менее современную стадию точно уловил Ханс Титце в своем непревзойденном труде 1913 года (Тietze, Hans. Die Methode der Kunstgeschichte. Ein Versuch. Leipzig, 1913). Источниковедческая проблематика занимает в книге четыре пятых объема, зато – с невиданной по тем временам смелостью – иконография помещена под рубрикой «Интерпретация» впереди, между прочим, формального метода в последней главе, именуемой «Понимание», под которым подразумевается целая череда исследовательских усилий (интерпретация, конструкция, репродукция, воображение и прочее).
(обратно)211
Mâle, Emile. Religious art in France XIII century… P. 1.
(обратно)212
Ibid. P. 2. Следует обратить внимание, что Маль довольно буквально понимает здесь феномен иероглифа, предполагая, что Средние века могли позаимствовать его прямо из Египта через христианское искусство Александрии.
(обратно)213
«Христос, – говорит Маль, – являет свои раны всему человечеству», а не только посетителю Амьенского собора (Ibid. P. 4).
(обратно)214
Ibid. P. 5.
(обратно)215
Следует помнить и о конкретных числах, например о таком емком с точки зрения символики числе, как семерка. У чисел существует и скрытая символика, которую можно расшифровать, зная буквенное соответствие того или иного числа (число 46, например, символизирует Адама, имя которого в греческой транскрипции как раз и дает в сумме это самое число).
(обратно)216
Обращаем внимание на двойственность выражения «оставлять след»: здесь можно узреть и простой оборот речи, но также и ту мысль, что собор – это только место отпечатков, остатков идей, и через созерцание собора мы должны восстановить ту реальность, что отпечаталась таким способом. Тогда получается, что и сам собор – тоже след, «трассировка» чего-то такого, что, так сказать, отступило на задний (или иной план) бытия. Впрочем, идея следа, материального остатка вполне укладывается в общий археологический дух текстов Маля.
(обратно)217
Маль излагает как очевидную истину те соображения, которые спустя без малого пятьдесят лет станут научным достижением автора «Введения в иконографию архитектуры…». См. об этом ниже.
(обратно)218
Mâle, Emile. Religious art in France XIII century… P. 14.
(обратно)219
Ibid. P. 15. Далее идет – в качестве иллюстрации данного тезиса – подробное изложение порядка и символизма священнодействий Пасхальной заутрени, как это излагается Гильельмом (у Маля именно так!) Дурандом в его знаменитом Rationale. Важно, как отмечает Маль, что в богослужении не было ни одного элемента, лишенного сакрального смысла. Однако примечательна определенная двойственность, присущая изложению ученого, явно склонного к некоторому номинализму, когда он, описывая мистическое значение Мессы, ссылается на «литургиста прошлого», подчеркивая, что именно он «приписывает» такого рода значение богослужению. Когда дело доходит до основной части Мессы, то Маль просто предпочитает умолкнуть ввиду невозможности адекватного воспроизведения богатства мысли средневекового ученого и отослать читателя к самому оригиналу, то есть к Rationale. При этом Маль подчеркивает, что смысл Мессы заключался не только в аллегорическом умозрении, но и в «эмоциональном соучастии» и в том воодушевлении, которое охватывала и самого не искушенного в богословии участника службы (Ibid. P. 19). Подобное предпочтение непосредственного чувства – при четком знании всего интеллектуально-ассоциативного ряда – полезный ключ к пониманию иконографической концепции Маля in toto. Ср. чуть более поздний – но не намного! – отечественный опыт на ту же тему: Протасов, Н.Д. Архитектура храма и настроение. Сергиев Посад, 1913.
(обратно)220
Обращает на себя внимание, как Маль широким жестом – упоминанием «гения» и «духа» – отрешается от той проблемы, что казалась неразрешимой Зауэру. Между прочим, это как раз и есть пример «кафолической» методологии, то есть мышления в рамках первичного и априорного единства, общности, соборности исследуемых явлений, например материала и его замысла в лице тех же литургиста и художника. Маль мыслит их едиными и единодушными под сенью собора и духа соборности.
(обратно)221
Ibid. P.22.
(обратно)222
Ibid.
(обратно)223
Ibid. P. 23. Проблема возможной неподлинности, иллюзорности, обманчивости двойника, как видим, пока не рассматривается.
(обратно)224
Возражение – чисто теоретическое – состоит в том (ниже мы уточним эту мысль), что зеркальные образы – не самостоятельны. Они всегда требуют присутствия перед зеркалом оригинала, исчезновение которого влечет утрату и образа. Смысл зеркального образа состоит не просто в фиксации, а в удвоении, в создании запасного, дополнительного образа, но не механическим, искусственным, естественным, чисто оптическим способом. Но самое главное, что зеркало позволяет видеть то, что не видно в обычных условиях, а именно самого зрителя, рассматривающего самого себя и узнающего или, наоборот, отмечающего несходство, несовпадение, зазор, причины которого – совершенно отдельная проблема и тема. См. заключение этой главы.
(обратно)225
Выражения самого Маля (Op. cit. P. 24).
(обратно)226
Ibid. P.26. Обращаем внимание на то, что и чисто внешне собор уподобляется зеркалу, точнее говоря, его лицевая часть, фасад представляет собой некоторую оптическую систему, во всяком случае рамочную, фокусирующую конструкцию, в которой портал – своего рода линза, вбирающая в себя и взгляд, и самого зрителя. Нет нужды напоминать, что именно экспозиционно-оптические свойства собора положили начало такому принципиально новому способу изображения, как картина (Terrasse, C. La Cathédrale mirroir du monde. Paris, 1946).
(обратно)227
Или 4-линзовый объектив с переменным фокусным расстоянием… В любом случае оптика кажется средством наведения и приближения, но никак не уразумения. Ср. феноменологию зеркала у Ж Деррида в «Диссеминации» (русск. пер. – Екатеринбург., 2007. С. 386 и далее).
(обратно)228
То есть природное зеркало – это скорее собирающая зеркальная линза, фокусирующая в одной точке окружающий мир (продолжая фотоаналогии, можно сказать, что это нечто сродни пентапризме или дальномеру).
(обратно)229
Mâle, Emile. Religious art in France, XIII century… P. 29.
(обратно)230
«Материальный мир – константный образ мира невидимого» (Ibid. P. 31), материальное и духовное пребывают в единстве. В этом тоже нетрудно заметить отражение чисто соборной ситуации, когда архитектура и ее иконографическое наполнение находятся в единстве и взаимодействии. Иконография здесь – все то же слово, которым владеет собор, вмещает его в себя. Отсюда и повторяющийся на протяжении всей книги образ собора проповедующего, то есть, передающего истину вовне, делающего нематериальное и, значит, невидимое материальным, доступным телесным очам и слуху. Но так же точно возможен и обратный процесс, ведь Писание – это «ключ к обоим мирам» (Ibid. P. 34).
(обратно)231
Ср. аналогичные наблюдения у Зауэра относительно диалектики великого в малом.
(обратно)232
Mâle, Emile. Religious art in France, XIII century… P. 43. Осталось сделать совсем небольшой шаг, чтобы собор превратился в «храм Мнемозины». Маль этот шаг не делает, и в этом, быть может, состоит одна из его методологических заслуг: удержание иконографии внутри ее собственных границ, пускай и несколько устаревших. Ведь если к «зеркалу памяти» добавить идею автономности и непосредственности самообнаружения символа, то нетрудно получить всю программу иконологии в редакции Варбурга. Маль же подобной независимости не допускает: символ существованием своим обязан или сознанию посредством воображения, или художественному воспроизведению посредством рук.
(обратно)233
Речь идет прежде всего о представителях т.н. символической школы – аббате Обере, Ф. д’Аизак, Кайе, де Бастаре и других, которые, как считает Маль, не смогли избежать «мании символизма», видят в археологии одну лишь «работу воображения» и дискредитируют эту науку. Если Дидрон и де Комон сделали из нее «точную науку», то эти «превратили ее в роман» (Ibid. P. 48). Другими словами, мысль Маля состоит в том, что нельзя смешивать символизм средневековый, так сказать, аутентичный и современный, связанный с нынешними интерпретационными усилиями слишком экзальтированных поклонников средневекового искусства. Ср. у Зауэра почти аналогичную критику самого Маля.
(обратно)234
Ibid. P. 51.
(обратно)235
То есть иконография как изучение отношений «копия – оригинал» для Маля вне области науки об искусстве, так как самого искусства, понятого как творчество, во всем этом нет. Для Маля это старое иконографическое источниковедение, поиск истоков, протографов, которые находятся за пределами художества как такового.
(обратно)236
«Искусство XII века выбирало почки, искусство XIII века – листья» (Mâle, Emile. Religious art in France XIII century… S. 52).
(обратно)237
Ibid. P. 63.
(обратно)238
Получается, что и иконография – это тоже всего лишь инструмент знания того, что по сути своей не иконографично. То есть собственно архитектурный смысл собора – выше иконографии, а сам собор – выше искусства.
(обратно)239
Mâle, Emile. Religious art in France, XIII century… P. 97.
(обратно)240
Опять же важные уточнения: если душа – поле битвы, то сам человек – просто ли предоставляет ее как место сражения, отделяя ее от себя в акте, фактически, самопожертвования, или он в эту схватку втягивается помимо своей воли? Нам эти моменты нравственного богословия существенны по той причине, что следует представлять себе условия и результаты созерцания образов этой битвы. Как можно сохранить позицию внешнего наблюдателя? Реально, конечно же, душа участвует в настоящей битве и как место действия, и как, между прочим, добыча, трофей. Художественно же она отражает результат – победу добродетелей, из чего следует, что зеркало души должно быть предварительно очищенным, причем, несомненно, огнем. Так что следует представлять себе душу посетителя собора как некое соединение зеркала со светильником (то есть перед нами или своего рода фотокамера со встроенной вспышкой – позволим себе эту несколько вольную метафору, – или проекционный аппарат).
(обратно)241
Душа зрителя проецирует на внутренние стены собора, во внутреннее пространство те образы, что светят изнутри души, попав туда с фасада, то есть с лика собора.
(обратно)242
И явная отсылка к следующей книге ученого!
(обратно)243
Mâle, Emile. Religious art in France, XIII century… P. 129-130.
(обратно)244
Ibid. P. 114.
(обратно)245
Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки герменевтики. М., 1995 (пер. Н. Сергеевой).
(обратно)246
Mâle, Emile. Religious art in France, XIII century… P. 131.
(обратно)247
Маль в данном случае не совсем точен, так как параллельно c александрийской традицией аллегорического толкования существовала с самого начала и школа антиохийская, предпочитавшая буквальный смысл Писания.
(обратно)248
Mâle, Emile. Religious art in France, XIII century… P. 134.
(обратно)249
Ibid. P. 143. Это если не тело, то, во всяком случае, внешние покровы, скрывающие плоть.
(обратно)250
Ibid. P. 152.
(обратно)251
Ibid. P. 158. Можно добавить, что это ключ и к пониманию готического сознания как такового, но данное предположение уже будет вне рамок иконографического метода.
(обратно)252
Ibid. P. 172.
(обратно)253
Ibid. P. 173.
(обратно)254
Но он же, получается, и декорация, которую можно снять, сменить, если вовсе не убрать.
(обратно)255
Mâle, Emile. Religious art in France, XIII century… P. 184.
(обратно)256
Ibid. P. 193. Ср. предание, будто Крест смотрел на Рим, оставляя Иерусалим позади.
(обратно)257
Ibid. P. 194 (прим. 1).
(обратно)258
Понятно, что этот момент наступает тогда, когда мы достигаем определенной точки, места в пространстве, а именно приближаемся к литургическому, то есть сакраментально-мистериальному значению, связанному с образом Гроба Господня. Его пространственно-материальным эквивалентом-образом является Престол (алтарь) собора, вообще всякого христианского храма. Такого рода ключевые символы отверзают нам и изобразительную завесу святая святых всякой иконографии. Ее сокровенный исток – символизм храмовой литургической мистерии.
(обратно)259
Mâle, Emile. Religious art in France, XIII century… P. 194. С. ссылкой на Гонория Отенского. Чуть далее Маль приводит еще один пример максимально масштабного и одновременно персонифицированного символизма, связанного с толкованием и иллюстрированием такого евангельского эпизода, как брак в Кане Галилейской, в котором содержится «мистическое учение», связанное с шестью сосудами для вина. Эти шесть емкостей, объемов суть шесть «царств» мировой истории. Налитая в них вода, незримо претворенная в вино, – аллегория Закона, за буквой которого незримо присутствовал Христос. Само Писание по букве – «безвкусная вода», а по духу – «благородное вино». Христос скрыто присутствовал в мире все шесть периодов истории, отмеченных фигурами Адама, Ноя, Авраама, Давида, Иехонии и Предтечи. Христос открывается в седьмом «веке», и Царство Его пребудет до Страшного Суда, вслед за которым грядет «день восьмой», и ему не будет конца (все это – на примере витражей собора в Кентербери). Мотив воды, скрывающей вино, которое, в свою очередь, есть вещественная форма Евхаристии, являет собой все тот же символизм материального начала собора. Равно как и мотив емкостей, сосудов, объемов, вмещающих тайну. Но тут же мы вынуждены отметить и принцип наглядной персонификации, так сказать, маркировки отвлеченных понятий конкретными образами Писания, что, несомненно, есть признак если не иконографичности, то, во всяком случае, иконичности самого экзегетического мышления. Изображение предстает инструментом, средством богопознания!
(обратно)260
Это Добрый Самарянин, 10 дев (разумных и юродивых), Блудный Сын и Богач и Лазарь. По словам Маля, именно эти притчи «наиболее драматичны, наиболее поучительны и наиболее популярны» (Ibid. P. 195).
(обратно)261
Ibid.
(обратно)262
Можно предположить, что эта связь обеспечена была посредством устного слова, то есть произносимой в соборе проповеди, которой внимали и художники. Во всяком случае, произнесенное Слово – на полпути от Слова написанного к Слову изображенному. Об этом мы скажем ниже чуть подробнее.
(обратно)263
Mâle, Emile. Religious art in France, XIII century… P. 202.
(обратно)264
Ibid. P. 203.
(обратно)265
Ibid. P. 206-207.
(обратно)266
Ibid. P. 222.
(обратно)267
Это не означает, что не было сугубо канонических источников подобной тематики, начиная хотя бы с богослужения Страстной недели.
(обратно)268
Напомним, что психологическое объяснение и оправдание апокрифов – заслуга еще К.-Э. Фреппеля. Апокрифические аналогии в древнерусской архитектуре – предмет внимания А.Л. Баталова (см. нашу «Ретроспективу»).
(обратно)269
Mâle, Emile. Religious art in France, XIII century… P. 230-231. Нельзя забывать и такую уже библиологическую истину, что Евангелия – это последующая запись первоначально устного предания. Быть может, в таком случае сакральная архитектура – это и застывшая декламация священных текстов, и явленная в камне керигма? Этого отчасти касается Приложение II нашей книги.
(обратно)270
Тут, впрочем, следует уточнить, что в данном конкретном случае (Ibid. P. 258) имеются в виду предания о Пресвятой Деве, Которая не может не вызывать живое, непосредственное чувство.
(обратно)271
Ibid. P. 268.
(обратно)272
Ibid. P. 267.
(обратно)273
Маль не скрывает, что история святых и сам культ святых – в известной мере процесс вытеснения из религиозной истории язычества. В сознании простого верующего святые покровители вытесняли прежних «гениев места» (Ibid. P. 269), и об этой пространственно-пластической размерности истории святых тоже стоит помнить, когда мы приближаемся к собору. Хотя, с другой стороны, столь же очевидно, что «под покровом святых продолжало жить старое язычество» (Ibid. P. 272).
(обратно)274
Напомним, что текст продолжает звучать, и в нем внешнее пространство оказывается доступным читателю и слушателю, «перенося его или в фиванскую пустыню в окружение гробниц, в которых эремиты обитали в компании с шакалами, или в Рим св. Григория Великого, опустошенный, превращенный в руины и разоренный чумой» (Ibid. P. 274). «Грубый крестьянин, не знающий мира дальше той улицы, где он живет и где стоит колокольня, участвовал в жизни всего христианства» (Ibid.).
(обратно)275
Маль особо отмечает сказочность житийных историй восточно-христианского происхождения (Ibid. P. 279). Возникает вопрос: где кончается легенда и начинается церковное предание? И как это связано с собором, как это различие находит в нем свое отражение? Если это своего рода расширение Откровения, нельзя ли это считать социальным аспектом иконографии? Тогда получается, что мы имеем дело с привнесенным, не собственным значением архитектуры, со смысловым decorum’ом в чистом виде.
(обратно)276
Ibid. P. 283.
(обратно)277
Ibid. P. 284.
(обратно)278
Ibid. P. 304.
(обратно)279
Ibid. P. 315.
(обратно)280
Еще раз проследим эту последовательность топосов: сознание в теле, тело в соборе, собор в пространстве (например города, но не только).
(обратно)281
Большую, чем обычно, ученость и большую степень проникновения в предмет (Mâle, Emile. Religious art in France, XIII century… P 316).
(обратно)282
Ibid. P. 317.
(обратно)283
См. Приложение II нашей книги.
(обратно)284
Маль приводит (Mâle, Emile. Religious art in France, XIII century… P. 319-321) многочисленные примеры соответствия посвящений тех или иных капелл внутри соборов сюжетам расположенных рядом витражных окон. Самое главное, что это соответствие устанавливал донатор той или иной капеллы, и так выражалось его личное благочестие и желание почтить своего святого покровителя. Сюжетно-тематические и иконографические отношения имеют в своей основе, как мы вновь убеждаемся, отношения личностные. Конкретные же мотивы выбора того или иного святого – весьма разнообразны и подробно разобраны Малем. В целом, можно сказать, исходный импульс – обстоятельства экзистенциально-индивидуального свойства (например, благополучное возвращение домой после крестового похода). Отдельная тема, конечно же, – это традиция паломничества, в которой сочетаются символика пути, подвиг странничества и все то же желание почтить своего святого покровителя.
(обратно)285
Ibid. P. 333-335.
(обратно)286
Можно сказать, что текстовые аналогии в архитектуре имеют характер акростиха: созерцание архитектурного сообщения возможно как бы по краям строительных форм, на границе с пространством, в соприкосновении с чем-то отличным от пластических масс…
(обратно)287
Mâle, Emile. Religious art in France, XIII century… P. 340.
(обратно)288
Подобное недопущение-препятствование можно воспринимать как проявление крещально-очистительных, мистериально-экзорцистских (то есть инициационных) функций собора.
(обратно)289
Чуть ли не единственное исключение – это коронационный собор Реймса (Mâle, Emile. Religious art in France, XIII century… P. 341). В других соборах короли могли рассчитывать на место лишь при условии, что они – донаторы (Ibid. P. 343).
(обратно)290
Ibid. P. 354.
(обратно)291
Знаменитый рельеф с южного портала Нотр-Дам с изображением студенческого диспута Маль склонен считать эпизодом из жизни неизвестного святого, но никак не зарисовкой из современной жизни (никакой историографии, только агиография!).
(обратно)292
Mâle, Emile. Religious art in France, XIII century… P. 355.
(обратно)293
Маль называет группу т.н. «англо-норманских апокалипсисов», от которых происходит, например, скульптура Реймса (Ibid. P. 362).
(обратно)294
Ibid. P. 364.
(обратно)295
Между прочим, и Апокалипсис – это только пророческая книга, это откровение событий грядущих, хотя предельная степень прорыва в настоящее эсхатологического времени, крайняя степень мистического документализма делает и евангелиста, и даже его читателя почти что участниками именно конца истории, завершения этого мира…
(обратно)296
В связи с этими персонификациями Маль позволяет себе небольшой историографический экскурс, связанный с проблемой идентификации данных фигур на портале Шартра. Блестящее эссе Дидрона (1847) доказывало, что перед нами «гражданские добродетели», и лишь остроумная статья Фелиции д’Аизак объяснила их подлинный смысл (Ibid. P. 386-387).
(обратно)297
Ibid. P. 389.
(обратно)298
Ibid. P. 390-391. Собор оставался народной книгой до прихода печатного станка, когда, по словам Гюго, «готическое солнце заслонил гигантский пресс Майнца». Маль добавляет, что в конце XVI века «христианство лишилось своей пластической мощи и превратилось в одну лишь внутреннюю силу» (Ibid. P. 391).
(обратно)299
Ibid. P. 392 (со ссылкой, между прочим, на решения VII Вселенского собора: «и на Востоке, и на Западе и в восьмом веке, и в тринадцатом это было учением Церкви»).
(обратно)300
Ibid. P. 393. Не стоит забывать, что вокруг практически каждого собора постепенно складывалась атмосфера учености, связанная с соборными школами, где могли встречаться и просто любители учености, и известные ученые, а местный епископ был нередко профессором и doctor emeritus, следившим за декорировкой своего собора, составляя эскизы и проекты. Художники могли входить и в архиерейскую свиту.
(обратно)301
Ibid. P. 395. Маль совершенно не озабочен, как он сам отмечает, задачей проследить эту традицию до самых ее истоков, что выдает в нем, несомненно, именно иконографа, а не собственно историка искусства.
(обратно)302
Ibid. P. 396.
(обратно)303
Ibid.
(обратно)304
Ibid. P. 397.
(обратно)305
Маль специально оговаривает, что таково восприятие церковного здания самими Средними веками (со ссылкой на описание Нотр-Дам де Пари, сделанное Иоанном Яндунским).
(обратно)306
И как это не похоже на искусство XVI и XVII веков! Здесь – искусство, укоренное в родной почве, там – чужеродный импорт. Что за дело было народу до Юпитера, Марса, Геркулеса, героев Греции и Рима, до 12 цезарей, вытесненных 12 апостолами? Ренессанс и барокко – времена меценатов и любителей. Искусство взялось обслуживать индивидуальный каприз (Mâle, Emile. Religious art in France, XIII century… P 398).
(обратно)307
Ibid. P. 399.
(обратно)308
Так и хочется вспомнить «стадию зеркала», к которой – тоже метафорически – можно отнести последующие тексты Маля, обращенные к иным способам отражения – в виде духовного театра и Andachtsbild (то есть зрелище и видение – переживание драматическое и мистическое).
(обратно)309
Simson von, Otto G. Sacred Fortress: Byzantine Art and Statecraf in Ravenna. Chicago, 1948.
(обратно)310
Ibid. P. 2. Ср. далее: «Политические концепции остаются <…> фантомами, пока не будут переведены в реальность живого опыта». И только после этого «они могут быть выражены в повествовательной образности искусства» (Ibid. P. 9).
(обратно)311
Приводим краткую библиографию этого выдающегося ученого: Krautheimer, Richard. Die Kirchen der Bettelorden in Deutschland, 1240-1340. Köln, 1925; Mittelalterliche Synagogen. Marburg-Wittenberg, 1927; Zur venezianischen Trecentoplastik. Marburg an der Lahn, 1926-1935; Opicinus de Canistris; Weltbild und Bekenntnisse eines avignonesischen Klerikers des 14. Jahrhunderts. London: Te Warburg Institute, 1936. Sancta Maria Rotunda. Arte del Primo millennio, Atti del II convegno per lo studio dell’arte dell’alto medio evo tenuto presso l’Universita di Pavia nel settembre 1950. Ed. by Edoardo Arslan. Turin, 1953; Hess, Trude and Krautheimer, Richard. Lorenzo Ghiberti. Princeton, 1956; Mensa-coemeterium-martyium // Cahiers archeologiques, 11 (1960): 15-40; Te Carolingian Revival of Early Christian Architecture // Art Bulletin, 24 (1942). P. 1-38; Rifessioni sull’architettura paleocristiana // Atti del VI Congresso Internationale di Archeologia Cristiana, Ravena 23-30 settembre 1962. Studi di Antichitа Christiana, 26. Vatican City, 1965, P. 567-79; Ghiberti's Bronze Doors. Princeton, New York, 1971; Corpus Basilicarum Christianarum Romae: Te Early Christian Basilicas of Rome (IV-IX Centuries). Vatican City: Pontifcio istituto di archeologia cristiana, 1937-1977; Early Christian and Byzantine Architecture. Baltimore, 1965; Rome: Profle of a City, 312-1308. Princeton, 1980; Tree Christian Capitals: Topography and Politics. Berkeley, 1983; Te Rome of Alexander VII, 1655-1667. Princeton, New York, 1985.
(обратно)312
Первая публикация: Introduction to an Iconography of Medieval Architecture // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 5 (1942): 1-33. Переиздано: Studies in Early Christian, Medieval and Renaissance Art. Edited by James S. Ackerman et al. New York, 1969.
(обратно)313
Цит. по: Krautheimer, Richard. Ausgewählte Aufsätze zur Europäischen Kunstgeschichte. Köln, 2003. S. 143.
(обратно)314
Например Аахенская капелла и капелла в Сен-Жермен де Пре, Св. София в Беневенте (октогон с двумя круговыми обходами) и Св. София в Константинополе, маленькая церковь в городке Петерсхаузене, собор Св. Петра в Риме и т. д.
(обратно)315
Krautheimer, Richard. Ausgewählte Aufsätze… S. 144.
(обратно)316
В том числе и церковь Сан Стефано Ротондо. Подчеркнем, что в данной статье Краутхаймер причисляет ее к копиям Анастасис.
(обратно)317
Krautheimer, Richard. Ausgewählte Aufsätze… S. 148.
(обратно)318
Ibid. S. 150.
(обратно)319
Еще раз обращаем внимание на эту топографическую тему в связи со статьей, посвященной Сан Стефано Ротондо.
(обратно)320
Krautheimer, Richard. Ausgewählte Aufsätze… S. 152.
(обратно)321
Ibid.
(обратно)322
Можно сказать больше: не просто другие представления о подобии, о копии, но иная функция этой копии, вводящей зрителя, слушателя, заказчика, вообще пользователя в мир сверхценностных смыслов.
(обратно)323
Легко узнается понятие (но всего лишь понятие!) из лексики Кассирера и Панофского, вслед за которыми движется и Рудольф Виттковер со своей знаменитой книгой Architectural Principles in the Age of Humanism. Studies of the Warburg Institute: 19. London: Warburg Institute, University of London, 1949.
(обратно)324
Krautheimer, Richard. Ausgewählte Aufsätze… S. 155.
(обратно)325
Ibid. S. 157. Ср., между прочим, характеристику церкви Сан Стефано Ротондо (S. 126), где в новом концептуальном контексте те же самые свойства копии (перегруппировка на новый лад) делают ее уже не копией, а чем-то совсем иным.
(обратно)326
Ibid. S. 158.
(обратно)327
Ibid. S. 152.
(обратно)328
Ibid. S. 159.
(обратно)329
Косвенно эта идея выражена у Краутхаймера в другом месте с известной простотой и точностью, когда он, обсуждая возможность происхождения христианской базилики из императорской дворцовой архитектуры, говорит, что «не христианские церкви происходили из дворцовой базилики, а христианские руководители и их архитекторы вполне естественно переносили на свои церковные сооружения целые куски архитектуры, окружавшей Божественное величие Императора» (Krautheimer, Richard. Early Christian and Byzantine Architecture. Harmondsworth, 1975. P. 46). Подобная полуметафора на самом деле передает замечательную мысль, что архитектура способна становиться проводящей средой, символическим пространством, которое можно переносить в виде узнаваемых признаков (архитектурных элементов) в иные пространства, как бы заполняя их подобно некой субстанции.
(обратно)330
Krautheimer, Richard. Ausgewählte Aufsätze… S. 160.
(обратно)331
Сказанное можно для пользы последующего изложения резюмировать таким образом: 1) сакральная архитектура призвана оформлять (символизировать) не просто пространство, а пространство мистериальное (литургическое), соответствующее пространству Откровения и Священной истории, выраженной письменно в Св. Писании; 2) архитектура может пониматься как система отсылок и как инструмент актуализации истории спасения (через воспроизведение сакральных топосов, мест, напоминающих о священных событиях и обеспечивающих священные действия); 3) архитектурная деятельность есть, в принципе, форма благочестия и богопоклонения; 4) аналогии с иконой можно провести довольно конкретные: личное и доличное в архитектурном образе (традиционная проблема конструкции и декорации, сакрального ядра и художественного обрамления).
(обратно)332
Krautheimer, Richard. Ausgewählte Aufsätze… S. 163.
(обратно)333
Ibid. S. 164.
(обратно)334
Ibid. S. 165.
(обратно)335
Ibid.
(обратно)336
Ibid.
(обратно)337
Можно предположить в подобных рассуждениях Краутхаймера впечатления (следы) ассоциативных методов в психологии, допускающих, в частности, наличие т. н. построительной (творческой) ассоциации, представляющей собой фактически синтез двух других типов ассоциаций – по смежности и сходству. Ср.: «Дух имеет способность посредством ассоциаций образовывать сочетания или соединения, отличные от всего, что он когда-либо действительно переживал» (Бэн А. Психология // Ассоциативная психология. М., 1998. С. 445). Не стоит и говорить, как подобное далеко от актуальных тенденций психологии, характерных для времени написания статьи… Впрочем, упоминание «ассоциаций» может быть и просто привычным оборотом речи. Но в любом случае мы не обнаружим у Краутхаймера какой-либо теоретической рефлексии, в отличие, например, от того же Панофского (в чем, видимо, и заключается сила последнего).
(обратно)338
Говоря шире, самое существенное в подобной ситуации – различать образы и их изображения. В этом коренится вся механика иконографических отношений.
(обратно)339
Krautheimer, Richard. Ausgewählte Aufsätze… S. 172.
(обратно)340
Следует иметь в виду, что Краутхаймер видит все происходящее в пространстве мышления, иначе говоря, как процессы когнитивного порядка.
(обратно)341
Krautheimer, Richard. Ausgewählte Aufsätze… S. 175. Стоит обратить внимание на весьма неточную формулировку, которую позволяет себе Краутхаймер. Конечно же крещаемый сразу же, тотчас воскресает к новой жизни во Христе. И это есть жизнь внутри Церкви, понятой, опять же согласно апостолу Павлу, как мистическое Те л о Спасителя. Всеобщее воскресение мертвых на Страшный Суд – это другая вероучительная истина, хотя и связанная с верой в Воскресшего.
(обратно)342
Сюда надо добавить и культ св. Иоанна Предтечи (типологически важна в этом смысле и церковь Предтечи в Константинополе IV века). Не случайно, что, например, все постройки ордена иоаннитов были круглыми (Ibid. S. 178).
(обратно)343
Вот хотя бы богословская перспектива, которую можно было бы обсудить в контексте статьи: Пространство Литургии и пространство Крещения как взаимодействие таинств (Престол и Купель как две топологические парадигмы – Присутствие и Отсутствие). Причем объединяющий момент – погребальный, умирание, Воскресение, Причастие – и все это может отражаться в пространственных структурах.
(обратно)344
Кроме упоминавшихся книг Грабара и Зедльмайра имеются в виду следующие сочинения названных авторов: Panofsky, Erwin. Gothic Architecture and Scholasticism. An Inquiry into Analogy of the Arts, Philisophy, and Religion in Middle Ages. New York, 1951; Simson, Otto von. Te Gothic Cathedral. Origins of Gothic Archicture and the Medieval Concept of Order. New York, 1956; Warnke, Martin. Politische Architektur in Europa vom Mittelalter bis heute. Repräsentation und Gemeinschaf. Ostfldern, 1984.
(обратно)345
Krautheimer, Richard. Ausgewählte Aufsätze… S. 193-194.
(обратно)346
В этом смысле показательна весьма дружелюбная полемика на страницах этого послесловия с представителем даже не иконографии архитектуры, а христианской археологии – Ф.В. Дайхманном, автором Einführung in die christliche Archäologie (Darmstadt, 1983), которому мы посвящаем отдельную главу нашего исследования. В его лице эта почтенная дисциплина демонстрирует еще больший скепсис и консерватизм по сравнению с Краутхаймером, чьи гипотезы с археологической точки зрения кажутся слишком смелыми и неконкретными. Тем не менее Краутхаймер находит точки схода с этим пуристом археологического историзма. Рассмотрение «архитектуры как носителя значения» должно подчиняться следующим правилам: осторожность по отношению к разным вариантам истолкования (различение раннехристианского, средневекового и современного); различие между интерпретацией post festum и «формоопределяющей символикой уже на стадии проекта»; отказ от толкований, опирающихся на «свободные ассоциации» (Op. cit. S. 196). Еще раз обратим внимание, что и в данном случае подразумевается археология значения архитектурных форм, но никак не археология знания по поводу этих самых форм. Но тем не менее, если бы Краутхаймер вознамерился приблизиться к тому же Панофскому, которого он поминает совсем не так благосклонно, как Дайхманна, то ему пришлось бы преодолеть куда менее серьезную дистанцию, чем та, что отделяет Дайхманна, например, от Фуко.
(обратно)347
Недаром Маль в чем-то кажется и свежее, и непосредственнее, и художественнее…
(обратно)348
Krautheimer, Richard. Ausgewählte Aufsätze… S. 112.
(обратно)349
Ibid. S. 115.
(обратно)350
Ibid. S. 116.
(обратно)351
Ibid. S. 117.
(обратно)352
Ibid. S. 118.
(обратно)353
Ibid. S. 119. «Языческие и христианские … интеллектуалы с тоской взирали на безвозвратно утрачиваемый мир и без всякой надежды вели борьбу за продолжение его существования» (Ibid.).
(обратно)354
Ibid.
(обратно)355
Другими словами, осознается, что формы – из прошлого, осознается (или ощущается), что данные формы умирают, что они не из настоящего и потому не настоящие, за ними не стоит ни архитектоническая, ни религиозная норма, ими можно пользоваться и автономно, и в качестве самоцели, как символом, просто опознавательным знаком инобытия, не влияющим на то, что происходит внутри.
(обратно)356
Krautheimer, Richard. Ausgewählte Aufsätze… S. 122.
(обратно)357
Впрочем, зрение – не обязательно главный способ участия в богослужении, ведь стоит учитывать и роль ритуала – процессий шествий, выходов и обходов, то есть различных форм включения пространства, а через него и вовлечения молящихся, которые для храма суть те же «включения» (но не инородные!).
(обратно)358
Krautheimer, Richard. Ausgewählte Aufsätze… S. 124-125.
(обратно)359
Ibid.
(обратно)360
Ibid. S. 126.
(обратно)361
Ibid. S. 128.
(обратно)362
Ibid. S. 131.
(обратно)363
Ibid.
(обратно)364
Само местоположение Гроба Господня (тот же сад, и вдобавок за городской стеной), вполне могло стимулировать именно «парковый» тип постройки. Ср. более позднюю практику помещения копий Гроба Господня даже на кладбищах, в том числе и в местах захоронения казненных преступников, которые тем самым не лишались надежды на участие в Воскресении (Dalmann, D. G. Das Grab Christi im Deutschland. Leipzig, 1922. S. 13-15).
(обратно)365
См. статью 1948 «Scena tragica and scena comica…» (Krautheimer, Richard. Ausgewählte Aufsätze… S. 334-356).
(обратно)366
Ibid. S. 130.
(обратно)367
Краутхаймер во «Введении…» указывает, что на уровне города могли существовать даже «топографические фигуры», например, в форме креста, образованного пятью храмами (Ibid. S. 151).
(обратно)368
Такой, казалось бы, частный аспект, как незанятое алтарем подкупольное пространство идеальной центрической постройки, на самом деле может свидетельствовать о желании обозначить незримое присутствие Христа посреди своей паствы. Удивительно, но те же проблемы, что у участников богослужения в реальном Сан Стефано Ротондо, могли бы возникнуть и у посетителей воображаемого (но кто сказал, что менее реального?) Храма Св. Грааля.
(обратно)369
Очень конспективно примерно так можно описать 4 измерения пространства архитектурной семантики: 1) язык=вокабулярий (морфологические элементы); 2) письмо=проект (план); 3) речь=строительство (конструкция/декор); 4) чтение=пользование (функции). Каждый из пунктов – это и способ обращения со смыслом (использование смысла, его порождение или реагирование на него). Иначе можно сказать так, что это способ вложения (наделения) смыслом данного измерения архитектуры.
(обратно)370
Отсутствие тех же эмпор вполне допустимо истолковывать как желание ограничить количество присутствующих, тем более что Краутхаймер указывает на элитарность и замысла, и круга заказчиков.
(обратно)371
О бумажной (проектной) стадии создания всякой архитектуры и о бумажном аспекте (словесно-литературной описуемости) постройки см., в частности: Evans, Robin. Translations from Drawing to Building and Other Essays. London, 1996.
(обратно)372
Статья Краутхаймера вписывается в весьма обширную историографическую традицию (см.: Гращенков В.Н. Флорентийская монументальная живопись и театр [1986] // Он же. История и историки искусства. Статьи разных лет. М., 2005. С. 253-277 (особенно с. 270-271 и прим. 31).
(обратно)373
Krautheimer, Richard. Ausgewählte Aufsätze… S. 335.
(обратно)374
Ibid. S. 338.
(обратно)375
Ibid. S. 339.
(обратно)376
Ibid. S. 340.
(обратно)377
Ibid. S. 342.
(обратно)378
Ibid.
(обратно)379
Ibid. S. 343.
(обратно)380
Тем более, как говорит сам Краутхаймер, в понимании слова maccelum гуманистами очевидно присутствуют аберрации. Вероятно, аберрации присутствуют и у самого Краутхаймера, желающего в этом сочинении оставаться, в первую очередь, именно гуманистом-гуманитарием, а уже потом историком архитектуры. Иначе он мог бы вспомнить самые первые образцы раннехристианских домашних церквей, представлявших собой обыкновенные жилые дома со все теми же торговыми лавочками на первом этаже и помещениями для молитвенных собраний – на втором. В более позднем и фундаментальном тексте, но не ренессансном, а раннехристианском – в знаменитой «Раннехристианской и византийской архитектуре» (1965) эта тема уже присутствует (Op. cit. P. 29-30). Если мы можем представить в этой ведуте позднеантичный языческий храм торговли, то почему невозможно вообразить, что в подобной «торговой точке» на втором этаже совершались христианские службы?
(обратно)381
Krautheimer, Richard. Ausgewählte Aufsätze… S. 348.
(обратно)382
Ibid. S. 349.
(обратно)383
Точнее говоря, чем в материальной или трехмерной действительности.
(обратно)384
Krautheimer, Richard. Ausgewählte Aufsätze… S. 350.
(обратно)385
Ibid.
(обратно)386
Ibid. S. 351.
(обратно)387
Краутхаймер разбирает проблему сходства и различия двух ведут лишь с точки зрения составляющих архитектурных элементов, не объясняя, почему процесс идет в сторону размежевания, почему источник смешан, синтетичен.
(обратно)388
«Христианский образ столь же исторически свободен, насколько связан языческий идол. Изменения в типе идола, художественные его усовершенствования разрушают его условную, традиционную схему и сводят ее к аллегории и олицетворению, тогда как реально-историческая основа христианской иконы-портрета или подобия чтимого святого допускает все возможные степени жизненного представления, лишь бы в образе выражалось или им высказывалось религиозное чувство <…> Вопрос о том, где именно в ходе истории христианского искусства должны находиться пределы иконографического процесса, может быть разрешен лишь подробным историческим анализом <…> Отсюда мы получаем натуральное право направлять иконографическое исследование и в область свободного художественного творчества <…> Икона может уступить место только художественному произведению» (Кондаков, Н.П. Иконография Богоматери. СПб., 1914. С. 2-4; выделено нами – С.В.).
(обратно)389
Мы вновь отсылаем читателя к «Перспективе I», где на примере Лютцелера можно наблюдать почти что бескрайнее обогащение всей подобной проблематики.
(обратно)390
Небесполезно в этой связи вспомнить (предварительно, ибо это отдельная проблема) наблюдения Э. Панофского относительно практики использования архитектурных мотивов в ранненидерландской живописи в качестве наглядных – «телесных» – метафор, иносказаний (см., например, соответствующую главу в «Ранненидерландской живописи» (V. «Реальность и символ в ранней нидерландской живописи. Spiritualia sub metaforis corporalium»). Проблема, с точки зрения Панофского. заключается в идентификации т. н. «скрытых» (в немецком – более выразительном – варианте текста – «одетых») символов, реалистически-предметное «облачение», обличье которых следует отличать от просто предметов (они тоже присутствуют в изображении). Критерий узнавания – органичность и неорганичность их места в композиции. Тут-то и помогает архитектура, скрупулезно-археологическое воспроизведение которой (романской как символа ветхозаветного и готической как символа новозаветного) подразумевает ее эмпирическое наблюдение. Например, в «Мадонне в церкви» Яна Ван Эйка (Берлинские музеи), неф на переднем плане морфологически принадлежит XIII веку, а хор – это уже готика следующего столетия, что должно выражать разницу между «святым» и «Святая Святых» (в последнем случае – более высокая травея и более сложной формы своды). Для Панофского такое толкование очевидно, так как оно подтверждается композиционным мастерством: зритель не может не видеть здесь пространство собора, самое качество живописи «внушает» ему эту мысль. Достоверность, точность исполнения изображения заставляет верить в достоверность изображенного как полноценной реальности. Однако мы должны, тем не менее, видеть и чисто исполнительскую проблематику этой композиции: она опять очевидно состоит из передней зоны (с более ранней готикой) и зоны задней (готика посовременнее), вписанной, между прочим, в арочный проем, конгруэнтный внешнему формату изображения. Если бы существовала единая перспектива (без подъема заднего плана), то фигура Марии закрывала бы пространство трансепта, а леттнер – стены хор. Так что все дело именно в размерах фигуры Марии, не соотносимой с реальными размерами реальной архитектуры (Она, по словам Панофского, «как гигантское видение»). Поэтому Панофский справедливо замечает, что «мы в меньшей степени имеем дело с изображением Девы Марии в церкви и в большей – с изображением Девы Марии в качестве Церкви, в меньшей степени – с образом человеческого существа в правильном масштабе относительно реального здания и в большей – с воплощением посредством человеческой фигуры некоторой духовной силы или сущности, которая находит себе выражение в образе архитектоническом, собственно говоря, – в окружающей Мадонну базилике» (цит. по: Panofsky, E. Die altniederländische Malerei. Ihr Ursprung und Wesen. Köln, 2001. Bd. 1, S. 151). Замечательно, что сам порядок построения этой фразы (русский и немецкий переводы следуют за английским оригиналом буквально) точно отражает структуру изображения с характерным членением на всю ту же «фигуру» (гештальт) и фон, о котором Панофский чуть ниже выражается как об эдикуле или табернакле, в который вставлена фигура. Мы можем выразиться иначе: фон – это на самом деле средство внушения (благодаря убедительному иллюзионизму), а фигура – это своего рода «сполия», цитата, ссылка, вставленная в подобного рода «суггестивную» экзегезу, то есть проповедь. Смешением реальности изображенной и реального изображения, не воспроизводящей, а создающей реальность другого – нематериального и неземного порядка, объясняется и остроумное, но некорректное толкование символики света в этом же изображении. По мнению Панофского, источник света в изображении расположен на севере, что невозможно с точки зрения символики частей света, предполагающей ориентацию христианского храма на восток, где располагается алтарь, наиболее священное место и откуда должен истекать и свет. Север же, наоборот – источник мрака и всего падшего. Этим нарушением мастер якобы желает подчеркнуть, что дело происходит не на земле, а на Небе, где отменяется всякая символика, в том числе и частей света. На самом же деле, свет исходит не с севера, а отовсюду, просто сама композиция не дает нам увидеть свет с другой стороны, зато она позволяет говорить, что дело происходит именно в ином мире, свободном от наших земных ориентиров, типа «север – юг», «запад – восток»…
(обратно)391
Schenkluhn, Wolfgang. Richard Krautheimers Begründung einer mittelalterlichen Architekturikonografe // Ikonographie und Ikonologie mittelalterlicher Architektur/ Wolfgang Schenkluhn [Hrsg.] Halle: Institut für Kunstgeschichte der Martin-Luther-Universität. Halle-Wittenberg, 1999. S. 31-42.
(обратно)392
Ibid. S. 35.
(обратно)393
Ibid. S. 36.
(обратно)394
Ibid. Впрочем, простое украшение – не столь уж простая изобразительная функция. Важно, во-первых, учитывать, что подвергается украшению, а во-вторых, помнить, что освобожденность от собственного смысла делает удобным использование формы в переносном значении. Другими словами, украшение, убранство, декорум – это функция пользователя, свободного вкладывать, переносить в подобную форму свое значение. Такого рода «пустая» форма все вынесет.
(обратно)395
Ibid. S. 37.
(обратно)396
Ibid. Шенклун ссылается на Ханса Герхарда Эверса, заметившего, что «понятие копии предполагает существование оригинала на его собственном месте» (Evers, H. G. Tod, Macht und Raum als Bereiche der Architektur. 1938).
(обратно)397
Строго говоря, одного-единственного понятия копии бывает недостаточно, порой следует говорить об «упрощающей имитации» (церковь Марии в Отмаршайне, 1049), задача которой – «целенаправленная репрезентация прообраза в изменившемся со строительной точки зрении контексте», что есть «классический случай архитектурной цитаты» (Ibid.). В конце концов, существуют «три способа рецепции: имитирующий, цитирующий и варьирующий, но никак не копирующий» (Ibid. S. 38).
(обратно)398
См., например, его статью: Die Ikonologie der Architektur // Jahrbuch f. Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaf. Stuttgart, 1951. Bd. I. S. 67-109. Русский пер.: Бандманн, Г. Иконология архитектуры // Искусствознание. № 1, 2004.
(обратно)399
См. характерные названия достаточно популярных изданий, начиная с классических книг Дж. Саммерсона (Summerson, John N. Te Classical Language of Architecture, 1966) и Бруно Дзеви (Zevi, Bruno. Te Modern Language of Architecture. [1971], 1994) и заканчивая современными опытами на ту же тему: Mayerovitch, Harry. How Architecture Speaks: Te Buildings We Make and the Lives We Lead, 1996; Fischer, Günther. Architektur und Sprache. Grundlagen des architektonischen Ausdruckssystems. Mit einem Vorw. von Jürgem Joedickem. Stuttgart – Zürich 1991; Clarke, Georgia and Crossley, Paul. Architecture and Language: Constructing Identity in European Architecture. C. 1000 – c. 1650. 2000; Jencks, Charles. Te New Paradigm in Architecture: the Language of Postmodernism. New Haven – London. 2002.
(обратно)400
Краткая библиография работ ученого может быть представлена следующим образом: Boianskata tsurkva: arkhitekturazhivopis’. Sofia, 1924; La décoration byzantine. Paris, 1928; совместно с Nordenfalk, Carl. La peinture religieuse en Bulgarie. Paris, 1928; L’impereur dans l’art byzantin. Recherches sur l’art ofciel de l’empire d’orient, Paris, 1936 (рус. пер.: М., 2000); L'art byzantin. Parise, 1938; Byzantine Painting: Historical and Critical Study. Geneva, 1953; Early Medieval Painting from the Fourth to the Eleventh Century: Mosaics and Mural Painting. New York, 1957; совместно с Nordenfalk, Carl. Le haut moyen âge, du quatrième au onzième siècle: Mosaìques et peintures murales. Geneva, 1957; L’iconoclasme byzantin: dossier archeologique. Paris, 1957; совместно с Fourmont, Denise. Ampoules de Terre Sainte (Monza, Bobbio). Paris, 1958; совместно с Chatzedakes, Manoles. Byzantine and Early Medieval Painting. New York, 1965; совместно с Velmans, Tania. Mosaici e afreschi nella Kariye-Camii ad Istanbul. Milan, 1965; совместно с Velmans, Tania. Gli afreschi della Chiesa di Sopocani. Milan, 1965; Le Premier art chrétien (200-395). Paris, 1966 (англ. изд.: Te Beginnings of Christian Art, 200-395. London, 1967); Byzantium: Byzantine art in the Middle Ages. London, 1966; L’Âge d’or de Justinien, de la mort de Téodose а l’Islam. Paris, 1966 (англ. изд.: Byzantium: from the Death of Teodosius to the Rise of Islam. London, 1966; L’Art de la fn de l’Antiquité et du Moyen âge [etc.] 3 vols. Paris, 1968; L’Art du Moyen âge en Europe orientale. Paris, 1968; Christian Iconography: a Study of its Origins. A.W. Mellon Lectures in the Fine Arts, 1961. Princeton-New York, 1968; Die mittelalterliche Kunst Osteuropas. Baden-Baden, 1968; Les manuscrits grecs enluminés de provenance italienne, IXe-XIe siécles. Paris, 1972; Les origines de l'esthétique médiévale. Paris, 1992.
(обратно)401
Martyrium: recherches sur le culte des reliques et l'art chrétien antique. 2 vols. Paris, 1943-1946, vol. 1. P. 16f.
(обратно)402
Об этом выдающемся ученом см., в частности: Maguire, Henry. Andrè Grabar: 1896-1990 // Dumbarton Oaks Papers 45 (1991). P. XIII-XV. Из новейших публикаций: Muzij, Maria Giovanna. Visione e presenza: iconografa e teofania nel pensiero di André Grabar. Milano: La Casa di Matriona. 1995. Из русскоязычных текстов следует, конечно же, упомянуть: Древнерусское искусство. Византия и Древняя Русь: К 100-летию А.Н. Грабара. СПб., 1999, а также, разумеется, Предисловие Э.С. Смирновой («Андрей Николаевич Грабар и его роль в мировой византинистике») к русскому переводу «Императора…» (М., 2000. С. 6-14 – с подробной библиографией. С. 6-7).
(обратно)403
Озолин Николай, прот. Несколько слов о лингвистических приемах в иконографическом методе А.Н. Грабара // Искусство христианского мира. Вып. 2. М., 1998. С. 5-9.
(обратно)404
Следует в этой связи вспомнить, конечно же, опыт В. Вейдле: Weidlé, Wladimir. Gestalt und Sprache des Kunstwerks. Studien zur Grundlegung einer nichtästhetischen Kunsttheorie. Mittenwald, 1981.
(обратно)405
Grabar, André. Christian Iconography... P. XLI.
(обратно)406
Ibid. P. XLII.
(обратно)407
Ведь писатель, пользующийся тем или иным языком и строго следуя его правилам, сохраняет свободу творчества (Ibid.).
(обратно)408
Ibid. P. XLII-XLIII.
(обратно)409
Ibid.
(обратно)410
Ibid.
(обратно)411
Ibid. P. xlv.
(обратно)412
Ibid.
(обратно)413
Структурно это означает, что данные детали играют роль инвариант, если мы принимаем христианскую иконографию (см. чуть ниже) за отдельный «подязык». Но на самом деле это скорее знаки-индексы, семантические метки, элементы, так сказать, смысловой атрибутики. Существен другой вопрос: если эти детали вводились в готовую образную структуру и узнавались как принадлежащие христианству, то означает ли это наличие некоего именно христианского образного тезауруса, из которого брались такого рода детали? Подобные вопросы оказываются несколько подвешенными в воздухе по той причине, что Грабар не совсем последователен в своих лингвистических аналогиях, не находя в себе силы просто перейти на язык семиотики. Тогда стало бы понятно, что язык не может быть ни античным, ни христианским. Эти слова относятся к сфере коннотаций, точнее говоря, к двум не пересекающимся сферам: к сфере диахронии и к сфере идеологии, выражаясь все тем же семиологическим метаязыком, на котором стоило бы говорить и Грабару, что, конечно, не совсем реально. См. об этом прим. 20.
(обратно)414
Возникает вполне уместный вопрос: а внутри античной изобразительности что можно считать материнским языком? Не паразитируют ли – и на вполне законных основаниях – живопись и скульптура на языке архитектуры? И вообще: не стоит ли убрать атрибут «античный», коль скоро мы договорились, что перед нами единая и неделимая образность? Можно ли называть отдельным языком, пускай и паразитическим, всего лишь тематический сегмент общего языка?
(обратно)415
Вызывает сомнения смешение профессиональной лексики, арго, жаргона и т.п. Последние-то как раз и создают особые термины для повседневной тематики, профессионализмы же соответствуют тематике узкоспециальной. Если раннехристианская иконография – жаргон, то это значит, что ранние христиане просто хотели казаться именно непонятыми, изобретая для этого специальные слова. Но в любом случае невозможно говорить о языке как таковом, потому что синтаксис остается единым. Грабар совсем не касается именно структурной стороны дела, оставаясь на уровне лексики. Впрочем, тем самым он остается, хочет или нет, в пределах иконографии…
(обратно)416
Grabar, André. Christian iconography... P. XLV.
(обратно)417
Ibid. P. XLVII-XLVIII.
(обратно)418
У Грабара получается, фактически, что взаимодействуют именно контенты, то есть темы. Но тогда, спрашивается, каким образом, каким способом они взаимодействуют и где находится поле их взаимодействия? Ответ очевиден – это сознание человека и задействованы там механизмы (формы) ассоциативного мышления.
(обратно)419
Вот еще один пример неточности именно на смысловом уровне: Воскресение – это не догма, а событие (для христиан – историческое), то есть не идея, не тема, а факт, действие, подразумевающее, говоря фигурально, не представление, а предстояние.
(обратно)420
Grabar, André. Christian Iconography... P. XLVIII.
(обратно)421
Ibid. P. XLIX. Имперское искусство изображало императора-победителя в окружении поверженных врагов, плененных, осужденных, приговоренных, казненных и т. д. Христианские изготовители образов пользовались этой образностью, но использовали ее, чтобы прославить судимых и наказанных, то есть самого Христа, апостолов, мучеников, и заклеймить их мучителей. Как нам кажется, общая тема славы и позора и есть здесь предмет изображения и истолкования. Связующее звено между первоначальным «состоянием» темы и ее истолкованием – фигура императора, персонификация кесаря, царства и т. п. Общее, единое тематическое поле здесь – это, несомненно, Евангелие, а функция изображения – проповедь, в крайнем случае – иллюстрация. Иконография здесь вторичный механизм, но не потому, что это технический, зависимый от античной образности язык, а потому что визуальный, не вербальный. Грабар правильно уловил, так сказать, статус раннехристианской изобразительности, но он не столь высок как раз потому, что это не язык!
(обратно)422
Ibid. P. XLIX.
(обратно)423
А не принадлежность ли полю позволяет группировать образы в иконографические ряды? Вопрос не совсем прояснен.
(обратно)424
Иначе говоря, предполагается наличие симультанных образов, наделенных более ранним значением.
(обратно)425
Grab ar, André . Christian Iconography… P. l.
(обратно)426
Необходимо отдавать себе отчет в том, что Грабар строго и последовательно ограничивает себя рамками традиционного подхода. Он не говорит ни о сознании, ни о стиле, ни о жанрах. Он и выбирает такой период, когда можно без труда ограничиться схемой «старое – новое», «оригинальное – заимствованное». Нежелание обсуждать стилистику, художественные параметры образности, не упраздняет формальные качества автоматически. Но стоит нам увидеть в форме не просто художественно-экспрессивные средства, а способ отношения к образу, то есть визуально-изобразительный модус, как мы окажемся за пределами иконографии, на пороге иконологии.
(обратно)427
Grabar, André. Christian Iconography... P. 5.
(обратно)428
Ibid.
(обратно)429
Причем в двух изводах: собственно христианская и прежняя языческая, которую она напоминает.
(обратно)430
Grabar, André. Christian Iconography... Ibid. P. 8.
(обратно)431
Ibid. P. 9.
(обратно)432
Ibid. P. 12.
(обратно)433
Ibid. P.14.
(обратно)434
Другими словами, Грабар стремится, выражаясь в терминах экзегетики, постигнуть sensus plenus этой образности, предполагая, что таковой есть, но его требуется собрать по разным носителям, лишь один из которых – «общие идеи» – постигается довольно просто в силу своей универсальности, всеобщности и доступности. Переход в сферу интенциональную предполагает более тонкие процедуры.
(обратно)435
Мы как бы дополняем ход мысли Грабара и расширяем соответствующие смысловые перспективы, хотя сам ученый, упоминая психологию и интенцию, имеет в виду тот момент, что «общие идеи» не объясняют выбор и расположение этих образов на стенах катакомб или на поверхностях саркофагов. То есть предполагается выбор образов из репертуара и их группировка, что означает соответствующий процесс мышления и т. д. Но, называя систему этих образов «декорацией», наш автор уже задает направление поиска: это направление, точка пересечения и место действия – архитектурное пространство.
(обратно)436
Grabar, André. Christian Iconography... P. 16.
(обратно)437
Ibid. P. 17.
(обратно)438
Ibid. P. 18.
(обратно)439
Ibid. P. 19.
(обратно)440
Ibid. P. 21. Грабар отмечает, что детализированная нарративность фресок Дура Европос – результат знакомства с языческой традицией восточных провинций Империи. В Риме предпочитали стиль, максимально приближающийся к аббревиатуре с учетом декоративных эффектов, к которым живописцы Дуры Европос были равнодушны (Ibid. P. 22).
(обратно)441
Ibid.
(обратно)442
Ibid. P. 23. Поэтому неудивительно, добавляет Грабар, что «подобные попытки не распространялись по всей Империи и не затрагивали все тело христианской церковной полноты».
(обратно)443
Ibid. P. 23.
(обратно)444
Ibid. P. 24.
(обратно)445
Ibid. P. 27. И в Риме, и в восточных провинциях христиане и иудеи жили бок о бок, и их искусства тоже развивались, так сказать, по соседству.
(обратно)446
Ibid. P. 30.
(обратно)447
Ключевые, напомним, понятия в системе взглядов С. Синдинг-Ларсена.
(обратно)448
Grabar, André. Christian Iconography… P. 31.
(обратно)449
Ibid. P. 34.
(обратно)450
Можно сказать, что сквозная тема концепции Грабара – это латентность архитектуры, скрытый символизм архитектурный среды, предпочитающей проявлять себя в символизме языковом.
(обратно)451
Grabar, André. Christian Iconography... P. 37.
(обратно)452
Ibid. Уточнение в скобках, надо думать, относится к «специальным понятиям», а не к «специальным источникам».
(обратно)453
Ibid.
(обратно)454
Ibid. P. 37-38.
(обратно)455
Или проблема в методе, который всегда будет заставлять искать источники, внеположенные художественной форме, внешние, пребывающие в окружающем мире, образующие смысловой контекст.
(обратно)456
Grabar, André. Christian Iconography... P. 39.
(обратно)457
Ibid. P. 40. Грабар вынужден даже перейти на несколько дидактический тон, замечая, что «христианство правителей константиновской династии не уберегало их от склонности к искусству амбициозному, крайне удаленному от такой христианской добродетели как смирение».
(обратно)458
«Это способ понимания христианства через образ Христа», говорит Грабар, тем самым выражая ту мысль, что и политика, и даже задача возвеличивания своей собственной власти – все может служить делу обретения веры и, в конце концов, – Церкви.
(обратно)459
Grabar, André. Christian Iconography... P. 39.
(обратно)460
Ibid. P. 41-42.
(обратно)461
Ibid. P. 42.
(обратно)462
Грабар в качестве примера берет мозаики апсиды Сан Витале в Равенне, чтобы показать, что даже мученик (св. Экклесий) изображался в облачении придворного, т.н. дигнитария. Церемониальные костюмы, позы и жесты – все это средство создания «чувства присутствия Божественного и сакрального» (Ibid. P. 43). Более того, изготовители образов просто имитировали придворные церемонии, чтобы их образы казались более «жизнеподобными».
(обратно)463
Самые замечательные из приводимых Грабаром примеров «разговора» на традиционные темы (иллюстрация евангельских эпизодов) новым имперским языком – иконография Поклонения волхвов и Входа Господня в Иерусалим. В первом случае это типичная восточная по своему происхождению сцена приема императором-триумфатором иноземных послов или покоренных народов; во втором – характерная, еще эллинистическая церемония посещения императором завоеванного или «освобожденного» (как уточняет Грабар) города. Конкретный пример заимствования мотивов официального искусства искусством церковным – рельефы церкви Св. Георгия в Салониках со сценой Поклонения волхвов, источник которой – рельефы триумфальной арки Гонория в том же городе (Ibid. P. 44-45). Пример по-своему красноречив, если не учитывать, что в самом Евангелии уже заложена тема взаимоотношения царства земного и Царства Небесного, кесаря и Бога, Мессии-царя и Мессии-Агнца и т. д. Другими словами, уже евангелисты видели в эпизоде с волхвами сцену поклонения Царю. Сам Христос никогда не забывал своего царского достоинства, и тема Царства – сквозная даже на уровне евангельских притч. Поэтому, строго говоря, если учитывать именно тематические измерения соответствующей иконографии, то приходится признавать, что существовала, так сказать, смысловая санкция на использование имперской образности, которая, между прочим, вполне могла мыслиться и восприниматься как предмет церковного истолкования, рецепции. Мы снова сталкиваемся с проблемой определения иконографического языка, его средств и его границ. То, что на одном уровне языка представляет собой предметное значение, на другом – уже средство интерпретации (имперский мотив как инструмент иллюстрирования, наглядного повествования). Одновременно отдельные иконографические мотивы, взятые из той же имперской триумфальной сюжетики, можно рассматривать и как материал, из которого складывается совсем иной дискурс, не теряющий и не скрывающий связи с уровнем императорского искусства. Это дискурс, так сказать, вторичного прочтения, перечитывания по-новому.
(обратно)464
Ibid. P. 46.
(обратно)465
В этой связи Грабар (Ibid. P. 47) оспаривает идею о том, что программа этой базилики связана с III Вселенским собором 431 года (в литературе даже утвердилось выражение «эфесская арка» – монумент в ознаменование победы над несторианством на соборе в Эфесе). Добавим, впрочем, что, видимо, не совсем корректно именовать абстрактными идеями содержание догматов.
(обратно)466
Ibid. P. 48.
(обратно)467
Грабар позволяет себе не без иронии назвать соответствующие сцены «миротворческими усилиями» римской армии, употребляя известное выражение «peacemaker» (Ibid. P. 50). Не надо забывать, что данный сборник составлен на основе лекций, читанных перед американской аудиторией, хорошо знакомой с револьверами системы Кольт, именуемых все теми же peace-maker’ами.
(обратно)468
Ibid. P. 51.
(обратно)469
Ibid. P.52.
(обратно)470
Ibid. P.53.
(обратно)471
В частности, можно представить себе и своего рода культурно-историческую сенсорику: архитектура обеспечивает перцепцию антично-языческой образности и – соответственно – ее рецепцию.
(обратно)472
Упоминание фона может быть не случайным и не метафорическим: мы вновь стараемся не упустить шанс обозначить горизонт гештальт-структурного и феноменологического расширения иконографии. С одной стороны, возможно представить себе подобный «фон» как своего рода тематически-иллюстративный и идеологический резервуар, снабжающий конкретностью и отчетливостью иконографическую «фигуративность». Но проводящая среда – все та же целостная архитектурная типология со своей интенциональностью, охватывающей и визуальность, и телесность, в первую очередь, в структуре стены (см.: Sedlmayr, H. Das erste mittelalterliche Architektursystem // Jahrbuch Kunstwissenschaflicher Forschungen, 1933. Bd. II. S. 25-62).
(обратно)473
О нем см.: Kleinbauer, W. Eugene. Modern Perspectives in Western Art History: An Anthology of 20th-Century Writings on the Visual Arts. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971, P. 39, 50, 87; Duval, Noel. «In Memoriam Fr. W. Deichmann 1909-1993.» // Antiquità tardive 2 (1994). P. 7-11; Farioli Campanati, Rafaella. Friedrich Wilhelm Deichmann, Jena 17 XII 1909-Mentana (Roma) 13 IX 1993 // Corso di cultura sull’arte ravennate e bizantina 41 (1994). P. 10-16; Feld, Otto. Commemorazione di Friedrich Wilhelm Deichmann // Corso di cultura sull'arte ravennate e bizantina 41 (1994). P. 17-32; Feld, Otto. Friedrich Wilhelm Deichmann 17.12.1909-13.9.1993 // Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung 101 (1994). P. 7-17. Из других – немногочисленных – работ Дайхманна следует назвать: Studien zur Architektur Konstantinopels im 5. und 6. Jahrhunder nach Christus. Baden-Baden, 1956; Ravenne: Hauptstadt des spätantiken Abendlandes. 3 Bde. Wisebaden, 1969.
(обратно)474
Deichmann, Fr. W. Die Einführung in die christlichen Archeologie. Darmstadt, 1983.
(обратно)475
Deichmann, Fr. W. Die Einführung… S. 7. Этот пассаж достоин комментария: церковная археология занимается стариной, древностью, что есть категория идеальная и, соответственно, вне истории. То же, что внутри истории – это область истории искусства (церковного), в которую включена иконография не как вспомогательная дисциплина (так – для археологии), а как исследовательский метод.
(обратно)476
Ibid. S. 8.
(обратно)477
Но при этом – совершенно осознанная, что видно из ссылки Дайхманна на учебную программу Папского Института христианской археологии, где указываются все основные области исследования данной дисциплины: христианские погребения, сакральная топография, древнехристианские церковные здания, иконография, эпиграфика, литературные и агиографические источники, декорация христианских культовых сооружений, музеология, техника раскопок и т. д. Дайхманн особо подчеркивает, что в этом списке отсутствует искусство, на месте которого – иконография (Ibid. S. 12).
(обратно)478
Ibid. S. 11.
(обратно)479
Дайхманн полагает началом церковной археологии деятельность в Риме (сер. XVI в.) Оратория св. Филиппо Нери, в первую очередь – кардинала Баронио. Собственно же рождение этой почтенной дисциплины – май 1578 года, когда в римских катакомбах начались систематические раскопки, связанные с именами Панвинио, Помпео Угонио и Антонио Босио. Но только в конце XVII века в работах Джованни Джустино Чампини можно обнаружить наряду с апологетическим и чисто антикварный интерес к древнехристианским памятникам (Ibid. S. 15-17).
(обратно)480
Ibid. S. 27.
(обратно)481
В этой связи Дайхманн отмечает наших отечественных церковных археологов – Айналова и Кондакова (Ibid. S. 28). В целом же стоит напомнить, что дореволюционная церковная археология в России развивалась на редкость синхронно с европейской. См. кроме перечисленного в прим. 52: Буслаев Ф. И. Сочинения по археологии и истории искусства. [1860, 1908]. Т. 1. СПб., 2001; Уваров А. С. Христианская символика [1908]. СПб., 2001; Кондаков, Н. П. Иконография Богоматери [1914-1915]. Т. 1-2. СПб., 2000 и многие другие.
(обратно)482
Этому способствовала и уже непосредственно полевая, практическая деятельность единомышленника Стжиговского – Теодора Виганда с его раскопками на территории Малой Азии, Сирии и Палестины. Особая веха – открытие восточно-христианского собрания в новом здании Берлинских музеев (1904).
(обратно)483
См., например: Dalton, O. M. Byzantine Art and Archaeology. Oxford, 1911. Размышляя о роли Константинополя, автор, признавая несомненную, на его взгляд, победу Нового Рима над Ветхим (P. 8), резонно отмечает известную самостоятельность византийских регионов, которые «выражали свои идеи в собственном стиле и на своем языке». Новому Риму оставалось только выстраивать баланс и ассимилировать влияния (P. 10). Иначе говоря, его роль – чисто интертекстуальная, если учитывать все те же языковые ассоциации, бывшие в ходу, как мы видим, и в начале XX века. Сам автор предпочитает даже более выразительное понятие – interregnum, которое, как нам кажется, лучше всего отражает положение дел: если учитывать несомненное первенство столицы в области строительства, то именно архитектура обладала функциями и правами стилистического «междуцарствия»…
(обратно)484
Deichmann, Fr. W. Die Einführung… S. 37.
(обратно)485
Ibid. S. 38.
(обратно)486
Другими словами, становится понятным истинный исток всякого Gesamtkunstwerk: это не просто архитектура, а внутреннее пространство, в себе и из себя порождающее всякую образность и изобразительность.
(обратно)487
Deichmann, Fr. W. Die Einführung… S. 54. Дайхманн категорически отвергает теорию происхождения культа мучеников из античного культа героев, хотя именно на этом допущении, как известно, основана одна из главных теорий происхождения и христианского зодчества (от героонов – прямой путь к мартириумам).
(обратно)488
О гробнице апостола Петра см.: Беляев Л.А., Мерперт Н.Я. От библейских древностей к христианским. М., 2007. С. 204 (мнение о слабом почитании места погребения апостолов до IV века). См. там же и о первых христианских храмах (С. 208-210).
(обратно)489
Deichmann, Fr. W. Die Einführung… S. 59.
(обратно)490
Ibid. S. 60.
(обратно)491
Ibid. S. 68.
(обратно)492
Ibid. S. 69.
(обратно)493
Ibid. S. 70. До боли знакомые антропософские интонации, присущие обычно рассуждениям о Храме св. Грааля. Подробнее об этом см.: Ванеян С. С. Храм и Грааль в Западном Cредневековье. – Храм земной и небесный. М., 2003 (c обширной библиографией). Из новейших тестов такого рода можно назвать: Borne, Gerhard von. Der Graal in Europa. Wurzeln und Wirkungen. Stuttgart, 1982; Skerst, Hermann von. Der Graaltmpel in Kaukasus. Ur-Christentum in Armenien und Georgien. Stuttgart, 1986.
(обратно)494
Ср. у Маля несколько иную оценку «народного» начала как источника искреннего и непосредственного религиозного чувства, а также воображения и, значит, творчества (впрочем, «народность» – это и материал).
(обратно)495
Напомним, что существует и совершенно иной способ, так сказать, оправдания вещества: когда допускается существование той самой materia prima, которая осталась, так сказать, в стороне от грехопадения, оказалась нейтральной с точки зрения морально-этической космологии. Это путь, ведущий ко св. Граалю, но уводящий от Креста, Которым оправдывается, спасается, а значит, и освящается всякая плоть, способная и готовая воспринимать Христа. Иными словами, без богословия не обойтись там, где не хватает чисто археологического материала. Но это богословие должно дополнять материал, а не заменять, не вытеснять и не исключать его…
(обратно)496
Deichmann, Fr. W. Die Einführung… S. 72.
(обратно)497
Ibid.
(обратно)498
Ibid. S. 73.
(обратно)499
Ibid. S. 75.
(обратно)500
Напомним, что главный представитель этой теории – Рихард Краутхаймер (Early Christian and Byzantin Architecture… P. 39f.).
(обратно)501
Дайхманн довольно справедливо указывает на следующие моменты: выражение Евсевия – это его личный парафраз, обыгрывание значения вполне распространенного в то время понятия «базилика», означавшего очень многое (как и наше, говорит Дайхманн, понятие «зал»). Чтобы это слово имело смысл, необходимо было определение. В случае с христианским зданием обычно говорилось о basilica dominica (это выражение можно найти у Эгерии). То есть это слово мало объясняет тот «формальный контекст, который связывает христианское церковное строительство с тогдашней римской архитектурой» (Deichmann, Fr. W. Die Einführung… S. 77).
(обратно)502
Ibid. S. 78.
(обратно)503
Ср. идею Краутхаймера относительно урбинской и балтиморской ведут (см. с. – ) со ссылкой на тех же гуманистов и на круг того же Альберти. Относительно же самого Дайхманна опять стоит обратить внимание на специфически археологическую тенденцию к максимально первичным источникам, даже историографически-концептуальным: что в начале, то надежнее и достовернее. Это сама суть генетического метода, когда вопрос о происхождении – вопрос сущности явления.
(обратно)504
Мы в этом убедились уже на примере Краутхаймера.
(обратно)505
Совершенно та же логика наблюдалась нами у Краутхаймера в его рассуждениях о происхождении ренессансной сценографии из античной храмово-рыночной типологии. Привлекался, напомним, тот же Альберти…
(обратно)506
Ощущая эту, так сказать, пограничность заявленной темы, Дайхманн тут же переходит к обсуждению сугубо технических, то есть собственно строительных, проблем, например поперечной ориентации почти всех прототипов и сразу же продольной – практически всех христианских примеров. По ходу обсуждения этой проблемы всплывает и тема римских терм как еще одного возможного прототипа (на термах, как известно, построена ранняя римская базилика св. Пуденцианы).
(обратно)507
Deichmann, Fr. W. Die Einführung… S. 80.
(обратно)508
Ibid. Обращает внимание использование выражения «аппарат» вместо уже знакомого нам «вокабулария».
(обратно)509
Дайхманн еще раз, на примере региональных вариантов, подчеркивает всеобщность базиликального плана, что выдает обязательность этой архитектурной концепции и, значит, явное присутствие за ней единой «императорской инициативы», воплощенной в образцовых постройках Рима, Иерусалима и Константинополя (Ibid. S. 82).
(обратно)510
Ibid.
(обратно)511
Ibid. S. 83.
(обратно)512
Ibid. S. 89.
(обратно)513
Другими словами, плоскость – это планиметрия, а планиметрия – это планировка, а планировка – это проектирование, за которым стоит замысел, мышление, сознание и ментальность. Дайхманн, быть может, сам того не осознавая, намечает всю парадигму иконологического подхода, в его варианте, близком скорее фон Симсону, чем, например, Бандманну.
(обратно)514
Напомним, что столь же определенное восприятие портала мы встречаем у Зауэра и Маля. Ср. исследовательский опыт относительно иудаистской традиции: Goldman, Bernard. Te Sacred Portal: a Primary Symbol in Ancient Judaic Art. San Antonio, 1965.
(обратно)515
Deichmann, Fr. W. Die Einführung… S. 94f.
(обратно)516
Ibid. S. 96.
(обратно)517
Мы имеем дело с феноменологией целостной структуры, составленной из взаимодействующих фона-портала и фигуры-посетителя. Фигура уже не выступает, а вступает. Это уже динамика не только взгляда созерцающего, но и проникающего, за которым следует и тело. Тело возмещает пустоту проема, в котором, однако, заключено обещание большего и иного – и вмещающего, и восполняющего, и воссоединяющего.
(обратно)518
См. некоторую современную литературу на эту тему: Kohlschein, Franz und Wunsche, Peter. Heiliger Raum. Architektur, Kunst und Liturgie in mittelalterlichen Kathedralen und Stifskirchen. Münster, 1998. Jacobsen, Werner. Altarraum und Heiligengrab als liturgisches Konzept in der Auseinandersetzung des Nordens mit Rom, in: N. Bock u.a. (Hg.), Kunst und Liturgie im Mittelalter (Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana 33, 1999/ 2000, Beihef). Stroik, Christopher V. Path, Portal, Path: Architecture for the Rites. Chicago, 1999. Mainstone, Rowland J. Hagia Sophia: Architecture, Structure and Liturgy of Justinian's Great Church. London, 2002. Boyer, Mark G. Te Liturgical Environment: What the Documents Say. Collegevill, 2004.
(обратно)519
Deichmann, Fr. W. Die Einführung… S. 97.
(обратно)520
Ibid.
(обратно)521
Ibid. S. 98. До IV века, говорит со всей уверенностью Дайхманн, таинство Крещения понималось как разновидность «ритуального омовения», хотя, добавим мы, выражения апостола Павла недвусмысленно имеют в виду Крещение.
(обратно)522
Ibid. S.99.
(обратно)523
Ср.: «…Обрамление притчи является на самом деле откровенно личностным <…> Эксплицитная или имплицитная отсылка ко второму лицу содержится в притче всегда. Эта транспозиция, произвести которую приглашается читатель/слушатель (транспозиция от фигурального третьего лица к подразумеваемому второму лицу), тесно связана с иллокутивной целью речевого акта» (Вежбицкая А. Значение Иисусовых притч: семантический подход к Евангелиям. – Она же. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999. С. 733). См. также вообще аналогию Писания и архитектуры на уровне «списка универсальных человеческих понятий», выполняющих «функции самоочевидных элементарных концептов» (Там же. С. 737).
(обратно)524
Deichmann, Fr. W. Die Einführung… S. 102.
(обратно)525
Ibid. S. 109.
(обратно)526
Ibid. S. 110.
(обратно)527
Ibid. S. 116. По всей видимости, в любом случае речь идет о деятельности единых художественных мастерских, производивших и языческую, и иудейскую, и христианскую продукцию – в зависимости от воли и религии заказчика.
(обратно)528
Ibid. S. 124. Вспомним, что для Грабара все обстоит прямо наоборот: наличие общего формально-экспрессивного контекста (античное искусство как таковое) обеспечивает единое пространство взаимодействия, создает проводящую среду для взаимодействия (соперничества) конфессионально гетерогенных традиций (он включает сюда и манихейство как «радикал» подобных процессов).
(обратно)529
Ibid. S. 126-128.
(обратно)530
Ibid. S. 129. Иными словами, он склонен разделять частную жизнь и церковную. Последняя сфера мыслится чисто институционально, то есть почти что официозно. Это представление, несомненно, требует корректировки.
(обратно)531
Ibid. S. 130. Впрочем, могла возникнуть и прямо противоположная ситуация, когда «наивный» преизбыток античных мотивов (особенно с включением языческих божеств) создавал впечатление «почти кощунственное» (во всяком случае, с официально-церковной, как кажется Дайхманну, точки зрения – S. 131).
(обратно)532
Ibid. S. 133.
(обратно)533
Ibid. S. 138.
(обратно)534
Ibid. S. 141.
(обратно)535
Ibid. S. 142.
(обратно)536
Ibid. S. 146-147. Между прочим, Дайхманн считает возможным противопоставлять собственно новозаветные и «новые христоцентрические» сцены (Ibid. S. 148), имея в виду известную оппозицию «Иисус Евангелия» и «Христос Церкви».
(обратно)537
Ibid. S. 150.
(обратно)538
Ibid. S. 154-155.
(обратно)539
Или хотя бы демифологизацией, хотя именно к профанному искусству у Дайхманна есть некоторая тяга как к альтернативе сакральному. Хотя такое мирское искусство в описываемую эпоху (и почти во все последующие) отыскать трудно. Во всяком случае, таковым никак не может быть античное языческое искусство.
(обратно)540
Deichmann, Fr. W. Die Einführung… S. 167.
(обратно)541
Ibid. S. 168.
(обратно)542
Ibid. S. 171.
(обратно)543
Рыба в разных даже языческих контекстах может быть и фаллическим, и погребальным символом. А для позднего иудаизма – это символ креационистский.
(обратно)544
Deichmann, Fr. W. Die Einführung… S. 174.
(обратно)545
Ibid. S. 175.
(обратно)546
Ibid. S. 178. Выражение это напоминает почти аналогичный образ у Краутхаймера, который Дайхманном подвергается критике только потому, что он говорит об архитектуре, элементы которой, по представлению Дайхманна, абстрактны, не изобразительны и предметны.
(обратно)547
Ibid. S. 182.
(обратно)548
Ibid.
(обратно)549
Ibid. S. 184.
(обратно)550
Ibid. S. 190.
(обратно)551
Ibid.
(обратно)552
Ibid. S. 191. Дайхманн справедливо указывает на аналогичную композиционную структуру саркофагов IV века.
(обратно)553
Ibid. S. 192 (со ссылками, между прочим, и на иллюстрации рукописей чуть более позднего времени, которым соответствуют и уже раннесредневековые экзегетические тексты).
(обратно)554
Ibid. S. 193.
(обратно)555
Ibid. S. 194.
(обратно)556
Ibid.
(обратно)557
Ibid. S. 195.
(обратно)558
Ibid. S. 196.
(обратно)559
Ibid. S. 199.
(обратно)560
Ibid. S. 200.
(обратно)561
Ibid. S. 205.
(обратно)562
Ibid.
(обратно)563
См., в первую очередь, его «Систему искусствознания» (1938), недавно переизданную (Frankl, Paul. Das System der Kunstwissenschaf. Berlin, 1998). Кроме того, специально «вопросам стиля» посвящен недавний сборник статей Франкля: Zur Fragen der Stils. Hrsg. von Ernst Ullmann. Leipzig, 1988.
(обратно)564
Deichmann, Fr. W. Die Einführung… S. 208.
(обратно)565
Фигуративный схематизм – вот форма проявления стиля в низовом искусстве.
(обратно)566
Отдельный вопрос – механизм выделения и преобладания тех или иных слоев. Здесь должна учитываться и этническая, и географическая сторона дела, а также идеологическая экспансия вкупе с просто взаимовлиянием отдельных художников и распространением того или иного вкуса (Deichmann, Fr. W. Die Einführung… S. 210-211).
(обратно)567
Характерен порядок рассуждений, обнаруживающий латентную логику: «Иной стиль мог в то же самое время добиваться преобладания на том же самом месте и в той же самой социальной прослойке, причем и в живописи, и в пластике, и вдобавок внутри отдельных жанров одного и того же искусства. Наконец, стиль мог меняться внутри одной постройки, внутри одного памятника, собственно говоря, в соответствии с местом, занимаемым данным произведением» (Ibid. S. 211). Другими словами, постройка – именно место протекания стилистических процессов, обретающих, кроме всего прочего, как раз благодаря архитектуре, свои социальные и даже психологические параметры, которые, повторяем, требуют своей локализации и, тем самым, обнаружения.
(обратно)568
Мы имеем возможность продолжить «визуально-стержневую» аналогию, обратив внимание на то, что официальное, то есть стилистически фигуральное, искусство Дайхманн именует и отчетливым классицизмом с его «формообразующими идеалами греческой классики». То есть идеальное, идейное и идеологическое – это, фактически, самая поверхность, почти лишенная глубины зона риторики…
(обратно)569
Например, характеризуя погребальную пластику Малой Азии, Дайхманн перечисляет в одном ряду «иконографию, фигуральность, визинальность и дивидуальность» (Deichmann, Fr. W. Die Einführung… S. 213). Между прочим, здесь же мы встречаем еще одну архитектоническую метафору, довольно выразительную, саязанную с характеристикой присутствующего в данном искусстве т.н. нижнего течения, доримского и даже догреческого. По отношению к греческому и римскому искусству этот нижний слой оказывается «формой демонтажа». Стиль опять выступает своего рода органической постройкой, в которой нижние этажи способны подтачивать верхние и заменять их (своего рода вертикальная циркуляция слоев и уровней).
(обратно)570
Типичный ход мысли Дайхманна позволяет ему, сравнивая росписи синагоги и христианского баптистерия в Дура Европос и обнаруживая большую простоту и примитивность христианских изображений, говорить об их ориентированности на низшие и беднейшие слои общества, где трудно было найти порядочных художников, а только простых ремесленников (Ibid. S. 219). «Все это возможно объяснять не только культурно и этнически, но и социологически» – говорит Дайхманн, добавляя чуть ниже, что при этом и тому и другому явлению «очень тяжело дать точную стилистическую характеристику». Именно эта неточность, нетипичность и неопределенность изобразительного стиля выводит данные изображения за пределы истории живописи, изобразительности как таковой и позволяет искать внеизобразительные объяснения. И на пути полной внехудожественности стоит, повторяем, строительное искусство. С. своей особой образностью…
(обратно)571
Подчеркнем, что для методологии, которую представляет Дайхманн вслед за Франклем, разнородные стили одновременно являются и враждебными, чуждыми стилями, чье существование может быть только параллельным и представленным разными памятниками. Поэтому присутствие разных стилей внутри одного произведения означает его саморазрушение, если мы не найдем какое-либо основание для единства вне самого произведения. Таковым основанием не может быть, например, конфессиональная принадлежность как нечто неуловимое и неопределенное с формальной точки зрения, зато вполне может – принадлежность сугубо художественная той или иной традиции или просто мастерской (Ibid. S. 220). Но причины здесь не чисто художественные, но и психологически-творческие: речь идет об «определенных интересах», которыми только и руководствуются художники.
(обратно)572
А в случае с архитектурой – и инженерные, ведь конструкция – это тоже своя образность, которую, по сути, можно определить как образность дематериализации, развеществления, опыт преодоления земли.
(обратно)573
Deichmann, Fr. W. Die Einführung… S. 227.
(обратно)574
Ibid. S. 230. Другие примеры: Санти Косма и Дамиано в Риме, Сан Витале в Равенне и – особенно выразительный случай – Трон епископа Максимиана в той же Равенне, где вовсе не содержание изображений, а «участок мебели» определяет стилистику рельефов.
(обратно)575
Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual. A Study of Analytical Perspectives. Oslo, 1984. Ученый родился 12 апреля 1929 года в Осло. С 1969 – профессор истории архитектуры Норвежской Высшей Технической школы. С 1983 года – директор Норвежского института в Риме. Приглашенный профессор Университета Нью-Йорка (1968-69). Докторская диссертация издана в виде книги: Christ in the Council Hall. Studies in the Religious Iconography of the Venetian Republic. Rom, 1974 (Institutum romanum Norvegiae Acta 5). Основная библиография выглядит следующим образом: Te Changes in the Iconography and Composition of Veronese's Allegory of the Battle of Lepanto in the Doge's Palace // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. Vol. 19, No. 3/4 (Jul.-Dec., 1956). P. 298-302; Palladio's Redentore, a Compromise in Composition // Art Bulletin. 1965. 4; Some Functional and Iconographical Aspects of the Centralized Church in the Italian Renaissance // Acta ad Archaelogiam et Artium Historiam Pertinentia. 1965. Vol. II. S. 203-252; A Tale of Two Cities. Florentine and Roman Visual Context for Fifeenth-Century Palaces // Acta ad Archaeologiam et Artium Historiam Pertinentia. 1975. VI. P. 163-212; Titian's Triumph of Faith and the Medieval Tradition of the Glory of Christ // Acta ad Archaeologiam et Artium Historiam Pertinentia. 1975. Vol. VI. 315-351. Te Laurenziana Vestibule as a Functional Solution // Acta ad Archaeologiam et Artium Historiam Pertinentia / Series in 4, 8. 1978. P. 213-222. Il trattamento della pietra secondo i “Quattro Libri” di Palladio // Bollettino del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, 21. 1979. P. 211-221. Paolo Veronese a Palazzo Ducale // Paolo Veronese / Alessandro Bettagno [Hrsg.]. – (Grafca veneta; 5, 1988). P. 23-29. Plura ordinantur ad unum: Some Perspectives Regarding the Arab-Islamic' Ceiling of the Cappella Palatina at Palermo (1132-1143) // Acta ad Archaeologiam et Artium Historiam Pertinentia / Series altera in 8, 7. 1989. P. 55-96. Paolo Veronese tra rituale e narrativo: note a proposito di un disegno per il Palazzo Ducale // Nuovi studi sul Paolo Veronese / Massimo Gemin [Hrsg.]. – (Techné; 8, 1990). P. 37-41. A walk with Otto Demus: the Mosaics of San Marco, Venice, and Arthistorical Analysis // Acta ad Archaeologiam et Artium Historiam pertinentia / Series altera in 8, 8. 1992. P. 145-205; Medieval Images as a Medium of Ritualized Communication // Kommunikation und Alltag im Spätmittelalter und früher Neuzeit (Veröfentlichungen des Instituts für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit, 15 // Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschafen, 596), Wien, 1992, S. 323; Categorization of Images in Ritual and Liturgical Context // L'image / Jérôme Baschet [Hrsg.]. (Cahiers du Léopard d'Or; 5, 1996), P. 109-130. Osservazioni sul mosaico dell’abside maggiore di San Marco // Storia dell’arte marciana /Renato Polacco [Hrsg.]. 2. I mosaici, 1997. P. 56-73. Te Rule, the Bible, and the Council: the Library of the Benedictine Abbey at Praglia. Вместе с Gisolf, Diana. University of Washington Press, 1998. Из других книг следует назвать: Arkitekturteori og bygningsanalyse, Trondheim, 1994; La basilica di San Marco. Arte e simbologia, 1999. [con Lionello Puppi; Wladimiro Dorigo]. Te Burden of the Ceremo New York Master: Image and Action in San Marco, Venice, and in an Islamic Mosque. Te Rituum Cerimoniale of 1564. Rom, 2000; Teori og praksis for avhandlinger: tverrfaglige perspektiver. Trondheim, 2001.
(обратно)576
Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P. 9.
(обратно)577
Ibid. P. 10.
(обратно)578
Вот как выглядит, например, предварительная дефиниция Литургии: «регулирующая система как текстов, предназначенных для чтения и пения, так и определенного набора действий» (Ibid. P. 15). Подход многообещающий в своей системной отстраненности, позволяющей не просто по-новому взглянуть на знакомые вещи, а открыть новые проблемы и предметы исследования.
(обратно)579
Ibid. P. 16.
(обратно)580
Обратим внимание, что Синдинг-Ларсен ориентируется на Тридентский собор, а не на, скажем, II Ватиканский, что могло бы быть более актуальным и адекватным, но менее историчным. При этом в своих концептуальных построениях автор «Иконографии и ритуала» не боится быть современным. Это различие в подходах к предмету и инструменту исследования опять же выдает именно иконографизм его метода с подчеркнутым историзмом и источниковедческим уклоном.
(обратно)581
Так что обратим внимание на этот момент еще раз – и концепцию Синдинг-Ларсена можно отнести к классической традиции.
(обратно)582
Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P. 20.
(обратно)583
Ibid. P. 21. Автор приводит обширную подборку литургических текстов, имеющих касательство к иконографии.
(обратно)584
Ibid. P. 26.
(обратно)585
Ibid. P. 27. Данный пассаж можно адресовать тому же Эмилю Малю, считавшему, как известно, ранний духовный театр XII века истоком готической образности.
(обратно)586
Это мнение самого Синдинг-Ларсена. Напомним, что упоминаемый чуть ниже Зауэр склонен был отрицать влияние литургических аллегорических комментариев на художественную практику, предполагая, скорее, обратную связь.
(обратно)587
Но можно ли поставить в тот же ряд и книгу самого Синдинг-Ларсена? Ответ на этот вопрос – в конце нашего о нем разговора.
(обратно)588
Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P. 28. Между прочим, к этой категории Синдинг-Ларсен относит и обряды прославления святых, визуальной фиксацией которых (или самой идеи прославления) можно считать все монументальные изображения тех или иных святых.
(обратно)589
Будучи, таким образом, паралитургической, архитектурная иконография сама становится «параиконографией» или метаиконографией, описывающей все случаи и все зоны смысловых переходов и выходов. Об этом мы обязаны будем поговорить в конце данной главы.
(обратно)590
Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P. 33.
(обратно)591
Ibid. P. 34.
(обратно)592
Ibid. P. 37-39.
(обратно)593
Имеется в виду статья Iconography and Iconology: An Introduction to the Study of Renaissance Art, впервые опубликованная в: Studies in Iconology: Humanistic Temes in the Art of the Renaissance. New York, 1939.
(обратно)594
Ср. досточно ранний опыт ревизии иконологии (без упоминания, между прочим, таковой): Wittkower, R. Interpretation of Visual Symbols in Art // Studies in Communication. London, 1955. P. 109-124. Общее развитие метода см.: Huber, Ernst Wolfgang. Ikonologie. Zur anthropologischen Fundierung einer kunstwissenschaflichen Methode // Studia Iconologica. Band 2. Mittenwald – München 1978. Richardson, George. Iconology. New York, 1980; History and Images: Towards a New Iconology. Turnhout, 2003. Cовременное состояние иконологии в форме «науки об образах» см., например: Schulz, Martin. Ordnungen der Bilder. Eine Einführung in die Bildwissenschaf. München, 2005; Wulf, Christoph und Zirfas, Jörg. Ikonologie des Performativen. München, 2005. Невозможно не назвать и эпохальные для истории метода книги: Mitchell, W. J. T. Iconology: Image, Text, Ideology.Chicago, 1987; Imdahl, Max. Giotto. Arenafresken. Ikonographie – Ikonologie – Ikonik. München, 1996. Впрочем, нельзя забывать и расширительное использование понятия: существует и музыкальная иконология (см.: Winternitz, Emanuel. Musical Instruments and Teir Symbolism in Western Art: Studies in Music Iconology. Yale, 1979. Meyer-Baer, Kathi. Music of the Spheres and the Dance of Death: Studies in Musical Iconology. Princeton, 1970), и философская (см.: Taureck, Bernhard H.F. Metaphern und Gleichnisse in der Philosophie. Versuch einer kritischen Ikonologie der Philosophie. Frankfurt a. M., 2004. Сравнительно недавний опыт соединения иконологии с богословием см.: «Being Religious Iconography and Living Trough the Eyes»: Studies in Religious and Iconology, a Celebratory Publication in Honour of Professor Jan Bergman, Faculty of Teology. Peter Schalk (Ed.). Uppsala, 1998.
(обратно)595
Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P. 41.
(обратно)596
Ibid. Синдинг-Ларсен справедливо замечает, что детализированное описание в проблемном ключе позволяет сосредоточить внимание именно на тех особенностях, которые релевантны иконографически. При этом существенно важно, чтобы это описание состоялось в реальности, чтобы оно было зафиксировано и реализовано через языковые средства, хотя фотография и натренированный взгляд кажутся не менее надежными средствами. Но доверять им – это иллюзия. Как правило, именно сущностные детали выпадают из поля зрения, замечательный пример чему – фигура апостола Марка с воздетыми руками со входа собора Сан Марко в Венеции. Только внимание к деталям позволило вместо традиционного, еще барочного обозначения «Св. Марк в экстазе», установить подлинный смысл сцены, а именно – совершение Мессы и момент преложения Cв. Даров (Ibid. P. 42).
(обратно)597
Ibid. Понятие «тип», напомним, уже обсуждалось нами в связи c концепцией Краутхаймера.
(обратно)598
Ibid. P. 43.
(обратно)599
Ibid. P. 45.
(обратно)600
Ibid. P. 46. Примеры, иллюстрирующие данное положение, берутся автором из Достоевского и Кафки.
(обратно)601
Ibid. P. 47.
(обратно)602
Ibid. P. 49.
(обратно)603
Ibid. P. 50.
(обратно)604
Ibid. P. 60f.
(обратно)605
Ibid. P. 61. В дальнейшем автор обещает в подобном ключе истолковывать и книжную миниатюру как архитектурную иконографию, что понятно, если опять же исходить из средового (контекстуального) принципа.
(обратно)606
Ibid. P. 62. Иллюстрация проблемы – сравнение с декорацией мечети, где медальоны с именами Аллаха и Мохаммада расположены симметрично без какой-либо иерархии, так как это только знаки.
(обратно)607
Блестящая иллюстрация ко всему сказанному – место и роль пророков в росписях потолка Сикстинской капеллы, где пророки и сивиллы репрезентируют смысл соответствующих ветхозаветных сцен. Пророк же Иона помещен отдельно – над алтарем, на месте, занимаемом, как правило, Распятием, что и задает особую семантику его изображению: он принадлежит сразу двум Заветам, будучи прообразом Христа, а его история – предысторией Страстей, воспоминание Которых – сердцевина Мессы. Одновременно – методологически – это и ключ-отмычка к пониманию всей программы. Следует только учитывать, что отмычка подходит по определению сразу ко многим дверям, и наша задача – отыскать нужную (Ibid. P. 63).
(обратно)608
Ibid. P. 65.
(обратно)609
Ibid.
(обратно)610
Ibid. P. 70. См. об этом подробнее и с иными акцентами: Puttfarken, T. Te Discovery of Pictorial Composition. Teories of Visual Order in Painting 1400-1800. New Haven – London, 2000.
(обратно)611
Ibid. P. 71.
(обратно)612
Со ссылкой на К. Вайтцмана Синдинг-Ларсен намечает следующие случаи: А. Случаи соотнесения миниатюры с текстом (или несколькими текстами) предполагают способность изображения или взаимодействовать со своим главным текстом, или переходить в текст измененный, или вводиться в текст инородный, или существовать вне всякого текстового основания; В. Разновидности зависимости изображения от своего текста предполагают или использование одних и тех же общих мест (конвенций), дающих архетипическое изображение, или влияние общей стилистики при изготовлении копий, или непонимание, или чисто декоративные соображения, или необязательность фигуративности для самого текста, или сознательное отклонение от текста, или просто адаптацию к композиционным схемам (Ibid. P. 72).
(обратно)613
Другими словами, опять, как почти всегда в случае с текстовым материалом, изображение, как кажется, отступает перед словом…
(обратно)614
Синдинг-Ларсен тонко отмечает, что ангелы, возносящие Крест к небесному алтарю, – наглядное выражение этой идеи (Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P. 74).
(обратно)615
Существенно представлять себе и те трансформации, что производились с исходными текстами по ходу превращения их в надписания: это могла быть и интерполяция, и даже удлинение цитаты, или ее (чаще всего) сокращение – все ради приспособления к определенному месту на стене, то есть в пространстве храма. Сокращенная цитата могла превращаться просто в набор ключевых слов, тем не менее напоминающих образованному зрителю обо всей фразе и пробуждающих в памяти соответствующий первоначальный контекст. Это еще раз заставляет задуматься о границах аналогий между словом и образом: вставленное в изображение слово – явный пришелец, напоминающий о совсем иных и инородных контекстах. Но почти в той же мере и литературная составляющая в содержании изображения оказывается гетерогенной «вставкой», своего рода обрамлением визуальной семантики. Совсем аналогичная ситуация наблюдается и во взаимодействии собственно архитектуры и ее изобразительного ornamentum’а – будь то скульптура, мозаика или витраж (тем более).
(обратно)616
Опять же с присущей ему дотошностью автор классифицирует синоптические надписания следующим образом: комбинированные с включением литургических цитат (или аллюзий), надписи, использовавшиеся не только вне литургического контекста. но и вне литургического пространства (надписи на монетах, гравюрах и т. д.) и, наконец, надписи в буквальном смысле слова нечитаемые (имитация письма древнееврейского, арабского и т.п.).
(обратно)617
Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P. 81.
(обратно)618
Отсюда и их меньшая стандартизированность по сравнению с собственно
(обратно)619
Ibid. P. 85.
(обратно)620
Особенно это касается сферы традиции, которая претерпевает известное развитие. И в этом случае на первых порах, на уровне первичной, «народной» рецепции какого-нибудь нового, а потому не литургического обычая изображения, его обслуживающие, оказываются неизбежно за пределами алтарных образов в широком смысле слова. Замечательный пример тому – культ Сердца Иисусова.
(обратно)621
Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P.86.
(обратно)622
Существуют источники, которые просто невозможно привязать к какой-либо конкретной иконографии. Можно также указать и на такие элементы иконографии, которые можно понять, только имея в виду сугубо языковой аспект иконографии, предполагающий достижение коммуникативного эффекта прежде всего (пример – индивидуальная иконография Караваджо).
(обратно)623
Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P. 88.
(обратно)624
Не в этом ли стоит искать причины того, почему тот же Зедльмайр выделяет в качестве базового элемента готического соборного пространства уже упоминавшийся балдахин? Не есть ли пространство храма вообще система недоступных непосвященному мест, вхождение в которые и их достижение возможно только соборно: литургически (совместно молящимися) и морфологически, структурно, то есть через обретение целостности, интегрированности – как частей с целым, так и целого с иными типами размерности (имеется в виду и физическая вертикаль, и онтологическая и сакральная высота)?
(обратно)625
Естественно, в этой связи вспоминаются «Зауэр и прочие», впрочем, не совсем удовлетворяющие Синдинг-Ларсена по причине недостаточного внимания к собственно Литургии и именно литургической экзегезе (Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P. 89).
(обратно)626
Ibid. P. 91. Не совсем, конечно же, обыденное определение пространства... Повседневный опыт здесь означает обращенность ко всякому наблюдателю и доступность всякому подобных установок. Пространство доступно для каждого, но дифференцировано по социальным, психологическим и прочим признакам. Кроме того, следует обозначить со всей четкостью, что подобная апелляция к повседневности призвана обосновать известную упрощенность, механичность и всю ту же «классичность» данной концепции пространства, понятого как традиционная емкость, но уже не для предметов, вещей и тел, а для отношений, которые она вмещает вполне пассивно в роли нейтрального поля деятельности, лишенного собственных активных качеств.
(обратно)627
Именно к этому типу отношений относятся все перипетии в функционировании высокого алтаря и постепенного перемещения литургической жизни на частные алтари: все эти, казалось бы, чисто богослужебные процессы сопровождаются переменами и в иконографии (в том числе, и появлением типа Andachtsbilder).
(обратно)628
С достаточной подробностью автор приводит пример: программу росписи Сан Марко в Венеции, где учитывается и соседство собора с Палаццо Дукале (Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P. 92-93).
(обратно)629
Будучи актом материальным, Причастие, кроме того, является и актом телесным, что имеет более широкий смысл. Тело не упраздняет пространство, здесь отсутствует известная дилемма «пластика и пространство», зато наличествует, несомненно, момент интериоризации, откровения внутреннего пространства, Храма души…
(обратно)630
Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P. 95.
(обратно)631
Замечательно выглядит буквальный перевод этого места: «человеческий участник» (или «участник-человек»). Это самая точная формулировка, если иметь в виду и других – не-человеческих и сверхчеловеческих участников Евхаристии.
(обратно)632
«Иконография доступности» служит проявлению Божественного присутствия или Божественной близости (достижимости) через преодоление дистанции и имеет в качестве постоянного фокусирующего момента присутствие Божества в Евхаристии. Если говорить о местоположении такого рода иконографии, то это прежде всего алтарь, алтарные своды и т. д. Остальные циклы будут тогда комплиментарными к ним, вовсе не отрицая их хотя бы по той причине, что отношение образов в алтаре и вне алтаря, равно как и вся «церковь архитектурная», – это воспроизведение отношений Церкви Земной и Церкви Небесной. (Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P. 96-97).
(обратно)633
Ibid. P. 99.
(обратно)634
Ibid.
(обратно)635
Впрочем, в первую очередь, это проблема психологическая, вопрос психологии восприятия, прежде всего зрительного, который для эпохи XI-XII веков был и вопросом религиозным, вопросом благочестия в связи с появлением и распространением почитания Тела Христова.
(обратно)636
Ср. у Зауэра символизм предметного заполнения (убранства) литургического пространства.
(обратно)637
И самый непосредственный источник для понимания этого – официальное учение Церкви о назначении и роли сакральной изобразительности как таковой, хотя, как известно, восточно– и западно-христианская традиции имеют существенные нюансы в учении о священных образах. Ссылаясь на св. Иоанна Дамаскина, Синдинг-Ларсен обращает внимание на тот момент, что для византийского богословия образа (если таковое существовало) существенным было продолжающееся освящающее присутствие Божественной благодати и в образе святого, не говоря уже об образах Христа и Богородицы, в то время как католический взгляд особо выделял момент воздания почестей Первообразу (причем именно в этом состояло учение VII Вселенского собора). Для историка искусства принципиальная проблема состоит в том, насколько официальное учение совпадало с реальной практикой почитания образов и насколько доступно было для простого человека церковное учение о священных образах. И в этом состоит еще один аспект социологии сакрального образа: благочестие и богопочитание могут давать самые разные сочетания, не всегда зависящие от строгого богословия (Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P.103-104).
(обратно)638
Синдинг-Ларсен специально оговаривается (Ibid. P. 184), что он не имеет в виду в данном случае теорию информации, понимая «сообщение» скорее как заложенное содержание, то есть как некое послание, обращение автора изображения к пользователю.
(обратно)639
Ibid. P. 105.
(обратно)640
Ibid. Мы оставляем в неизменном виде формулировки Синдинг-Ларсена, дабы показать всю степень терминологической конкретности обсуждаемой им проблематики. Мы тем самым можем понять жанр подобного рода текста, который есть крайняя степень формализации и методологизации, если так можно сказать, всей иконографической тематики.
(обратно)641
Ibid. P.106.
(обратно)642
Понятно, что это может быть и группа, община, то есть некоторое множество заинтересованных лиц. В целом, обе инстанции способны отражать всю возможную стратификацию того или иного социума в том или ином историческом состоянии.
(обратно)643
Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P. 107. Нетрудно заметить, что сциентизм нашего автора достаточно относителен и проявляется скорее в терминологии, чем в базовых принципах.
(обратно)644
Та или иная иконографическая программа могла предназначаться для частной капеллы, и тогда пользователями изображения были члены конкретного семейства заказчиков, а также близкие им люди. Непрямые же пользователи – духовенство, совершавшее богослужение в данной капелле, вкупе с теми членами клира, кто снаружи мог присутствовать и на расстоянии наблюдать за происходящим (Ibid. P. 108).
(обратно)645
Буквально – «планировщик», «плановик», «сценарист». Драматургические коннотации здесь совсем не бесполезны, ибо отражают внутреннюю сущность иконографии как некоторого представления, у которого есть и сценарист, и режисссер, и артисты. Кем оказывается в этом «методологическом театре» историк искусства-иконограф? Он и зритель, что очевидно, и исполнитель, что принципиально.
(обратно)646
Sinding-Larsen, Staale. Ibid. P. 109.
(обратно)647
«Рядовой член клира XVI века ощущал себя приглашенным к участию в происходящем в картине или ему казалось, что он исключен из изображенного на полотне?» (Ibid.). Обращаем внимание на то, что данные формулировки носят не только социальный, но и прежде всего психологический характер, что, несомненно, еще больше усложняет задачу исторической реконструкции подобных контекстов. Но отчасти это возможно, если попытаться представить себе отношение художника и заказчика, предполагая, что, во-первых, художник представляет некоторые социальные слои, во-вторых, что он вступает в социальные отношения со своими заказчиками, а в-третьих, что все эти моменты он проецирует на свои картины. Но тогда мы окажемся уже в области не столько литургической, сколько социально-психологической иконографии, имеющей дело не с общепринятыми символами, а с индивидуально-бессознательными симптомами.
(обратно)648
Но означало ли это, добавляет Синдинг-Ларсен (Ibid. P. 110), что он мог смешиваться в реальной церкви с теми, кто изображен на картине, или ему все-таки следовало стоять позади их и им подобных? На самом деле это совершенно особая проблема пространственных конфигураций ритуала и их заполнения – не только молитвенными образами и не только образами молитвы, но и молящимися, которых, несомненно, можно различать по образам их, так сказать, молитвенности.
(обратно)649
Ibid. И это, заметим мы, не столько тонкость анализа, сколько тонкость совмещения различных техник.
(обратно)650
Последняя рубрика подразумевает проблему «влияния» и т.н. перекрестного опыления разных источников (Ibid. P. 111).
(обратно)651
Ibid. P. 112. Говоря по-другому, за некоторым произведением располагается, одновременно как бы сопровождая его в качестве особой «окружающей среды», целая система коннотаций, то есть возможных альтернативных решений или просто вариантов. И эта «оболочка» делает произведение более, так сказать, пространственным, многомерным по смыслу, позволяя его и определенным образом оценивать, так как предпочтение одной альтернативы другой предполагает выбор и его мотивировку. Можно также добавить, что, собственно говоря, такое явление, как иконографический тип, прекрасно подходит под это описание, а равным образом и всякая типология, особенно архитектурная.
(обратно)652
То есть экспериментом является любой процесс создания чего-либо по той причине, что, во-первых, устанавливается круг желаемых результатов, а во-вторых, предпринимаются целенаправленные усилия, ведется поиск средств их достижения. При том, что в процессе, по ходу реализации возникают непредусмотренные дополнительные эффекты, влияющие на эффекты конечные. Существенно, что все это справедливо и для научного дискурса, когда важно само течение исследовательской мысли, движение когнитивных усилий, напряжение понимания.
(обратно)653
Здесь следует упомянуть и сугубо экономический аспект заказа, имея в виду под экономикой все материальные параметры и замысла, и его исполнения. Но если под экономическими отношениями понимать всякие отношения обмена, инвестирования и прибыли, дохода, то в этом случае даже внимание со стороны зрителя можно рассматривать как экономический момент (прибыль, доход от вложенного капитала, того же труда художника). Синдинг-Ларсен особо оговаривает иррелевантность этому кругу проблем того, что на языке христианского богословия именуется «экономикой спасения» (в православной традиции греческая «икономия» переводится, между прочим, как «домостроительство»). Некоторые экономические вопросы, тем не менее, имеют и идеологический аспект, а некоторые чисто художественные решения могут получить материальное продолжение. Например, Борромини в какой-то момент вводит в своих проектах в интерьеры вместо полихромии чисто белые оштукатуренные стены, и это, с одной стороны, означало для заказчиков возможность сэкономить на красках (и снизить оплату услуг того же архитектора), а с другой – необычность этого решения, непривычного для тогдашнего Рима, могла привлечь большее количество посетителей в ту же церковь Сан Карло и увеличить ее доход (Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P. 115). См. также: Головин, В.П. Мир художника раннего Возрождения. М., 2002.
(обратно)654
Не стоит забывать и «экономическую модель» психоаналитической герменевтики, построенной, как известно, на учете «вкладов», инвестиций душевной (в частности либидозной) энергии в те или иные образы и представления. Психоаналитические теории архитектуры представлены, в частности, в след. работах: Pile, Steve. Te Body and the City: Psychoanalysis, Space and Subjectivity. New York, 1996; Hendrix, John Shannon. Architecture and Psychoanalysis. New York, 2006. Относительно последней работы следует иметь в виду ее ориентированность на психоанализ лакановский.
(обратно)655
Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P. 116.
(обратно)656
Проблема усугубляется и необходимостью передавать знание, то есть задачей преподавания и обучения. Несомненно, возникает целая система псевдоавторитетных конвенций, своего рода «эпистемологический канон» (это уже наше выражение), дающих в результате особую «иконографию» уже научно-художественного дискурса.
(обратно)657
Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P. 116.
(обратно)658
Синдинг-Ларсен со свойственной ему педантичностью оговаривает невозможность выражения «Небесная Месса», так как слово «месса» относится к богослужению земному и связанному с воспоминанием Тайной Вечери и Таинством Пресуществления Св. Даров (Ibid. P. 185). Но однако, он не оговаривает и возможный визионерский характер данной иконографической ситуации.
(обратно)659
Ibid. P. 117. Заметим сразу, что мы в данном случае несколько перефразируем и расширяем рассуждения Синдинг-Ларсена, который, по неизвестным для нас причинам, тщательно избегает столь очевидного в данном случае феноменологического методологического контекста, хотя слово «интенция» нередко выручает его в собственных рассуждениях. Впрочем, у нас еще будет повод подробнее обсудить эту проблему.
(обратно)660
Ibid. P. 118. Понятно, что вышеприведенный вариант имеет несколько отвлеченный – теоретический – характер, и не случайно у нашего автора не находится конкретных примеров для его иллюстрации. Можно, между прочим, предположить, что такого рода рассуждения способны стать основой для еще не выработанной иконографии, будучи, таким образом, «программными» в буквальном смысле этого слова. Об этом чуть выше говорит и сам Синдинг-Ларсен, напоминая, что за каждой программой стоит определенная теория, то есть набор представлений и мнений, предназначенных для выражения.
(обратно)661
Ibid. Синдинг-Ларсен именует подобную деталь (чашу) «Евхаристическим монстранцем» из многочисленных сцен Коронования Девы Марии, вновь и вновь упоминая тему «присутствия» Божества.
(обратно)662
Приводится пример типологии Salvator mundi, где появление земной сферы в руках Спасителя вовсе не следует трактовать как «гуманизацию» образа Христа в эпоху Ренессанса хотя бы потому, что эта сфера имеет собственную иконографическую историю и в предыдущие эпохи (Ibid. P. 119). Более того, надо следить, чтобы пересечение иконографических типов как типов морфологических (то есть визуально-пластических) не давало автоматически и пересечение, а тем более подмену, типологий тематических (идеологическая сфера тоже имеет свои устойчивые паттерны, которые не следует смешивать с паттернами изобразительными).
(обратно)663
С точки зрения даже самой повседневной ангелологии понятно, что крылья ангелам не нужны, например, для передвижения. Ангелы не птицы. Их крылья – символы неотмирности, инаковости этих созданий. И подобно им, типы не обязательно должны отягощаться атрибутикой (Idid. P.120).
(обратно)664
При этом не следует пытаться описать подобную ситуацию в ее «тотальности», то есть исчерпывающе, хотя бы потому, что ситуация происхождения явления не отвечает всему явлению во всех его аспектах и особенностях, иначе говоря, как системе (Ibid. P. 123). Можно использовать понятие «контекст», которое, однако, не имеет столь выраженный социальный и антропологический смысл. Соответственно, вооружившись социологическим подходом, не стоит надеяться и на историческую реконструкцию в силу невозможности точного восстановления интересов и мотиваций всех тех социальных групп, которые в ситуации участвуют. О понятии и феномене «ситуации» как необсуждаемых в данный момент условиях поведения см.: Хюбнер К. Истина мифа. Пер. с нем. Ю. Касавина. М., 1996. С. 92-93.
(обратно)665
Ibid. P. 123-124. Но, добавим мы, это только подчеркивает имманентную законосообразность иконографических и вообще художественных процессов: раз возникшее, пусть и случайное с точки зрения общеобязательного смысла, явление оставляет след и память внутри сугубо художественной действительности, которая совсем не обязана соотноситься с действительностью исторической, политической и прочей.
(обратно)666
Ibid.: «Одна картина не может влиять на другую или превращаться в нее по ходу развития».
(обратно)667
Ibid. P. 125. За этим стоит и другого рода вопрошание: что за изменения в литургической жизни и религиозной практике связаны с «не такой уж и неестественной идеей изобразить Распятого Христа мертвым»?
(обратно)668
Ibid.
(обратно)669
Ibid.
(обратно)670
Для Синдинг-Ларсена неприемлемо, например, утверждение, что история – это опрокинутая в прошлое цепь причин и следствий (Ibid. P. 126).
(обратно)671
Ibid. P. 127.
(обратно)672
В данной связи подвергается критике Х. Бельтинг, увидевший противоречия в иконографической программе данного памятника. На самом же деле и проповедь, и административное управление орденом, и служение Литургии – все это разные «функциональные уровни», между которыми нет прямого соответствия, но которые – нравится это или нет – объединены единой организацией (Ibid. P. 129).
(обратно)673
Ibid. P. 130. Далее мы почти дословно воспроизводим формулировки Синдинг-Ларсена.
(обратно)674
Ibid. P. 131. Синдинг-Ларсен указывает на то, что осознание в науке важности исследования ритуальных структур мышления, восприятия, межличностного общения приходит вместе с открытием в современной литературе роли ритуала (упоминаются имена Ионеско и Эллиота).
(обратно)675
Ibid.
(обратно)676
Скрытый выпад в адрес все той же и вновь не называемой – иконологии.
(обратно)677
Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P. 132.
(обратно)678
Или даже «ритуальные убеждения».
(обратно)679
Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P. 132. Концовка данной фразы выдает, несомненно, в ее авторе все-таки или не полную воцерковленность, или не полную вовлеченность в обсуждаемую тему (а может быть, просто желание казаться объективным). Мы еще постараемся обсудить тенденции и цели подобной тотальной ритуализации материала.
(обратно)680
Ibid. P. 132. Обращаем внимание на классически выверенный научный стиль дефиниций Синдинг-Ларсена.
(обратно)681
Ibid. P. 133. В этом месте текста Синдинг-Ларсена особенно заметной становится ограниченность как его литургической концепции вообще, так и Евхаристического богословия как такового. Этого богословия у него просто нет, и потому нет ни богословия Тайной Вечери, ни богословия Голгофы, ни богословия Воскресения, то есть всего того, на чем содержательно – и пространственно, и темпорально – построено христианское богослужение в его конкретной и уникальной специфике, не уловимой никакой религиоведческой компаративистикой, ограничивающей свои возможности общими – даже не авраамическими – понятиями теофании и Богоприсутствия. Христианское богослужение лишь в своем протестантском варианте может хоть как-то соотносится с мистериально и сакраментально редуцированными богослужебными практиками иудаизма и мусульманства. Опять мы должны признаться, что литургическое и храмовое богословие остается за пределами основных проблем нашей книги.
(обратно)682
Ibid. P. 134. Синдинг-Ларсен особо подчеркивает специфику христианской «сакраментальной системы», основанной на известном принципе «ex opere operato», имеющей буквально «операциональный» характер и предполагающей самооткровение Божества в канонически верно совершенном таинстве, которое вместе со своими участниками представляет собой инструмент действия Божественной благодати, что не исключает в качестве условия ее восприятия удовлетворительное духовное состояние «получателя» (Ibid. P. 187-188). Иначе говоря, милость Божия допускает несовершенство в совершителях таинства, но предполагает стремление к совершенству в его получателях (хотя различение священства и народа не представляется вполне корректным). Действительность таинства не ведет к его автоматической действенности.
(обратно)683
Ibid. P. 134-135.
(обратно)684
Ibid. P. 137.
(обратно)685
Ibid. P. 138. Хотя начало этого процесса, напомним, эмоционального порядка. Другими словами, реальное и сакральное место и столь же реальный, сколько и виртуальный образ пространства превращают простое высказывание в целый набор «обстоятельств» – как места, так и образа действия, если выражаться грамматически и синтаксически. И эти обстоятельства суть и условия, и события всего того же литургически-иконографического процесса.
(обратно)686
Ibid. Связь ритуала с ценностными системами можно наблюдать в стремлении или достичь некоторых целей, или обрести некий конечный продукт. А с другой стороны, ценностным моментом обладает самое совершение ритуала, участие в процессе, который обеспечивается всякого рода установками и атрибутами, утверждающими связь общины с окружающим миром на самых разных уровнях (Ibid.).
(обратно)687
Ibid. «На практике они пересекаются в качестве различных религиозных систем». А «различные символические системы» присутствуют и в мифе, и в обряде.
(обратно)688
Ibid. P. 139.
(обратно)689
Ibid. P. 143. Известная повторяемость порядка изложения, свойственная обсуждаемому тексту, заставляет находить в нем некоторые элементы все того же ритуала, что практически неизбежно, так как данный текст есть, несомненно, продукт взаимодействия двух вполне ритуализированных дискурсов – иконографического и научного. Не случайно и сама дисциплина именуется по своему предмету «иконографией»!
(обратно)690
Ibid. P. 143-145. Можно говорить об «архетипическом» способе предсуществования иконографии в качестве своего рода скрытого тезауруса образов и схем вне конкретного их «воплощения», что, как очевидно, вопроизводит фундаментальные отношения образа к прообразу или прототипу. Литургия, согласно Синдинг-Ларсену, предлагает несколько «модусов отношений» к прототипам. 1) воссоздание, как бы повторное введение в действие первоначального «Божественного деяния» (например, Месса как memoria passionis); 2) отношение «контрапункта» или интерференции между Небесной и земной Литургией; 3) трансцендентное присутствие Св. Троицы; 4) участие Христа как Первосвященника в Евхаристическом жертвоприношении; 5) подтверждение вхождения во Вселенскую Церковь; 6) imitatio Christi со стороны человека; 7) отказ от личного Я («деперсонализация»). Ibid. P. 188-189. Еще раз обратим внимание: насколько подобная теория ритуально-иконографического символизма отличается от символизма варбургианской иконологии, для которой сакральный символ автономен и внечеловечен, тогда как здесь его предсуществование возможно только внутри ритуала, пусть и трансцендентного, но, тем не менее, упорядоченного и потому не враждебного, а благого.
(обратно)691
Ibid. P. 145.
(обратно)692
Ibid. P. 146. Нетрудно заметить, что в данных пассажах Синдинг-Ларсен описывает методологические трудности науки как своего рода невротическую симптоматику и потому – в понятиях психоанализа (повторы и ритуализация как признаки обсессивных нарушений).
(обратно)693
А мы добавим, пока в качестве предварительного наблюдения, что и использование наглядных моделей-образов, и воспроизведение чужих образов и пользование ими – все это, несомненно, с точки зрения метода напоминает… все ту же иконографию.
(обратно)694
Так что эта «иконография» еще и изобразительна и схематична. Процесс же решения научных проблем представляет собой замену исходного проблемного пространства на пространство абстрактное, из которого удалены отдельные детали и оставлен лишь «сущностный каркас», который тем самым становится более зримым. Явное описание иконографической даже не методологии, а скорее поэтики.
(обратно)695
Пример ложного усложнения, «мультипликации проблемы» – это случай отказа в Средние века от арабских цифр, содержащих цифру 0, которая есть пустота и потому имеет дьявольское происхождение (Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P. 146). Подлинная методология преодолевает подобную нумерологию, находя в пустоте скорее незаполненность смыслом. Последующее – и заключительное – изложение уже чистой теории и методологии сродни заполнению тех пустот, которые всегда остаются даже при самом тщательном описательном, а значит, предварительном подходе.
(обратно)696
Ibid. P. 147.
(обратно)697
Аллегорически, как подчеркивает автор, этот эффект именуется «кибернетическим».
(обратно)698
Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P. 148. Синдинг-Ларсен упоминает в этой связи (Ibid. P. 190), между прочим, А. Моля, отмечая одновременно, что семиология в случае с визуальными искусствами, к сожалению, обычно «сползает в своего рода псевдотехнологический позитивизм», пример чему – тот же У. Эко и его «Теория семиотики» (1977).
(обратно)699
Ibid. P. 148 (последнее выражение принадлежит Э. Малю). Обратим внимание, что эта тройная рубрикация (знаковая система, язык, письмо) соответствует содержанию и нашей книги. Действительно, трудно придумать нечто принципиальное новое, но еще труднее разобраться, что имел в виду (знак, слово, иероглиф) автор той или иной теории…
(обратно)700
Ibid. Основа подобного изложения – книга Эдмунда Лича «Культура и коммуникация» (1976). Русск. пер.: М., 2006.
(обратно)701
Следует обратить внимание, что основанием выделения той или иной модальности является та или иная форма перцепции, за которой, соответственно, стоят известные паттерны (гештальты, схемы), выявляющие в конце концов интенциональную природу всякого человеческого (но не сверхчеловеческого!) опыта. Еще раз – и снова в предварительном виде – обращаем внимание на дофеноменологический характер концептуальных построений Синдинг-Ларсена, остающегося тем самым на пороге перехода от иконографии к герменевтике.
(обратно)702
Пример со змеей из библейского повествования о грехопадении как раз доказывает, что если отсутствует внутренняя связь между зоологическим значением змеи и концепцией зла, то этого не скажешь о культурно-религиозном значении. Невозможно, говорит Синдинг-Ларсен, представить на месте змеи зебру или гуся, потому что именно это пресмыкающееся ядовито и ползает на брюхе (Iconography and Ritual… P. 148). Другимим словами, если даже не брать в качестве первичного источника библейский текст, то все равно точка опоры ищется во внеположенных образу сферах, в данном случае – в культурно-религиозной традиции. Это еще один довод в пользу иконографичности разбираемой теории.
(обратно)703
Ibid. P. 150.
(обратно)704
Ibid. P. 150-151. Следует, впрочем, уточнить, что с иконографией желательно все-таки сравнивать не язык, а речь, то есть пользование языком.
(обратно)705
Ibid. P. 152.
(обратно)706
Ibid. P. 191.
(обратно)707
Ibid. P. 152. Совершенно очевидно, что для Синдинг-Ларсена пространство преднаходимо по отношению к фигурам, которые, таким образом, представляются его (пространства) заполнением. Но это только одна из теорий пространства, и то, что в разбираемом тексте данный концепт принимается аксиоматически, лишний раз доказывает его именно иконографическую принадлежность, связанную с классическим, эвклидовым взглядом на мир и на вещи в нем… Как ни называть те гуманитарные подходы, что связаны с появлением, так сказать, неэвклидовой теории восприятия, все равно остается фактом принципиальная перемена и в восприятии материала истории искусства. О «неэвклидовой» методологии упоминает Зедльмайр в своей ранней книге об австрийском барокко: Sedlmayr, H. Österreichische Barockarchitektur. 1690-1740. Wien, 1930.
(обратно)708
Обращаем внимание, что незаметно понятие иконографии заменило понятие изображения, изобразительной системы. В этом есть свой резон: любое изображение – это только описание визуальных образов с помощью тех или иных технических средств, то есть медиумов. Поэтому, строго говоря, Синдинг-Ларсен должен сравнивать со словами не иконографические «признаки», фигуры, жесты, атрибуты и т. д., а технические средства их наглядной фиксации (линии, пятна и т. д.). Проблема состоит в том, что слово и, например, линия не сопоставимы по причине разной степени изобразительности, и тогда стоит признать, что иконография действительно оперирует готовыми изобразительными элементами (о них наш автор говорит в главе о типологии, вводя здесь, в разговоре о методологии, когнитивный эквивалент «типу» – понятие «признак»). Но где «типос», там и «топос», опять же в когнитивном значении слова, от которого, впрочем, невозможно совсем отделять и значение риторическое. Каждой визуальной типологии (это уровень зрителя, пользователя, которым может быть и заказчик, и сам художник) соответствует визуальная топология (уровень исполнителя, уровень инструментального репертуара, взятого из до-художественной сферы перцепции, если не апперцепции).
(обратно)709
Не без самоиронии Синдинг-Ларсен замечает, что его собственные словесные описания – это «слишком слабые примеры» (Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P. 153).
(обратно)710
Ibid. Обращаем внимание на некоторые скрытые условия исполнения вышеизложенного уже концептуального «действия» (игры, если не розыгрыша). Во-первых, не случайно речь идет об изображении действия, которое трудно остановить, прервать, зафиксировать с помощью дискретных средств без потери «потока», самого действия, ибо оно процессуально, «векторно», а не «скалярно», если пользоваться терминами нашего автора. Как словесный, так и визуальный образ – это на самом деле только образ, подобие, намек на континуальность любого рода. Непрерывность, утраченная в процессе произнесения слова или написания изображения, восстанавливается посредством другого процесса – восприятия образа зрителем, который переносит его из пространства внешнего в пространство внутреннее, транспонирует образ и соотносит его с собственными ментальными и перцептивными структурами, схемами и т. д., которые мыслятся и переживаются непрерывными не столько когнитивно, сколько экзистенциально, когда непрерывность опыта интерпретируется (или символизируется) как устойчивость внутреннего мира и жизненного горизонта. Во-вторых, континуальность словесного материала вполне возможна, но на следующем уровне – на уровне текста, особенно художественного, то есть специально, целенаправленно, через собственное построение, через развертывание своей структуры преследующего некоторые эффекты воздействия на пользователя. И тогда, в-третьих, неопределенность, амбивалентность словесного потока может рассматриваться именно как признак литературы, «эстетического сообщения», с которым, строго говоря, только и можно сравнивать иконографию как несомненно художественную деятельность. Еще раз повторим, что отсутствие подобных концептуальных коннотаций в тексте Синдинг-Ларсена не есть недостаток, а просто признак иной теоретической ориентации, на уровне искусствоведческой дисциплины проявляющейся в иконографической методологии.
(обратно)711
Cм.: Browe, Peter, S.J. Die eucharistischen Wunder des Mittelalters. Breslau, 1938.
(обратно)712
Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P. 155. Случай уничтожения или порчи образа, который тем самым, согласно народным верованиям, переставал быть священным, имеет смысл не тот, что исчезает «объект», заполняемый «силою», а что утрачиваются «признаки присутствия прототипа».
(обратно)713
Dahl, Ellert. Heavenly Images: Te Statue of St. Foy of Conques and the Signifcation of the Medieval Cult Image in the West // Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia 3 (1978):175-191. Между прочим, в настоящее время о. Э. Даль – генеральный викарий Католической церкви Норвегии.
(обратно)714
Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P. 156.
(обратно)715
Если только это не «модальность» грамматологии. См. в связи с фрейдовской герменевтикой: «В Traumdeutung метафорическая машина еще не сжилась с аналогией письма, которая уже управляет <…> всеми описательными изложениями Фрейда. Пока же это оптическая машина» (Деррида, Ж. Письмо и различие. Пер. с фр. Д.Ю. Кралечкина. М., 2000. С. 345).
(обратно)716
Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P. 156.
(обратно)717
Ibid.
(обратно)718
Ibid. P. 157.
(обратно)719
Ibid.
(обратно)720
Ibid. P. 158.
(обратно)721
Ibid.
(обратно)722
Ibid. P. 161.
(обратно)723
Ibid. P. 162. Можно сказать и так: в иконографии присутствуют такие основополагающие мотивы (в первую очередь касающиеся воспроизведения литургического Богоприсутствия), которые отражают одновременно и самые фундаментальные требования к литургической иконографии со стороны самых основных ее пользователей, то есть священнослужителей, клириков, представителей и членов Церкви. Но суть дела состоит в том, что они же являются и предметом, объектом иконографии, из чего следует, что в самой литургической иконографии, в той самой «трехчастной схеме» заложены и весь диапазон способов обращения с иконографическим материалом, в том числе и его изучение, научное описание, которое, как выясняется, тоже обладает немалыми признаками иконографичности. Еще проще можно сказать так: Христос-Первосвященник Сам следит через свою Церковь за использованием священных образов, в том числе и в виде иконографий – изобразительных и исследовательских. Если же прибегать к самому элементарному и лапидарному языку (той же Церкви), то следует сказать, что Благодать Божия действует повсюду и без нее не обходится даже наука, если она занимается плодами Благодати. Главное, чтобы она это осознавала.
(обратно)724
Ibid.
(обратно)725
Ibid. P. 164.
(обратно)726
Ibid.
(обратно)727
Ibid. P. 194.
(обратно)728
Ibid. P. 165.
(обратно)729
Ibid. P. 167-168.
(обратно)730
Ibid. P. 169. На этом знамени – гербы Борджа и Пезаро. Это знамя – воинское и как таковое могло быть одним из шести главных знамен Венецианской республики, которые в качестве символического дара украшали алтарь Сан Марко, которые использовались при церемонии принятии присяги новоизбранным папой как знак папской инвеституры и которые выносились при разных государственных шествиях. Это то самое легендарное «папское» знамя, дарованное городу Александром III (XII в.) как награда за поддержку папства. Это знамя папы, это знамя папы Александра VI, это знамя папского генерала и это знамя победы христианства. Один истинный иконографический признак оказывается эпицентром активизации целой системы символических контекстов, камнем, брошенным в латентно значащую среду и породившим целую систему иконографических концентрических кругов, стремящихся, подобно всякой волне, к бесконечному расширению. Проблема состоит в том, что она может достичь и того наблюдателя, который стоит на берегу и, как ему кажется, остается «сухим» и не промочил ног…
(обратно)731
Ibid. P. 170. И если мы сконцентрируем наше аналитическое внимание на том обстоятельстве, что это именно знамя, то есть нечто носимое и приносимое, нечто такое, что берут в руки и переживают как некое бремя и одновременно награду, то тогда только мы сможем прорваться сквозь стену сугубого иконографизма, чтобы выйти на простор, например, визуальной антропологии, которую, конечно же, следует понимать герменевтически. Напоминаем в очередной раз, что Синдинг-Ларсен подобного прорыва делать не собирается, вполне удовлетворяясь значением, а не смыслом.
(обратно)732
Ibid. См. далее: «Живопись способна пробудить в нем интуитивное чувство особой реальности: она служит подкреплению интуитивно сконструированного значения или – поверх среднего уровня индивидуального понимания – усилению систематически усвоенных значимых структур».
(обратно)733
Ibid. Другими словами, биография художника, даже с учетом его заказчиков, покровителей и проч., не покрывает всю полноту социальной активности личности, занятой по преимуществу именно порождением и приписыванием («атрибуцией») значений.
(обратно)734
Роль, сценарий, представление, участник, зритель и т. д. – подобные понятия, несомненно, выдают одну-единственную парадигму, известную нам еще благодаря Э. Малю и остающуюся пусть и латентной, но весьма устойчивой при любых дополнительных концептуальных и прочих контекстах: богослужение, храмовое действо сродни театральному действию. Корень этого воззрения – в восприятии происходящего внутри храма и во время Литургии со стороны, в виде зрелища. Это еще один повод для расширения иконографического метода.
(обратно)735
Sinding-Larsen, Staale. Iconography and Ritual… P. 171. Иначе говоря, иконография в перспективе своего проекта, программы есть не что иное как все та же модель участия, но уже в проекте, где перспективно учтено место и роль последующих пользователей, которые могут быть аналитиками и потому, двигаясь ретроспективно к началу проекта, способны стать его со-авторами и по праву развивать его и вперед. Напомним, что подобные отношения с исследуемым материалом возможны исключительно при условии ритуально-литургического участия в нем. Сам Синдинг-Ларсен чуть ниже скажет об этом с исчерпывающей недвусмысленностью.
(обратно)736
Ibid. Нетрудно заметить, что подобный перечень участников «ситуации» оказывается воспроизведением содержания книги, то есть это и есть заявленные «иконография и ритуал». Можно сказать, что литургически-иконографический процесс – это ситуация, в которую можно попасть или которой можно избежать. Но только в случае «попадания» в нее возникают права и средства ее и описания, и анализа. Видимо, в этом состоит основной пафос предлагаемой нам методологии.
(обратно)737
Ibid.
(обратно)738
Ibid. P. 173.
(обратно)739
Ibid. Обращаем внимание, что «интерес», действующий как спусковой механизм, сам по себе внекогнитивен и предполагает непосредственную реакцию, прежде всего, на сигналы-импульсы. Поэтому и поведение интерпретатора предваряет его вéдение.
(обратно)740
Реальное архитектурное пространство способно соперничать с пространством написанным, как это наблюдается в той же «Мадонне Пезаро», где обыгрываются и соответствия между колоннами храма и картины, и противоречие в направлении осей реального нефа и алтаря картины, что могло породить кратковременную дезориентацию зрителя: ему пришлось бы выбирать между двумя реальностями, между земной и Небесной Литургией, дабы избежать подобного пространственно-визуального оксюморона. Когнитивная ситуация предполагала своего рода «визуальный скачок», необходимый для выяснения: что, с кем и где происходит. И собственно архитектура исполняет роль «барьера» между двумя «сценами» (Ibid. P. 177). Добавим, что ситуация при этом совершенно не выглядит театральной, так как не хватает зрительного зала, да и самого зрителя: уклониться от выбора и участия практически невозможно, так как барьер для того и существует, чтобы вытеснить, упразднить промежуточное положение. Место посередине занято архитектурным телом, но выступающим как поверхность, за которой скрывается глубина…
(обратно)741
См. более подробное обсуждение проблемы «иконографической двухмерности» в предлагаемой ниже «Ретроспективе».
(обратно)742
См., например, рубрикацию нашей библиографии.
(обратно)743
Стоит еще раз вспомнить, что иконография как вспомогательная дисциплина в рамках исторической науки складывалась в контексте именно культурно-исторического метода, сомнения в котором породили формально-стилистический взгляд на вещи и способствовали относительному упадку как иконографии, так и самого смыслового подхода.
(обратно)744
На самом деле это, конечно же, воплощение описательного метода как такового. См.: Rosenberg, R. Von der Ekphrasis zur wissenschaflichen Bildbeschreibung: Vasari, Agucchi, Filibien, Burckhardt // Zeitschrif für Kunstgeschichte. 1995. 58, 3. S. 297-318.
(обратно)745
Webb, R. Te Aesthetic of Sacred Space: Narrative, Metaphor and Motion in Ekphrasis of Church Buildings // Dumbarton Oaks Papers. 1999. No 53. P. 59-74. Автор благодарит Е.А. Ванеян за предоставленный перевод. У этого текста есть давний, но вполне актуальный в своей классичности исток: Wulf, O. Das Raumerlebnis des Naos im Spiegel der Ekphrasis // Byzantinische Zeitschrif, 1929-1930, XXX, 531-539. Нельзя не упомянуть и совершенно недавний труд: Arnulf, Arwed. Architektur– und Kunstbeschreibungen von der Antike bis zum 16. Jahrhundert. Berlin, 2004 (см. отдельную главу, посвященную описаниям Храма Гроба Господня: S. 137-351). См. таже: Соловьев С.В. Слава Рима глазами византийца. Искусство Христианского Мира. Вып. 5. М., 2001. С. 126-135; Его же. Экфрасис священного места. Образ Рима (Вечного Города) в эпоху Раннего Возрождения // Искусство Христианского Мира. Вып. 6. М., 2002. С. 238-246.
(обратно)746
Webb, R. Te Aesthetic of Sacred Space… P. 59.
(обратно)747
Речь идет, прежде всего, об описании константинопольских построек. Их авторы – Прокопий Кесарийский и Павел Селенциарий (VI в.), а также Михаил Диакон (XI в.), описавшие Св. Софию, и Константин Родосский (X в.), а также Николай Месарит (XII в.), оставившие описания Церкви Св. Апостолов.
(обратно)748
Webb, R. Te Aesthetic of Sacred Space… P. 62.
(обратно)749
Ibid. P. 63.
(обратно)750
Ibid. P. 64.
(обратно)751
Ibid. P. 66.
(обратно)752
Ibid. P. 67.
(обратно)753
Авторы экфрасисов, дабы подчеркнуть способность самого здания воздействовать на присутствующих в нем, приписывают ему соответствующие физические свойства: подвижность, текучесть архитектурных форм связана, в частности, с природой золота, которое способно быть жидким и стекать по капле (Михаил Диакон), а также воздействовать на глаза, увеличивая количество влаги в них (патриарх Фотий). Ibid. P. 69.
(обратно)754
Ibid. P. 72.
(обратно)755
Ibid. P. 74.
(обратно)756
При всем сожалении, мы не касаемся традиции отечественной церковной археологии, где, как мы уверены, сокрыты сокровища необычайные, – хотя бы по причине неразрывного единства этой традиции с мировым церковно-археологическим опытом. Но если мы когда-либо отважимся на написание истории интерпретирующего метода в отечественном архитектуроведении, то начать мы будем обязаны с трудов в том числе, Н.В. Покровского (Очерки памятников христианского искусства. М., 1910), Н.П. Кондакова (Византийские церкви и памятники Константинополя. М., 2006), А.П. Голубцова (Места молитвенных собраний христиан I–III веков. Сергиев Посад, 1898).
(обратно)757
Иконография архитектуры. Сборник научных трудов под общей редакцией А.Л. Баталова. М., 1990.
(обратно)758
Тем более странно выглядит, например, заявление, что «применительно к архитектуре эту тему (иконографии – С.В.) практически не исследовали» (М.В. Нащокина. Иконография архитектуры европейского модерна // Она же. Наедине с музой архитектурной истории. М., 2008. С. 196). Кажется, иногда полезно бывает оставаться наедине и с музой архитектурной историографии.
(обратно)759
Иконография архитектуры. С. 3.
(обратно)760
Там же. С. 4.
(обратно)761
Мы можем предложить уже сейчас такой довольно удобный классифицирующий прием, связанный с удачным выражением «знак мастера» применительно к архитектурной форме (структуре). Следует предположить, что знак творца – это и знак творения (творчества), которое обязательно вписывается в соответствующие смысловые структуры как осмысленная человеческая деятельность, как «знак» и признак участия в той или иной ситуации (социальной, духовной, исторической). Поэтому можно говорить о «смысле порождающем» (замысел), «смысле производящем» (сам акт творчества в его мотивационной структуре) и «смысле воздействующем» (усвоение готового произведения и всего, что за ним стоит и в нем удерживается – символически и художественно).
(обратно)762
Этот ряд венчает (но не завершает) книга: Баталов А.Л. Московское каменное зодчествово конца XVI века. Проблема художественного мышления эпохи. М., 1996 (особенно Глава V «Архитектурная программа и символическое мышление эпохи»). Мы не случайно употребляем слово «родственный», вполне сознательно желая подчеркнуть генетический аспект нашего подхода: любой исследовательский текст это все тот же «знак мастера», вбирающий в себя все интенциональное и, соответственно, смысловое пространство данного исследователя. Между прочим, полезно сравнить и раннюю – более традиционную, типично типологическую, то есть «доиконографическую» – заметку: Баталов А.Л. Четыре памятника архитектуры Москвы конца XVI века // Архитектурное наследство. № 32. М., 1984. С. 47-53. А непосредственным предуведомлением к теме «иконография архитектуры» следует назвать: Баталов А.Л., Вятчанина Т.Н. Об идейном значении интерпретации иерусалимского образца в русской архитектуре XVI-XVII веков // Архитектурное наследство. № 36. М., 1988. С. 22-42. Уже здесь мы встречаем программную формулирвку, определяющую способ изучения «связи архитектуры и идеологии»: «Архитектура храма в Иерусалиме, тесно связанная с особо значимыми для христиан реликвиями, имела значение важнейшего иконографического источика, ставшего своеобразным “первообразом”…» (там же. С. 22). Показательна и ссылка на таких авторов как Р. Краутхаймер, А.Н. Грабар и Э. Болдуин Смит. В качестве резюме присутствует и принципиальный постулат об аналогичности архитектуры и иконы («памятники, связанные с иерусалимскими святынями, можно уподобить своеобразным архитектурным иконам, а их эволюцию сопоставить с развитием иконописи – от более духовного, сущностного отображения “первообраза” к более описательному, приземленному» (Там же. С. 42).
(обратно)763
Иконография архитектуры. С. 15.
(обратно)764
Там же. С. 16.
(обратно)765
См. первую часть данной книги, а также: Ванеян С.С. Симвология, иконография и археология сакральной архитектуры. М., 2006.
(обратно)766
Иконография архитектуры…. С. 16.
(обратно)767
Это, конечно же, не совсем так: и католическое искусство обладает изрядной долей иррациональности, и иконологию нельзя определять как «раскрытие аллегории, а не символа» (Там же).
(обратно)768
Там же. С. 17.
(обратно)769
Там же. С. 18.
(обратно)770
Ср. более детальное обсуждение истории раннего строительства Собора: Баталов А.Л. О ранней истории Собора Покрова на Рву и обретении «лишнего» престола // Сакральная топография средневекового города. М., 1998. С. 51-63; Он же. К вопросу о первой церкви Троицы на Рву // Искусство Христианского мира. Сборник статей. Вып. 4. М., 2000. С. 76-81.
(обратно)771
Иконография архитектуры... С. 24-25.
(обратно)772
Более подробная формулировка темы символического мышления см.: Баталов А.Л. К проблеме структуры архитектурного образа в православном зодчестве // Архитектура и культура. Сборник материалов Всесоюзной научной конференции ВНИИТАГ. Часть II. М., 1990. С. 46-50.
(обратно)773
Иконография архитектуры... С. 26. Ср. дальнейшее расширение понятия «сознание» в область идеологии: Баталов А.Л. Гроб Господень в замысле «Святая святых» Бориса Годунова // Иерусалим в русской культуре. М., 1994. С. 154-173. В этом случае можно говорить, например, и о «самосознании официальной Москвы» (Там же. С. 155) как носителе идеологии и источнике замысла (в том числе и иконографического).
(обратно)774
Ср. совсем недавнюю формулировку: «Символическая образность, содержащаяся в чинопоследовании Литургии, не нуждалась в изобразительной конкретности» (Баталов, А.Л. Иерусалимский образец в древнерусской архитектуре. От символической образности к изображению сакрального пространства // Новые Иерусалимы. Перенесение сакрального пространства в христианской культуре. М., 2006. С. 124).
(обратно)775
Иконография архитектуры... С. 27.
(обратно)776
Проблеме многопрестольности и мышления посвящена отдельная статья Баталова: Идея многопрестольности в московском каменном зодчестве середины-второй половины XVI века // Русское искусство Позднего средневековья. Образ и смысл. М., 1992. С. 103-141. Ср. там же касательно все той же многопредельности: «семантическая основа [многопредельных храмов] показывает, что зодчество было охвачено общими для религиозного искусства тенденциям и подвергалось общим для того времени изменениям в видении символического образа <…>. Появление многопредельных композиций определено не имманентным развитием церковной деревянной архитектуры <…>, а сложением в московской духовной среде повествовательной “многословной” экзегетики символических образов и явлений Божественного промысла…» (Там же. С. 129-130; выделено нами – С.В.). И далее: «Появление нового типа в архитектурной иконографии происходит не вследствие “накопления” новационных приемов, а в результате внешнего импульса, в том числе и программы заказчика» (Там же. С. 131). Фактически речь идет о том, что источник содержания всякого религиозного изображения (и сооружения) заключен в способе (образе) созерцания символического образа, присущего той или иной духовной среде. И этот источник – внешний (трансцедентный) по отношению к архитектуре, и он проявляет себя в форме замысла-заказа. Это одновременно и иконографические, и иконологические формулировки: если источник внешний – это иконография, если источник – ментальные (духовные) процессы, то это уже иконология. На самом деле, это двойственность всякого содержания. Можно сказать так: смысл – в замысле, значение – в назначении. И одно восполняет и подразумевает другое.
(обратно)777
Обетное сроительство может обладать и своеобразным экзистенциально-литургическим смыслом. См.: Баталов А.Л. Моление о чадородии и обетное строительство царя Феодора Иоанновича // Заказчик в истории русской архитектуры. Ч. 1, М., 1994. С. 117-140. Храм способен выступать и как образ конкретной молитвы, и как память о благополучном осуществлении содержащихся в ней прошений, и как знак благодарности (или средство благодарения) за предстательство святого, и одновременно как место почитания мощей святого (его своего рода реликварий – продолжение молитвы и в пространстве, и во времени).
(обратно)778
Ср. рассуждения и формулировки М.С. Флайера: «Архитектоника церкви Покрова на Рву представляет собой в некотором отношении такой же текст, подлежащий чтению и интерпретации, какими являются летописи и другие письменные источники <…> Покровская церковь <…> в результате представляет собой архитектурное сооружение, вызывающее более широкий круг ассоциаций и имеющее непосредственно-предметное очарование <…> является высоко организованной иерархической структурой, как и иконы в иконостасе, на стенах и сводах <…> православной церкви» (Флайер, Майкл С. Церковь Покрова на Рву и архитектоника москвоских средневековых ритуалов // Сакральная топография средневекового города. М., 1998. С. 48; выделено нами – С.В.). Показательна концептуальная метонимия (она тоже сродни ритуалу), позволяющая напрямую соединять архитектонику, текст, источники, непосредственное очарование, структуры иконного убранства храма и конфигурации идеологической декорировки царской власти. В подобной исследовательской мета-простоте тоже таится свое очарование (и соблазн). См. его же родственную заметку по поводу столь же родственного памятника: Флайер, Майкл. Церковь Спаса на Крови. Замысел – Воплощение – Осмысление // Иерусалим в русской культуре. Сост. А. Баталов и А. Лидов. М., 1994. С. 182-204. Ср. также: Лидова, М.А. Полиптих как пространственный образ храма. Иконы Иоанна Тохаби из собрания Синайского монастыря // Пространственные иконы. М., 2009. С. 59-63. Название последней заметки не должно, однако, вводить в заблуждение: речь идет лишь о том, что полиптих может заменять или представлять настенную декорацию храма, которая, конечно же, не есть сам храм. Это как бы иконографичность с оборотной стороны: от иконы к храму (вспомним, западно-христианские полиптихи, особенно готические, которые прямо выступали в своей травейной структуре моделью-анаграммой храмового пространства).
(обратно)779
Иконография архитектуры.., c. 29. Точнее было бы сказать, что повествовательность не находит выражение в про странственности, а предполагает, формирует ее в модусе протяженности.
(обратно)780
В этом смысле вся структура сборника может восприниматься как аналогичная схема: в среднике, несомненно, статья Баталова, а в клеймах – остальные тексты, которые на самом деле выступают в качестве вариантов-изводов единого концептуального прототипа. Правда, один текст выбивается из этой схемы, выступая своего рода надписанием или даже этикеткой-экспликацией. О нем – в конце.
(обратно)781
Там же. То есть привлечение апокрифов – это уже более сильное средство: уже не риторические фигуры, а поэтические тропы, призванные убедить и впечатлить читателя. Но, вероятно, следует учитывать тот момент, что апокрифы, как всякая фантазия, достаточно вневременное явление, что придает высказыванию с упоминанием апокрифа известную внеисторическую универальность (народное, примитивное, архаическое). Впрочем, апокрифическая тема применительно к искусству требует отдельного детального обсуждения, хотя проблема вовсе не нова (см., например, выше соответствующие места у Маля, а еще раньше у Барсова: Барсов Е. О воздействии апокрифов на обряд и иконопись // ЖМНП, 1885, декабрь. С. 96-115; перепечатано: Философия русского религиозного искусства XVI-XX веков. Антология. М., 1993, 123-139).
(обратно)782
Там же. С. 30.
(обратно)783
Там же. С. 31.
(обратно)784
Наглядная изобразительность архитектуры подтверждается ее восприятием и воспроизведением в собственно иконописи – глазами и руками изографа (Там же. С. 29). Так и хочется предположить, что иконографический этап толкования должен предваряться изографическим, то есть ориентированным на описание непосредственных визуально-изобразительных конфигураций, включающих в том числе и, например, планиметрические аспекты. Впрочем, еще раз подчеркнем, что открытым остается вопрос о том, насколько иконографический подход вообще можно расценивать как толкование, интерпретацию, а не все то же описание. Об этом – в конце этой «Ретроспективы», а до этого – в Заключении (в связи с экфрасисом).
(обратно)785
Обращаем внимание, что инстанция заказчика поставлена нами первой, ибо все прочие участники архитектурного процесса так или иначе зависят от этого по-настоящему источника разнообразных смыслов, не только сугубо художественных, но и ментальных, социальных, исторических, культурных, сакральных. Через личность заказчика (и через институцию патронажа как такового) совершается проникновение всей столь разнородной семантики в структуру творческой личности, в структуру творческого процесса, по ходу которого, впрочем, она, эта семантика, претворяется в смысл художественный, сохраняющий «память» о своих истоках, но нацеленный на некий новый исход из пространства исполнительского творчества в пространство творчества уже пользовательского. В действие вступают инстанция получателя в широком смысле слова (фактически того же заказчика, но с другой стороны). Не трудно заметить некоторую симметрию предваряющих произведение структур, и структур, последующих произведению, которое поэтому выглядит своего рода собирающей и преломляющей линзой. На выходе образ получается тот же, но, вполне возможно, перевернутый и в другом масштабе. Историк искусства, не боящийся оказаться ни социологом, ни психологом, ни теологом искусства, имеет шанс заново узнать себя в этом «образе наоборот» и вернуть ему правильные (то есть читаемые и усвоямые) очертания. Ср.: Ревзин Г.И. Заказчик в архитектуре как проблема искусствознания // Заказчик в истории русской архитектуры. Архив архитектуры. Вып. V. Часть 1. М., 1994. С. 3-7. Трудно, однако, согласиться с пафосом авторов заметки касательно возвращения проблемы заказчика в пределы искусствознания и избавления ее от пут социологии, которая ни в чем не виновата и вполне здесь уместна, так как вульгарно-марксистские коннотации эта почтенная и весьма продвинутая дисциплина имеет лишь в отечественном контексте. Тем более, что альтернативой мыслится все-таки культурология («в конечном итоге это позволяет понять, как заказчик входит в культуру, как его жизненный опыт превращается в культурно значимое деяние» // Там же. С. 7). См. также: Ревзин Г.И. Частный человек в русской архитектуре XVIII века. Три аспекта проблемы // Там же. Часть 2. С. 217-249.
(обратно)786
Собственно об этом говорится во «Введении» нашей книги.
(обратно)787
См. Приложение I нашей книги со всеми автокомментариями по ходу. Сразу заметим, что все критические замечания в адрес текстов сборника с еще большим основанием могут быть направлены на статью автора данной книги, как раз и призванной преодолеть не только узкий «иконографизм», но и всякий размытый «иконизм», не говоря уже об «иконичности» (см.: Лепахин В. Иконология и иконичность // Икона и образ, иконичность и словесность. Сборник статей под ред. В. Лепахина. М., 2007. С. 129-164).
(обратно)788
Иконография архитектуры... С. 59.
(обратно)789
Там же. С. 60.
(обратно)790
См. его, например: Образ Небесного Иерусалима в восточно-христианской иконографии // Иерусалим в русской культуре. С. 15-33; Схизма и византийская храмовая декорация // Восточно-христианский храм. Литургия и искусство. М., 1994. С. 17-35; Чудотворные иконы в храмовой декорации. О символической программе императорских врат Софии Константинопольской // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. М., 1996. С. 44-75; Иконостас: итоги и перспективы исследования // Иконостас. Происхождение – Развитие – Символика. М., 2000. С. 11-32; Византийский антепендиум. О символическом прототипе высокого иконостаса // Там же. С. 161-206; Мандилион и Керамион как образ образ-архетип сакрального пространства // Восточно-христианские реликвии. М., 2003. С. 249-280. Отдельно мы выделяем «иеротопический период» в творчестве ученого: Иеротопия. Создание сакрального пространства как вид творчества и предмет исторического исследования // Иеротопия. Исследование сакральных пространств. М., 2004. С. 15-33; Церковь Богоматери Фаросской. Императорский храм-реликварий как константинопольский Гроб Господень // Византийский мир: искусство Константинополя и национальные традиции. М., 2005, с.79-108; Святой Огонь и перенесение Новых Иерусалимов: иеротопический и искусствоведческие аспекты // Новые Иерусалимы. Перенесение сакральных пространств в христианской культуре. М., 2006. С. 58-70; Пространственные иконы как перформативный феномен // Пространственные иконы. Текстуальное и перформативное. М., 2009. С. 10-20.
(обратно)791
Основная претензия, касающаяся пресловутой «иеоротопии», – это даже не нарочитая «креативность» и искусственная «эвристичность» «проекта», а полное отсутствие полноценной теоретической базы (особенно применительно к пространству, среде, тому же топосу, теменосу, лименальности и проч. – то есть применительно ко всему!) Ср. критику (правда, не совсем убедительную и не очень справедливую): О научной ответственности и богословской корректности в изучении христианского искусства. Рецензия на книгу А.М. Лидова «Византийские иконы Синая» // Искусство христианского мира. Вып. 5, М. 2000. С. 348-355. Хотя, на самом деле, существуют общие и объективные трудности современной искусствоведческой византинистики как таковой. Причем не только отечественной, но и западной, особенно заатлантической, в виду известной оторванности от восточно-христианской традиции, в силу характерной секулярной дистантности и по причине доминирования французской школы с ее латентным позитивизмом. Ведь с какой неподражаемой виртуозностью и тонкостью западная наука об искусстве судит о собственном западно-христианском материале, особенно средневековом! Невозможно, впрочем, отрицать, что организационная деятельность А.М. Лидова, куратора многочисленнейший научных симпозиумов и конференций, автора-составителя первоклассных научных сборников (см. выше), заслуживает самого искреннего почтения, будучи направлена именно на сближение и взаимообогащение наук об искусстве в пределах и за пределами нашего Отечества. Важно в перспективе неких методологических поисков и открытий уже принадлежать сформировавшейся научной парадигме. Например, ей может быть – и фактически является – традиция «христианской археологии», в своем современном состоянии свободно владеющая самыми последними концептуальными достижениями и, например, экзистенциальной герменевтики, и постструктуралистской антропологии, и рецептивной эстетики, и все той же литургики, способной совмещать мистериальное богословие с дискурс-анализом (см, в частности: Engemann, Josef. Deutung und Bedeutung frühchristlicher Bildwerke. Darmstadt, 1997; особенно – глава I V. Zielsetzung: ‘Historische’ oder ‘aktuelle’ Interpretation?). Главное, избегать соблазнов непроизвольного теоретизирования, немотивированной методологизации и терминологической импровизации.
(обратно)792
Иконография архитектуры... С. 70.
(обратно)793
Там же. С. 72.
(обратно)794
Там же. С. 73 (курсив наш – С.В.).
(обратно)795
Там же. С. 73-74.
(обратно)796
Там же. С. 74.
(обратно)797
Там же. С. 90-91. Курсив наш – С.В.
(обратно)798
Там же. С. 75. Курсив наш – С.В.
(обратно)799
Или о «собственных средствах репрезентации» Ренессанса, отличающего его от средневековой архитектурной практики – очень уместное выражение из другой заметки Ревзиной (Между цехом и Академией. К вопросу о становлении ренессансного архитектурного профессонализма в Италии // Проблемы истории архитектуры. Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции. Часть 2. М., 1990. С. 34-41). К «средствам изображения архитектуры» можно отнести и литературные описания – не только образцовых построек, но и образцовой строительной деятельности, своего рода «профессиональной утопии» (Там же. С. 36). См. расширенный вариант: Особенности профессиональной традиции в архитектуре итальянского Возрождения // Общество историков архитектуры. Архив архитектуры. Вып. 1. С. 182-196.
(обратно)800
Иконография архитектуры... С. 76.
(обратно)801
Справедливо говорится, что итальянская романика попадала в круг классических образцов, оставаясь и в «иконографическом кругу христианской архитектуры» со всеми традиционными значениями, которые ей приписывались (Там же. С. 77). Получается самый натуральный смысловой палимпсест с полупрозрачными и слегка светящимися слоями. И своего рода интерференционной решеткой служим система теоретических взглядов, углов зрения и вообще религиозных установок.
(обратно)802
Там же. С. 81-82. Обращает на себя внимание некоторая терминологическая избыточность, если не тавтологичность («круг представлений и символических значений <…> закрепляет содержание»). Или это характерный риторический троп – скачок от реализма к номинализму – призван обеспечить плавность и убедительность рассуждения? Хотя на самом деле здесь таится одна из принципиальных проблем: каков механизм закрепления конвенционального значения и о закреплении ли идет речь? Чуть ниже (с. 87) попадается довольно удачное выражение «периферия архитектурной типологии», предполагающее некоторую «топографию типологии» (или просто топологию?). В пределах этого вполне архитектурно и символически имманентного «ландшафта» со своими центрами и окраинами возможны и внутренние перемещения, и включение некоторых внешних «странников», например теоретиков, практиков и историков архитектуры.
(обратно)803
Там же. С. 90 (со ссылкой на Лотца: Lotz, W. Notes on Centralised Church of the Renaissance // Idem. Studies in Italian Renaissance Architecture. Cmbridge (Mas.)-London, 1977, P. 66-73).
(обратно)804
О ренессансной архитектурной модели как средстве моделирования различных отношений-модальностей внутри архитектурной практики см.: Ревзина Ю.Е. Обманчивые птенцы. Модель в архитектурной практике итальянского Возрождения // Итальянский сборник. Вып. 2. М., 2000. С. 69-104. «Модель» – типологически самая разнообразная – вбирает в себя практически все аспекты архитектуры: это и отношения с заказчиком (привлечение внимания вплоть до «соблазнения»), это и отношения с собственным замыслом-проектом и собственным творчеством (отработка на модели-эскизе отдельных решений), это и отношение к собственному произведению и к чужим образцам (например, степень детализации, уровень изобразительности и точности, возможность вмешательства в сооружение, участие в конкурсе, соперничество), это и отношение к архитектуре как таковой (сама постройка тоже может выступать как модель, образ архитектуры). Можно даже говорить о «моделирующем» типе творчества или типе сознания, в который способнен вписываться и иконографический подход (всякое здание – это и модель отношения к себе, модель рецепции себя). И если модель – это птенец (образ, взятый у Скамоцци), «живое существо» (Там же. С. 96), то что говорить о самом архитектурном произведении? См. последнюю монографию Ревзиной: Инструментарий проекта от Альберти до Скамоцци. М., 2003. Из новейших публикаций: «Театр географии». Новая фортификация и изображение земель в Италии в XVI веке // Западная Европа. XVI век: Цивилизация, культура, искусство. Сост. М. Свидерская. М. 2009.
(обратно)805
Упомянем сразу работу, продолжающую тему «иконографии типа»: Седов, В.В. Собор Спасо-Мирожского монастыря: иконография и происхождение типа // Общество историков архитектуры. Архив архитектуры. Выпуск I. М., 1992. С. 3-37. Здесь, в частности, удачно говорится о «заключенном в интерьере храма зашифрованном пространственном знании» (Там же. С. 3).
(обратно)806
Иконография архитектуры... С. 104.
(обратно)807
Там же. С. 112.
(обратно)808
Там же. С. 118-119. Курсив наш – С.В.
(обратно)809
Восходящий к немецкоязычному феноменологическому искусствознанию образ-концепт «оболочки» задействован – применительно к Св. Софии – и в недавней монографии В.В. Седова (Килисе Джами: столичная архитектура Византии. М., 2008): «спиритуалистическое видение архитектуры как оболочки Храма, также отразившееся в той или иной степени и в ранних храмах Древней Руси, и в готических соборах, и создало здание-прообраз, в котором внешность бесформенного массива скрывает божественный и структурированный интерьер» (Там же. С. 125).
(обратно)810
См. последние работы В.В. Седова сходной тематики: Сакральное пространство древнерусского храма: архитектурный аспект // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. М., 2006. С. 556-575; Архитектура Рашки: групповой «портрет» дальних родственников. К феноменологии пространства византийских храмов // Искусствознание. 2007, № 1-2. С. 213-227.
(обратно)811
В этой связи ср. в упомянутой монографии соотношение двух глав «Византийцы о церковной архитектуре» (глава 3) и «Килисе Джами в иерархической системе типологии средневизантийских храмов» (глава 4). Особенно полезно наблюдение об эквивалентности словесного описания впечатлений от литературного и архитектурного произведения («можно заменить в этом тексте [«Мирабиблионе» свт. Фотия] слова на архитектурные формы, чтобы получить представление о стремлении к соразмерности (гармоничности) и связности элементов в средневизантийской филологии, эстетике и архитектуре» – Там же. С. 110). Именно впечатления (читателя, слушателя, зрителя – часто в одном лице) от текста и сооружения обладают подобием и в равной степени соотносимы с образами музыкальной гармонии (звучащей целостной системы). Сугубо же методологическая (эпистемологическая) проблематика заключена в том, что письменные памятники (даже косвенные: «византийская архитектура поначалу представляется бесписьменной» – Там же. С. 95) оказываются и источниками отчасти когнитивно-инструментальными, свидетельствуя об «устоявшемся языке, которым можно говорить об архитектуре и об интересе к архитектуре» (Там же. С. 103) – в том числе и в наше время.
(обратно)812
Иконография архитектуры... С. 142. Курси наш – С.В.
(обратно)813
См. одну из последних публикаций Д.А. Петрова с некоторым развитием методологической базы в сторону позиций, родственных, как нам кажется, А.Л. Баталову: Петров Д.А. Крещатый свод: проблема происхождения // Московская Русь. Проблемы археологии и истории архитектуры. К 60-летию Леонида Андреевича Беляева. М., 2008. С. 244-254. Еще раз обращаем внимание на то, что, казалось бы, сугубо конструкционно-морфологическая проблема (тип сводчатого перекрытия) может решаться типично иконографически, если избирается «источниковедческое и архитектурно-археологическое исследование построек» (Там же. С. 244). Между прочим, поиск источников может совершаться в трех направлениях: поиск аналогий в древнерусском Северо-Западе, в памятниках Армении и Ирана или в северо-итальянском Ренессансе (Там же. С. 244-245). Именно применительно к Ренессансу возникает характерная формулировка: «продукт творческого мышления зодчих…» (Там же. С. 245). Опять же незаметный, но необходимый сдвиг в сторону иконологии, возможный именно в контексте ренессансной традиции. А чуть дальше мы видим характерный пример и показательный случай уже методологического «иконографизма», когда очень удачно показывается важность точного описания самого предмета исследования (Там же, с. 247; из четырех определений выбирается единственно верное). Как говорится, что опишешь, то и проанализируешь…
(обратно)814
Там же. С. 154. Псевдоготика Баженова сравнивается с его Кремлевским дворцом, то есть с «идейной классикой».
(обратно)815
Там же. С. 155. Характерно, что и основной источник в данном случае – изобразительный (панорама Царицына 1776 года).
(обратно)816
Там же. С. 156.
(обратно)817
Там же. С. 157.
(обратно)818
Ср.: «А белокаменное убранство царицынских построек часто носит буквально прописной, эмблематический, намекающий и призывающий к пониманию характер» (Там же. С. 159).
(обратно)819
Там же.
(обратно)820
Ср. довольно неловкую, но весьма показательную фразу, касающуюся именно источников масонской эмблематики: «Масонские рукописи испещрены знаками небесных светил и зодиака, которые активно использовались в алхимии» (Там же. С. 161). Что использовалось: рукописи, знаки, светила, зодиак? И разве алхимия имеет дело со знаками? Но аналогии с рукописями крайне точны: архитектура обретает облик буквально иллюминированного манускрипта, с помощью которого иллюминат манипулирует своими подопечными, навязывая им и скрипты чтения, и паттерны интерпретации, выражаясь когнитологически…
(обратно)821
Признаки дискурсивности заключены и в том, что упомянутые «символические формы» (термин, однако, иконологический) мутируют в индексы: они «в своем первоначальном, словарном виде могли служить своего рода опознавательными знаками…» (Там же. С. 165). Иначе говоря, внутри подобного «идейного предприятия» трудились планировщики-проектировщики, мастера индексальной энигматики, озабоченные при этом и самоидентификацией. Если эти опознавательные знаки и были говорящими, то говорили они о себе, вступая в чисто зеркальные отношения с визуально-архитектурными «фразами», и отражаясь в них собственным обликом, и отражая в себе предстоящих, которые таким образом могут быть опознаны и приняты, или остаться не узнанными и отвергнутыми. Третий вариант припасен для новообращенных, которым дозволяется знать скрытую семантику. Возникает целая череда «знаний»: опознание, признание и познание. При желании в этих рядах лексических подобий тоже можно увидеть вереницу изводов некоего первичного протознания – своего рода эпистемологическую иконографию, только пытающуюся выбраться из пут «археологии знания» (ср. цитируемое рассуждение Фуко о «связном ансамбле органической структуры, которая вбирает в единую ткань своей суверенности и видимое, и невидимое» – Там же. С. 167).
(обратно)822
Там же. С. 174-175. См. также недавнюю монографию (Швидковский Д.О. От мегалита к мегаполису. Очерки истории архитектуры и градостроительства. М., 2009) с соответствующими разделами: «Открытие чистой формы: архитектура в эпоху Просвещения (С. 90-98), «”Говорящая” архитектура: открытие Французской революции» (С. 98-106) и особенно «Несколько тем екатерининской архитектуры эпохи Просвещения» (С. 298-308). Ср.: Швидковский О.Д. Собор Св. Павла и лондонские приходские церкви сэра Кристофера Рена: архитектор и клир // Христианское зодчество. Новые материалы и исследования. Под ред. И.А. Бондаренко. М., 2004. С. 343-354.
(обратно)823
Там же. С. 176.
(обратно)824
Там же. С. 179.
(обратно)825
«Безусловно, Холодные бани Камерона – это не действующая модель римских терм» (Там же. С. 181). Не действующая, и не действительная, и даже, быть может, и не модель…
(обратно)826
Более того, следует видеть в развитии пейзажного парка и процесс «деархитектуризации», равно как и в игривой подражательности и пародийной имитативности – аспекты десемантизации.
(обратно)827
В этом одна из функций всякого рода энигматики, привлекающей дополнительные ресурсы внимания (интереса) в том случае, если смысл сам по себе не обладает силой должного воздействия. Там, где гаснут чувства, может спасти разум (и наоборот, конечно).
(обратно)828
Ср. примыкающие к данной статье работы Гр.И. Ревзина: К определению стиля около 1910 года // Проблемы истории архитектуры. Часть 2... С. 95-101; Стиль как семантическая форма общности. К проблеме культурологического изучения архитектуры // Архитектура и культура. Под ред. И.А. Азизян и Н.Л. Адаскиной. М., 1991. С. 89-103.
(обратно)829
Там же. С. 188-189. Курсив наш – С.В.
(обратно)830
Там же. С. 190.
(обратно)831
Там же. С. 193. Легко можно заменить «иконографию ордера» на «иконографию святого», оставив схему схемой или заменив «композицией», а мотив заместив, например, атрибутом (или оставив без изменения).
(обратно)832
Еще более опережая события, скажем о таком фундаментальном смысле, как отождествление, уподобление архитекторов одной эпохи их коллегам из другой и точно такое же желание и стремление (не обязательно сознательное) идентификации уподобления одних интерпретаторов другим, осуществляя таким образом фундаментальную иконографию ментально-экзистенциальных образов-символов, свободных как от духа времени, так и от души своего конкретного носителя.
(обратно)833
Там же. С. 198.
(обратно)834
Там же. С. 199.
(обратно)835
Там же. Курсив наш – С.В. Спрашивается, кем укладывается? Обладателем восприятия и понимания? Тогда зачем она нужна эта «трактовка», если у «восприятеля» уже есть понимание? Как будто это какая-то ритуально-символическая процедура упоминания рядом с собственным мнением канонической традиции (и, как правило, не в пользу последней). Ср. на ту же практически тему: «В том случае, когда исследователь действительно сталкивается с общностью, в основе которой лежит формальный критерий, традиционная теория стиля выступает как наиболее адекватный способ ее описания» (Ревзин А.Г. Стиль как семантическая форма... С. 90). Опять неизбежные вопросы: если исследователь «сталкивается» с общностью, значит она – некоторая объективность, но тогда в ее основе может лежать (кто положил?) ее сущность, некоторый принцип или как раз «основополагающее» качество, признак, но никак не «критерий», который принадлежит другой реальности – мыслительной, логической, таксономической. Если же все-таки «лежит» критерий, тогда коллизия «форма или семантика» становится бессмысленной, так как «стиль» в этом случае – понятие, а не феномен. Он принадлежит истории искусства как науке, а не собственно историческому бытию искусства. Хотя и без этого выглядит искусственной проблема противопоставления формальных и семантических критериев: семантика обнаруживает себя в форме и может проявляться в стиле. Уже понятия «целостность» и «общность» как признаки «стиля» имеют несомненную семантическую подоплеку (если не природу), не говоря уж о «символической форме» Э. Кассирера или «значимой форме» К. Бэлла. Другое дело, что это семантика аксиологическая, что совсем не противоречит природе стиля, его «двойному корню» как выражался тот же Вельфлин (напомним, что традиционное, начиная с Винкельмана, различение в «стиле» двух аспектов – «манеры» и «вкуса», то есть, индивидуальности и нормы, было швейцарским историком искусства скорректировано в сторону исполнительских навыков и привычки зрения, другими словами, в сторону ослабления индивидуального момента и усиления всеобщности и обязательности, что и позволило говорить о научности науки об искусстве). Ср. понятие «стилистика архитектурных форм» и вообще идею того, что «форма» – несомненный продукт рефлексии: Раппопорт А.Г., Сомов Г.Ю. Форма в архитектуре. Проблемы теории и методологии. М., 1990. С. 58). Данную образцовую работу портит лишь несколько дикое соседство Платона, Гуссерля, Лосева и Мамардашвили с Марксом и ему подобными, объяснимое, конечно, все тем же «духом времени», которое (но не который!), между прочим, то же, что и у статьи Г.И. Ревзина (на излете «перестройки»).
(обратно)836
Там же. С. 200. Появление темы «мифологизации» симптоматично. Но не трудно заметить, что это мифология науки об искусстве, точнее говоря, такой ее составляющей, как «литература об искусстве» (со всеми коннотациями этого термина в духе Ю. фон Шлоссера). Этот смысл принадлежит не самому Ренессансу, не его «духу», не «душе» ренессансного человека. Этот смысл возникает из характеристики, принадлежащей Буркхардту, из его духа – действительно индивидуального, либерально-протестантского и из его полупозитивистской методологии, условно именуемой «культурно-исторической» и преодолеваемой трудами венской школы в лице того же Дворжака именно в ту самую эпоху, когда создавались образцы русской неоклассики.
(обратно)837
Там же. С. 201. Übermensch обнаруживается в роденовском «Мыслителе» и в его реплике на фасаде Дома «Мартенс». Кажется, иконография в духе Э. Маля – как скульптурная и изобразительная оболочка-облачение архитектурного тела – вновь демонстрирует свою актуальность. Если бы еще и разбираемая нами статья относилась к началу ХХ века, а не к его концу! Тогда торжество культурно-исторического метода было бы полным. Но все познается в сравнении… См. у М.В. Нащокиной принципиально неприемлемое представление об «иконографии архитектуры» как «1. совокупности изобразительных мотивов фасадных композиций и декора интерьера. 2. совокупности изображений наиболее популярных образцов архитектуры модерна» (Нащокина М.В. Цит. соч. С. 197). Исходя из подобной дефиниции, можно говорить о «появлении в иконографии модерна совершенно по особому трактованных морских волн, цветов, стеблей, деревьев и отдельных кривых веток» (Там же. С. 204). Главное же то, что «увенчивает рассмотренную иконографию тело женщины» (Там же. С. 205). Понятно, что ничто из перечисленного (даже «тело женщины») не имеет к «иконографии архитектуры» прямого отношения (косвенное же отношение состоит в том, что речь идет об архитектурной декорации). Кроме того, фасады модерна нехорошо называть «модернистскими фасадами» (Там же. С. 206) – это прилагательное происходит от «модернизма».
(обратно)838
Столь скрупулезный в прослеживании переходов от модерна к неоклассике, столь внимательный к нюансам смысла, заключенного в разнице между неоренессансом и неоампиром, историк искусства вдруг оказывается непростительно размашистым и приблизительным, переходя от истории искусства к истории философии. Для рассматриваемого времени ницшеанство уже давно перестало быть новостью, а фрейдизм еще не сформировался как философия («мета-теория»). «Дух времени» выражал себя в «философии жизни» Г. Зиммеля, в герменевтике В. Дильтея, в феноменологии Э. Гуссерля! Если упоминается «Осень Средневековья» Й. Хейзинги (1919), то почему не поставить в соответствие с рассматриваемыми явлениями труды Дворжака (тот же маньеризм)? Хтонизм, мистицизм, романтизм, Вельфлин (поклонник Беклина!) – куда более уместны для характеристики все того же модерна. А уж Буркхардт и Ницше – это просто эпоха историзма. И не хватит десяти таких сборников, как разбираемый нами, чтобы доказать стадиальное несовпадение всех перечисленных явлений и необходимость и возможность сновать по времени туда и обратно подобно челноку, созидая ткань культурно-исторических аналогий… Куда проще сказать, что русская неоклассика как раз в понимании Ренессанса и классики как таковой оставалась все тем же модерном, его классицизирующим вариантом (см., например, более дифференцированный подход: Кириллов В.В. Архитектура русского модерна. Опыт формологического анализа. М., 1979, особенно глава 4 «Рационализм и неоклассицизм»).
(обратно)839
Там же. С. 202.
(обратно)840
Под «контекстом немецкого искусствознания» имеется в виду уже известный швейцарец Вельфлин (Там же, с 208). Эту идею можно встретить уже у Кириллова (Цит. соч. С. 9, 142), который, впрочем, упоминает, кроме Вельфлина, А. Гильдебрандта, а также совершенно необходимого здесь В. Воррингера. Мысль Кириллова движется более тонкими путями, так как немецкое искусствознание представлятся источником для советского искусствознания 20-х годов, которое и оформляет (в лице А.А. Федорова-Давыдова) общую концепцию модерна. У самого Кириллова мы можем обнаружить некоторый набор крайне интересных для нашей темы, так сказать, «протоиконографических», представлений. Это, например, идея о том, что подражание стилям прошлого – это «сюжетно-изобразительная составляющая» архитектуры, что «чисто идеологическое восприятие формы» давало характерную живописность, вытесненную вскоре «графической линией», упразднившей изобразительность и обеспечившей переход к конструктивизму, то есть к относительно чистой форме (С. 9-10). Нельзя не обратить внимание и на постулат о возможности существования «классичности» без классицизма, то есть без ориентации на «прототипы», но в некоем «идеальном» состоянии форм. Это классичность как характер форм, их имманентная выразительность, внутренняя эстетическая нормативность (легкость, ясность, равновесие и т.д.), «истинные качества» архитектуры (Там же. С. 11), что, добавим, можно назвать уже не прототипом, а архетипом, снимающим момент времени, историчности посредством «организация форм в пространстве» – здесь и сейчас (Там же. С. 142). Еще раз подчеркнем, что это, однако, не снимает, а наоборот, усугубляет и углубляет семантику, делая ее активно символической и, тем самым, подпадающей под юрисдикцию иконологии.
(обратно)841
Схожий методологический канон воспроизводится и в чуть более поздней статье, посвященной эклектике (К вопросу о принципе формообразования в архитектуре эклектики // Общество историков архитектуры. Архив архитектуры. Вып. 1. С. 142-163). Здесь, в частности, можно найти теоретически принципиальное, но методологически роковое отождествление «стиля» и «формообразования», из чего следует вся концептуальная коллизия, остроумно разрешаемая введением понятия (и описанием феномена) иллюзорной плоскости, на которую «навешиваются» архитектурные элементы-признаки стиля. Но одновременно возникает и «мираж» эвристического дискурса, в то время как реально в плоскости текста размещаются готовые, хотя и не совсем отчетливые концепты, а на фасад архитектуроведческой науки проецируются не совсем система тические впечатления от мирового искусствознания. Формообразование вполне может обходится без стиля, упразднять его, умерщвлять, хоронить, отрицать. Такое формообразование может не нравиться и вызывать отвращение, но отрицать его можно вместе с отрицанием самих феноменов, которые, если они существуют и производят впечатление (пусть и неблагоприятное или парадоксальное), то, значит, обладают формой (скорее всего, не– или антиклассической). Форма – это состояние. Теоретическая коллизия оборачивается методологической иллюзией. Ср. обсуждение аналогичной стилистической проблематики, но на материале иной эпохи и в терминах иконографии: Баталов А.Л. Судьбы ренессансной традиции в средневековой культуре. Итальянские формы в русской архитектуре XVI века // Искусство Христианского Мира. Вып. 5, М., 2001. С. 135-142 (относительно храма Покрова на Рву сказано: «сочетание сложной символической программы и мастеров европейской выучки привело к “иконографическому” взрыву…» – С. 140). К этой статье тематически примыкает и недавняя статья: Баталов А.Л. Церковь Воскресения в селе Городня и развитие типа шатрового храма // Московская Русь. Проблемы археологии и истории архитектуры. К 60-летию Леонида Андреевича Беляева. М., 2008. С. 325-345.
(обратно)842
См. также довольно раннюю, как всегда, парадоксально остроумную, но, к сожалению, довольно эскизную попытку выяснить отношения между семиотикой, иконологией и психологией: Ревзин Г.И. Семиотика в архитектуроведении: проблема взаимоотношения с другими парадигмами // Теория архитектуры. Сборник научных трудов под ред. И.А. Азизян. М., 1988. С. 26-55. Очень характерно и типично автор «проговаривается» о важнейших вещах, которые или пропускает, или отвергает: «…означающее и означаемое оказываются равны между собой, и отличаются лишь местом своего существования – в реальности и в психике <…> Главным вопросом оказывается не исследование значения и знака (ибо если означаемое и означающее – это одно и то же в своем предметном наполнении, то ясно, что такая конструкция в особом исследовании не нуждается), а вопрос соединения знаков, исследование архитектурного синтаксиса» (Там же. С. 67-68). Однако стоит заметить, что отличие по месту – это и есть вопрос синтаксиса, так как местоположение в синтагме (топика и топология) и определяет взаимодействие знаков и, соответственно, конкретное значение единицы высказывания. Противопоставлять знак и значение – бессмысленно, так как значение есть функция знака. Предметное наполнение – это референт знака, который един для знака как целого, а значит, и для его элементов. Наконец, самая принципиальная некорректность – противопоставление реальности и психики. Главная же историографическая проблема состоит в том, что давняя заметка ныне маститого критика – единственная до сих пор попытка обсудить подобную крайне животрепещущую проблематику. См. также: Ревзин Г.И. Очерки по философии архитектурной формы. М., 2002.
(обратно)843
Все-таки следует уточнять, что «говорящая» функция предполагает особый текст – речь, которую предпочтительно слушать, а не читать, хотя именно чтение воссоединяет слух и зрение (показательно, что те же экфрасисы обычно декламировались).
(обратно)844
Ср. чуть иной угол зрения на ту же проблему «нормы» в современной сборнику заметке: Раппопорт А.Г. Историческое и вечное в архитектуре // Проблемы истории архитектуры. Часть I. М., 1990. С. 11-14. Здесь, кстати говоря, можно найти очень удачное обозначение типологической комбинаторики как «пасьянса архитектуры», где каждый новый «расклад» – это новая эпоха или стиль в истории архитектуры (Там же. С. 13). Из последних теоретических штудий ученого следует назвать главы (7, 8, 12) в коллективной монографии: Очерки истории теории архитектуры Нового и Новейшего времени. Под ред. И.А. Азизян. М., 2009.
(обратно)845
Иконография архитектуры... С. 7.
(обратно)846
Вслед за данной «Ретроспективой» мы помещаем «Перспективу» – обзор взглядов Г. Лютцелера, настаивающего на том, что только иконологически можно добраться до архитектурного содержания, точнее говоря, к нему прикоснуться, ибо углубление и расширение доступны именно герменевтике.
(обратно)847
Там же. С. 8.
(обратно)848
Там же. С. 9.
(обратно)849
Там же. С. 11.
(обратно)850
Там же.
(обратно)851
Возникает даже подозрение, что «фасад», «лицевая поверхность» – это некий специфически архитектурный и архитектуроведческий архетип, чреватый «критическими формами». Конечно, это «лицо» здания, но это и его «личина», фасад может и являть, и скрывать, и маскировать, и камуфлировать. Последние функции могут быть или решающими, или роковыми. Хотя с другой стороны, именно фасад – наиболее говорящий или просто риторический, демонстративный и открытый, ориентированный на зрителя аспект здания (феноменологически – это исходный аспект переживания архитектуры). Ведь зритель, вошедший внутрь, уже посетитель-участник, он теряет часть себя, приобщается к зданию, становится его частью и оно становится его участью. Перед зданием он еще имеет шанс оставаться собой и сохранять за собой окружающее, внешнее пространство, частью которого пока еще – отчасти – остается как раз само здание. Эта позиция обеспечивает и право интепретации: мы можем или удерживать внешние смыслы, исходящие коннотации, независимые и гетерономные по отношению к постройке, или избавляться от них без ущерба для себя, проецируя, «навешивая» их на фасад-экран. Другими словами, вопрос дистанции и сближения – сугубо герменевтические факторы, и отношение к фасаду, к лицу постройки – это отношение не только к ней, но и к себе: фасад – условие переноса и контрпереноса, но он же – и зеркало, дающее возможность узнать себя, уклониться от подобной встречи или отойти, забыв.
(обратно)852
Там же. С. 11. Маскарад таит в себе зловещие аспекты притворства, оборотничества власти, вторгающейся в саму жизнь и мертвящей ее (доказательство тому – «трагедия нескольких поколений» недавней отечественной истории). Имеется в виду и столь же не шуточная, хотя и в другом роде, проблема литургического сознания, которое есть трансцендирование обыденной ментальности, которому в преображенном виде обеспечивается «соприкосновение с высшими горизонтами, уводящими его во вневременную перспективу инобытия». Что называется, отлично сказано!
(обратно)853
В известной мере реализация «феноменологического заказа» – недавняя, уже упоминавшаяся монография Седова, где мы встречаем безупречно-феноменологические обороты речи, касающиеся византийского сакрального пространства, «создающего эффект дематериализации оболочки храма» (внешнего объема). В этой связи говорится об аффектах, производимых такого рода архитектурой, о возможностях восприятия ее «человеком неподготовленным», так как в ней есть и «доступный, прямо действующий пафос» (Седов В.В. Килисе Джами.... С. 128). Касаясь феномена «варваризации» мастеров и их творений в зодчестве Древней Руси, Седов совершенно уместно говорит об архаизирующем возвращении к «архетипу системы» (Там же. С. 129). Архетип, пафос, непосредственность эффектов, формирующих аффект, – вот краеугольные камни всякой феноменологической интерпретации, внутри себя формирующей предпосылки и для переживаний нравственного порядка в переходе от пафоса к этосу. «Это наиболее сложное, наиболее многосоставное и одновременно наиболее изощренное пространство той эпохи, заключающее предельную для нее архитектурную мудрость <…>. Это невозмущенное пространство, пространство плавного скольжения взгляда и успокоенного движения, это пространство, которое говорит о мире, но осеняет балдахином человеческую фигуру <…> Оно видит человека внутри себя и соотнесено с телом человека <…> Можно говорить и об интеллигентности, интеллигибельности этой архитектуры…» (Там же. С. 157; выделено нами – С.В.).
(обратно)854
Если же прослеживать более детально структурно-феноменологическую линию в отечественном архитектуроведении, то невозможно не упомянуть монографию А.И. Комеча (Комеч А.И. Древнерусское зодчество конца X–начала XII в. Византийское наследие и становление национальной традиции. М., 1987), где можно найти ссылки (С. 37, 99) на переведенную еще в 30-е годы программную статью Х. Зедльмайра (Первая архитектурная система средневековья // История архитектуры в избранных отрывках. М., 1935) с его тезисом о балдахине как «охватывающей» форме. Ср. также изложение эстетики византийского храма с отчетливыми акцентами на феноменологию визуально-телесного восприятия и переживания пространства: «энергетическая наполненность процесса является залогом активного участия внутренних сил человека в восприятии и интепретации мира. Соприкосновение даже с отдаленными предметами и изображениями как бы переносило их во внутренний мир человека, соприкосновение превращалось в сопричастность, интимную соединенность» (Комеч А.И. Цит. соч. С. 49 и далее). Нельзя не упомянуть и тезис об «иллюзорности» храмового пространства (Там же. С. 48), определение архитектуры как «прекрасного и недвусмысленного обрамления» такого специфического состояния человека, как эмоциональное переживание мистического единения с Богом (Там же. С. 52 – ср. «оболочку» Седова), а также замечание, что изображения в храме обретали «дополнительную смысловую связь» через соотнесение с участниками Литургии, на равных с изображениями «заселявшими» пространство храма (Там же. С. 54).
(обратно)855
Нельзя удержаться и не процитировать замечательные формулировки: «душа человека, помещенная вместе с его телом в интерьер собора, <…> преодолевает эту пространственно временную погруженность, восходя к смыслам и созерцательно переживая пронизанность интерьера уже не здешним светом. <…> И молитва, и храм <…> становятся прозрачными обрамлениями, посредничающими в коммуникативном процессе и в функции этого посредника обретающими свой подлинный онтологический смысл» (Иконография архитектуры... С. 12-13). Нельзя также удержаться и не помянуть интригующую, хотя и специфическую «теменологическую» перспективу, открывающуюся в трудах Ш.М. Шукурова, в том числе и в его монументальной монографии: Образ Храма. Imago Templi. М., 2002 (ср.: «онтологическая проблема присутствия явных и неявных аспектов образа Храма на примере храмовой теологии и иконологии архитектуры…» – Там же. С. 8). Не считая возможным углубляться в хайдеггерианскую герменевтику священного (это очень далеко от иконографии), скажем лишь, что сердцевина и концепции, и методологии Шукурова определяется формулой «топология смысла» (Там же. С. 12), где «топос» берется во всей его небесполезной семантической двойственности. Тем не менее, вне всякого сомнения, «топос» – лишь аспект или средство «тюпоса» (ср.: Там же. С. 390 с необоснованной критикой типологической модели, а также семиотики). Еще раз заметим, что никакая аналитика самой высокой герменевтической пробы не может обойтись без предыдущих и непременных для нее уровней, степеней и форм приобщения к Тайне – иконографии, иконологии, той же семиотики, которые суть не альтернативы (нежелательные и неприемлемые), а углы зрения на измерения Неизмеримого
(обратно)856
Там же. С. 13.
(обратно)857
Там же.
(обратно)858
Там же.
(обратно)859
«Текст требует листа или стены, экрана, он не совместим с этой двусторонностью и прозрачностью, текст находится в системе иных онтологических измерений» (Там же. С. 12).
(обратно)860
«В архитектуре, как и в религиозном опыте, не все может быть истолковано с помощью слов. Тайна архитектурного опыта не равзнозначна религиозному Таинству, но они соозначны» (Там же).
(обратно)861
«За гранью архитектуры говорящей открывается архитектура молчащая. Однако схождение вербальных интерпретаций к горизонту тайны и молчания подтверждает ествественность икнографической герменевтики архитектуры. Если архитектура не сводима к изобразительному и вербальному толкованию, то без них она вообще теряет всякий смысл» (Там же. С. 15).
(обратно)862
Мы, как легко заметить, перечисляем модусы отношений. предваряющих произведение искусства и его продолжающих вслед за его завершением. Посередине – само произведение как творение, как созидание, как воплощение, как реализация, конкретизация, проекция и т.д. Опять же обращаем внимание, что перечисленные понятия – это уже модусы отношения к творению как процессу и к творению как результату. Это есть отношения преимущественно самого творца, хотя разные эпохи истории искусства (как истории патронажа) знают и участие, вмешательство заказчика. Особенностью научного подхода к искусству является возможность и право историка искусства и критика составлять свое отношение ко всем этим трем формально разным измерениям того единого феномена, что принято называть искусством (творец – творчество – творение). Проблема же заключается в следующем: по крайней мере предметное содержание этих трех аспектов применительного к конкретному произведению остается одним и тем же, что не исключает, а даже непременно предполагает три разных состояния смысла (в обязательном порядке следует делать различия между смыслом помысленным по ходу зарождения замысла, смыслом заложенным по ходу создания и смыслом извлеченным по ходу пользования, восприятия, толкования). Проблема же усугубляется тем несомненным положением дел, что в самом произведении эти три смысловые разновидности, три смысловые составляющие, три состояния смысла сосуществуют, соприкасаются, соотносятся друг с другом и даже соединяются в некоторое четвертое состояние. При последующем смысловом анализе подобные смысловые обстоятельства, смысловые структуры следует учитывать, имея, быть может, для каждого случая свой подход или инструмент. Стоит ли говорить, что совсем не достаточно и не полезно пытаться снять проблему употреблением лишь одного сквозного термина, например, «иконография»?
(обратно)863
Все, да не все. Икона, имеющая в своем основании неруковторный образ, по всей видимости, избегает момента, аспекта изобразительности, то есть промежуточного состояния образности вообще, связанной с работой воображения. Икона – это не изображение, а отображение, отпечаток (Abbild), след, знак присутствия, а не его имитация. Отсюда – почти что неизбежная печать двухмерности, линейности, графизма вообще. Это все признаки письма, пытающегося уловить звучащее слово – зримый эквивалент касания Слова Воплощенного.
(обратно)864
Можно сказать так: с символом можно столкнуться не по своей воле, со знаком необходимо столковаться, приложив некоторое усилие.
(обратно)865
Так и представляешь себе эти «залежи» смысла, так сказать, «полезные ископаемые» информации, только и ждущих внимания даже не археологов знания, а скорее геологов («рудознатцев») значения. Это кстати, еще один способ различать иконографию и иконологию: первая – археологичная (об этом было сказано в книге), вторая, и тут прав Хоогеверф, – в ведении рудокопов. Первые добывают в земле культурные вещи, которые туда попали, будучи в земле погребенными, вторые – природные вещества, которые там пребывали, будучи частью этой земли. Хотя что делать с палеонтологией?
(обратно)866
В прошлое можно зайти, как в какую-нибудь комнату, дойти до ее дальнего угла, взять там нечто (или просто рассмотреть, что там лежит) и вернуться обратно (не забыв закрыть за собой дверь). Или – что еще лучше – зайти в комнату, навести там порядок и остаться в ней жить, посчитав своей (или сначала припомнив свое прежнее в ней пребывание).
(обратно)867
Уже знакомый нам труд: Lützeler, Heinrich. Kunsterfahrung und Kunstwissenschaf: systematische und entwicklungsgeschichtliche Darstellung und Dokumentation des Umgangs mit der bildenden Kunst. Freiburg, 1975. Bd. 1-3. Все последующие ссылки – на страницы второго тома.
(обратно)868
Его библиография, посвященная теории, методологии и архитектуре (прежде всего христианской), выглядит следующим образом: Formen der Kunsterkenntnis. Bonn, 1924; Die Deutung der Gotik bei den Romantikern // Wallraf Richartz Jahrbuch, 1925, 9 – 33; Zur Religionssoziologie deutscher Barockarchitektur // Archiv f. Sozialwissenschaft u. Sozialpolitik, 66, 1931, 557 – 584; Kunsttheorie und Kunstgeschichte heute // Neues Jahrbuch f. Wissenschaf u. Jugendbildung, 1931, 162 – 174; Die christliche Kunst des Abendlandes. Bonn 1932; Der Wandel der Barockauffassung // DVjS, 11,1933,618-636; Grundstile der Kunst. Berlin – Bonn. 1934; Einführung in die Philosophie der Kunst. Bonn, 1934; Der deutsche Mensch in der katholischen Kunst. Düsseldorf, 1934; Der deutsche Kirchenbau der Gegenwart. Düsseldorf, 1934; Die christliche Kunst Deutschlands. Bonn, 1936; Bild Christi. Freiburg i. Br., 1939; Die Kunst der Völker. Freiburg i. Br., 1940; Die Gestalt des Heiligen. Freiburg i. Br., 1943; Das Verstehen von Kunstwerken // Cicerone, 1, 1949, 1-16; Zur Ikonologie des Pferdes // Festschrif Karl Lohmeyer. Saarbrücken, 1954, RomBonn, 1955; Christliche Bildkunst der Gegenwart. Freiburg i. Br., 1962; Vom Werden des Kunstwerkes. Zur Kunsttheorie Joseph Gantners // Zeitschrif f. Ästhetik u. allgemeine Kunstwissenschaf, 11, 1966, 1, 87 – 108; Wege zur Kunst. Gattungen der Kunst. Freiburg i. Br., 1967; Europäische Baukunst im Überblick. Architektur und Gesellschaf. Freiburg i. Br., 1969; Zur Teorie der Kunstforschung. Beiträge v. Günter Bandmann // Gedenkschrif für Günter Bandmann / Hrsg. v. Werner Busch u.a., Berlin. 1978, 551-572; Viel Vergnügen mit dem Kitsch. Freiburg i. Br., 1983.
(обратно)869
Lützeler, Heinrich. Kunsterfahrung… S. 937.
(обратно)870
Ibid.
(обратно)871
Ibid.
(обратно)872
Ibid.
(обратно)873
Ibid. S. 938.
(обратно)874
Например, в череде гетерономных подходов к искусству перечисляются и теология, и философия, и психология, и социология, но нет ни семиотики, ни просто науки о языке. Точно так же в главах, посвященных структурализму, речь идет о структурализме преимущественно социально-антропологическом. Вообще, нетрудно заметить стойкое равнодушие Лютцелера ко всякой французской традиции (исключение составляют представители художественной критики, непременный Эмиль Маль и Анри Фоссийон – и то, наверное, потому, что он переводился на английский язык и в то же время влиял на Й. Гантнера).
(обратно)875
Lützeler, Heinrich. Kunsterfahrung… S. 939.
(обратно)876
Ibid. S. 940.
(обратно)877
Ibid. S. 941.
(обратно)878
Ibid. S. 943.
(обратно)879
Ibid. S. 945.
(обратно)880
Ibid.
(обратно)881
Ibid.
(обратно)882
Ibid. S. 946.
(обратно)883
Ibid. S. 946-947.
(обратно)884
Ibid. S. 947.
(обратно)885
Ibid.
(обратно)886
Ibid. S. 948.
(обратно)887
Ibid.
(обратно)888
Ibid.
(обратно)889
Ibid. S. 948-949.
(обратно)890
Ibid. S. 950.
(обратно)891
Ibid. S. 950-951.
(обратно)892
Ibid. S. 956.
(обратно)893
Ibid.
(обратно)894
Ibid. S. 957.
(обратно)895
Ibid.
(обратно)896
Вот ряд этих «функций»: Литургия и литургическая драма, паломнические маршруты, монастырская атмосфера, патетика Страстных изображений, гуманистические тенденции во францисканстве, религиозный театр, страх смерти в условиях эпидемий, мрачные упаднические видения, обмирщение, язычество, либертинаж и т. д. (Ibid.). Обратим внимание, что все перечисленное – это или острые переживания, или характерные условия, воспроизводящие различные жизненные ситуации, в которых человек испытывает или переходные, или просто пограничные состояния.
(обратно)897
Lützeler, Heinrich. Kunsterfahrung… S. 958.
(обратно)898
Ibid.
(обратно)899
Ibid.
(обратно)900
Ibid.
(обратно)901
Можно выразиться и не так парадоксально: пластические объемы объемлют другую – более плотную и потому осязаемую – разновидность все того же пространства, которая в своем первичном, исходном виде всегда есть глубина, дистанция от наблюдателя и т.д. Поэтому, продвигаясь вглубь, пространство как бы нанизывает, собирает по ходу все те же «стены, перекрытия, скульптуру и людей».
(обратно)902
Lützeler, Heinrich. Kunsterfahrung… S. 964.
(обратно)903
Ibid.
(обратно)904
Ibid.
(обратно)905
Лютцелер перечисляет онтологические уровни: космос в образах месяцеслова и зодиака, единовременное событие отправления апостолов на проповедь в череде времени, пространственное распространение этого события до пределов земли, актуальное протекание этого события в Церкви. Следует заметить, что концентрация и масштабное уменьшение события во времени и пространстве одновременно делает его просто не вместимым в размерность тварного космоса (Церковь больше материальной вселенной).
(обратно)906
Lützeler, Heinrich. Kunsterfahrung… S. 965.
(обратно)907
Ibid.
(обратно)908
Ibid.
(обратно)909
Ibid.
(обратно)910
Ibid. S. 968.
(обратно)911
Ibid. S.970.
(обратно)912
Ibid. S.971.
(обратно)913
Ibid. S.972.
(обратно)914
Ibid.
(обратно)915
Ibid.
(обратно)916
Ibid. S. 973.
(обратно)917
Ibid.
(обратно)918
Ibid. S. 974.
(обратно)919
Ibid. S. 975.
(обратно)920
Ibid. S. 978.
(обратно)921
Ibid.
(обратно)922
Ibid.
(обратно)923
Ibid. S. 982.
(обратно)924
Ibid. S. 983.
(обратно)925
Ibid.
(обратно)926
Ibid. S. 985.
(обратно)927
Ibid. S. 986.
(обратно)928
Ibid. S. 992.
(обратно)929
Стоит в этой связи напомнить некоторые важные моменты биографии Лютцелера (1902-1988), который, скажем сразу, совмещал в себе уникальным образом и профессионального историка искусства, и не менее компетентного философа и замечательного человека. Как историк искусства Лютцелер был в Бонне учеником Вильгельма Воррингера, а как философ учился в Кельне как раз у Макса Шелера, с которым его в дальнейшем связывала дружба. Докторская диссертация (1924) была посвящена все той же теме, что и поздняя трехтомная работа: «Формы познания искусства». Феноменология и экзистенциальная антропология характеризовали его научные убеждения, в то время как католическая вера определяла его жизненные позиции (при полном содружестве одного и другого). В период нацизма Лютцелеру было запрещено публиковаться и преподавать. Ученый читал лекции частным порядком, не забывая своих друзей-евреев, которых он всячески поддерживал и даже скрывал от гестапо. Но с 1946 года и до самой пенсии он профессор в Бонне, где дважды был деканом философского (!) факультета. См. его автобиографические заметки: Lützeler, Heinrich. Kunst und Wahrheit // Kunsthistoriker in eigener Sache. Zehn autobiographische Skizzen. Hrsg. von Martina Sitt. Berlin, 1990. S. 221-244. Последняя работа о Лютцелере, посвящена, между прочим, его положению в III Рейхе: Kroll, Frank-Lothar. Intellektueller Widerstand im Dritten Reich: Heinrich Lützeler und der Nationalsozialismus. Berlin, 2008.
(обратно)930
Lützeler, Heinrich. Kunsterfahrung… S. 993-994.
(обратно)931
Ibid. S. 994.
(обратно)932
Ibid.
(обратно)933
Ibid. S. 995. Проблематике орнамента посвящена поздняя статья Лютцелера: Ornament. Ein Vergleich zwischen europäischer und islamischer Kunst // Kunst und Ornament. Ein Forschungsbericht / Hrsg. v. Masoe Yamamoto. Tokio, 1986, I-XV.
(обратно)934
Lützeler, Heinrich. Kunsterfahrung… S. 1000.
(обратно)935
Имеется в виду: Lankheit, Klaus. Das Triptychon als Pathosformel. Heidelberg, 1959.
(обратно)936
Lützeler, Heinrich. Kunsterfahrung… S. 1003.
(обратно)937
Ibid.
(обратно)938
См.: Elbern, Victor H. Der eucharistische Kelch im frühen Mittelalter. Berlin, 1964.
(обратно)939
Lützeler, Heinrich. Kunsterfahrung… S. 1004.
(обратно)940
Ibid. S. 1006.
(обратно)941
Понятно, что столь фундаментальные выводы возможны благодаря наличию двух обстоятельств: речь идет о Таинстве и об архитектуре. Можно сказать, что в данном случае – независимо от масштабов и прочее – мы имеем дело с художественной лименальностью в чистом виде, достигнутой самым радикальным способом: мистериальной архитектоничностью, вбирающей в себя все аспекты и бытия, и сверхбытия. Итак, мы сталкиваемся со специфической «вездесущностью» сакральной архитектуры, остающейся таковой независимо от условий своего функционирования: это могут быть и реальная постройка, и всякого рода архитектурные мотивы, так сказать, отдельные признаки, атрибуты, тем не менее, столь же мощно и непреклонно активизирующие, прежде всего, состояния человеческой души.
(обратно)942
Имеется в виду: Frey, Dagobert. Kunstwissenschafliche Grundfragen. Wien, 1946.
(обратно)943
Lützeler, Heinrich. Kunsterfahrung… S. 1004.
(обратно)944
Ibid. S. 1006.
(обратно)945
Ibid.
(обратно)946
Ibid.
(обратно)947
Немецкое слово das Mal означает и «монумент, памятник», и собственно «пятно, рубец, отметина, памятка, отметка, знак, признак». От «пятна» произошла и Malerei, то есть буквально «пятнание» (калька лат. pingere).
(обратно)948
Ibid.
(обратно)949
Стоит обратить внимание, что Лютцелер указывает и дату этой теофании (ок. 1225 г. до Р.Х.), и соответствующий ветхозаветный текст, который он обильно цитирует (S. 1007).
(обратно)950
Lützeler, Heinrich. Kunsterfahrung… S. 1006.
(обратно)951
Ibid. S. 1008.
(обратно)952
Ibid.
(обратно)953
Ibid. S. 1009.
(обратно)954
Впрочем, в круговом движении можно увидеть и форму слияния со священным объемом: если нельзя овладеть им в акте вхождения, то можно – в акте обхождения, переживании обширности, размерности предстоящей массы посредством собственного тела – подвижного, переносимого, а потому и подчиняемого. И слияние осуществляется в акте переноса, проекции телесности.
(обратно)955
Lützeler, Heinrich. Kunsterfahrung und Kunstwissenschaf… S. 1010.
(обратно)956
Ibid.
(обратно)957
Ibid. S. 1011.
(обратно)958
Ibid. S. 1012.
(обратно)959
Ibid. S. 1013.
(обратно)960
Ibid. S. 1014.
(обратно)961
Ibid.
(обратно)962
Ibid.
(обратно)963
Ibid. S. 1015.
(обратно)964
Ibid. S. 1016.
(обратно)965
«Признание основных стилей соответствует тому факту, что в истории искусства всегда заметны поверх времени и пространства общности форм…» (Ibid. S. 1091). В целом, «основные стили» Лютцелера – развитие основных понятий Вельфлина, но с преодолением случайности этих пар через признание пространственности единственным сущностным признаком образных искусств. При этом отсутствует всякий детерминизм: логика основных стилей – логика «мира ценностей», где царит свобода. «Алогическое» истории и все прочие внешние по отношению к искусству силы (от духовных событий до всякого рода несчастий вроде войн и эпидемий) действуют, тем не менее, во исполнение присущей основным стилям логики. Только поэтому история искусства – это подлинный космос, а не хаос, где осуществляется «осмысленное, в сущности искусства предвосхищенное» (Ibid. S. 1092).
(обратно)966
Ibid. S. 1093.
(обратно)967
Ibid. S. 1098.
(обратно)968
Ibid. S. 179f.
(обратно)969
Вполне уместно представить себе грани подобного «тела» поверхности как отражающие поверхности, в которых воспроизводится не только предмет анализа, но и тот, кто его осуществляет…
(обратно)970
Автор имеет неосторожность поместить в качестве приложения свой первый текст на тему архитектуры и иконографии, появившийся в далеком 1990 году в скромном по облику, но эпохальном по замыслу сборнику «Иконография архитектуры» (автор-составитель А.Л. Баталов). Он полезен в том смысле, что позволяет представить себе довольно ригористический и буквалистский подход к иконографии как описанию случаев «иконности», понятой, в свою очередь, как свойство сакрального и одновременно миметического образа. Христианской архитектуре вменяется в онтологическую обязанность быть исключительно Евхаристическим образом. Но подобное непосредственно возвышенное качество, как следует из всей книги (мы надеемся), составляет только смысловое ядро и лишь условие всей прочей репрезентирующей (имитирующей, копирующей, воспроизводящей, иллюстрирующей и т.д.) в широком смысле слова семантики сакральной архитектуры. О самом сборнике «Иконография архитектуры…» и о всей сопутствующей ему проблематике см. «Ретроспективу…» данной книги.
(обратно)971
Подзаголовками текст снабжен уже сейчас.
(обратно)972
Białostozky, J. Iconography and Iconology // Encyclopedia of World Art. Vol. 7. New York – Toronto – London, 1958. P. 769.
(обратно)973
Panofsky, E. Studies in Iconology. Humanistic Tems in the Art of the Renaissance. New York – Evanston, 1952. P. 14-15.
(обратно)974
Pächt, O. Panofsky’s «Early Netherlandish Painting» // Burlington Magazine. XCXXM. 1956. No 3, 7. P. 110-116, 266-277.
(обратно)975
Гомбрих Э. О задачах и границах иконологии // Советское искусствознание. 1989, № 25. С. 282. Ср. у А. Грабаря: «Иконография есть <...> тот аспект образа, который информирует. который адресован интеллекту зрителя и оба. с прозаическими информативными образами...» (Grabar, A. Christian Iconography. A Study of its Origins. Princeton, 1968. P. XLV).
(обратно)976
В том числе явления нерукотворного образа, если речь идет о личной иконографии (начало и узаконение этой традиции – Св. Мандилион). Ср.: Kitzinger. E. Te Cult of Images in the ages before Iconolcasm // Idea. Te Art of Byzantium and the Medieval West. London, 1976. P. 90-156. См. также: Schöne, W. u.a. Das Gottesbild im Abendland. Witten und Berlin, 1957; Frazer, M. Е. Iconic Representations // Age of Spirituality. Late Antique and Early Christian Art. Tird to Seventh Century. Catalogue of the exhibition. New York, 1978. P. 513-555.
(обратно)977
Обращаем внимание читателя на некоторый смысловой перескок, маскируемый введением философско-богословских терминов. Также понятно, что трудно земному ученому вести разговор с точки зрения Прообраза. Быть может, как раз наоборот: анализу подвергается возможность и условие предстояния чуду теофании и соучастие в нем.
(обратно)978
Braun, J. Reliquare des christlichen Kultes. Freiburg in Br., 1950. Из последних работ см.: Kross, R. Vom Umgang mit Reliquien // Ornamenta Ecclesiae. Katalog der Ausstellung. Köln, 1985. Vol. III. S. 25-52.
(обратно)979
Bryson, N. Vision and Painting. Te Logic of the Gaze. New Haven – London, 1983. Особенно гл. 2 «Te Essential Copy» (P. 13-36), где прослеживается связь между Э. Гомбрихом и К.Р. Поппером.
(обратно)980
О трудностях в выделении «уровней смысла» при обращении иконологии к неклассическому искусству см.: Hauser, A. Allegorischer Realismus // Städel-Jahrbuch, N. F. 1982. Bd. 8. S. 186-202. Еще раз обращаем внимание на некоторую упрощенность в толковании иконологии, область внимания которой гораздо шире конвенциональной риторики (ее-то можно с чистой совестью отнести к области все той же иконографии).
(обратно)981
Büchsel, M. Ecclesiae symbolorum cursus completus // Städel-Jahrbuch, N.F. 1983. Bd. 9. S. 69-88.
(обратно)982
Мы оставляем как есть данный текст, хотя, конечно же, нельзя не заметить некорректность выражения «догмат о Пресуществлении…».
(обратно)983
Но можно предположить, вслед за Зедльмайром и, например, Д. Фраем, что все-таки земная архитектура есть литургическое повторение-воспроизведение чего-то «архитектонического», мистически существующего «там» и доступного в видении. Крайне важно иметь в виду строго интенциональный характер такого предположения.
(обратно)984
См.: Krautheimer, R. Introduction to an «Iconography of Medieval Architecture» // Journal the of Warburg and Courteauld Institutes. 1942. Vol. 5. P. 1-33; Gerusalemae celeste. Catalogo della mostra. Milano, 1983. Иначе говоря, иконография архитектуры, как она трактуется в данной книге, – это всего лишь одно, причем горизонтальное, измерение храмовой онтологии.
(обратно)985
Ср. замечание П. Франкля, что каждая католическая церковь символизирует Небесный Град (Frankl, P. Gothic Architecture. Baltimore, 1963. P. 758). Однако в целом критика концепции Х. Зедльмайра у Франкля носит внешне-полемический характер. Присоединяясь к разграничению Х. Янтценом «храма построенного» и «храма подразумеваемого» (Jantzen, Н. Über den gotischen Kirchenraum und andere Aufsätze. Berlin, 1951), мы именно вслед за Х. Зедльмайром (Sedl may r, H. Entstehung der Kathedrale. Fr. а. M., 1950) пытаемся выделить как раз иконное свойство храма, являющееся связующим звеном между буквальным и аллегорическим значением архитектуры храма. Сейчас бы мы добавили, что храм как связующее звено возможен лишь в том случае, если он воспроизводит (не обязательно иконно) пребывание в себе человека литургическое и телесное.
(обратно)986
Bandmann, G. Ikonologie der Architektur // Jahrbuch für Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaf. 1951. Bd. I. S. 1-67 (рус. пер.: Искусствознание. 2004. № 1). Idem. Mittelalterliche Architektur als Bedeutungsträger. Berlin, 1951.
(обратно)987
Опять-таки весьма смутная фраза… Ипостасно рассуждая, можно скорее сказав, что мир принадлежит храму.
(обратно)988
В этом смысле многозначителен такой нерукотворный образ, как колонна с отпечатавшимся образом Христа в момент Его бичевания (Kitzinger. Op. cit. P. 105). Правда, здесь «носителем» образа является только фрагмент архитектуры.
(обратно)989
Невольная оговорка, отвечающая, однако, сути дела: архитектурность и изобразительность должны мыслится в телесно-тактильном единстве.
(обратно)990
См.: Schild-Bunim B. Space in Medieval Painting and the Forerunners of Perspective. New York, 1940. P. 39-41.
(обратно)991
Вновь характерная скороговорка, хотя требуется объяснить, почему современность обеспечивает анагогичность (потому что актуализируется непосредственность теофанического опыта благодаря совпадению того, что зритель видит, и того, в чем он себя обнаруживает).
(обратно)992
Для понимания позднеготической композиционной системы до сих пор актуальна ранняя работа О. Пэхта: Pächt, О. Über Gestaltungprinzipien der westlichen Malerei des 15. Jahrhunderts // Kunstwissenschaftliche Forschungen, 2 (1933). S. 75-100.
(обратно)993
Общая характеристика итальянской поздней готики дана в классической работе Г. Вайзе: Weise, G. La corrente tardogotica nell'arte italiana // II Rinascimento e la sua eredità. Napoli, 1969. P. 133-155.
(обратно)994
См.: Palluchini, R. La pittura veneta del Quattrocento. Bologna. 1956. P. 89-114. Особенно P. 106-107.
(обратно)995
Хотя прямым источником для Джамбоно называется и его учитель – Джентиле да Фабриано, связанный с т.н. «мастером Брюссельского инициала», болонца по происхождению, пользовавшегося идеями Альтикьеро (Christiansen, K. Gentile da Fabriano. London, 1982. P. 347). См. недавнюю выставку и ее каталог: Gentile da Fabriano and the Other Renaissance. Ed. by Laura Laureati and Lorenza Mochi Onori. Milan, 2006 (добавление 2009).
(обратно)996
Disegni del Pisanello e di maestri del sue tempo. Catalogo della mostra. Venezia, 1966, P. 31, n. 15; P. 38, n. 20.
(обратно)997
Об этом памятнике см.: Brenzoni, R. Pisanello pittore. 1952. P. 135-143, tav. XV-XXIII.
(обратно)998
Об этих мастерах см.: Palluchini, R. Op. cit. P. 235-274.
(обратно)999
Мастерская, которую возглавлял д’Алеманья, специализировалась и на резных алтарных обрамлениях. См.: Fogolari, G. Giovanni d’Alemagna // Tieme-Beckers Lexikon der Künstler. Berlin – Leipzig, 1907. S. 164-166.
(обратно)1000
Лучше сказать, на престоле.
(обратно)1001
Treuherz, J. Te Border Decoration of Milanese Manuscripts 1350-1420 // Arte Lombarda. 1971. XVII. P. 50-55, 71-82.
(обратно)1002
Из почти безграничной литературы на эту центральную для позднеготической изобразительной системы тему выделим лишь одну, отличающуюся концептуальной насыщенностью: Ringbom, S. Devotional Images and Imaginative Devotions // Gazette de Beaux Artes. 1969. t. LXXIII, 3. P. 159-170.
(обратно)1003
Все, по крайне мере, на порядок сложнее. См. хотя бы вторую статью, помещенную в Приложении.
(обратно)1004
Ibid. P. 162.
(обратно)1005
Очень невнятное и очень номиналистическое оформление той мысли, что начальный (корпоральный) импульс литургического Богообщения для человека связан с предельной реальностью Боговоплощения, выражающего себя в Евхаристии.
(обратно)1006
«Архитектурность» особенно выражена в итальянских ретаблях XV в. См.: Braun, J. Der christliche Altar in seiner geschichtliche Entwicklung. München, 1924. Bd. II. Taf. 213.
(обратно)1007
Выражение «образ Тела и Крови Христовой, то есть Св. Дары» не совсем удачен.
(обратно)1008
Büchsel, Mar tin. Ecclesia symbolorum… S. 69-70.
(обратно)1009
Belting, H. Die Reaktion der Kunst des 13. Jhs. auf den Import von Reliquien und Ikonen // Ornamenta Ecclesiae. III. S. 173-185.
(обратно)1010
Jungmann, J. A. Missarum solemnia. Wien, 1948. Bd. II. S. 250.
(обратно)1011
Zimmermann, E. Der spätgotische Schnitzaltar. Frankfurt am Mein, 1979. S. 9. Для понимания вполне реального изоморфизма и всего храма, и всех уровней его убранства важно иметь в виду не только цеховое единство всех мастеров, работавших в храме, но и четкую иерархию типов, масштабов заказов, посвящений соответственно общины, семейств, отдельного лица: все (храм, алтарный образ, статуя для алтаря) мыслилось подобным с разницей исключительно в богатстве, масштабе.
(обратно)1012
Характерно наименование отдельных элементов конструкции в литературе того времени: система сводов – это ciborium. См.: «Arcus superiorus». Abt Suger von St.-Denis und das gotische Kreuzrippengewölbe // Wallraf Richartz Jahrbuch. L, 1989. S. 7-24, особенно S. 10.
(обратно)1013
О храме как о целом см. у Э. Маля: Mâle, Е. Die Kirchliche Kunst des XIII. Jhs. in Frankreich. Straßburg, 1907. Условие целостного рассмотрения здесь – соотнесение с литературным источником-парадигмой (Винсент из Бовэ). Более универсальная по литературному кругозору и менее «художественная», более церковно-археологическая попытка: Sauer, J. Symbolik des Kirchengebäudes und seiner Ausstattung in der Aufassung des Mittelalters, Freiburg i. Br., 1924. Из числа последних работ см.: Stookey, L. H. Te Gothic Cathedral as the Heavenly Jerusalem: Liturgical and Teological Sources // Gesta, 8, 1969. P. 35-41.
(обратно)1014
Принцип «концентрации» дополняется принципом «обрамления» – одним из качеств «диафанической структуры» по Х. Янтцену. Оно выражается в отношении боковых пространств к центральному нефу следующим образом: «обволакивание стены центрального нефа пространственным фоном» (Jantzen, H. Über den gotischen Kirchenraum und andere Aufsätze. S.72). Ср. иную интерпретации того же свойства у Панофского: Panofsky, E. Gothic Architecture and Scholastlcism. Cleveland and New York, 1967. P. 43-45.
(обратно)1015
Кurmann, Р. La facade de la cathedrale de Reims. Bd. II, Paris, 1987. Pl. 458.
(обратно)1016
Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800-1400. Katalog der Ausstellung. Köln. 1972. Bd. I. S. 403.
(обратно)1017
Возвращаем читателя к заметке Г. Андре «Архитектура и прикладное искусство как предмет иконографии» (1939), о которой говорится во «Введении…» данной книги («Архитектура изображаемая и архитектура изображающая»).
(обратно)1018
И в качестве еще одного текста-иллюстрации – наоборот, сравнительно недавний опыт своего рода дискурсивного анализа готической архитектурной поэтики. Данный текст – заключительный фрагмент работы «Храм и Грааль в Западном средневековье», опубликованной в сб. «Храм земной и небесный». Под ред. Ш.М. Шукурова. Т. 1. М., 2005. Текст воспроизводится с незначительными исправлениями. Следует воспринимать всю нижепредставленную словесную продукцию как своего рода предварительно-экспериментальную разметку – «съемку местности» – для последующих строительно-мыслительных работ-усилий.
(обратно)1019
Jantzen, Hans. Über den gotischen Kirchenraum // Mitteilungen der Freiburger wissenschaflichen Gesellschaf, 1927; Sedlmayr, Hans. Das erste mittelalterliche Architektursystem. Jahrbuch Kunstwissenschaflicher Forschungen. 1933. Bd. II. S. 25-62; (рус. пер. – История архитектуры в избранных отрывках. М., 1935. С. 151-199).
(обратно)1020
Наиболее выразительное изложение подобных «аналогий» (уже на уровне подзаголовка) – это, конечно же, Панофский (Panofsky, E. Gothic Architecture and Scholasticism. An Inquiry into Analogy of the Arts, Philosophy and Religion in the Middle Ages. New York – London, 1976. P. 30, 43f).
(обратно)1021
Norberg-Schulz, Chr. Meaning in Western Architecture. New York, 1975. P. 221-222.
(обратно)1022
Панофский, Э. Готическая архитектура и схоластика // Богословие в культуре Средневековья. Киев, 1992. С. 67, 69 (со ссылкой на Р. Арнхейма и св. Фому Аквинского, но без упоминания Янтцена и Зедльмайра с их идеей все той же «диафании»). Ср. далее замечание о том, что «четкая и весьма стандартизированная схема» готического храма «проясняет и нарративный контекст» (C. 68).
(обратно)1023
Norberg-Schulz, Chr. Op. cit. P. 185.
(обратно)1024
Там же. С. 69-70.
(обратно)1025
Панофский. Цит. соч. С. 62 и сл.
(обратно)1026
См.: Coldstream, Nicola. Medieval Architecture. Oxford – New York, 2002, P. 160f.
(обратно)1027
В протестантизме это морально-экзистенциальное переживание.
(обратно)1028
Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974. С. 285 (со ссылкой на Шпенглера).
(обратно)1029
Эко У. Цит. соч. С. 340.
(обратно)1030
Там же. С. 341.
(обратно)1031
Там же. С. 344.
(обратно)1032
Это целая череда, прежде всего, немецких историков искусства, представителей, видимо, подлинной «истории духа как истории культа» – не столько гегельянской, сколько непосредственно христианской: В. Пиндер, Х. Янтцен, Х. Зедльмайр, Т. Хетцер, Д. Фрай.
(обратно)1033
Jantzen, H. Kunst der Gotik. Klassische Kathedralen Frankreichs. Chartres, Reims, Amiens. Hamburg, 1957, S. 42-43. Собор как гигантская полупрозрачная скульптура-рельеф – это не менее фантастично, чем балдахин-табернакль Зедльмайра! К такому же «гештальту» собора склоняется и фон Симсон (Simson, O. von. Te Gothic Cathedral. Origins of Gothic Architecture and the Medieval Concept of Order. New York, 1956), говоря о соборе как о «screen». Но, в отличие от Зедльмайра, Янтцен удерживает «различение» между ecclesia spiritualis и ecclesia materialis.
(обратно)1034
Эко У. Цит. соч. С. 339.
(обратно)1035
Русский язык вносит некоторую неопределенность в экклезиологические высказывания: по-русски обозначаются одним словом два различных феномена: 1) Церковь как мистическое «Тело Христово», как общение (communio) верующих, как институция, наконец, как Таинство и 2) церковь как постройка, kyriakon, «Дом Божий», место молитвы. Последнее значение в данном тексте последовательно передается словом Храм. «Церковь» – это именно ecclesia.
(обратно)1036
Niedner, Helmut. Die deutschen und französischen Osternspiele bis zum 15. Jh. Berlin, 1932.
(обратно)1037
Dalmann, D. G. Das Grab Christi im Deutschland. Leipzig, 1922. S. 13-15.
(обратно)1038
Ibid.
(обратно)1039
Ibid. S. 17.
(обратно)1040
Ibid. S. 18-19.
(обратно)1041
Ср.: «Исключительное положение Евхаристии основано на представлении о реальном настоящем Христа в хлебе и вине, и оно продолжается также extra usum; так в итоге таинство создает устойчивое присутствие Господа Церкви внутри самой Церкви, становясь sacramentum sanctissimum» (Schröder, W. J. Der Ritter zwischen Welt und Gott. Idee und Problem der Parzivalsromans Wolframs von Eschenbach. Weimar, 1952. S. 67).
(обратно)1042
Невозможно удержаться от упоминания субботней темы в причудливой алхимической эзотерике и в не менее порой замысловатой народной мистике.
(обратно)1043
«… в неизменной, вечной “угодности” Отца и Сына может в качестве некоего возможного состояния бытия возникнуть своего рода форма “неугодности” и взаимного отчуждения. <…> Но как далеко может Тот, Кто абсолютно чист, углубиться в антимир нечистоты, не оправдав при этом его, антимира “нет” Богу? Ответ: до состояния отказа <…> Иисус берет на Себя грех отвернувшегося от Бога грешника лишь после того, как в Его сердце установилась конечная пустота, в кенозисе, который вместил весь грех мира, но в котором Господь видит лишь предельную любовь Сына» (Бальтазар Г.-У. фон. «Распятого же за ны…» – тайна «заместительства» // Символ, № 7, 1982. С. 7-18. Цит.: C. 16, 17). Но мы должны представлять себе и глубины, бездны человеческой души, психики, где бурлят нуминозные образы архетипического фантазирования.
(обратно)1044
Ср. у фон Бальтазара: «…чаша, о которой говорит Иисус, не может быть ничем иным, как “чашей гнева Божия”, а “час”, о котором идет речь, – лишь “Днем Господа” в ветхозаветном понимании» (Бальтазар Г.-У. фон. Цит. соч. С. 16 – со ссылкой на С. Булгакова и А. Фойе).
(обратно)1045
Ср.: «Священник есть подлинный creator смыслообраза в конкретном культовом акте; он совершает лишь то, что уже произошло в душе верующего. <…> Он совершает то, что полагается совершить согласно природе смыслообраза, и наоборот: восприятие смыслообраза повсюду определяется непосредственно функциями священника» (Schröder, W.J. Op. cit. S. 45). Вообще-то говоря, у Шредера налицо, как мы это увидим в дальнейшем, характерное протестантское восприятие священства, соответствующее точке зрения гипотетической «христианской первообщины», когда в Евхаристии якобы еще не видели никакого transubstantiatio, а священник был всего лишь возглавителем молитвенного собрания, свободным от «магических функций». Именно с таким пониманием Евхаристии, как кажется Шредеру, связана и «мистерия Грааля» (Op. cit. S. 68).
(обратно)1046
Юнг К.-Г. Символ превращения в Мессе // Он же. Ответ Иову. М., 1995. С. 264. Ср.: «Бывают очень примечательные представления, которые относятся к обрамлению воспринимаемого (выделено мной. – С. В.) нами окружения – представления, в которых представляемые предметы вовсе не репрезентированы в воображении» (Ингарден Р. Цит. соч.. С. 82).
(обратно)1047
Панофский Э. Аббат Сюжер и аббатство Сен-Дени // Богословие в культуре Средневековья. Киев, 1992. С. 101. Следует обратить внимание на не вполне, быть может, осознанный дуализм Сугерия, для которого Земля («мерзость») и Небо («чистота») – явные полярности, что свойственно скорее духу платонизма, манихейства, катарства, чем христианства. Не здесь ли коренятся все противоречия собора как культурного и духовного феномена?
(обратно)1048
Sedlmayr H. Die Entstehung der Kathedrale. Frankfurt am Mein, 1978, S. 478. Чуть далее автор «Возникновения собора» прямо указывает, что эта победа привела к «уменьшению страха перед Тайной» (Ibid. S. 479).
(обратно)1049
Browe. Op. cit. S. 184-188. В Новое время, особенно в посттридентском богословии, в частности у иезуитов, окончательно побеждает томистский взгляд, хотя у францисканцев бытует взгляд более специфический (Бог создает новую телесную субстанцию, специально для данного чуда). См. того же ученого иезуита: Browe, P. S.J. Die Verehrung der Eucharistie im Mittelalter. München, 1933.
(обратно)1050
Browe. Op. cit. S. 189.
(обратно)1051
Browe. Op. cit. S. 192.
(обратно)1052
В любом случае существовали еще и такие вещи, как народное благочестие и реальная богослужебная практика. То и другое требовало очень четкого ответа на вопрос о реальности «сакраментального Христа». Народная вера (и ученая вера до XIII в.) лишена была сомнения в подлинности всех «чудес превращения» и требовала своего оправдания или объяснения (а что если все это заблуждение, и Церковь санкционирует ложные обычаи?) Литургическая практика была озабочена тоже весьма непростой вещью: продолжать ли Мессу после чуда или начинать ее сначала на других Дарах (ведь, согласно общепризнанному мнению, нельзя причащаться настоящей, например, кровью, ведь Месса – воспоминание Тайной Вечери); может ли службу продолжать прежний священник или ее должен уже возглавить новый (если Христос присутствует и в чудесно изменившихся Дарах, значит, consecratio, освящение Даров совершено правильно и начинать новую Мессу должен другой священник, так как два раза литургисать одному священнику запрещалось, и т.д. (Browe. Op. cit. S. 198-200).
(обратно)1053
О Пещере как «месте центра или трансформации» в контексте универсального символизма, присущего «мистерии превращения» и характерного, в том числе, и для исламского мистицизма см. у К.-Г. Юнга в «О перерождении» (Он же. Синхронистичность. М., 1997. С. 164ff).
(обратно)1054
Op. cit. S. 22-25.
(обратно)1055
Еще одна крайне важная черта – почти ничего не говорится о том, как был освящен этот Храм св. Грааля. Лишь сказано, что это сделал епископ Пенитенце (ст. 112). Как нам кажется, это умолчание не случайно: ведь известный нам ритуал освящения церковного здания предполагает, что земной храм – образ, икона, визуальная метафора Небесного Иерусалима (фактически целого города, что не случайно и выдает как раз иконический, знаковый характер сакральной архитектуры). Налицо два типа храмов, причем храм Новозаветный – только оболочка для Ветхозаветного, как бы восстановленного благодаря обретенному Граалю. Здесь же налицо ситуация Земного Рая. Небесный Иерусалим уже на земле – это целый город-крепость, средоточие его – как раз Храм Грааля, который, как мы вынуждены констатировать, символизируем, актуализирует Второе пришествие Первого храма.
(обратно)1056
Röthlisberger, B. Die Architektur des Graalstempels in Jungeren Titurel. Bern, 1917.
(обратно)1057
Ibid. S. 48-51.
(обратно)1058
Один из исследователей находит в этой процедуре отзвук восточно-христианской эпиклезы, то есть призывания Св. Духа для освящения Св. Даров (Skerst von. Op. cit. S. 28, 30).
(обратно)1059
Хотя нельзя избавиться и от мысли, что эта реликвия – Грааль – именно мощи, остатки чего-то, может быть, самой керигмы. И ситуация была бы куда серьезней с точки зрения смысла, если бы возможна была такая конструкция, когда реликварий-табернакль «Святая Святых» вмещала бы в себя те алтари, на которых совершается Месса…
(обратно)1060
Более того, можно предположить, что «Грааль» – это своего рода «посвящение» данного святилища, например «неведомому Богу» (Деян. 17, 23).
(обратно)1061
Ringbom, Lars-Ivar. Graltempel und Paradies. Beziehungen zwischen Iran und Europa im Mittelalter. Stockholm, 1951. S. 496.
(обратно)1062
Не случайно так распространена идея, что Вольфрам и автор «Титуреля» имеют в виду реальную – героическую и отчаянную – оборону своих горных крепостей-пещер альбигойцами во время крестового похода в Прованс. См. об этом: Rahn, O. Kreuzzug gegen den Graal. Freiburg in Br., 1933 (рус. пер.: М., 2002). Главный тезис данного изыскания (Храм Грааля – реальная святыня катаров) близка общим постулатам теософии. Ср.: Майер Р. В пространстве – время здесь… История Грааля [1960]. М., 1997.
(обратно)1063
Ср. весьма древний экзегетический тезис, восходящий через свт. Григория Нисского к Оригену: Боговоплощение – всего лишь средство для «отвода глаз» врага рода человеческого.
(обратно)1064
Deinert, W. Ritter und Kosmos im Parzival… München, 1960, S. 91-92.
(обратно)1065
Ср. первоначальную практику совершать возникший в X веке великопостных обрядов depositio, visitatio etc. при закрытых дверях храма, то есть без участия мирян. См. Roach, W.J. Eucharistic Tradition in the Perlesvaux… Chicago, 1939.
(обратно)1066
Ringbom, Lars-Ivar. Graltempel und Paradies… S. 478.
(обратно)1067
А если возможно говорить, то, значит, возможно и искать. См. Ringbom, L.-I. Op. cit. S. 479.
(обратно)1068
Ringbom, L.-I. Op. cit. S. 480.
(обратно)1069
Как это делает тот же Рингбом, обретая в конце своего изыскания священную жемчужину Зороастра, которая, в свою очередь, – только символ его небесного тела, протосубстанции мира (Ringbom, L.-I. Op. cit. S. 483f).
(обратно)1070
Ringbom, L.-I. Op. cit. S. 475 («Иначе говоря, мы должны спросить: в чем заключается сила Грааля? В сосуде, то есть во внешней форме, или в гостии, то есть в вещественном содержании?»).
(обратно)1071
См. Browe. Op. cit. S.190-191.
(обратно)1072
Налицо определенные монофизитские аллюзии (ср., например, христологию Севира Антиохийского).
(обратно)1073
Ringbom, L.-I. Graltempel und Paradies… S. 511: «Согласно зороастрийским верованиям, субстанциальная составляющая телесной природы Заратустры, его семя, покоится в глубинах озера, охраняемая его еще не родившимися мифическими сыновьями. В эту эпоху пришествия искупителя сперма живущего в середине времен спасителя подвергнется обновляющей инкарнации».
(обратно)1074
Les Romans du Gral aux XII-e et XIII-e siècles. P., 1956.
(обратно)1075
Ringbom, L.-I. Op. cit. S. 512-513.
(обратно)1076
Восточно-христианский храм – образ Неба, причем как раз в платоническом смысле. Западно-христианский храм – образ мироздания целиком, причем в аристотелевском понимании. В одном случае – крайний реализм (идеализм), в другом – умеренный, переходящий в «эстетический номинализм»: в этом мире можно встретить только наглядные имена-знаки, которые суть указания на временную недостижимость сущности, существование которой не обсуждается. См. у Бандманна по поводу учения Беренгария замечание об «исключительно высокой оценке слова как средства репрезентации и реализации материи, свободной от изъянов реальной экзистенции» (Bandmann. Op. cit. S. 22). Кроме того, следует учитывать и принципиальный антиэстетизм платонизма и неоплатонизма, склонного считать ту же Св. Софию типичной «постройкой-софизмом, которая не являет зрителю заложенный в ней план, но стремится ввести его в заблуждение». (Büchsel, Martin. Ecclesia symbolorum…S. 73-74).
(обратно)1077
Но почему же кажется, будто Грааль убирает, редуцирует специфическую христианскую сакральность, теофанию? Краткий ответ-резюме выглядит так: 1) Грааль делает это а) культурно-исторически, так как это «универсалия» большего исторического масштаба, включающая в себя и дохристианские и около-христианские смысловые и мифологические «поля»-конетексты; б) онтологически – как утверждение «посюсторонности» и проблематичности человеческого универсума (см. у Марселя о «трагическом устройстве этого мира»); 2) в Граале происходит «интериоризация» Святая Святых в двояком смысле слова: а) относительно мира (Тайна становится присущей миру – «земному раю»); б) относительно человека (акцент на нравственном подвиге, сменяющем мистериальный опыт); 3) Необходимо учитывать и «альтернативную», не-христианскую духовную традицию, выраженную, помимо прочего, и в специфическом – дуалистическом, гностическом, манихейском (значит, и катарском) – богословии, «снимающем», в том числе, и христианскую триадологию, превращая ее в «квадрологию» (См. у Jung, E., Franz, M. L. von . Op. cit.).
(обратно)1078
Dulles, Avery Robert, S.J. Models of the Church. Exp. Ed. New York. 1987. P. 60-61.
(обратно)1079
Schröder, W. J. Der Ritter zwischen Welt und Gott… S. 68-69. Признавая за Евхаристией прежде всего исцеляющее (телесное и душевное) действие, Шредер сводит это Таинство, на самом, деле к другому – к Соборованию, которое совершается в Католической церкви над умирающем и потому является последним таинством Церкви в этом мире. Такое понимание Грааля как сакраментального теменоса не лишено смысла, хотя эту идею данный автор совсем не развивает.
(обратно)1080
Lützeler, H. Die christliche Kunst Deutschlands. Bonn, 1936. S. 93 f.
(обратно)1081
Ibid. S. 192f.
(обратно)1082
Ibid. S. 194.
(обратно)1083
Büchsel, Martin. Ecclesia symbolorum… S. 70-74. Мы приводим столь обширный фрагмент из статьи М. Бюкселя только потому, что данный текст сам по себе является примером символико-экклезиологической экзегезы, на что обращает внимание читателя его автор.
(обратно)1084
Ханс Кюнг указывает на особую роль женщин (самые замечательные из них – Гертруда из Гвельфты и Метхильда из Магдебурга) в немецкой позднесредневековой мистике (Küng, H. Das Christentum. Wesen und Geschichte. München-Zürich, 1994. S. 514. «А не предложила ли мистика, которая столь пышно расцвела именно в Позднем Средневековье, некую новую парадигму теологии и Церкви? В чем заключается ее очарование? Из многих ее притягательных свойств можно назвать следующие: тенденции к интимизации, одухотворению, к постижению сущности; внутренняя свобода в противоположность институциям, делам благочестия, узам догматики; преодоление дуализма, формализма, авторитаризма» (Ibid. S. 515).
Недавно появился русский перевод Метхильды: Метхильда Магдебургская. Струящийся Свет Божества. Пер. Р.В. Гуревич и Е.В. Соколовой. М., 2008.
(обратно)1085
Goldammer, K. Die Formenwelt des Religiösen. Grundriss der systematischen Religionswissenschaf. Stuttgart, 1960. S. 195.
(обратно)1086
Ibid. S. 197.
(обратно)1087
Св. Тереза Авильская. Внутренний замок. Пер. под ред. Н. Трауберг. М., 2000. С. 7-10. Стоит обратить внимание на «жемчужину Востока» – на всю ту же неизменную метафору Грааля. Ср. в «Духовных Упражнениях» св. Игнатия Лойолы непременное требование предварять всякое молитвенное делание «представлением места» – своего положения перед Богом и пространственной ориентации тех событий, которые становятся предметом размышлений.
(обратно)1088
Goldammer, K. Die Formenwelt des Religiösen… S. 202-203.
(обратно)1089
Norberg-Schulz Chr. Meaning in Western Architecture. P. 222.
(обратно)1090
«Мистагогия – это <…> такое богословие таинств, в котором историческое спасительное событие рассматривается как совершающееся в литургическом действии» (Теста Б. Таинства в Католической церкви. М., 2000. С. 26).
(обратно)1091
Добавление 2009 года – С.В.
(обратно)
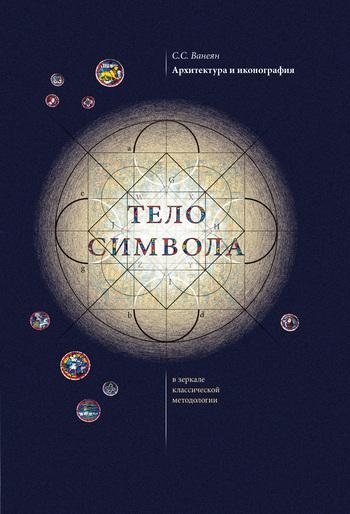
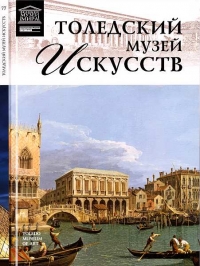







Комментарии к книге «Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классической методологии», Степан Сергеевич Ванеян
Всего 0 комментариев