Например, он самолично лил для себя из охотничьей дроби свинцовые палочки, которыми писал, а бывало, тайком драл с чужих гусей перо – для тех же целей. Обучаясь в Германии, чаще всего обходился простым пивом и селедкой, самыми дешевыми там продуктами.
Это, несомненно, усугубило врожденную ярость его характера.
Однажды в Петербурге на Васильевском острове в темное время его захотели ограбить три матроса. Будучи физически сильным, одного Ломоносов оглушил, второго обратил в бегство, а с третьим проделал то, что матросы пытались проделать с ним самим – то есть без всякого сожаления содрал с матроса камзол, куртку, штаны и все это унес с собой.
Вспыльчивость Ломоносова, нетерпимость к невежеству – «к любой дурости», как он сам говорил, сильно усложняли его жизнь.
Как заметил один из историков науки, ветром, дунувшим в окно, прорубленное Петром I, из Европы нанесло всякого. С одной стороны, реформы энергичного царя подготовили создание русской Академии, которая открылась в 1725 году в Санкт-Петербурге, с другой стороны, кроме истинных ученых, приглашенных из-за рубежа (Леонарда Эйлера, братьев Бернулли), гораздо больше понаехало в Академию карьеристов, откровенно презиравших Россию. Один из таких приглашенных, немецкий историк А. Шлецер, изучая архивы, так писал о первых русских исследователях: «Что были это за люди, которые славились своими познаниями в русской истории?… Люди без всякого ученого образования, люди, которые читали только свои летописи, не зная, что вне России существовала история, люди, которые не знали другого языка, кроме своего отечественного…» Из сказанного Шлецер делал вызывающий вывод, что «…все, до сих пор в России напечатанное, ощутительно дурно, недостаточно и неверно».
На такие построения Шлецера Ломоносов незамедлительно ответил с присущим ему темпераментом: «…Из сего заключить можно, каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная к ним скотина».
«Должно смотреть, – писал Ломоносов о членах Академии, – чтобы они были честного поведения, прилежные и любопытные люди и в науках бы упражнялись больше для приумножения познания, нежели для своего прокормления, и не так, как некоторые, снискав себе хлеб, не продолжают больше упражнения в учении с ревностью. Паче же всего не надлежит быть академическим членам упрямым самолюбам, готовым стоять в несправедливом мнении и спорить до самых крайностей, что всячески должны пресекать и отвращать главные командиры».


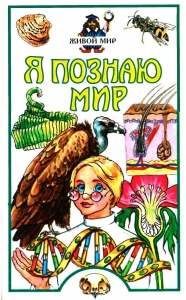
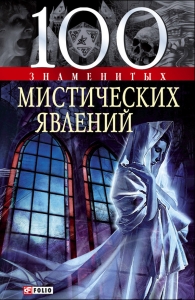
Комментарии к книге «Самые знаменитые ученые России», Геннадий Мартович Прашкевич
Всего 0 комментариев