Михаил Богатов Имя Твоё
В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя меня одну оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Евангелие от Луки, 10:38-42Мария была так полна мечты, ее влекло куда, она не знала, желалось ей чего? сама не знала! Мы слегка подозреваем эту милую Марию в том, что она сидела так у ног Господних, больше чтоб испытывать это состояние, нежели ради духовной жажды!
Вот почему обращение Марфы: Господин, скажи, чтоб она встала! Она боялась что сестра предастся сладостным чувствам и остановится на этом
Марфа была настолько положительна, что ее глубокая связь с миром не мешала ей направить все дела свои и занятия к вечному спасению. – И Мария должна была сначала стать Марфой, прежде чем действительно стала Марией. Ибо, когда она сидела у ног Господа нашего, она еще ею не была: была ею по имени, но не по духовным делам своим. Она была еще в полосе восторгов и сладких чувств: она еще только пришла в школу и училась жить. Тогда как Марфа была по существу так утверждена, что могла сказать: Господин, скажи ей, чтобы встала! То есть: Господин, я бы хотела, чтоб она не сидела тут, восхищенная, я бы хотела, чтоб она теперь же училась жить, чтобы вошло это у нее в плоть и кровь. Скажи ей, чтоб встала! Дабы стала она совершенной.
Мейстер Экхарт. Мария и Марфа Веками сотворенная печаль пришлась по вкусу веку: Fleurs du Mal залить слезами, пробежать страницы в запретный сад, где высохла едва ль одна слеза влюбленной ученицы. И К Лазарю твердящие уста — как Юлиан, приемлющий Христа, когда проказа пахнет адской серой, как на колени ставшая сестра перед сестрой, глумящейся над верой. Ольга Седакова. Проклятый поэтВступление
в котором мы знакомимся с Марфой и узнаем о том, как непросто она засыпает
И когда Марфа засыпает, мечтать она принимается не сразу. А когда она начинает, то даже не понимает почему мечты её разворачиваются в приятные общем-то картины, в коих она принимает самое внимательное участие, почему разворачивается то через вздох усталости и разочарования даже, ставшего уже обыденным, ведь и в самом деле, день закончился и вроде бы она жива и здорова, и сестра её в порядке, сестре свойственном, и маменька, и папенька живы и внешне даже являют благополучие для взгляда родственного, ближнего или просто завистливого стороннего, да и она, Марфа, не желает ничего особенного, научившись желать исполняемого лишь, о недостижимом даже не помышляя, и уютно, и тепло в постели ей её, но тем непонятнее, тем сильнее действует на неё грусть отрешающая, оказывает влияние своё неблаготворное, и лучшее её самое перед сном вдруг окрашивается в тона мрачные вздоха тяжёлого, и звучит всё с эхом тоски будто, даже самое фантастическое мечтание её укутывается в тени печальные, и чем диковиннее, тем ярче кайма обрамляющая мрака, чем ярче цвета в середине, тем натуральнее по краям тоскливое обрамление, не понимает Марфа что же с нею такое, и корила прежде себя за натуру свою, недовольство неблагодарное хранящую, но то прежде, а ныне стали отвращать её от мечтаний её тени тоски и печали невнятные, и вместо того, чтобы мечтать беззаботно, размышляет Марфа теперь: почему мечтать даже не смеет ныне о приятном беззаботно, и себя понять в отношении этом стремится вечер каждый, на безнадёжность усилий этих и безрезультатность повсеместную, утром блекнущую до глупостей вчерашних хандрических, несмотря;
и когда Марфа засыпает, не в царство грёз погружается она думами своими девичьими, а к грусти, все-все мысли её сопровождающую подспудно, нисходит она и из под спуда совлечь чары её желает, и намерения собственные, но себе же тайные на свет очей собственных вывести, и причины к состояниям своим меланхолически беспричинным отыскивает, но не верит в них зато, а в то что причин быть не может или неподвластны ей они, не думает даже, увлекаясь, и причины не отыскивая, внимание на всякой подворачивающейся мелочи сосредотачивая, зато зная уже наверное, и вечером подтверждается то непременно, что хандра её вечерняя не такая уж и вечерняя, она и днём никуда не девается, так лишь, задремлет под лучами солнечными, зато днём Марфа не помнит даже этого о хандре вечерней повсеместной, не распознаёт её нигде и вечером кажется ей, будто днём она просто забывает самое существенное в себе, а днём кажется, будто по вечерам она краски себе намеренно сгущает от делать нечего или вовсе об этом не вспоминает, а днём-то делать есть что всегда, и не может иначе разобраться Марфа с этим, знает лишь, что дневная деловитая и вечерняя печальная уживаются в ней завсегда, а кто из них главная и кого из них кому подчинить, не гадает даже уже, ведь дневная всегда отмахивается от вечерних печалей вчерашних как от старья отсыревшего перед лицом дня всегда нового и всерьёз ничего не принимает, а вечерняя решений принятых не помнит утром, и остаётся теперь, ко сну уходя, третья, недавно появившаяся, которую обе прежних приняли сразу, та остаётся, которая знает: не решить этого спора печали и забвения никак, и жить с ним приходится, и что ужасное самое: дальше придётся тоже и может быть хуже, и оттого как удерживается эта третья во все времена суток, немного странно ощущает себя Марфа, и догадываться начинает вполне уже о том, что же именно третья изначально в себе внесла в жизнь её расколотую надвое: и первая вечерняя, и вторая дневная, обе суть одно, и были и есть и будут до смерти её, и одно это зовётся третьей, а вот о последней ничего сказать нельзя и вопроса ей не поставить, говорит и вопросы задаёт только она сама, и ничего не поделать с этим уже, такая вот безысходность, и с нею спать приходится так верно, как ни с каким мужем жена никакая ни разу ещё не;
и когда Марфа засыпает, не видит она, как в мечтаниях прежняя ненужность её для людей других сказывается, и каждое мечтание из ненужности этой в растения диковинные и экзотичные вырастает, и цветами оргазмическими раскрывается само собой будто, да и как Марфе это увидеть, ежели так хороша она собой, что никто не называл её уродливой или дурной, кроме случаев, редких впрочем, когда сказывающие такое теми словами в бессилии её красоту завоевать признавались лишь, и так поражение своё отмечали нестыдно для друзей, а к ней, напротив, не относилось это тогда никак, и для неё, и для подруг её дневных комплимент это был и не иначе, и говорящий это знал, яростнее ещё распаляясь, и кожа Марфы гладкая и упругая, настолько, чтобы даже знающий Марфу хорошо как сестру, такой кожи коснувшись, возжелал её будто незнакомую, и тело её страстно настолько, что кажется ей иногда, будто никто телу такому не нужен сторонний, и само собой оно довольствоваться умеет, а именно такие тела самое бурное желание со стороны и вызывают, и груди её небольшие такие, что рука любая, их коснувшись, тут же воли супротив не отпустит ни за что, знает это Марфа о себе всё, но не замечает каким всё это негодным в одиночестве хламом делается, все желания эти к ней, все прикасания и взгляды, среди людей будто назойливые мухи, успевай лишь отмахиваться то и дело, и Марфа отмахивается и в отмахивании таковом поднаторела, и редко кто цели достигает, но в одиночестве любое касание цели достигшего чуть ли не чудом вспоминается завсегда, и знает Марфа о себе людской желанной и неприступной, и догадываться уже начинает о себе одинокой и ненужной, и не может примирить этих двух, людская неприступная воли супротив в кокетствах игривых расплывается, одинокая ненужная хоть о ком, о любом, мечтает нежном, но неприступная смеётся на людях над ненужностью девичьей, а ненужная до того бессилием наполнена, что даже и не помышляет до себя боль свою донести и лишь жалеет неприступную ненужная, и себя в ней оплакивает, и сказать при всех не может, как никакая красота её ни на что не годится, и сыта ею не бывает она в одиночестве, а давится лишь, как ничтожны все эти ужимки и уловки, к себе заманивающие, оттолкнуть чтобы лишь сразу же, как они самоубийственны и унижают одинокую, и плодят лишь ненужность её, а одиночество гордостью не насытить, и самоудовлетворением не удовлетворить, и неприступностью перед одиночеством не похвалиться, аргумент жалкий, и пора бы уже не думать о том как о тебе другие подумают, коих в одиночестве рядом никогда не оказывается, а вот ненужность потоком нескончаемым во все поры кожи красивой и тела желанного другими наполняет Марфу, и ко дну печали безысходной тащит, а на дне том много рытвин и ухабов, и надежд затонувших и мечтаний детских несбывшихся, тайн и страхов собственных обретается, и не сказать желанной людьми себе дневной: пойдём со мной хоть раз, на дно наше, одинокая одна Офелией там бродит, всё чаще и чаще, и вновь и вновь узнаёт знаемое, и рыдает в подушку, от маменьки своей обряд нехороший сей перенимая, в то время как людская дневная всё более хохочет, глазки строит прекрасные умело и миленькие улыбочки всем подряд раздаёт;
и когда Марфа засыпает, начинает она охотиться за той дивной людской, ей вечерней одинокой не внимающей, и находит её тут как тут в мечтания диковинные погружённую: идёт Марфа дневная по Лос-Анджелесу какому-нибудь в туфлях красивых на каблуке высоком, по залитому солнцем непыльному тротуару, и в руке держит пакет бутиковый, где пеньюар нежнейший цветочный только что купленный обретается, идёт она к машине своей и во взглядах встречаемых людей даже зависти не усматривает: настолько она счастлива в безмятежности своей, настолько другие тоже счастливы и красивы счастьем своим, ей подобно, и никакого намёка на несчастье и бедность и злость от нищеты нет во взглядах их, её взгляд и их, встречных, все открыто смотрят и улыбаются, они все как одно целое, и она с ними там же, отзывчивые и благотворительные, но здесь они лишь покупают вещи красивые и дорогие для любви своей, и лишь если кто из них о помощи попросит, они все, и она тоже, поможет ему, конечно, бедолаге, но все знают и верят в то, что никто здесь в помощи не нуждается, и оттого легче на других глядеть, и оттого счастливее каждый здесь делается, а затем путь на машине с верхом открытым, когда ветер тёплый волосы ей развевает, нежно щекотит по шее обнажённой волосами её шелковистыми, и по плечам под тканью тончайшей, а машина вдоль побережья с левой стороны морского гладью солнечно-бирюзовой сверкающего разворачивается, и по эту сторону тротуар людьми беззаботно загорелыми и не специально красивыми полнится, они ей приветливо машут, и она им в ответ улыбается, очки тёмные на кончик носа сдвинув слегка, по правую сторону магазины с вещами дорогими, но красивыми, и с кафе под зонтиками пёстрыми для купающихся, где пьют они коктейли прохладные и о любви говорят на свиданиях долгожданных или случайных, и никакой России чтоб убогой здесь не мелькнуло, и дом на холме белый тогда встретит её воротами автоматическими, и снова вежливый пожилой садовник, отца ей её напоминающий, снова восхищённо скажет, что госпоже лучше всё-таки пользоваться услугами шофёра, на что она ответит, весело смеясь, это такое ритуальное приветствие между ними, ответит, что предпочитает сама водить машину, что ей это нравится, и садовник в шутку упрекающе закивает головой, молча поклонится и отойдёт снова вглубь сада её великолепного, а она душ примет, прохладных апельсинов выжмет в сок себе освежающий, и теперь время в бассейне поплавать, в саду расположенном, из коего вид открывается на гладь морскую бесконечную, но тут Марфа одинокая себя прерывает и, кажется, рушится всё;
и когда Марфа засыпает, она спрашивает у так мечтающей: а как же я, и не говорит ничего больше, и досаду испытывает, и в молчании длительном, в комнате, сумраком окутанной, в постели, теплом уютным пододеяльным согретая, неизвестно кто уже, какая из них, говорит: быть знаменитой и любимой, что в этом плохого, но ответа нет, и тогда поправляется Марфа: быть богатой и любимой, что в этом плохого, а любимой и небогатой, будто спрашивает тишина комнатная с изредка доносящимися из окошка издалека проезжающими машинами, тогда всё как в России будет, а я не хочу как в России, а что там нет бедных, не в России, хорошо, сдаётся на милость молчания, давящего своим упрямым сопротивлением и клонящего неизвестно к чему, мне всё равно где, но быть любимой так, чтобы бедность не мешала любви моей, и теперь молчание долгое, и не спрашивает уже ни о чём вовсе, и даже не кажется, будто спросить желает, но Марфа не вытерпливает, отвечает: нет, любовь не может длиться изолированно, но почему она не может, ведь любовь может всё, нет не может она всего, если Бог, Бог любовь, то Он может всё, а сама по себе безбожная она ничтожна, слышишь, Марфа, ничтожна, но Марфа не желает слушать, хотя и знает, что это правда, и что дневная в мечтах солнце тем ярче представляет, чем яростнее от одинокой хочет избавиться и заглушить её вопросы, и каблуков таких она никогда не надевала, да и надеть не сможет на людях реальных, лишь вымышленных;
и когда Марфа засыпает, она продолжает мечтания свои без энтузиазма прежнего, она в новом пеньюаре и входит в спальню к ней Он, и она даже не хочет видеть Его лица, и знать о Нём ничего-ничего не желает, кроме двух вещей, Он пришёл к ней, потому что её любит, и это именно Он, а не кто-то другой, но если Он здесь она и так это всё уже видит исполненным, всё это уже сложилось, если уж она это знает и лежит здесь, и потому она к Нему спиной лежит, и это здорово, что можно вот так вот быть здесь себе спокойной и затаённой одновременно, а там, позади, Он глядит на неё с желанием и некоторым опасением отказа, но желание побеждает, и Он к ней приближается, она Его не видит, и хотя ждёт, но всё равно неожиданным оказывается вдруг Его касание к плечу её;
и когда Марфа засыпает, она сама не ведая как, начинает под простынёй ласкать себе грудь, сначала двумя руками, но она этого не памятует, а затем уже одной рукой, потому как другая водится сама собойно по живота её глади и вниз готова спуститься уже вроде, но теперь Марфа останавливает себя не без трепета, а со стороны ещё и усмешку даже на лице своём клейко нацепленную видит будто: считаешь это недостойными фантазиями, спрашивает тишина Марфина у Марфы, а какие фантазии достойны были бы внимания твоего высочайшего, быть богатой глупой романтичной дурой плохо, хорошо, но быть не дурой лучше почему, скажи мне, почему, не потому ли, что все вокруг глядя на тебя дуру скажут: дура, а глядя на не дуру, скажут: не дура, да, но ни дуре, ни не дуре до окружающих дела нет особого, первая занята своими глупостями, вторая своими умностями, а ты, если ты думаешь об этом и себе сама мешаешь, не мнишь ли ты себя выше ума и выше глупости, или даже вне, по ту сторону, так сказать, но что это за сторона, знаешь, нет, чего же молчишь, а;
и когда Марфа засыпает, странно сменяются её мысли о фантазиях недостойных самими фантазиями недостойными, а руки её и тело её то удовольствие извлечь взаимно устремляются, а то покоятся как ни в чём ни бывало, и ежели кто спросит Марфу, мечтает ли она сейчас, и да и нет можно сказать, ласкает ли себя она, и да и нет можно сказать, и если кто спросит Марфу первое или второе, то в ответ она либо спящей притворится, либо ответит: а вам какое дело, и это зависело бы от того, кто именно спросит, и она снова о таком именно Нём мечтает уже, и ласкается, и вопросы неприятные задаёт, но помнит пока ещё, что никто не спросит её ни ласково, ни грубо, ни нежно, ни площадно, ни лирично, ни комически, а потому мечты её хоть и завлекают, да снова в тенях мрачных за светом их манящим маячат тоски унылые фигуры, но не смотрит она на них, и видит она их, и всё это сразу же;
и когда Марфа засыпает, в мечтаниях её Он именно и никто другой касается, а мечты прерванные вопросами неуместными, со стороны тишины шелестящими, выглядят уже не увлекательно, будто запах какой из мира исчез насовсем, а всё прежним осталось, и никто в мире всём о запахе том исчезнувшем не ведает и не ведал никогда, а кто ведал, тот не заметил, упустил невнимательно, и одна лишь Марфа по миру этому бродя, о запахе исчезнувшем помнит, и не исчезни запах этот, она до старости почётной и смерти спокойной через жизнь всю о нём не вспоминала бы, и даже не ведала о том бы, что жизнь её спокойна оттого, что в мире где-то есть что-то пахнущее так-то, а теперь, когда это исчезло, жизнь обеспокоилась, стала угнетать себя, и вроде ничего бы, всё как и прежде, ан нет, нет где-то этого запаха и вещи этой нет, и потому о ненужности этой постоянно помнить приходится, и необходимости черты она приобретает, и манит уже невыносимо, и тяжким делается всё остальное, прежде надобное, а ныне избыточное, и тогда понимает Марфа, что дело не в запахе этом поганом, ведь это запах мочи кошачьей быть мог, скажем, нет, не в запахе дело всё, а в полноте этого всего, и любая мелочь несущественная и ненужная полноту эту собой крепит, и какие глупые те, кто желает мир этот улучшить, от лишнего чего-то его избавив, об этом иногда перед сном Марфе тоже мысли приходят, но теперь фантазии остановленные мыслями, вернуться в них если, вдруг оказываются как бы запаха этого мочи кошачьей лишены, и хоть в фантазиях даже не было намёка на кошачье присутствие, и намёка не было на наличие отходов жизнедеятельности кошачьей, а мир фантазий распадается прямо-таки, и всё то в нём и не то уже, и тогда Марфа усложняет мир этот, возгоняет воображение и руки свои в интенсивность приводит, как раз от утраты силы фантазий возбуждающих, а не от возрастания оной, появляются любые элементы новые, лишь бы целостность вернуть былую, вопросами испорченную и печалями затенённую, как утром встаёшь, сон хороший прервав, который сам по себе снился, и силишься его вернуть, снова улёгшись спать, и не можешь, и всё, само собой что приходило во сне, насильно туда пихаешь, а запихнуть уже не удаётся, и не может также Марфа в мир фантазий своих вернуться, ибо целость его не она придумывала, не в силах она к тому и никто, кроме Бога не в силах, она лишь оказывается там случайно, но во всём сразу готовом, и единственное, на что способна она, это портить целость не ею созданную намерениями и вопросами своими, сомнениями и даже тишиной своею, и говорит Марфа вслух, хотя и тихо: всегда я всё порчу, всегда у меня всё так, и вздыхает тяжело, и фантазию искусственно выглядящая, ныне ещё бледнее делается оттого, и ещё больших спецэффектов требует, и в тягость она уже невероятную Марфе, а сна нет, и разрешения ещё не наступило хоть какого;
и когда Марфа засыпает, царапать принимается, что сил имеется, воображение своё, под гнётом другой Марфы изнывая, и кажется Марфе засыпающей будто та, другая Марфа, глядит на неё, эту: руки на груди скрестила и усмехается, и говорит она себе: ну почему ты всегда мне всё портишь, почему я себе сама всё порчу, и стыдно становится ей за фантазии свои, из-под надзора романтического ушедшие невесть куда, и теперь в доме её идиллическом, на берегу океана который, уже неразбериха начинается какая-то, даже непотребщина рода всякого: хотят её ныне не Один и Тот Самый, а множество случайных, хватают они её за тело повсюду, и уворачивается она от них, извивается покуда сил достаёт, но они не отступают, насилуют её по-разному, другую Марфу отгоняя, игнорируя взгляд её укоряющий; разрешается Марфа оргазмом от бремени ласк обременительных ставшими, и тут же преображается весь строй мыслей её, и, хотя тело распалённое жаждет продолжения, но нет, Марфа теперь не такая уже;
и когда Марфа засыпает, говорит она себе: нет, я готова продолжать диалог с Марфой другой укоряющей, но нет никого здесь, одна лежит она, и не было никого с начала самого; ну и замечательно, со вздохом говорит Марфа, не без удовольствия в голосе, тем не менее, я и была одна всегда;
и когда Марфа засыпает, молитву читает она про себя: отче наш, и старается ни о чём более не думать, да святится имя, глаза закрывает она и на бок поворачивается, да приидет царствие, и думает о Боге она тогда, даждь нам днесь, ничего не прося у Него, остави нам долги наша, но лишь благость в Нём усматривая, себе самой достаточную, не введи во искушение, и перед тем как в сон провалиться: не постепенно войти, будто в чертог ей уготованный, но с обрыва невысокого в воду тёмную реки какой прыгнуть, дна не ведая, ибо Твоё есть царство, во имя Отца, чудится ей: никакая она не Марфа, во имя Сына, и кто она такая не ведает она уже, во имя Духа Святого, и быть она может кем угодно, и жутко и спокойно ей делается от молитвы этой ею же досочинённой, аминь, но спит она уже; и когда Марфа засыпает, начинают ей сны снится.
Часть первая
в которой мы узнаем о том, что будет, если священника и офисного работника посадить на один необитаемый остров, как пьют пиво австралийцы, нужно ли делать другим добро, почему в автобусе было холодно, что значит умереть с головной болью – и кое-что еще
Началось всё с того, что отец Георгий нарушил тайну исповеди. Нет, конечно, началось всё с того, что вначале было Слово и оно было у Бога, а о том, стало быть, есть иная книга, не чета этой, Книга Книг. Но пусть раздвинутся столь плотно стоящие ряды книг, что в них нельзя вклинить даже тоненькую тетрадку в клеточку с первыми юношескими стихами, признающимися в любви к той, которая о любви этой никогда не узнает, к счастью для стихотворца, к счастью, о котором он сам узнает лишь повзрослев, а пока мнит себя в пучине страданий, которых не сносила еще ни одна человеческая душа до него, пусть раздвинутся эти пыльные тома, чтобы включить в себя ещё одну, всего лишь одну, и не столь поучительную, уж точно не в пример до сих пор написанным, историю. И пусть затихнет на мгновение, лишь на мгновенье, весь ор гремящих говорящих-переговоренных слов, которые настолько выговорили всё возможное, что уже даже невозможному некуда здесь приткнуться, и которые так заполняют весь воздух вокруг, что нельзя раз вздохнуть, чтобы не выдохнуть при этом что-нибудь чужое, сказанное кем-то всуе, пусть и искренне, но может ли быть чужая искренность таковой, пусть лишь затихнет на мгновенье, и в это мгновенье вместится начало этой истории, начало тихое и в наше нерелигиозное время вроде бы даже пустое и как будто ничего не начинающее, не способное зачать даже анекдота, но даже оно требует тишины, вопиет к ней, поскольку в тишине мыслей отца Георгия, мыслей далеко не святых, но мыслей, движимых искренним желанием помочь одному несчастному, всё и начинается. Повторим для непонятливых и расстанемся с ними здесь навсегда, ибо с ними далеко не уйдешь, повторим, что с мыслей отца Георгия, отнюдь не святых, началось не всё вообще, но началось всё всего лишь здесь. Это для нас всё здесь суть всё вообще, а для остальных – лишь продолжение того, что началось со Слова, которое было у Бога и которое было Бог. И у отца Георгия было слово Бог, хотя сам он отнюдь не был богом, и даже при этом, несмотря на эти далеко не библейские обстоятельства, началось всё тогда, когда в его мыслях был далеко не Бог, а как раз Бога никакого не было, а потому были лишь люди и их жалкая слепая судьба. И даже если и не существовал никогда Бог, то это обстоятельство вовсе не отменяет тайны исповеди, поскольку не Бог эту тайну устанавливал, но Церковь, и, коли уж на то пошло, для атеистов, с которыми нам тоже тут же придётся расстаться, так вот, атеистам можно сказать, что не Богу служил отец Георгий, а в Церкви; здесь-то уж должна быть понята разница, а точнее то, что никакой разницы-то как раз и нет, потому что, к примеру, работник конторы служит в конторе, но от этого отнюдь ещё не решено кому или, точнее, чему он в ней служит; если же кто-то желает избежать подобных измышлений и сослаться на замену слова служба словом работа как на более корректное словоупотребление, специально для них мы скажем, что, например, после работы можно не работать, а вот после службы вообще не бывает; служитель Церкви служит всегда, даже если многие считают его бездельником, будто он вообще не знает, что такое настоящая работа, так вот, служит он всегда, заботится о тех заблудших и ищущих душах, которые обращаются в прозрении своем и в помощи, а тем паче беспокоится также и о тех, которые вообще никуда не обращаются, почитая себя уже спасенными или же, что никакого спасения вовсе и не существует, а потому им оно и не требуется. И можно, конечно, ради забавы мысленно поселить на первый необитаемый остров служителя Церкви, а на другой, не более обитаемый, конторского работника, да и посмотреть кто из них быстрее по-настоящему взмолится, да только смотреть за этим некому, кроме как Богу, а стало быть, не будь Его, мы эту забаву даже в мыслях осуществить бы не смогли, не то что снарядить корабли или вертолёты наяву, тем паче, что на нём, на яву на этом, необитаемых островов для священников и конторских работников не хватит, даже когда их выдавали, то, помнится, на остров Святой Елены отнюдь не святой и не конторский работник был отправлен; не хватит островов на всех, даже если конторских работников куда больше чем священников, всё равно не хватит, потому что когда не хватает, спрашивают не о том, кому больше не досталось, но смотрят со всей очевидностью лишь на тех, кому больше остальных досталось. Да, так вот, если бы даже отец Георгий попал в привилегированное число тех, кому хватило, и, предположим, сказался бы на том острове тот самый конторский работник, в самом деле, почему бы не сажать их по двое на один остров, и будь при этом отец Георгий уверен, что никогда с этого острова никуда уже не денется, то было бы ещё очень большим вопросом, нарушил бы он течение длительных бездеятельных жарких дней и не менее длительных, но более деятельных для сугрева ночей, проведенных в пустяшных обсуждениях с этим самым конторским работником, нарушил бы он, мы спрашиваем, эту самую пресловутую тайну исповеди: спрашивать-то мы спрашиваем, и от этой настойчивости нашей должно сложиться впечатление. что, если мы так спрашиваем, то и ответ нам должен быть известен, да только для пущего эффекта прячем мы ответ этот в рукаве, чтобы вот тотчас, раз, и ответить им, покрыть, так сказать, перед изумлённым взором напряжённых игроков дыру собственного вопроса заранее подобранной пробкой деревянного ответа, или, чтобы уж не путаться, покрыть масть вопрошания джокером сильного от безразличия утверждения. Почему деревянным и почему безразличным; а каким же он может тут быть, где спрошено так, что и ответить-то можно лишь однозначно: да, нарушит или нет, не нарушит. Но если Бога нет, то мы даже этой примитивной однозначности дерева и безразличия усмотреть не сможем. А уж ежели Он есть, то, как известно, неисповедимы пути Его, а мы все этой самой неисповедимостью божественной и бродим под небом. Отец Георгий, напротив, некоторое уже время ходил с исповедимостью в душе, причем душа была его собственной, а вот исповедь, а вот исповедь, которую он в ней носил, чужая; не совсем, конечно, чужая, бывали и чужее, да не своя уж определённо; была изначально не своя, а как вместилась в душу, так впору пришлась, что никаким уж конторским работникам её оттуда не вырвать. Иначе говоря, стала она такой родной, исповедь эта, что отец Георгий стал с нею обращаться как с собственной; так и вышло, что тайну чужой исповеди он никогда бы не нарушил, ибо вмещает её в свою душу лишь на божественное усмотрение выставляя, а не для любопытных глаз, ушей и языков окружающих, прочь язычники, ушники и глазники от принятой в душу священника исповеди, чужую бы нет, не нарушил. Или, по-другому говоря, не пожелал бы зла другому, в то же время как в отношении себя бы зло стерпел, ибо Бог велел, да и характер позволяет. И стерпел бы отец Георгий это зло, из благих побуждений выложив третьему, а если учитывать присутствие Бога, которого отец Георгий в тот миг как раз и не учёл, специально не учёл, то – четвёртому заинтересованному лицу, то, что его, этого лица и не только его лица, касалось, но что вовсе не предназначалось для высказывания этому самому четвёртому, а без учета Бога, третьему лицу, а точнее даже не предназначалось ушам этого самого лица; а вот являются ли уши частью лица, хоть третьим его без Бога считай, хоть четвёртым с Богом, или же уже находятся за его, лица, пределами, отвечать мы не собираемся, ибо не в нашей компетенции такие фундаментальные и вечные вопросы поднимать и освещать ответствованием.
Куда туманнее выглядит для нас то, что наступило сразу же после нарушения этой самой тайны, туманно как в отношении отца Георгия, так и в отношении всего мира, из чего, тем не менее, вовсе не следует, что отец Георгий воплощает собой весь мир, или же, что интереснее, что весь мир этот наш только и делает, что воплощает собой отца Георгия, ведь было уже сказано, что отец наш Георгий не Бог, а Бог Отец наш, а коли даже и был бы отец Георгий Богом, откуда же нам знать, хватит ли мира на целого Бога или же достанет ли Бога на мир, будь Бог священником, в чём-чём, а в этом мы совершенно бессильны и некомпетентны. И даже так сказать, нам видится туманным то, что стало, с одной стороны, с отцом Георгием после нарушения им тайны исповеди, и, с другой стороны, что стало после этого события с миром, даже так сказать мы не можем, поскольку представить себе не в силах сторонами чего и кому эти, одна и другая, могли бы явиться. Кроме того, есть столько же поводов говорить о нарушении тайны исповеди как о некоем событии, сколько и расценивать его, это самое нарушение, как банальную случайность. Либо вообще как ничто. Ведь если отец Георгий и нарушил тайну исповеди, то он никому не нарушил само это её нарушение, а потому лишь Господь мог бы сказать нам это, но всё, что Он мог сказать нам, мы можем сами прочесть в текстах Священного Писания, уже упомянутой Книге Книг, где, из текстов этих мы с искренним изумлением и даже отчасти с негодованием узнаем о том, что про отца Георгия и его проступок Господь там ничего нам как раз и не говорит, вот и явилась нам ещё одна случайность, вроде как и совпадение тупое даже, какое бывает, когда кто-то нарушает закон и его, раз, и не поймали, либо же, два, и поймали. По-крайней мере, отца Георгия никто не поймал и ловить не собирался, но мы-то уже понимаем, догадываемся так сказать своими догадками, что если кто и не пойман, то вовсе из этого не следует, что не вор он, непойманный этот, а скорее наоборот из этого следовать может; в самом деле, с чего бы это кому-то невора случайно не изловить: глупости всё это одни и не более. Понятно только, что нечто произошло, вообще что-то произошло, из этого нарушения исповеди, даже если и не было его, нарушения этого, и даже если отец Георгий никакой никому не отец и никакой никому не Георгий, но мать шести детям почтенного весьма семейства, к примеру, в самом деле, откуда нам с вами, тут находящимся, все эти подробности смочь разглядеть, если, к тому же, мы с вами вообще непомерно разделены, да так непомерно, что даже померев, этого разделения не преодолеть нам с вами, никаких нас с вами не существует даже, лишь нас, вами, через запятую. Лишь здесь, возле отца Георгия, нарушившего тайну исповеди, столкнулись мы с вами лбами, сгрудились, так сказать, как случайно проходящие зеваки на кошмарно закономерную смерть, и нам даже не важно уже, и никогда мы этого отныне не узнаем наверное, отец Георгий, нарушивший тайну исповеди, не является ли он сонным и развалившимся в шезлонге, в тени, австралийцем, разглядывающим издали прыжки кенгуру потому только, что смотреть больше не на что, или же матроной, повелительно указующей своим толстым кривым пальцем, с дорогим перстнем, на дверь незадачливому похотливому другу незамужней и чересчур молодой её дочери; мы с вами не узнаем этого, и всё же, грудой нависли, каждый своей грудой, а если сказать нежнее, то грудкой или же грудью, представление того насколько непрочен и химеричен любой наш с вами союз, наверное, уже получено, покончим с этим и двинемся дальше, сгрудимся, солбимся и слоктимся, некоторые даже могут слоктаться потихоньку, не отвлекая остальных, двинемся так, чтобы узнать, что будет дальше. Но тут наверняка появляется он, тот кто всегда мешает следовать общему желанию двигаться дальше, и не тот, кто желает двигаться, напротив, ближе, но тот, кто вообще не желает двигаться, этот совершенно бессмысленный для любого, даже столь химеричного и несущественного, наподобие нашего с вами сообщества, человек. Он появляется и говорит: постойте, будто мы уже ушли, лучше бы нас вообще не было, постойте, но о чём тогда вообще можно говорить, говорит он, если даже отец Георгий, нарушивший тайну исповеди, единственное, что нам было известно до сих пор, о чём можно продолжать говорить и полагать, что движешься дальше, если даже это единственное может оказаться не тем, как оно нам уже предстало; прервать в клочья это возмущение можно единожды и лишь с первого раза: говорить можно вообще о чём угодно, мы это и делаем, полагаясь на литературу, даже Господь в Священном Писании своём на неё положился, но, обратите внимание, из этого вовсе не следует, что мы произвольны в своем именовании отца Георгия отцом Георгием, а тайны исповеди тайной исповеди. Мы к тому лишь, что всё так названное может затем или с самого начала даже оказаться совсем не тем, тем, что так не называется. Мы уверены лишь в том, что не изменится то, что мы, пусть и неверно, здесь называем. И у нас нет времени ждать, пока это само назовётся, к тому же само никогда собственно и не называлось с начала, и даже у Бога, как уже упоминалось, был не он Сам, но Слово, пусть оно и называлось Богом; само никогда не называется изначально собой, а лишь впоследствии отзывается словом Нет на свое всегда не то именование. Вещи и люди сами собой говорят лишь Нет, и воистину мудрым посчитаем мы того, кто видит это, не в пример вот этому, так нетактично нас остановившему. Вот и нам уже отозвалось своим Нет то, что мы тут назвали нарушением тайны исповеди и тот, кого мы назвали тут отцом Георгием, мы это отчетливо слышим, и потому честно предупреждаем об этом отозванном возгласе сразу. Но если кому-то нужно больше точности, пусть он на этом и остановится, на чём остановился, точнее Нет вещей и Нет людей, простите за это слово, начинает приедаться и припеваться, ничего точнее, значит, нет.
Но всё завершилось стремительно, да не по кругу, как водится у тех, кто оседлал коняшек карусельных, а под откос, и трудно себе представить, какие изворотливые вращения претерпевала душа отца Георгия, извращаясь самой себе супротив, какие томления измышляли его в терзаниях, под конец таки истерзавших его не под чистую, а в грязь мерзостную, и не понятно совсем уж никому, откуда здесь взялся взгляд похотливой девчонки, которая смерила своими тёмными очками рясу отца Георгия, очками, видящими лишь глянцевые оболочки пустых журналов, и даже не похотливый взгляд, ведь все видели журналы, но не становились от этого похотливыми, хотя, может и становились, кто же их знает, но просто не ясно, откуда отец Георгий почувствовал, что от неё вот, именно от неё, пахнет слиянием, потной постелью, откуда понял он это, ведь не думал до того ни разу, не о постели, разумеется, в которой каждую ночь засыпал, и не о постели с женщиной разумеется, даже с такой юной как эта девочка, о чём думал тоже, но мысли гнал, а о том, что может вообще такой запах быть, к тому же там, где он в принципе невозможен, девушка шла по другой стороне улицы и наверняка пахла духами, а отец Георгий, Боже упаси, не парфюмер. И если от этого Боже упас, то от остального совсем наоборот, даже если и не было ничего из только что сказанного, кроме извращений души, томлений духа и коловращений осиновых в сердце вампирском. Прежде чем не стало отца Георгия, дел он натворил своих в мире не меньше, чем в мыслях, покаяние коим лишь понимающие люди да Бог обрести смогут, а таких мало встретить можно, некоторых же вообще никогда, в то время как девушек, издалека раздающихся тленом постельного слияния, встречаешь куда как чаще, на каждом втором шагу, даже если шаги твои обряжены в шорохи черной рясы. Что натворил отец Георгий, повторяем, нам неизвестно, равно как и то, о чём он при этом или до того думал, а зарисовка, точнее заговорка с девушкой, невожделенно вожделение раздающей тут могла появиться просто так, поскольку какое дело, например, было бы до неё отцу Георгию, будь он той самой матроной с кривыми пальцами, особенно с указующим, какое, кроме завистливой ненависти? Или же, будь он тем самым вялым австралийцем, какое ему было бы дело, кроме слащавой и трусливой похоти? Но ни ненависти, ни похоти отец Георгий в своем сердце никогда не держал, а потому, почитай, и не испытывал. Так бывало, раз кольнет вспышка в груди ненавистью или в желудке похотью, но не даст им слиться отец Георгий воедино, не возбуждает его ненависть, и не испытывает он ненависти к вожделению, нет, отчаянием и болью, требующими исполнения молитвы, заполняет отец Георгий мельчайшие промежутки времени между тем и другим, такие мельчайшие, что даже лезвие ножа не вставить меж ними без помощи освящающей молитвы, как в случае камней пресловутых египетских, то есть языческих пирамид. Вот так и мазал раствором молитвы отец Георгий тесанные рабскими страстями булыжники ненавистей и похотей, так и создавал он для своей пирамиды вид и форму отчаянной боли, скрепляющей в человеке лучшим самое постыдное, так и порождал он день за днем в себе чувство, что всё, без молитвы бывающее, лишь отчаянием и болью крепится, и лишь молитва, пусть самая краткая даже, Иисусова, лишь молитва позволяет покаяние почувствовать и освобождение обрести, дабы хоть глазком одним окинуть величайший план пирамиды своей жизни, окинуть так, как никакой строитель сделать не смог бы, ибо умирает ещё до завершения постройки, аккурат в момент, когда упадёт на него камень последней страсти. Но посредством молитвы вознесение в мыслях отец Георгий обретал и созерцал величие замысла Божия в отношении никчемности его, отца Георгия, прискорбного прозябания в плотской жизни. И потому не причём тут эта девушка несчастная и пусть идет себе куда шла, с Богом, к чёрту.
А пока уходит она, посмотрим ей вслед, не с похотливым намерением, конечно, а мысленно благословив, как любую тварь должно благословлять, на земле обитающую и в греховную материю свою душу вместившую, ведь все заслуживают искреннего сострадания, и эта дева похотливая не меньше, чем отец Георгий в сострадании нуждается, и никто кроме Господа решать не в силах и делить живущих на сострадание достойных либо же нет. Никто, и даже отец Георгий, а смотреть вослед уходящей уже не опасно вовсе, подлинная опасность соблазна исходила от чёрных стекол глаз её, тут она похотливо вторгалась в душу всякого, кто мужеским полом наделён от природы своей, и, притом, этим наделом дел наделать способен нечестивых. Если же похоть не покинет отца Георгия, когда он вослед обратится к ушедшей и давно уже скрывшейся с глаз девушке, то верным свидетельством для всех будет, кто отца Георгия знает, что сам уже отец Георгий похотью воспылал, а девушка совсем не причём тут, поскольку станет она тогда жертвой чужих страстей, а не охотницей собственных удовольствий, что часто бывало не только с отцом Георгием, к примеру, коего повторять и примерять никому не следует, а со всеми и даже со святыми, и возможно с ними больше всего случалось, воспылавшими хоть раз в жизни страстью великой и преступной к изображениям девы Марии, или, что хуже намного, зато встречается реже, к обнажённому телу Христову взгляд непростительных желаний полный украдкой поднимавших, и тело
Христово, что понятно, это не хлеб тайной вечери, а вполне себе мужское тело. Но кощунственно вне всякого сомнения вязать в один узел тело Христово, вдохновением небесным в своем изображении освящённом, с исчезнувшей из поля зрения отца Георгия живой и даже непростительно живейшей девушкой, и хоть Господь и Сына своего, и девушку эту в равной мере к миру приобщил, но сделал он это с разными намерениями, если вообще о намерениях Господа мы сможем говорить осмелиться. А подумалось отцу Георгию, что вот поразительно похожа та, у кого он исповедь эту несчастную выслушал и принял, девушка чересчур почтенная, поразительно похожа она на вот эту, только что прошедшую мимо, похожа, да не она. И занялись мысли отца Георгия дивным изумлением полниться, отчего это между тем, что почти свято и тем, что почти нараспашку развратно, сходство дивное имеется, и стал думать отец Георгий, что сходство это вопреки божественным устремлениям в мире божьем пребывает, и что взгляд, усмотревший сходство любого рода между святым и развратным, не иначе как сатаной направляется, и не иначе как по его наущению видеть способен. А пока ужасается отец Георгий открывшейся ему очередной бездне страха, сколько он их уже вынес за последние дни жизни своей, пока страшится отец Георгий того, что он сам уже в самую глубокую бездну стремительно несётся, которую геенной огненной называет кто о ней знает, пока бормочет отец Георгий молитвы с просьбой защиты и спасения, пока припоминает он подходящие места в псалмах ветхозаветных, припоминает с всех сил и припомнить не в силах, зададимся вопросом и мы, поскольку можем себе наивно представить, что не касается нас суеверием внушённая опасность сатанинского искуса, поскольку полагаем себя достаточно защищёнными от всего этого тонким, но надёжным листом бумаги, на котором эти строки выведены, пока мы думаем, что нас-то ничего из тут говоримого нисколько не касается и коснуться лишь в целях развлекающих может, итак, пока лжём мы себе о себе и заблуждаем себя в книге, спросим: откуда же отцу Георгию настолько хорошо известна внешность той, которая исповедалась ему и чью исповедь он нарушил, ведь коли не видел её отец Георгий прежде, не смогло бы ему в душу сатанинским наущением запасть Богу не угодное сравнение и уличение в схожести греха и святости, уж не нарушил ли отец Георгий требование не видеть того, кто ему в сердце своем исповедуется, а коли так, можем мы возмутиться, непонятно почему правда, католическим нарушениям этим, и успокоиться на том, ибо принятая неподобающим образом исповедь исповедью зваться не может, а потому и нарушить её собственно никак не возможно. И здесь уже придётся вникнуть-таки в некоторые, почти пикантные подробности этой самой истории, вникнуть не с алчным интересом уже упоминавшихся любителей катастроф и смертей, равно как и не с интересом ещё не упомянутых, но куда же без них, любителей светской хроники и сплетен вокруг знаменитостей и богачей пускаемых, но вникнуть единственно ради того, чтобы сообщить окончательно и бесповоротно о том, что исповедь отцу Георгию была высказана даже не в пределах дома Господня и с нарушением почти всех возможных требований церковных, но, тем не менее, будучи так неподобающе принятой, оставалась исповедью, и, следовательно, могла разглашению подлежать, точнее, как раз, разглашению подлежать никак не могла, и, тем не менее, разгласилась. Здесь мы уже обратимся к некоторым особенностям положения отца Георгия, которое он в этом мире занимал, покуда его не призвал к Себе, а Кто его призвал, Бог или же дьявол, знать не можем, покуда его не призвал к Себе Кто-то в иной этому миру мир, в горний или же в геенну, которой так ныне и не без оснований на то опасается отец Георгий, можно сказать наверняка было бы, лишь установив Того, Кто отца Георгия призвал к Себе, что, повторяем, нам никаким ведом не ведомом, да и как мы могли бы установить этого Самого призывающего, если Сам Он нас всех вкруг Себя устанавливает и находится тут вечно?
Церковь Святого Иеронима, к которой в службе своей принадлежен был отец Георгий, слыла самым крупным приходом в районе Города, имя которого упоминать здесь смысла нет, не в целях ложных конспирации либо же кокетства, но лишь в силу несущественности оного, не знаем мы, воистину не знаем, как этот Город назывался и даже предполагать того не хотим, как он называться мог бы, не хотим исключительно в силу лености своей, на которую теперь имеем полное право, поскольку нет ничего зазорного в той лени, которая предотвращает нас от придумывания имён несущественным для истории деталям в несуществующем повествовании. Достаточно сказать только, что в истории этой мы той самой ленью руководствоваться повсеместно будем в полной мере, и доказательством тому пусть послужит отсутствие имён у всех людей, которые до сего момента упоминались, за исключением отца Георгия, несмотря на то, что все эти вышеупомянутые свои имена имеют и имеют на имеющиеся имена свои именные права, и австралиец, и матрона, и её дочь, и жених её дочери, и мать шестерых детей, и каждый из шестерых детей, и девушка, прошедшая по улице. Её имя мы, впрочем, еще может и узнаем, и даже вскорости, за остальных же ручаться не будем, они бы за нас и историю нашу точно бы не поручились, гроша ломаного не дали бы, а дали бы лош громанный, а вдруг придумается имя кому-нибудь из них вопреки плодотворным усилиям лени нашей, да и прорвётся словом на чистую страницу, кто же его, это имя, знает. Вот мы пока не знаем и знать не хотим, о чём и сообщили. Из этого не следует, правда, что то, что мы знать захотим, мы непременно и с необходимостью узнаем, и ближайший пример тому неизвестный путь души после смерти отца Георгия, путь, его душой проделанный, о котором нам очень хотелось бы узнать и изложить тут во всех подробностях, встав на полку к Данте, однако же нет, не ведаем, не знаем, несмотря на отсутствие лени и на присутствие хотения в этом самом направлении. Что же касается Города, то он в этой истории будет всего один, будет еще усадьба загородная и дача летом жарким, Деревня детства далёкого, да и Столица, возможно, когда-нибудь будет, а пока нет её, и не предвидится. Церквей в Деревне одна, в Столице имя им легион по числу, да и в Городе немало, хотя до числа зверя еще расти и расти, есть куда стремиться, вот только известно точно, что церковь Святого Иеронима в завидном географическом, точнее экономическом положении по отношению ко всем городским церквям находится, живут тут несколько сотен верных прихожан, а собственности и богатства на их души приходится столько, сколько у оставшихся тысячей тысяч нет. Похоже, не пристало нам здесь по меркам этим низменным мерить положение церковное, ведь будь даже церковь Святого Иеронима церковью Всех Юродивых, которая, напротив, находится в самом нищем квартале Города, служители её всё равно все были бы равны перед Господом в несении службы своей к спасению души призывающей и через путь отречения мирских богатств ведущий, но, видимо есть разница какая-то даже для руководства церковного в том, чтобы либо спасать души, за душой у которых гроши, спасать между делом и по случаю, либо спасать души, за душой у которых душок денежный веет, спасать усердно, днём и ночью, когда все бедные люди давно уже пьют в несчастиях своих и спят в беспросветной безнадёжности нищенства своего. Служитель Церкви служит всегда, о чём уже упоминалось в самом начале, более того, он служить так призван, чтобы служба его как можно лучше могла отправляться, а потому приходится считаться её служителям с прихожанами и их образом жизни, не чтобы угодить жителям богатого района, как о том помышляют жители бедного, но чтобы Господу угодить в душеспасительном деле Его, в спасении душ жителей богатого района, душ, которые так и норовят в бездушные золотые слитки обратиться, о чём благодаря языческому царю Мидасу всем христианам известно стало. Ведь даже служители церкви Всех Юродивых считаются с особенностью нравов своих ближайших прихожан, и тут уж, дабы лучше спасать приходские души, надобно постоянно заботиться о спасении своих священнических телес, и запирать на ночь церковь Всех Юродивых, предоставляя дело ночного спасения прихожан делам рук самих прихожан, рук и прочих органов правопорядка и не очень правого порядка.
Так и выходило, что отец Георгий имел постоянные беседы с жителями богатыми и знаменитыми, ежели со стороны глядеть, а по сути всё с теми же заблудшими овцами, не менее остальных нуждающимися в пастыре, да только менее остальных об этой своей нужде ведавших; а потому постоянно не достаёт у них времени на подобающее всякой христианской душе посещение служб церковных во время их проведения. Службу в угоду занятости мирской, естественно, никто не переносит, зато служение Господу тут выходило в силу этих обстоятельств за время непосредственного отправления службы, и выходило почти всегда за пределы самой церкви. Ходили священники часто по приглашению в дома своих наиболее влиятельных в мирском отношении прихожан, дабы не дать блуждающим окончательно в искушающем мирском блуде заблудиться, в грязи греховной погрязнуть и в плутовстве хитростном заплутать. И у всех девяти священников церкви Святого Иеронима, к благородному числу коих причислялся и отец Георгий до того, как ещё жив был, у всех девятерых были свои прихожане, коих посещать постоянно следовало. Можно даже сравнить эту надобность с закреплением за врачами определённых участков, где больные в здоровых посредством врачевания обращаться должны, всё так же, за тем исключением только, что врачевание души нельзя лекарством или же хирургической операцией раз и навсегда осуществить, что у врачей иногда с телом получается, и забота не о теле. но о душе постоянная требуется, и если врач теряет своих клиентов после их смерти, то Церковь воистину их обрести лишь тогда может, хотя удостовериться в приобщении души к горнему миру, как мы только что убедились на примере души отца Георгия, куда невозможней, чем зафиксировать смерть тела по завершению его медицинским освидетельствованием.
Марфа, пусть так будут звать ту, которая исповедовалась отцу Георгию и чью исповедь он нарушил, пусть так, подсказывает нам только что поминаемая наша лень, она да ещё кое-какие, не могущие тут быть упомянутыми соображения, Марфа была дочерью весьма знатного военачальника, который, уйдя на раннюю, как водится у военных, пенсию, ныне занимал весьма высокий начальствующий пост в городском Управлении, чин всем известный и по всё той же лени тут замалчиваемый; и видел потому отец Георгий Марфу два раза в неделю в доме её родителей, куда влекла его служба Господу, и почти каждый день в церкви, из чего, однако, не стоит делать вывод о том, будто все дочери высоких чиновников и старейших военачальников, тем более, отцы этих дочерей, каждый день в церковь ходили и почитали это своим нормальным распорядком. Нет, тут всё дело в самой Марфе, которая действительно весьма набожной девушкой слыла среди сверстников своих, родителей и служителей церкви, хотя основанием для её набожности могло послужить лишь частое посещение ею церкви и долгие беседы с приходящим священником дома. Знал её тут каждый, хотя бы потому, что сумела Марфа жизнь свою духовному ритму либо же видимости оного подчинить полностью, и видели её всегда идущей в церковь на вечернюю службу, ибо днём не могла она посещать дом Божий, равно как и по утрам, за исключением воскресных дней, поскольку училась она с утра в Университете, а днём, после учебы, посещала дополнительные курсы, преимущественно иностранных языков, пророчил её родитель к жизни заграничной, несмотря на то, что сам укоренился по самую крону в почве этого Города, да так великим дубом по всей стране слыл. Родитель пророчил, да только нам-то уже доподлинно известно, что неисповедимы пути Господни, а потому предполагания наши далеко не всегда с божественным распологанием совпадают в стройную линию судьбы счастливой, а уж ежели и совпадают, то так, что никто и предположить не смел; к примеру, можно предполагать свою дочь живущей за границей, имея при том на уме в качестве чего-то само собой разумеющегося границу географическую, а Господь распорядится так, что будет она жить за границей, да только границей здесь будет тонкая грань душевного равновесия, по одну сторону которой в миру расположились психологи, а по другую, в том же, но более странном, миру, психиатры расположились. Да и так всякому было понятно, что не сможет эта почти святая, её так в соседях сначала в насмешку, а затем вследствие уважения прозвали, не сможет она без веры нашей и без распорядка своего духовного в чужих землях и с иными нравами совладать достойно, да только родителю её никто почему-то не осмеливался эту ясность всякого донести, по особенности жёсткого нрава его военного да по высоте общественного положения. Вполне возможно, что отец Марфы был прав в отношении своих планов по обустройству её будущей жизни, ведь окружающие судили Марфу по тому, что им было известно, что у них было на виду в её деяних, ходила в церковь, но при этом нисколько не ведали о том, что она делала помимо церкви; и если можно было догадаться о том, чему её должны были учить в Университете, юриспруденции, то совершенно невозможным делом было бы узнать, чему именно она там училась и как именно она всё понимала; отец это, понятное дело, знал не больше остальных, а потому, вероятно, будучи человеком опытным, привык не полагаться в отношении других людей на то, что о них известно, равно как и на то, что о них не известно, чем собственно и занимаются все начальствующие чины, а потому даже если он был прав в отношении своей дочери, а другие не правы, то прав на собственную правоту он имел больше остальных в силу лишь одного-единственного обстоятельства, в силу того, что являлся Марфе не соседом и не ровесником, не священником и не грядущим коллегой, но банальным высокопоставленным отцом. Нам могут возразить и напомнить, что, поскольку отцов не выбирают, даже в детских домах выбирают не отцов, но детей, то есть куда больше людей, мечтающих хотя бы умереть в надежде родиться в следующей жизни у такого обеспеченного и начальствующего отца, каким был отец Марфы, людей, прозябающих в нищете и унижениях, людей, с трудом сводящих концы с концами. А потому, если мы не равнодушны к судьбе этих людей, то следует уважать их мнение и посчитать вслед за ними, что называть отца Марфы, уважаемого всеми Льва Петровича, банальнейшим есть непростительная оплошность или же намеренная коварная ошибка с нашей стороны. Ну, во-первых, к судьбе мнений таких людей, прямо скажем, мы равнодушны, во-вторых, уважая их, что мы вполне и по мере возможностей исполняем, не стоит путать, как обычно не говорится, любовь с постелью, ведь уважать страдание, это одно, а уважать мнение страдающего совершенно другое, и не стоит думать, что нищие телом пренепременно богаты духом, статистически, так сказать, всё обстоит наоборот, а в отношении нищих телом статистическое это самое верное средство, покуда только в цифрах нищета в уме у нас спокойно существует, а с глаз мы её в единичном выпячивании её мерзостном и постыдном гоним дальше, отворачиваем нос и затыкаем уши, хотя и выпячется она снова и снова, так и бытует, выпячиваясь вовне скандально и пребывая в статистике покойно. А потому не будем поддаваться соблазнам и повторим: отец Марфы не такой как все отцы, банальные в своём отцовстве, но так сказать особенный среди всех банальных, банальнейший. Ведь банального отца, ежели он от ребенка что-то требует в жизни его, ребёночьей, до собственного гроба распоряжаться отец ежели намерился, ребёнок этого самого отца не послушаться спокойно может и аргумент выдвинуть: всё, к чему ты меня можешь привести своими намерениями, если я твоими словами всецело руководствоваться буду, в лучшем случае доведёт меня до такой же жизни, какая у тебя случилась, но, поскольку она у тебя банальная, будь добр, предоставь мне возможность свою хоть чуть лучше устроить, скажет так ребёнок, даже вопреки тем убеждениям своего родителя, что как раз улучшить жизнь можно лишь от поколения к поколению укрепляя заложенное предками подражание старшим. Так и бывает у либеральных детей с отцами банальными, если, кроме прочего, дети еще и сыновьями уродились. С дочерью отцу сложнее, тут мать на подмогу придти должна, а уж если отец такой как у Марфы, то такая ещё пропасть между ним и дочерью его зияет, что ни одного возражения не смеет произнести отцу дитя его, а если ещё отец начальник и хотел бы сына на место своё, жизнью собственной выстраданное, посадить, а сына у него, так сказать, никак не сложилось, а лишь дочь сложилась и та набожная, так вообще дело худо. И было бы Марфе худо, если бы как раз не то, отчего ей худо дополнительное должно было в глазах отца быть, если бы не эта самая, непонятная всем остальным, её набожность, позволяющая родительские провокации в качестве не руководства к действию, действию, которое должно убедить в итоге спровоцированное дитя в изначальной правоте родителей, а правота эта меняться может со временем, только изначальность под сомнение не ставится, не в качестве провокации, но креста чужого на плечах своих нести, подобно киринеянину Симону, который от Иерусалима до лобного места сроднился с крестом Христовым, за что благодать ему в выси небесной; Марфе же от креста чужого лишь ярость родителя её за облегчение и спасение души её, которое в смиренном послушании обреталось ею через молитвенные слезы, ото всех скрываемые. Только мать ведала влажность утренних подушек своей дочери, ведала, да не говорила о том с дочерью, поскольку сама всю жизнь плакала и до сих пор плачет, и с отцом не говорила, от которого у обеих слёзы те как раз и лились, с той лишь разницей, что у одной слёзы эти были голым страданием, а у другой к Господу нашему возносились и облегчение несли, облегчение не психологическое, но духовное, а кому как не нам знать о том, что ни одна психология не задавалась никогда целью путь к духу подлинному найти, но, напротив, так подкопать его стремилась, чтобы рухнул он в бездну страстей анонимных.
А пока мы тут вдаёмся с вами в описания многозначительные, отца Георгия бесы уже окружили и не отпускают никуда, и ведут к пропасти. Что же это такое, воскликнет в недоумении самый терпеливый читатель, ибо остальных уже не осталось, а у оставшегося недоумение уже выдержано как хорошее вино и подобно вину хорошему в голову ударяющее, что же это, всего лишь какая-то псевдорелигиозная фантастика, причём псевдо поставлено от недоумения лишь, неосознанно, от гнева люди образованные ведь часто множат бесчисленные псевдо, лже и архи ко всяким словам, что больше об их эмоциях говорит, нежели о словах, которые и так, безо всяких приставок неплохо звучат, например: религиозная фантастика, или ещё лучше: религиозный реализм; впрочем, отвечаем мы, и впредь лишь с этим читателем будем говорить, ибо других вовсе не осталось, история же эта в любом случае беседа и не более того, ведь, если не ради беседы, то ради чего стоило бы здесь это выговаривать, мы сами-то уже почти знаем чем всё закончится, ну, хотя бы смутное представление о том имеем, а вот высказываем только лишь ради этого самого негодующего читателя; так вот, впрочем, это смотря что противопоставить фантастике в недоумении своём; вот, ежели появление бесов, окруживших отца Георгия и влекущих его в бездну, можно счесть проявлением фантастики, то стало быть надо счесть вообще всё сущее фантастикой, что некоторые, кстати, еще в античности делали, поскольку бесы эти появились не просто так, а для самого отца Георгия очень даже обоснованно, ибо предал он служение своё Господу нашему Всевышнему, да и оступившись, что может со всяким случиться, ибо человек грешен по своей природе есмь, не исповедал своего греха на исповеди сам братьям своим по вере, а почему не исповедал сам не ведает того, ибо всегда всё рассказывал и чистосердечно признавал в откровенности речей своих, даже куда как страшнее греховные помыслы до себя прежде допускал, хотя, то ведь помыслы лишь были, а тут дело, да ещё какое. Если же следовать Христу, то помысел греховный ничем не легче деяния по вине от греховности своей, а посему в более тяжких грехах, совершённых пред лицем Господним, отец Георгий всегда исповедывался, и Господь, наверное, прощал его прежде за всё, а коли так, то и теперь простит, и грех, и то, что не раскаялся за него ни перед братьями своими, ни пред собой, ведь достаточно раскаяться пред собой, как перед кем угодно уже можно всё высказать, поскольку совесть чистая позволяет признание делать, а признание помогает совесть свою в очищение привести; вот такая оправдательная казуистика свистопляску свою в мыслях отца Георгия завела, и в шуме её не мог отец Георгий успокоиться и заткнуть её не смел, иначе поскольку не выдержит он свершённых тягот и не свершённых искуплений; вот и взвинчивал себя отец Георгий всё сильнее, и уже ни на миг не хотел, не мог останавливаться, а ежели что и обещало покой, то бежал от обещанного еще шибче, как бы не заманили его созидательные и возвратительные помыслы в тишь уединённой успокоенности, которой стал отец Георгий опасаться более чем геенны огненной, поскольку та еще неизвестно когда, известно-известно, скоро-скоро, пляшут мысли в голове, а эта, вот она, тишь эта, например даже в сегодняшний послеобеденный отдых; всякий отдых опасен, особливо ночной, ибо оставляет всё больше с собой наедине, а уж этого гостя отец Георгий ни за что уже привечать не желает, вот и гонит родную душу, с которой прожил, как говорится, душа в душу, от самого светлого младенчества и полного больших надежд детства своего до вот этого самого срама не такого уж и престарелого возраста.
И ещё, что стоит сказать нашему нетерпеливому негодующему читателю, чтобы он ещё потерпел немного, поскольку терпение есть самая величайшая добродетель, которую только можно испытать в себе при встрече с этой и подобной этой историями, каковые, впрочем, нам не встречались доселе; так вот, стоит сказать то, что могло бы требовать отлагательств или вовсе умолчания, если бы то, о чём мы говорим случилось бы раз за всё время или два хотя бы, так нет, мы хотим предупредить о намеренном повторении спутывания и прерывания всей истории этой, в которой прерываемся мы не для того, чтобы ввести некоторый элемент, который мог бы поспособствовать дальнейшему лучшему пониманию происходящего и выстроить гладкую историю, которую можно затем было бы друзьям пересказать, не специально, конечно, а по поводу лишь, и то, когда другим вовсе не подвернётся случая какой-нибудь анекдот вставить или случай из вчерашней своей жизни, так вот, мы прерываемся не для того, чтобы сгладить то, что мы говорим в линию или параллели, а для того лишь, что так всё и складывается; например, день длинный, а вон поди припомни, что ты весь день думал, и ведь в любом случае можешь быть уверен, что не падал без сознания и вроде бы был при уме своём, и думал о чём-то, что-то примечал, откладывал, анализировал, а тут вот раз, подытоживаешь, и впечатление такое складывается, что все подуманное к вечеру можно уложить в ход трехминутного размышления, а куда делось всё остальное время непонятно; так вот и с нашей историей, и это не единственное, почему мы излагаем так, как излагаем, но пока достаточно одного повода: случается в ней что-то, вот мы и рассказываем, не случается и не рассказываем; какой же смысл говорить о том, что не случилось, не лучше ли говорить о том, что первое придёт в голову, например: за окном зима, и выдалась она в этом году чрезвычайно малоснежной и при том очень морозной, так, что земля промерзла до основания; зачем мы это сказали, к чему; а вот к тому, что мы полагаем происходящее происходящим к чему-то, но, когда итог собираем, оказывается, что как будто цветы случившегося с нами выросли на самых каменистых местах, да так, что никаких оснований к их росту не было; вот и мы не будем искать никаких связей, и как можно прыгать в повествовании от жизни Марфиной к бесам непонятным у отца Георгия, а затем еще и выдавать первое подвернувшееся, и это мы про зиму, чтобы сказать, что цветы растут на камнях: негодование и терпение, и вот, что мы пестуем, вот камни, которые породят самые прекрасные цветы, не бросайте только на камни навоз, дабы размягчить их, поскольку цветы на камнях вырастают не потому, что камни дерьмом коровьим измазывают, но потому только лишь, что так хочется, камням этим, цветы вырастить, а цветам, стало быть, ответить камням ростом своим. И всё это под одним солнцем, к которому, впрочем, мы ещё вернёмся, не особо собираясь от него и ныне удаляться.
Ищет отец Георгий спасения в неисчислимой и неиссякаемой силе, даруемой Священным Писанием, словами Иисуса и апостолов Его, Церковь основавших, которой жизнь отца Георгия доныне принадлежала, хочет найти да найти не в силах; и дело не в том, что усомнился священник в силе слова Господня, нет, напротив даже, именно теперь как никогда сияющей в нетленной славе своей видится отцу Георгию чистота и незыблемость советов ко спасению Христовых, однако же, вместе с этим уверованием разрастается бессилие отца Георгия, который совсем уже не может, никак не способен силой новозаветной свою душу подпитывать, поскольку дело не в голоде души его, а в том, что отравлена она; истощённый организм на глазах впадает в кому, коей для отца Георгия стала ныне греховность множащаяся беспрепятственно по всей прожитой жизни его, по всей памяти и даже в ассоциациях закрепившаяся, впадает в кому стремительно, притом, что лекарства все имеются и спасти бы можно, да нет уже у организма хотя бы ничтожнейшей силы лекарства эти принять; и ежели лекарства намеренно потому изготовляют так, чтобы ввести их помимо воли и душевных настроений больного, и так, чтобы они действие сумели при этом необходимое оздоровительное возыметь, то это только к лекарствам для оздоровления тела относится, а вот со средствами спасения души иначе всё обстоит и не только потому, что оздоравливающее не означает непременно спасающее, а иногда даже наоборот, о чём образом трагическим Ницше догадался, и о чём намеренно скептически Паскаль ничего знать не хотел, а именно: прекрасно знал то, чего именно знать не желает, стало быть, выдохся отец Георгий в отношении своей способности помощь новозаветную ко своему спасению приять, и никакая сила, в самом Завете заключенная, ничего с этим поделать не в силах; также, впрочем, как и мы полагаем, что нас защищает лист бумаги от того, что тут сказано, поскольку это всего лишь развлечение и не самое лучшее, а потому мы силу свою спасение принимать так давно не тревожим уже, что стали в этом отношении бессильными до предела, почти импотентами, как это иногда врачи называют, а священники нет, ибо Христос не позволял относится к какому-либо человеку как к окончательно бессильному, нельзя нам решать этого, человек ведь творение Божие и потому образ Божий и подобие Его не могут бессильными быть. Напротив, в этой способности заключается свобода человека, от которой никуда не деться ему в жизни своей: Бог оставил человеку возможность для того, чтобы силу приятия спасительного для души источника оставить, так сказать, в силах самого человека; ведь и Христос, помнится, говорил о том, сё, стою и стучу, так вот, не было уже мочи у отца Георгия подняться в себе самом и подойти к двери, дабы отворить её для вхождения Господнего, и это несмотря на то, что знает отец Георгий: имя подлинное Христу есть Спаситель; но не чувствовал себя у себя отец Георгий дома, стал беженцем самому себе и единственное что оставалось, так это терпеть негостеприимство хозяйское, и приходил заранее в страх от гнева хозяйского, когда представлял себе как такой никчемный постоялец у самого себя, как он, вдруг ещё осмелится кого-то в дом чужой пускать, даже если это и Господь Бог, который создал всё сущее; и тяжелее ему от этой своей немочности становится при знании отчётливом о том, что Господь рядом и спасти его, именно его равно, как и всех вообще, желает; и в этой немочности своей, и нигде более, земля обетованная бесам предназначена от времени сотворения мира; и обступили они из пустыни неспособности душевной, и кривляются, и танцуют, и в ладоши хлопают.
Так это не фантастика, о бесах-то, но метафора только, догадается догадливый собеседник, и додумается додумчивый, на что мы можем сказать лишь так: нет в нашей беседе метафор никаких, а ежели принять их наличие, то мы должны быть готовы к тому, что всё здесь одна метафора, ибо язык метафоричен, что значит: вещи метафоричны, и стало быть, мир метафора лишь, а отца Георгия можно в матрону и австралийца обращать очень даже несложно, чего нам теперь, и это в положении-то нынешнем отца Георгия, и делать совсем уж никак не хочется.
И начал отец Георгий вести деятельность столь активную, что его братья по вере усмотрели в этом прямо-таки некоторое возрождение чувствования религиозного, некоторое озарение, чуть ли не благодать божественную, как это у послушников молодых стариками умилительно с ностальгией и грустью наблюдается; отец Георгий только и поспевает посещать своих прихожан, и предельно внимателен ко всем мельчайшим подробностям происходящих с ними событий, которое, безусловно, событиями настоящими только сами прихожане с их меркой жизненной почитают, слушает всё это чужое внимательнейшим образом отец Георгий, лишь бы отвлечься от своего вконец, да вконец-то понятно, что отвлечься можно будет так, что ни к чему впоследствии уже привлечься никогда и не сможется; в доме одного банковского управителя так усердно отец Георгий выслушивал и выспрашивал о приключившейся у собеседника головной вчерашней боли, выяснял все подробности столь скрупулезно, что в конечном итоге всегда занятого для посещений Храма Божия прихожанина действительно одолела головная боль и куда пуще, нежели это было в обсуждаемом случае; и если бы некоторый заграничный доктор, Зигмунд по имени, сделал из этого обстоятельства некоторые, возможно даже не безосновательные выводы о природе этой головной банкирской боли, связанные, возможно, с замужеством той служащей, на внимание коей уповал всегда негласно от самого себя банкир, о чём отцу Георгию ничего не сказал, поскольку и себе ничего об этом не думал, и если бы доктор этот Зигмунд что-нибудь бы понял, то отец Георгий лишь несколько чрез меры раздосадовался, и не нашёл ничего лучшего, как покинуть этот дом, чтобы несть свет службы своей непростой для нашего, да и для любого, как то показывает история веры Христовой, времени в следующее жилище. И вновь видел тут отец Георгий ту самую похоть, разительно Марфу ему напомнившую несколько дней назад, на сей раз однако отец Георгий был не один, но в компании невообразимой, окруженный невидимым и немыслимым, делающим отца Георгия немыслящим, легионом собственных бесов; это сообщество, как ни странно, позволяло отцу Георгию чувствовать себя не только в безопасности особой, но даже и сделало его готовым к дьявольски дерзким для него прежнего поступкам. Вообще-то, конечно, нельзя здесь говорить так обобщённо, будто отец Георгий стал этаким заправским повесой или хотя бы даже почувствовал себя таковым; нет, дерзких поступков он осуществил всего лишь два, если не брать в счёт нарушение тайны исповеди, совершённое до всякой дерзости душевной, но, напротив, своим свершением в душу отца Георгия дерзость привнёсшую, два, повторяем, поступка: первый и второй, и черёд первого уже вот сейчас наступил, а до второго, если это вообще поступком мы дерзостным сможем впоследствии счесть, мы ещё доберемся в его, поступочное и дерзостное, время; дерзостность отца Георгия, кроме прочего, была таковой лишь для него и в его нынешнем состоянии; ежели кто-то спросит, откуда нам знать чем были для отца Георгия его поступки, ведь упоминалось уже, что в голову мы ему залезть раньше патологоанатомов не сможем, а когда с ними сможем, то ничего там из интересующего нас не найдём, а найдём лишь то, что даже и патологоанатомам неинтересно, ибо насмотрелись за годы практики на всё это одинаковое у людей всех, ежели кто спросит так, мы сможем вдаться в схоластические построения или же ответить просто-напросто: не знаем, но сейчас не собираемся ни того, ни другого делать, поскольку никто об этом не спрашивает, и потому около нас блаженная тишина устанавливается, чего не скажешь об отце Георгии, который сам для себя стал своим вокруг, средоточие же души его поющие и танцующие дьяволы населили; шумно отцу Георгию и весело даже немного, разве что досада берёт от этой ерундовой головной боли банкира, которая вчера, как понял отец Георгий, и сама случилась, а сегодня, и это тоже точно, при посредстве отца Георгия, точнее же: от бесов его весёлых, чего банкиру неведомо совершенно, не ведает он о том курьёзе, что священник с компанией бесов ходит вместе, а потому и полагает банкир, что боль вчерашняя возобновилась сегодня и не более того; вот и досадно отцу Георгию, что сам не поведал банкиру о том, что это не возобновленная боль случилась, а первая, от дьяволов полученная; и не успокаивает отца Георгия то, что банкир про замужество коллеги молодой и красивой, которую банкир даже пальцем ещё не тронул, ничего не упомянул; не успокаивает, поскольку всё равно отцу Георгию до счастья этой девушки, нет, конечно, пусть живет и радуется и пребудет в семейном покое, да только в соотношении с головной болью прихожанина нет никакого дела до этой свадьбы священнику, а если доктору Зигмунду дело было, так самого доктора здесь никогда не было, нет и не случится, и даже всё равно отцу Георгию от того, что доктор Зигмунд предполагать не мог: хотел, быть может, избавиться банкир от визита священника в редкий выходной день, вот и сболтнул про головную боль; неважные всё это для отца Георгия мелочные обстоятельства, а досадно, что не сказал банкиру об этом всём своём окружении незримом; ведь не сказал не потому, что лишь слушать должен других, а говорить своё нет, но потому, что он вообще многое теперь никому не говорит из того, что сказать обязан, да не просто сказать а кричать о чём обязан, а это вот именно такое, ко сказанию обязывающее, но не говорит отец Георгий того, что обязан, отчего и селится в нем досада, будто икота мёртвой от заглушения совести его, совести, шумом дьявольским убиенной. Зато начинает отец Георгий свою способность настоятельную чувствовать всё более к сказыванию того, что говорить не обязан, и даже, в первую очередь, обязан не говорить, и это вот дерзостью-то он для себя и называет. И свершит такую именно дерзость отец Георгий всего лишь единожды, и затем другую, и единожды и бесповоротно, и именно теперь первую, когда выходит он из одного дома, дабы в другой войти, а на его, теперь уже его, стороне улицы, навстречу ему похотливое искажение образа Марфы в тех же тёмных очках, или в других, кто их разберёт, и запахом постели шествует. Отец Георгий, в некоторой кажущейся растерянности, которая действительно лишь кажется, поскольку под бесовские шум и пляски он может ощущать лишь некоторую приглушённость и ошарашенность, с которыми он останавливается напротив девушки; она, заметив эти его намерения, несомненно, останавливается в нескольких шагах от него, и, вероятно, спрашивает: в чём дело, святой отец, или же: что вам нужно, или же: я вам могу чем-нибудь помочь или ещё что-нибудь в этом роде, когда мужчина немолодой преграждает дорогу молодой девушке; можно было бы сказать: когда священники обычно на улице перегораживают дорогу молодым девушкам, но трудность состоит в том, что как раз обычно священники этого почему-то не делают, а ходят либо украдкой поглядывая, либо с чувством собственного достоинства смотря сверху вниз, но в любом случае не соприкасаясь с незнакомыми, особенно это невозможно, если бывает особенно невозможное по отношению к просто невозможному вообще, здесь, в старой части города, где отца Георгию знают по имени если и не все, но уж точно все местные обитатели знают, что это местный священник, знают, даже те, кто в Храм Божий не ходит вовсе, хотя таких в этом месте, и в силу обеспеченности и модных поветрий времени, и здесь все меньше и меньше; особенно это невозможно, архиневозможно, псевдовозможно, лжевозможно здесь потому что, если даже сюда случайно и забредёт некоторая молодая особа, и даже если захочет преградить ей дорогу местный священник, то за это время мимо наверное пройдет кто-нибудь из тех, кто скажет: добрый день, отец Георгий, и должно быть совестно отцу Георгию, и надеяться на то, что никто из таких знакомых мимо не пройдет, конечно можно, но рассчитывать на это твёрдо никак нельзя, поскольку рассчитывать на это может лишь тот странный священник, который будет ходить по улицам в ночное время, но было бы чрезвычайно странно, чтобы священник ночью бродил по улицам, да и молодая девушка, достаточно вульгарно выглядящая, должна была бы перейти на другую сторону, ежели только она не искала бы себе в ночное время клиента, что, опять-таки странно, чтобы таким клиентом стал бродящий по ночам священник, они, конечно, могут пользоваться всевозможными услугами подобных барышень, однако не в рясу облаченные и не в месте жительства своей паствы, и это притом, что появление такого рода девушек в этом районе города ночью вообще-то маловероятно, поскольку вульгарность ночная оживает ближе к беднейшим кварталам, там, где вотчина церкви Всех Юродивых находится, но мы-то помним, что тамошние священники не только не покидают пределов Церкви, но к ночи и вовсе запирают храм на тяжелые деревянные засовы, служащие не одну сотню лет защите Святого Духа от особо рьяно верующих, верующих исключительно по ночам и в не совсем вменяемом состоянии, хотя вопрос о вере во вменяемом состоянии выходит за пределы любой компетенции вообще. В любом случае нам неизвестно, что сказала девушка, можно лишь говорить о том, что что-то наверное она сказала, но нам это нисколько неважно, и не потому, что мы тут такие бессердечные и несердобольные говорим всё это, хотя мы бессердечны и несердобольны, если уж положить руку на сердце и сердоболие, сё сущая правда, но теперь нам это нелюбопытно потому только, что отец Георгий либо не расслышал, что она сказала, либо проигнорировал сказанное ею, и второе вероятнее первого, поскольку отца Георгия служба в послушании и выслушивании состоит, а первое вероятнее второго, поскольку служба отца Георгия в игнорировании чужих слов лишь в случае нападения на веру истинную состоит, но мы точно знаем, что двойник Марфы в тёмных очках своих никак на христианскую веру нападать, на словах по крайней мере, не собирался, а ежели и нападал, то лишь внешним обликом своим, сам того не ведая; скорее наоборот, это христианская вера, в лице отца Георгия, а точнее: в лице всего его тела, продемонстрировала своими действиями то, что любой из находящихся на месте девушки воспринял бы как нападение или намерение оного; особенность же в том, что отцу Георгию никто другой на месте девушки не нужен теперь был, но лишь она одна, да и не она сама даже, а то, что знал он о ней, а знал он о ней то, что она очень похожа на саму Марфу, тайну исповеди которой он нарушил и из-за чего теперь в геенну огненную в компании бесов катится непременно и безостановочно. Отец Георгий снял с лица девушки тёмные очки, которые, кстати сказать, были довольно не по сезону ею одеты, ибо на улице осень поздняя, довольно холодная уже, стояла, да, собственно и девушка была сама довольно легко одета, видимо жила рядом и ходила недалеко, либо же любила похоть вызывать у ближних своих, имея руку правую и глаз правый целыми и невредимыми вопреки заповеди Христовой; так или иначе, а точнее, очень властно и резко отец Георгий, совсем не по-отечески и не по-георгиевски, сорвал с лица тёмные очки, зеркальные кстати сказать, и потому видел перед этим себя в них отражённым, отчего ещё больше уверился в необходимости избавиться от этого предмета, властно и решительно, не иначе, а именно так, сорвал очки, и внимательно глянул в глаза девушки, бесы ударили в тромбоны и начали скакать канкан, в котором тромбонов никаких нет, но что им до того, отец Георгий стоял поражённый: перед ним предстала Марфа, та самая Марфа, которая всегда выглядела скромнее монашек; но она не узнавала отца Георгия, и тому оставалось сделать так, чтобы она узнала его, и отомстить ей за все свои страдания и неисполненные ею надежды, платой за возложение которых на неё стало его окончательное падение. Отец Георгий схватил девушку за руку и потащил за собой в Храм Божий, со всем этим необходимо было разобраться раз и навсегда. И ведёт отец Георгий чрезвычайно податливую девушку, сам более неё удивленный тому, хотя и по иному поводу удивляясь, она-то, она могла бы удивиться тому, что её на улице хватает за руку священник и ведёт куда-то, а его удивляет, что такая девушка, привлекающая внимание мужчин иного толка, нежели он, хотя он даже и не знает, оказывается, какого толка он мужчина из-за рясы своей и есть ли в нем вообще мужской толк, а теперь и вовсе не время выяснять это, хотя это-то его и удивляет теперь более всего, только это и удивляет, что девушка, привлекающая даже не мужчин, а толк в мужчинах, столь бестолковый и беспутный и во всех мужчинах столь похожий в том, что касается его направленности на женщин её рода, женского, стало быть, должна бы она теперь удивляться и сопротивляться попыткам бестолкового для неё мужчины, да что там попыткам, самому овладению уже фактически свершённому, ан нет, не сопротивляется, и это немного удивляет отца Георгия, но лишь немного, поскольку видит он в этом правоту бесов своих, и поскольку правы они, то и не зря они там играют похабные мелодии, столь по духу различающиеся от правоверных песнопений церковных, правоту, говорящую, что любая девушка на месте этой должна непременно сопротивляться ему, но эта-то не любая, что видно по согласию её, видно отменно, а самая что ни на есть Марфа, которой дьяволы не менее его овладели, с той лишь разницей, что её дьяволы в ней изначально сидели, а теперь, наружу выйдя, овладели ею так, что она преобразилась телом и душой, да до того в этом преображении дошла, что даже отца Георгия не признаёт, а отец Георгий тело свое вон по-прежнему в рясу облачает, да и душой, точнее сердцем, Марфу тогда признал, когда та себя не признала сама, хотя и он себя узнавать не очень-то жалует, и потому всё это, что бесы эти не иначе как изначально в душе её были, а отец Георгий лишь поспособствовал их выходу на свободу скорейшему, целью имея, дело понятное, свободу, а не дьяволам способствование, а его, отца Георгия, дьяволы получились захожими и оттого такими неуважительными к нему, и паршивыми, вон же как она к своим приноровиться смогла, будто для них и была Творцом создана, чего конечно в мире Божьем случиться никак не может, он же от этих пришлых вследствие нарушения тайны исповеди получил нынешних, от коих страдает лишь неимоверно. Встречают они, конечно, на улицах людей, которые говорят: добрый вечер, отец Георгий, и вроде даже как-то не удивляются, что идёт отец Георгий с девушкой за руку, или же удивления своего умеют не выказывать, а ежели захотели бы выказать, ответил бы отец Георгий, что не к здоровым пришел Христос в мир сей, но нет, не спрашивают, знают люди тихий и доброжелательный нрав отца Георгия, а о дьяволах его ведать не ведают, зато двойник Марфы узнаёт точно и наверное, что зовут её спутника странного отцом Георгием, и спрашивает этак беззаботно: значит Вас отцом Георгием величают, или же: отец Георгий, значит, или: хм, отец Георгий, на что отец Георгий лишь улыбается почти не таинственно и бормочет так, что она слышит его или не слышит его, непременно-непременно, отцом Георгием, а то как же, или же: а то тебе то неведомо, или же что-то в том же роде; вот уже и Храм Божий, церковью Святого Иеронима именуется, и входят они через центральный вход, да только затем сразу сворачивают к левому приделу, где по правую руку икона Спасителя, а по левую Божьей Матери, свечи горят редкие, но горят. Здесь уж отец Георгий руку двойника Марфы отпускает, поворачивается спиной к ней и поднимает взор ко взгляду Христову, долго смотрит Ему прямо в глаза и говорит что-то вроде: отвратительная работа с художественной точки зрения, не находишь, на что двойник Марфы говорит, что не разбирается во всём этом, но насколько что-то понимает, священники обычно так не выражаются, как впрочем и девушек незнакомых на улице не хватают, и в Церкви не волокут, а ежели Церковь сегодня прихожан среди молодежи теряет, то дело такими средствами не исправишь, надо признать, упадок нынешнего положения церковного и из него в дальнейшем исходить следует, а не ловить людей на улицах, подобно противным разным там мормонам и иеговистам; сказала она всё это и тут же поняла, что отец Георгий вовсе не слушает её, и не потому что она на веру его нападает, а потому что нет ему до веры сейчас никакого дела, точнее до того, что она за веру его понимает, ибо говорит ей отец Георгий, что прекрасно понимает её намёк, когда она упомянула только что то, о чём священники обычно не говорят, что значит, что помнит она всё и напрасно теперь выдаёт себя за не ту, которая есть, выдаёт так окончательно и с пристрастным самозабвением; да, говорит отец Георгий, размещаясь между нею и ликом Спасителя, я в самом деле сказал нечто, что упомянуто никак всуе быть не может, но хотел ведь помочь, а ты, дочь моя, посмотри во что ты дарованную тебе свободу облачила, и проводит рукой по обнаженной линии живота её; ничего не понимаю, может она сказать ему, а может и: как интересно сказать, но ему всё равно, надо выговорить отцу Георгию ей всё, а уж затем будет он чист перед Марфой, а Спаситель пусть сам решает, будет ли это очищение предсмертной также достойной небес речью исповедальной, которая может прощение отцу Георгию даровать, и не только от этой заблудшей отроковицы, но и от Сына Божьего; да только, видят бесы, менее всего отец Георгий об этом ныне помышляет, а потому, видят бесы, чист он перед Отцом Небесным как никогда: никаких задних мыслей, всё наперёд выкладывает.
И приблизительно так говорил отец Георгий, и голос его, конечно, эхом не разливался в полупустой вечерней церкви, поскольку это лишь в соборах католических голоса эхом себе разливаются, куполами соборными уловимые, которые в свою пустоту Бога католического вместить способны, у нас же голос приглушается, то ли оттого, что никому в голову громко говорить не приходит, то ли от свечей и икон, под взглядами святых различных, а то и Бога или Сына Его, впрочем, взгляд Святого Духа как-то трудно себе представить, поскольку не ведаем мы физиологию духов, в том числе и святых, и где у них там глазам надобно размещаться, и прочим органам, выразительность для смотрящих кажущих, не ведаем, и всё это, в отличие от химер тамошних, не к глазению любопытствующему призывает, но ко взору в душу собственную и нетленную обращает, говорит отец Георгий, ангел тебе во сне привидевшийся, поначалу мною за сон обыкновенный был воспринят, а посему присуща мне стала нерешительность некоторая, вдруг это всамоделишний, Господний то бишь, ангел, но полагал, что миновали давно уже времена те, когда библейские сны людям вестников своих посылали, дабы уснувшие внемлить смогли во сне тому, к чему наяву никак не способны, да и вместить в душу свою Откровение Божественное, и будто забыл Господь про путь через сновидение в душу ведущий, или же разочаровался Творец всего сущего в этом пути, психоанализом дерьмом вымазанным, к тому же ты девушка набожная, а потому фантазией своей могла внушить себе и ангела любого, и чёрта так, что кто угодно во сне тебе привидится, психология этакая примешивается, но видел я, что ты-то сама в это всё свято веруешь, да так, как не каждый из братьев моих к тому способен, а дойти до того, что стало быть ты и живёшь в мире с Богом таким образом, безо всяких скидок на учения о душе различнейшие, я не способен тогда ещё был, а посему хотелось тебе помочь, но и говорила ты со смехом о том будто, но я-то видел, что тебе меня хотелось выгородить ото всего этого, ибо небезосновательно опасалась ты, что коли ты сама веруешь так сильно, то уж от меня-то такой сильной веры ждать никак не следует, несмотря на то, что в рясу облачен я и жизнь этому свою посвящаю, а в душе своей ты серьёзна и мрачна, и коли обратилась ко мне ты, и нарушила так сказать тайну ангельских слов, в которых сказано тебе было никому их не сказывать, то только лишь из надежды, что даже если я не смогу всё осилить душой своей, то не случайно же Господь меня к службе собственной в миру поставил, а посему и никакого нарушения из твоего рассказа не следовало, ты Господу через меня говорила то, что Господь тебе в обход Церкви своей высказал, в прямом сказании Слова своего, но это всё верно только до тех пор, пока священник лишь священником пребывает, но хотелось мне тебе не по-священнически, а по-человечески подсобить, покуда человек ты воистину удивительный, все удивительны, а ты необычайно, так молился я поначалу Господу в сердце своем, и говоря это смотрит отец Георгий на икону, но не Сына Божьего, а Богородицы почему-то, и не во сне, но в бессоннице полудрёмной решил сказать я обо всём Андрею твоему, с именем апостольским, тем паче, чуть не обошла тебя сестра твоя в замужестве с Николаем своим, даром что младшая она, с Николаем, невесть куда вскоре скрывшимся, но сказалась в итоге моя бессонница чистейшей бесницей, вот, видишь, как всё изменилось, так, что должна ты тут меня проклясть, ан нет, молчишь, безразлично тебе, а значит то именно что не сновидческий ангел тебе явился, а подлинный, и сказал я Андрею как-то, чтобы месяц всего подождал, точнее дней всего-то сорок, а затем-то всё и сложится у вас, и был благодарен он мне, и ещё я немного в помыслах о том побыл, а затем уж вернулся ко своим обязанностям земным пред взором небесным, но по истечении срока, твоим ангелом отмерянного, именно в эту ночь сороковую, оказавшуюся вместе с тем роковой, сон мне уже привиделся, и не было в том сне ни света яркого, ни тьмы кромешной, но в книжном магазине я себя углядел, где выбирал себе взамен истёршегося от времени в части переплётной Ветхого Завета другой экземпляр всего лишь, с кожаным переплетом, такой же, как был у меня, ибо бывший долго весьма послужил мне, но продавец мне протягивает такой же истёршийся, и говорит при том: сё, взамен Ветхого даю тебе этот вот, Новый, и протягивает мне его, а я ему отвечаю, что твой Новый тоже дряхл уже, как и мой Ветхий, и не различить уже между ними, дай же мне, требую я, новый Ветхий, на что говорит мне он, что Третий Завет, так и сказал, Третий будет лишь в понедельник после исполненного срока, и мне потому стоит взять этот его истёршийся Новый, поскольку пока ничего новее не было, а если я сомневаюсь в этом, то он был бы не против услышать от меня ответ на простой вопрос, так и сказал: простой: как теперь Господу быть, коли вестников Его даже служители Его не слышат более, так молвил этот продавец, и проснулся я, и понял, что ангел твой был подлинным, и то, что со мной и с тобой с тех пор произошло тому подтверждением служит, но ничего поделать с этим понятием своим не мог я, молиться разве что обильнее и каяться, но лишь в душе своей, поскольку пестовал усердно в себе мысль такую, что твой ангел, как и мой продавец неподлинны, а подобно тому как после прочтения книги какой вымышленной, мы можем ещё думать над нею всерьез длительно, под наваждением таланта авторского пребывая, да ещё и сны по этому поводу видеть, надеялся я и здесь, и верил, слышишь, верил, хотел верить как никогда, здесь всё так же обстоит, что и было, однако кончился отмеченный срок, и нерешительность меня переполнила, и ни тебя, ни Андрея твоего видеть не осмеливался, и просил отца Дмитрия дом ваш вместо меня посещать, сославшись на нездоровье простое, коего тогда не было, а как срок вышел, ангелом твоим во сне намеченный, я пуще прежнего молиться стал, и никому ничего по-прежнему не открывал и таился, полагая, что Господь и так всё видит, протестантом от испуга и неловкости собственной сделавшись поневоле, и заболел всамоделишно, причем дьявольской болезнью заболел какой-то, видимо Господь, единый для всех, протестантам прощает протестанство их, а нам наше протестанство не жалует, и думал я что ежели у вас с Андреем хорошо все обстоит, то вина и счастье ваше грехом моим искуплено должно быть, и готов свой крест ради вашего счастья несть был до конца, пока тебя не встретил, дочь моя, в таком бесстыдном наряде, и понятно мне стало, что грех мой напрасен был, ибо всякий грех напрасен, и никогда ничего грехом нельзя исправить, но здесь особливо напрасен, ибо Господа не обмануть против воли Его, и дьявольское наваждение моё настоящее, ибо глянь на себя теперешнюю, как ты изменилась, это я твою душу невинную вместе со своей самовольно загубил и по хотению собственническому, а когда говорил я пред ликом Спасителя ныне об отвратительной работе, то разумел не лик Сына Божьего, но наше с тобой здесь пребывание пред взглядом Его всепроникающим, будто взялась картина сама себя дописывать, отринув руку мастера мудрейшего, который контур ей уже обозначил, и вышли каракули, вот и всё, прости меня и молись за меня так, как ты раньше это умела, обрети этот дар вновь, а я попробую-таки искупить свое деяние неискупимое, и в ближайшее же время, ответь мне только, что у тебя с Андреем твоим приключилось и почему дьяволы твои, не чета бесам моим, так преобразили тебя отвратительно, рёк отец Георгий и выжидательно на девушку посмотрел, которая, конечно, не безропотно молчала во время сего монолога, который, вследствие этого обстоятельства, не совсем монологом-то и называть можно, а очень даже она порывалась его прерывать, то ли возражениями, то ли дополнениями, а может и вздохами пустыми эмоциональными, на что сегодня и во все времена ума у молодежи весьма даже хватает, однако, как выше уже поминалось нами, не давал отец Георгий к тому ни единой возможности, а потому и нам о том поминать особенно не стоит, а теперь вот слову её особое место отведено, стало быть, и надеемся мы на неё не менее отца Георгия, и слова её решающего ожидаем, и, согласитесь, что будет подлостью окончательной, если после достаточно долгого прочтения этой пустоватой повести, разочарует нас эта вульгарная Марфа, хотя, вроде бы, мы уже позаботились о том, чтобы любое слово, которое она теперь произнести соизволит, даже возглас, ох, или: ах, там, или: идите к чёрту, или, вероятнее ранее нами упоминавшееся, как интересно, отец Георгий, мы-то уже сможем разгадать за простотою этих её слов особую немалозначительность, о которой она сама, если судить как её тут представили, сама ни за что не догадается; лишили мы её самым подлым образом любого шанса поступить по отношению к нам подлым образом; иначе дело выглядит для отца Георгия, но, в конце концов, какое нам с вами дело до дела отца Георгия, не существует ведь его даже, он лишь кусочек бумажного листа, четыре пробел семь буковок, а служит он нам своими одиннадцатью буквами с пустотой внутри ассиметричной лишь к развлекательным целям, развлекательность коих, как уже ранее выяснилось, весьма сомнительного свойства; теперь же мы в любом случае в выигрыше, и это ничего, что наш выигрыш получен нами исключительно от неспособности в игре участвовать, сейчас специально такие игры в особом фаворе, под трусливую отвагу неучастия заточенные, и до тех пор, пока этот лист бумаги своим существом указывает на нашу собственную неприкосновенность и написанное тут с нами никогда не произойдёт и произойти не сможет, как никогда не произойдёт ни с одним из священников то, что описано в Новом Завете в отношении апостолов или Сына Божьего, как никогда не произойдёт ни с одним человеком то, что описано о каком-либо, все равно каком, человеке. Впрочем, пока мы тут дразним недоумение нашего последнего собеседника и читателя, всё может кончиться весьма стремительно, куда стремительнее, чем мы того можем ожидать, и не только мы, да и сам отец Георгий со своими всегда другими делами. Двойник Марфы, небезосновательно принятый отцом Георгием за Марфу, которой овладели её собственные дьяволы, настолько она была похожа на Марфу, насколько была собой в своей на Марфу непохожести, эта самая Марфа не Марфа действительно сказала, что это очень всё интересно, и она такого никогда не ожидала от своего редкого вечернего променада, и она чувствует себя героиней какого-то жутко приключенческого романа, коих давно, к сожалению, не перечитывала, что впрочем, для неё не такая уж и редкость, имеется в виду не чтение, а ощущение себя героиней приключенческих романов, и она при этом окидывает внутреннее убранство храма кокетливым взором так, что, присутствуй в церкви тот пуританский Бог, коего там зачастую хотят видеть священники, дух коего они на себя напускают или от себя испускают, не знаем уж как точно выразиться в этом случае, как, впрочем и во всех остальных, так вот, присутствуй там это священническое частое воображаемое, иконы от её этого взгляда вспыхнули бы огнём стыда, хотя тогда стало бы неясно, каким образом эти иконы там вообще смогли бы до того находиться, это всё, конечно, интересно, но ей теперь следует торопиться, и очень интересно было бы вновь встретиться, и ещё поболтать на эту тему, так и сказала: поболтать, если отец Георгий, я же не ошибаюсь, верно, если отец Георгий это повторить желает, а возможно и не только это, и стреляет своим нескромным взглядом прямо в глаза отцу Георгию, но того ей кажется мало, и добавляет, что отец Георгий никак не может быть против, поскольку он сам её сюда привёл, и она воистину, так и сказала: воистину, восхищена им, поскольку до сих пор воспитание её, не самое лучшее, конечно, всё же претило видеть ей мужчину под рясой священнической, но теперь, несколько кокетливый, но также и озадаченный взгляд, но теперь она пересмотрит свои взгляды на жизнь в этом отношении, и спасибо на том отцу Георгию, в этом смысле он стал её первым мужчиной, и она надеется, что отец Георгий ей в этом поможет и дальше, однако ж, к сожалению, не теперь, поскольку она очень, ну просто очень торопится, второй раз уже повторяет она, кроме того, у неё появятся, обязательно появятся, она-то уж себя хорошо знает, соображения о том, что ей сейчас сказал отец Георгий, и у неё всегда так, она даже сейчас понимает больше, чем может сказать, смешно, но слова нужно подбирать долгое время, а вообще человек она очень понятливый, хотя, говорит, надеюсь, что это всё несерьёзно, хотя, если поверить, что это серьёзно, то это жутковато, зато весьма оригинальный и интригующий способ привлечь к себе внимание, и всё, она кивает, и проводит, едва касаясь, своими тонкими длинными пальцами по дрожащей руке отца Георгия, кивает снова, даже, как кажется отцу Георгию, чуть кланяется, и уходит. Отец Георгий тут падает на колени как-то странно вдруг, и снова не пред ликом Спасителя, но пред ликом Богородицы, и молитву начинает шептать с глазами закрытыми, затем вцепляется себе пальцами в волосы, сдавливает ладонями виски, и рыдает, в то время как Марфа не Марфа немного, лишь немного задумавшись, возвращается торопливым шагом на свой путь неведомый нам тут, с которого отец Георгий её полчаса тому назад как уже своротил для беседы; в то время как она удаляется, отец Георгий, как и прежде, сжимая голову руками, замолкает, то ли оттого, что в церковь на службу вечернюю начали стекаться прихожане, и отец Георгий не желает продолжать перед ними череду своих нисхождений, начатую проходом по улице с вычурно одетой девушкой, да ещё и за руку, то ли потому замолкает, что просто замолкает. И нам трудно понять теперь, что за немалозначительность получил отец Георгий в своё дело от этой встречи странной, и повлияла ли она на отца Георгия, в любом случае мы у него это выспросить не сумеем, и не потому что отец Георгий живёт только на бумаге в одиннадцати буквах с пустотой ассиметричной внутри, а потому что и на бумаге он уже остаётся в прошлом, и кто возжелает его здесь живым застать, пусть назад возвращается, а зима-то холодная выдалась, как в голову уже спроста приходило, и потому кутаются все восемь священников церкви Святого Иеронима в шубы свои и дублёнки, и на руки дышат, а всё равно холодно в катафалке будто на улице, и, сугубо в терапевтических, а не в душеспасительных целях употребляют священники водку, и лишь один из них, отец Дмитрий, не пьёт и смотрит всё время, не отрываясь, на упокоенное лицо отца Георгия, в гробу промеж них лежащего, и на братьев своих по службе, по обеим сторонам на лавках вдоль гроба сидящих; отец Дмитрий, патриархом самим поставленный, как случилось, к ведению дел отца Георгия, упокой Господи его душу, отца Георгия конечно сейчас, а патриарха в будущем, не столь далёком, к слову сказать, для чего вызывал его патриарх к себе, прервавши поездку заграничную к братьям по католической вере по делам ненавистным толка экуменистического, сидит потому теперь отец Дмитрий у головы отца Георгия, и больше чем на братьев своих, которые стараются не смотреть на отца Георгия, будто обнажил он смертью своей что-то тайное и всех их касающееся, или же вызов даже в этом всем им бросил, смотрит отец Дмитрий на покойного, вследствие неровностей дорожных в гробу своём из стороны в сторону головой качающего, нет и нет, нет и нет, это после смерти-то; смотрите, говорит молодой священник отец Василий, будто с чем не соглашается до сих пор, на что другой, тоже молодой, отвечает: с чем теперь-то можно быть несогласным, на что отец Дмитрий, тоже молодой, но иначе совсем умудрённый чем те, пресекает болтовню братьев своих, напоминая им о том, что лишь теперь для христианской души жизнь подлинная начинается, а в жизни есть и печали, которых мы избегать стремимся, но принимать смиренно должны, и радости есть, которые должны смиренно принимать; едут дальше молча, гроб ухает лишь, автобус скрипит, запах смерти гвоздичный священники водкой безуспешно перебивают, да отец Георгий головой нет да нет выдаёт; водитель катафалка сказал, когда гроб вмещали, что у покойника вид такой, будто голова у него до сих пор болит, редко такое встретишь, обычно они спокойны и даже немного им завидуешь в помыслах своих посюсторонних, а этому нет, ибо вечность теперь с головой болью отбывать ему, а таблеток, должным образом от этого излечивающих, не изобрели ещё и не изобретут уж наверное никогда, на что церкви уповать только и остается в мире современном; на это отец Дмитрий сказал ему, что верующий и неверующий в этом мире равны, да отличаются только тем, что один с Богом живёт, а другой думает, что нет, в то время как Бог никуда от этих помыслов не исчезает; легче верующему, с Богом, да неверующий думает, что он свободней, а на самом деле несвобода или свобода у всех одна; непонятно к чему это отец Дмитрий сказал, известно только, что остальные братья смолчали и правильно сделали, а теперь вот отец Дмитрий на отца Георгия смотрит и отмечает про себя всю меткость водительского замечания про боль головную, да ещё пару обстоятельств, другим неведомых: чрезвычайно величествен отец Георгий в этом болезненном посмертном лике своём, и, кроме того, определяет этот вот отец Георгий дальнейшую жизнь отца Дмитрия, какое-то странное наследство ему, не без помощи патриарха, передаёт, величественное и головной болью отмеченное; кладет отец Дмитрий руку свою с перстнем непонятным на лоб отцу Георгию, а другой рукой берёт покойника за руку, сжимает холодную и тяжелую плоть, на морозе железнее любого железа ставшую, и отказывается от водки, которую в очередной раз протягивает ему отец Василий, и когда отказывается, так иногда выходит, что вместе с отцом Георгием в согласии супротив не соглашается, тот в гробу: нет и нет, а этот над гробом: нет и нет; смотрят на это братья, но ничего не говорят, не повезло отцу Дмитрию и всем это известно, похоже ведь, что дело тёмное и даже будто самоубийство священника в одной из престижных церквей, тень всё это бросает на безупречный свет церкви Святого Иеронима, а отцу Дмитрию вместе с делами отца Георгия тем самым поручается, не гласно, но надежно, со всеми обстоятельствами случившегося разобраться; закрывает отец Дмитрий глаза и голову наверх закидывает, руки отца Георгия не отпуская, и представляет себя в этом катафалке на месте отца Георгия, всё сходится, да только голова в такт движению сама выбивает не: нет и нет, а: да и да. Да, непросто со всем этим разобраться будет, ибо странно выглядел отец Георгий перед этим всем, если смерть можно назвать этим всем, а как же иначе, что же это всё, как не смерть и погибель напрасная; странно выглядел на фотографии этой, журналом модным помещённой в оборот полный, ибо умер отец Георгий в день тот же, и на фотографии этой отец Георгий глядит в объектив неопределённо весьма, и никого рядом нет, и будто там уже голова у него болит, и странно вёл себя, говорят, в фотостудии той, а затем мёртвым дома одного его нашли, и как в этом во всём разобраться, вот и сочувствуют братья отцу Дмитрию искренне и хотят водки ему дать отпить, а тот глаза вон закрыл, отказывается стало быть, будто отмеченный уже роком отца Георгия, который вон, тоже водку не пьет и не предложишь даже, и вон как смотрел отец Дмитрий в мёртвое лицо, и представляют братья на миг, все вместе, и не сговорившись о том никак, каждый про себя, что лежит в гробу уже не отец Георгий, а отец Дмитрий, и становится им немного не по себе, но ничего они сделать с этим не могут, а потому лишь с сочувствием и горечью глядят на отца Георгия, к которому из них никто зла никакого особого не питает, а если и питал обиду какую-то, то настолько она мелкая была, что теперь, перед лицом покойника с головной болью, всё прошлое худое ничем предстало, хотя и хорошего вследствие этого особо не обрелось. Отец Георгий был хорошим человеком, это все знают, в том числе и отец Дмитрий, отец Георгий был лучше отца Дмитрия, но это так, ни к чему говорить, ибо не в чём они уже соревноваться не могут, лишь пред ликом Господним, а пред Ним, как известно даже детям, все равны. И все живы.
Часть вторая
в которой мы узнаем подробности о податливости девушек, изображаемых на винных этикетках, почему не надо баловаться фарами дальнего света, как возбудиться на линию разметки автодороги, о продуктивности тонального крема для утаивания недостатков лица, удалось ли свидание у кота – и кое-что еще
Это как же поле это бесконечное перейти-то можно, кто же сподобится на подвиг сей заведомо безвестный и неблагодарный, а стало быть, и не на подвиг вовсе, а так, на мытарства пустынные, кто же жизнь свою единственную, Господом на спасение души дарованную, а матерью и отцом, земными родителями, на что непонятно, но уж точно не для этого, и это определённо, кто же встанет на эту гладь, лишь издалека гладью выглядящую, а на самом деле всю изрытую котлованами и насыпями нанесённую, которую историей чужой жизни назвать можно только не понимаючи о чём говоришь и что называешь, кто же погрузится в эти бесконечные переходы, якобы любому открытого простора, да и не так притом, чтобы праздно шататься, а так, чтобы самому форму этих рытвин принять и полем этим самому стать, кто попробует в отношении чужой жизни, коль своя такое же поле, и лишь иногда, когда ко сну отходишь и из детства что-то знакомое всплывает, так ухватишься, дабы в сон протиснуться, а там, глядь, такие живописные пейзажи и живые натюрморты за портретами мёртвыми скрываются, что только диву даёшься, неужто всё это сам ты переживал и во всём этом участвовал, и понимаешь тогда, что жизнь тобой уже прожитая поле тобой же неперейдённое составляет, и ровного места на нём ни одного нет, и всегда уже всё заполнено и изрыто и насыпано и зарисовано и засказано так, что и за жизнь оставшуюся не перейти прожитого, даже если осталось дольше чем прожил жить, и находит до тебя разумение дивное о полном неведении того, что ты есть, и это при полном ведении того, кто ты в смысле как звать тебя, где родился и прочие подробности так называемые автобиографические, упомянуть кои в силах, а что это всё такое, и даже не в целости, а по частям неведомо, и неведомо даже, что за части у этого тебя разорванного были и не были даже, а всегда тут наготове пребывают, наготове да не для тебя, а ты в них исключительным дезертиром или же туристом непонимающим пребываешь, безвестным господином среди слуг, либо же даже подглядывающим, стало быть, за интимностью своей же любящим подсматривать и видеть при этом, что интимность эта сама собой пребывает и тебе нисколько не принадлежит, а кому принадлежит не ведаешь, и ужас уже овладевает, ибо не ведаешь никакого кого-то, кто всё это вынести сможет, ну не Господь же в самом деле, нельзя ведь всуе упоминать, хотя вовсе это не суя никакая, кто понимает поймёт, а кто нет нет, и суда, как говорится, нет, и туда, как не говорится, никак, кто же это в отношении другого на себя взять сможет, кто может быть настолько туп или самоуверенно силён, хотя почему или, здесь и обычное, кто жизнь отца Георгия так перейти сможет как свою он сам никогда, кто как не отец Дмитрий, и если не сможет даже, то должен наверное, и деться ему некуда, некуда, а он вон делся, и даже вроде замысла этого не наблюдает в величии оном, и занят всё житейскими делами да разговоры смутительные ведёт, и это в Пасхи-то канун, пятница Страстная ведь. Отец же Георгий, вместо службы церковной в день такой прискорбный, обязательна которая для всех служителей Господних, да и не для них одних, а для всех верующих вообще, предписывается небом самим и Писанием Священным, не на службе он, а рясу свою придерживая, через ограду невысокую переступает аккуратно, газон призванную от таких как он ограждать, дабы трава молодая, пока весна хотя бы, ещё зелениться могла, переступает отец Георгий через ограду, дабы путь себе скостить, и опять же не в дом Божий спешит он, а в магазин продуктовый путь держит, и что-то при этом себе под нос, вполголоса, приговаривает.
И, стало быть, вина покупает отец Дмитрий, и не церковного даже для причастия хотя бы предназначенного, и правильно, откуда в магазине для мирских нужд предназначенном, вино причащающее быть может, хотя ведь продают там вино с лицами монахов из кинематографа взятыми, в первую очередь, ибо кто же лицо настоящего монаха на бутылку спиртного напитка поместить осмелится, оную же никто после этого не купит, а вот с лицом актёра какого признанного, в капюшоне бенедитинском, непременно, а помимо лиц таких псевдомонашьих ещё и храмы часто на этикетках встречаются, а на дешёвых винах бывает даже говорится, и это независимо от выведенного на них в остальном, вино освещено церковью Православной или же самим патриархом, что одно и то же чаще всего, ибо ведь не может церквушка хоть какая убогонькая денежку зарабатывать, не отчисляя при этом тому, кто прикрывает её сверху, и притом Господом вовсе не являясь; ан нет, такого вина отец Дмитрий, хотя и в одежды церковные чёрные облаченный ныне, пятница Страстная ведь, и в магазин войдя, такого вина не покупает, а покупает бутылку вина испанского и другую бутылку вина французского, красного и белого, но сухого и не креплённого, не мадерного, непременно, куда дороже всех монахов кинематографических, патриархами неизвестных церквей освященных. А ежели кому интересно, в чём сомневаться без сомнения смело любому читателю и слушателю настоятельно требуется, что на них изображено, то изображено на них вот что было: на вине испанском, этикетки бежевого цвета, чёрным по ней очертания замка какого-то заграничного изображены, а ниже название неведомое было, будто от руки писанное, хотя понятно что никто не будет бесчисленное количество таковых этикеток от руки писать да так ещё, чтобы все одинаково выглядели и смотрелись притом, название будто от руки писанное то ли замка этого, то ли местности, этот замок в себя вмещающей, ведь известно что замки европейские именуются тремя способами различными, друг с другом иногда в себе сочетающимися, по имени владельца, по названию местности, каковое до всяких владельцев сложилось у земли тамошней или же по другим причинам, им имя дарующим, последние же весьма и весьма замысловатыми быть могут, то есть далеко-далеко от мысли находиться, так что мысль никакая вразумительная до них добраться не может, ведь понятно только почему Бог Бог, Адам Адам, и Ева Ева, а всё остальное неведомо вовсе, Каин исключение и то в бреду лишь, и даже наука особая алхимическая вполне на этот счёт есть средь искусств словесных, этимологией зовётся, хотя сама она приходит на помощь там, где по уму, как иногда могли бы говорить, уже не понять ничего в сказанном; да-да, красное с замком, и кабы глянул отец Дмитрий на этот замок, то мы бы призадуматься и вспомнить о замке Кафкином смогли бы, которого на картине никто и не видел ни в глаза, ни в другие органы тем паче, а всегда воочию издали лишь, по смутным очертаниям, и то Иосиф с К. инициалом, что означает не отца земного Иисуса, хотя какой он отец, если к Марии не притрагивался до, хотя зависит это всё от разночтений в слове дева, девственница или же просто баба молодая, ибо даже не плотничал этошний Иосиф, а лишь на словах землемерствовал и, стало быть, на земле, словобросался; Иосиф замок этот видел, да не попал туда, текст ведь не дописан, как Броды всякие полагали, не ведая, что писать дальше нельзя по написанному уже, даже будь написан полностью, вряд ли бы Иосиф в замок этот смутный попал, такова ведь судьба всякого, словами землю мерящего, да еще и с библейским именем, немецким языком на свой лад приспособленным; а этот вот замок всякий, вино такое пьющий, видит в весьма чётких очертаниях его, и видит его на горе стоящим также, но видит так, будто сам на соседней горе в таком же точно замке уже сидит и будто всё уже обо всех на свете замках знает, чего не скажешь об Иосифе К., и знает не смутно, а чётко, только от знания своего желания туда попасть уже не испытывающий, ибо никак не связана жизнь смотрящего на чёткость замковую с господами из замка этого, и любого другого, поскольку сам он уже от рождения господствует, по меньшей мере в своём пьяном состоянии, и с вином потому связана жизнь эта вполне, хотя и ненадолго: бутылка пусть и дорогая, да всё ж таки меньше литра, долго не разопьёшься, и не желает туда попадать ещё потому, что рисунок графический и весьма схематичный, да и придал ему художник намеренно черты небрежности некоторой, линией он будто одной выведен, да только рука неужто дрожала, хотя очень умело, сказать надо непременно, дрожала, так, что жизнью эту графику, насколько для графики это вообще возможно, насколько это для чёткого очертания неведомого, хотя вероятнее Иосифиного существующего замка, возможно; увидел бы это всё отец Дмитрий, если бы этикетку красного им сухого вина рассматривать и рассмысливать вздумал, но этого он не сделал, а мы за него смогли лишь в меру сил наших убогих, и не потому что наши силы сейчас у Бога, а потому, что никчемны мы для дела этого серьёзного; на второй бутылке вина, но не мокрее первой по сахара в нём содержанию, не слаще стало быть, хотя как известно действие иное оказывающее, нежели красное, другая картина предстать взору могла бы, если бы предстала, однако не предстала: цветная, с девушкой среди цветков различных лицом своим изображённой с частью грудей её обнажённых, причем упрятал кто-то барышню эту за набросанные сразу же по ту сторону этикетки, поближе к зрителю возможному расположенные, а в нашем случае невозможному, ибо не стал отец Дмитрий смотреть на неё так же, как не стал смотреть он на замок чёткою линией выведенный, лицо частично и соски ее полностью цветами заваленные, цветами полевыми, да столь радостное лицо, сколь и заваленные соски, что васильки прямо в рот заваливаются, а фиалки прямо из подмышек ее бритых растут, хотя вряд ли девушка эта неизвестная по имени столь ретиво в этикетку при жизни своей улыбалась, хотя что это мы о ней в прошедшем, как будто она вослед отцу Георгию уже отправилась; мы так только оттого, что теперь она себе не принадлежит, а всякому пьющему такое вино вот принадлежит, и то без части лица и с грудями без сосков, но, скорее всего, вообще такой девушки никогда и не существовало, ибо лицо её и груди такие усреднённые, не в пример лицу и груди Марфы нашей, нигде тип этот средний не существует и сам собой существовать не может, а потому именно большая часть девушек живых так походит на него, а ещё большая часть этой самой большей части стремится всячески походить на него, дабы что-то с лицом своим, Богом данным и с грудями своими, совершить; и ежели эта самая, в силу своего несуществования, никогда ни в какую этикетку и не улыбалась, то живые и посему существующие, в своём стремлении на эту несуществующую походить, ещё как в этикетки своими подправленными губами лыбятся, и к бутылкам своими подправленными грудями льнут, и ежели кто вино им такое купит, вкусное и дорогое, тем самым их единственно представимому благополучию замечательно способствует, за что так улыбаться они готовы, что не только васильки, кактусы готовы в рот себе и на грудь нацепить полностью, даже с иглами, с землёю, благо корни у кактусов не очень большие; и ежели поглядел бы отец Дмитрий на эту этикетку, то подумал бы о том, наверное, что о девушках нельзя как о почивших, а всегда лишь как о грядущих думать и говорить надобно, и подумал бы он так потому, что в гости вознамерился идти, для чего вино и сигареты разные покупает, и не иначе как к девушке какой, и это он-то, сигареты ведь дамские там среди прочего, и это священник-то в пятницу Страстную. А как сочеталась бы мысль о всегда грядущих девушках с замком Иосифа небиблейского, этого мы за отца Дмитрия сказать не можем даже предположительно, без того, чтобы он сам этого даже не подумал, и хотя бы подумать собрался, но он этого думать, судя по всему не желает, кладет аккуратно бутылки в портфель из кожи коричневый; а то, что это всё со Страстной пятницей не сочетается, ни девушки, ни замки, оплоты греха в различных прочтениях, ежели Августина блаженного здесь было бы к месту упомянуть, любил ведь он аллегории читать везде, то есть смыслы одинаковые в различных вещах видеть, и нельзя было сказать о замках и о девушках как о разных ипостасях греха, ибо нет у греха ипостасей, знает это всё отец Дмитрий, и об Августине, и о грехах различных, и знает, что не сочетается это всё вместе вообще никак, но и об этом он нахально не думает, а спрашивает о только что упомянутых сигаретах дамских, тонких с пониженным содержанием никотина, и о сигаретах обычных крепких, мужских стало быть, ведь мужчины обычны, крепки и сигаретны, продавщицу благодарит, визиту священника не удивившуюся нисколько, в день-то такой, ибо день какой она не помнит, причин у нее к этому нет никаких, знает и помнит лишь, что через два дня Пасха, стало быть Праздник Светлого Воскресения Господнего, стало быть, после смены уборку надо генеральную дома сотворять, ибо так принято, а назавтра, заутрене, куличи ставить, а то что Пасха не в куличах и в уборке, знает она превосходно, однако вовсе не в истине божественного Воскресения Пасха её заключается, не это она знает, и ежели кто-нибудь напомнит ей об этом, она и слышать ничего не пожелает, а потому отец Дмитрий ни о чём и не напоминает ей, скорее же всего, не потому не напоминает, что она не знает, а почему не напоминает, сам не ведает, ибо торопится; продавщицу не удивил бы визит священника, даже помни она о мученичестве и распятии, а также светлом Воскресении из мёртвых Христовом, ибо знает она неплохо, что все люди люди, и ничто человечье им не чуждо; плохо она это знает вообще-то, но для неё неплохо, выпить и покурить, вина то есть хорошего испить и сигарет дорогих выкурить, не просто человечьим, но ангельским для неё предстаёт ныне, это ведь помимо куличей и уборки о Пасхе она знает, что муж её опять исчез куда-то, хоть сегодня спокойно уберусь, а на утро тесто сумею поставить, здорово, что на Пасху поменялась, лишь бы как на прошлую из-за дурня этого драки с отцом не вышло, а ещё хуже стало бы, ежели сюда бы ко мне припёрся, на смену мою, перед людьми стыдно, лучше уж дома отсидеть и перетерпеть, перелюбить стало быть, глядишь на этот год пронесёт и будет Христос воистину Воскресе хоть раз в моей жизни, воскресе как миленький, думает продавщица и улыбается, говорит же вслух: не за что, и уходит отец Дмитрий тихо-тихо, а она ещё вослед долго смотрит, будто в лице и теле священника дарована была ей надежда на воскресение Господне в её взрослой жизни; и неведомо ей, что покупает священник вино в пятницу Страстную не потому, что ему ничто человечье не чуждо, но, напротив, потому что отцу Дмитрию давно уже, а ныне как нельзя более, чуждо всё человеческое. Иначе не выбрали бы его дела отца Георгия вести, иначе не намеревался бы он вино это в словоохотливом землемерии своем со всегда будущими девушками распивать в пятницу эту роковую.
А пока отец Дмитрий следует неизвестно нам куда, почти неизвестно, ибо отчасти нам из покупок, на которые внимание им должное обращено не было, пришлось нам отдуваться, вот мы и отдулись как смогли, мы же не стеклодувы, но своё теперь непременно обратно забрать хотим, частично известно, что к девушке какой-то вознамерился идти, а будут ли они наедине общаться, или же кто ещё там, обычно мужски и сигаретно обретётся, не ведаем, и к чему это вообще всё не ведаем, а ведаем, напротив, что ни к чему всё это, супротив ведомого ведаем стало быть, а самого ведомого не ведаем, хотя ведать очень даже хотели бы, клянемся, знаем нельзя клясться, но ведь и вино с сигаретами в пятницу эту нельзя, как и в любую другую, а в эту тем паче, что мы, хуже других что ли, нет, ничуть не хуже, да и сказать о нас что угодно можно, никаких ведь нас по сути нет вовсе, без сути имеемся лишь, да и зачем мы какие-то вообще нужны, ведь даже не имеясь, в сообществе нашем неподлинном отца Георгия пережить смогли, и кого хочешь переживём, а даст нам Господь, и отца Дмитрия переживём, а коли не даст, то пусть сначала найдет, чтобы не дать нам, несуществующим ещё крепче, чем та девушка с этикетки, пусть попробует найти, дабы сделать отца Дмитрия нас переживающим, ничего не выйдет, нас бумага прочно хранит, ведь редко Господь даже с бумажного листа библейского своплощаться в мир наш умеет, Иисус это случай единичный, хотя отнюдь и не случайный, а очень даже необходимый, а посредством снов мы уже наблюдали какие чёртовы выкрутасы проникают, ежели кто им всерьёз в жизни нашей взрослой доверится; и ежели имеется рассуждение Тертуллиана более к снам благоволящее, в трактате о душе именуемом, так там же опять слова только одни, латинские или в переводе каком, слова и не более, а более слов ничего и нет. Обезопасившись от Господа таким образом, на словах опять же, стало быть, надобно спросить о героях повести этой вялотекущей и ничтожной, спросить: что же мало так их, а те, что есть, что же они нас своими действиями не очень радуют, лишь повсеместно своей бездеятельностью печалят, в смысле разочарования развлекательного только, какая же иная печаль от буковок на бумаге исходить может, ведь не документ это о смерти, рождении, собственности или письмо о любви, ненависти или выгодном дельце, к нам обращённое, и не счёт нам за жилище наше скорбное, домовладельцем присланный, в общем, нет ничего от живого человека какого к нам и именно нам обращённого, ведь автор не является живым человеком для читателя, сидит в своем нигде летнем и пишет из ничейного ниоткуда, опровергая язычески творение христианское из ничего, ведь не может же это всё Всевышним быть вдохновлённым, или же берёт этот автор несуществующий сор всякий, да и то, когда стихи сочиняет, ещё чего не хватало, давайте ещё стишки здесь нарифмуйте или наверлибрируйте заметки свои незначительные о поездках на работу, лучше уж увольте, а поскольку увольнять некого, то с просьбой не просто считаться приходится, и на вопросы не просто отвечать, а чудесно и в крайней степени необычайно считаться, без правил арифметических считаться, да и отвечать за пределами слов человеческих, и это там-то, где ничего кроме слов и расчёта быть не может; ведь высчитано же на этом листе очередное окончательное раздражение среднего читателя и слушателя, словами лишь его неудовольствие и вызвано, у среднего несуществующего читателя автором, которого нет: будто два зеркала поставленных одно другого напротив, всё возможное и ничего из существующего враз отражающих и друг другу кажущих, пока никто не смотрит на них, а ежели кто башку свою любопытную сюда промеж них всунет, дабы хоть одним глазком взглянуть, что же тут творится такое, то мы и размножим голову его незадачливую в бесконечность одиночества его, и ничего кроме морды его любопытствующей не покажем ему, и это всё мы, которых нет вообще-то. Вот мы изловчились и приноровились друг к другу, чуть хотя бы, ушли раздражения, головы любопытствующие бесконечностью размозжили, и отчёт дать можем вполне: людей тут мало, да ничуть не меньше, чем людей живых за пределами буквенными, ведь тела и мясо, нами там видимые на улицах ещё очень далеки от того, чтобы человеками живыми и полными предстать могли, живыми и полными бывают редко, человек загадка ведь, это только и полно, и живо, а то что имеющиеся здесь не действуют, не делают ничего, не виноваты мы, давайте терпеливыми будем, хотя и нетерпеливым угождать надо время от времени, и выдавать изредка мелочи, ничего не значащие, выдавать за дела важнейшие необходимо уметь, это вполне мы умеем, а потому не надо голову свою в бесконечность двух зеркал интимную вмещать, головой ведь думать можно ещё. А вот перед одним зеркалом можно и безнаказанно лик свой заявить, особо если ты девушка и гостей к себе ждёшь, да не простых, а для тебя важных, даже ежели не понимаешь, что они важны и чем они важны именно, но коли перед зеркалом надолго задержалась, то это тебе и могло бы указать, что, выходит, важно это для тебя же, хотя сопротивляться отчаянно будешь и скажешь, что важно для себя исключительно хорошо выглядеть, а то, что эта важность возрастает неизмеримо как раз перед тем, как на твоё лицо другие, да еще и мужеского пола, взирать будут, коли не вертихвостка и не лесбиянка ты, умолчишь об этом и не заметишь, как вот это пятнышко над губой неожиданное, ну и смотри на свой прыщик, у нас нет сейчас желания тебя же тебе самой научать, против воли к тому же: хочешь верить, что ради себя всё делаешь исключительно, так и верь, нашла во что верить, и не дура ведь, обидно, право слово, хотя, помимо желания, уже и времени у нас не остаётся, ибо надо ещё одно место успеть посетить до гостей твоих долгожданных, а ты пока прыщ свой ничтожный замазывай, хотя красива ты воистину, и не о прыщах тебе сейчас думать надо, но, видимо, девушка умеет о прыщах помышляя, заодно с этим и вселенские вопросы решать, к коим у неё те в первую очередь относятся, что её жизнь непосредственно затрагивают; хорошие девушки в этом смысле от плохих неотличимы вполне, различие между ними в том лишь, что плохие пределы своей жизни непомерно суживают и полагают притом, что иных вопросов, кроме как к ним относящихся, не бывает вовсе, хорошие же помнят, что бывают, да и горизонт жизни их часто за пределы видимого непосредственно окрест выходит; бывают ещё и очень хорошие, которые могут даже на вопросах, за непомерно расширенный ими же горизонт их жизни выходящие, сконцентрироваться личностью всею, и даже слово веское сказать, но мы сами в данный миг не можем сказать и сконцентрироваться не в силах, какая же из этих трёх девушек ныне в зеркало смотрится, ведь в этом действии все три воедино очень даже могут сливаться, и если не три, то две уж точно, а какие именно рано нам ещё тут знать, не время стало быть, а пока крем тональный легко-легко на лицо накладывается, вселенские вопросы, для человека любого в вопрос о судьбе его легко сходящиеся, в любом случае, вопросы эти, если и не решаются, то замазываются хотя бы слоем тонального крема флиртового, мыслями девичьими, которые успокоить могут мужчину любого, и многих обмануть даже, ежели он в рясу отца Дмитрия не облачён только, и именно в его рясу, ни в чью более, тональной судьба становится, однотонной с лицом девичьим, банальным и манящим: вот тебе, отец Георгий, глаза её, вот тебе, отец Георгий, нос её, вот тебе, отец Георгий, губы её, вот тебе, отец Георгий, вся она, глаза, смотрел в которые дважды по-разному, благоговейно и изумленно, нос с горбинкой, очарован которым как мальчик был, губы, смеялись которые над тобой и шептали которые сокровенное своё, тело, ангелами хранимое бывши, и чертями оглумлено, вот это всё тебе твоё, отец Георгий, где бы ты ни был ныне, аминь; всё это перед зеркалом, а оно, как известно, никогда точным и не бывает, всегда ведь глядящая в него видит не ту, что в зеркало смотрится; и ежели зеркало этого не может сделать, слить их двоих воедино в силу несоизмеримости Богом сотворенной, так это потому, что ума оно не имеет, а ты, отец Георгий, ум имея, как раз глупее зеркала оказался, вместо того, чтобы различить что-то, слил воедино, и не потому, что ума не имел, а потому что умом чутким чрезвычайно наделён был, да от этого без ума совсем вознамерился под канкан бесовский судьбу решать, говорить и действовать, хотя и нельзя вещи эти различать, ведь Господь Сам и то Словом стал, да и Христос, Сын Его и Сам Он зараз, сегодня терзаем, а к этому вечернему часу уже и распят; служителю же Господнему ничего иного, окромя слова действующего и действия словесного не остаётся, да и не стоит забывать как Фауст текст Книги Священной с самого начала перевёл, и к чему это его привело, и ежели там девушка спастись помогла, то тут очень даже напротив, хотя какая тут девушка, их же две здесь как минимум: одна перед зеркалом, а другая в зеркале, зеркальное, почти зеркальное отражение её, стало быть, глядят друг на друга одинаково, одна не отличая другой, кремом обе лицо своё тонируют под цвет лица, которое кремом тонируют; а если кто желает бесконечность не человеческую или Господнюю получить, а физическую просто, то пусть зеркало сзади поднесёт, а девушку удалиться попросит, и будет ему бесконечность, но кривая, ибо одно зеркало точно не отражает, отчего бы это двум вдруг точно надо бы отразить, но этого никто, кроме Господа, не ведает, ибо нельзя заглядывать, никто, кроме Господа, не знает, что бесконечность воистину искажена, ибо сам Господь, как Фома из Аквината говорил, и есть бесконечность, а вот правильная или же искажённая, нам неведомо, ибо мыслить можем лишь то, что ничего мыслить, кроме простоты божественной нельзя, дабы в обман зеркального подобия не впасть: прост Господь и бесконечен, мыслить можем лишь то, что мыслить ничего не можем, и всё это просто донельзя, вот и мы усложнять не будем, кто мы такие, ведь нас и нет, ни в одном, читательском, ни в другом, авторском смысле или зеркале, если угодно. И, кроме того, некогда нам, сказали ведь уже, а повторять не будем, мы ничего не повторяем и потому повторять ничего не будем; умом мы за различие выступаем, а не за повторение, особенно ежели оно бездумное или к безумию привести очень даже умными путями способное; повторение ещё встретим, и ужасно близко уже повторение подбирается, главное не думать об этом вовсе, и, как Кьеркегор говорил, это есть верный рецепт точного повторения; мы ничего не опережаем, не опережаем и искусственно не повторяем, не повторяем, за нас природа, природа всё что можно сама, и самое скверное, что нельзя тоже, уж наповторяла; или Господь это, нам того не знать, не ведаем и ведать не желаем, а ведомое нами, как выяснилось, совсем нам не желанно по другим уже причинам, не даёт ибо с места тронуться, но ничего кроме понурого следования нашему понурому ведению нам не остаётся в надежде, что оно что-нибудь да сумеет; вот и теперь сказалось нечто в зеркалах, хоть и пустые они друг перед другом, ан нет: две девушки похожие явились, и хоть одна всего кажется перед зеркалом, да и то дело у неё не весьма возвышенное, прыщик какой-то себе кремом скрывает перед приходом гостей важных, но всё же две их, а за одну мы их сосчитали лишь по убогости своей вышеназванной; не верим слову, не верим Господу, давайте хоть в зеркало посмотрим, да так ещё, чтобы ничего кроме того, что в нём видеть, увидеть не смогли бы, и там уже бесконечность целая явлена, умом не вмещаемая, но простая-простая, как и всё, умом не вмещаемое, стало быть, есть ещё надежда, не совсем безнадежные мы, надежда, не хуже той, коей смог одарить отец Дмитрий продавщицу магазина продуктового в Пасхи канун, а потому мы тоже теперь улыбаемся, хотя и не существуем; такая чеширская улыбка ничуть не сложнее, чем понимание Господа Фомой из Аквината.
Дабы в простоте не прозябать до отупления изнемогающего, нашей лишь неспособностью простоту восприять вызванной, а не от Господней простоты исходящей, поторопимся туда, куда так скоро торопимся, что уже три раза об этом упомянули, а с места не двинулись вроде совсем, хотя тут-то мы и ошибаемся весьма, если полагаем, что ничего там не происходит, где никто никуда не торопится двигаться; как раз наоборот, всё по-видимому и невидимому свершается, где куда-нибудь спешат, там непременно любого движения подлинного страшатся более всего, страшнее коего из всех движение в душе собственной или даже движение души собственной; и не важно куда она движется, ввысь или пониже выси, в любом случае неуютно это для человека, ибо меняется он, а любое такое изменение действовать ему не позволяет и к бездвижности внешней приговаривает, а ежели он и действует, то по инерции лишь, и ничего путного из этой инерции выйти не осилится. И посему, коли в миру кто активен донельзя, то бежит он либо от движения души собственной, закостенел либо в неподвижности бездуховной, инерцией либо руководствуется, а потому даже нельзя сказать: в своих действиях, но аккуратно добавлять следует: в своих бывших действиях, но точнее: в действиях себя бывшего, а ныне кто эти действия свершает, никогда деятелю такому активному вдомёк не бывает. С такими людьми дела особенно иметь трудно, если дела эти спасения их души или души им близкой касаются, а иных дел подлинных на земле и не бывает вовсе, а бывает целая уйма дел неподлинных, с той долей решительности совершаемых, коей даже отец Дмитрий позавидовать бы мог, да только напрочь зависти лишён он, в первую очередь её лишался целенаправленно, душу свою к тому упражняя, разве что за этой усталостью некоторой расплачивается поныне, но ходу ей, усталости этой, равно как и зависти, не даёт он, ведь времени человеку весьма мало отмеряно даже своей душой озаботиться чтобы, а уж если по полю чужой жизни ходить при этом вздумается, так вообще всё невероятно усложняется и кажется нет той нехватки временной конца и края. Разве что Господь мудро со временем спасения души человеческой распорядился, как и со всем остальным впрочем, и ежели его, времени то есть, а не Господа конечно же, на себя не хватает, то стоит о другой душе заботу начать питать подлинную, как, тут же, и в своём деле нелёгком продвинешься, и другому поспособствуешь, а подлиннее этого пособничества ничего и нет, вот ведь чудо какое свершается непрестанно, что и говорить.
Но дабы не только простоты отупляющей избежать нам, но и слащавости душеспасительной, а слащавость эта, надо сказать, не делает дело души спасения неподлинным нисколько, но избегнуть её нам сейчас всё же требуется, и потому мы сейчас как раз обратному, к только что изложенному, обратиться намерены, не как другим помогая, о себе заботиться можно, но к тому, как от других, в твоей душе никчёмной поселившихся, избавить душу свою, и тело своё от наслаждений, телом другим ему предательски доставляемых. Здесь уже никакие слова помочь не могут вследствие всесилия чувств ощущаемого, и это не только у людей сентиментальных, но даже у черствых быстрее проявляться способно, ведь сентиментальный увлечения свои быстро менять способен, хотя никуда они не исчезают насовсем, и хлещут пошибче плети в самые даже беззаботные миги жизни их сентиментальной, чёрствые же постоянно, не под плетью конечно, но в нытии игольного уколения пребывают. Избавление от другого, прежде близкого человека, возможно любимого даже, откуда нам знать, лишь Господь знает, что есть любовь, ибо Он она Сама и есть, Себя стало быть только Он знает, а мы знать ни себя, ни Его до конца не можем, а можем себя пестовать, а в Господа веровать, ещё же лучше Господу веровать; избавление от другого, если уж об этом, а куда без этого, обстоятельствами случайными обусловленное, как, впрочем, и встреча с другим изначально, в нужду изгнания настоятельную обращаться с необходимостью может, когда плеть сентиментальная свистко по лицу хлещет, либо игольные уколения чёрствые к животу прикрепляются, до обоих оснований позвоночных окликая; и оборачивается тогда-то всякое избавление, обстоятельствам предоставленное, изгнанием активным души чужой, да и не из комнаты бездушной или тела больного какого, тоже чужого, а из себя самого экзорсизм творить надобно, безапелляционно, стало быть, себя комнатой бездушной представлять, и телом каким больным и чужим одновременно, да решительно и бесповоротно представление оное ставить следует, пока оно само тебя не свалило. А всякие бесповоротности решительные инерции есть, либо чёрствость, либо бегство, но чаще всего, одно, в трёх единое ипостасях неподлинное, и вся эта монстрица на изгнание активно направляется. Плеть хлещет иль игла колется, равно нудит особенно тогда, когда другой, может быть любимый, которой внешне по случайностям обстоятельно выставлен из жизни вроде уже, жить себе сам позволяет, да и не для того, чтобы доказать что, например, из чувства мести недостойного, ибо прощением руководствоваться требуется в жизни здешней, тем паче тамошней, а просто потому жить себе позволяет, что любимый бывший, из жизни тем вычеркнутый, кто любил его прежде, живым и далее остаётся, а не умирает вследствие оставления его нами. Ежели ребенок у кого случился, то сердце родительское знает чувство это с доброй стороны, не всё ж пеленки ему менять да за руку водить кушать, ан нет, характер и предпочтения всяческие от родителя неизвестно порождаемые дитя себе заводит, само изначально того не ведая, и родителей, соответственно, не оповещая, и свободным становится, можно сказать, в этих вещах тогда уже, когда взгляд свой несмышленный на лице материнском или же отцовском сдержать безуспешно пытается, или же когда заявляет, песочницу покинув впервые, что друзья у него новые появились, и это он серьёзно о детях тех людей, с которыми молодые родители ещё сами познакомиться не смогли, так дети малые уже заставляют себя всерьёз вкупе со сверстниками своими воспринимать и выставлять, даже если совочков и машинок дело касается изначально, но дело то серьезнее некуда; но то удары всё добрые и такие же уколы приятные тут ощущение себе находят, тешится ими родительское чутьё новое и необычное, этими самыми хлёстами и иглами зарождающееся. Но могут быть, и непременно случаются, до чувства родительского приятного ещё ранее, недобрые плети и уколы самостоятельной свободой чужой жизни вызванные, это когда любимый прежде человек оказывается другими, не назло, а сам по себе, и вполне возможно счастливо и тихо, любим, и даже взаимностью этим другим отвечает, и это после другого сердца отзывчивого и души гостеприимной, хотя ныне сердце к нему оглохло, и душа на порог не пускает, но и что ж, прежде же было иначе, и как это всё неблагодарный другой, любимый может, прежде, забыть мог, не ясно, и хлещет плеть, и иглы закалывают, и нет конца их ударам и уколам, и на избавление обстоятельствами полагаться уже никак нельзя, силы нет никакой, а стратегию изгнания активную применять надобно, и не к другому, ну не убивать же его, а к родному себе, и понимание тут случается, что себе не принадлежишь, а другому всецело, коего отпустил прежде, а ныне так и упустил бесповоротно, и себе уже сам не родня, если и был прежде братом себе, или сестрой, или отцом, или матерью, или сыном, или дочерью, теперь это уже совсем не так всё.
И на автомобиле своём едет человек молодой с именем апостольским Андрей, на дорогу глядит взглядом несколько отрешённым, что правилами дорожного движения не поощряется, хотя и не прописано нигде, что надобно и насколько именно внимание дороге оказывать, ведь надо просто внимательным быть, как будто быть внимательным просто, не каждый это умеет, но не размышляет сейчас Андрей о правилах дорожного движения, и не потому, что знает их превосходно, не в последнюю очередь потому, что внимательным быть, вопреки сложности задачи этой, умеет, несмотря на возраст свой молодой и имя свое апостольское, и не потому, что правила эти, вследствие знания их, у него сами собой исполняются, и думать о них не надо даже, а лучше даже не думать о них, иначе запутаешься, как то часто случается с теми, кто слова грамотно выписывать умеет сложные, но до тех лишь пор, пока внимание своё на слове каком не остановит, и без словаря тогда уж никак не выпутаться, а тут дорога ведь и опасность для жизни серьёзная более, чем слово написанное орфографически калеченным скажется, здесь нависает с каждой секундой угроза иного совсем калечения, как тот вон знак поворота светоотражательный в фарах автомобиля твоего, вечер ведь, сумерки пятницы Страстной везде наступили уже, и дороги, по которым молодые люди с именами, пусть и апостольскими, но ездят, их это тоже, дорог и людей молодых, касается; но и не об этом сейчас Андрей. Скорее в сумерках души собственной светоотражательный знак ищет, да понимать не желает никак, что душа его Господом, сплошь из таких знаков состоящая, и сотворена, однако чтобы свет знак такой отразил, свет надобен, сами по себе ведь даже верные указатели ничего указать не способны, а без света сверкать изначального и твоего собственного могут лишь рекламные неоны, коих в душе твоей дельцы всякие без твоего ведома понаставили, и видишь этот неон ложно заманивающий в душе своей отчётливо, и чем меньше в ней света и дня, тем больше неон тот различимым становится, и света никакого для этого не требуется, а вот коли был бы, то не пропускал бы непрестанно знаки стоп, объезд и сбавь скорость, и доехал бы туда, куда не дельцам надобно, но куда в согласии с Господом свет души от рождения изначально устремлён был, пока аккумулятор отзвывчивости не сел оттого, что много неоновым заманиваниям следовал, важного не примечая.
Довольно долго уже Андрей Марфу не видел, да и теперь он не к ней едет, а к товарищу своему, или же к тому, кого товарищем назвать можно, за других неимением, но всплывает разделительной полосой Марфа, не ставшая ему нужной, да так неожиданно, что ни она, ни он момента этого должным образом встретить не смогли, пропустили, хотя как встретишь такое: ежели ждёшь, тем самым пропустил уже почитай, а ежели не чаешь, тоже пропускаешь; следовал Андрей совету отца Георгия, священника Марфиного, упокой Господи его душу, мы от себя добавляем здесь, ибо Андрей о душе отца Георгия мало ныне печётся, да и душах вообще чьих-либо, телом он ныне озабочен, и своим более любого чужого, ибо стало оно почему-то чужее любого чужого, которые, ежели они девичьи только, и даже более женские, чем девичьи, он получше своего чувствовать сподоблен. Да и ныне, вон, на дорогу смотрит, Марфа мерещится, а телом возбуждение ощущает, и не оттого, что о Марфе против воли думается, о теле её желанном, и уж не оттого точно, что на дорогу глядит, что странно было бы, хотя в мире сём всякое случалось, случается, и ещё более случится, и ежели животнолюбы от животных, а фетишисты от предметов всяких неодушевленных могут выброс семени своего осуществлять, то почему бы от полосы этой разделительной вот, в самом деле, как она прямая и белая по асфальту шершавому обещающе движется, чуть отклоняясь и вибрируя, в самом деле, всякое случается, но не с Андреем сейчас, а ежели с ним такое впоследствии наблюдаться будет, то мы надеемся, что с ним дела к тому времени уже не будем иметь, либо же умолчим об этом странном удовольствии скромно, ибо никак оно нашего рассказа не касается. А вот то, что Андрей видит одно, думает о другом, а третье чувствует при том, это рассказа нашего недостойного и не только рассказа, весьма даже касается, и трудно себе представить силу касательства этого странного, ведь иначе только в книгах плохих бывает, когда смотрит герой на девушку, думает при этом о ней, и ещё от этого всего кошмара возбуждается. Это всё легко себе пыткой вообразить, достаточно читателю посмотреть на что-нибудь, и заставить мысль свою от этого предмета рассматриваемого никуда не отклоняться, да не сойти с ума мы ему ещё пожелать на прощание можем, ведь читатель у нас один, а слушателей и того меньше, один и терпеливый, а такими читателями не бросаются, поди подыми эту тушу, не бросаются ими на психиатров всяких, ведь тем и алкоголиков с наркоманами хватает, книг которые давно уже никаких не читают, а ежели и читают, то уж точно не эту. Не бывает такого единения, к сожалению, и Андрей это знает хорошо весьма, и не только это, ведь даже находясь в постели с девушкой какой и, можно сказать, изнутри её чувствуя, частично весьма, но тою частью, которая в такие мгновения всё чувствование на себе одной съединить способна, даже в этих случаях неспособность наблюдаема думать о том, что делаешь, ибо в противном случае ничего делать, особенно того, что вот сейчас делаешь, не захочется; не говоря уже о том, что мысли твои далеко весьма, и не только от действия тобой непосредственно совершаемого, витают, но и от девушки этой близкой, не близко находятся; тут можно предположить, конечно, что Господь так непременно поступил и устроил, дабы человек делом продолжения рода занимаясь, как раз не мог о нём, о деле этом, да и о роде своём также, в этот момент помышлять, ибо опасность велика, что дело это само по себе человека увлечь в итоге сможет, что конечно же и произошло, и происходит, и ещё как произойдет, но, однако же, нет, не обмануть Господа, не этим делом мысли даже тех, кто себя без этого дела представить уже не в силах, заняты, но другими, хотя ум наш и убедил себя в том, что эти другие мысли напрямую с этим делом увязываются, и без этих мыслей дела этого помыслить особенно те, кто его весьма почитает, уже не могут, хотя и другие эти мысли весьма, и далеки очень даже, например, тем как подруга той, с кем ты сейчас это дело делаешь, сказала тебе, пока той, с кем ты сейчас дело это делаешь, не было рядом, что та, с которой ты сейчас дело это делаешь, в восторге и по-дружески секретно рассказывала ей, как ты это превосходно с ней дело это делаешь, что значит: как той, с кем ты сейчас дело это делаешь, от этого дела с тобой хорошо, и что сама подруга давно хотела с тобой дело это сделать, и ждёт от тебя назначения времени только, а место для этого дела у неё всегда готово во всех, двух возможных, смыслах; и даже ежели никогда этого времени ей не предоставишь, подруге этой, зато теперь и именно теперь, когда дело это делаешь, не сама подруга даже изначально, но лишь то, как она тебе это предлагать осмелилась, мысли твои занимает, и позволяет органы соответствующие не только в надлежащей форме удерживать, но даже сверх обычного к усердию склонять, пока мысли яростно от интонации подруги той, с которой дело это сейчас делаешь, к подруге её переходят и незаметно для тебя самого, не говоря уже о той, с которой сейчас дело это делаешь, подругой этой эту самую вот подменяют; и всё это из одной интонации только, и в мыслях своих что делаешь уже непонятно совсем, голоса слушаешь, подруг подкладываешь, собой восхищаешься или ещё что, и от этого то, что ты сейчас делаешь, ещё лучше делаться способно. Если это, конечно, не плохой роман, а жизнь наша никчёмная, а это она, несомненно, в рассказ наш выписанная, как выше выяснилось уже, фантастический весьма, и знает обо всём этом разладе человеческом молодой человек с именем апостольским Андрей, но и об этом не думает вовсе, ибо знание себя к тому разладу троичному четверицей дополняет, видим одно, думаем о другом, чувствуем третье, а знаем и вовсе четвертое, поди сыщи единство это осьминожье. Не бывает таких людей, у коих всё это различное в единство сходится, не бывает, но мы всё же давайте попробуем встретим его, почему бы и нет, ведь нас самих тоже нет, и творим мы, как водится, из ничего, и почему бы не теперь, здесь и сейчас, не ввести нам такого героя нового, знакомьтесь пожалуйста: Брут, имя такое древнее, римское, в жизни на земле русской так вовсе не называют, но могли бы ведь и назвать, ежели народился бы такой необычный герой плохого романа плотью весьма не скверной облачённый, а в рассказе нашем единство немыслимое четырьмя буквами Брут, единство видимого, мыслимого, чувствуемого и знаемого, явиться вполне может, может и отныне даже обязано весьма; упомянем здесь кстати ещё и то, что Брут этот сам весьма кстати, впрочем как и всё тут, приходится, ибо это никто другой как товарищ, к коему Андрей в сумерках пятницы Страстной приехал, а ежели и не товарищ, то никого кроме него Андрей товарищем назвать не мог бы, и мы Андрею вполне доверять должны, ведь у него кроме Брута товарищей нет, даже если и Брут не товарищ, а у нас тут кроме Андрея вообще живой души нет, во дворе этом, где Брут живет, а ежели душа Андрея не живая вполне, то живее её тут ничего не намечается. Единственное, что мешает её жизнь ощутить книжную, это её жизнь действительная, поскольку как быть с этой разобщённой четверицей; как здесь быть не ведаем, ибо нас самих здесь, как впрочем где угодно, нет, а Андрей вон уже подъехал куда ехал, и машину остановил свою, и фары погасил, впуская сумерки пятницы Страстной повсюду и делая их всеохватными.
Неизвестно о чём думает Андрей, юноша с именем апостольским, и почему из машины не выходит, не покидает её, ежели она только что разве средство передвижения есть, и теперь сделало это средство то, к чему предназначено творителями её, доставило человека, куда тот отправляться намерен был, самому ещё зачем неясно, и вообще удивительно это, что человек окружил себя средствами, точности легко достигающими, а сам так и остался в неопределённости своей человечьей пребывать; и всё труднее и неожиданнее человеку пребывание его в мире им же порожденных средств сказывается; вот и Андрей наш сидит, в оцепенении будто, и будто недостаточно ему того, что всё так вышло, как и хотел он, расстаться с Марфой ранее хотел, приехать к другу теперь хотел, а до того жизнь свою с девушкой этой необычайной до конца дней своих связать хотел, вот и получилось у него всё: с Марфой расстался ранее, к другу теперь прибыл, и, для себя неожиданно, с Марфой связался, и если не до конца жизни, то уж до того времени точно, конца которому нет и края не измерить, хотя Марфа об этой связи не ведает, ежели только Господь ей о том не сообщил, в сновидении, к примеру, как это с ней случилось уже единожды, по меньшей мере, почему бы и не более раза, но это возможно лишь при том условии, что сам Господь это был, и это при том, что Господь ныне ведает, что в душе Андрея творится, когда сам Андрей о том ничего не знает; но с чего это Господу в душе какого-то юноши искать что-то или же, напротив, вкладывать в неё что-то, разве что юношу этого зовут как апостола, ученика самого Господа, но и выходит тогда, что Господь лишь с теми, кто имена такие носит, дело иметь желает, а помимо Петров, Иаковов, Иоаннов, Андреев, Филиппов, Фом, Варфоломеев, Матфеев, Иуд и Симонов его никто более и не интересует, стало быть, чем более людей на земле размножается, тем легче Господу, дабы имена мальчикам давали не апостольские, и когда не будет ни одного юноши с именем таким, потерять должен Господь интерес к мужской части рода людского, ежели еще Иисусы какие не найдутся, а затем обратится Господь ненадолго к женской части рода людского, покуда в нём Марии всевозможные не перевелись, о коих он и будет заботиться; но что же это за мысль глупая, Господь ведь обо всех заботится, а если уж так хочется или так не хочется, то ни о ком вообще он не заботится, а иначе бы к Марфе он не явился, хотя с чего это мы решили, что Господь это непременно был, может кто пониже рангом, ангел, да ещё и пошибу не лучшего, а кроме того у Марфы тоже имечко ничего себе, и хотя отец её начальственный так её именовал, дабы в детях своих засвидетельствовать укорененность собственную корнями дубовыми в земле русской, о коей, о дубовости отца то есть, уже говорилось нами, однако бывает так иногда, что эти корни из земли русской неожиданно к Заветам Новому и реже Ветхому ведут напрямую, но рано нам, воистину рано вспоминать историю новозаветную, с Марфой связанную, а на улице, напротив, поздно уже, достаточно для того, чтобы фары машины погасив, ничего вообще вокруг себя не видеть, а включив, видеть лишь то, что непосредственно ими освещается, и не более. Сидит Андрей в своем средстве точном с мыслями неопределёнными и к Бруту уже сходит он сейчас, а зачем, сам того не ведает, и тот, после расставания с Марфой Андреевого, только и знай себе, о Марфе, будто назло, выспрашивает и выспрашивает, душу будто намеренно растравляет, а потому покинет быстро Андрей дом Брута, друга своего, и в машину снова сядет свою, приключение необычайное испытает он, зачем к другу ездил, не понимает вовсе, может за этим и поехал, чтобы испытать встречу необычную, случится которая вот-вот, но пока он снова один оказывается, с мыслями своими непоределёнными, об одном лишь ему говорящими, что нельзя так дальше, а как именно так, не говорящими, и даже лень ему следить за этими мыслями своими, и, в машине сидя, сам он машинальным становится, и это единственная для людей надежда, помимо Господнего присутствия, конечно, что средствами своими точными они настолько жизнь свою размытую застят, что на собственную неопределённость смогут уже внимания не обращать нисколько, но пока этого почему-то не происходит, на все старания несмотря, а лишь машинальностью, будто забвением себя самих, иногда быт их заполняется, и иногда даже весьма надолго, вместо определённости беспамятство обретают, будто проклятие вместо благословения, хотя люди существа такие, что благодать Божию с чистым сердцем за проклятие принимают, и самому же Господу, и себе подобным жалуются на то неимоверно; вон, Андрей наш нисколько не жалуется, но лишь продолжает он в машине сидеть, и начинает хулиганить даже несколько, выключателем щёлкать, фары машины выключающим и включающим, так, что прямо перед ним земля то освещается, то во тьму уходит, и глядит Андрей в это безлюдное мерцание перед собой, и фары дорожку вдоль дома выхватывают влажную, и часть газона, который зеленеет уже, к Пасхе будто специально, но это ему не интересно нисколько, а интересно отсутствие людей вокруг чуть более, хотя самое интересное человеку в жизни этой есть пожалуй неопределенность его собственная, которая, и Господа интересовать должна, особенно если эту неопределенность свободой назвать, что чаще всего и делается, а вот что с этой свободой делать чаще всего не называют; вот и Андрея его свобода собственная в ступор некоторый вводит, который мы машинальностью за слов неимением нарекли только что, и сидит свободный юноша с именем апостольским в машине, свободой своей парализованный, и светом фар мерцает, будто знак кому подает, сам того не ведая, хотя кому тут его подавать, ни одной души живой окрест, район такой, да ещё и вечер не самой обычной Пятницы. Но, несмотря на свою машинальность, оказалось, что Андрей весьма внимательно в света фар окоём вглядывался, ибо вздрогнул он от неожиданности, нельзя сказать испугался, когда, будто из ниоткуда, человек возник прямо перед машиной, а не испугался Андрей потому, что из ниоткуда никто не появляется, а шёл, видимо, этот человек по дорожке, и с машиной тёмной сравнялся, а тут вон, у оной фары зажглись, и не испугался тот, кто в свете фар оказался потому лишь, что, вероятно, когда ещё издали шёл, внимание не мог не обратить на то, что в машине есть кто-то, кто бесцельно или же с целью свет ей ближний включает и выключает, либо потому, что человек этот ко многому привычный был, ведь этого человека Андрей знал, не хорошо, но знал, ибо встречался с ним раз несколько в жизни прошлой, и даже свет выключил, дверцу открыл и позвал: отец Георгий, здравствуйте, ибо не знал Андрей, что священников надо особо приветствовать: благословите, отче, или: отец Георгий, а потому просто поздоровался. Подходит отец Георгий, в черном одеянии своём к машине, и говорит: приветствую тебя, Андрей, и Андрей приглашает его к себе, говоря, что совета у него испросить желает, и принимает отец Георгий приглашение, ибо не торопится никуда, потому что некуда, либо не может отказать в просьбе, к нему обращённой, либо интерес какой сам испытывая. Садится он в машину к Андрею, и Андрей даже не смотрит на священника, ибо собой занят, хотя, коли знал бы, что отец Георгий умер уже довольно давно как, довольно достаточно, чтобы по улицам не ходить вот так вот запросто, посмотрел бы непременно, да и в машину вряд ли бы по рассеянности своей позвать осмелился, но не ведает Андрей о том, что схоронили отца Георгия зимой ещё, ибо с Марфой перестал общаться до смерти священника, а с отцом Георгием лишь она Андрея и связывала дотоле, и, ежели бы мысли его или безмыслия нынешние Марфой смутно не заполнились, то и не дал бы он о себе знать отцу Георгию, а просто про себя бы поздоровался, хотя и вспомнил бы о Марфе, пусть и ненадолго. И прежде, чем совета обещанного испросить, интересуется Андрей у отца Георгия, почему не на службе тот, а отец Георгий отвечает, что его сегодня отпустили там; и это в пятницу перед Пасхой, Андрей удивляется, не зная, что она Страстной именуется, но помня, что Иисуса в день этот распяли, фильмы глядел всякие, где это в конце обычно показывают, до воскресения, хотя в некоторых фильмах воскресения не воспоследует, и такие фильмы Церковь не жалует, хотя вообще не очень-то любит она библейские экранизации, и жаль этого Иисуса всегда Андрею в фильмах неимоверно, а до того Андрей еще Библию детскую читал, с картинками, ему бабушка оную даровала на восьмилетие его. Да, перед Пасхой именно меня и отпустили, говорит отец Георгий таким тоном, себе не свойственным несколько, что Андрей понять бы мог, что не желает на эту тему отец Георгий более распространяться, но не замечает этого Андрей, ибо в себя погружён, и потому не важно ему нисколько, почему отца Георгия он встретить смог, важно лишь, что встретил, и может чем ему священник поможет, а если нет, то просто есть с кем поговорить, и от этого легче стать должно непременно, Андрей знает об этом психологическом свойстве, у него в университете психология на втором курсе была, уже через большой срок после того, как он Библию бабушкину читал в детстве и картинки смотрел, и потому должна психология вернее быть, ведь после Библии она людям встретилась и встречается, но оказался предмет во всем бесполезный, и Библия, и психология, понял Андрей, ибо человека он раскрыть, когда то требуется, не способен, а ясность наводит лишь тогда, когда человеку ничего не надо и так всё ясно до чёртиков, и потому теперь Андрей не обращает внимания никакого на то, что отец Георгий добавляет: к тому же тебе, сын мой, и мне, не менее твоего, помощь теперь требуется.
И, ежели словам отца Георгия верить, то, как это принято, коли помощь кому-то принудительно требуется, то её тут же и оказывают, однако странным образом, ни Андрей, ни отец Георгий к этим словам отца Георгия вроде бы даже не прислушались, но молча продолжали вместе в молчании сидеть, в освещённый фарами кусочек газона невидящим взором глядя: Андрей полагая, что, ежели ему помощь и требуется, то какая именно отцу Георгию неоткуда знать, хоть он и священник, однако же не пророк, и события месяцев минувших это превосходно показывают: пророк не стал бы давать совета людям молодым сойтись так, чтобы они, этому совету последовавши, впоследствии скорого времени и вовсе друг друга терпеть перестали, и разошлись, получив на свою долю недоумение разве что; по наивности своей Андрей полагал, что пророки только добро людям нести должны, да и только тем, кому до любви дела нет особого, а кому есть, так любовью их в первую очередь, а добром во вторую одарить следовало бы пророкам этим самым; а что любовь и добро могут быть очень даже несовместимыми меж собой вещами, Андрей о том сейчас не думал, хотя, честно сказать, и мог, и ничто ему не мешало в этом, и не думал он о том, что, пожалуй, самой большей оплошностью является в данном случае, если, конечно, недумание оплошностью назвать можно, обычно напротив, оплошиваются те, кто думать осмеливается, и тем больше, чем самостоятельнее они это осмеливание свершают, и не думал Андрей, что в этом вот случае пророк вообще роль неблагодарная, поскольку задача его не столько угодное, сколько неугодное людям донести, кого это касается, поскольку угодное небеса и без нас нам свершить могут, а вот о неугодном специальное уведомление требуется, и, ежели кто хоть раз пробовал донести неугодное тому, кто о себе лишь угодное полагает, кто этими мыслями себе путь в пустоте жизненной устилает, тот знает пренепременно, как это тяжело, а в случае пророка ещё хуже, ибо пророк вообще не хочет ничего из предрекаемого или напророченного, кому больше нравится, да никому вообще не нравится, не хочет ни плохого, ни хорошего, пророк, вообще, может быть, в офисе бы работал и на футбольные матчи ходил, дабы отуплённо с командой болельщиков город свой защищать от того, что им, болельщикам, в их нетрезвом и неблаговидном виде в тот момент покажется угрожающим, смешным или попусту ничтожным, может и хотел бы пророк всего того для себя судьбиною избрать, однако ж, нет, его самого избирают, и никто иной, как Бог какой, и сказали мы так потому только, что у мусульман, да и не у них одних, пророки свои имеются, а ежели точно говорить: имелись, и, безусловно, иметься будут, а пока нет пророка ни в каком отечестве, и не сказать, чтобы уж совсем не ожидался он, просто не совсем в своем отечестве ожидается, но, ежели и встретится, так те, кому он вещает, непременно его услышав, что сегодня, кстати сказать, тоже довольно обременительно, ибо не только искусство говорить, но и искусство говоримое слушать иссекает, хотя нет ничего удивительного в этом их взаимном самоуничтожающемся соответствии, так вот, ежели услышит кто пророка, так непременно всё им говоримое кажется слушателю для пророка желанным, и повезло ещё Иоанну в своё время, который апокалипсис предвещал, ибо были у него слушатели примерные в положительности своей, а точнее – положительные в своей примерности, а Иисусу, вон, не очень повезло, когда обещал храм в три дня разрушить, ибо не хотели уже слушать, что новый храм взведётся старому вослед, и не столько разрушения боялись, в коё никто не верил всерьез, и до сих не верит, сколько тому негодовали, что Иисус-де желает того сам всё, хотя, согласимся, сравнение не очень удачное, поскольку Иисус не пророк, но Сын Божий как минимум, да и как максимум впрочем, а о тех, для кого он пророк и не более, мы в другой раз упомянем, и, может историю даже новую напишем, хотя загадывать не берёмся, ибо осень на дворе наступила, да и поезд трясёт сильно, и проводник свет выключает в вагоне; при чём тут это, не спрашивайте, не знаем. Да и вообще обо всём этом мы спроста заговорили, видимо, ибо Андрей ни в коем случае отца Георгия за пророка или, что и вовсе невероятно по всем меркам, за Сына Божия не воспринимал и воспринимать не собирался, а думал он о нём, что священник этот человек хороший, однако, как и все люди, заблуждается часто, подтверждением чему может очень даже послужить то, что сейчас он помощи вон просит, а то, что помощь и самому Андрею требуется, так это он, видимо, просто так говорит, приём такой ведь имеется риторический. И полагает Андрей поэтому, и не то чтобы полагает, громко сказано это, хотя никто особо и не слышит грома оного, не глас вопиющего в пустыне, но писк ненадёжный в толпе разве что, не то чтоб полагает, но думается ему под это немного напряжённое взирание в окно, во-первых, что никогда он лично со священником этим так вот не общался, а лишь здоровался и прощался, когда с Марфой оного встречал, и раз единственный сообщил ему отец Георгий, Марфы рядом когда не было уже, что сорок дней следует претерпеть и Марфа будет, но и это не общение, вот и выходит, что с этим не общался, а с другими тем более, помним про детскую библию от бабушки исключительную, помним незабвенно с иллюстрациями гравюрными Гюстава Море, и, во-вторых, хотя это мы говорим только так, а в действительности никаких первых и вторых, а всё сразу, и думает во-вторых, что что-то священнику этому от него, Андрея, понадобилось, в связи с чем две мысли ещё у него меж собой терзаются: интересно, что именно, и эта мысль занимает его и в беспокойствие приятное от собственных невзгод отвлекающее приводит, а вторая, что не будет он этому священнику помогать, и мысль эта его бодрит весьма и к горестям собственным возвращает, поскольку чтобы горестями собственными терзаться, к тому ещё силы нужны и желание, которое мы сами зачастую не выделяем никак. А не будет он помогать потому, что этот священник с Марфой связан, видимо, до сих пор, в то время как Андрей с ней тоже до сих пор связан, и связи эти разные весьма во всех отношениях, одна духовная и личная, а другая плотская и на расстоянии после расставания, да ещё эта, Андреева, так странна, что сама Марфа о ней и не ведает вероятно, о чем мы уже сказали; и не потому, что отец Георгий священник, ибо Андрею это на самом деле безразлично, одет мужчина в платье подобное, или же в джинсах и свитере пред ним явился, как и сам Андрей одевается чаще всего, и сегодня не исключение; и не по тому, и не по этому, а исключительно лишь постольку, поскольку Андрея ныне лишь его горе занимает, которое он даже сформулировать доходчиво не в силах себе, зная наверняка лишь то, что оно с Марфой связано; и даже что это вообще горе есть, он только сейчас понимать начинает, а до этого, иначе как зудом и не назвал бы, назойливым, но зудом. А то, что это горе, а не просто неприятность мелкая, Андрей себе придумал вследствие бесповоротности и непонятности оного зуда, чтобы отцу Георгию не помогать, хотя для самого Андрея всё так обстоит, что, напротив, горе у него, и потому помогать он не собирается. Но нечему тут удивляться, мы что-то часто не хотим делать, и причину к тому прилагаем, однако никакая это не причина, поскольку после приложена она, а очень даже следствие, причём характера фривольного и произвольного, и будь характер этого следствия женщиной, мы бы с ней разве что интереса ради переспали, или от скуки, но не цеплялись бы за неё ни в коем случае, как Андрей вот сейчас, хотя ничего об этом эфемерном тоже сказать нельзя, ибо мы говорим так, будто мы есть, в то время как появимся и то, быть может, лишь когда всё до конца расскажем; и чем более мы этого не делаем, тем менее нас остаётся, а в итоге не факт, что самый верный даже останется, очень может быть, и вовсе никчёмный, кому лень разбегаться было вместе со всеми, или кто прикорнул, и потому не понял, что история эта яйца выеденного не стоит, ибо никто яйца бывшие в употреблении не продаёт и не сносит, да и мы не собираемся, а вот яйцо невыеденное очень даже мир в себе содержать может, по меньшей мере так индусы язычески себе частенько представление составляли. А вот Андрей под всеми этими самыми вялыми мыслями, лишь друг друга терзающими, а самого мыслителя нисколько не трогающими, вдруг в себе решительность недоброго порядка ощутил, и это обрадовало его чрезмерно, и подъём настроения вызвало, ибо на фоне отсутствия даже решительность радует, и даже особо радует, а то, что она недобрая, так это мелочи, и не стоит здесь крохоборством заниматься также, как яйца б/у пытаться с выгодой на руки незадачливые сдать, ибо в народе ведь неспроста говорят, что рак за рыбу в безрыбье сходит, и ничего себе, хорошо всем, кроме рака естественно, но его никто спрашивать не собирается, коли назвался рыбой, то и будь нем как оная. Единственное же, отчего эта решительность Андрея недобрая, мы можем судить, хотя судить мы не любители, лишь по тому, как он к отцу Георгию обратился неожиданно, и тон у него был такой сладкий-сладкий, какой у людей воистину сладких не наблюдается, но да впрочем дело не в глюкозности тона, а в том, что именно он тоном этим спросил. А спросил он так, что вопрос его облёкся в рассуждение пространное для вида, и при этом смотрел Андрей на отца Георгия смело и открыто, что называется с вызовом, а отец Георгий, напротив, всё это время, пока Андрей говорил, как-то понуро пялился что ли в стекло лобовое, и могло бы сложиться впечатление даже, будто известно отцу Георгию наперёд всё, что Андрей ему сейчас скажет, и мог бы он прервать его, ан нет, терпит, будто ритуал какой, как поездку иные люди терпят ежеутреннюю на работу свою, ведь так и хочется бывает возмутиться, что видел уже этот маршрут не раз, и знаешь его отменно, но нет, опять же, нет смысла, не услышат раз, и на работу иначе как через это не доберёшься два; вот так же и слушал отец Георгий терпеливо Андрея, но у Андрея этого впечатления не сложилось, ибо Андрей весьма увлёкся тем, о чём спрашивал, а подпитывало его речь внезапное для него самого ощущение, что у него горе, ощущение, которое его радостью и силой одарило, каковые у нас ото всякой неожиданно наступившей определённости случаются. Скажите, начал свой вопрос Андрей, вот к чему церковь сегодня нужна, и это было совсем не то, что он спросить желал, а прелюдия так сказать, не более, и посему ответил отец
Георгий просто весьма, ибо знал, что не остановится собеседник его на таком пустяшном риторическом вопросе, хотя спорить никто не будет, вопрос этот важный и без нацеленности на него, не то что современная, но любая вообще церковь во все времена не устояла хотя бы так, как она стоит ныне, а стоит она ныне неплохо, хотя и вяло весьма, но это ведь нужно её возраст ещё учитывать, и лучше бывало, чего уж скрывать, и не скрывает никто, хотя об обновлении вопрос весьма спорный и ереси различные к жизни взывающий, а потому известно, что старый конь борозды не портит, а церковь и не претендует сегодня на то, чтобы глубоко пахать, и никто не скрывает этого, кроме разве что церкви самой, но у постели умирающего ведь тоже о болезнях говорить не принято, а о мелочах всяких, например, о межконфессиональной дружбе и толерантности, и оправдано сокрытие подобное в том только случае, ежели сокрытие оное позволит ей лучше то, к чему она призвана, осуществлять, а призвана она всё к апокалипсису предуготовить, сама бдительность сохраняя, хотя ныне наоборот выходит всё, эпоха бдительна, а церковь агонизирует, и дело, не дело даже, а беда сплошная, ежели от себя самой это своё положение церковь не лучше скрывать вознамерится, однако ж, нет, вся церковь этого не скрывает, себя не скроешь, как могла бы дама на восьмом месяце беременности сказать, а до того, когда могла ещё скрывать вздутие чрева своего, говорила она: не себя, но: беременность свою, однако же если положение твоё долго тебе принадлежит, да ещё и развитие какое-никакое имеет, так мы перестаем его просто положением своим называть, а зовём уже ещё проще, собою самими, и это когда уйдёт то время, себя когда помнишь от этого положения в пребывании отъединенном, хотя бы мысленно, но у церкви долгий кризис, несколько столетий уже как, вот и стала она сама не просто кризис символизировать, но кризисом зваться, и это неспроста, ведь кризис это суд по-гречески, а также разделение, поскольку судить и разделять это одно и то же отчасти; и ежели ещё встречаются священники, которые это от самих себя пагубно скрывают, то мы о них тут говорить не будем, ибо ни отец Дмитрий ныне, ни тем паче отец Георгий, к оным не относятся, и один поболе другого ведает, а другой поболе первого в делах этих кризисных увяз; задача первого исследовать то, чем второй стал к моменту опредёленному, а о целях второго не ведаем, да и как мы могли бы, и то хорошо, что вон, появился отец Георгий, и на том спасибо мы ему скажем, а Андрей не скажет и даже сказать не подумает, он, наоборот, даже вопрос обратного толка задаёт, и не вопрос, а прелюдию, как мы сказали только что, а повторяться не любим, и, коли повторяться не любим, то давайте уже и ответ выслушаем, который отец Георгий произносит, а говорит он то лишь, что, видимо, имеет в виду Андрей теперь, что для постижения Господнего церковь не очень требуется, ибо легко эту повсеместно распространённую ересь несторианскую предугадать, да и опровергнуть, как это уже много веков практикуется, и что прилежно в семинариях духовных под видом катехизиса преподносят, и много чего ещё под этим видом диалога передаётся, но, оказывается, что нет, Андрей не это хотел сказать; удивительно не то, что отец Георгий прекрасно направленность вопроса усмотреть не сумел и предугадал неверно, о чём Андрей выспрашивает, но как раз то, что отец Георгий направленность вопроса прекрасно увидел, а ответил неверным вопросом на вопрос к тому лишь, дабы сам Андрей легче смог сориентироваться в том, что он сказать хочет, и отделил от этого очень чётко то, что он сказать не желает, и чтобы различие это перед его глазами духовными явилось также чёко, как вот перед глазами физическими сейчас лицо отца Георгия явлено, отрешённое несколько и будто бы ничего не видящее. Я к тому, произносит Андрей всё так же напевно, что церковь людей обрекает, к ней примкнувших, на одиночество, и при этих словах отец Георгий будто даже не делает вид, что удивлён, поскольку действительно удивлён, оборачивается к этому юноше, встречает его дерзостный несколько взгляд, и тут же опять к виду, фарами выхваченному, отворачивается, да-да, молвит Андрей, ведь люди которые вкоруг ходят этого человека, они свою жизнь как-то планируют, в соответствие с общепринятыми планами её приводят, не задумываясь достигают чего-то, уж не знаю чего там именно они достигают, вот именно, прерывает его отец Георгий, будто про себя это замечание делая, вот именно, что не зная чего, на что Андрей внимания не обращает, и не по тактическим соображениям, что уместно было бы, ежели отец Георгий зевнул во время разговора, или, даже, в носу начал ковырять пальцем, но не обратил Андрей внимания потому только, что тотчас эту реплику малозаметную освоил, вооружил как ему представилось, способом изо всех наилучшим, и обратно её пославшему тут же адресовал, я имею в виду, что неизвестно чего достигают потому лишь, что когда хуже чаемого, а когда лучше, когда же в самую точку попадают, но тут вновь прерывает его отец Георгий: а не кажется ли тебе, сын мой, именно так, а не: молодой человек, или же: дочь моя, тут, не: агнец божий, а так вот непременно: сын мой, не кажется ли тебе, сын мой, что у этих людей совпадение чудесное оттого лишь случается, что они о том, чего хотели изначально, лишь по результату достигнутому постигают, а за результата достижение лишь лень и усталость мерилом им служит, вначале же они так вообще ничего не желали, ведь желать уметь того что достижению подлежит наука сложная весьма, равно как уметь желать того, что достижению никак не подлежит и подлежать не может, ещё более сложная наука, и искусство надобно, чтобы от фантазии пустой отличить её смочь, а те, которые большего или меньшего достигают, так они просто не вовремя наглость возымели под сейчас имеющимся задним числом желание своё якобы находить, или же от трусости, так вот просто отец Георгий, между делом будто спрашивает, Андрей же немного ошарашен, но чем непонятно, и тут же придумывает и говорит себе, мол, странно, когда священник речи такие излагает, и это он-то, всего одного священника до того знающий, и именно этого вот, странного, да и то, лишь здороваясь и прощаясь изредка, но, поскольку торопится он своё более высказать, чем чужое приять в душу, то и не желает на словах отца Георгия останавливаться, это ныне не желает, а наступит время, когда каждое слово и даже букву в уме восстановит из беседы нынешней, и будут у него к тому причины непраздные отнюдь, хотя как будто бы с этой речью даже никак напрямую не связанные, но о них, о причинах этих, ниже скажем, а ныне лишь уверим, что поначалу эти слова Андрей как ребёнок леденец на палочке обсосёт, затем как собака кость сахарную разгрызёт, дабы мозг в ней найти, но трудно будет это сделать, и ничего ему иного не останется, как просто съесть слова эти, без надежды на приятное пищеварение и последствия из него вытекающие, но так это всё после случится, не ранее как с завтрашнего пробуждения, а сегодня ещё вечер такой необычный идет, и говорит потому Андрей отцу Георгию: нет, не кажется, но даже если бы это так и было, то в любом случае, тому, кто церкви принадлежит, ещё хуже; и тут вновь отец Георгий его прерывает, уточняя лишь, Андрей, для тебя Бог и церковь это одно и то же, вероятно, нет, отвечает тот, кого спросили, нет, разумеется, вообще, но сейчас это одно и то же, поскольку ничего не меняет в том, что хочу я спросить, тут трудно согласиться, уже примиряюще молвит отец Георигй, но, продолжай. И продолжает Андрей: а что приобретают те, кто Бог или церковь, как хотите это, что я в виду имею ныне, называйте, выиграет, помимо одиночества, вследствие исключения его полного, что; и ответа не дожидаясь, ибо не в этом ещё вопрос: ведь остальные пусть в глупости пребудут, как вам полагать удобно, прозябают пусть в ней, зато они в этой глупости поддержку друг другу оказывают и чувствуют себя как дома вполне по всему миру, в то время как вы, чуть тут запнулся Андрей; ничего вообще не получают взамен обещаний пустых; да, добавляет отец Георгий согласно, хотя то согласие далеко не окончательно, и это видно тут же стало: ничего, кроме обещаний пустых они не получают, пожалуй ничего, кроме пустоты и Бога; но уж мне-то об этом заливать не следует, хватит, уж я-то правду всю знаю, меня на этом не проведёшь, свойски замечает Андрей, и в это время бодрость его пика достигает, и орган его, желание до того лишь смутно весьма ощущавший, с мягким стуком ныне, которого никто на свете не слышал, со стуком, похожим на тройное мамамарфа, до предела наливается, и ткани джинсовой касается, и хорошо, что джинсы такие особые в твердости своей, что ничего из этой метаморфозы окружающим не видать, такого вот волшебника не понаблюдать, и понятное дело, отец Георгий здесь не исключение, а весьма и вполне правило даже, да и кто же в здравом уме, видя такую вот беседу, заподозрит собеседника в возбуждении, ведь это только о себе мы полагаем, что во время беседы можем ещё великое множество вещей зараз делать: как Цезарь, к примеру, а другие. собеседники наши, для нас обычно предстают этакими особями, которые могут лишь на предмете разговора концентрироваться, а ежели и ещё на чём могут, то уж права сейчас на это никакого не имеют, если только нас к досаде особой тем самым обратить не желают; вот и отец Георгий вряд ли здесь исключением оказался, однако же, и это Андрей уже про себя тогда отметил, и будет ещё бесчисленное множество раз с ужасом вспоминать впоследствии, и вовсе не потому, что отец Георгий мёртвый с ним общался, здесь как раз бояться нечего, галлюцинация, что с неё взять, а как раз потому, что мёртвый оказался не таким уж и мёртвым, будет вспоминать, как отец Георгий взгляд свой на Андрея перевёл в миг этот, затем как-то отстранённо глаза свои пустоватые в отрешённости неземной опустил на то место, где у джинсов замок имеется и ремень застёгивается, и почудилась Андрею лёгкая ироническая улыбка, краешки губ священнических озарившая на миг лишь, и вновь исчезает она, когда тут же глаза отца Георгия по глазам Андрея скользнули, и к окну вновь обратились; и с чего это именно тебе, Андрей, про Бога известно так хорошо, спрашивает прежним тоном отец Георгий, и точнее даже, пусть это твой секрет с Богом будет, откуда же способностью обзавестись откровения сказывать, даже ежели их получаешь, этому никто не учит, даже Господь, он просто является и всё, а дальше уж сам, и потому неизвестно на радость он явился или нет, вот и говорит Христос, чтобы не заботились мы что говорить, ибо дано будет нам, что сказать, но ты мне лучше расскажи, что ты о Нём теперь знаешь; и вопрос этот звучал как-то странно, сокровенно чересчур что ли, подумалось Андрею только, что люди остальные так не спрашивают у людей остальных ничего, хотя могли бы, и это весьма, может, даже и лучше было бы, но теперь ничего Андрею не остаётся, как лишь издевательство некоторое со стороны отца Георгия в этом вопросе усматривать, и усматривает он его, и только его однго, что из ответа его сквозит: не знаю я ничего о Боге, и поэтому из нашего рассмотрения исключаю его; хорошо, хорошо, соглашается отец Георгий чрезвычайно поспешно, лишь бы Он тебя и меня из Своего так же вот не, и, к тому же, ежели его исключить, так то и действительно почитай что пустота одна остается, вот-вот, оживляется Андрей, правоту свою ощущая впервые в полную силу и победу скорую, чувствами Гектора пред Ахиллом наполняясь, когда Ахилл копьё первый раз в него метнул, но Гектор успел уклониться и не видел, как Афина, незримой сделавшись, копьё то же самое вновь в Ахилла руки предала, отчаялся бы Гектор, узрев как боги негласно его сопернику помогают, и сам бы себя мог пронзить от отчаяния этого, хотя не пронзил, но тут отец Георгий говорит, что пустота остаётся и для тех, кто к церкви приобщён, коли Бога исключить хотя бы в мыслях, и для тех, кто своими силами прожить стремится, ибо без воли Господа ни один волос не падёт ни с чьей головы, а то, что к лысым это не относится, и они могут воли Господа избежать, то вопрос казуистики пошиба низкого весьма; но зато те вместе, а этот в одиночестве, упорствует юноша с именем апостольским так, что впору его Фомой переименовывать из Андреев: но это не так, они так же легко друг другу помогают, как и пожирают друг друга без сожаления любого, тут же возражает отец Георгий весьма уже оживлённее, если к нему это слово теперь можно хоть в каком виде отнести, что тоже весьма условно, и мы это понимаем, а Андрей нет, так, будто отцу Георгию известно, что сейчас часть ритуальная уже к концу близится и время для существенного деяния наступает, и тогда выходит, что только приближение к завершению сил придаёт жизненных, но Андрей и в самом деле не выдерживает, и то, что до этого уже раз про себя проговорил, теперь вслух провозглашает с негодованием, что не пристало священнику речи такие вести, на что отец Георгий с той же, ранее лишь промелькнувшей, а теперь с весьма уже задержавшейся улыбкой замечает, что, вот, Андрей, второй раз ты уже знаешь, что я делаю неправильно, но тогда укажи так же на правильное мне, на что Андрей про себя удивляется, насчёт раза второго видимо, думается ему, я в первый раз всё же вслух что ли сказал то, что не следует, а вслух при этом говорит, что не знает он как священникам надобно поступать, говорить с прихожанами то есть; почтительно, наверное, уже открыто усмехается отец Георгий, но ведь ты к приходу не принадлежишь, замечает священник: нет не принадлежу, с чувством превосходства некоторого Андрей ответствует, но мог бы, ежели вы бы меня убедить сумели бы и склонить к тому, что уж точно иным, нежели нынешний ваш, тоном делаться должно; это что же, Андрей, ты полагаешь, будто Бог перед тобою как курица в супермаркете должен разлагаться, да так красиво, чтобы ты Его другим продуктам предпочесть смог, ориентируясь на аппетиты сиюминутные; становится тут Андрею немного жутко; и впервые он понимает, что сидит один на один в безлюдном месте с человеком, себя за священника выдающим, и которого все остальные за такового почитают, но как есть безумным, и ведущим себя потому сейчас не подобающим священника статусу образом, но жуть от слов этих непонятная куда более, чем от какой-то там опасности иллюзорной, сквозит эта жуть, хотя окна закрыты, ибо на улице достаточно прохладно уже, и говорит Андрей: а почему бы и нет, ежели мы Бога из рассмотрения исключили и вы со мною согласились, так и выходит, что церковь производить должна продукт качественный, а поскольку мир ныне капиталистический донельзя, то, в условиях конкуренции жёсткой, извольте, говорит так Андрей, и сам в окно смотрит, куда отец Георгий также взгляд свой направляет, а за окном в свете фар кот серый в полоску чёрную сидит, умывается, может и кошка, но скорее всего кот всё же, и хоть бы хны ему, никакого внимания на машинное присутствие не обращает, разве что свет полагает фарный специально для себя зажжённым, умоется сейчас хорошенько, и на свидание, это ведь говорится так только, что коты мартовские, ныне конец апреля, а они не угомонятся никак, а нормальные, не фольклорные и не лубочные коты, так те вообще этим делом круглый год занимаются, как и люди нормальные, и умываются то есть, и на свидания ходят. Видишь ли, Андрей, отец Георгий говорит и начинает отныне на Андрея смотреть безотрывно, что до конца разговора так и будет, видишь ли, Андрей, ты для церкви Христовой человек потерянный пока, и, да, да, ты прав, так говорить нельзя, но у меня мало времени, и нет его тем паче на эту всю толерантность и политкорректность пустую изводить, коей ум твой не на пользу сызмальства проштамповали, и не возражай, говорю же, нет времени, для церкви ты потерян, но для Бога нет, и посему Господь в таких случаях поступает не совсем толерантно и даже совсем не политкорректно, он тебя супротив воли твоей в оборот берёт, специально так говорю, это ты предложил нашу эпоху в качестве рыночной истолковывать, не видя того, что она ничем не рыночнее той, в коей Иисус обретался, но, прежде чем это случится, я тебе нашу тему разъяснить доходчивее постараюсь: люди, и те, что впустую на себя безбожно весьма полагаются и уповают, и те, что делишки свои с учётом Господа обделать стремятся, и прочие, коих меньше, все эти люди Господом любимы и хранимы, и все они в ладони Господа раскрытой пребывают, поскольку обратил Господь руку к миру этому изначально в жесте дарящем, и не в кулаке, например, что с людьми было бы тогда, внутри кулака Господнего зажатыми будучи, представить несложно, и тут замолкает отец Георгий, хотя Андрей весьма внимательно слушать только теперь его начал, но, коли отец Георгий прервался, а он для того, собственно, и прервался, Андрей спрашивает: а какая тогда разница, ежели Бог сам меня держит, независимо от того, верую в него или нет, полагаюсь на него или на пустоту лишь свою, как вы выразиться изволили; а такая, Андрей, что все мы в ладони Господа, но одни это чувствуют, а другие нет, и те, кто чувствует, к Богу не ближе, но им жить легче и свободнее, они к себе самим ближе. Замолкает тут отец Георгий, и Андрей молчит, первый смотрит на второго, а второй на кота серого в полоску чёрную, что сел вполоборота, лапу заднюю вытянул за плечо, и языком себе место свидальное намывает, то ли к свиданию, то ли вместо него, это как случится, и думает Андрей, что интересно всё это, но в итоге к банальности сводится, как и всё в церкви, и ещё миг, и начнётся проповедь о вреде курения, например. Но тут происходит нечто неожиданное весьма: отец Георгий достает из ниоткуда сигарету, прикуривает зажигалкой, из ниоткуда же взятой, будто из внутреннего кармана, но как там это может у священника храниться, и, что самое интересное, каким образом это оттуда извлечь можно было так, чтобы Андрей этакого жеста заметить не смог бы; только и произносит Андрей изумлению поддавшись: отец Георгий, да как же, но прерывает его отец Георгий, повторяя то, что некогда сейчас на пустяки время тратить, и, дым выпуская сноровисто, так, что тот его бороду седеющую немного окутывает облаком прямо, говорит: но только бывает так, что Господь некоторых людей еще и сверху второй ладонью накрывает, и тогда руки, этот мир сотворившие, одним человеком заботливо заняты. А этот человек непременно священник должен быть, справившись с удивлением, Андрей иронически уже спрашивает, ирония ведь лучший способ от удивления избавиться, по меньшей мере для других; нет, не обязательно, выпускает дым отец Георгий, священники, если тебе интересно, вообще в одной ладони Господа даже не стоят, а Господь их часто подбрасывает так, что ловит непременно, однако когда взлетаешь в прыжках этих диких, не ровен час разувериться во всём, и тогда Господь для некоторых вторую ладонь сверху держит, но не бережно ею прикрывает, а придерживает так, чтобы слишком высоко не улетел, и вторая ладонь Господа оказывается лучшим способом себе голову навсегда размозжить и так и остаться меж пальцев ея, так, что и первая уже не надобна будет. Андрей тоже закуривает, причем отец Георгий ему прикурить дает, да, меня тоже подбросило, и что же, вы теперь чувствуете, что поймало, нет не чувствую теперь, но не об этом надо, а о том, что только чувствующий Господнюю ладонь снизу сможет почувствовать в полной мере, когда она сверху его коснётся, и что тогда спрашивает Андрей, а кот серый в полоску чёрную умылся и на них, глаза сощурив, косится, тогда всё, отвечает отец Георгий, но ощутить это можно потому лишь, что чувствование развиваем мы от той, на коей стоим изначально, а та, коей накрывают иногда, кого-то, ничем от первой и не отличается, тем разве, что как левая от правой, и замолкает отец Георгий надолго. За это время Андрей ничего не говорит также, однако это мы только так выразились, что время было долгим, на самом деле прошло ровно столько, сколько понадобилось серому с чёрными полосами коту на то, чтобы встать и, с присущим только этим тварям подобием собственного достоинства, скрыться с глаз долой, причём не со всех четырех, способных его видеть в данный торжественный миг, а лишь с Андреевых, поскольку отец Георгий, как упоминалось, смотрит отныне на Андрея, и его не теряет с поля зрения, да и мудрено это было бы, сидя в одной машине рядом, а когда кот скрывается, то открывает отец Георгий стекло боковое в дверце своей, выбрасывает весьма вульгарным жестом окурок некультурно за окно, и окно закрывает вслед за тем, и Андрей, не глядя на всё это, говорит, что это некультурно, и пример плохой, так вот мусорить, ибо не знает Андрей, что ещё сказать, а сидеть молча неловко как-то, хотя никуда он не торопится, но кажется Андрею, что исчерпана не только суть, но даже и всякая мелочь разговора, и потому он так и говорит, и это всё помимо того, что действительно так делать некультурно и пример плохой, и отец Георгий соглашается будто нехотя: да, да, некультурно, и ты, сын мой, никогда так не делай, а на этот счёт, в этот раз, не переживай, никаких следов моего курения не будет, и уже нет, и правда, втягивает Андрей запах в машине от их курения только что оставленный, и лишь свой табак замечает, или, как говорят: слышит, хотя почему так принято говорить неясно, ведь нос не уши, нос на лице ведь, а вопрос об ушах как части лица у нас подвешен ещё с первой части нашей истории, и пока неясно, разрешится ли он вообще, и мы не говорим: я унюхал седьмую симфонию Бетховена, можем лишь образно сказать: учуял, но это уже не к ушам, а к уму относится, который как пить дать нюх и ничто иное, так вот учуял Андрей только запах табака своей сигареты, хотя наоборот быть должно по распорядку вещей естественному: чужое вперёд своего ухватывать, а своё так и вообще не улавливать, особенно если чужое присутствует, привычка это называется ещё, но чужое вообще везде и всегда присутствует, вопрос не в нём. а в том, есть ли что своё вообще в этих условиях, но не об этом мы сейчас, а о сигаретном запахе, хотя, стоит добавить, что мы вообще ничего обычно не улавливаем, ежели чужого не чуем, а сейчас не так всё; но Андрей всё равно сказал бы всё, что сказал теперь: я и не переживаю, это даже не совсем он сказал, а средний человек повышенного содержания гордости в крови или где там ещё, в желчи к примеру, сказал этот самый человек за Андрея, а у нас так может быть, что Андрей и есть только лишь этот самый человек и никакой не Андрей, но об этом мы тоже уже всё выяснили ранее, но тут отец Георгий вздыхает и говорит всё о том же: а теперь, Андрей, пришло время самой важной части, которую я тебе сообщить обязан, и тут Андрей вновь ощущает ту жуть, которая немного его до сего момента, за время этой беседы их, уже коснулась, и спрашивает, без страха впрочем: это теперь то, как меня Господь будет против воли моей к Себе привлекать, и в вопросе этом ирония своей кульминации достигает, и отец Георгий её не страшится вроде, и Андрей думает наивно, что священник не замечает иронии, даже сарказма, и жаль, что нет зрителей, которым эта ситуация комичной непременно показалась бы, но это ничего, он сам готов за всех них побыть, лишь к себе не повёртываться, поскольку отовсюду смешно теперь, а изнутри жутко, снаружи сильно через стекло непробиваемое, а изнутри больно бескостно, и говорит отец Георгий: да, и скажу я тебе только вот что: та штука, которая у тебя ныне меж ног возбуждена и удовольствие тебе приносит, когда ты иногда с девушками время проводишь и всегда, когда наедине её касаешься, должна тебя к Господу ныне привести, говорит отец Георгий и смолкает. Андрей изумился, но, поскольку скрывать было уже нечего, может заметил отец Георгий, но и что же, пусть завидует себе, коли ему нравится, а про одиночество в удовольствии или лучше сказать про удовольствие в одиночестве, должно быть просто приём такой священническо-риторический, и потому спрашивает Андрей: это что же, мой член Господу понадобился, а про себя его мысль осенила, что этот священник ненормальный извращенец, и многое на места стало вставать, и понял Андрей, что скорее надо Марфу от его влияния освободить и спасти даже, и как удобно, удобно, что повод увидеться появился достаточно важный, но отец Георгий продолжает, революции этой в собеседнике нескрываемой уже и не замечая: в каком-то смысле, в каком-то смысле, но не Богу член твой, а тебе член твой теперь поможет отчасти, насколько это Господу необходимо, Господа постичь супротив воли твоей, и вот как, это отец Георгий добавляет, чтобы предотвратить предсказуемую вполне реакцию Андрея: так, что теперь, когда Господа ты из рассмотрения исключил, пусть будет у тебя в мыслях это исключение его в то мгновение, когда пожелаешь кого, и обратишься с этим, дабы ко греху плотскому склонить, и кладёт тут руку на орган обсуждаемый, и сжимает слегка, и Андрею весьма понятно, дело зашло слишком далеко и не шутки всё это, а приставание безумного священника в собственной машине, и пытается Андрей всеми силами руку убрать, но сделать этого не в силах, он вообще шевельнуться не в силах, не понимает происходит что, точнее не понимает, почему не происходит того, что должно быть, когда мы например, желаем пошевелить рукой и о, чудо, она шевелится, а теперь не так, и страшно оттого лишь, что настолько его неожиданный соперник несоизмеримо сильнее оказался: а чтобы ты нашу беседу помнил, даровано тебе от меня лично лёгкое освобождение от чрезвычайно тяжкого бремени твоего нынешнего: коли Господь будет в душе твоей исключенным пребывать, позволено тебе через посредство моего присутствия дело твоё недоброе и для тебя приятное сотворять, но при этом, ежели ты, и тут Андрей чувствует, будто членом в камень вошел, и холод, и давление до боли, это отец Георгий руку свою чуть сильнее сжимает, ежели ты имя моё будешь вслух повторять, хочешь громко, хочешь тихо, но вслух непременно: отец Георгий, отец Георгий и так до конца, вот и всё пожалуй, и на этих словах отпускает отец Георгий руку свою, кланяется чуть, и со словами: благословляю тебя, сын мой, не дожидаясь ответа, выходит сразу же из машины, туда входит, откуда появился, в свет фар и исчезает столь же внезапно, как и возник, видимо, шествуя по дорожке. Андрей закуривает сигарету, рукой правой ширинку расстегивает, там все ледяное-ледяное, вот псих, думает Андрей, поймаю тебя и засажу к чёрту за совращение, таких как ты там любят, наверное, и от этих мыслей ему становится спокойнее, а вскоре Андрей даже и развеселится, ненадолго, конечно, весьма, ибо история, что ни говори, необычная, и ежели жуть из неё исключить, которая ныне так легко разъяснилась, что отец Георгий никакой не священник, а извращенец обыкновенный, так вообще с этим всем эта история комически выглядит. Мы же пока не будем смеяться, ведь нам ещё одно место посетить надобно, и оно уже не такое банально близкое, как возле дома Брута, где мёртвый священник с юношей имени апостольского общение имеет, нам ныне надо во времени побродить недолго, чем, собственно, каждый из нас постоянно занимается, о том зачастую не ведая. На этом мы должны попрощаться с отцом Георгием, а навсегда или нет, не известно, пока думать себе позволим, как и в прошлый раз, что навсегда, но фраза какая-то корявая выходит и саму себя отвергает, но так всё обстоит в той жизни, где из рассмотрения Господь исключается, при этом ладонь свою не убирая. Теперь же Андрей вот не может понять, о ладонях божеских позабыв, и в своих собственных орган свой отогреть пытаясь: он навсегда замёрз или нет; спустя минуты три этот вопрос другим сменится: он возбужден или нет, если да, то что-то не до конца как-то, если нет, то откуда эта застылость каменелая. Впрочем, к чему нам за этим всем теперь следить, нам нельзя вечера этого упускать, такого больше никогда не будет, хотя, подождите, подождите, не зря мы тут задержались: вновь в свете фар отец Георгий появляется, но Андрей его не видит, ибо занят делом более важным, то ли камень, то ли труп в ладонях растирая, а отец Георгий дверцу машины открывает, и Андрей вздрагивает, от неожиданности, не от стыда понятное дело, чего стыдиться перед этим священником особенно, а от того, что это не священник мог быть, а кто угодно другой, и неловко было бы как-то, и потому даже рад Андрей, что это священник, и возникает на мгновение мысль, что их теперь что-то такое необъяснимое связывает, но отец Георгий наклоняется в салон машины, и говорит: странно весьма, сын мой, прости что отвлекаю, но я забыл кое-что сказать: неизвращённых людей не бывает, я не более извращенец, чем ты или Марфа; и, предупреждая жест Андрея, который вроде уже пришёл в себя от неожиданности, подаёт ему крест свой: вот, передай пожалуйста, отцу Дмитрию, я новым уже обзавелся; а кто этот отец Дмитрий, спрашивает Андрей, а про себя думает, наверное такой же извращенец, на что отец Георгий отвечает: да, это такой же извращенец, и даже похлеще, тебе за ним не угнаться, впрочем, вы скоро сами познакомитесь, и, в каком-то смысле, навсегда. И с этими словами уходит, проделывая всё тот же путь.
Часть третья
в которой мы узнаем о способностях собирать вместе баянные меха, можно ли через джинсы сломать мужской половой орган, умерла ли корова своей смертью, что сочинялось Рембо под кроватью, об искусстве нимфолепсии – и кое-что еще
Определенно: то, что видится нами и то, что с нами происходит, разрыв меж собой имеет непреодолимый, да такой хитрый, что чаще всего то, что мы видим не то, что происходит, а того, что происходит мы совсем не видим, краем глаза разве лишь, и всем это прекрасно известно, и не стоило бы на банальности такой останавливаться вовсе, тем более новую часть истории нашей сомнительной весьма начинать, однако же разрыв этот упомянутый хитро весьма устроен, так, что мы в него валимся быстрее, нежели он сам возникнуть успеет, и никогда бы он не возник, ежели бы мы в него на ровном месте не падали и падением своим сами не создавали его, и случается так часто, что полагается человек на этот разрыв и действует соответственно, будто он налицо или под ноги, а он, вон тебе, намеренно будто отсутствует в момент оный, и тогда то, что мы видим и понимаем, и то, что с нами происходит единство составляет неожиданное, однако ж мы о единстве том не ведаем и поступаем этому неведению под стать, и тогда не иначе как сами этим разрывом случаемся, и в мир, вкруг нас раскинувшийся, разрушение являем, без нас в него никак привнесённым быть не могущий; да и как в этом во всём свою исключительность обрести, не пресловутую там ни на кого непохожесть, а хотя бы присутствие своё жалкое в этом во всём засвидетельствовать, хотя бы в образе этого самого вот жалкого присутствия? Вопрос трудный и отвечать на него нет никакой возможности так, чтобы ответ этот сразу же таким засвидетельствованием и явился; и тем не менее, случается ответ неожиданно, будто от мира этого исходя, тем самым разрыв во всём упомянутый знаменуя, и, вместе с тем, преодоление его шуточное. А пока уютное и тесное место, оттого уютное, что тесное, но непременно тёплое, обрести можно разве что, откуда никто тебя не усмотрит, а ты каждого усмотришь и весьма хорошо, и будешь при этом играючи уверен, что каждому о том неизвестно ничего, и потому сидит отец Дмитрий под двумя табуретками с верхом белым и ножками железных уголков, плечи царапающими, сверху покрывалом зелёным с кровати снятым прикрытыми, и когда гостей много, то слышится только: где же наш маленький отец Дмитрий, куда же он делся, а отец Дмитрий притаился, родители его говорят гостям: не знаем, не знаем, и сквозь щель видно какое лицо у них при этом весёлое, у них и у гостей, и все смотрят на табуретки эти, стало быть радостно им оттого же, отчего отцу Дмитрию в темноте подтабуретной, хотя темно и тесно, зато уютно чрезвычайно и хорошее духа состояние здесь обретается; хотя чаще такого духа обретается состояние обратное, открытого нахождения на общем рассматривании, однако в эти мгновения ничего уже самому не видно, будто отсутствуешь и внимание всеобщее, на тебя обращённое, тебя из мира выковыривает и надолго весьма, куда надольше, чем смотрят, это когда отец Дмитрий с баяном на сцене играть садится перед рабочими заводскими в день рождения завода этого самого, который для рабочих в то время пожалуй важнее и торжественнее их собственных именин ещё быть мог, садится, дабы тем самым умение игры, несколько лет до того им обретаемое, предъявить, и хорошо даже показалось, что баян был большой, неудобный и для по-настоящему взрослых предназначенный, и потому ничего не видно за ним играющему такого роста, каков ныне отец Дмитрий, ничего, кроме потолка зала зрительного, но и там смотреть не на что, и всё хорошо играется до тех пор, пока меха баяновы разворачиваются, и клавиши руки правой к земле опускаются, а вот как до конца разворот случился, воздуха уже в мехах много, и новый не поступает, а старый не выходит, и звук ничто оживить не в силах, и надобно обратно баян справа к части левой поднимать, мехи сжимая, для чего сила руки требуется, и при этом ещё пальцами обоих рук клавиши перебирать, да вот как оказалось, сил на это уже нет никаких, поскольку на репетиции вчера это с мехами проделывалось раньше по времени, и не допускалось учителем полное их разворачивание, которое ни инструменту, ни отцу Дмитрию, на нём играющему, на пользу никогда пойти не может, а ныне тем паче; и стало быть, остаётся, на потолок глядя, по клавишам пальцами, занемевшими от волнения и усилий, водить, будто баян обнимая с последних сил никчёмных в раз последний; да, так оно и будет, раз этот последним окажется, и никакого два уже, но до этого ведь всё это завершать как-то надо, и это лишь теперь можно говорить: завершать, когда знаешь, что всё завершается, а тогда кажется, что не всё завершается, что всё завершается, а это вот нет, не завершается, и будет бесконечно длиться, и никак, и слёзы от бессилия стыдного на меха эти чёрные, вкусно тканью и игрушками новыми пахнущие, на меха с железными уголками на краях, падают уже, мехам это не на пользу, и жалко их, меха эти, и себя как их, но не более; и кто-то появляется, всегда кто-то непременно появляется, в этот раз и в некоторые другие, чтобы помочь, в остальные разы, всё чаще, дабы подтолкнуть, но никогда он поделать ничего не может, и помогает, да что-то от его помощи всё никак не помогается, и толкает, да всё что-то не добьёт, а в этот раз учитель рукой своей баян поднимать обратно начал, мехи сворачивать, и отец Дмитрий играть уже не желает, вообще больше ничего навсегда не желает теперь, и всегда-то это чувство в жизни его перелом какой-то знаменовать отныне будет, перелом, ему одному лишь ведомый, а для остальных всё всегда одним и тем же продолжается, не изменяясь будто никак вовсе, и теперь вот также; отец Дмитрий более играть не желает ни на баяне, ни на чём другом никогда, но пальцы-то сами теперь играют, вернее сказать: доигрывают мелодию, и мелодия эта то ли: степь да степь кругом, путь далёк лежит, в той степи глухой замерзал ямщик, и тогда рабочим это хорошо знакомая мелодия, и они наверное там подпевают, то ли: на свете много есть того, про что не знают ничего ни взрослые ни дети, и коли вторая, то она значительно первой сложнее для баяна, а взрослые точно про неё почти ничего не знают, а детей в зале мало, вообще нет, дети за сценой, танец показывать будут после номера отца Дмитрия сольного, однако теперь и так всё сложилось непросто, и люди в зале с мест своих встают уже, и хлопают, и не потому, что им мелодия понравилась, даже если это первая была, мелодия теперь вообще не важна, а то им понравилось, что когда ничего уже не получалось и все музыканту восьмилетнему сопереживали чрезвычайно, спаситель появился, и музыкант, пусть и заплаканный, но мелодию таки свою доиграл для них, а то что отец Дмитрий глаза свои ото всех сокрытыми за баяном почитал, так это только потому, что сам их в зал опустить боялся, и тем самым полагая, будто зала отсюда не видно, оттого ему и легче было в момент этот непростой, но зал видно было, и зал видел всё, а потому иногда лучше видимое невидимым полагать, дабы сделать что-то годное, в том числе и для невидимых, а если и не сделать, то доделать начатое воочию, и лучше доделывать, ибо начинать с этого не стоит. Очевидного не видеть не недостаток есть, в качестве недостатка впрочем часто весьма наблюдаемый, но достоинство исключительное там, где оно на дело какое-либо направляется, и детям особенно Господь подобные прегрешения допускает, поскольку к детям в играх их Он весьма серьёзно относится, к взрослым уже иронически и шутя не смешно, отчего взрослые своею серьёзностью непременно перед Господом кичатся, хотя легче им не становится от того, зато детям проклятие это своё часто за преимущество выдать желают, ты ещё маленький, ничего не понимаешь, вот вырастешь, тогда поймешь, говорят, а не видят, что жизнь к натянутому пониманию не принуждающая, которая детская, куда более благостна, и само это взрослое принуждение к пониманию такую службу могло сослужить, дабы видно было: отвернул Господь взор свой с дитя своего, не насовсем, а вполовину лишь, но и этой половины отсутствующей взгляда Божьего вполне себе хватит к тому, чтобы жизнь единственная не задалась никак и насовсем; а хуже то ещё, что задалась она или не задалась, взрослые о том тоже решать вполне натужно и по-взрослому стараются, будто решением этим переменчивым они что-то к себе прибавляют, если не в глазах Господних, то уж наверняка в глазах окружающих их; и хотя прибавка такая часто и удаётся, то потому только, что окружающие сами с бельмом удавшести собственной вокруг себя ходят, не ведая о том, что всем этим себя бесповоротно обворовывают, а значит и в глазах Господних тоже; остаётся надеяться им, что Господь и вовсе не существует, что они и надеют себе; отец Дмитрий пока вопросов себе таких может не ставить, именно так: не не может ставить, а: может не ставить, ибо свободен он ещё в постановке вопросов своих, и потому они пока звучат и по-настоящему спрашивают, а когда взрослым он станет и с вопросами такими познакомится, даже и воли собственной супротив, то, поскольку воля его свободна будет весьма, сможет он избавить себя от нужды отвечать на них иначе как вопросами другими, и будут требовать окружающие ответа настоятельно, и тем настоятельнее, чем отец Дмитрий будет на этот счёт молчаливее, но воистину отзывчив тот человек, который не на всё подряд отзывается, но, напротив, понимает, что некоторая отзывчивость тем самым и гибелью уже оборачивается; но это всё затем, а пока переворачивает отец Дмитрий необходимость прятаться и таиться, дабы что-то ему удалось до конца довести, и осваивает показательность особую: пусть все видят, кто он, и тогда, пожалуй, он сможет стать тем, кем все его увидят; сидит с друзьями на лавке без спинки зелёной в аллее, что через город протянулась вдоль дорог основных, вечером, и ходят тут эти самые все, которые видят всё и видеть должны, будто в целях прогулочных, хотя понятно весьма, что гулять среди людей невозможно, разве только в одиночестве на гору поднимаясь и в лесу бродя, пусть даже и вечером зимним, когда листьев нет, все деревья чёрны, и лишь ветки от ветра скрипят да птицы иногда крыльями хлопают и по-вороньи каркают; но сейчас не одинок он, а в компании друзей или тех, кого так назвать можно, и кого он так потому и называет, сидит на лавке этой, и самой красивой среди их компании девушке слывущей, со светлыми волосами и ногами длинными, ещё подростку совсем, гладит все места потаённые через джинсы её узкие, на колени её к себе предварительно и нескромно чрезвычайно усадив, и подыгрывает она ему, бёдрами своими по чреслам его ёрзает, от этого и лишь от этого, да ещё от того, что думает отец Дмитрий, что все ему завидуют, возбуждается он весьма, и дыхание своё учащённым чувствует, но не чаще её дыхания, а её куда чаще, и прямо-таки горячее, хотя назойливость подруги этой, которую звали Светланой, чрезмерной становится, и была бы отцу Дмитрию оттого неприятна она, но теперь перед взглядами друзей завистливыми и прохожих неравнодушными, ему приятно, убеждает он себя в приятности происходящего насильственно прямо-таки, отчего ещё сильнее дыхание учащается, но только не через сердце своё убеждения обрести чает, но в зеркале мнений других людей предполагаемом себя ищет, языками они сплетаются, и чувствует как у неё там, где рука его промеж ног её, джинсами обтянутых, двигается неспешно весьма, там у неё всё теплым, прямо-таки горячим делается в момент этот, да и у самого уже в джинсах части выдающиеся весьма появляются, но о возбуждении своём сказать ей не смеет теперь, хотя и чувствует она его хорошо, иначе она соскочит с члена его джинсового бедрами своими джинсовыми, и интересно теперь отцу Дмитрию: почему к высказыванию она прямому не готова никак, и вспугнуть правдой её сейчас, когда он в центре внимания общественного ищет себя, и вот-вот обрящет искомое, никак нельзя; а то, что она вмиг убежала бы от него и сказала, что пошл он, как бежала Эмма, но не Бовари, а как бежала Эмма от героя Стивена, и так же Света, это она-то, нынешняя, это твёрдо отец Дмитрий уже знает, сердцем как раз и чувствует, так же твёрдо как органом своим ей в правую ногу упирается, и сейчас он не будет ничего напрямую говорить, а потом будет, и лишь затем он получит подтверждение этому чувствованию сердечному, но, поскольку оно сердечное, то от подтверждения его или опровержения ничего не прибавляется нисколько; а пока неприятен отцу Дмитрию язык её уже, сколько же можно, ну полизались и будет, у него уже и возбуждение от этого пропадает, а у неё, наоборот, растёт, видимо от этого именно целования; и нехорошо как-то это, равнодушно для сердца, но убеждает себя он, что коли на неё так много взоров завистливых, и даже ради неё он раз с местным хулиганом на драку вышел, но подружился с ним вместо драки, и часто так будет: кто всерьёз решается и долго весьма на это дело недостойное, тот с противником роднится ещё крепче чем друзья обычные, по равнодушию лишь вместе находящиеся, так вот, если взоров так много и драка почти, то не может быть язык её так неприятен, как он сейчас неприятен, это в нём, в отце Дмитрии, что-то не то, ужасается он сейчас, и потому учиться надо, пока шанс есть и возможность благостная, учиться тому, что вот то, что неприятно тебе сейчас и есть единственно приятное в этом мире, если миру этому верить, а больше верить и некому; заставляет отец Дмитрий так думать себя, и время тянется, вечер идет, и надоело уже это всё ему, и разговоры интересные лишь до тех пор, пока собеседники не смолкнут, а как смолкнут, то умы их юные поймут, что глупости говорят, и потому задача не смолкать негласная над их голосами витает, но нет ведь, длится и длятся, тоже бесконечность разворота баянных мехов в отсутствии интимности приятной подтабуреточной, учит себя отец Дмитрий, что жизнь такова; и учит себя отец Дмитрий тому, что любит он, несомненно, а то как же, Светлану, хотя и не чувствует этого, опять же, так непосредственно, как вот рукой чашечки бюстгальтера её, любовь как грудь Светланы для него сейчас, когда чашечки ощущаешь, и это Светлана сама и есть, а вот до груди её, до соска торчащего, никак не добраться, и это любовь глубокая к Светлане этой; а ежели тут любви нет, то её вообще, видимо, не бывает, но не может быть, чтобы это не она, в конце концов ведь теоретически, в разумениях, понимает отец Дмитрий, что ежели бюстгальтер снять, как это Света в одиночестве вечером делать будет, перед тем как в ванную идти, так там, на месте соски, просто он сейчас до них добраться не сможет, она ему по рукам даст и обидится, но они же там есть, вот и любовь также: он просто до неё добраться не может чувствованием своим, но она же есть, вот, задницей по коленям елозит так, что ноги уже отсиделись и вставать теперь трудно будет, а идти смешно; да, это любовь, она такова и другой не бывать: когда у отца Дмитрия на коленях сидит девушка всеми другими красавицей почитаемая, но сидит на коленях она именно у него, и язык её мокрый отцу Дмитрию почти до горла доходит, и член его девственный она сломать своей задницей упругой даже на напополам, а частей на пять, как минимум, стремится, такова любовь, может уже на следующее утро заметить житейски весьма отец Дмитрий, однако он не сделает этого, а будет так говорить тот, кто следующий будет со Светланой через неделю уже так же на лавке сидеть, и скажет он это отцу Дмитрию, и добавит ещё насчет него, отца Дмитрия: видно не судьба у тебя, и вздохнёт деловито; а пока постигает отец Дмитрий ту часть истины очередную, которая целой сможет стать лишь когда он скажет себе не громко и прилюдно, но тихо и в одиночестве покойном, что не для него всё это, и все эти, когда тебе все завидуют, это приятно конечно весьма, но коли завидуют, то пусть такой любовью и довольствуются, ежели ею довольствоваться можно вообще; и они завидуют, и довольствуются и надовольствоваться не могут, потому, что это не любовь никакая, но никак этого им не объяснишь, а вот отец Дмитрий это уже понимает, и понимает ещё опечаленно, что он сам-то, видимо, вообще любить не способен, и любовь всякая это не для меня; но мы знаем, что он погорячился, потому что любовь всякая весьма всякой бывает, а выводы о ней делать, даже с первой не столкнувшись и лба о неё не разбив, вообще нельзя, но отец Дмитрий этого не знает пока, как и все в возрасте его, ибо наоборот, весьма суждения резкие и всеохватывающие из мелочей подростки выуживают, а взрослые, напротив, из событий глобальных мелочи тащат, и подростки очень этим во взрослых весьма раздражены, а взрослые терпеть подростковое в подростках могут, да не всегда; а дня через два, много над этим думая, что весьма людей молодых такого возраста среди людей остальных выделяет, долго и серьёзно над недостойным размышления размышлять, приходит отец Дмитрий к выводу о том, что в любви он всё же нуждается и не может от неё отказаться потому лишь, что, к примеру, сосок у Светланы в вечер тот не нащупал, а попросить нельзя было, хотя и ей и ему этого хотелось весьма, нуждается он в любви, но не в такой вот, коей все восторгаются и к коей своим восторгом всех остальных склоняют, а в другой, в какой именно, не ведает, ибо нет примера пока, лишь нужда великая к тому имеется; и пусть отныне любви критерием будет не то, что ею зовется и со стороны так опознано без труда быть может, что само как собака бездомная под колеса бросается, но то, о чём отец Дмитрий может чётко и твердо сказать, что это вот ему нравится, и в нравильности чего он убеждён всем сердцем быть может. А вот с этим возникнут, непременно возникнут, и даже уже возникли, и тут как тут, наготове другие трудности, похлеще невкусного языка красивой для других девушки, к коей сам равнодушен: убеждённость твёрдая в том, что отцу Дмитрию нравится, вещью чрезвычайно мягкой и податливой оказывается, не в пример убеждённости воспитанной к тому, что не нравится; мягкость эта и податливость, конечно, не кисель в детском саду, в полдник подаваемый, но по меньшей мере, как разноцветные пластилина куски в том же детском саду, на занятиях воспитателем выдаваемые; с пластилином оно понятнее, он ведь разве перед тем только, как из него что-то лепить собираешься и не приступил ещё, разделённым на разноцветные бруски и кирпичики пребывает, а как лепка началась, и особенно как она закончилась, а тем паче когда перелепливваешь что-то из уже слепленного, так смешивается он весь в одноцветную серую либо коричневую смесь, в зависимости от преобладания цветового изначального, смесь с вкраплениями цветными, и тогда, супротив остального, вкрапления эти ничтожные откровением чистого цвета предстают для глаза неискушенного детского, хотя никакие это не откровение и не чистота, а лишь смешаться в грязь не успевшее; вот и намерения наши, до того как мы действовать начали, чистыми цветами и откровением, не иначе, наперёд выглядят и ощущаются, пока у них зритель единственный: тот кто их свершить вознамерился, а как решимость в действие их приводит, так становятся они серыми и коричневыми, и хорошо, если взгляд чей ещё вкрапления чистоты изначально задуманной в действиях этих смазанных намерений если уж не усмотреть, то хотя бы предположить по наивности или по доброте неоправданной сподобится; и даже если всё так угадать удастся, что намеренно не смешается цвет с цветом другим в грязь, и сохранится он так именно, как хотел лепитель оного, то не предугадать тут уж никак, как эти цвета с другими смотреться будут, поскольку особость собственная всегда постигается разве что так, будто один ты во всём мире, но она, напротив, и не она даже, а то, что ею по привычке зовётся, предстаёт лишь в окружении именно что непредвиденном, на столе когда фигурки собираются, к картону ногами, хвостами, головами и другими частями уже немыслимыми и неназываемыми прикрепляясь, это когда занятие пластилиновое заканчивается; и стало быть особость намерений никакой лепкой их не приобрести, и, стало быть, нет её в лепке, и от привычки избавляться надобно этой, а ещё лучше не приобретать её, привычки не в наших силах имеются, в отличие от первоначального обретения их нами; и тогда привыкшему кажется уже, будто никакой особости и вовсе в мире нет, однако же, точнее было бы сказать, что она, ежели и имеется, что под вопросом большим весьма, да под таким, что в тени его незримо то, о чём спрашивает он; так вот, ежели и имеется она, особость эта, то иначе она обретается явно, а именно образом неявным; это отец Дмитрий уже сейчас понимает, пока слонов пластилиновых и зайцев лепит цветом грязных со всеми вместе, но как особость обретается намерений, не пред лицем Господнем, что неизвестно никому, хорошо хоть бы Он Сам о том ведал, хотя Ему-то зачем, а перед людьми, это отцу Дмитрию чуть позже известно станет и странно весьма, а раньше или позже это вопрос ведь времени, несущественный то есть, и главное, как тоже ясно весьма, это не ответы, а умение под вопросом на происходящее взирать, а уж в этом отец Дмитрий преуспел даже раньше, чем пластилин в руки взял впервые; хотя ребёнок всего этого в смешении цветов не замечает, он ведь помнит что сделать хотел более того, чем сделалось, и потому по рисункам детским мы намерения легко видим, и восхищаемся их чистотой, не рисунков, но намерений, что для детей совпадает впрочем, от исполнения чистотой нисколько не зависящей, и потому дети умеют ещё играть в игры, где лишь намерения одни, почитаемые за свершённые, когда палка это ружьё и стреляет в намерении, а в действительности не стреляет, и хорошо, что нет, и меж собой намерения свои они так же отчетливо видят, как и взрослые их намерения умеют некоторые видеть; но у взрослых, у них всё иначе: глядя на намерения даже пока ещё в действие не приведённые, мы уже лишь грязь смазанной действительности предугадываем без труда; но это так, к слову, а когда руки с трудом от пластилина отмыты уже, и под ногтями пластилин лишь и смог остаться, да ещё кусочки мыла, которое воспитательница торопливо под ногти пихала, пока суп, по тарелкам разлитый, не остыл, и чтобы зараза пластилиновая на стол не попала обеденный предсонный, тогда все за столики по четверо садятся, девочки две и мальчика тоже два, одна другого напротив, суп тогда этот самый подается, все равно подостыть успевший, и когда это суп всё успевает, а те, кто его едят едва-едва, суп, гороховый к примеру, и с хлебом нарезанным тарелочка; и наглец за столом, которым отец Дмитрий никогда не является, и до того это верно, что начинает казаться даже, будто наглецом становится каждый, кто вот с этим, пока ещё белокурым, мальчиком в шортах синих с полоской белой по бокам двум, и в маечке жёлтой с утенком странно изогнутым белым, кто с ним сядет за один стол, тот сразу же наглецом и станет; это он, отец Дмитрий, наглецов всяческих своим присутствием смиренным на свет порождает, и сотворяет их, и не иначе затем только все рядом наглецами становятся, чтобы подчеркнуть лишний раз отцу Дмитрию и для остальных незримо, что он наглецом не является, не такой, и потому удовольствий ему в другом искать совсем стоит, либо вообще удовольствия не для него, как и длинноногая светловолосая Светлана чуть позже им будет оставлена себе на удивление, у отца Дмитрия свои, ненаглые, удовольствия быть должны, и вот наглец новоиспеченный тянет руку за хлебом и вытягивает кусок, если он корочка непременно, корочкой за столом общим завладеть в саду детском, это всё равно что на дорогом автомобиле в саду взрослом, который городом зовётся, проехаться, и всё равно что Светлану при всех к себе на колени сажать, да так, чтобы органом этим в неё сначала её джинсы, а затем и твои, хотя это с какой стороны смотреть, а смотреть чуть после будет отец Дмитрий на это достаточно, сначала по телевизору, впрочем не об этом сейчас речь; и ничего в этом особенного нет, и отец Дмитрий это ещё в шортах сидючи на стульчике деревянном со спинкой резной уясняет, он будет довольствоваться транспортом общественным, а теперь берёт он те куски хлеба оставшегося, которые для наглеца интереса уже не представляют никакого, наглец бахвальски взглядом всех окидывает, и досаду испытывает оттого, что отец Дмитрий будто не заметил его победу, хотя сейчас он её, победу эту ещё замечает, но не понимает, а позже и замечать перестанет, как это всегда с тем, что для него интереса не представляет, происходить будет, и смотрит тогда наглец: как дела с этим же за соседними столиками обстоят, а отец Дмитрий берёт оставшийся хлеб, который не корочка, да разве что мягче и есть его приятнее, как и девушки у него будут, которые не другим нравятся, а которые очень плотно его в себя принимают, так что чувствует он их хорошо, и они, к обоюдному удовольствию обоих; а пока готов мирится отец Дмитрий с большей мягкостью и приятностью хлеба никому не нужного по сравнению с хлебом, всем нужным, и мирится с радостью для себя, и для наглеца новорожденного тоже с радостью, что уступил, но с радостью, досадой попорченной, что уступил, сам того не понимая якобы, но и это всё к слову пришлось, а дело в том, что в супе этом, к примеру гороховом, мяса кусок небольшой плавает.
И вот тут-то отцу Дмитрию впервые в жизни, по меньшей мере, из того, что он мог бы вспомнить, а не впервые вообще, из того, что он мог бы рассказать, если бы его кто-нибудь спросил о том, что весьма легко себе представить: прихожанин обращается к служителю Церкви с таким вопросом, в рамках социологической программы священники в детстве, или, конкретнее, священники в детском саду: что вы испытывали, когда оказывались в детском саду перед куском говядины с жировой прослойкой, куском, сваренным так, что жевать его можно бесконечно, помня о том, насколько коротка на самом деле детская бесконечность, и больше ничего с ним сделать, в общем-то, и нельзя, и тем более проглотить, и чем больше жуёшь, тем меньше шанс проглотить, а, к тому же, памятуя о детской брезгливости, возможность выплюнуть эту бесцветную белорозовую массу на тарелку, дабы она обратила к твоему взору любопытному свою губковидную распоротость, это лишь возможность, навсегда таковой и остающаяся, поскольку никогда действительностью ей не стать, как раз, видимо, потому, что однажды до того всё же, или даже не однажды, опрашиваемый гипотетически священник это выплёвывание уже содеявал, и ныне ему муторно уже от представления того, как у него во рту ныне выглядит то, что он жуёт, и безобразность там усиливается в геометрической прогрессии, как это со всеми губковидными телами происходить должно от каждого последующего движения челюстей, и на зубах скрипит эта дохлая корова, будь она неладна, детишек здесь могло бы радовать лишь то, что умирали коровки в их детстве от своей собственной смерти, в гордом коровьем одиночестве, и шла-шла коровка по дороге, и звали коровку Му-Му, покойся с миром, Мария Мирабелла, говорит мальчик по имени Бу-Бу, и вот, ежели кто-нибудь обратился бы к отцу Дмитрию с таким вопросом, тогда отец Дмитрий что-нибудь ответить смог бы, поскольку помнил, а вот будь задан вопрос любого рода о любом предмете, но ко временам более ранним относящийся, уже не ответил бы на него, даже если таило бы такое неотвечание в себе парадокс, ну, например: помните ли вы как выплёвывали этот самый кусок мяса из предыдущего вопроса, на который вы соизволили что-то ответить, и как вы пристально разглядывали оный кусок, когда тот был уже тщательно вами же, либо кем-то другим, но тогда странно: зачем вы его вообще брали в рот после другого-то, прожёванным, вот ежели вопрос таким был бы, то отец Дмитрий ответил бы так, что никогда он этого не делал, а на встречный вопрос: почему, пояснил бы ответом парадоксального свойства: потому что, делай я это, то был бы поражён невыносимым видом отвратительства, мне вследствие оного деяния предстающим; и мы часто нечто принципиально не делаем, убеждая других, что это отвратительно, и мы к этому никогда не окажемся способными, не замечая того, что силу это наше отвращение получило не иначе как от того, что когда-никогда, но, видимо, мы это уже делали, а до того, как делали, это выглядело для нас привлекательным весьма, и думали мы, что посвятитетельную инициацию в мир чудес сейчас обретём, и вот теперь, заявляя о своей принципиальности, мы другому отказываем в его праве видеть привлекательным то, что для нас самих было таковым, но что вместо посвящения обернулось соблазном никчёмным, ибо всякий соблазн никчёмен; и ежели мы хотим кого предупредить от собственных ошибок, будто на чужих можно ума набраться, то это бесполезное, вообще-то, дело ещё имеет какое-то благородное оправдание характера филантропического, но если мы не признаём этих ошибок за собой, и не потому, что забыли их, как отец Дмитрий, а просто принципиально заявляем о своей изначальной правильности, нашими принципами же и обоснуемой, а на те места, откуда у этих принципов растут ноги, внимания не обращаем, то мы с вами уже так себе людишки, к коим наш отец Дмитрий не относится, потому что у его принципов ноги из беспамятства расти лишь могут, а всё, что он помнит, он давно уже разоблачил от начальственных одежд принципата, и вообще об отце Дмитрии здесь другой разговор был, о чём напоминать наверное пора уже: когда отец Дмитрий с куском мяса сталкивается в детском саду, то, несмотря на вид мяса отвратительный, и несмотря на то, что мода у детей на мясо непопулярна, что к жизни вызвано заботой родительской домашней о мясной составляющей рациона детского, и вследствие того привычкой к мясу обычной, и вследствие того, что детей не обычное привлекает, а необычное лишь, на это всё несмотря, чувствует отец Дмитрий, за этим столом восседая, что мясо ему, конечно же, не нравится, и, вместе с тем, нравится, и вот, ежели руководствоваться тем в жизни сей, что тебе нравится, и игнорировать мнение другими людьми навязанное, то легче от этого рецепта не станет нисколько, потому как у того, что нравится тебе искренне, всегда есть те черты, которые тебе столь же искренне не нравятся, даже ежели ты пока о них не думаешь и не замечаешь оные, и наоборот тоже верно, хотя и не столь очевидно, и вопрос случая лишь, что нечто сначала кто-то отметил как себе понравившееся, а не наоборот, хотя и подмечает отец Дмитрий в детском саду уже, что у людей случай этот по-разному работает; и у одних он работает так, что им нравится больше вещей, чем не нравится, и эти люди приятнее других, и с ними можно играть, а есть ещё и другие, у которых все оборачивается стороной неприятной, тоже люди неприятные, и избегать их надобно всячески, они могут тебе игрушку сломать, а потом заявить, что она и так ничего не стоила и была дерьмовой вообще, и слово это: дерьмовый вы даже ещё не знаете, но они, неприятные, всегда слова такие знают, и потому они всегда лучше всё и вся знающими предстают, и люди к ним ошибочно тянутся, ошибочности оной не сознавая, и скажут они так, даже если это ваша любимая игрушка была, да и у них она таковой по всем признакам числилась, неприятные люди в мире неприятных им вещей; и тем не менее, у тех кому всё больше нравится, разочарование наступает со временем, поскольку вещи, случаем вращаемые, другие стороны свои являют, будто мясо жевал, и вкусно было, а затем выплюнул и разглядел, и в итоге придётся таким людям мясо кушать, памятуя о его отвратительности заранее, а что делать, и потому люди приятные и кому нравится всё пессемистично весьма настроены, но это потом; а люди неприятные ни в чём не разочаровываются, ибо мясо перед ними изначально лежит выплюнутым ещё до того, как они его есть вознамерятся, и мысли о том, что у этого куска развороченного геометрической прогрессией жевания было вкусное ощущение, которым он одаривает, не приходят такие мысли, поскольку, чтобы мысль пришла, ей время нужно, в течение которого вещь удерживаешь, а те, кому вещь неприятна, её не удерживают, отворачиваются сразу, а что есть такое удержание вещи как не то, что она тебе нравится; и вот на этот вопрос отец Дмитрий ответил бы в детском саду: не знаю, потому что вопроса бы не понял, а сегодня ответил бы: не знаю, потому что вопрос бы понял, и разве что добавить бы мог: не знаю, что это ещё, как не то самое, потому что это одно и то же: любить и держать, если уж вам так угодно, в упрощенном виде, вопрос свой преподнести; вот так ответил бы нам отец Дмитрий, если бы его кто спросил, что мы легко себе представить можем, но лишь представить, потому что такого никогда не было и не будет уже.
А когда отец Дмитрий понял, что полагаться на своё нравится нельзя ещё более, чем на своё не нравится, тогда зима уже наступила, и всегда-то она наступала, и не будь некоторых обстоятельств, дополнительно к себе внимание привлекающих, всё детство можно было бы называть наступлениями всегда разных одних и тех же, новых и долгожданно знакомых зим, вот и опять, а это не что иное как всё серьезноё, что наметить себя уже осмелилось в качестве планов взрослых в отношении людей каких близких, каких далёких, да и в отношении себя хотя бы, только планы эти и завтра решает отец Дмитрий твёрдо в осуществление привести, как тут зима наступает, а у зимы свойство новости неотъемлемое имеется, и когда выходит отец Дмитрий с портфелем на улицу, взрослой решимости на сегодня, вчерашнего происхождения, полный, да и снег первый белёсостью своей глазной зрачок напополам режет, подобно ножу Бонюэлеву, разве что здесь этот разрез ничем иным, как срезом на деле оказывается, и становится четырнадцатилетний отец Дмитрий девятилетним сразу же, срезает снег первый планы взрослости всякой, да ещё и с претензией особою, будто планы эти никакие не планы вовсе, и гроша они ломаного не стоили, и даже замышлять их, не то что в осуществление обращать намереваться, как утром нынешним, не стоило; снежинки падают, и пусть никакие они не фигурные, как это из листа бумаги вчетверо сложенного каждый дурак умеет вырезать, и умный тоже умеет, только разве что у умного, от дурака в отличие, много чего другого на уме дополнительно имеется, и не до снежинок ему, а потому дуракам оценки лучше выпадают, а умным не выпадают, а отец наш Дмитрий не дурак вовсе, хотя умным, и это чистая правда, не считал он себя никогда, и иногда, конечно случалось считать, и это грязная правда, а не грязная ложь, ложь не может быть грязной, у неё нет её самой для начала, и потому она сама не начинается, а всегда посредством кого-то привносится, в отличие от истины, у неё нет её самой хотя бы, чтобы грязь на себя размазать, как у земли вон вчерашней ноябрьской сегодня сил достало всё же снег на себя принять, или сил не хватило его от себя оттаить, как это земля ещё в октябре умеет делать, ну и пусть, сама виновата, спасибо тебе, земля, и небо, и дышится весьма особенно сегодня, и в школу идти не особо хочется, но больше идти некуда, не дома же сидеть, это вечером выбор альтернативным становится, а утром это не выбор вовсе, вот ведь стимул какой учиться для дитя непререкаемый, а отец Дмитрий не дитя уже никакое, хотя и улыбается как вон детвора, та, что пытается сразу же в снежки поиграть по дороге в школу, но только вместо снежков у них в руках безварежковых комочки льда с грязью образуются, но они и тем счастливы, и ежели у них такой повод имеется, то у отца Дмитрия никакого, а он вон радуется, и не печалится даже тогда, когда поскальзывается на луже вчерашней, обманчиво сегодня снежной гладью подозрительной ровности представшей глазам, белизной наполовину срезанным, и лишь разве что выругается отец Дмитрий, но со смехом выругается и по-детски весьма, и скажется что-то вроде: вот чёрт, или: ну и ну, и если даже вот чёрт скажет, то о чёрте не подумает нисколько, тем более о том, что чёрт прямо тут вот и находится, на этой вот луже, ныне припорошенной, а в душе предчувствие наблюдается, что в школе всё иначе будет, хотя нет к этому кроме снега причин никаких, но это уже причина всех причин главнейшая, и учителя поймут учеников, шибче обычного взбудораженных, и в класс мокрораскрасневших вваливающихся, поймут, потому что выхода нет, это ученики так думать могут, поймут, потому что сами сегодня чувствование детское вспомнили, это те, кто повзрослеть сумел успеть, ведь работа в школе лучший повод сознание второгодника до гроба донести, и это чувствование снега первого настолько сильно в них застревает, что можно наоборот сказать: они в нём, в чувстве детства своего, сами застряли на сегодня, и остальное всё воспринимается как должное, как это в детстве и было, да и через очки ностальгические глаза вполовину рассеянностью своей не улавливают, ностальгия слепит, не хуже белизны снега первого, взрослость срезающего. И тут ещё у учителей заботы о новом годе предстоящем, ведь это праздник очень маленьким детям и совсем уже взрослым предназначается, а отец Дмитрий ныне уже не маленький и взрослый вполне, но взрослый такой, который других взрослых серьёзнее и основательнее весьма, чтобы на заботу о празднике тратиться силами, отец Дмитрий не нуждается в таком удовольствии: праздник себе устраивать силами собственными, хотя три-четыре раза в день собственноручно представляет себе, когда никого дома нет и один он, как спасает привязанную к столбу, да кого-кого, разных весьма, это зависит от настроения, и от того, кого он видел сегодня, равно как и от того, кого он сегодня не видел, хотя чаще всего, ежели кто представляется в моменты эти небесприятные, то и вживую хочется её видеть почаще, и хорошо, что она не знает причину подлинную этого участившегося общения, хотя не поверит пока отец Дмитрий тому, что и она, она, спасенная им от сильнейших хулиганов школы и в объятия его, в действительности руки заняты пока, одна в одеяло вцепилась, другая фантазией движет, в объятия его, нельзя отвлекаться, падающая, не поверит он, что она тоже вот сейчас, как и он, и даже раза в два почаще, и не о нём, может быть мечтая, но дело важное ведь настолько, что это весьма простительно, когда она не о нём, лишь бы и она тоже это, вот-вот, как и он сейчас, падает в объятия его, и плачет, и даже тело её влажное чувствует, и заботливо платье её, разорванное хулиганами, стянуть в месте разрыва обратно пытается, дабы наготу прикрыть, и не удаётся это, зато спины её коснуться удаётся весьма, и нет никакой похоти в сердце отца Дмитрия там в момент этот, и это правда, снова чистая, а то, что здесь происходит, вопрос другой, там никакой похоти, сострадание лишь и нежная любовь чистейшего, как и правда, несколько раз уже помянутая только что, платонического свойства, скорее-скорее, сейчас вот, кто-то вошёл, нет, показалось, хорошо, затягивается история, можно по новой то же самое, уже другие хулиганы, ещё злее и старше, вообще десятиклассники, или она уже не она, или она, но платье разорвано гораздо сильнее, и через него всё-всё видно взглядом невооружённым, спасибо хулиганам, ах, какие же они гады, успокойся, героически говорит отец Дмитрий, а там эти её торчат и на него как бы не мигая смотрят, да-да, а ноги у неё так вот, так вот, чуть разведены, что поделать, это они ей их так привязали, а он, отец Дмитрий, наоборот, освобождает её, и даже ни слова не говорит, она же ему шепчет: отец Дмитрий, спасибо, да-да, ещё раз, так, она шепчет: отец Дмитрий, спасибо, она шепчет: спасибо, Дмитрий отец, да-да, шепчет вслух уже отец Дмитрий, и всё тут, всё тут, всё тут, всё.
Но это что-то не к делу мы вспомнили, потому что об этом вообще не говорят, и в этом можно лишь из желания всерьёз оскорбление нанести уличать кого-то, но у отца Дмитрия нет врагов, кроме воображаемых для таких случаев, а поскольку такие случаи как часты, так и важны в своей от себя скрываемой свершаемости, то тут и образы друзей врагами можно представлять, когда по новой много раз хорошо идёт, друзья ведь не обидятся, они ведь и не узнают никогда о том, тем более, отец Дмитрий у них лишь внешность и манеры задействует, а остальное инфернальной брутальностью сам наполняет, хотя слов таких не знает ещё, и вопросом не задаётся даже гипотетически: а может быть, кроме манер и внешности ничего и нет у них, друзей этих, и когда мысль эта приходит к нему, жутковато становится, ибо не ведает он среди кого находится, но пока от этой догадки смущающей отделаться легко весьма можно: если у людей лишь внешность и манеры, то кого же он тогда в эти самые моменты придумывает, что он к друзьям добавляет, если они зверьми жестокими, а точнее хулиганами и насильниками тут же делаются, и чем жесточее, чем зверее, чем хулиганистее, чем насильнее, тем это лучше для этого дела, не обязательно быстрее, но почти гарантированно лучше, и знает отсюда отец Дмитрий, что люди глубже, чем выглядят, но поскольку источник знания этого постыден весьма, то на него не укажешь; а поскольку источник знания этого интимен и душе родствен весьма, как и телу того не менее, то и усомниться в нём никак невозможно; имеется посему у отца Дмитрия в возрасте этом, четырнадцатигодовалом, опыт, на который можно слепо полагаться, но о котором сказать никому нельзя ничего, кроме уверенности для других, пустотой отдающей, что здесь всё так, а иначе никак, и точка, аргументация эта малоубедительна весьма, знает это отец Дмитрий, и видит других не хуже, но ничего уж с этим не поделаешь, на то друзья и друзья, чтобы доверять без доказательств, а то что же это за друг такой, кто всё проверить желает, Фомой его назвать что ли Неверующим, а кто такой Фома, и почему он неверующий, кому или во что он не, не ведает пока отец Дмитрий, и если Фома Фома Неверующий, то отец Дмитрий пока Дмитрий Несведующий. И если бы Бог не существовал, то единственный возможный Бог в этом мире обитал бы тогда в детстве, Бог и был бы детством каждого, у кого только было детство, что не так уж и общеобязательно, а если Бог существует, то он тем более в детстве весь незримо; и даже не надо о Нём специально что-то узнавать, не надо детского богоискательства, не надо искать Его, Он Сам всегда уже здесь, в каждой игре детской и даже в обиде смертельной, в проклятиях детскими устами извергаемых; а если мы теперь о том заговорили, то это к тому лишь, что когда снег выпал, а он всегда выпадает, вновь и вновь, то возвращение юноши четырнадцатигодовалого к мальчишке девятилетнему вовсе не деградацией сезонной какой свидетельство есть, но исключительно обретение того мира, в котором нет нужды планы свои взрослые строить в отношении кого бы то ни было, и тем паче их осуществлять готовиться со дня на день, даже если это годы, потому что в мире этом неоткуда возникнуть тому, что тут же само осуществления себе не находило бы, даже если в стену непонимания упираешься, причем в смысле буквальном, к чему метафоры, как теперь вот, отец Дмитрий лежит к стене лицом, потому что с утра договаривается с другом, тоже Дмитрием или Димкой именуемым, после уроков встретиться, когда каждый дома у себя пообедает, дабы осуществить наконец-таки проект телефонной связи, это они так называют задуманное, связи телефонной непосредственной, а именно: протянуть меж своими домами проволоку медную, тончайшую, а расстояние порядочное, но и проволоки много, её целый моток огромный, они со стройки давно уже его принесли ближайшей, их там много таких было, и хотя видятся они постоянно, и телефон этот их, непонятно как работать собирается, ведь предполагается просто провод провести, и лишь затем думать о целесообразности дела сделанного, и как этим пользоваться, и зачем надо это было, но уже и тут им понятно, что никак этим воспользоваться не удастся, но об этом нельзя пока говорить, на такой мелочи останавливаться, трудностей значит страшиться; и в день этот важный отец запрещает, просто, из принципа, лишь бы властью своей упиться, которую отец Дмитрий в своем отце Василии всей душой своей ненавидеть уже умеет, запрещает после обеда из дома выходить вовсе, и спать даже заставляет улечься, и лежит отец Дмитрий, от мира отвёрнутый к стене лицом, на которой ковёр, плачет, на этот ковёр глядя, и мысленно смерти отцу своему желает, всхлипывая, и гнев слезами глаза ему застилает, и узоры на ковре, человечками разными давно уж выступающие, и всегда с добром в мир сна уводящие, ныне пытаются проявиться также, но отец Дмитрий со зла твердит про себя: вы лишь ворс ковровый, и нет вас, и исчезают человечки обиженно, и ещё грустнее оттого, что обидел их, друзей своих, незаслуженно, и хотя понимает: не существует этих человечков, а уже и ворс этот ковровый оплакивать усердно принимается, и нет остановки этому плачу, кажется, и плачет из-за всего, голова начинает болеть нещадно, а ведь был бы телефон задуманный, который они вот сейчас делать должны были бы, и Димка ждёт наверное его, хотя час прошёл уже, будь этот телефон, он бы сообщил Димке, что не может прийти, а что плачет, о том не сообщал бы, это Димку не касается нисколько, а отца Дмитрия также точно не касается теперь, что телефон этот никогда ничего сообщить был бы не в силах, и от этого еще грустнее, но даже теперь всё возможно в мире, потому что всхлипывает отец Дмитрий, и у ковровых человечков прощения просит, ну никого, совершенно никого, кроме вас у меня не осталось, и гладит ворс рукой, и человечки сжаливаются над ним, и показывают отцу Дмитрию театр свой незамысловатый, но лишь на первый взгляд незамысловатый, замысловатость театра зависит от таковой зрителя во многом, хотя не называет отец Дмитрий это словом театр, и театр не любит, там куча детей орущих, и куклы тупые и страшные, которые на дураков своими гримасами лишь рассчитывают, так себе взрослые режиссеры детей завсегда представляют, те, которые и детей-то помимо театральных детей, не видели никогда, а родители им подыгрывают, и детей своих ведут туда, делая их детьми театральными, умиляясь при этом, отец Дмитрий не любит очень умиление и театр, нет, эти ковровые узорчаторождённые человечки настоящие, у них целый мир, в который теперь они отца Дмитрия снова впускают, заплаканного, и да, мир этот ограничен ковром, но кто в глубинах ковра бывал, ха, никто, и отец Дмитрий лежит уже, улыбаясь, и с тем засыпает, и потому в мире этом всё возможное есть; а назавтра он узнает, что Димка после школы напрочь забыл о деле их совместном и намерении общем, и вообще уехал к бабушке в гости, и отец Дмитрий на новость эту даже не разозлится, и негодования в нём не будет, и упрёка он ни одного не произнесёт, а просто попросит Димку, будто ничего и не было, на выходных дело задуманное осуществить, но теперь уже наверняка, и они выйдут в субботнее утро раннего октября, и будет трава холодной от сырости, а проволоку в ней-то вести и надобно, собаки весёлые, хвостами виляя, будут мешать, люди всюду листья жгут, и этот запах дыма, приятный поначалу, к вечеру снова боль головную вызовет, а проволока оказалась такой тонкой, что проложить её совершенно невозможно, она о кусты простые, даже не сухие ещё, рвётся охотно, и округа дома Димкиного, откуда телефон вели, вся уже пестрит, и на солнце колышется паутиной рыжей меди, и придётся отказаться от замысла своего им, но как бы само собой, махнуть на него рукой сразу, двумя, нет, всеми четырьмя руками, весь день провозиться до ночи, хотя ещё к обеду стало понятно, что ничего не выйдет, но об этом друг другу не говорить, а всё яростнее и яростнее продолжать, правда, всё больше отвлекаясь, телефон уже к ужину повод для субботней игры уличной, и, ни словом не обмолвившись о провале обоюдного замысла, за обсуждением которого им учительница столько замечаний сделала на уроках: не разговаривайте, расстаться с убеждением завтра возобновить труд этот, и даже детали обсудить, и планы на песке начертить, но назавтра заехать к другу на велосипеде, и предложить, пока ещё погода тёплая, поехать в лес покататься, а за этим делом ни слова больше о телефоне не обмолвить, и не обращать внимания на топорщащиеся из кустов возле дома Димкиного усы меди красные, будто и не было ничего, даже в мыслях, вот это размах, вот это воистину по-детски, а взрослые нет, они так не могут, один всегда продолжает хотеть невозможное, когда второй, кто это мог возможным сделать, давно ото всего уже отказался, но сказать забыл, ковровые человечки реальнее медных проводов, о траву рвущихся, хотя провода они вон, в кустах остались, и в них люди путаются, а человечки ковровые ворс простой, да и не простой даже, а синтетический насквозь. Теперь же, когда зима пятнадцатая уже наступает, что же как не зима, если на луже за снег принятой поскальзываешься и падаешь, руку до крови расцарапав, теперь человечки ковровые не исчезли, но говорит им отец Дмитрий с легкой грустью: мне некогда, а они не возражают даже вовсе, и лишь вопрос немой повисает: но ты же к нам вернёшься когда-нибудь, и отвечает им с досадой уже некоторой отец Дмитрий: да, да, конечно, но когда обнимает девушку, которую сейчас обнимает, никогда уже возвращения к друзьям своим не помышляет ковровым, которые ему глубину от скорбей детских предоставляли свою, и лишь затем что-то отзовётся эхом голосов тех, кого уже нет, когда в комнате, после ремонта, ковра уже не будет, и печалью наполнится сердце, когда он увидит своих друзей на полу в одном из домов родственников своей семьи многочисленной, но ковра уже не будет, но лишь часть от него отрезанная, на которую обувь с улицы прямо пришедшую ставят, и кусочка этого не хватит на то, чтобы глубину воспроизвести, и грязь теперь там, где раньше слёзы детские отражались в мечтаниях и успокоение находили сонное, но это нескоро ещё всё, а ещё дальше привычка повсюду, где ковёр встречается, выискивать своих бывших самых верных друзей, а пока человечки также, как прежде, рядом, и лишь когда отец Дмитрий девушек каких спасает в воображении своём от монстров в обличии знакомых различных, тогда отворачивается резко от человечков, если их взгляды упрекающие встречает, ибо совестно ему перед ними, не за то, что он делает, а за то, что делает что-то, вместо того, чтобы к ним в гости отправиться, а больше не перед кем не стыдно, ибо никто не ведает ни о том, что он делает, ни о том, что друзей старых бросил ради спасения тел и душ девичьих. И снег этот возвращает к миру, где всё есть, и ничуть не больше всего, но это возвращение всегда к миру другому, и теперь отец Дмитрий, которому хотелось сегодня разговор вести о чувствах ревнивых собственных с девушкой по имени Вероника, разговор, хитро сам по себе выстраивающийся, будто отцу Дмитрию совершенно безразлично, с кем девочка Вероника, пока из класса их самая хрупкая, и груди у неё почти ещё не выросли, а лишь острия от них разорвать форму коричневую просятся, и это заставляет её жалеть как малышку совсем, когда защищаешь её от свирепых хулиганов, будто безразлично с кем девочку Веронику видел позавчера один знакомый отца Дмитрия, не будем уточнять его имени, потому что, ежели уточнять, то окажется им сам отец Дмитрий, но он честно, не специально, увидел её с каким-то здоровяком, от которого и ему подобных он её потом раза три за вечер спасал, от человечков ковровых отвернувшись, но если ей сказать о том, что это он сам был, она же не поверит, что честно и не специально, решит, что следит отец Дмитрий за нею, а потому уточнять не надо, раз знакомый, значит знакомый, да, безразлично, и более того, отец
Дмитрий готов выслушать все её переживания по этому поводу, и дать совет, потому как Вероника ему нравится, но только как друг, ничего личного, и ему, другу её, отцу Дмитрию то есть, очень хочется в счастье ей поспособствовать, и он даже готов в деле этого содействия сдружиться, например, с ним, кто бы он ни был, если только это для дела понадобится; и, само собою, если так все сложится, то отец Дмитрий знает уже, что он, чёрт возьми, в самом деле будет ей помогать совершенно бескорыстно, и потому так всё происходит, что хочется ему быть с ней ближе, рядом, подольше; и когда она будет думать: зачем это отцу Дмитрию, то уже и промахнется мимо сути, потому что единственная цель, зачем ему это всё, уже исполняется, когда она рядом с ним сидит, и думает не знаю о чём, здесь и сейчас исполняется, просто рядом с ней быть и говорить, и ничего больше, этого уже достаточно, он бы ради этого и помогал; а в то, что способствуя девочке Веронике и её здоровяку дурацкому, он может сопернику подарить её объятия, поцелуи и, может, больше даже того, в это отец Дмитрий всерьёз не верит, он не верит в то, что от девушек можно большего, чем простого присутствия рядом с ними добиться, а потому добивается лишь его любой ценой, принося в жертву сюжеты своих фантазий, ведь это лишь фантазии и так не бывает, чтобы можно рукой её соски гладить, нет, не бывает, только присутствие, и потому, кто его добьётся, тот всего добьётся, тот и первый; и в мире, таким образом заведённом, отец Дмитрий завсегда победителем выходит в глазах собственных, в глазах человечков ковровых, и в глазах тех, кто о мире этом не просто догадывается, а кто его ещё и за единственно существующий почитает, хотя ни одного такого не встретилось ещё, но исключать их нельзя; и вот теперь-то, накануне разговора такого ответственного, выпал снег, и всё отложилось, и вернулся отец Дмитрий туда, где никогда не был прежде, в мир мушкетёров и пиратов, а почему туда, а не куда-либо ещё, не ведает он, как и того, как южные моря плоть себе нарастить сумели через снег ноябрьский русский, грязь земли едва до обеда прикрывший. Хотя быть может, может быть очень даже и связано это всё, но так хитро только, либо низко связано, либо высоко очень, куда пока отцу Дмитрию заглядывать не хочется нисколько, и он может себе это позволить вполне, а затем не сможет себе этого не позволить, но уже не в отношении себя, а в других отношении, может связано так, что, ежели поцелуев не бывает никаких в этой жизни, а какие в этой жизни бывают и какие отец Дмитрий многажды видел, те ему не по душе, когда кто-нибудь некрасивый какую-нибудь некрасивую целует, не желает отец Дмитрий ни её, ни, тем паче, его целовать, быть на месте каждого из них или обоих вместе не желает, пропади они пропадом, а потому настоящих поцелуев ежели тут не бывает, то в мире капитана Блада или Скарамуша только такие и бывают, и всё так случайно красиво складывается, в то время как здесь лишь уродство намеренное наблюдается, и мысли о разговоре вчера задуманном о позавчера увиденном, сегодня могли бы неслучайно и красиво возвратить, ну не в мир ковровых человечков, а в мир Парижа хотя бы, века этак семнадцатого-восемнадцатого, или в мир туманного и дождливого Лондона, или в болезненный для европейца мир лесов Бразилии, и, чего-чего, лишь бы не в мир кровожадных майя с их богами пирамидальными, имена которых не произнести с первого раза; и в этой школе, на уроке алгебры, можно вполне видеть брызги холодной воды, бьющие о скалы замка Иф, ночью окружённого, куда сейчас незадачливая стража бросит мешок зашитый с телом, как же, как же, аббата Фариа, и под партой уже сжимаешь линейку, дабы в воде очутившись, разрезать этим ножом верёвки ног связанных, и до того напрягает это, лишь бы не спросили, лишь бы не спросили, что острия из формы коричневой девочки Вероники уже лишь улыбку ностальгическую и старческую вызывают, как давно это было, моя малышка, и тут ещё преображение мгновенное: я защищу вас, сударыня, на перемене незнакомцы из класса параллельного, да, отец Дмитрий предпочитает меньше с людьми знакомиться, Димка уже года три как в другую школу отсюда перевёлся, и исчез из жизни, эти незнакомцы, которых каждый одноклассник хорошо знает, иногда по имени, по фамилии чаще, это же школа, а не санаторий вам, говорит классный руководитель, они поставили подножку очень красивой девочке классом младше, и он, Арамис, именно так, сейчас отомстит им, вызовет их на дуэль, да, да, на самую настоящую дуэль, защищайтесь сударь, пройдёт мимо обидчиков в сторону девочки споткнувшейся, будто у него дело срочное появилось, хотя никому, совершенно никому пожалуй дела нет до его дела, а разве поспоришь, что дело срочное, пройдёт мимо них и бросит на них взгляд, всего лишь один, зато очень, ну очень вызывающий, главное подгадать так, чтобы они в этот момент отвернулись и ничего не заметили, ох уж этот первый снег, и можно смотреть после этого на неё, искать её в коридорах, в столовой, на правах старшеклассника или дверью ошибившегося в класс её заглянувши, или же в раздевалке, которую лучше называть одевалкой, когда раздеваешься, на урок торопишься, и ничего не видишь, а видишь лишь когда одеваешься, и найдя её, поймав её взгляд, смотреть нежно и покровительственно слегка, ведь он её защитил, что вы хрипите сударь, не надо было иметь намерение, коего вы осуществить не способны, сами виноваты теперь, вытирая шпагу о траву цвета изумрудного, ведь он её защитил, пусть этого никто и не видел и не ведает, но он, он-то знает это, а большего чем это ничего и нет, таков мир где возможно всё; и теперь эта девочка, им спасенная, сударь, пожалуйста, как мне отблагодарить вас, я никогда ещё не встречала образца подобного благородства, теперь ей легче представляться отцу Дмитрию у неизменного ночного столба, даже можно и без столба, а спасать её, как то в действительности только что и было, нервные секунданты, тонкие изящные блестящие шпаги, ничего не забыли, ржание коней, фырканье, переступание с ноги на ногу, волнение врача, молодого, подающего надежды учёного, которому очень нужны деньги, главное, чтобы он никому ничего не сообщил, не избавиться тогда от неприятностей, нет, он нем как могила, волнение врача, на перемирие надеющегося очень, потому что деньги он уже получил, а практики ещё маловато, и он очень опасается, что из-за него кто-то умрёт, но отец Дмитрий Арамис сделал своё дело, и врачу остаётся лишь констатировать: смерть, ничего не забыто, прохладный сумрак утреннего леса, тени деревьев, утренняя роса, Париж ещё спит, а за окном школы белое превращается в грязное обратно, и очень натоплены батареи, портфель, ожидающий на подоконнике открытие английского кабинета, нагреться успевает весьма, ничего, ничего не забыто, да, девушку эту из шестого зовут Ириной, но имя её будет узнано отцом Дмитрием лишь впоследствии и случайно, и ничего в этой истории, разыгранной в десять минут между алгеброй и иностранным, не изменит, зато с Вероникой можно теперь долго не говорить, целый день не пытаться, ведь после дуэли пережитой чувствуешь себя утомлённым, и ни на что, кроме стаканчика старого доброго бургундского в кругу ближайших друзей, он не способен уже, спускается отец Дмитрий на первый этаж в столовую, и пьёт стакан чая, не спеша, в одиночестве, но так только кажется, верные товарищи мушкетеры рядом, и всегда поддержат его, и такая славная вышла пирушка после удачной дуэли, на которой можно было запросто погибнуть, ведь противник как всегда был превосходен, надо отдать ему должное, мир душе его, и так хорошо, что даже на урок он опаздывает, и проходит за свою парту в гордом молчании, под взглядом учительницы, такой наглостью возмущённой, в то время как эти малыши осваивают форму не так ли, дурацкая ситуация, из нот ит, зачем ему, отцу Дмитрию Арамису, этот английский, если у нас, французов, всегда там напряжены отношения с Англией, разве что для миссий особых и поручений необычных, да, и к тому же, красивее родного французского не найти, это ведь Франция оплот культуры, так-то, зе Ландон из э кэпитал оф Инглэнд, хорошо, что вчера прочитал, а то бы опять двойка, как же, как же, сочинение по Репину мы ещё три года назад писали. Оно же идёт всё, тройка, пятерка, туз, накручивает как в двадцать восьмом танцовщица, для которой Равель Равель, чтобы пятнадцать минут одного и того же, можешь ли ты, маэстро, так, могу, ан нет, в конце-то всё иначе звучит, но извините, как же завершать, если в конце ничем не отличается от в начале, да и не к чему всё это кажется, время детства можно сообщить, если бы оно было разве что, но улавливать его не значит ли уже претензию в намерении своём иметь, ничем не обусловленную, вон отец Дмитрий желает выглядеть для других так, как для себя желал бы выглядеть, ежели бы другие его в качестве такового и воспринимали, задача ничем не осиливаемая, всегда опаздываешься, а посему отказываемся от неё, и к этому кусок мяса хорошим учителем сгодился в саду детском, будто дети цветы, чтобы их в сад, тогда взрослых всех в зоопарки, не иначе, скорее детство сад для жизни нашей, и то, у кого оно имеется, а всё остальное даже как назвать не ведаем, но и не страшно это, ибо у нас задача другая теперь, и всегда приятно, когда так говоришь: у нас другая задача, видимость несмываемую сторонними взглядами обретаешь, будто задача вообще есть какая-то, и можно вид важной озадаченности на себя напускать, как собаку с цепи спускают, ко мне важная озадаченность, фас меня, фас, а коли нельзя полагаться на то, что тебе нравится и на то, что другие принимают в радостях легкомысленно весьма, покуда они к ним не относятся, даже когда начинают помирать друг от друга, заразу какую подхвативши, к примеру, зима если не наступает вовремя и болезни до чумных доходят комом не снежным, а грязевым, так жить полагаясь на что-то нужно, и потому лишь, что жить ни на что не полагаясь никак нельзя, хотя что за искусство удивительное, им владеют миллионы, никак живя себе неплохо, никак значит живя, но отец Дмитрий не таков, он хотя и мал, да удрал, как не говорится, от этой проблемы, и нет у него такой проблемы в мире всего возможного детства, и не было никогда и не будет, ежели людей меньше слушать будет умничающих особо ни о чём, да и не особо особых людей, совсем неособенных людей, отличительная черта которых себя за особенных почитать в очередь первую, как все эти люди, и не следует человеку особым быть, не в этом дело, иначе он будет мясо жевать, Светку целуя при всех, и краем глаза оглядываясь, и в себя с эхом ухая, балансировать в темноте безнадёжной, не в особости дело, а в особости дела и в деле этом тело не последнюю роль играет, и вот это положений не требует никаких, а бдения стоячего требует, но мы не подчиняемся требованиям, то ведь признак свободы плоско понимаемой непременно есть: не делать того, что требуется, делая то, что никому и тебе в очередь первую не нужно, и все уже свободны донельзя, и мы, как все, что ж мы хуже, свободными будучи на манер этот, приступаем к тому, чего никак не требуется делать; и всё идет по кругу, безвременно новая зима и возвращение всегдашнее в миры, по-разному выглядящие: купил книгу, о коей мечтал давно, а сейчас бы и не вспомнил о чём она, но снег первый падает, уже в году этом не в первый раз, тает затем и всё тут, а отец Дмитрий шагает с книгой в руках, ко всем прохожим её обложкой повернув: смотрите, это он жрец знания, книга эта для него не иначе как книга волшебницы Стеллы с розовыми волосами, там не скажут ему как Элли и Тотошке домой вернуться, потому он уже взрослый, и он не Элли, и не Тотошка, и домой ныне направляется безо всяких волшебств, и прошли те времена, когда он подставлял свой череп деревянный и грубо сколоченный под удары Урфина Джюса, хотя это именно Урфина надо было поколотить за то, что когда порошок волшебный живительный заканчивался уже, он полуоживлял тех, кого даже и красиво делать не удосуживался, пусть же эта книга станет порошком живительным, и им посыплет сейчас отец Дмитрий немного, когда домой придёт, на что правда не знает, но на что-то важное, в конец концов, порошок этот волшебный, и пусть сам себе достойный посыпания объект изыскивает, и к чему приложиться пусть ищет, как и отец Дмитрий всегда находит уже сам к пятнадцати своим к кому приложиться, посыплется порошок знания и оживит в нём то, что позволит мир интереснее видеть, который вон озяб сегодня, все кутаются в воротники поднятые от воздуха сырого, когда не холодно вроде, а трясёшься сам того не замечая, посыплет порошок дома, а люди в троллейбусе даже не глядят на книгу, либо, взглянув, тут же равнодушными к ней остаются весьма, но отца Дмитрия не обмануть, это их равнодушие напускное, они вон обратно к окну отворачиваются и молчат, с той стороны рыбы аквариумные как есть, но молчат-то они потому только, что завидуют и опасаются, а когда люди завидуют, они всегда в намеренное равнодушие падают, напускают на себя, фас нас, намеренное равнодушие, говорят люди, фас их, говорит книга в руках чёрная и с позолотой имени названия, и чем не чудесная она, если отец Дмитрий её ещё не открывал, а она вон как, весь мир завертеть сумела вкруг себя и хозяина своего нового, но отец Дмитрий спокоен, не равнодушен, нет, он этого себе позволить не может, на нём куртка модная, из кусочков кожи дублёной сшитая, её дядя в магазине у алкоголика бандитского, коим и сам стал впоследствии, выкупил задёшево, да мала она ему оказалась, и в этой куртке, которая, в чём отец Дмитрий не сомневается нисколько, о том никому не говоря впрочем, совершены все нераскрытые и ужасные преступления в этом и не только в этом, но и в соседних городах, к чему излишняя скромность, что было то было, просто не надо хвастать, о таких вещах серьёзные люди попусту не говорят, и в куртке этой с книгой этой являет отец Дмитрий замысел воистину фаустовского размаха, слияние знания и силы грубой предельное, за знания в ответе книга, за силу куртка, свидетельством чему напускное людей равнодушие, которое является свидетелем всегда несознательным и молчаливым, и не стоит даже с ними говорить, они в нём никогда не признаются даже себе, не то что тому, кто равнодушие напускать их на себя заставляет; но живительный порошок книги этой надо посыпать порциями малыми, ибо он требует размышления, и будет недейственным, как хлорка для покойника, и сколько этого уже отец Дмитрий испытывал, когда книгу волшебную ждёшь, а каждая книга, которую ждёшь уже тем хотя бы и волшебная, проглатываешь, а она никакая на вкус, никакая она не, а обратного отец Дмитрий не испытывал, но лишь в обратное верует, ибо сказываются таки те, которые долго весьма ожидались и в пустоту канули, нет, не в пустоту, а ежели это пустотой назвать, то это самая плодородная пустота отца Дмитрия есть, немного времени проходит, и отец Дмитрий чувствует себя героем книги той, о которой всё уже и забыл, времени прошло немного, но здесь каждый день столетия стоит, как и те, прошедшие столетия, даже дня этой жизни не стоят пока, кто же будет целый день читать параграф на дом заданный по истории, но теперь будет так использовать порошок живительный, не спеша, помимо намерения своего и опыта, ещё потому, что спеша уже не получится, ведь раньше всё успевалось и времени много было, завались временем просто, а теперь ничего не можно успеть в мере полной, а лишь в мере и так сойдёт, не получится, потому что у него сейчас в гостях сестра его младшая, кузина по имени Арина, а с ней они играют до сих пор, и что это за игры, где же ты Георг Тракль, зачем ушёл на войну, зачем тебе наркотики, что это за игры, вонзайся, вонзайся, чёрный терновник. Лучшее самое, ведает сильный курткой на себе и знающей книгой в руках своих отец Дмитрий, это когда тебя нет для того, чтобы думать: нравится или не нравится в сердце своём, или гадать: нравишься или не нравишься в сердцах чужих неотзывчивых, равно как и отзывчивых, блаженное забвение пустого перекрёстка лучшее, стоишь на нём поскольку, гадаешь: куда, время идёт, а его уже не завались, и устроено уже загодя так всё тут, что ни выбери, в любом случае дороги эти никуда не ведут, как пастушка Адель мужа себе выбирала из трёх, когда выбор единственно верный: не выходить замуж, ею даже и не рассматривался, поскольку единственно верным был выбор, который делать было не нужно, ничего делать было не нужно, и сколько усилий на выбор не трать, в самом деле ты в это время ничем вовсе и не занимаешься, а чем-то заниматься надо, даже если не можешь себе сказать: чем, то ли потому, что не ведаешь о том, потому ли, что ведаешь, а всё равно не скажешь, если только с ковровыми собеседниками уже перестал общаться, в слезах ко сну отходя; отец Дмитрий закуривает сигарету, и в этой куртке бандитской и без того выглядящий старше, в глазах собственных, стареет и мудреет прежнего пуще, опять в тех же глазах, и будет время, когда ему чьё-то пальто достанется, покроя не современного, но дело не в покрое, а в том, что в кепке и пальто этом, нараспашку всегда носимом, ибо коли застегнуть, оно кажет величину по сравнению с телом, в него втиснутым неимоверную, и не удивительно, с чужого плеча, пуза, спины и шеи будет, и про руки не забыть, а посему носит он его расстёгнуто, и называют его все Лениным за это, а может и за то ещё, что к тому времени у него усы и борода расти уже активно весьма начали, а он нет, не бреется, а может и за то, что в пальто ходить он будет этом на собрания единомышленников своих, когда организует группу людей молодых, собирающихся вместе ради чего не важно здесь пока, а затем неважно будет уже, поскольку единомышленники хотя и окажутся едиными, но мышленники из них никакие, а отцу Дмитрию это важнее будет, да так и останется до конца, но пока не по-ленински хитро прищуривает глаз правый, а по-жигански плевать учится, и мудрее чем обычные воришки, выглядит для себя, ибо у воров обычных нет в руках порошка живительного, как минимум вор в законе он, а лучше серый кардинал мира криминального, и да, была такая пора, когда такие мечтания сместили планы космонавтом стать или чем там ещё, кто такой космонавт, человек не конкретный, а вот вор в законе конкретен, и конкретнее нет, а жизнь штука конкретная, хотя ничего отец Дмитрий и не крадёт, ему не нужно до того опускаться, чтобы серым кардиналом быть, эта роль ему уже нравится, да, а занятия такие случаются постольку, поскольку Арина в гостях бывает иногда по выходным, сегодня этот случай, чаще же на каникулах, и тогда это называется наподольше, и хотя из возраста игр отец Дмитрий уже вырос, однако играть может, и весьма часто играет, просто надо усилие делать над собою чаще, будто тебе интересно происходящее, убеждать себя, и чем хуже общество, в котором играть вознамерился, тем больше усилий, а если не в обществе играть вознамериться, а с обществом, то не важно какого оно качества, но это уже из психологии кардинала серого, а с Ариной роль его сводится к тому, чтобы говорить, соблазнами сердце питая, что легко весьма, ежели сестра неродная и видишь её реже тех, кого прежде спасал от хулиганов воображаемых, как это давно было, и надо при этом делать вид, что в опыте этого самого ты поднаторел настолько, что даже тебе уже это не интересно, а ей ещё это предстоит всё, и как же он ей, с одной стороны, завидует, а с другой не, но ежели кто-то напомнил бы ему сейчас о подвигах
Арамиса, он бы смутился в сердце своём, но лишь в сердце, виду не подавая, и высказал бы по адресу так нетактично бередящего воображаемое прошлое: как давно это было, можно было бы сказать снова, если бы отец Дмитрий вообще это за собой признал, но нет, он высказал бы что-нибудь ироничное слегка или циничное потяжелей, и посочувствовал бы тому, кто забивает себе голову подобной глупостью, другим её предписывая, и добавил бы, что не следует прилюдно о своих глупостях так откровенно высказываться, даже если и именно если напоминание было бы сделано в его, отца Дмитрия, адрес, и не ведает отец Дмитрий в период этот, как в пуританстве подростковом оказался, в мыслях чистый, в действиях как всегда, и вот это-то и есть игра, поскольку Арина принимает всё за чистую монету, или делает вид, что принимает, но подлинному соблазнителю серому не стоит об этих тонкостях заботу проявлять и попечение, и они как-то заполняют время, и отцу Дмитрию жаль, что выходные идут к концу, но, с другой стороны, сегодня ещё суббота, а это свидетельство тому верное, что Арина ночью будет здесь, скорее бы эта ночь наступила, и к тому же у него книга есть, и когда Арина уедет, он книгу эту будет читать, а теперь откладывает чтение, и сейчас он счастлив воистину, ночь впереди, а дальше ещё книга, хотя когда будет книга, а Арины уже не будет, счастья нынешнего тоже не найти, ныне так явственно предвкушаемого, поскольку он будет думать вполсилы, книгу читая, о книге, а чтобы эти полсилы могли быть, он в другие полсилы будет думать о том, что его ожидает после прочтения, также испытывая счастье от предвкушения чаемого им, как и ныне, когда он Арине повествует о чём-то, может даже о книге, и так при том, будто он её уже прочёл, чуть свысока, и в то же время условность роли своей с усилием преодолевая, вид делая, будто увлекается весь, и нет никакой намеренности в его касаниях случайных, то приобнимет слегка, то по колену кончиками пальцев дрогнувших проведёт, то прядь волос ей за ухо заведёт выпавшую, Арина смотрит, рот раскрыв, это образно только выражаясь, она же не идиотка клиническая, со ртом открытым сидеть, чтобы слюна стекала, вот удовольствие было бы, на неё такую глядя, ночи ждать. А теперь надо незаметно использовать средство, для покупки которого в аптеке отец Дмитрий потратил столько нервных клеток и запоров нервных, окон и дверей, нет, это не презерватив, их он, напротив, готов покупать при сколь угодном сборище народа, и как можно больше, а затем он даже пытался сделать свои фантазии, к столбу уже не привязанные, и к той, которая на нём привязана, уже не привязанные, сделать их пытался в одиночестве, и само одевание этого гульфика резинового возбуждало его более даже, чем любого рода фантазии, ведь так делают на самом деле те, кто делает так на самом деле, затем надо было выбрасывать, чтобы никто не видел, лучше по дороге в школу, но в ящике стола нижнем держать несколько пачек новых с женщинами голыми, похотливо с упаковок глядящими, чтобы невзначай видела их Арина, а посему с презервативами проблем при покупке не было, равно как и без них не было, а проблемы были со снотворным, которое ныне и надо как-то подсыпать, а как это сделать, вот задача, над которой отец Дмитрий думает, и даже бьётся незримо весьма, хотя нет, не думает, он просто ждёт подходящего момента, карпе дием, что тут думать-то, самое существенное в жизни не требует думания, и тогда он всё исполнит, а сейчас дабы момент нужный предуготовить, он предлагает Арине чашку кофе, или чая, или сока, который заблаговременно купил, когда с книгой домой шествовал, и иногда у него мелькает мысль досадная о том, что Арина, вновь и вновь говорящая: не хочу, что-то не хочется, спасибо, всё равно будет ему сегодня принадлежать, ещё не ведая что это в данном случае значит, но заблаговременно ужасаясь того, что если это неизвестное исполнится, то завтра будет значить что-то нехорошее, надо так говорить просто, это важная вещь, но ведь может всё сорваться, и это-то досаждает, и тогда страх, испытанный им в аптеке, который сам он мог бы назвать раскольниковщиной, окажется понапрасну испытанным, есть ли у вас снотворные какие, говорит тоном нарочито небрежным, будто каждый день покупает, сам без ума от страха, ведь сейчас, того гляди и скажет эта аптекарша, вылитая школьная учительница, только в достойное место террариумное стеклом прилавка упрятанная людьми добрыми: смотрите-смотрите, он хочет соблазнить свою двоюродную сестру младшую, подсыпав ей снотворное, которое я ему, подлецу, не продам, однако же нет, она спрашивает дурацкое и не в тему, внимание видимо отвлекая, дабы к себе расположить и поймать понадёжнее, иначе зачем об этом спрашивать: у тебя рецепт какой-нибудь имеется, он, естественно, знающий, что для такого рода покупок рецепт необходим, говорит: нет, и она ему предлагает травяные чаи успокаивающие, сборы разные, но как заставить Арину эту гадость пить, ведь пока заставишь, она так возбудится в подозрениях своих, что ни одни чай не поможет, и потому отец Дмитрий говорит, что чаи у него различные уже имеются для целей этих и не только, а от горла например тоже есть, но они не особо помогают от бессонницы, а потому надо именно таблетки, насколько можно более сильные, которые, в то же время, без рецепта ему были бы любезны продать, и вопрос цены не вопрос никакой, и она ему даёт что-то, и, к счастью, таблетки эти оказываются маленькими, и их, ежели растолочь успеть, мало растворять надобно, но, к сожалению, у этих таблеток такой горький вкус, будто они от поноса, а не от бессонницы, и узнаёт эти подробности отец Дмитрий в тот же самый день, как их покупает: он приходит, разгрызает одну, и фантазирует о том, что предстоит; конечно же, он не чувствует ничего усыпляющего, но он и не должен, у него всё обстоит в данном отношении очень даже наоборот, будто возбуждающего чего хватил, шпанской мушки, к примеру, которую он тоже как-то, значительно позже, купит, но в тот же вечер подарит их той, ради которой купил, не используя по назначению, ибо она сама окажется так похотливо настроенной, что он их ей подарит за ненадобностью, перед этим, правда, отпив этой жидкости солоноватой сам, уже для себя, но это будет лет через восемь, и мушку он не собирался использовать тайным образом, дело в освоении наследия маркиза по имени Донасьен Альфонс Франсуа, и ничего личного, да в желаниях партнёрши его, а ныне нет, сейчас все иначе,
Жульетта сегодня не подаётся, может быть Лолита, но отец Дмитрий не любит Арину, хотя искусство трудное нимфолепсии уже знает неплохо, и не будет того сомнительного собеседника, говорю: дождь перестал, а не где ты её достал, никто планов не раскроет, пока он просто убеждает Арину что устал, а так как он устал в самом деле, но не в том смысле, в каком убеждает, а в том, в каком можно стать огрызком от яблока, к коему прикоснулись зубы ожидания, и потом предлагает отец Дмитрий напоследок попить чая и покурить, Арина не курит пока, но всегда присутствует при этом деле, а когда он её курящей встретит, она будет уже замужем, и ни Лолитой, ни Жульеттой, лишь Эммой Бовари разве что, но пока он говорит, что будет пить чай, даже если она не хочет, она соглашается: и мне тоже налей, и сердце сейчас из груди вырвется, и отец Дмитрий невольно касается его не слева, но справа, не потому что у него аномалия и сердце справа, а потому что в правом нагрудном кармане таблетка помещается, он дает Арине загодя для этой цели альбом заготовленный с фотографиями, коих она ещё не видела, а сам идёт на кухню чай готовить: бросает таблетку в чашку, начинает её мять усердно, но тихо, чтобы не громыхала ложка о дно, сколько раз он это продумывал в мыслях, но тут выходит на кухню отец его, и тоже собирается чай пить, а посему отец Дмитрий бросает в стакан кусочек лимона, таблетку дабы, всплыть пытающуюся, прикрыть им, хотя Арина ничего о лимоне не говорила, а потому он и себе делает то же самое, без таблетки разве что, и тщательно сахар мешает, лимон такой силой раздавливая, которая явно для него избыточна, в надежде таблетку уничтожить, и если будет горечь, то быть может она от лимонной корки, куда же ей деваться, а тут ещё сама Арина выходит, неужто она альбом посмотрела, нет, ей там скучно и она решила его здесь досмотреть; отец Дмитрий своё раздражение молчанием скрывает, чему естественным прикрытием присутствие отца его служит, и сердечный стук переходит в дрожь ручную, и тогда хоть хорошо, что отец уходит, начинает говорить отец Дмитрий о сердце своём больном, и это правда, оно у него больное изрядно, он на учёте у кардиолога состоял, а потом должен был бы у невропатолога, но не стал, и вспоминает случаи забавные о болезнях сердца, и всё, что ему известно, и всё, что ему неизвестно додумывает, от йоги до взрыва сердца: а что, такое бывает, не веришь что ли, и внимание Арины уже отвлечено вполне от его рук дрожащих, да и руки успокоились, когда на них никто не смотрит, она пьёт чай, а он следит за ней, леденцы предлагает приготовления домашнего, что значит: вкуснейшие, но и подгоревшие, и потому может быть и вкуснейшие, один раз даже нож был сломан, когда блин сковородный леденца на кусочки мыслимых размеров он раскалывать пытался, теперь с этими целями лишь отвертка применяется, домашние и горькие, специально, он такие любит, но Арина чай пьёт, а леденцы почти не ест, и горечь их во рту не ощущает, стало быть, но говорит при этом: голова болит, вот удача, и отец Дмитрий ей предлагает таблетку анальгина, но не пить её, а разжевать, чтобы действеннее было, а то так бывает, если с больной головой ляжешь, то и проснёшься с такой же больной, а не с такой же вообще, вот умора, если бы с другой, что она и делает, и тогда горечь, во рту образованную, чаем запить пытается, и выпивает оный залпом почти, отец Дмитрий курит пока, уже иного рода дрожь испытывая, берёт Арина лимон, вынимает его ложечкой и восклицает: что это, где спрашивает отец Дмитрий так издалека, что не стоило дурацкими вопросами о чашки содержимом его оттуда отвлекать, да вот, и в ложке таблетку ему протягивает, чуть лишь уменьшенная она там, но целёхонькая как назло: не знаю, не знаю, интересуется отец Дмитрий, дай посмотрю, смотрит и говорит: странно, ерунда какая-то, но не выбрасывает это в ведро мусорное, что было бы правильнее, дабы от улик избавиться, но ведь избавление от чего-то намеренное делает это уликой, а потому к мыслям о преступлении совершённом или задуманном приводит, а отец Дмитрий против таких мыслей в голове Арининой, и возвращает ей ложку с белым комочком таблеточно-продолговатым, повторяя: странно-странно. Арина не говорит ничего, а берет этот комочек в руку, подносит ко рту, вот триумф, понюхала и откусила половину, глотай же, глотай, выплёвывает в чашку обратноэ и вердикт выносит: я знаю что это, вот провал, но откуда, откуда, и что же, спрашивает отец Дмитрий, будто ему это в самом деле интересно, такова роль его, это зернышко от вишневой косточки, горечь страшная, говорит она, хм, говорит отец Дмитрий, и правда похоже, и разгрызает вторую, оставшуюся половинку: да, это определённо оно, говорит он, не сплёвывая однако, но откуда оно здесь, спрашивает Арина, не у отца Дмитрия, а риторически весьма, поскольку понятно, что он этого знать не может, хм, опять говорит отец Дмитрий, не знаю, но интересно, а теперь надобно спать ложиться, странно, странно, и они отправляются спать укладываться, он в свою комнату, она в свою, между ними дверь, которую они не закрывают никогда, поскольку при засыпании раздельном имеют обыкновение поговорить перед сном совместно, каждый в своей кровати лёжа; на сей раз отец Дмитрий говорит недолго о чём-то, что сам не понимает, близится время, и говорит с притворным зевком, что засыпает уже, на что Арина говорит, что тоже что-то устала, и на это несмотря, ещё долго тоже о чём-то болтает, может и недолго вообще, но сейчас неимоверно долго, а отец Дмитрий бурчит невразумительно: угу и угу поначалу, а затем перестаёт и не отвечает ей вовсе, поскольку надо вид сделать, что спит, хотя и не видит его никто, а потому он не вид делает. а слуха не допускает, хотя и кажется ему, что Арина может стук сердца его услышать, дыхание не может, он загодя дышит лишь ртом открытым, беззвучно, и не спит конечно, ожидая, пока Арина не просто смолкнет, но и заснёт покрепче, и никакого возбуждения нет у него, кроме нервного, но вот долго тишина уже длится, как ему мнится, и остаётся поверить лишь, что так оно и есть, и тогда едва кровать его скрипнула. это оттого, что он встал резко в одно движение, выпрыгнул, если говорить точнее, чтобы она не скрипнула более, к двери уже подошёл открытой, слышно уже образом прекрасным весьма Арины дыхание ровное, но он не торопится в комнату к ней, а к дыханию прислушиваясь, ждёт, пока собственное сердце его успокоится, настраивает себя на лад равнодушия, и тогда дрожь нервная сменяется дрожью от холода, ибо он в трусах одних и носках разве что, которые заведомо не снял, чтобы ступни к полу не приклеивались, а то их когда поднимаешь, они звук издают характерный как ладонь потную сжимаешь разжимаешь, и помнить к тому же надо, что возможно придётся ретироваться образом самым неожиданным, в общем, носки вещь незаменимая, да и трусы не будут излишними, и вот когда начинает мёрзнуть уже, то ступает к Арине в комнату, говоря про себя: вот я и в греха обители, и всю ночь баланс ему придётся почти невозможный выдерживать между дрожью нервной и ознобом, лишь при переходе от первой ко второму и обратно дрожь исчезает, но это к слову, а стоит ныне над Ариной спящей отец Дмитрий и дрожь нервную пока согнать не в силах, не может равнодушие восстановить в правах его, а без него никуда, захлёбывается душа его волнением, и сердце из горла ухает, что особо чувствуется, когда рот открыт и слюну даже сглотнуть нельзя, ибо будет громко; так пройдёт ещё немного времени, Арина даже перевернётся на другой бок, и лишь тогда успокоенный этим отец Дмитрий сможет позволить себе над нею склониться. Преодолены многие замковые переходы, и вот теперь Амбросио наконец-то оказывается в спальне, где во плоти образ располагается, вдохновляющий к изображению святой Розалии, только бы она не проснулась, и поэтому понемногу начинает простыню, тело коей прикрыто её вожделенное, от этого самого тела высвобождать не спеша, можно вытягивать медленно из-под ноги, которая простыней почти сама обернулась, но тогда движение должно быть равномерным, иначе щёкотно станет, а можно резко, и отец Дмитрий применяет эти стратегии совместно, и применение это в прямой зависимости от дрожи рук его находится, ежели дрожат не сильно, первая, во всё остальное время вторая, да, сколько таких случаев уже было в его жизни долгой в замках этих роскошью своей поражающих посетителя нетребовательного, к коим Амбросио не относится, и красавицы таяли в его объятиях, вы настоящий Казанова, метафора, призванная демонстрировать одержание победы над холодом их сердец, так и видишь сердца красавиц свежезамороженные: вам какое, сэр, вон то, на полкило, вот самка ведь была, что верно то верно, сэр, и не говорите, а ещё лучше следующее за объятиями созерцание кавалером незадачливым лужицы, недоумение вызывающей, как простая снежная баба, и лишь морковка в руках Казановы, вот и применяйте её, подлец, по прямому назначению, надеюсь, вы не собираетесь её кушать, это же замечательная морковка, что за мысли, серьёзнее, коллега, серьёзнее, э-э, ватс хэппен док, когда простынка извлечена, её надобно теперь резко поднять, но не всю же, нет, её надо поднять с ног на спину возложив, и даже ноги не столь любопытная сейчас часть созерцательная, сколь то откуда они, из леса вестимо, отец слышишь рубит, хорошо, что отец в другой комнате, замковая стража преисполнена доверия к гостю хозяев, у него отличные рекомендательные письма от самого герцога, и бдительность стражи спит сильнее стражи, склоняется отец Дмитрий над ногами её загорелыми, но здесь всё так разложено, что ничего не поделаешь, надо повернуть её на спину или на живот, с боковым возлежанием, позвольте так выразиться, просто невозможно работать, отец Дмитрий Амбросио время на размышление тратит, торопиться ведь некуда, вы ведь сегодня никуда не торопитесь, я совершенно свободна, тихо ложится рядом с кроватью, чуть под неё подкатываясь, ох уж этот Вьетнам Вьетнам, Рэмбо завидует и готовит пельмени сейчас, зависть эта его понятна, вот про пельмени не очень, отец Дмитрий улыбается и готов песню уже спеть, а какую, ему самому было бы интересно, никогда же не знаешь точно, что само споётся, берёт из-под кровати уже отец Дмитрий рукой плечо сестры своей Арины и к себе тянет оное, а руку, как это требуется в лучших традициях жанра им самим придуманного, убирает, и лишь с раза третьего удаётся всё задуманное, поздравляем вас, вы выиграли, но к этому времени хоть впору встать и попросить её через пробуждение, дабы она повернулась как надо, а то я измучился здесь уже, невозможно, она поворачивается, как хорошо священникам в века средние было доступ иметь неограниченный к душам своих молоденьких прихожанок, ведь душа как водится без тела не подаётся никогда, даже служителю Господа, и посему овладение телом вернейший способ душой овладеть, проигнорировать оную значит, и отец Дмитрий явственно ощущает запах сырости подземелий средневековых и вонь мест тамошних отхожих, прямо в камерах пыточных находящихся, не моется никто и не убирает, и отвратительно холодно становится ему, но тут же запах мяса жареного и вина вкус отличного, не в пример тому, что Арамис пил в разных трактирах, за ужином в замках княжеских, и обхождение любезное, и пьяно-уютно ему делается, на полу лёжа под кроватью Арины, что же к делу, новое извлечение простыни, и как всё это неважно в сравнении с величественностью чувства, им испытываемого, вот ноги её, и тут отца Дмитрия волнение неожиданное охватывает, что это с вами, падре, ничего дочь моя, продолжай: что с тобой друг отца сделал затем, когда ты к нему в комнату после ужина поднялась, и, как ты говоришь, отец не возражал, нет что вы, падре, глаза опускаются робко весьма, вот ведь шалунья, наоборот, он пригрозил мне, что побьёт меня, если я друга его ослушаюсь и не исполню всё, чего бы он от меня ни потребовал, даже если просьбы его покажутся мне, краснеет чертовка, немного необычными, волнение поборовши через настроение на холод совершённое, отец Дмитрий склоняется над темными ногами, соблазнительно контрастирующими на простынях белых, и перед самым его лицом оказывается трусиков её парус белый, в просторе моря голубом.
Аккуратным никогда таким отец Дмитрий не был наверное, об аккуратности при том не заботясь нисколько, и так следовать делу, на теле в данном случае сосредоточенном, когда оно изменяет делающего себе под стать, и при этом нет даже возможности для мыслей рода: нравится или не нравится, вот жить как следует, нравится или нет, Арина, проснувшись, не будет этому внимать и вряд ли выбор уважит, к чему бы он ни привёл, тем более думать не следует ныне: понравился бы ей отец Дмитрий или нет, об этом он в одиночестве может пофантазировать, а теперь действия время, раздумий лишённое, и если уж здесь оказался, ввязался как можно иногда слова повернуть, то ничего не остаётся того кроме, чтобы делать делаемое лучше, это знает отец Дмитрий, решительности преисполненный, стоит на коленях над Ариной так, что одна нога её промеж его коленей уходит туда, куда он и не смотрит, потому как склоняется низко и даже ещё ниже над этим парусом, но не набирает в лёгкие воздуха, дабы направить его в дали морские, нет, воздуха здесь явно недостаточно будет, он лучше кораблем пьяным, от пыток средневековых и роскоши, захмелевши довольствоваться будет той лужей чёрной, где детская рука челн пускает слабый, погоди, Рембо, дружище, рука отца Дмитрия не такая уж и детская, а челн и вовсе не слабый, настолько, что даже высвободить его пришлось, но пускать его в плаванье никто не собирается, и никакого мотылька это не напоминает, молот в руках гномов пожалуй, нет-нет, не до Мории теперь безвременно погибшей, аккуратно резинку, вдоль ноги загорелой идущую, трусиков отводит отец Дмитрий на другую сторону, рукой оставшейся не упираясь ни во что, только коленями, дыхание её чуть сбивается, но это чуть лишь, и вот перед ним то, чего ради этот поход многотрудный преодолевался; отец Дмитрий руку отводит свою и невольно челн свой неслабый и небабочковидный руками двумя сжимает, и до того доволен он ныне успехом своим, что даже не торопится склониться над сокровищем, с трудом таким извлечённым на свет, Бен Ган, а где же золото, вон оно, я его перенёс в пещеру, пойдёмте покажу, но волнение успокоено, не без воспоминаний о Джиме Хопкинсе и Пятнице с козами его, а коли так, то склоняется отец Дмитрий и смотрит. Смотрит долго, и нравится ему весьма то, что видит он, хотя что там кажется, два пальца вместе сложи, так там то, что меж ними окажется, то да не то, здесь всё нежнее, хочется схватить и нежно сжимать, может быть даже поцеловать, но рисковать так нельзя, будет затем гарантированно и безопасно время, утром, не так долго спустя, через месяца два, они будут лежать с сестрой в постели одной, она только что проснувшаяся, под простыней, он давно уже вставший, в одежде и поверх простыни, и у отца Дмитрия не будет мыслей никаких на этот счет, напротив, он будет чрезвычайно увлечён чем-то, и увлечение это было такого рода, отвлечение от которого вызывает раздражение яростное и справедливое, но увидит отец Дмитрий, как Арина, полагаясь видимо на незаметность своего деяния, под простынёй делать себе будет ритмично такое, от чего, однако, ни дыхание её не участится, как это в фильмах разного рода для детей запретных бывает, которые в миг этот ложью обнажённой обернутся, ни глаза её не закатываются от наслаждения, но, напротив, она будет весьма живо, не мертвее обычного, беседу их поддерживать, смеяться даже, и, тем не менее, продолжать, и это наблюдение отца Дмитрия настолько поразит, что пройдёт ещё немного времени, пусть и много, но всё равно пройдёт, и навсегда вскоре сгинут все фантазии, к столбу привязанные и наследники их многочисленные, бездна внезапно открывшаяся и, всё шире зияющая, со временем наблюдений над страстями незаметными, бездна не страсти, но простой похоти банальной, как чая попить, междудельной, поглотит все мечты, и миры возможные невозможными станут, и даже отрыжки это поглощение не вызовет, но это после будет, дней через шестьдесят начнётся, а нынче он пока смотрит, дыхание Арины ровное как шоссе новое, по которому они недавно выезжали к реке для купания, здорово зимой лето вспоминать, жить хочется, куда приятнее, чем зиму летом, и неожиданно Арина тут спрашивает, так что каменеет отец Дмитрий, над ней нависающий: ты что делаешь, и отец Дмитрий ошарашен, мягко сказано, но у слов нет такой твердости, чтобы сказать подобающе в данном случае, и ему смешно стало неимоверно: на четвереньках над нею, в руках сжавши молот Тора некрупного, он так и говорит, голосом, однако, дрогнувшим: вот, трусы с тебя снял и разглядываю тебя, Арина отвечает: понятно, и дыхание её мирно и ровно снова доносится до слуха. Долго ещё лежит отец Дмитрий на кровати своей, угрызениями мучимый, не совести, но провала своего, ходит беспрестанно курить, по дороге между делом повторяя всё над Ариной спящей как прежде, но уже без предосторожностей излишних, и уже даже при зари свете новой, не опасаясь, что проснётся, ведь всё равно теперь, когда пойман уже, и рассмотрел всё, и пальцами даже касался нескромно весьма, и будь скульптором, к утру мог бы и сваять, не глядя всё там, но никакой страсти уже не было, и лишь чувства приговоренных к казни литературных персонажей, перемежаемых с воображением его тут же созданными, вспоминаются ему, и чувствование их настоящее, с разницей той разве что, персонажей взаправду не казнит ведь никто, а его утром кошмар такой ожидает в подлинности своей непререкаемой, что лучше бы казнили взаправду: Арина расскажет всё, не смолчит. И лишь на миг озарён был ум измотанный отца Дмитрия догадкой, которая впоследствии и оказалась подтверждённой: Арина спросила во сне, ничего не памятуя о виденном и спрошенном, и, понятное дело, об отвеченном тоже не памятуя, но это подтвердится утром, а пока случай таков, что может и не подтвердится никогда, а потому отец Дмитрий доводит себя, после шестой сигареты выкуренной за ночь и колокола церковного из недалекого монастыря к заутрене зовущего, до изнеможения полного, говорит себе: да какая мне к чёрту разница, какое мне до всего этого дело, и это выражение бессилия полного силами достаточными его одаряет, будто источник в пустыне забил, или точнее как Гудвин Льву дал смелости выпить, спасибо Гудвин великий и ужасный, силами достаточными одаряет, чтобы уснуть, и отец Дмитрий в самом деле засыпает. И когда Арина, ни о чём не помнящая из в ночи событий развернувшихся, утром встанет, то ей придётся одной смотреть сказку по телевизору о Кащее Бессмертном, после ласки утренней недолгой, и лицо её будет сонным, и сказка будет неинтересной, она её наизусть знает; будь здесь брат её, они бы вместе её посмотрели так посмотрели б, он всегда что-то придумывает, иногда ради комментариев звук полностью отключает у телевизора, и тогда видишь осуществление воочию новой сказки, на ходу рождающейся, и уже воплощённой на экране, ей это очень нравится, но если у него сердце больное, и ему так хочется, то пусть выспится, и спит отец Дмитрий, как убитый спит.
Часть четвертая
в которой мы узнаем о том, как разглядеть обнаженные ноги девушки в длинном платье, водить пальцем по краю бокала, чтобы выглядеть соблазнительнее, как устроены оперы Вагнера, чем занимаются девушки по ночам, почему люди одиноки, насколько взгляд Рильке перед смертью был преисполнен боли – и кое-что еще
Пусть недосказанное останется таковым, ведь и говорить доходчиво можно только о том, о чём до конца договориться можно, да не выходит никак речь такая, а потому петляем бесконечно, спицами языков верх и низ вяжем, двигая при этом влево или вправо, хитрость какая выходит думаем, ан нет, не выходит, и не выйдет, пока нас самих-то и нет, а жизнь здешнюю так заготовляем, будто тамошняя ещё ожидается, такая, как продолжение здешней, предстоящей нам, намеревающейся, не лучшая причём жизнь, в коею не многие особо и верят, а самая обычная и обычной похуже даже, покуда полагаем, что в предстоящей нам тамошней проблем не будет никаких, и вопросы никакие не встанут, но лишь вещами угодными окружимся, да и людьми подручными, а звука регулятор на всю вывернем, но зато мыслей ответствующих никаких чтобы, и зачем нам мысли ответствующие, ведь они для вопросов, головы свои кривые над точками нашими окончательными приподнявших, надобны, и думаются, ответствования эти, иногда разве что ещё когда что необычное случится, а последнее особо редкостным бывает, но оттого оно нам и важнее прочего, а ныне так особо уже, когда снег пошёл, но это всё впереди ещё, как и жизнь для праведных лучшая, равно как и для умирающих окончательно, не иначе, обратить ныне внимание стоит разве на то, что среди людей, чуда непременно ждущих, и среди других, в чудеса окончательно не верующих, кто признавать чудеса даже по факту свершения оных не вознамеревается, среди них ответа нам не искать, и примера поучительного не рыскать, покуда чудо ожидаемое завсегда промеж цепких силков ожидания норовит пролезть, тайком ли, внаглую ли, всё нами выстроенное разрывая, но оно на то и чудо, что неожиданно вовнутрях оказывается, и к тому же, когда чуда не ждёшь по причине занятости своей серьезной, не до шуток ведь сегодняшнему человеку, это христиане там первые от делать нечего в пасти львиные падали, когда бросаемы в оные были, да в котлах кипящих варились себе на удовольствие, сегодня жизнь куда как тяжелее, альфу человек не успевает сказать, как его уже омегой тычут, им же самим якобы произнесённой, в стену или по голове колотят, но и здесь тоже чудо происходит, на то оно и чудо, чтобы свершаться само, вот они чуда черты, которые безо всяких чудес в наличии указывать можно завсегда, а более ничего и нельзя: неожиданно само собой происходящее, и как только усмотрим это внимательно, так понятно станет, что всё почти в мире этом чудесно, и до пор тех включительно, пока не будем почему и для чего всякие разыскивать, ибо вопросы эти чуда не уничтожат, на то оно и чудо, но лишь задающего их усыпят, ищущего; не будем искать, и нашей внимательности ещё спасибо скажем за то, что источник чуда, нами не искомый, ибо само оно себе источник, он везде, все вещи вкруг нас на нас взирающие безмолвно, покуда говор их чудесный мы не слышим, и люди источник тем паче, слышим которых, но не так, не так, ведь они выговариваются сами, и в этом чудо, а думают при этом, что по делу какому говорят, хотя понятно, что нет в мире этом ни одного дела такого, ради которого стоило бы себя речью своею выказать. А снег пошедший на траву весеннюю в ночь почти наступившую пятницы Страстной не чудо никакое, всем тоже понятно, а явление характера объяснимого, относимого к роду атмосферических, которые, конечно, ранее людьми от делать нечего также воспринимались как чудесное нечто, в режиме непрерывном свершаемое, каждый день новое солнце, ведь не бывает так, чтобы погоды вообще не было, хотя и бывает у природы плохая погода, чтобы там не припевали себе поэты всякие, подумаешь, погода с природой рифмуется, ведь и Бог смотрит на сапог, в то время как ангелы держат факелы, так ведь далеко весьма зайти можно, того не желая даже, и хорошо еще, что Бог на сапог только смотрит, ведь есть поговорки иные, с других так сказать картинок срисованные или даже списанные, когда капля последняя падает на ботинок, и это опять от делать нечего всё, рифмовать то есть, и как много глупостей от этого делать нечего; может быть, для человека это самое главное, то, что он от этого самого делает, ведь когда делать нечего, тоже что-то делаешь, и тут человек в сути своей проявляется и лучше себя выговаривает, чем когда все уравниваются делом каким, впрочем, это мы тоже от делать нечего тут развели разговоры, а у нас очень дел накопилось существенных по числу много, по виду ужасно, а по смыслу трудно, и на снежном чуде не задержимся более особо, разве что отметим про себя: снег объяснить вообще нетрудно, а почему теперь именно он, почти невозможно, и учёный дотошный испросить у нас мог бы: когда теперь, что в виду вы имеете, и мы бы ответили: теперь, когда другие чудеса наблюдаются повсеместно, как например: подъезжает уже Андрей на машине своей к дому Марфы, но никто не предвидел того, ни он, ни она пока, ни Брут, который Андрея сопровождать вызывался, да дозваться не сумел, ибо бесповоротен странно Андрей в решении своём неожиданном оказался, которое мы чудом и окрестили, на что метеоролог возразит нам, что психология это всё, похоть чистая даже, и не знает учёный этот заслуженный в ведении наук атмосферических, что не бывает похоти чистой, что она завсегда грех, и ничего сверх оного, но это уже религия, возразит он, хватит тут уже намешивать чёрта с ладаном, ограничьте себя наконец, возразит он, смешали всё образом немыслимым самым, и ещё теперь удивляться сумели тому, что не понимают сами ничего, вот извольте объяснять явления атмосферические только ими самими, явления такой психологии инстинктом половым, а религию вообще не объясняйте, это дело веры, религия ваша, и когда мы в раз последний скажем, что если вера есть, то и снег может быть чудом, то ответит нам муж сей умудрённый, что веру тоже надо ограничить вопросами лишь души спасения, а если души ни снег апрельский не касается, ни желание яростью с вожделением переполняющее, не понятна нам вера такая, но мы этого не спросим, ведь нельзя же по поводу всего непонятого к метеорологам обращаться, оставим мужа этого учёного в стерильности его явлений атмосферических пребывать, будто в гульфике, от зачатия предохраняющем, пусть муж сей там сам по себе нечудесно задыхается и хлебается, покуда мы с ним даже и поговорить не сподобимся в силу причин прозаических, которые монахами тёмными средневековыми от делать нечего ещё и принципиальными полагались, будь то причина существования, к примеру, всего существующего, Господь, а у нас с вами причина прозаически эта поворачивается весьма, ведь нас нет, и наше мы эфемерно, неизвестно кто до конца доберётся, и автор сам не уверен, хотя бы потому, что сам отсутствует ныне, а коли был бы, то в его нигде зима наметилась бы уже нехолодно снежная, и не было бы ему дела до записей этих, и лишь от делать нечего тут бы всё и вышло, плохой автор, лучше уж совсем без него, чем с таким-то. Хорошо хоть Андрею есть что делать, и потому вопрос этот сумеречный, что делать, перед ним возникающий, имеется, но это только для словца красного говорят, хотя ныне слова все цветом единой черноты и мрачности ведутся, вопрос не перед ним возникает, а в душе его, перед ним же ворота сада детского и забор его решётчатый, а по ту сторону сада детского дом пятиэтажный, где на этаже третьем, вровень с тополя серединой, балконом и окном сюда, на сад детский, выходящим, живёт Марфа, и в комнате её, именно что с балконом которая, свет горит теперь, и силуэты периодически, не Марфе принадлежащие, мелькают, но Андрей не ревнует, ревность отступила на план второй, то есть нет её вовсе, поскольку она либо на первом, либо её вовсе нет, и заботой ныне не ревность обернулась, а сговор священников извращённых и безумных весьма, будто бывают извращённые священники небезумными, хотя безумные священники только таковыми ныне и должны быть, надо сговор этих маньяков и психопатов, вокруг Марфы образовавшийся, вот забота подлинней коей нет и не предвидится сегодня никак, этот круг порочный из церкви служителей, отца Георгия и ещё большего незнакомого пока отца Дмитрия, разорвать, и спасти Марфу от этой чепухи, которой самцы в ризах девушку эту заговорили, нет тут ревности, говорит себе Андрей и верит себе тут же, задача конкретная весьма и не долгосрочная, срочно разовая сказать можно, надо разве что решить её грамотно, и поэтому что делать, вопрос вопросов, а точнее: как. Но останавливается в нерешительности вполне понятной теперь Андрей, и мы вынуждены с ним вместе стоять здесь, и не просто выстаивать, с ноги на ногу переминаясь и пританцовывая, будто ждём чего, что случится вот-вот, а прямо таки застыть сфинксами, зубы сжав и язык от себя архитектурно отшвырнув собственный, с негодованием, будто башня, Эйфелем содеянная, и никаких, ни одного факела в руках возносящихся, ибо не вздымаем мы ничего, Андрей-то может что вздымающимся и имеет, но только воли своей супротив: вздыбилось ещё у дома Брута, и не опадает, однако же не оттого, что помыслы похотливые душу полнили, нет таких помыслов теперь-то уж наверное, решимость от священных озабоченников избавить человека хорошего имеется, а похоть любую решимость, в том числе и на дело своего исполнения направляемую, разжижает, глупая свобода, в руках с оружием на врага бросающаяся, застывшая в броске оном, а при том невольно напрягаются у неё мышцы, к делу не относящиеся, кровью наливаются не только белки глаз, отнюдь нет, и коли так, то решимость свободы разжижается потихонечку подводной рекой удовольствий жаждущихся, и тогда трудно сказать ради чего всё, особенно трудно, ибо мысль негодную можно если и не вырвать и отбросить, то вниманием хотя бы обделить, которое к другому предназначению направлено быть, и если с мыслью такое ещё совершить представляется возможным, то с мышцами нашими, не там напряжёнными невзначай, и особенно с органами вспучившимися, так не поступишь, их запросто можно как раз вырвать и отбросить, вопрос технический лишь, да что-то не хочется, спасибо, вы уж лучше сами себе это, а мы нет, но внимание не обращать трудно, хождение затрудняет весьма, а коли ещё сюда прибавить ненароком внимание к тебе другими обращённое, так вообще смех выходит один, хотя смешного что, смешно наоборот чаще выходить должно, развратники словесные когда только и делают, что о том говорят, что на деле у них никак не выходит, и смешно это не оттого, что не выходит, а оттого, что говорят, ведь речь от нас полностью зависит и не от кого более, Андрей думает ныне, и нельзя в речи о том уверять, что от тебя независящее, зависит, также как слова вот эти, тобой говоримые; думает Андрей ныне об этом почему-то, и нас удерживает себя подле, ну и пусть, всё равно мы опоздали, хотя и холодно на улице должно быть, снег ведь, ан нет, не холодно, чудно как-то, если уж не чудно, и речь от нас зависит только, но слова одни просто словами оборачиваются, а другие будто душу цементом каким скрепляют, либо кувалдой разрушительной крушат, и что это за небылица, похлеще видать снега на траве зеленой, от коего не холодно совсем, вот ведь, и ладно бы говорил слова человек хороший, а то вон извращенец в одежде церковной своей, отец Георгий сказал, и вроде пустяк, ан нет, Андрей и думает теперь о нём беспрестанно, и на то несмотря, что к другому готовится ныне, как раз об отце Георгии донести, что слушать его опасно и не нужно совсем, нельзя даже категорически, и на то несмотря даже, что органы его недолжно возмущены чем непонятно. И никогда что Андрей о том ранее не размышлял, сказать нельзя конечно, но думал как-то не в силу полную и дум своих ныне не вспомнил бы ни за что, однако теперь как-то всё обострилось невообразимо, и почему сейчас именно, эти мысли о том, на небе что, такие несправедливые со стороны священника этого скверного, зная о скверне коего заранее и чем закончится всё, ни за что бы не позвал к себе в машину, не ведает Андрей теперь того, что коли отец Георгий прав, то не позвать его к себе Андрей никак и не сумел бы, полагает Андрей отца Георгия в словах сказанных правым, но того не более, мысль ужасная без сомнения, будто Господь так вот может, без желания, взять душу Андрея немощную и пользовать к целям своим, рукоять будто скоростей переключения, нет Бог так со мной не может, ведь я не такой уж безвольный, и понимаем мы, что как раз расчёт мог бы идти на то, что именно Андрей так сказавши, вынужденным сам сказывается, и таковым образом сказавшись, уже и сбудет собой то, чему свершится надлежит, но это так, догадки одни и не более, мы ими Андрея могли бы вразумить попробовать, но вряд ли мы сможем подобное осилить в нашем нынешнем положении, тем более, мы менее других склонны отстаивать слова какого-то похороненного, уже хочется верить вполне, священника, это пусть Андрей там себе помышляет о чём угодно, да и как вразумить-то, коли полагает Андрей лестным себе, что сам Творец им воспользоваться решил, даже супротив воли твари собственной, не может на миг даже представить юноша этот, что отец Георгий к Господу сам отношение иметь может, ибо извращён священник этот, а Господь никогда плохими людьми пользоваться не будет, и того, что в извращении плохое что может вовсе и не иметься, этого тоже Андрей даже не думает, но пусть себе фантазирует, у него же крест отца Георгия отцу Дмитрию предназначенный в руках ныне, поручение так себе, Господь мог что и посерьёзнее придумать, не спешит Андрей даже это простое поручение исполнить, хотя не сомневается, что справится с ним вполне, надо только обставить дело правильно, дабы креста вручение сказалось поучением и таким упрёком Дмитрию отцу, от коего устыдился бы святоша неизвестный, но в друзьях более чем известного и не самым лучшим образом имеющего, однако слова отца Георгия решать мешают Андрею, чепуха в голове, это тело моё и кровь моя, конечно-конечно, глаза Иисуса долу склоненные, крест в руках не нагревается нисколько, иллюзию даже Андрей обретает, будто холодеет крест тем шибче, чем долее в руках содержится, но иллюзию эту разоблачили уже враз и навсегда физики учебники школьные, не бывает такого, учебники никогда врать запросто не умеют, в отличие от священников, а того Андрей опять не видит, что учебники врать не умеют потому только, что и в истине им отказано враз и навсегда, а возмущение ложью верный признак присутствия истинного может быть, в том числе истинного присутствия лжи, в истины одеяния облачённой, а может и не быть, вполне себе одно возмущение другим вызывается, и тогда как мартышки с картинки детской держатся за руки и ноги по цепочке, и зависают над пропастью, на дне коей никакая не фальшь, и истина тоже никакая, а камни и проросшие меж них кусты сухие колючие, вот как возмущение быть умеет, и вспоминает здесь Андрей о Господа ладонях, и снова что-то душу его смущает, так бы и написал, коли писал бы: что-то душу мою смущает, и слова те были бы всех остальных правдивей, но другой посмотрел бы и сказал: банально, дружище, надо бы как-то чтобы забирало, понимаешь, а у тебя слова какие-то всё архаические, не чувствуют сегодня люди так, понимаешь, не бывает так нынче, как и чуда Откровения сегодня быть уже не может, кончился высокого слога век, и библейское время кончилось, из головы это выбрось и делом займись, а то это всё от делать нечего, радикальнее надо; закуривает Андрей, органа собственного касается, кивает неодобрительно на сидение, в коем недавно тело отца Георгия разговаривающее обреталось и сильное к тому же, будто желает Андрей взором своим упрёк священнику высказать: как же вы, отец Георгий, слова такие, хотя и возмутительные, и даже смутительные, сказываете, но интересные не менее от этого и даже более от этого интересные, чёрт бы вас побрал, обязательно так надо было бы сказать, про чёрта тут, священнику это приглянулось бы, коли порочный он настолько, как этот вот, тут сидевший, и снова пустое сидение и возбуждение рукой ощущаемое излишнее, ибо бесполезно ныне оно в свете предстоящего, заграждает свет предстоящего своим стоянием, зачем слова ваши с делами разводите, так красиво о Боге с руками Его, а мальчиков хватаете нескромно весьма, себя Андрей за мальчика почитает, и кроме того, полагает наивность такую, слова будто должны как-то с делами соотноситься, вместо того, чтобы пугаться тех, у кого слова, ветра сотрясание, с делами в гармонии, всегда пропасть за такими людьми, и извращения такие, которые Андрею и не снились, а ведь есть есть, и коли всё есть, то пусть, пусть скажет нам теперь юноша: как связаны слова о Господе с тем, чтобы мальчиков хватать, пусть скажет, как первое со вторым расходится, и оставим будто решённым предположение о целях отца Георгия, будто именно задавшегося только мальчикохватаением и ничем более, и опять же к этому оснований у нас нет никаких, кроме разве слов здесь сказанных и понятых непонятно, но разве можно нашим словам, да ещё здесь сказанным, доверять, вообще словам доверять, если это только воздуха сотрясание пустое, да ещё несовершенного весьма рода, ибо воздух лишь у рта сотрясается, и даже листья древесные не колышет, духом еще зовётся, а ветер вон, посмотрите, не ощущается даже когда нисколько, трясет стволами древесными у вершин их, к небу обращённых, хотя лилий полевых и птиц небесных касается не столь прямо, а ветер что, тоже воздух, просто трясущийся, но и Дух конечно Святой, но для Андрея Дух Святой пока ветра незначительнее, к тому же и ветра ныне нет, когда снег падает, и Духа Святого нет сейчас, до того не было и после не будет, даст Бог, Андрей думает, ветер только, да пожалуйста, иногда очень приятно, странно, теперь ветер обязан быть просто, когда снег падает, хотя предшествовать мог бы такой катаклизме погодной, с него бы не убыло, словам верить нельзя никак, говорит Андрей и верит своим словам этим, но сказанное отцом Георгием о Господа ладонях странно, ведь голова кружится оттого только, что сейчас, вот в этот миг самый, Господь мир сотворивший, имеет к Андрею отношение своеобычное, да не просто своеобычное, держит его рукой Своей, Андрей же что держит; и убирает Андрей руку невольно с ширинки своей вспученной, по поводу состояния обиталища коей он Бруту ничего не сказал, но стыдился, как-то нелепо о священнике говорить в гневе распаляясь, при том возбуждение неимоверное имея и непрекращающееся при этом, почему-то уверен Андрей что слова здесь с делом должны быть согласованы, и о священниках иначе как в состоянии бессилия полного полового говорить надобно, дабы совестные угрызения при этом душой собственной не претерпеваемы были, и от уверенности такой в себе ищет Андрей ныне повода отца Георгия поупрекать за то, что слова его с делом расходятся, или за то, что вольность имеет священник такую, коей позволить себе никто не может, Андрей вот к примеру, не может, откуда наглостная такая свобода, уж не от Бога ли, скептически Андрей улыбается, докуривая сигарету, при этом того, что его собственные слова у Брута, и предстоящие, с телом его расходятся, не заметить не может, и совестно, надо смолчать о том, а может перед этим в снег что опустить, от холода чтобы того, как при должном разговоре со священниками, бессилие обрести половое, и у Марфы ныне непременно молчать придется о расхождении тела и дела, ежели снег не поможет чудесный, в чудесности коего усомниться можно без усилий особых, и возможно отец Георгий так же истиной горит, как Андрей ныне гневом на отца Георгия, и это о ладонях Господа, а тело священника другого просит, и тогда ему можно в говоримом хотя бы верить, а в делаемом понять, вылечить и пожалеть разве что, ведь он не иначе как в делах своих над собой не властен, болеет наверное, непременно болеет, и тогда то, что Андрей о словах думает, в этом ничего необычного нет, хорошие слова отец Георгий сказал, но от девушек и людей доверчивых, а каждый доверчив в отношении извращённости, коли не ведает о наличии оной, ограничить следует этого отца Георгия, тем паче, что не ощущает теперь Андрей, по размышлении, и сигарету выбрасывая за стекло приспущенное автомобиля своего, ощущает по размышлении таком, неимоверно по времени длительном по меркам в жизни его заведённой коли, мерить время это, что Господь какой-то там держит кого-то, и в ловушке Андрей, коли Господь его не держит, ибо не верит в Него Андрей, но теперь уже совсем глупо говорить кому-либо, тому же отцу Дмитрию, например, ведь наверняка он не менее негоден, чем товарищ его крестами сыплющий, глупо говорить: не верю в Бога по причине того, что у Него ладоней для меня не достало, одной хотя бы, тем самым выходит, всё равно как бы приятие того, что как-то отвергнуть хотелось словами этими вот, странно как-то. И пока Андрей теряется, сказать следует ещё, что может, напротив, он обретается, хотя мы этого не знаем, и ежели кто решил себе что-то о происходящем, просим уведомить заранее нас о решении своём, пока ещё силы имеются слова эти говорить, ибо необычайно весьма, чтобы из неопределённости здешней тамошняя металлическая чеканка вышла, хотя бы усмотрена быть могла, ведь и предупреждали заранее мы, это всё не этим может вполне сказаться, а тем или вообще другим напрочь, в одном уверены вполне, разве пока силы теплят: не окажется этошнее полным ничем, статус подобный не так-то легко может быть заслужен, и уж явно не через писанину рода такого, гнев будет, раздражение, и то хорошо, к делу сгодятся, ведь они чем-то вызываться должны же, а как без гнева на земле прожить, сами же раздражение с гневом таковы в природе своей, что мало заботит их: чем они, собственно, к жизни вызываются, в отличие от детей, которые с возраста определённого очень даже думают о процессе, который к жизни их вызвал, а потому останемся при своих словах мы, и при гневе гневные, и при раздражении раздражённые: сказав что-то, остаться так, будто молчал и рта своего раскрывать даже не помышлял, искусство это особое, люди владеют им в совершенстве, достаточно послушать речи их, а наши нет, не надо, лучше других слушать, они хоть в качестве девушки, могущей вполне быть австралийцем с бутылкой пива, уже с другой бутылкой. австралийцы пьют пиво не медленнее других наверное, надо выяснить позже, это ж ясно, хоть в таком качестве будем слушать их, тем более говорят они не смолкая нисколько, знай только слушать поспевай, и не хватит всех ушей в количестве избыточном два, и не спрашивайте более: на лице уши или нет, не ведаем, сказали же уже, а посему мы слушаем то лишь, что успели, и того не слышим, к чему опоздали, можем придумать конечно неуслышанное, но таланта вообразительного лишены, как впрочем и остального всего. Зато достоинства у кого есть ежели, или кто почитает что за достоинства свои, и никто в этом почитании не опроверг его, тот это выставить всячески стремится, как Марфа это сегодня сделала, как Мария это сегодня сделала, хочешь или нет, а вспомнишь сосцов описание в песней песни, хочешь или не хочешь, ежели конечно знаешь о Соломоновых словах, а раз так, то невольно вспомниться могут они, коли не просто знаешь, а хорошо знаешь, отклик коли эти слова в душе знающего обрели ранее, отклик искренности, с коей одуванчик через трещину в асфальте по весне к солнцу тянет себя, на такое вспоминание человек специфичный весьма лишь сгодится, имеется конечно любой, кто прелести девушек молодых, ежели прелести эти ещё и подчеркнуто весьма выставлены ими самими, оценить сможет, но чтобы оценить по словам Соломоновым и о сосцах помышлять библейских, тут калибр особый требуется, конечно, человека, а не сосцов, ведь у Суламифи не вымя какое-то там невероятное, а груди девичьи, которые в тринадцатилетнем возрасте имеются, упругие, башни две будто на стене одной, девушка она помоложе будет Марфы, и помоложе будет Марии, возраста одного обе, и сосцы разве что у них схожи, но это только догадываться отец Дмитрий может, ибо хотя и наряжены девушки соблазнением чрезмерным привлекающе, не раздевал их отец Дмитрий, и не помышлял о том, мы ведь так и не знаем о чём он помышляет, лишь о том говорим, о чём не, и это уже давно началось, и вряд ли собирается отец Дмитрий осмотр сестёр этих медицинский осуществлять, хотя взгляд его безучастный, в себя будто погружённый, по груди то одной, то другой из сестер часто шествует, замедляясь на подъёме, скатываясь на спуске стремительно, будто о сосок спотыкаясь, как по чужим головам совестно ходить, даже если они в шляпах идеально высоких, а что же это всё как не шляпы упругостью подбитые, о форме шляпной, цилиндровой почти догадаться нетрудно весьма, ибо обе в платьях обтягивающих, длинном и коротком, но ничего нагрудного не надето под платьями этими, и вообще мы это так говорим только, будто взгляд отца Дмитрия в себя погружён, по причинам двум хотя бы не так всё это: потому что физиологически процесс этот осуществись он лишь, вызвал слепоту бы и боль неимоверную, Рильке маска посмертная, который когда-то Марию ведь тоже любил, не эту конечно, а эту встреть, тоже мог бы вполне, почему бы и не полюбить, она сама не против весьма, а отец Дмитрий не Рильке, и если даже стихи писал бы прекрасные, знак счастье человека, но едва ли кто сможет разгадать его секрет, и Марию эту любил бы, всё равно пока ещё не умирает он, и глаза его внутрь себя направляющиеся, видят больше, чем если теперь священник воззрился бы на то, что пред ним выставлено сёстрами дразнящими, надо видеть что есть, а не что показывают, хотя, так возможно отец Дмитрий не против был бы соблазниться, и если так, то уж почитай и соблазнился, желание соблазна не иначе соблазн и есть, не будем мы торопиться если уже и опоздали к началу, побудем до последнего или до последней, это смотря кто останется, терпения наберёмся к тому и не более, запасёмся ветвями оливковыми и венцами терновыми на случай неожиданности какой, и потому ещё отец Дмитрий не вовнутрь глядит, что сёстры видят как взгляд его растерянный путешествие Веспуччиево свершает, без четырех кораблей своих, но вершины четыре для взора предстают ему поочередно, и видят сёстры как взгляд его спотыкается, и на чём спотыкается видят, и даже видят как на другую начинает забираться с одной скатившись, видят обе, но по-разному весьма, одна похоть различает лишь, другая способ от похоти избавиться, ежели она всплывет, точнее не всплывет, а выпирать будет коли, а потому лучше уж смотреть на то, что заранее выпирает, так похоть можно не заметить вовсе, и первая радуется, что её заметили, и огорчается, что священники едины со всеми мужчинами в этом отношении прочими, а другая огорчается, что прелести её и сёстрины лишь повод о ней самой не думать и о прелестях, которые у неё имеются также, и рода более интимного, позабыть чтобы, и радуется, что священник делом поглощён, и то, что говорят они, слушает внимательно непритворно в деле всамоделишном, а не как другие мужчины, для коих слова женские будто птиц небесных щебетанье крикливое, на которых охота идёт, сравнивать себя с утками дикими не желает другая, а какая из них Марфа, а Мария какая говорить пока спешить не будем, ведь мы не торопимся никуда, не потому что мы их не различаем, чего ж тут различать особенного, одна в платье голубом длинном, другая в сером коротком, уже достаточно, чтобы их не путать, а об именах могли бы у отца Дмитрия осведомиться, он их отлично различает, у него даже и мысли нет о том, будто они в чём-то схожи меж собой, а поскольку он занят теперь, могли бы спросить у родителей, но нет родителей теперь, ни матери по ночам плачущей, ни отца начальствующего в стиле дубовом, туго ветру поддающегося, который вместе с ветром Дух Святой, с основания и до верхушки туго поддающийся, и будь на вершине листва к небу взывающая, ещё могло бы быть, но у верхушки лысый уже, хотя даже ста лет ему нет, возраст детский весьма у дубов, ежели они только плоти не человеческой, а деревяночьей, коры значит; но нет родителей, они сегодня не приедут и завтра не приедут, и будут лишь к Пасхе вечером, они в Германии у дяди сёстричного, брата мамы их грустной, дяди, коего отец обхаживает, будто удобрение в корни свои, надеясь отростки дубовые пустить, и пустил бы наверняка, ежели они дубами были бы, а не дубовками, дочь надо ему туда отправить, и заботу о том имеет, Марфу, и дело тут ясно чем кончиться может, но мы не торопимся, мы даже девушек не именуем по именам их, но лишь в сером видим ту, что ноги свои кажет ныне, и в голубом ту, что ноги не кажет, но если кому хочется посмотреть, коли только не отец Дмитрий это, который сходства не наблюдает, ежели кому хочется поглядеть на ноги той, что в голубом и скрыты под платьем длинным изящным, пусть воззрится на ноги той, что в сером, ведь их видно так пронзительно, даже черную кайму плотную чулка облегающую и с нежной кожей граничащую обнажённой, видно, они же близнецы, а посему почитай, что это одна в разных нарядах сразу красуется, почитай сколько пожелаешь, ведь за почитание в душе схоронённое никто, кроме Господа и не спросит, да и Господь не обязательно, почитай, ежели ты не отец Дмитрий разве что. А он, отец Дмитрий, впрочем и Господь тоже, видит: сёстры взгляд его ловят, но взгляда не стремится этого своего избегать нисколько, глаза прятать, взор тупить, сбегая от того, что глаза видят, как раз выдал бы тем самым он, что на уме у него то, от чего взор бежит, а ныне на уме такое, что непросто весьма в зависимость прямую от грудей женских ставить, и в том, что говорит он, возможностей больше, чем усмотрено очами телесными может быть, в том, что говорит он, всё, быть что может и стало быть ни при каких обстоятельствах не случится что, возможности больше увидеть взгляда его особенности спотыкающегося; но не все сестры в мере одинаковой речи слушают, с ним сами которые ведут, одна из двух видит как взгляд на грудь обращается то её, то сёстрину, другая видит, что взгляд спотыкается, и видимого не видит, и не озабочен увидеть нисколько, и нет в этом удивительного ничего такого, лишь в романах и то самых значительных, да в стихах, где не чувство какое важно, каким бы ни было оно, но слово, чувство какое важно, каким бы ни было оно, вместить могущее, да ещё и на месте своём стоящее и других слов не теснящее нипочём, лишь там к речам прислушиваться надобно, а к тому ещё и слух слова слышащий суметь надобно иметь, чаще ведь слова неслышимы, лишь то к чему и ради чего они говорятся выслушивается из них, а сами они отбрасываются упаковками несъедобными от вещей нам привлекательных, пропускаются ушей мимо и ума мимо, что в словах-то мы не слышали, эка невидаль, а чтобы услышать, нам уже косноязычие требуется особое, дабы слова слухом не слышащим в воронку будто толкаемые, стеклом стали во рту пресытившемся и разорвали внутренности отведать их вознамерившегося, привыкшего к кушаниям изысканным да разжёванным до попадания на стол ещё, такие слова болезненно услышать можно лишь, и нам не больно, мы вполне здоровы, ушам больно стать должно, коли они слушать начнут всегда слушаемое, но никогда не слышимое, таковому положению дел быть надлежало бы, коли мы со словами дело имели бы, но то лишь в романе хорошем, не в пример истории нашей, которая не в силах протиснуть себя в ряд слов прочих наговорённых, и потому не себя, отсутствующих, слушать будем ныне, но то, что говорят, да и как услышать то, что наговорено никогда не было, а если то возможно, то само собой происходить должно это, и не наше дело вмешиваться в порядок непонятно заведённый, в искусство неслышимое слушать, и не вовремя ныне, совсем не вовремя, и так опоздали уже до невероятия, довольствоваться теперь без ропота надобно имеющимся, будто провинились, конечно же провинились, историю говорим и сами к ней не успеваем, а имеется со взглядом блуждающим отец Дмитрий и с речью чёткой говорящий сёстрам слова такие: не может быть такого, говорит отец Дмитрий, а по поводу чего говорит, не говорит, и мы не ведаем, опоздали же, и ежели за кокетство это воспринимается от нас исходящее, то поклясться можем и землю начать кушать в подтверждение искренности незнания этого нашего, и клятву эту нарушим тогда лишь, когда выскажется что-то, о чём отец Дмитрий теперь: не может быть такого, и тогда мы клятвопреступниками станем сразу же для всех, а для себя уже, в миг сей, как о клятве заикнулись, но почём мы должны за отца Дмитрия отвечать, и к тому же кокетничающими нас представить не легче, чем клянущимися, равно как и клятву нарушающими, а ежели кто будет обратное утверждать, то он, не мы, лжецом будет, наше дело пока говорить об услышанном, а не додумывать несказанное, и хотя последнее, чаще всего, способ к первому дорогу единственную найти, не мы её искать будем и путём этим не пойдём, не собираясь так и впредь поступать; беда одна разве, что у нас как для услышанного рассказа слова имеются лишь, так и для несказанного никогда, тоже лишь слова, и ими мы и то и другое должны говорить, легче Мюнгхаузену себя из болота, чем нам всё развернувшееся, и нет ничего кроме слов у нас, да и нас собственно нет, вот что упрощает задачу, а Мюнгхаузен у себя был, мы же остальных не хуже всех, вон и нас также нет, и ежели когда быть могли, так со всеми вровень упустили можество своё, не отстали от других, успели упустить сказать можно, а что ж нельзя, благо это не поздно никогда, в отличие от успения к отцу Дмитрием сказанному, и остается обрывок из слов четырёх состоящий, не может быть такого, какого такого не ведаем, да и что ведать о нём таком, коего быть не может, разве ради того, чтобы отцу Дмитрию не верить основание у нас имелось бы, но как иметь основание это, слов не слыша, фразе предшествующих, а если умудриться так их всё же заиметь, то признак верный будет неприятия нами отца Дмитрия всецелого, но быть такого не может, это он Андрею пока неприятен, и то лишь вследствие замысла, у Андрея имеющегося, с которым в согласии отец Дмитрий и отец Георгий каким-то образом одно и то же суть, но не бывает человек с другим человеком одно, ежели только не сливается в объятиях любовных с кем, а что отец Дмитрий с отцом Георгием могли бы таковыми быть, Андрей домыслить может лишь, на то домысел от мысли и отличен, что нужен, когда мысли не хватает, но никто так не видел прежде этих людей сливающимися, чтобы двое одним стали, а теперь и во времена грядущие вообще вряд ли мы этого зрелища удостоимся, ибо один из них мёртв весьма, и не человек есть, а тело лишь гниющее, пусть Андрей того и не ведает, но отец Дмитрий ведает, и не Андрею сливаться надобно, живой человек стать одним с телом гниющим другого не сможет никак в уме находясь, ежели только тело гниющее не прозвище наше грубое для всех людей живых, но не таковы мы, и к прозыванию наклонностей не имеем излишних. Как это всё печально, та говорит, которая в сером, и удивительно и странно, та, которая в голубом добавляет, и тогда уже та, в сером которая, смотрит укоризной показательной, которую отец Дмитрий должен разделять с нею по представлениям её собственным, нельзя же так: но отец Дмитрий, взгляд ещё его блуждает отрешённо для одной и похотливо для другой, спрашивает, что видят они печального и что удивительного видят они, и ежели соотнести слова его, будто к глазам собственным спрошенные, то комично весьма, а не комично если, то уж точно ничего печального в усматриваемом нет, и если бы отец Дмитрий настаивал на печали и внушал ее глазам собственным, то сёстры, одна из них точно, оскорбиться могли бы, но отец Дмитрий не утверждает ничего, и не у глаз своих спрашивает, и ответ первой звучит: печально, что вот так вот был человек и нет его, но долго весьма отец Дмитрий не отвечает ничего на это, и не потому вовсе, что осознал всю глубину этой фигуры речи риторической, о смерти якобы что-то говорящую, напротив, в бессилии руки опустил бы, ежели не лежали они у него уже на коленях сейчас собственных, и собственных можно особо не дополнять было, на чьих же ещё, нет, не погрузился отец Дмитрий в размышление, пустотой спровоцированное сказанного, и ежели так было, не поручили бы ему подробности выявлять отца Георгия смерти касающиеся, напротив, от бессилия опустил бы руки, да некуда, но взор свой опустить сумел на покрытие ковровое цвета бордового, дубы человеческие коврами красными любят свою неукоренённость от взоров посторонних укрывать, будто ступающий по настилу красному половому значимее и глубже в мире оседает оттого, хотя ещё Марк Аврелий языческий пурпур императорского одеяния, в который сам одевался нередко, разоблачил убедительно весьма, да так, что император при одежде остающийся, еще хуже короля голого предстаёт, и помнит отец Дмитрий размышления Антониевы, да не о них ныне помыслы его, ибо следует от риторики пустой беседу избавить, но видно уже по пред этим сказанному и лишь сказанным предполагаемому, не избавиться и не преодолеть риторики здесь, иначе разве что духовником сёстриным быть, да не к этому сейчас дело идёт, и отец Георгий был духовником у одной, а риторики в ней осталось немало пустой, и не делась никуда, и ныне предстоит её ухабами на дороге претерпевать, к цели ведущей, непрямой к тому же, хотя бы по причине неясности цели этой самой, ибо появиться она должна наитием, разговором наведённым, и сказать хотелось бы, что надо слова слушать внимательно те, которые сам говоришь, тем более, в словах Бог живёт, где же ещё, не в космосе же этом чёрном, но и диавол в них живёт не менее, а где же ещё, не в недрах нефтяных же сальных; ухабы претерпеть можно лишь подстроившись под оные, ежели спешишь и нет времени или желания впереди себя дорогу поровнее уложить, и говорит отец Дмитрий не то, что думает, и неудовольствия обессиливающего не кажет никак словами своими этими: удивительно не то, что человек умирает и нет его, а более удивительно что вообще есть он, и что чудо это осуществляется постоянно, живёт человек покуда; но в сером коротком платье сестра прерывает отца Дмитрия и заявляет уверенно весьма: ничего удивительного нет в том, ибо процесс естествен этот, и даже краснеет немного, процесс человека появления на свет: на что в синем ей говорит уже, а не отцу Дмитрию, чуть задумавшись будто о чём: если это естественно, то и смерть естественна; но не так интригующа, со смехом вторит сестра ей в сером которая, и отец Дмитрий говорит, улыбку не скрывая от остроумия сестёр, и не понять сразу, улыбку ли вежливости или смешно потому что, хотя почему выбор здесь, вполне вежливость весёлой быть может, и уж точно веселье вежливым, что редко хотя случается, говорит он, что удивительным является то, вообще можно что на естество некое сославшись, к деторождению ныне, например, ощущений удивляющих не испытывать, что самоё это естество имеется удивительно как, не имейся оно, было бы понять его в отсутствии его возможно, как мы отсутствующих людей, к примеру, легко себе понятными представляем полностью, пока не явятся вновь; и ведёт к отцу Георгию что ли, думает Мария, а Марфа понимает сразу, к отцу Георгию слова сказаны, но имея возможность слушать произносимое ранимее сестры своей, она с отцом Георгием вместе и об Андрее думает не менее, и в сердце своём тоску находит, но находкой подобной не удивлена нисколько, ибо знает хорошо уже, где именно тоска эта покоится, с какого времени и по кому, и всё бы хорошо когда знаешь всё хорошо, да беда тут имеется: тоска в сердце не может иначе покоиться, кроме как через сердцу терзания доставляемые и посредством беспокойства причиняемого значит. И теперь уже от взора отца Дмитрия не ускользает никак: Марфе взгрустнулось, и взгляд его охотничий сёстры никак не распознают, отчуждённым или похотливым его примечая и только, и не специально отец Дмитрий их бдительность ослабляет приёмом этим взгляда своего, не приём это, но манера для него исключительная внимание не упустить собственное восвояси, сосредоточенная ловля которого завсегда неудачной выходит заведомо, а посему блуждание поиск есть вернейший, и поиск вернейший не иначе как блудом оборачивается мерзостнейшим, а теперь для блуда время не то, потому блуждание охотное, которое охотой само выходит негаданно удачной: загрустила Марфа, о простоте отсутствующих скорбя, и отец Дмитрий вина белого сёстрам подливает, себе красное до верха, ножка бокала изогнута похотливо и видят глаза отца Дмитрия не ковёр только, но щиколотку ноги девушки молодой, в чулке чернящуюся, и улыбка у него не исчезает, замечанием о деторождении вызванная, однако другому теперь улыбается улыбка эта. Быть возможность при простоте случая не быть никогда, подлинный путь к Богу, и пройти по нему нельзя ни шагу, ибо шаг любой не иначе как отступлением и соступанием падящим будет с пути этого, и к Богу лишь стоять можно, но стояние это усилий требует больше бега любого изысканного, сколь угодно тренированного бега, говорит отец Дмитрий, и в сером которая сестра сказанное выслушав, пальцем по бокала с вином кромке ведёт так, что, будь пустым бокал, зазвенел бы колоколу подобно, но не пуст бокал, как в колоколе язык, вино здесь, и пригубила вино скромно в сером сестра, и побольше её в синем сестра, но не о ней речь, а о первой, которая спрашивает: а занимались ли вы, отец Дмитрий, спортом каким и быть может, ещё пальца оборот с ногтём цвета кровавого яркого, и теперь занимаетесь, быть может: и вздыхает отец Дмитрий с облегчением, но в душе вздыхает, а на деле не кажет в лице своём изумления от вывода из слов своих к спорту ведущему, ибо не нравоучительная беседа это, и не годится отец Дмитрий в учителя нравов ни благих, ни святых, ни грешных, и делая три отпития вина красного, глядит весело на ту что в сером, и на ту что в синем ещё веселее, и выходит та, что в оцепенении, из оцепенения, ибо интересно сёстрам обеим: что отец Дмитрий скажет им, ведь про него они не знают ничего почти.
Говорит отец Дмитрий, на руки в сером которая глядя будто заворожено, так расценивает взгляд этот сама она, в сером что, а отец Дмитрий не расценивает взглядов, не на рынке он, чтобы цену усматривать, говорит просто что к спорту склонности не имеет, и не было никогда её, ежели за спорт не почитать умение ставки делать важные, при этом не играя ни во что; а почему же не считать, легкомысленно весьма, игриво уже, спрашивает в сером которая и добавляет: как это интересно необычайно, что же вы имеете в виду; а в синем сестра ещё напряжённее стала, и над бровями её появилась складка тревоги прямо-таки: ничего особенного, отвечает отец Дмитрий, и даже намеренно своей собственной игривостью переигрывает игривость спрашивающей его: веру в Господа Бога в мире сегодняшнем вот что, и тут уже в синем которая в беседу включается, и в голосе её, в отличие от сестры, уже нотки железные, и негодование скрываемое дурно слышится: да как же вам, отец Дмитрий, речи такие говорить пристало, ведь вера не может вами в качестве достояния какого особого выпячиваться, и при слове этом выпячиваться невольно опускает отец Дмитрий глаза от лица её к груди её, и тут же вновь поднимает, но движение это незамеченным не осталось ни одной из сестёр: и негоже вам, продолжает в синем которая, теперь тут перед нами сидеть и вино пить с нами, это в день-то такой непростой и особо трагический, а на службе быть надобно, и замолкает резко она, и отец Дмитрий молчит, и видит как машинально палец той, что в сером по бокалу ещё бессмысленно движется, но опускается рука к бокала основанию и замирает, чувствует сестра в сером, что сестра в синем возмущение недолжное, и пусть искреннее, сейчас выказала, и к неловкости беседу всю привела, и хочет исправить всё это, но как не ведает, и растерянно глядит на отца Дмитрия и на сестру свою поочередно, но ни родственность по отношению к сестре, ни похотливость лёгкая игривая и манящая, по мнению её, в отношении отца Дмитрия не работают пока, и отец Дмитрий, не растерявшийся нисколько, а лишь в своих целях промолчавший, отвечает на возмущение это в словах прорвавшееся, и спокойно, да с улыбкой ещё, говорит, что он не себя имеет в виду, а тех, кто веру свою выставляет напоказ, сами душе относясь к ней с азартом, и при этих словах смотрит прямо в глаза той, что в синем, и та, что в синем вздор вдруг свой потупляет и на ковёр красный воззряется, а отец Дмитрий добавляет, что порода этих людей вполне Господу угодна, вероятно, но совсем дело иначе выходит, ежели игроки спорта этого веру в Бога лишь как прикрытие для игр рода другого претворяют: и на словах этих та, что в синем, с места резко поднимается, и взглядом гордым присутствующих свысока окидывает, и это особо легко ей даётся весьма, поскольку стоит она, а они сидят, и может свысока взгляд не гордость, а растерянность казал, но кто ж его видел, в любом случае, не пользуется вставшая своего взгляда преимуществом никаким, напротив, резко садится обратно, и ещё смиреннее взор свой склоняет, будто кается в чём-то, в словах ли отца Дмитрия уличенье, в своей ли реакции на них гневной, в том и другом сразу, либо же в чем-то своём, нам неизвестно, но только тишина неловкая вовсе наступает, в которой та, что в сером и ноги кажущая, сигарету берет длинную дамскую из пачки, что отец Дмитрий с собой принёс, закуривает, и так вот пальцами своими с ногтями красными держит её деликатно, и дым через чуть приоткрытые губы свои тонкие кроваво красного цвета вперёд змеёй длинной тонкой пускает, и доползает змея эта до бокала отца Дмитрия, уже разжиревшей вполне, и туманом обращается, в коем бокал поглощает, и лишь затем вверх, тяжелым и бесформенным клубом, поднимается. Когда три волны спадают таких, а точнее сказать, вознеслось когда три таких облака тела змеиного, бокал в неприкосновенности оставляя удивительной, берёт его в руку отец Дмитрий, глоток делает из него небольшой, и говорит в непринуждении совершенном и даже в веселии некотором, к той что в синем обращаясь и к той что в сером: итак, сон был с ангелом, и как ангел этот выглядел, и дивятся сёстры вопросу этому некстати спрошенному, ибо не об ангелах, ни о снах, ни об ангелах в снах встречающихся, ни о снах, в коих ангелы обитают до сего момента речи не было, а откуда мы об этом знаем, ежели кто-нибудь спросит, ведь мы же опоздали к началу, то ответим легко весьма и не утруждая себя нисколько: посмотрите, скажем мы, на лица сестёр этих смущённые, и что это как не аллегория врасплох заставания, и та, что в сером дивится вообще этой теме, и не возьмёт в толк никак слово итак, которым отец Дмитрий заговорить сейчас сумел, а та, что в синем тему как раз в толк взяла, и потому дивится еще больше её появлению теперь именно, и, в отличие от сестры, видит в этом слове итак не некую неуместность и невнимательность, но указание прямое и определённое на весь разговор предшествующий и на последующий, и тревожно ей делается, и уже не гордость, не смирение, но удивление, бессилием перемежаемое, взор её сопровождает в странствии круговом, а отец Дмитрий ещё вино пригубляет, от темы вопроса отвлекаясь, будто случайно вылетело, говорит к сестре в сером обращаясь более, что теперь пятница Страстная и день для христиан, для всех нас самый траурный, и траур этот необходимая ступень к самому светлому Воскресению есть, но это мы теперь знаем, что Воскресение есть, что делает траур весьма условным, и когда уверены в Воскресении этом как в куличах пасхальных вовсю уже в магазинах продающихся, то от самой нашей уверенности есть шанс не быть Воскресению, ибо оно тогда осуществляется лишь, когда чудесно оно, и это во-первых, а кто же сегодня в чудеса верит, например, ежели ангел во сне явится, но это ещё ничего, подумаешь, подавленное желание похотливое или страх какой, вот и весь ангел, но во-вторых помнить стоит, что Воскресение Господне равно как Рождество Его, Крещение и Пятница Страстная не исключение, в отношении календарном не более как условность, что видно уже из различия в календаре церквей некоторых, и это лишь договорённость, хотя известно достоверно, что когда случилось это, то в Иудее Пасха была своя, но ничего это не доказывает, и напротив даже, помнить призывает, что каждый день это день Божий, а посему одновременны в душе воистину верующей рождение, смерть и воскресение, и никогда троица эта не должна души её содержащей образом самым памятливым покидать, хотя, добавляет он, и ещё глоток вина делает, совсем легкомысленным выглядя уже в глазах той, что в синем: хотя, моё здесь нахождение всем этим не оправдывается и оправдано быть не может, и не следует даже этого делать: и при этом отец Дмитрий на ту, что в сером смотрит улыбаясь, в муках Христовых повод видеть к чему бы то ни было, ни к праведности показной, коей Господь не усматривает, ни к лёгкому и приятному времени провождению с двумя столь обаятельными сестрами, и Господь повод к нам единственный для нас всех в целости жизни нашей, а мы для него повод вероятный и завсегда почти заведомо не ведущий повод, будто у лошади удила выскочили на ходу быстром, и не знает о том возница, куда понесёт кобылу сию, и чёрная она или белая, а может и обе в одной упряжи, и тогда никуда не понесёт, и ещё раз вино отпивает, и сёстры меж собой растерянно переглядываются, никакого знака тем самым друг другу, впрочем, не указывая и ни о чём не уславливаясь, ибо не ожидали таких слов, и что с ними, здесь высказанными и тишину праздную наведшими, делать также не ведают. А отец Дмитрий рукой своей крест большой на груди поправляет и вопрос прежний повторяет в том же тоне игривом: итак, говорит он, сон был с ангелом, и не поспорить с этим, не правда ли, добавляет он весьма удовлетворённо и улыбается ещё пуще прежнего.
И снова ответа не последовало на слова эти, и будто не ожидал услышать их отец Дмитрий, ибо улыбка его нисколько не померкла, а увереннее даже стала, и вопрос этот превращается в мотив вагнеровский, стало быть, герой когда появляется или подразумевается какой, но пока герой неизвестен для сестёр, по мере меньшей, и для самого отца Дмитрия неведом герой вопросом этим на сцену вызываемый, по мере большей, и говорит отец Дмитрий вновь с вопросом собственным слова никак не связанные на взгляд первый и второй, значит, Марфа, ты с Андреем помолвлена была, и та, что в синем отвечает тихо: да, кивает при этом, и мы узнаём, стало быть, что Марфа в платье синем длинном, и вторая ещё не названа, в платье сером коротком, но мы догадываемся, на это ума нашего и то хватит: Мария это, и Марии этой рука снова оживает, начинает по бокалу вверх ползти, дорожку острую ногтём звона ведя, и рука эта будь у неё глаза, кокетливо на отца Дмитрия устремления свои обратила бы, сама же Мария впрочем на Марфу глядит, будто впервые о том слышит, что о помолвке спрошено, но взгляд этот тоже отцу Дмитрию предназначен, осуждающий по отношению к сестре собственной, отца Дмитрия в сообщники взять взгляд тот желает, но не берётся уже второй раз в нашем присутствии, ежели считать, в сообщники он, и глядит на Марфу пока отец Дмитрий: как же батюшка твой к помолвке этой относился; хорошо относился, Марфа говорит, и горестно ей становится оттого, что во времени прошедшем говорить приходится, Андрей папе нравился, входит Марфа во времени раж прошедшего, он старательный и многого добьётся ещё, замолкает Марфа и добавляет тут же: пока так полагает; и желает отец Дмитрий вопрос следующий задать, но тут сестра Марфы фыркает как-то насмешливо чересчур, и у неё есть основания к тому веские, коих мы приводить здесь не будем, как отношения к делу не имеющие, но Марфа на сестру взглядывает поспешно с каким-то лица выражением странным, страшным чтобы не говорить, и ещё поспешнее к прежней робости своей возвращается. А ты как полагаешь, Мария, спрашивает отец Дмитрий, на руку Марии по бокалу кружащую глядя, Мария довольна вниманием и довольна ещё более тем, что внимание это о себе распространяться не требует нисколько: полагает Мария, что о других говоря, себя никак не распространяет, отчего вырабатывается у неё, во внимании привыкшей находиться, представление о себе, будто нетронутой никем, внутри которая покоится, якобы сокрыто ото всех, и гордится она собой тою, глубокой, и чем гордость эта пуще тем менее задумываться надобно: кто же она в глубине, ею придуманной есть, и не любит тех, кто указывает ей на то, что никого внутри неё нет, она и есть это внимание к себе обращённое и от себя собою же отводимое, и того не более, не готова она к тому, это о себе претит ей вещи мыслить важные, но и отец Дмитрий насквозь её видящий, и что значит видение это насквозь как не отсутствие препятствий каких-либо имеющихся для глаза смотрящего и видящего при этом ещё, и отец Дмитрий насквозь её видящий, не собирается её разубеждать в чём бы то ни стало, у него цели иные ныне, и будь у него цель Марией овладеть, надо было бы, насквозь её проницая, говорить что взор на неё глядящий, не пустотой смущается, но в глубине непроницаемой и таинственной зачарованно теряется, и будет это первый шаг к пустотой её обладанию не взором исключительно уже, но цели иные, и спрашивает отец Дмитрий её о том, что думает она по поводу этому, об Андрея успехах, стало быть. Я полагаю, Мария говорит, ногу на ногу перекладывая, пальцем по ободу бокала три раза проведя, чёлку взметнув, полагает Мария, чтобы ей такое положить, чтобы полагание поинтереснее вышло, не придумывает ничего или придумывает, не ведаем того, но говорит: я полагаю, отец Дмитрий, и глаза её сощуриваются, и губы словом отец поцелуем вытягиваются к отцу Дмитрию направляясь, что Андрей вряд ли успехов великих на поприще им избранном добьётся, как и на любом другом впрочем тоже, и тщетны надежды батюшки нашего любимого, им в Андрея отношении питаемые, он ведь их куда более в отношении Николая моего питал, и сказано это с ожиданием явным вопроса встречного: почему, полагает она так, и она уже даже готова ответить на вопрос неспрошенный, но не скажет ничего она, ибо не спросит её отец Дмитрий, и что может сказать она, не интересно ему видимо, либо намеренно его интересующим не интересуется, а вино обновит ещё раз, и пригласит жестом испить вина белого, сам красное пить будет, и скажет слова такие, от которых у сестёр в горле запершит и хорошо вино они удержали за устами сомкнутыми и платья в целости сохранили, как к тебе, Мария, относился отец Георгий, упокой Господь душу его, и тогда Мария растерянно взор свой к сестре своей Марфе обращает, а Марфа слова такие говорить начинает: не ведал, вероятно, отец Георгий о существовании её особенного чего, но прерывает отец Дмитрий Марфу жестом перста указательного, к губам поднесённого, и на Марию смотрит, а Мария палец парализованный на бокале с вином белым задерживая говорит неуверенно: не ведал, вероятно, отец Георгий о существовании моём особенного чего, но отец Дмитрий, улыбаясь, берёт в руки пачку сигарет мужских крепких запечатанную, им с собой принесённую, и поворачивает её сторонами разными, не волнуясь нисколько, и не как то в волнении бывает, но размеренно весьма, и движение это пальцев священнических ворожит сестёр обеих, и ворожба прерывается вопроса предыдущего уточнением неясным: а всё же, не ведая даже об этом существовании, о коем Господь лишь ведает доподлинно, как относился к тебе, сестра, отец Георгий, как сама ты полагаешь. И молчат сёстры, Мария ёжится неудобно, стеснение испытывая, отчего платье, и без стеснения короткое, короче ещё делается, и кажет взору всяк там находящегося не чулок лишь, но и подвязку, которая на ноге кожи упругой вверх уходит маняще, улыбается ещё шире отец Дмитрий и жест непозволительный делает, по ремешку этому чёрному пальцем своим проводя неторопливо, и странный весьма этот мужчина, в рясу облачённый, пугает сестру Марфы, а Марфу пугает то, что говорит он и спрашивает о чём, но тут же отводит руку отец Дмитрий, спохватившись будто, и Мария улыбается довольно, принимая слабость священником выказанную, и гордится собой весьма уже, даже в рясе мужчина не сдерживается, вспоминает, что мужчина такой не первый, отец Георгий был ещё, но не говорит о вспомненном, хотя о нём её и спрашивают, думает как похожи они меж собой и даже подумать не смеет о том, что единственный способ это был, коим отец Дмитрий мог об отце Георгии думать её ныне направить по мыслям блуждающим, но не говорит она об отце Георгии, ибо вскоре после встречи их скончался отец Георгий, и Марию запомнили люди недобрые в церкви бывающие беспрестанно, запомнили причиной поведения отца Георгия, всеми почитаемого, странного ставшего, и не то, чтобы неловко было ей за поведение то своё, иначе не гордилась бы она ныне слабостью, отцом Дмитрием выказанной к ней по отношению, так видится жест ей этот его, но у сестры чулки такие же точно под платьем имеются, и потому уже преимущество тела оголённого Мария сестре довольно демонстрирует, не телу, но себе это преимущество зачисляя, и счёт ведёт для себя той, в глубине которая, и сама к коей прикоснуться опасается, лишь добавлять на счёт её смеет беспрестанно случающееся, полагая когда-нибудь воспользоваться сокровищами его схоронёнными, и не стыдно ей потому за своё поведение тогда, в церкви Святого Иеронима, напротив, повод полагает хороший дала отцу Георгию тогда, а ныне отцу Дмитрию для проявления благодушия своего, ибо стыдится надлежит не ей, но мужам этим, и ежели взглянула бы на глаза напуганные сестры своей, то усомнилась бы в догадках своих горделивых хотя бы, будто отец Дмитрий не удержался, и тронул её по месту интимному почти, но не глядит она на сестру, а на руку свою оживившуюся, за пальцем по ободу бокала вновь закружившемуся, следит, и не стыдно ей и молчит потому о событии в церкви приключившемся, но опасается чего-то, что понимания её выше, но о чём сестра в день кончины отца Георгия предупреждение ей сделала: никогда не упоминать о вечере том к себе в применении. И говорит отец Дмитрий в раз третий, уже на колени Марфы глядя, под платьем остриями аккуратными друг к другу сведённые: а перед этим не иначе сон был с ангелом, и сёстры слов уже этих не слышат, полагая их уже раз сказанными в качестве знакомых, и посему понятых, будто это странность какая у собеседника их одно и то же повторять, как то бывает у многих, словами паразитными речь свою населяющих, или будто заикается отец Дмитрий, и заикания эти деликатно, из вежливости лишь соображения, без внимания оставлять следует, и не видят они композиции музыкальной в роли вопроса этого, и ежели вот сказали бы им заранее, что всё, отцом Дмитрием сегодня произнесённое, то ли по замыслу предварительному, то ли стихийно, музыкально построено сообразно будет, они бы обратили внимание в меру сил понимания своего каждая, но не сказали им того, на себя пусть тогда пеняют умолчавшие о том, и вообще предупреждать неплохо бы, ведь в жизни не готовы мы к тому, чему в искусстве внимать с удовольствием нередко неслабым намереваемся, жизнь, ведь она никакая без заведомых предупреждений о её какостях на пути встречаемых, так себе слагается, без красоты, ежели на красоту нет настроя, встречу с ней предваряющего, к слову сказать, не готова Мария и не готова Марфа в красоте явление усматривать к жизни их имеющее касательство прямое без предупреждения заведомого, и нет в мире чудес никаких, и ангелов взору предстающих нежданно, поскольку нет предупреждения о том, как ранее было, думать наверное сёстры должны так, Господь телеграмму или смс посылает загодя: завтра чудо будет в часа два минут восемнадцать пополудни зпт не пропустите тчк Бог, и личико улыбающееся с языком высунутым, прости Господи не успел, в пробке задержание воли собственной супротив имел, так вот было бы хорошо, а нет если, на себя пусть пеняет и чудеса Его не будучи во мнении общественном заранее прорекламированы и оглашены, пусть впустую Себе совершает.
Соблазнила Мария Андрея безусловно, вдруг говорить начинает отец Дмитрий, и глаза его не видят ничего вокруг, будто к собеседнику здесь не присутствующему устремляются, и хотела она, дабы Андрей преклонялся перед нею, и к сонму поклонников её причислен был, но Марфа всё испортила, себя доступнее показав и обещая, и Андрей к Марфе метнулся, и Мария свысока на то смотреть стала, однако доступность Марфы надвое вышла, внимание Марфа Андрея ревновала ко всему, ежели не на неё одну направлено оно было, но когда на ней собиралось оно, отвергала Марфа ухаживания в моменты самые к тому располагающие, интимности коих развернуться в силу полную не давая, и это обижало юношу сего, и тогда к Марии многообещающей метался он, и во время то же Марфа выше становилась в глазах его вследствие недоступности своей неподлинной.
Не ведают сёстры откуда голос этот, глухим ставший, то ведает, о чём им ныне ведает, но не спорят с ним они, ибо чувствуют, что не следует, интересно ведь, и к тому же интересу потакая, до конца лучше выслушать говоримое, добавить что не правда всё это, и выдумка пустая, в конце лучше уже, лишь когда сочинитель истории будет полностью безоружен, всё выказав, что на душе имеет, но спрашивает Мария с лёгкой улыбкой иронической: а почему же недоступность Марфы неподлинная, и Марфа желает что-то возразить, слова отца Дмитрия предотвращая неведомые ей нисколько, но сестра руки её касается резко, и жест означает сей: нет, пусть уж скажет, интересно что он ещё себе придумает, но не глядит на это отец Дмитрий, а ежели глядит, то не видит, на другое сосредоточение направивши: поведение Марии с Николаем её, и родителями спровоцированное желание замуж отдаться получше, а неподлинная она, потому как невинным быть может тот только, кто помыслов в душе невинность нарушающих таить не смеет, а не тот, кто дело ко греху им же подведённое намеренно и возле греха образуемое, до конца не доводя прерывает. Но тогда, возражает Мария с явной улыбкой скептической уже, победу предвкушая, которая на счёт той, глубокой, себя будет записана в раз очередной, тогда никто вообще не невинен, и в числе их вы, когда меня, и рукой по ноге проводит своей, ещё выше платье поднимая, и отец Дмитрий отвечает ей с улыбкой, из погружённости своей не исходя при этом, что никто не утверждает, что чист он и не греховен, и лжёт всякий, кто это предпишет ему или будто он таковым быть должен, и улыбка его странной становится весьма опять, и переглядываются сёстры меж собой: всякий знающий о грехе грешен тем самым, и лишь Господь наш, Иисус, с грехом соприкасаясь, и проходя его насквозь, нам в поучение показал тщету грехов человеческих и пустоту их, сам при том Богом оставаясь, но это ещё не всё, продолжает отец Дмитрий и улыбка его исчезает на время слов этих произнесения требуемое: и сюда, помыслов помимо, добавить следует как Марфы, так и Марии развлечение каждодневное и каждонощное, в коем они себя, друг от друга укрываясь, руками ласкают, и чем более Андрею отказывают, тем ласки эти жарче бывали; и как слова эти отец Дмитрий произнёс, фыркнула сестра Мария и ужаснулась на миг лишь сестра Марфа, и тоже улыбнулась вослед сестре своей, ибо никогда не сможет слов этих своих отец Дмитрий доказать, о том ведая, о чём лишь они в душе своей каждая ведать может, но даже ежели они это ведают о себе каждая, то друг другу в том не признаются и тем паче человеку постороннему, будь он хоть Господа посланцем, и не раз хотя бывало слышала Мария ночные вздохи Марфы, и слышала Марфа не раз бывало вздохи ночные Марии, в комнате единой обитали когда до возраста школы окончания, и ежели догадывались каждая о другой, то неловко говорить о том было сестре родной, и при этом каждая, другую слыша, себя полагала другой неслышимой, в случае любом не этому теперь человеку, в рясу облачённому, говорить то, что ему неизвестно никак, и посему Марфа уже говорит тоном спокойным учительницы школьной: негоже вам, отец Дмитрий, учение церкви христианской здесь теориями своими неукоренёнными коверкать, и ерунду всякую здесь, но не договаривает, ибо прерывает её отец Дмитрий, жест перста к устам поднесения повторяя недавний, и говорить продолжает, с оговорки начиная, впрочем, согласно которой отец Дмитрий осведомлён об учении церковном, но сейчас у него нет задачи это учение излагать, и оно должно остаться в стороне, а также никто не собирается здесь доказывать произносимое, и всё это лишь слова пустые, и пусть будут же они сказаны вполне, а впоследствии забыты легкомысленно, ежели угодно, и Мария улыбается теперь так будто распознала игру какую в отца Дмитрии речи, таким образом ранее улыбалась она отцу Георгию, игра соблазнения у священников нравится ей начинает, они так выкладываются, как никто другой, и готова теперь включиться в игру эту, включиться в которую ей в полной мере отец Георгий ранее не позволил, умерев поспешно весьма, но Марфа губу закусила и помрачнела, но отец Дмитрий продолжает: Андрей то же самое делает, когда приходит домой к себе, Марию представляет, когда Марфу ласкает в пределах ею произвольно устанавливаемых каждый раз на лад новый, и время от времени варьируемых пределах, ниже или выше, и на словах этих Мария платье поправляет своё, приосанивается, и на отца Дмитрия ещё дружественнее поглядывает, а когда нет рядом ни Марии, ни Марфы, Андрей их обеих по очереди вспоминает или же двух сразу себя подле, и последнее особенного его радует, и иногда мучается он наяву от невозможности план мечтаний своих в осуществление привести окончательное, пусть и единожды хотя бы свершённое. На словах этих отец Дмитрий останавливается, хотя не прерывает его никто, Мария сигарету закуривает ещё одну, отец Дмитрий вино допивает, отрешения не покидая собственного, Марфа в задумчивости тяжёлой у платья своего разрез весьма глубокий случайно обнаруживает для взора священнического, теребя руками материю синюю, чем ногу свою невинно, может показаться тому, кто видел бы это, обнажая, но вина отпитие совершив, говорить продолжает отец Дмитрий как не бывало ни в чём, хотя продолжение это не таким уж и длительным оказывается: а далее, в ночь одну обычную, когда Андрей обиделся загодя, и посему мыслями о нём полнясь, сестры своей не опасаясь, Марфа испытывает множественное скончание от рук своих, в сон оттого уходя глубокий, и во сне видит ангела, итак, и отец Дмитрий включается будто до того отключенным пребывая: сон был с ангелом не так ли, с чего Марфа взяла ты, что ангел это Господний именно, и к Марфе слова свои обратив эти, замолкает отец Дмитрий.
Марфа вид удручения сменяет на негодование явное и в четвёртый раз вопрос можно не слышать, а точнее можно не отвечать на него услышанного теперь, ибо речь необоснуемую за оскорбление Марфа почитать своё с правом полным может, что и делает охотно весьма, и вопросом на вопрос говорит, вопрос игнорируя к себе обращённый в раз не первый: а почему же вы, отец Дмитрий, о мерзостях всяческих упоминаете недоказанных, а о чувствах Андрея ко мне и моих к нему не упоминаете нисколько, сон ведь когда был, он любви касался исключительно нашей, а не всяких глупостей, вами сочинённых из соображений рода низменного, что очевидно, приоткрываются тут губы Марии томно как-то, оттого ли что о любви речь, оттого ли что о мерзостях всяких, но отец Дмитрий улыбается, и глядя не на Марию томную, но на Марфу, негодованием охваченную, говорит ей слова такие: не стоит беседу вести о том, что под именем любви себе придумала ты Марфа, и Мария на сестру взгляд свысока обращённый кидает, где она это высокое себе нашла неясно, но говорить продолжает отец Дмитрий: что под именем любви себе придумала ты Марфа, и ты Мария, и Мария от сестры взор на отца Дмитрия обращает, и смущена она и суживаются веки её, будто предал её отец Дмитрий словами этими: с чего это вы взяли, что представления мои о любви неправильны, Марфа спрашивает, и совпадает это с тем, что Мария говорит: с чего это вы взяли, что представления ваши о любви правильны, и звучит это враз, а посему разноголосие лишь в ваших моих правильных неправильных слышится, но Марфа добавляет: Бог любовь есть, а Мария ничего не добавляет, и не потому что думает, что Бог не любовь есть, или Бог любовь не есть, или не Бог любовь есть, или раздор языческий Гесиодов отец вещей всех, или распря Гераклитова, ей сказанного ею же самой уже достаточно.
Но слова о Боге не комментирует отец Дмитрий, не собирается ответ держать, а вино допивает залпом, шею свою бородатую обнажая с проседью уже изрядной, и не спрашивает: с чего вы взяли истину собственных представлений о любви моим предпочесть, ибо тупиковым этот путь беседы выглядит заведомо, и ведись она ему согласно, тупиком бы и обернулась в итоге скором как пить дать, а посему даёт себе пить отец Дмитрий, и сёстрам доливает вина, пить даёт, и говорит: Господу ныне и спокон веку не нужны нерешительности, пред грехом останавливающиеся, дабы из этой остановки для себя выгоду мирскую извлечь, святошеством прикрываясь, ибо нерешительные пред грехом, они весьма неплохо решились на нерешительности использование в жизни этой, и довести юношу до состояния, ими самими за влюблённость именуемого, а на деле не иначе как похотью накопленной оборачивающейся, Господь не ждёт святости от нерешительных к небу и к земле решительных, ибо решительность эта не способна землю обустроить, которой Господь Творец и Хранитель предвечный, знание греха свершение его есть, и посему грех не допускающий, невинность утратил, покуда ведает о том, чего допустить не решается, лишь Господь наш Иисус Христос, повторяет отец Дмитрий и пачку снова в руки берёт, вертеть её по кругу начинает: лишь Он грех постигая Господом оставался, Коим и был со дня Творения, а посему любовью вами зовущееся пусть насквозь вами же будет пройдено, ибо остановка похотливая перед постелью манящей не делает постель невинной, любовь дарящей или же обоживающей своего обладателя долгожданного, пред чем мы останавливаемся, то нас в сути нашей определяет, и Марфа определена была при Андреевом участии как постелью остановленная и, стало быть, превознёсшая её на выси недостижимые, и вместо Господа в небе её обитало ложбище соитное, впрочем это лишь до беседы с отцом Георгием, когда же вернулся Андрей, то полезла Марфа с Андреем на высь эту поднебесную, но обернулась она приятностью телесной и того не более, с собою и то иногда лучше бывало, об Андрее мечтаючи, нежели с ним иногда, когда рядом лежал, и решено было, что Господь обманывал Марфу или вообще не существовал никогда, в то время как открылось лишь никогда не таящееся, что постель Господа не способна ни вместить полностью поглощая, ни заменить, и коли вознесёшь её и залезешь на неё с возлюбленным своим, она тут же на земле обернётся стоящей или в болоте заботном мирском утопающей всё более, впрочем всё это затем воспоследовало, а до того сон был с ангелом, как уже говорилось, закончил отец Дмитрий речь свою в раз пятый эту фразу произнеся.
Марфа сказала, что затем срок ангелом отведённый истёк, и вернулся Андрей в день тот же, что и ангел объявил, и воспринять это иначе, чем Господа свершение, невозможно было, и посему препятствия все до того преградой меж ними стоящие, сметены рукой Господа были. Это Марфа ты препятствиями именуешь постели нагромождение в уме твоём поднебесное, улыбается отец Дмитрий снова игриво: и рукой Господа выдумка твоя сметена была, ты говоришь, будто Господу дела нет более как в постель тебя бросать, где ты по несколько раз в день и в ночь и так уже влажно обретала себя, рукой своей недостижимое Андрею подменяя, свою руку не смогла остановить, и решила, что Господь свою руку к тому приложит, неужто Марфа Господь такой наивный по вере твоей, спрашивает отец Дмитрий и говорит слова странные: блаженны духом богатые, ибо их есть геенна огненная и будет каждому по вере его: а дальше Андрей вернулся, повторила Марфа, и на глазах её слёзы засверкали, и очень внимательно разглядывает слёзы эти отец Дмитрий, Марии же неловко стало, да и внимание ей должное не уделяется в обстоятельств стечении таковом, а посему когда звонок заиграл мелодию звонковую неопределённую, Мария деликатно весьма поднялась и пошла дверь открывать, в комнате оставив сестру свою и гостя с сестрой общего, спросила кто там, и что ей ответили не ведаем мы, ибо слух у нас даже хуже чем у тех, кто существовать способность особую божественную имеет, но воскликнула Мария: вот это да, дверь открыла и когда ещё дверь закрыться не успела, ибо входил кто-то в неё, в комнату зашла она и эффектно провозгласила, слова сестры своей последние повторяя, но со значением иным уже: а дальше Андрей вернулся, интригующе говорит Мария и бокал свой со стола взяв, в оборота своего половину, ко двери входной обращается. Марфа с места поднимается торопливо и, слёзы утирая, у сестры быстро спрашивает, правда ли, что Андрей, и та отвечает собой довольная и на счёт это себе, глубокой, записывая, будто в том заслуга её одной: да, правда, Андрей пришёл.
И теперь мы успокоиться можем, ибо не надо место покидать это, дабы к машине Андрея идти, и все теперь собрались, мы поудобнее расположиться вправе, кресло театральное кстати ныне было бы и недурно весьма, с самого начала жаль беседу не проводили герои наши в составе таковом, но не в силах их заставить это делать и принудить к чему бы то ни было, робко довольствоваться учимся имеющимся у нас, но и его всегда больше, нежели вмещено быть может. Времени не терять чтобы, слушать Андрея приходится внимательно, благо не трудно это совсем, ибо он взбудоражен чрезмерно, волосы его странно взлохмачиваются теперь, рука одна крест отца Георгия в кармане куртки сжимает, и куртку не снимает он из-за креста что ли, из-за того ли, что торопливостью одержим, и рука, крест сжимающая, отчётливо холод креста того ощущает, в неё помещённого, и чем сильнее греет посредством сжимания Андрей крест этот, размера такого же, какой видит воочию ныне на груди отца Дмитрия присутствующего, искушение даже имеется значительное достать крест из кармана и к тому, другому, приложить сравнения ради, всё холоднее и холоднее руке делается, но всё это недостойные занятия перед целями куда более значительными, с коими он здесь оказался, и торопится неслучайно ведь, однако видит что опоздал отчасти, ладно бы сёстры с мужчинами какими мирскими сидели, с коими можно было бы сойтись на почве сходств каких или повздорить из ревности, опять же на почве сходства уже определённого весьма, к столу присоединившись, однако тут всё хуже гораздо, ибо чудовище в чёрном восседает с крестом на груди подобным, и начинает уже Андрей чувство безысходности ощущать, которому на деле ходу не даёт никакого, ибо торопится донести то, во спасительную миссию чего поход его обратиться должен по замыслу собственному, и то, что необходимо это, всячески по слезам на лице Марфы любимом видит отчётливо, хотя Марфа слёзы скрыть пытается поспешно посредством утирания, ею сотворяемого, и хочется Андрею остаться здесь навеки, Марфу утешая нежно и с Марией весело интригуясь, и если намерение такое ранее не раз случалось у него, но и он тогда сам воспринимался здесь в порядок вещей естественный включённым, а ныне его присутствие здесь исключительно, а потому сила свободная тело его всё наполняет, за исключением органа одного, но он тщательно уложил его, после того как, выйдя из машины, безнадёжно пытался снегом его охладить, и хоть больно Андрею, и неприятно ощущать желание органа уложенного, распрямление обратное скорейшим образом осуществить в идеале лишь через оголение Андреево могущего, но готов терпеть, и важнее теперь избавиться от священника этого, который вместо него в порядок вещей вписался нынешний, исключительность Андреева к тому послужить может хорошо, желал бы Андрей завсегда исключительным быть, дабы в вещей порядке эта его особливость обозначилась вечностью, а как это выглядело бы, чтобы обычным стало его воспринимание необычное, не ведает он того, это силы ума его превышает, но он верит, что такое возможно и осуществимо вполне на том основании уже, что он потребность к тому исключительную имеет, и достаточно того, остальное пусть додумывают и к осуществлению те приводят, кого он этой своей исключительностью озарить и облагодетельствовать решился, им и этого дара с избытком хватит, думает Андрей, и подтверждение избытку тому будет, когда они не справятся с исключительностью Андреевой, это значит у них сил не хватило его исключительность свободную в порядок вещей собственных встроить, благо ущерба самой свободе и исключительности Андрея они нанести никогда не смогут, и то хорошо, и посему условность здесь происходящего в видении своём обретает он, и тяжесть здесь происходящего лёгкости его затронуть никак не в силах.
Зачем вы священника себе сменили, Андрей бодро спрашивает и, с чувством превосходства непреодолимого силами никакими, прямо в отца Дмитрия взгляд свой направляет, но смущение непоказываемое собою испытывает оттого, что отец Дмитрий разглядывает Андрея в ответ, с любопытством, однако при этом наивным, и во взгляде священника ни злобы, ни иронии, ни негодования, ни чего-либо другого не обозначается из того, что Андрей принял бы вследствие вторжения своего, по меньшей мере, будь он здесь с сёстрами и явись сюда кто-нибудь, он точно не стерпел бы подобного с таким дружелюбием интересующимся во взоре, который ныне отец Дмитрий сам того не желая, возможно, являет, и от этого фальшь слышит Андрей в тоне голоса собственного, но от неё не избавляется, напротив отца Дмитрия садится, где ранее Марфа вставшая только что сидела, и завершает приветственный вопрос иным вопросом свойства уточняющего: отец Дмитрий если я не ошибаюсь.
И если предыдущий вопрос также обращение своё имел к отцу Дмитрию, но отношение косвенное, то теперь уже напрямую, и вопрос Андрея, и Андрей сам вопроса своего не менее на отца Дмитрия направляется, однако сам отец Дмитрий ни слова ещё сказать не успел, хотя и удивления не выразил особенного, зато глаза Марфы пересохли сразу, отсутствием Андрея изначально вызванные, а затем жестокостью в словах отца Дмитрия, ею распознанной, Марфа тронула Андрея за плечо: как зачем священника сменили, что же нам отказаться вообще от веры теперь, Марфа говорит, а Мария сигарету закуривает и, улыбаясь, на отца Дмитрия смотрит, ибо ныне завоевать расположение мужчины солидного да и в рясу облачённого куда интереснее, когда Андрей присутствует здесь, который, ежели словам отца Дмитрия верить, часто воображение на Марию и так сам, без усилий её особых, направляет.
Это было бы совсем неплохо, с лёгкостью намеренной Марфе говорит Андрей, руку её на плече собственном рукой накрывая и поглаживая, другая его рука в кармане куртки, но я так далеко не заглядываю, лишь тем интересуюсь, чем вам отец Георгий не угодил, и почему вместо него у вас теперь отец Дмитрий находится, и ещё без родителей, когда вы дома одни, и тут Андрей руку свою с руки Марфы убирает: хотя если моложе он отца Георгия, но тут его Мария прерывает, дым выпуская к потолку змеёй очередной тонкой: и поживее, надо заметить, говорит Мария, странно глядит на неё Андрей: я то же самое ввиду имею и ни к чему твои Мария пояснения, помоложе и значит поживее, хотя это для чего ещё надо подумать, к чему живость эту применять вы нацелились, Андрей смотрит чуть раздражением одержимый, всегда Мария вмешивается, и для сёстер Андрея взгляд то верный, Андрей на Марфу нынче ставит, не на Марию, и Мария возможно это увидела изначально как Андрей пришёл и она дверь ему открывала когда, в случае любом она теперь обольстить намерена отца Дмитрия, но ей необходимо при этом, чтобы Андрей её именно желал, а то получится, что она путь лёгкий избирает, и чтобы отец Дмитрий видел добровольность её желания, богиней усмотрел её, независимо от того на деле как всё сложится; и досада Марию охватывает, а Марфу испуг странный, будто подменили ей любимого её, и руку невольно свою с плеча она одёргивает: Андрей, что ты, чур тебя, умер ведь отец Георгий, не помнишь разве, но тут же вспоминает сама, что Андрей того помнить не может, ежели лишь от других услышать случайно, ведь расставание их накануне смерти отца Георгия вышло, и поэтому когда Андрей говорит: нет не помню, Марфа вновь руку к плечу его подносит, чего Андрей не видит, а Мария и отец Дмитрий замечательно даже видят, но когда Андрей говорит: хорош мертвец, я с ним только что беседовал, Марфа руку одёргивает с поспешностью ещё большей чем перед этим, но Андрей видеть этого, как и прежде, не может, он глядит то в глаза отцу Дмитрию, будто в чём уличить его намеревается тут же, то на крест его, то на чулков обод Марии, но в последнем случае вновь на глаза отца Дмитрия: кажется мне, Мария, и кажется мне, Марфа, Андрей говорит, священники эти в сговоре меж собой каком страшном, ибо буквально час назал беседовал я с отцом Георгием, и не скажу, что душа моя к Богу устремилась после того, и знать теперь интересно как они убедили вас, девушек взрослых, поверить в смерть фиктивную отца Георгия, только и всего, говорит Андрей, и не говорит, что после беседы с отцом Георгием, от коего душа к Богу не устремилась, вполне себе другие части тела его ввысь устремление неугомонное выказывать начали, к небу повертываясь беспрестанно, но не важно всё это в сравнении с тем, что лицо отца Дмитрия изменилось теперь, будто насмотрелся он на Андрея и удивление прочертилось ненадолго чертами лица его благородного выказанное, но ненадолго лишь, в то время как сёстры в полном изумлении на Андрея уставили очи свои, и торжествует Андрей, выведет сейчас всех на чистую воду, полагает он. Наверное Мария с удовольствием бы что-нибудь ответила на это, лишь бы поняла она о чём говорит Андрей, ибо поверить в то, что Андрея следует понимать буквально, не приходило ей на ум, поскольку она присутствовала на похоронах отца Георгия собственной персоной, и это была третья публичная встреча с этим священником, а сомневаться в том, что отец Георгий, в гробу тогда находящийся, закрытый крышкой, гвоздями при всех прибитой и погружённый под холодную землю, щепотку которой она сама бросила тогда собственноручно и до сих пор помнит этот холод мёрзлой земли февральской и как с досадой пришлось обрабатывать заново ногти, маникюр коим был сделан при подготовке к похорон посещению, и цвет должный траурный, чёрный на ногти был нанесён, и как пришлось использовать чаще обычного крем для рук предназначающийся в силу загрубления кожи морозом вызванного, что жив отец Георгий и всё это было напрасно, не имела Мария возможности никакой принять слов Андрея буквально, ибо тогда все вышеупомянутые испытания на долю выпавшие её в день похорон этого человека вышеупомянутого напрасными бы оказались, и будь сейчас отец Георгий в самом деле жив, она бы и тогда сочла окончательно удачным со своей стороны почитать его за умершего, поскольку приложила столько усилий в день похорон его, и он, со своей стороны, как настоящий мужчина, после этого просто обязан скончаться, или жить, но будучи умершим. В силу всех этих обстоятельств Мария не могла распознать: что же имеет в виду Андрей и для чего он это говорит, и на вопрос Андрея ответствовала потому одна Марфа, отойдя от своего возлюбленного к окну в тот самый миг, когда одёрнула так и не донесённую до его плеча руку: Андрей, как же, что говоришь ты, ведь отец Георгий был в феврале похоронен, и половина жителей города собралась на этом событии, но Андрей теперь перебивает её, и понимание испытывая, что, ежели поглубже копнуть, то вскроет и не иначе, не просто заговор священников извращённых, но и масштаб деятельности их низменной огромный чрез меры всякой разумной, и потому обращается он к отцу Дмитрию: а вы тоже так, отче, полагаете; что именно, уточнение вносит отец Дмитрий, и впервые после Андрея появления он произносит вслух что-то: что именно полагаю я; как что, дурака из себя не стройте только теперь, попались когда, полагаете, что отец Георгий умер в феврале месяце; разумеется, говорит отец Дмитрий, отец Георгий не умер окончательно, но в сердцах наших пребывает беспрестанно, если уж о душе его бессмертной упоминаний ныне излишних не приводить, и отец Дмитрий снова креста своего касается: однако то, что тело его упокоилось и захоронено по всем приличествующим случаю этому скорбному обычаям христианским, то я не полагаю, а лишь с печалью в сердце собственном констатировать могу, и думается мне, что у тебя, сын мой, также нет оснований с констатацией этой в полемику пустую вступать или пререкания особливые в отношении её нам здесь демонстрировать, ибо не смешно это нисколько и не остроумно со стороны твоей.
А я думаю, что основания есть, что же он вас обработал так, распаляется в речи своей Андрей, это же всё глупости, час назад говорю вам всем, отец Георгий сел ко мне в машину и разговор у нас был с ним о Марфе, был печален он, не скрою, печален, но не мёртв, чёрт бы его побрал, Андрей сигарету закуривает, зажигалкой воспользовавшись, которую со стола возле Марии забирает для целей этих прикуривательных, и обратно кладёт между слов своих: более того, меня он даже схватил нескромно весьма со стороны священнической, да с силой такой несвященнической, что насилу отбился от него я, стушевался здесь Андрей немного, ибо знает что парализован был жестом отца Георгия и не то что отбиться, но даже пошевелиться не в его силах было, и потому также стушёвывается, что спросить его могли бы: за что его схватил отец Георгий, или поскромнее и не столь двусмысленно спросить: как именно схватил, и что говорил при этом священник, и тут как раз Андрей готов был бы доказательство продемонстрировать им всем, но не стал бы делать того, перед сёстрами джинсы снимать свои и трусы стягивать в присутствии отца Дмитрия, нет, он не против конечно, ежели перед сёстрами одними, но лишь вместе с ними, в любом случае без участия священника: как это вы объясните, завершает речь свою Андрей, собой довольный вполне.
Никак, отвечает отец Дмитрий, пока никак, и с сёстрами переглядывается, Мария довольна происходящим, ибо в стороне её вполне оставляют и не обсуждают и лишнего не наговаривают, а любое слово о ней, не ею сказанное, излишне, Марфа встревожена донельзя и на отца Дмитрия как на врача смотрит с растерянностью, ничего сама сделать не в силах будучи; но, быть может, отец Дмитрий желает руку свою отечески положить на руку Андрея, но Андрей в ужасе, присутствующим неясном, руку свою за спину заводит, а другая у него в кармане: может быть, отец Георгий что-нибудь передал тебе, чтобы мы убедились в слов твоих правоте, спрашивает отец Дмитрий; конечно, Андрей говорит, крест вот этот отцу Дмитрию передать хотел, и показывает в ладони крест, руку из куртки извлекая, сам притом убеждаясь, что имеет крест в ладони лишь весьма незначительное отличие от того, что на груди отца Дмитрия значится ныне, сёстры подходят к нему, отец Дмитрий глядит время некоторое внимательно на крест сей, и после того как Марфа спрашивает: что думаете по этому поводу, отец Дмитрий, а Мария по кресту мизинцем проводит и холод неестественный от него исходящий ощущает, говорит отец Дмитрий весьма спокойно: да, крест это отца Георгия покойного, узнаю я его, и ты говоришь, Андрей, что отец Георгий тебе передал его час назад для меня; да, кивает согласно Андрей, именно; ну так давай же мне его и дело это закроем, говорит отец Дмитрий, взволнованный в степени немалой; я так и хотел сделать, ухмыляется Андрей, однако передумал с тех пор, ибо кажется, что крест сей улика замечательная; к чему улика, с тревогой Марфа спрашивает, коли умер отец Георгий, на что Андрей глядит в глаза её и довольствуется фразой намеренно небрежной: не видишь ты что ли, Марфа, что священники эти в сговоре каком-то для людей опасном состоят, и в силах моих их вывести на чистую воду, а потому креста они не получат, ни один, ни другой, пока всего сам не выясню.
Пока Андрей говорил это, отец Дмитрий пачку распечатал сигарет мужских крепких, которую в руках до того периодически теребил, задумчиво сказав про себя, что вернуть крест вспять отцу Георгию весьма проблематично было бы теперь, сигарету одну достал и зажигалкой Марии в пример Андрею воспользовавшись, закурил; вот-вот, говорит торжествующе Андрей, будто того только и ожидая: а священники разве курят, и тот тоже курил в машине моей, вот я и говорю вам, что дело с ними нечисто, и Марфа спрашивает уже у отца Дмитрия: разве курил отец Георгий в частности и священники разве курят вообще; нет, отвечает отец Дмитрий сигаретой дымящей затягиваясь глубоко, отец Георгий не курил, по меньшей мере после смерти точно, и вы об этом знаете не хуже меня, и Мария спрашивает уже у отца Дмитрия: разве вы курите, отец Дмитрий, и отвечает ей он: иногда, в случаях исключительных; и что думаете по этому поводу вы, спрашивать продолжает Мария, и Марфа с Андреем глядят на священника внимательно, а он молчит, дымом затягиваясь в задумчивости некоторой свойства каменного, и отвечает, что сигарету докуривать собирается и вино в бокал его налитое допивать, и более ничего не собирается делать. Молчание повисает, когда Андрей торжествующе глядел то на одну сестру, то на другую, не будучи в силах с места своего их сразу вдвоём обозреть, но вниманием не удостаивает отца Дмитрия ни на миг, полагая правым себя окончательно и торжествуя свой успех, суть коего для него заключалась в том только, что он сейчас выведет ситуацию текущую из мрака обмана, в коем сокрылись мошенники в рясах затаившиеся, и даже не ожидал, что так быстро священник проиграет и сопротивляться не будет нисколько, отец Дмитрий молча курит и перед ним воспомнинаем предстает голова покойного отца Георгия с глазами закрытыми, на ухабах нет и нет говорящая, и вспоминается, что сам он отвечал на то да и да против воли собственной, и лишь когда он докуривает сигарету, бокал с вином тогда берёт в руку и говорит из знакомой сёстрам уже отрешённости странной: Господа мы полагаем в заблуждении своём милосердным к нам по мерке собственной, и под себя это понимание приготовляем, помоги Господи и помилуй говорим мы, на то ориентируясь, что нас ныне нудит в заботах наших мирских, всуе обращение своё имеем, и Господь совершенно милосерден, однако, дети мои, окидывает отец Дмитрий взглядом странным присутствующих: Мария, Марфа, Андрей, этот Бог губил и губит народы, уничтожает города, проклятия ниспосылает на головы наши, этот Бог при этом всём всемогущ и справедлив, но не дай Бог узреть нам гнев Господень, который лучшие из пророков Его с трудом от милости Его отличать учились, и не всегда у них то получалось, и посему если, Марфа, ты думаешь, что Господь милостив тогда, когда к тебе Андрей приходит, то благодаришь Господа на деле за зуд в промежности Андреевой, говорит отец Дмитрий, а Андрей чувствует боль в месте упомянутом усиливающуюся: и в том нет заслуги Андрея, и твоей нет заслуги, ибо иначе Андрей к кому другому пошёл бы, и то было бы для кого другого таким же благом, в качестве коего ты рассматриваешь визит Андрея тогда, после сна случившегося, а к тебе тоже пришёл кто-нибудь другой, и ты бы также была благодарна за приход сей, однако при чём здесь Господь, и не стоит упоминать всуе хвалы Ему за зуд в промежности ощущаемый и хулы Ему упоминать всуе не стоит за зуд в промежности неутоляемый, ибо милосерден он воистину, равно как и справедлив Он воистину, мы жаждем справедливости и милосердия, но готовы ли мы получить их воистину по мерке Его, вряд ли, жизнь наша в суете без истины пребывает, а потому мы научились уже, и приспособились истину в суете выискивать и за единственно возможную её почитать, и будто бы Господь суетным оттого стал для нас, но Господь не имеет к суетным справедливостям и милосердиям суетным никакого отношения, и не дай вам Бог, дети мои, встретиться с милосердием Его воистину, не говорю о гневе, ибо отличить одно от другого не сможете, будет для вас всё бесчеловечным казаться, и падёте как щенята слепые от молота милосердия Его, не значит милосердие Господне нисколько, что лучше станет тому, кто удостоится его, не станет лучше для того, кто удостоится как ожидал он, ибо неисповедимы пути Господни, и это воистину, а посему никакие наши договоры с ним: вот, Господи было у меня всё хорошо, спасибо тебе, а теперь что-то не очень, подключись, будь добр, а у Тебя же нет, Господи выбора, Ты ведь не можешь добрым не быть, не работают договоры эти все, ни у людей отдельных, ни у народов, ибо может человек от Господа для себя лучшей доли добиваясь, в самом деле её добиться, а лучшее в глазах Господних для человека того к примеру не родиться было бы вовсе, но Господь предоставил ему жизнь, и тогда милости Господней добившийся и облагодетельствованный ею, вполне гибнуть жестоко начать может, Господа проклиная, хотя сие милосердие испрошенное в него претворяться начинает, и никакие наши договоры с суетой, что Господа не существует, не избавляют нас от взора Его, и посему когда Господь заявляет о Себе, как во сне твоём, Марфа, то мы быстро придумывание себе свершаем, к чему это всё, однако зря мы, и потому беседу я веду эту с вами, а ныне Андрей, гордости непонятной преисполненный, придумал и для себя к чему в руках у него крест покойного отца Георгия оказался, и радуется как дитя радуется наивно, но и зло радуется при этом, как дети не радуются,
однако это ужасом преисполнить лишь может парализующим, ибо Господь здесь, дети мои, меж нас сегодня, и когда удостаиваемся мы чести такой, то ничего иного в ужасе нашем не остаётся как сигарету докурить, которую курить начали уже, и вино допвать, которое в бокал налито ранее было, перед Ним мы обнажены всегда и беззащитны, детьми пребывая, и хитростью нашей можно лишь с лживым божком суеты заигрывать, а перед Ним всегда мы обнажены, а в данном случае ещё обнажённее, ибо теперь Господь к наготе нашей ещё и намерение какое имеет, и ныне всё в руках Господних, и всё всегда там пребывало и пребывать будет, в руках милосердных, но милосердие Его не по нашим меркам скроено, а мы по Его меркам, и то во грех пали, и путей Господних в путеводителях наших не значится.
Снова замолкает отец Дмитрий и вино отпивает, думает Мария, что священники очень интересные мужчины, такое придумывают, лишь бы в постель её уложить, нельзя ими не восхищаться на самом деле, думает Марфа, что отец Дмитрий что-то еретическое весьма говорит и в церкви такое не говорят о Боге, очень уж Господь непредсказуемым выходит и гарантий в руках человеческих никаких не остаётся, дабы к Господу свои права обратить можно было, и Андрей, не думает Андрей ни о чём, торжествует он, ибо слова отца Дмитрия не что иное в глазах Андрея как попытка неуспешная и слабая крест выпросить да внимание отвлечь от сговора собственного с отцом Георгием, но не избежать им расплаты и это наверное, и берёт Андрей Марфы бокал и осушает его с воодушевлением необычайным, на миг об органе своём неугомонном и прямо таки страдания начинающим причинять забывает. Сидит отец Дмитрий в задумчивости каменной, и знает, что слова его не услышаны никем из присутствующих, но и не для того он говорил их, чтобы изменить что-то, да и что изменишь, когда всё в руках Господних.
Интермедия
которая, в общем-то, может выть и не очень нужна, но полагается на этом месте, если верить композиции произведения
И так-то, друг Горацио, ты утверждаешь, вооружившись силой убеждения такою, коей чувства добрые не сеют, разве дружба что ко мне, внушить не в силах нам манеру выражаться что б как клинки из стали, а не люди, ежели, конечно, не вмешалась какая-нибудь хитрая интрижка и если тайна не содержится твоя в нижних юбках королевских фрейлин, или же мотивом мести тут подспудно кто-то всё измазал и сбежал, но, сказать по чести, коей, право, если уж по чести говорить, у мужчин так трудно ухватить: соберешься это только сделать, тут как тут в руках твоих завянет лишь орудие бесчестья и забавы, и ты к бою сможешь быть готов лишь чрез время, так вот, если мы по чести тут всё скажем, будто бы у нас с тобою честь, мы по чести как по эшафоту, не оглядываясь вверх, вперед, назад, может тут мотивы даже мести, я тебе без сожаленья уступаю эту роль, которую так модно нынче вместо грима наносить, я как есть безумен, месть безумна, сделана же из другого места, ох, конечно теста, понимаешь ты, Горацио, мой друг, тут утверждаешь, что в одном ничтожном человеке, взять хотя бы мне в пример тебя, хорошо, Горацио мой друг, ты тут утверждаешь, что и не в последнем человеке, взять хотя бы мне в пример тебя, быть не может, надо бы запомнить, силу, затвердивши, убежденья, чтобы это быть не может прозвучало полной мощью, как оно бывает, в хрипе уличённом королевском, когда он останется один в тронном зале и в закрытом театре, быть не может в этом человеке уживания стремлений двух отменно: устремление к высокому, да-да, посмотри на этот потолок, он пыльный, с паутиной по углам, обрамляющим его физиономью как убор скорбящейся монашки округляет бледное лицо, быть не может вместе с этим устремленьем устремленья к низкому, под ноги можешь тоже поглядеть, и ты увидишь: пол сегодня выметен на славу, хотя мы порядком уже тут, если честно, мерзко наследили, выбор вот, Горацио, мой друг, не велик, и как ты утверждаешь, либо пыльное через недостижимость обиталище паучье потолочье, либо исследимое так часто, но зато убористое дно, так ведь ты мне говорил сегодня утром; либо душа стремится туда, либо туда, а вместе никак, но, но, но, внимание вопрос: что спрятано в корсаже королевы, и вот тебе ответ на выбор как всегда: там две груди, которые приятно ощущать ладонью королевской виноградно, как этот плод, который ты сжимаешь, что мочи есть, но он никак не лопнет, нет, будет он лишь удовольствием стенать, о мать богов, о боги матери моей, но есть еще второй ответ, не забывай, не расслабляйся, ведь я мысль веду, подобье мысли, призрак: там, в её корсаж упрятан символ духа, да что нам символ, это дух и есть, который призывает короля, ну, чёрт с ним, с дядей, надо быть попроще, который сына королевы призывает к ней обращаться, уповать на чувство, и ревность изливать, и гнев, и боль испытывать, так что же там: душа иль два куска свининой мякоти на ужин короля, вот тебе выбор, только не хитри: и не срывайся с крюка раньше срока, не говори что там и то, и это, ведь помня силу твоего не может, я продолжаю линию разбора, иль сбора, кто же разберёт, а кто собрать способен, не волнуйся, в том ещё, в своем, нет в общем смысле, в уме я в общем, ум не мой, нет-нет, и ты, и мать, и дядя, и даже вон Офелия, хотя, дитя ещё и путь к уму никто не проложил ей органом бесчестья, и тот кто будет, это нет, не я, витает в облаках она: не то, что я, ползу средь комьев грязи, грязи, кстати, он здесь, кто сам себя по случаю подставит, когда души порывы к паутине, когда все органы на доски пола смотрят, тогда он сравнивает, нет, не так: равняет он одно к другому, нам ли разводить, достойное равнения друг к другу, и грязь, и небо обе стороны медали, сделанной как этот круглый череп, сравненье неудачное, но всё же, я признаю, и всё же, тем не менее, Горацио, не стоит разделять их: душа в обличье груши, запрятана под платьем королевы, вдруг разжиревшей и вонючей станет, от пота, угрызений, ласк, обмана, слёз, и будет беспрестанно так до тех пор, покуда я и ты как прежде зарядили повторять слова о небе и земле лишь вместе и не откажемся сейчас же от обоих, ну а теперь отвечу на вопрос, который я тебе поставил перед этим, готов, Горацио, вот я и говорю, что я отвечу на вопрос и вот ответ: ответа нет, как ты б не ухитрялся, поскольку надобно увидеть все порывы, что к потолку, что к полу суть одно, и это-то одно мне неприятно, а отказаться от него, уйти в молчание, когда сказать не в силах, ведь речь лишь вспышка между двух обманов, один несет к себе паук на ужин поздний, и сок из жертвы делает с охотой, ей кости, мясо, нервы, вены, всё разбавляя поцелуем паучиным, в вино редчайшее паучье обратив, оно готово, будем ждать его, и чтобы жертва там не думала себе, так что ж, она уже разбавлена и зреет; другая ложь, Горацио, влечёт нас к полу, где нас смоет тот, кто первым воду выльет из ведра, но что я говорю тебе, вот ведь проклятье: опять слова, слова, слова, молчу смолкаю запираю на засов, и над воротами готовлю я раствор смолы расплавленной для тех, кто подберётся, то будет взгляд мой, вот такой, такой вот-вот.
Но это что такое, что я слышу, уподобляешь музыку словам, которые никто не произносит, они висят в молчанье как бельё, оно похабное, развиснув для просушки, напоминает о хозяйском теле больше, чем о белье повешенный хозяин, ну так что ж, Горацио, пусть двести молодцов под стать тебе и мне, но в здравье большем и на сцену водрузившись, нам пропоют молитвой отче наш, что будем слышать ты и я; я буду слышать лишь ту красотку, что ко мне вполоборота так нежно музыке внимает, не шелохнется даже прядь её за ушком, она меня духотворит, не хор, нет-нет, а ежели кокетливо посмотрит, я буду видеть в этом обещанье, и вместе с молодцами, что на сцене встали, воздам хвалу ежи на небеси, ведь это значит: вечером мы с нею могли, заметь, Горацио: могли, и с этим словом здесь не пререкайся, воспрянуть духом, коли тело это, да я с тобой, не веришь если ты, просунь меж пальцев мне свой палец, видишь я, могли, Горацио, мы с ней сегодня вместе, и это всё я слышу, да, аминь; душа возносится туда, где нету Бога, а лучше чтобы дьявол навестил, когда мы будем вместе, никто не потревожит нас, когда мы запах серы претерпев, усладу духа тут же через тело обрели б, ну вот опять они: могли, могли, ещё ей мне сболтнуть о том нельзя, ты слышишь, слышишь, либо виноград стонать не будет, хоть упруг он, завидуй мне король, сегодня ночью пясть в изюмы погружая, тебе ли не роптать, иначе виноград в руках полопается, пальцев не коснувшись, и вместо стонов сладостных: о, Гамлет, придётся мне добавить сюда не; и хор тогда вдруг обратится ором, где пара сотен мужиков поёт, когда страна нуждается в солдатах, они ж от службы малодушно укрываясь, старух в чепцах потешить собрались, и прядь волос мне скажет: не могли, опять же, вот Горацио, как чудно: и прядь волос мне скажет: не могли, при этом вновь ни звука не исторгнув, вот что я слышу в этом отче наш и всё, что скрыто в имени Твоём.
Часть пятая,
в которой не было ничего из того, что бывшим вспоминается, портрет Сталина глядит через окно на Храм Божий, дед ест леденцы и пишет письмо, дети слышат подземных человечков, добрый волшебник пьет портвейн и ругается матом – и кое-что еще
Не было ничего-ничего из того, что бывшим вспоминается и так именно, как оно вспоминается, очищает память, катарсирует былое в явь чёткую, то, что завсегда случалось в разбавлении замутняющем обстоятельств случайных, от коих впоследствии отряхивается вымокшая насквозь собака определённостей желательных, лужицу случайностей вкруг себя разбрызгивая, на солнце высыхающую сразу почти, и затем, ежели окажется, что в сброшенных доселе каплях случилось не случайное что, наоборот важное, то поздно будет уже, и лишь смятение чувств будет испытываться непрестанное, а по поводу какому неведомо, и собака памяти сухая, с каплями вместе и шерсть, и плоть свою сбрасывает, существом своим то полагая негласно, что на деле условием для бытия её жалкого ныне было; вычистить из памяти существа воду чистую памяти уничтожение есть её и не иначе, и с оставшимся делать ныне ничего не надо, в том числе и вспоминать даже ничего не следует, скелет оставшийся собачьей памяти норова своего не имеет вовсе, и даже по-собачьи тревожаще не взглянет на хозяина своего, и может кому легче будет дело с этим иметь зверем, призрачно придуманным в беззубьи его, нежели со зверем разъярённым самостоятельным памяти подлинной, коему по ушам не проведёшь, ибо с пасти его слюна кровавая былого нашего каплет, а в глазах неопределённость намерений недобрых к нам обращается неласково, и жучку такую на фьить-фьить не подзовёшь, так и выходит, будто жили затем мы только, прожитое чтобы нас в дикости своей, которая наша, пожрало, хотя таким казалось, пока проживали его, никаким и естественным, что и проживать его лень, и стыдно за времени пустое провождение, и всё-то естество мы никаким полагаем, со стороны выжидая чего поважнее, но оно, естество никакое, и есть единственное наше, поскольку оно только нас и уничтожает, равно как и порождает нас же, а с нами много чего ещё порождает и губит того, что к себе нипочём не относим мы, но нас это-то и составляет доподлинно, и смута оттого терзает нас, когда вспомнится нежданно что-то из бывшего, и лик зверя взбешённого явится, коего заклясть стремимся скелетом собачьим, нами случайно от случайностей наших очищенным, бесполезно это, и не было, убеждаемся, не было ничего из того, что было так, как видим мы это ныне, не было. Ежели намеренно памятного не сочинять себе, то заметить нетрудно весьма, как неведомостью своей живо оно, ворочается само по себе, ворчит себе о своём одном и том же, и всё ему безразлично то, что нам важным казалось, из милости нам самих лишь показывает меж делами своими, усмотревши которых, сами затем изумлением полнимся, и какой-то картинке с детства на бумаге жёлтой, пусть и раскрашено ретушированной, придаём значение небывалое, а к здесь бытующему въяве своей перестаём на время короткое обращаться вспоминания удивительного, и пусть картинка бессмысленна для отца Дмитрия, если ему годов не больше одиннадцати, мужчина на ней какой-то и род мужчин этих имя собственное имеет, сталинами именуются они, их много и различны весьма в проявлениях своих, на картинах, в кино скучных, в памятниках мужчинам-сталиным, более них лишь лениных, и сколько их видел в жизни, и ни того, ни другого живьём не увидеть, хотя одного мёртвым видел однажды, в очереди многолюдной выстояв, но то раньше было, когда маленьким был он, теперь отец Дмитрий разбирается в этом всём, это всё именуется политикой, всё это неинтересно, и на фото подрисованном в комнате дедовой Сталин это то же самое, что Мария в спальне бабушкиной, с младенцем на руках, и лицо Марии этой никак не похоже на лица, Густавом Море гравированные, но это ничего, это не политика, потому что, а вера, в политике все одинаковые, но к ним относятся по разному каждый кто говорит, а в вере все разные, но к ним все почти одинаково относятся, и лишь в комнате общей, третьей и последней, где они с Ариной играют, телевизор в ней та же самая вещь главная, помимо дивана красного раскладного, но так ведь и у деда диван старый зелёный уже нераскладной, и у бабушки вообще неизвестно что, потому что всегда накрыто перинами и покрывалами, но вещи ведь не кровати в комнате, а Сталин, икона или вот телевизор, и последовательность порядка единого наблюдаема не только отцом Дмитрием и Ариной, у бабушки с дедом гостящих, но и всяким, кто здесь долее чем на чай останется, Арине шести лет не более, но она внимательная, и отец Дмитрий никак не почитает её за ребёнка, скорее уж чаще себя самого, и ежели кто останется даже на ночь, как внуки каникульные, так дед весёлым и добрым поначалу становится, и Арина к нему тянется потому ли, что дед сам чаще к ней обращается, когда выпьет, то ли потому, что захмелев, он непременно с бабушкой ругается, и она, плача, в комнату свою удаляется тогда, к иконе обратиться дабы, и внуков своих покидает лика ради святого, до того ласковая и заботливая, никак не из жестокосердия, плохо ей и не желает она показывать этого никому, потому как сильная называется это, отец Дмитрий это понимает и чувство досады непреходящее гложет его, Арина не понимает или понимать не желает, потому что дед в комнату к себе её зовёт, и тумбочку открывает под окном стоящую, к которой никто не притрагивается кроме хозяина, и из нижнего ящика леденцов коробку достаёт и Арину угощает, отца Дмитрия тоже угощает надо бы сказать, и он леденцы берёт, но берёт уже с чувством осуждения деда и Арины, каждого за своё, деда за жестокость и хмель, Арину за то, что не видит подвоха в состоянии дедовом, но как видеть ей, она к ласке бабушкиной своеобычной ставшей привычная, за необычное почитает внимание к ней деда обильно уделённое, и бесполезно Арину от деда теперь уводить, хотя уводится легко, но не понимает зачем ей делать это, и за что её лишают такого доброго и весёлого деда, да и коробку железную нарядную с леденцами дед с собой не отдаст, обратно положит, и хотя ведают внуки, что в нижнем ящике тумбочки его, стариной пахнущей, схоронено, он в следующий раз будет опять лукаво посматривать, и поманит за собой внуков мол, пойдёмте, я что дам вам, озорникам, золотые мои, озорники, лишь затем отец Дмитрий поймёт, почему дед такое значение мог придавать леденцам этим, сам в войну выросший, дед леденцов отродясь не видал, и, как затем выяснилось, он не столько внукам к угощению, сколько дань детству своему собственному отдавал, вновь и вновь подкупая к заканчивающимся леденцам в одной коробке, и тогда он их съедал сам, один, новую, такую же нарядную, и уж из неё-то вновь озорников угостить можно будет, а пока нет пользы в том, чтобы увести Арину от деда, польза будет, ежели оставить её, но польза горькая, когда надоест ей вдруг дедова ласка хмельная, однако никто не проверял будет так или нет, просто отец Дмитрий уверен как-то изнутри, что именно так всё непременно и сложится, воспитует в себе отрок по имени Дмитрий чувство ревности, от коего затем избавляться будет куда невыносимее, чем ныне его подкармливать, будто леденцами из баночки расписной от хмеля до хмеля, но должно же ей захотеться уйти, ведь так всегда бывает, когда надоедает что-то, тем более дед одно и то же будет говорить по кругу, расспрашивать про жизнь её и ответы тут же забывать, и подкрадывается к отцу Дмитрию догадка, что дед вообще не знает не то что какого возраста внуки, но в школе они или в саду детском, или же в институте уже каком, дети любят одно и то же сами, но они его сами выбирают, а Арина не ребёнок уже, и поэтому можно с ней серьёзно все вопросы решать, отец Дмитрий её за особу взрослую почитает, но хрупкую и нежную, о коей заботу непрестанно иметь требуется, а посему, если можно пользы горького поучения избежать, так поступать и следует, тем более что в доме оставаться уже нельзя, ибо дед, бабушкиных всхлипываний дабы не слышать, ибо бабушка, дабы ругани дедовой избежать, включают кто вперёд успеет телевизор громко-громко в комнате третьей, и по комнатам расходятся каждый в свою, а комнат ведь три всего, и ни в одной не поиграешь уже ни во что, под громко работающий телевизор засыпать лишь хорошо, не играть; попытки звук убавить, о смелости его выключить вовсе речи не идёт даже в мыслях смелейших, попытки приводят эти к явлению грозного деда, которого даже Арина, к нему благоволящая, тогда пугается, или к бабушкиной просьбе робкой из комнаты своей: включите вы ему, ребятишки, не балуйтесь, уж чтоб успокоился, сходите погуляйте лучше; отец Дмитрий и так собирался идти, можно лишний раз напоминания не делать, большой он уже и взрослый, сам всё понимает, да и поиграть всамделишно хочется, и всё к тому приходит, что и Арина теперь желает гулять, на улицу выйти, во двор, и не потому уже отец Дмитрий будто её уговорил, хоть он готов, но нет же, сама, и в комнатах трёх дома бабушкиного небольшого покой шумный царствие своё начинает, разворачивается в силу полную: бабушка плачет, но этого с улицы не слышно, телевизором заглушается это жизни постоянное сопровождение от замужества до гроба сопутствующее по воле доброй людской, дед же письмо сочинять принимается, начала которого никто ещё не слышал, и конец которому не был подведен иной, кроме как через отрезвляющие перерывы и, в итоге скорбном, смерть отправителя, так и не отправившего ничего, разве что самого к адресату на встречу личную жизнь покинутая наставила. Письмо своё дед не пишет, но диктует лишь завсегда, адресат на окне у него, из фото ретушированного на деда глядит одобрительно, Сталин, письмо это нескончаемое, всем родственникам знакомое, началось не иначе как в годы военные, когда дед роста небольшого, артиллеристом будучи, из Грузии тащил орудие по грязи дорожной к битве под Прохоровкой, и грязь упоминать можно было бы и не, однако ж стоит всё же упомянуть, потому как орудие было больше деда, и это неудивительно, удивительно же то, что грязь по карманы нагрудные гимнастёрки дочавкивала, и при этом орудие не очень хорошо тащилось, батюшка Иосиф Виссарионович, ни разу дед не жаловался на адресата, всегда ему на другое, в стране что происходит, разворовали и беспорядки, руки не хватает сильной, воли несгибаемой, часть самая подробная к завершению письма никак не завершаемого, с дедом самим обходятся несправедливо, о чём перечисление особливое следует, деталями умащённое, и без разбору особого, фонд пенсионный, слёзы бабушкины, врачей грубость и некомпетентность, жизни личной сына единственного, отца Арининого, удач особых отсутствие, и подряд всего, как отец Дмитрий догадывается, и слышат они с Ариной письмо это вновь и вновь отчётливо артикулируемое, по причине нахождения за окном комнаты дедовой с форточкой открытой нараспашку, любит холод дед и пищу остросолёную, играют под окном отец Дмитрий и Арина, и понимает отец Дмитрий: пьян дед, однако ж обращённости адресной настырной дивится весьма, и тому ещё, что несмотря на состояние своё, все-все новости дед вспомнил со времён предыдущего диктования письма своего случившиеся, по телевизору и радио увиденное и услышанное, и события сюда прибавляет ловко, в семье многочисленной его место возымевшие, всё дед упоминает, в манере ругательной исключительно, но помнит ведь, и отец Дмитрий дивится взаправду сему феномену чудному, и годы спустя упокоено весьма изумится, дед когда умирать соберётся, не сам, жизнь когда его умереть соберёт, в визит к нему последний, полчаса у кровати проведённых, не тому удивится, что Сталин там же, где и прежде стоит, это несомненно и бесспорно, а тому, что на фоне фотографии этой взгляда проницательного и хитрого, фотографии, вечной казавшейся, теперь особенно, когда дед вот-вот отойдёт, а генералиссимус останется, церковь за окном в аккурат раскинулась, фото будто в себя вбирая, изменится в миг тот для отца Дмитрия окончательно раньше по комнатам разведённое, к Господу бабушки обращение и письмо дедово с предложениями по всего улучшению, доверием безграничным и наивным деда пьяного сохранённым и проникнутым, на деда тогда отец Дмитрий посмотрит, но следа гнева пьяного в нём уже не уличит ни за что, улыбку смирения приемлющего, и глаза во глазницах отточившиеся, впалые, меж коими нос подростковым ставши вмиг заострился задорно, всё это после, а пока во дворе письмо деда слушают, да не слышат по причине игрой захваченности, отец Дмитрий и Арина, и слушают, да не слышат ибо хотя скептичен и настороже относится отец Дмитрий к словам письма из форточки доносящимся, да уверен откуда-то уже, что правда разворовали, что сволочьё одно, и посадить всех бы, и было бы то решением наилучшим, если уж стрелять нельзя; однако ищут они страну волшебную, идея отца Дмитрия самая серьёзная из последних, и место это с эхом письма Сталину в жестяных полосах забора место лучшее для поисков страны волшебной, не потому что деда слышно, но устроено потому что специально всё здесь так, не искать страну волшебную лишь дурак здесь сможет последний.
Семь подземных королей там не живут и это наверное, но люди другие сказочные, так это непременно, там они, и не там если, то где же тогда быть им, подождать следует нигде отвечать, там, в других местах проверял лично отец Дмитрий, волшебство не имеется, поначалу журналы читал в библиотеке детской восьмой, и выписывал после, не читал уже когда, знание-сила, инопланетяне, человек снежный, друг бигфут, молния шаровая и обычная квадратная, утверждалось там пренепременно, что всего того нет как бы и как бы есть в одно и то же время, невероятным очевидное лишь представало, хотели редакторы наоборот, однако отец Дмитрий теряет интерес ко всему подобному, а потерявши оный, видит: никогда интерес этот его и не привлекал, а что привлекало не знал, и не знает до пор сих, но чего не знает, то уж вернее делается, чем знае-мое, за облаками следит фиолетово-розовыми на траве лёжа, на реку грезит, матрас надувной с цветочков непонятных узором оседлавши, решается реку переплыть на оном, решается, не переплывает, от решимости сердце заходится нешуточно и это тогда, когда берег противоположный исследован донельзя, равно как и этот до того же исследован и поболе даже, хочется верить, что коли реки не на машине по мосту асфальтом резиновым и бензинами разных номеров пахнущему на сторону другую перебраться, Волги, там не сторона другая, известная, будет, усилий бы не стоило на матрасе преодолевать всё это, но мир совсем неизведанный и который ни при каких условиях исследовать не следует, жить в нём неисследованном, и радоваться неисследимости его, не сказать законы чтобы природы иные там, это слишком мало, законы природы, выразить чтобы там что, и много сразу же, не то в общем и совсем не то, и нужно взрослым сделаться дважды ещё, чтобы увидеть необычность всего, обычным предстающего, и невозможность жить в мире понятном нигде, ибо не было, нет, и не будет мира такого никогда спокон веку, но на это отец Дмитрий не готов ещё, лишь позже это откроет и не удивится этому, а пока, решившись, не поплыл поэтому по причине опасения свойственного: всё там ожидаемое неожиданное не тем окажется, а простым неожиданным обычным, о матерчатую подушку пупырочную подбородок натер себе, и спина обгорела довольно, сметанный к вечеру сделался, родителей жаль ещё очень, неизвестно ведь как долго волшебная сторона другого берега задержит его, а тут, утонул, решат все, маму жаль особым образом, отца жаль в растерянности его, представляя перед мамой убивающейся, находящимся, остаётся за камыши грести, и сходить со своего чудо-плота матрасного на камни, из-под воды торчащие голышами своими, отчего накаляются на солнце и требуют для начала, чтобы их полили водой сверху, которая всё холоднее по мере обожжения солнечного кажется, а попутно гора, возле дома которая, манит не менее, поскольку за нею, точно это, уже страна волшебная, и не беда, что на гору дорога ведёт удобная, открывающая лысину холма с ёжиком леса проплешенным вдали, исхоженную пешком и на велосипеде изъезженную, с Димкой ещё, а с Максимом после чуть, Максим, хотя и не друг вовсе, товарищ по прогулкам велосипедным, сгождается отцу Дмитрию всё же неплохо, ибо ехать не с кем более, и отец Дмитрий Максиму сгождается, ему ехать всё равно с кем, друзей нет тоже, но и нет ощущения безысходного одиночества своего, и не получается здесь из одиночеств двух, поневоле столкнувшихся, дружбы никакой, двуочество прогулок лишь, да и какая дружба тут быть может, у Максима велосипед со скоростометром, за колесо цепляется вещица такая блестящая, за обод крыло держащий переднее, а можно и заднее, без разницы, у Максима за переднее просто, дивная вещь, а то что у отца Дмитрия велосипед лучше, так это дела не меняет, и неверно, что стерпится слюбится, это только от безнадёжности бывает так или у людей пустых, навсегда отец Дмитрий постиг оное мудрости народное отсутствие в выражении известном, нельзя полагаться на это, нельзя, а на гору, дабы в страну волшебную попасть, необходимо не по дороге каймой вдоль обрыва идущую, а непременно по обрыву каменистому вскарабкаться, и пусть себе по дороге сбоку идущие дивятся настырности отца Дмитрия, рискующего жизнью, как он сам себе это представляет, шею сломать везде возможность имеется, а уж тут-то как же не сломать, камни острые под руками осыпаются, и под ногами продолжают осыпление своё, чем же это ноги рук лучше, хуже даже намного, руки вон пальцами зацепляются, а ноги бессильно кед подошвами скользят, вниз камни от рук осыпающиеся пропуская, и сами камней добавляя падающих острых, раньше здесь динозавры жили, своими трёхпалыми лапами птичьяжабьими ступая всюду, затопило их всех затем, не иначе как потопом Ноевым, и, вода когда ушла, камни к воде привыкшие на воздухе уже жить не смогли как прежде спокойно, и коты взрослые в доме чужом не могут после своего, отец Дмитрий с Ариной Ваську носили в сумке болоньевой хлебной к бабушке, сумку он разорвал, руки людям заботливым расцарапал по локти, надо же чтобы лежал он в сумке на спине, убежал куда-то, весь вечер летний его искали по окрестностям: кавась-кавась-кавась-кавась, пока ночь не наступила, и уже отца Дмитрия с Ариной искали, когда же наконец не нашли их, а они Ваську наконец не нашли когда, то сами все нашлись, отец Дмитрий с Ариной вернулись домой уставшие и голодные, Васька там уже сидел, на них настороженно весьма глядя, на кухне из-под котла в углу, вот и камни такие же недоверчивые и настороженные, вонзаются в руки, крошатся под пальцами неожиданно, и режут руки, когда на податливость их рассчитываешь под руками цепкопотными и запылёнными до распирающей подноготной грязи песковой, но впереди страна волшебная за выступом маняще нависающим должна уже раскинуться не иначе, внизу город позадишный распластан с муравьиными людьми и солдатиковыми домами, опять отец Дмитрий поднимается наверх, что-то всегда не получается, рука когда лишь касается травянистого верха уступа, волшебную страну являющего, отец Дмитрий вниз соскальзывает невольно, и вполне уверен, само по себе что так вышло, до тех пор собака пока не появилась, овчарёнок кавказской породы, Граф, с коим карабкались вместе, однако Граф не стал в игру играть под названием долезть до верха и отступиться перед ним, всегда-то звери такие бесцеремонные, нет, Граф нетактично на уступ этот забирается лапами задними, в лицо отцу Дмитрию камни с песком и землей выбрасывая, садится с языком свешенным, поворачивается к городу мордой своей, и с языка слюни на внизу стоящего под уступом отца Дмитрия капают, ветер их в разные стороны разносит, ветер здесь завсегдашний обитатель, ушами водит псина лохматая, но отец Дмитрий как и прежде, в дособачий период прогулок детства своего, уступа аккуратно рукой касается, берёт себе оттуда, где вид невиданный страны несуществующей открывается, камешек какой или травинку сорвёт, осмотрит с завистью доброй лик наглый пса своего на фоне неба этой уже другой страны, и назад спускается, давая, всё же, псу равнодушному к волшебству несуществующему, отдохнуть, знал бы Граф что пробежать ему по стране волшебной немного вперёд и заговорит пренепременно, и окажется другом внимательнейшим отцу Дмитрию, и никто другой не нужен им будет, разве девочка какая ещё приятная, собаки там не умирают раньше людей, все живут в счастье и молодость окунаясь, а что это значит, смутно представляется весьма, знал бы это Граф, не умер бы на день Казанской богородицы ноябрьский через несколько лет, и нельзя говорить как требуют будто издох он, ибо умер, умер как человек и даже важнее человека умер, не знал он всего этого, а отец Дмитрий знает, но не представляет подробностей, не умеет и уметь не желает, рукой подержаться и назад бежать по камням вниз, скатываясь руками с пальцами растопыренными, придерживая камни: стойте, не бегите со мною, и песок в кеды синие тряпочные набивая, Графу спускаться тяжелее, он смешной весьма, тут ещё неуклюжим бурдюком скатывается, задние ноги длинные ни к чему теперь ему, и так приятно, преодолев спуск, обнять его и кататься по траве с ним, вонючим делаясь до неприятия собственного, а года три спустя отец Дмитрий уже с мальчиками Андреем и Антоном вместе будет идти здесь, вести их в волшебную страну, по тропинке уже боковой, вдоль обрыва, спокойно весьма в обрыв заглядывая, но волшебство страны этой будет свойства земного весьма, через гору перемахнуть ежели, и по той стороне холма спустится тут же, окажешься в микрорайоне спальном города, где продукты, магазин большой и пустующий клиентами, находится, в котором жвачки дешёвые, не раскупленные, их трудно уже найти или невозможно вовсе в магазинах околошкольных, а потому так хорошо доставать на каждой перемене к зависти своих, но отец Дмитрий по неосторожности заикнувшийся о волшебстве, здесь надобное место имеющему когда-то, сам способствовал тому, о чём жалеть многажды будет, когда сперва с уст Андрея и Антона, а затем всех одноклассников, а затем половины школы услышит о волшебстве магазина дешёвых жвачек, а затем станет местом общим это выражение, стыдно станет каждый раз слышать, будто мир предал свой невиданный и недействительный, но подлинный самый и настоящий, на поругание и глумление мерзостнейшее, ибо не ведал тогда о магазине, хотел просто ребят увести подальше в надежде незаполненной, магазин сам подвернулся, и тогда завёл их туда, но это после всё, сколько повторять можно, а пока они с Ариной яму копают, схороняя дело своё от деда и от бабушки, прикрывая её на ночь листом картона от коробки упаковочной телевизорной чужой, и там не семь подземных королей, и не нутро Луны с коротышками денежно живущими, а что именно неизвестно, но непременно что-то имеется.
А пока на бумаге это всё выводится, пока пишутся буквы эти, отвращение одолевать должно уже до невероятия, ну прямо как не ведая как, сообщить о том можно разве что историю продолжая, а чего тут продолжать, коль скоро всё закончилось уже, даже о том ежели мы не ведаем пока ещё, и как с этим быть, разве что поиск страны волшебной, увенчавшийся результатами различными: отец Дмитрий с Ариной в яму выкопанную под деда окном с форточкой приоткровенной спускаются, и места там предостаточно к тому, дабы суметь им двоим ещё и на карачки опуститься, на четвереньки встать, сказать понятнее будет, пожалуй, хотя какие у них карачки и где эти самые четвереньки, хотя бы уж восьмерёньки, неясно, и к тому же не говорят, что люди обычно на двуньках шастают или на одноньке в классики во дворе детвора прыгает, не говорят так не в последнюю очередь и потому видимо, что во дворе, с ямой к подземному царству ведущей, никакая детвора или взрослора, кроме бабушки, дедушки, Арины и отца Дмитрия не случается, не прыгает и не ходит, и потому ещё не говорят так, что кубики классиков и классиков кубических нарисовать не на чем, да и нечем, асфальта серого с вкраплениями крупными щебеня имеется ничтожно, но уложен вручную он во времена старые, а утоптан вножную, он неровный и ежели растянуться на нём исхитриться, хотя хитрого в том нет ничего, каждый из обитателей к тому периодически достаточно хитрым сказывается, тогда разодрать себе в кровь то, чем упал именно, удаётся, и одежда не спасает никакая, включая из ткани джинсовой пошитую, лишь зимой казалось бы спасаешься, но тогда наледь, у льда исхоженного и не убираемого неровности от природы похлеще ещё будут, хоть одежда на благо толще зимняя, но в туалет ежели из дома выходить понадобилось, а так случается, и случается нередко, кто же будет тогда полностью облачаться по гардеробному минимуму хотя бы, по морозу легче пробежать быстренько, вот и получается, будто здесь прыгать-то прыгают, но не в классики и по воле не собственной, и па редко эти когда завершаются спотыканием исключительно, а посему и не нарисуешь на асфальте таком ничего вразумительного, мела берешь кусок приличный, в ларёчке газетном союзпечать купленный, проводишь черту в локоть собственный, а мел от неровностей не пишет, вжимает его Арина в неровность асфальтовую что есть мочи, и ведёт руку, мела кусок крошиться начинает и ломается тут же пренепременно, а на асфальте подобие лишь на местах наиболее всклокоченных, точки крупные весьма остаются, крупные, но одинокие, и даже если рисунок подобный завершить, кусков меловых всю коробку, все шесть штук то есть, изведя, рисунок полученный, максимально точно исполненным будучи, оценить никто и обозреть, даже соответствуюше умениям изображальца, не способен оказывается, видно что нарисовано что-то и не более, что непонятно, покуда к оценке и взиранию требуется на крышу взбирательство осуществить, как в картинах экспрессионистских с мазками кистью крупными лишь издали наблюдаемо изображаемое, но экспрессионисты к тому намеренно глаз публики ленивый приучали, а тут никаких эстетических программ, асфальт воспроизводит местный часть незначительную из детализации требуемой несильной рисунков детских и замыслов нехитрых, исхитрение напомним хватает лишь упасть чтобы здесь, а к рисунку хитрости не остаётся с локтями и коленями сбитыми, единственные зрители на крышу не заберутся, у бабушки ноги вместо протез с возраста юного, а дед крыши не боится, но за крышу опасается, ибо протекает она уже количество сезонов дождливых изрядное, но дед к хозяйству не расположен ныне, на крышу потому вместе с небом наложено для внуков табу, и не потому ли они теперь под землю забираются, спросить бы, да не будем, ибо знаем превосходно: у отца Дмитрия и Арины другая особая задача по волшебнико-раскрытию возымелась, и даже шляпы помимо, которая уже сама по себе убедительнее всего, имелся ещё саквояж старинный кожаный, с коим ходил волшебник по прозвищу скрытническому дядя Толя днём куда-то, и вот в этом была первоочередная задача, в ущерб даже обедам и ужинам, выяснить с кем и как часто дядя Толя общается, и кто из них тоже волшебники, и ничего, что навыки слежения в книжке той не описывались, на это другие книжки про сыщиков и фильмы особые имелись, и Шерлок Холмс на сей раз не бандитов ищет, а волшебство разъясняет Ватсону в облике девичьем, а не вида усатого джентльменского, это ничего не меняет, наоборот, можно сказать, способствует всему весьма, и тут уже можно сказать, что отвращения до невероятия писать нам тут, несуществующим, будто поклялся в любви вечной кому, и пусть нет её, любви этой вечной, и никакой уже нет, но та, поклялся которой, через срок малый весьма обернулась каргой старой противной, а ты клятве должен служить почему-то, и глядя на лицо это старое отвратительное ведьмовское, слова к нему уже не причитающиеся произносить, сам втайне о другом мечтая или прошлое вспоминая, вот так вот здесь приблизительно говорить продолжать, а посему продолжаем с терпеливостью говорить о том, что чаще всего дядя Толя ходил к другому дяде, выглядящему ужасающе, и лишь сегодня отец Дмитрий бы сказал, что ничего ужасающего, это трагедия такая люди говорят: спивается человек, но тогда решено было: дядя Толя волшебник добрый, он же в шляпе и с саквояжем, а тот, другой, не иначе как злой, достаточно на его рожу посмотреть искажённую перекособоченную и неважно даже, что дядя Толя немногим лучше, этого не видно особенно взглядом невооружённым, ибо дядя Толя в шляпе и с саквояжем, и злой волшебник украл у доброго что-то такое, добро дяде Толе мешает в мере полной кража эта совершать, вот и выглядит хуже и хуже он, и добра не делает особенного никакого, лишь за молоком с бидоном ходит пятилитровым, да за хлебом с сумкой ситцевой, результаты такие однако первый лишь этап наблюдения предоставил, добрый волшебник в любом случае добро делает, но это всё дома, от глаз людей обычных непосвящённых и приспешников колдуна злого скрываясь, комаров, ворон и прочей нечисти, на втором этапе надо уже бы по-хорошему к волшебнику доброму забраться, жил он один, а как же иначе, от родителей слышал отец Дмитрий, будто жена от дяди Толи ушла, а от деда другого будто умерла жена, и этого достаточно вполне понять чтобы: не было в общем жены никакой, ибо если она есть, то есть, а если была, то нет, и разница между жёнами ушедшими и умершими в сравнении с оставшимися и имеющимися не такая уж и значительная для людей, а с волшебниками и так всё ясного яснее, надо в дом проникнуть, но не через калитку же, которая дорожкой за ней начинающейся прямо в дом и ведёт, нет, через сад дяди Толи, и здесь уже действуют все силы волшебства доброго и злого колдовства, а посему в сад тот проникнуть неподготовленному никак нельзя, загодя дома открывает отец Дмитрий перед Ариной книгу волшебства толстую, на ней позолота и буквы три бэ сэ э, энциклопедия советская большая и связана она как-то с портретом в комнате дедовской, но доказать это Шерлоку Холмсу пока не под силу, Арина не верит маловерно в волшебничество книги этой, но надо тут же открыть на мэ метаморфозу, и пальцем провести под словом превращение, и ни слова про Замзу Грегора, вот видишь-видишь, она изумится и подготовка завершена, всё, в сад, все в сад; сад дяди Толи дикий, а какой же ещё, сад зарос чем попало, преимущественно дикими вишнями и яблонями, с которых яблоки кислые и маленькие, а вишни маленькие и сладкие, но оттого всё это особенно вкуснее, их найти трудно, и потому ещё, а в этом интрига наипервейшая, всё в саду этом, начиная с забора прогнившего, окутано виноградом диким, с которого плоды невкусные осенью поздней, когда листьев нет уже, а грозди тёмные фиолетовые висят себе на веточках бордовых тонких, а теперь летом листьев много, виноград обозначен лишь шариками мелкими в гроздьях, в размер головки спичечной, торчит плотный в разные стороны, и бежать ежели скоро через него, то эти виноградины спичечные хлещут по лицу пресильно, а бегать пришлось много, чар опасаясь добрых волшебных и злых колдучьих; сначала дыру в заборе старом найти, дело несложное, достаточно подлезть под охапкой до земли распластавшегося винограда и дыр много, а если не хватает, за доску реечную тонкую потяни и будет тебе ещё одна дыра, но отец Дмитрий с Ариной ничего не ломают, территория эта заколдованная, подвохов и ловушек избегать легче не притрагиваясь ни к чему, по меньшей мере не ломая и не круша ничего, нашли дыру в заборе, за которой тропка оказалась, и лишь впоследствии через два дня поняли: тропка эта не людьми, но псами бездомными протоптана, хотя это лишь люди, которые тут не топчутся, в посетителях сада дяди Толи могут псов бездомных заприметить, но отец Дмитрий знает: в этом обличье сюда ходят люди заколдованные, которых надо расколдовать волшебнику доброму в шляпе, и свидетельством тому вот что: никто из людей к дяде Толе не ходит вообще, хотя калитка открыта всегда, и три раза замеченные собаки, в сад заходя, оттуда не выходили; хотя и люди не выходили впрочем тоже, это ничего, может быть дядя Толя, в людей собак превратив, чай с вареньем пьёт и их к столу пригласил, либо потому, что вороны и птицы другие, резко вспархивающие, когда по саду под покровом виноградным крадёшься, они ведь могут в самом деле теми самыми несчастными оказаться, кои в обличье собачьем к дяде Толе придя, просят его о возвращении в облик человечий, но чары на них положенные так сильны, расколдовать их без предмета похищенного колдуном злым невозможно, а посему делает дядя Толя то лишь, что может: собак в птиц обращает до времен лучших, когда колдун злой предмет вернёт, добро творящий, и наведываются птицы сюда вновь и вновь, чаще собак, дабы узнать: могут ли они людьми уже стать или не могут ещё, не могут, отвечает со слезами на глазах дядя Толя, жалко ему несчастных, но поделать ничего не может, а птицы понимают, они же не птицы на самом деле, и лишь облик у них такой, разумение же человечье несчастное разумеющее, понимают они всё, и просят остаться до часа освободительного, и вот в саду очень много птиц и птичьих гнёзд с птенцами, ждущие освобождения к птичьей жизни приспособились вполне, они же понимают всё, мозги у них не птичьи, жизнь проходит единственная, вот и заводят семьи, птенцов, гнёзда строят, а дядя Толя добрый и предмет когда вернёт, и детей этих в людей всамделишных превратит, а то что это всё правда, понятно уже потому как входящих собак в сад по тропке этой, в винограде схороненной, видели больше, чем выходящих людей или тех же собак, а ежели выходящие и были, так уже не те, что входили, и это тоже понятно: некоторые собаки, в птиц превращённые, могут опять колдуном в собак обращены быть, либо сами птицы просят им временно обличье пёсье вернуть, ведь жизнь собачья взаправду от птичьей отличается, достаточно полиграф полиграфычем стать, и правда это всё: на гнёзда птичьи и обитателей их всегда наталкиваешься, но Арина и отец Дмитрий уговор помнят твёрдо: ничего не трогать и не ломать, лишь так есть шанс, маленький пусть, что в жизни останутся они девочкой и мальчиком соответственно, хотя птицы и собаки пугают их часто, поначалу особенно, но так и ребёнку понятно: они не со зла, сами ведь от злого колдовства страдают, и в первый раз, не полностью метаморфозе превращающей ещё сам доверившись, отец Дмитрий с Ариной испугались смелости собственной, когда по саду несколько шагов сделали пригибаясь, ибо всё наверху заросло ветвями деревьиными и виноградарными, выбежали оттуда, страха своего боясь, что есть мочи, сели за забором дяди Толи и обсудили дел положение, впрочем недолго весьма, потому как снова нырнули в сад и к вечеру половину пути до дома уже освоили, в котором волшебник живёт добрый, а на день следующий отец Дмитрий нашёл средство более верное чем бэ сэ э, это был кусок стекла зелёного, который он возле школы, где и провода медные, на стройке, нашёл, но в сравнении с инженерией механической и мёртвой потому, в этом камне волшебство и не иначе таилось хотя бы, это изумруд настоящий, и пусть родители не поверили, им же хуже, хотя бы не попросили выбросить его, как впрочем и проволоку ту медную, её отец к своим инструментам в сарай на стену повесил, а камень этот, нет, не вешал, оставил отцу Дмитрию, сказав лишь, чтобы поаккуратнее и не обрезался, итак, это первостатейный изумруд, и хотя с изумрудами другая уже сказка, но так ведь и Шерлок Холмс никогда за волшебниками не следил, напротив, следил для того, чтобы показать, будто волшебства не бывает, и что собака баскервильская дог чёрный по имени Вита и не более того, но и Шерлок с камнем голубого цвета связывается, так там карбункул, а здесь изумруд, и не простой, а как ни на есть волшебный, у него внутри семь пузырей воздушных и все размеров разных, а углы и взаправду острые. но не настолько обрезаться чтобы, и вот необходимо теперь, и как же они раньше этого не поняли, теперь просто требуется настоятельно этот камень дяде Толе доставить, но не так, на улице чтобы подойти: ни один волшебник не признается, ведь будто он волшебник, и лишь злой, не признавшись ещё и камень заберёт, а добрый нет, не возьмёт, и даже проверять не следует, и необходимо потому камень к злому чтобы не попал, сделать всё так: доставить его дяде Толе в окно дома его, прямо в ту комнату, где он собак в птиц обращает за неимением вещи волшебной, и не исключено даже, что камень исправит всё это, но чтобы это проверить, надо отнести и доставить при условии препятствования всяческого со стороны колдуна злого, но камень их обережёт, он ведь сам к доброму попасть хочет, и даже если ни отец Дмитрий, ни Арина силой его волшебной пользоваться не умеют, камень их обережёт: так завсегда случается, иначе и не бывает, и задача теперь до дома по саду добраться, благо там кустарники и деревья прямо до дома и доходят, а виноград ещё и по стене до самой крыши высоченной вьётся, и задача эта станет важнейшей на два дня грядущих, а в саду открываются под переплетениями растений всевозможные ходы и лазейки новые, полянки сокрытые ото всех и перекрёстки ветвящиеся, по коим тоже ещё пройти необходимо перед приближением к дому особенно: на исходе этих дорожек и путей может полезное что-то оказаться и к их цели приближающее, и они не торопятся нисколько, сад исследуют всячески, и места уже появляются у них свои здесь, поляна для обеда, к слову сказать, или же место для отдыха, нет, конечно, задача такова, что отдыхать некогда особенно, но так говорят лишь, а у них время для особенного отдыха только и имеется: на поляну эту выбраться, посидеть в траве невысокой, которой света солнечного до высокой чтобы вырасти не хватает, сесть в неё, сказать что вот как хорошо здесь отдыхать, да, точно хорошо, а затем переглянуться и снова за работу, с поляны этой прочь и с обедом также почти, из дома конфеты и пряники забираются, и по дороге на поляну обедную уже съедаются вполне, пряники раз несколько оставляются для людей, в собак уже обращённых, а в птиц ещё нет, и некоторые из пряников исчезают бесследно, но это всё перед грядущей встречей с домом ничего не значит, там волшебный дядя Толя, туда и путь, вот они к дому уже во второй вечер приблизились, там наверху сквозь листву хорошо видно: окна открыты, но тишина полнейшая, то ли дяди Толи дома не было, то ли он отдыхает, в последнее, впрочем, верилось с трудом, несвойственно волшебникам людям обычным свойственное, за исключением прятания и притворства в силу необходимости профессии своей волшебнической, он и хлеб с молоком ведь не для себя покупает скорее всего, а потому просто дома его не было вероятно и всё тут: самое время камень волшебный на подоконник положить и уйти тихонько, убежать даже, пока злые силы им не завладели, однако здесь два препятствия имелось, из которых отец Дмитрий Арине лишь одно сообщает: окна высоко очень, открыты они, это да, хорошо, но как до них добраться, посему вечером дома следует совет держать: как до окна долезть, и они его долго держат, заговорщицки переглядываясь и настолько в дело своё погружённые, родителям до них не достучаться никак, зато зовут ужинать, ужинают, говорят спать идти, спать идут, совет держали долго и безрезультатно, потому как дом, когда не перед ним находишься, снова бастионом неприступным в воображении становится или же замком древним, и вообще уму непостижимо как они к нему приблизиться смогли и от замыслов своих дерзновенных дыхание перехватывается, это поначалу, а затем так и понимают они, что, кто с такими замками в замыслах своих борется или дело имеет хотя бы, тот сам герой всенепременно, и преисполненные очарования этого, до убеждённости окончательной доведённого, засыпают они, и тут уже Шерлок Холмс и Ватсон доктор не могут справиться, тут рыцари сгодятся, драконов которые усмиряют, и хоть это всё сказки для маленьких совсем, а здесь всё реальнее некуда, и рыцарь сгодится, а что поделаешь, ежели у реальности силёнок не хватает для самой себя сказывания, засыпают они, и отец Дмитрий другого обстоятельства не упоминает Арине, потому как сам себе в нём не сознаётся, хотя всё настоятельнее ощущает, то именно, в котором камень ему свой волшебный жаль, ибо найден был давно уже, и столько раз вглядывался отец Дмитрий в его прозрачность изумрудную, и все пузырики воздушные навсегда в нём впечатленные разглядывал столько времени, и камень старше этой истории с волшебником, из другой он истории вообще, и у него, сказать можно, своя собственная история, он личный отцу Дмитрию, и с Ариной его делить можно, но лишь показывание совершая, можно дать ей подержать его, и в руках повертеть, но чтобы навсегда его потерять, отдав дяде Толе, который может никакой и не, выбросит его, плечами пожав лишь, швырнёт в ведро мусорное, нет нельзя думать об этом, всё правда происходит сейчас что, но правда и то, что камень из сказки про город Изумрудный, там Гудвин есть, но он иной волшебник, он как дядя Толя не прикидывается обычным человеком, очень даже наоборот там всё, и Элли с друзьями выясняет как за волшебником обычный человек прячется, но и не в Гудвине дело, здесь же с Ариной у них обратная задача, решимости следует набраться и дилемма проста: если отец Дмитрий камень оставит на подоконнике, то окажется всё поправдашним, и некуда дяде Толе, даже если он сейчас, без камня живя, не волшебник, уже деться некуда будет ему, он обречён на волшебничество вследствие камня наличия, если отец Дмитрий сжадничает, то они всё это время изводили себя обманом, интересная игра, но ни к чему не приведёт, а потому пустая и недостойная таких людей серьёзных как он и Арина, положение безнадёжное вполне, но отец Дмитрий не отчаивается. потому как помнит про правду, в коей камень, ежели он волшебен и из этой самой истории, ежели он здесь к месту, сам поспособствует тогда тому, чему случиться надлежит, приблизительно здесь отец Дмитрий засыпает таким крепким сном, что не знай мы его, решили бы, что это ребёнок, но мы-то его знаем, просто он устал, да и кто не устанет, долго с борьбой добрых и злых сил дело имея. На следующее утро сад уже как родной, дядя Толя сходил за молоком и за хлебом несколько часов назад, он очень рано ходит за молоком, отец Дмитрий с Ариной по саду как владельцы его, аккуратно, но ориентируясь хорошо весьма, лазают, и хотя оба о цели своей помнят, камень с ними, как и печенье с конфетами, там даже шоколадные есть, но не торопятся никуда несговорчиво меж собой, семь раз обедают на поляне к тому предназначенной, четыре раза отдыхают, но отдыхать утомительно, поскольку поляна отдыхательная находится очень уж далеко, и пока до неё доберёшься, устаёшь очень, отдохнёшь на ней, это да, но так обратно затем пока на путь к дому ведущий и основной то есть, вернёшься, снова уже устанешь, но это ничего, никто ведь не говорил, будто задача их легка, они когда в дело ввязывались это сложнейшее, трудности их ожидающие серьёзно весьма оценили, не отступятся теперь, а посему после этих обедов и отдыхов уставши уже изрядно, две карамели собакам оставив на входе, вступили на путь основной, и хотя не решили вчера на совете, который держали с вечера раннего до поздней ночи, посмотрев между делом советным, чтобы развеяться лишь, ибо несерьёзно это, целый час мультфильмов просмотрели, да, хотя и не решили как к окну подняться, сегодня с самого утра каждый чувствовал или вёл себя будто чувствовал, а разницы здесь никакой, разве что отец Дмитрий каждее чувствовал, будто попасть на подоконник дяди Толи дело решённое на совете, и если уж не простое, бывали и проще, то решённое и понятное до всех мелочей осуществления полного, точно; и вот стояли они с Ариной, даже не пригибаясь, потому как здесь, перед домом, вверх виноград уходит по стене, оплетаясь, стоят они под окнами, и держит отец Дмитрий камень волшебный свой, и грустно ему вновь от ожидаемой разлуки вечной с драгоценностью личной, а потому начинает он говорить о чём-то к делу не относящемуся, но и ему и Арине ясно, что всегда так перед свершениями выдающимися случается, так и в кино бывает даже, но только Арина не ведает о печалях и сомнениях, в сердце его горящих, отец Дмитрий их не кажет даже, поднимает камень: какой он красивый, и солнце ловит так, через камень чтобы светило оно, и тогда лица их изумрудными делаются сразу же, а пузырики воздуха светятся невероятно: смотри-смотри, да, говорит Арина восхищённо, но тут из окна доносится бормотание кричащее, и снова всё смолкает, но так неожиданно и страшно это было, камень с руки соскальзывает и оземь падает, но они этого не видят, ибо бегут что есть мочи, не из сада, а на поляну отдыха, забились там и молчат: ты слышала, да, интересно что это, что это ясно как день: хрип страшный и бормотания тоже, не иначе как боролся там дядя Толя с духом злым, значит камень ему сейчас очень необходим, а то как же, пойдём, доведём всё до конца, погоди, а если нас, что если нас, ничего идём, не договорили они то, подумалось им чего в первую очередь, а именно: если дядя Толя там и он не волшебник, то поймает их сейчас и к родителям отведёт с позором, не договорили это потому как дядя Толя не может не быть волшебником, а во вторую очередь не договорили: если дядя Толя волшебник и там другой, злой колдун ещё есть, и взаправду они ссорятся, то и отца Дмитрия с Ариной могут от неожиданности обратить во что угодно, но этого не договорили, поскольку защита их единственная, камень волшебный, брошен ими, а точнее сам выпал из рук, и нужно срочно с этим что-то сделать, они к камню подходят, из окна храп доносится, но они на это внимания не обращают, не обсуждается это уже, надо лишь дело своё сделать и потихонечку уходить, от них ведь ничего зависеть больше не будет, глядят они на камень, а он на три куска раскололся, но ни слова не произносят, полный решимости поднимает отец Дмитрий свои камни и Арине знак сделав, к молчанию призывающий, начинает по стене карабкаться, одной рукой за виноград держась, другой за доски стенные деревянные, а камни в карманах шорт отвисают тяжестью своею к земле, и остриями через ткань колются, несильно впрочем, и не смотрит вниз отец Дмитрий, теперь решено его сомнение точное, в другой раз расплакался бы, коли камень разбился, а ныне камень сам пошёл на уступку, молодец камень и не иначе, а от отца Дмитрия многое разве теперь требуется, когда всё существенное решено силами превосходящими, и ещё потому вниз не глядит, высоты что боится; Арина внизу стоит и молчит, а дом и взаправду высокий, не замок конечно, но этажа у него почитай что целых два с половиной: один просто наполовину под землёй упрятан и окна нижнего до пояса им доходят, но у окон тех ставни закрыты, а к тому же ещё и забиты, не глянуть что внутри даже одним глазком, иначе и быть не могло; Арина стоит внизу и молчит, даже тогда, когда нога отца Дмитрия соскальзывает о доски влажные, а виноград, за который он держится рукой одной, рвётся предательски, и отсюда шум громкий, но что теперь с этим поделаешь: успевает отец Дмитрий перехватить другую виноградную ветвь и дальше карабкается, но когда чуть не упал, камень в кармане утроено ныне покоящийся, в ногу уже шибче впивается и чувствует отец Дмитрий, будто порезался даже о камень, но вниз не смотрит, страшно и времени на пустяки нет на всякие теперь, кончилось беззаботное время, вот уже и окно, отец Дмитрий туда заглядывает и видит комнату большую. в самом дальнем углу кровать огромную, а прямо под окном стол огромный, на кровати спит в одежде и в ботинках даже, правда без шляпы, дядя Толя, на спине лежит и храпит, будто человек обычный, а на столе три стакана немытых, по коим мухи ползают, хлеба половина буханки отломанная, крошки, саквояж волшебный открыт и из него торчат две бутылки запечатанные ещё, а третья такая же, открытая и наполовину пустая на столе подле стаканов возвышается, на ней этикетка и надпись: портвейн номер семьдесят шесть; Арина не выдерживает и шепчет снизу громко: ну что там, и тогда понимает отец Дмитрий как хорошо здесь слышно то, что внизу шёпотом даже говорится, отвечает тихо-тихо: сейчас, руку от доски отрывает, на виноград полагаясь и достаёт из кармана кусок камня волшебного, тот самый, ногу что порезал, сам напросился, и без сомнения и сожаления ночного кладёт его на стол, промеж стаканов липких с мухами, от запаха неприятно морщась, и зачем-то в хлеб пальцами тыкает, но хлеб чёрствый уже, хотя утром куплен был этим, заветрился, немудрено под окном полежавши, и тогда уже спуск начинает непростой, спуск всегда сложнее подъёма, это понятно стало, когда с Графом на гору лазал отец Дмитрий, но на сей раз задача исполнена, а потому на виноград полагаясь и обрывая его с треском чудовищным в сравнении с тишиной предшествующей, скатывается почти отец Дмитрий на землю, и от шума этого храп прекращается сверху и даже что-то волшебник добрый бормотать начинает недобрыми словами перемежая слова непонятные, но Арины и отца Дмитрия нет уже рядом, они к поляне для обедов бегут что есть сил, и доедают празднично там печенье, отец Дмитрий ведает Арине, что ничего волшебного он не видел, скорее всего всё такое в полуподвале хранится, но камень на месте и теперь всё будет хорошо, а сам достаёт из кармана два осколка и разглядывает их пристально: в них осталось пять пузырей воздушных, значит в отданном два было всего, а почему ты эти не отдал, Арина спрашивает, отец Дмитрий отвечает, весьма исполненным всем довольный: сила волшебная в том камне не меньше, чем в этих, а камень сам разбился ведь, на это указывая, и тут Арина восклицает: ты порезался, и видит теперь отец Дмитрий: он не просто порезался, у него кровь даже течёт сильно весьма ещё, пойдём быстрее домой, Арина восклицает не на шутку встревоженная, да это пустяки, значит так надо было, говорит отец Дмитрий Арине, и они уходят из сада, и никогда туда больше не возвращаются, и ни слова про мистический напиток для волшебных дедушек портвейн номер семьдесят шесть отец Дмитрий не произносит, вообще ничего не говорит, и лишь в старших классах сам однажды выпьет две бутылки этого напитка, и будет все неволшебно совсем, будет его тошнить и вырвет несколько раз, но он не будет вспоминать об Арине и дяде Толе, а будет думать об однокласснице Веронике, и о том, как же к родителям теперь прийти в состоянии таком ужасном, это затем всё, а пока он рад камню оставшемуся, пусть и в двух осколках, и выполненной задаче рад, теперь судьба собак и птиц им по-человечески улыбнётся, и горд раной своей, мама которую перевязала, но не сказал маме отчего рана эта, упал и всё тут, Арина сочувственно глядела на него, повторяя: сильно больно сильно больно, пока ему марганцовкой рану промывали и йодом мазали порез в битве волшебниковой приобретённый, а он лишь молчал и как брат старший улыбался, но больно было сильно, и в сад дяди Толи они не ходили больше, оставив на поляне для обеда пакет с конфетами, а чуть позже дядя Толя сгорел в своём доме, потому как кто-то из его друзей, сам-то он не курил, после совместного возлияния напитками волшебными, уснул, тут же, с сигаретой зажжённой, и в соседях оказались его дети, из другого города приехавшие, дом восстановившие и каким-то наркоманам его сдавшие, но сад вырубившие полностью, превратив его в унылое поле с клубникой, грядками овощными и одной яблоней тощей на краю, как раз где-то там, где утомляющая поляна отдыха была прежде, но никакого более дикого винограда здесь не было, извели весь, однако случится это спустя всё, а ныне сад ещё открыт и поляны на месте все, обеденная и отдыхательная, просто Арина и отец Дмитрий уже в других историях задействованы, где тоже без камней не обошлось изумрудных, неслучайно же они яму выкопали и на четвереньки встали, подземное царство с семью не менее подземными королями вернейший способ в Изумрудный город попасть, а земля надёжнее неба, на ураган нельзя тут рассчитывать, да и домика подходящего, чтобы через горы перелететь благодаря оплошности Гингемы нет, а земля она вон, везде, и утомляет по-настоящему, как в саду доброго волшебника дяди Толи в шляпе, по-настоящему утомляет, ибо сама настоящее некуда, и к королям подземным это путь вернейший, вот они и прокапываются через настоящее к волшебству подлинному, и тут уже никаких выдумок, какие же выдумки, земля коричневая, песком и камнями перемежаемая, и ни слова о волшебстве, как и всегда впереди лишь дело, к тому же дед дома пьян, а тут они тайком ото всех сейчас провалятся в мир настоящий самый, потому что громко работающий телевизор, плачущая бабушка и ругающийся на всех дед, это не может быть настоящим, а если кому-то и интересно это, то ни отцу Дмитрию, ни Арине точно нет, разве что леденцы у деда в тумбочке прикроватной вкусные, но они не повод яму не копать, вот они роют всё глубже и глубже, и они рыли и рыли.
Склоняется Арина, и отец Дмитрий склоняется в яме, и лбами друг друга касаясь, слушают, потому как вчера вечером отец Дмитрий понял как яма, которую они копают, связана с подземным царством: где-то глубоко-глубоко они должны пробиться к потолку этого царства, к его небосводу пещерному, но перед этим должно стать слышно пренепременно как там мир подземный живёт и так точно будет, сомнений никаких быть не может, это не только семь подземных королей, по очереди спящих, но и подземные, а точнее внутрилунные коротышки сразу же, к которым Незнайка с Пончиком летали, а ну как сразу на дурацкий остров вывалиться, надо будет Козлика искать тут же, но это и Морозко, где печка говорящая с яблоней говорящей языком человечьим, и хотя последняя совсем уж наивна, да и предпоследняя тоже, но быть у предпоследнего шансов больше всё же, отец Дмитрий исключительно на первое ныне рассчитывает и знает всё это точно, а вот чего он не ведает и о чём догадывается лишь, мысли прочь подобные отгоняя, как мух, ранним утром спать мешающих, от каковых ночью форточку не только дед, но и все в этом доме не закрывают, мухам тем на радость, того отец Дмитрий не знает, а что будет если взаправду будет то, чего он как взаправдашнего ожидает, вот скажем, выходят они из упавшего фургончика Элли, они с Ариной, и можно даже без Тотошки, но коли надо, пусть и с Графом, он тут сгодится и за льва до встречи заветной сойдёт даже, выходят они, а здесь к ним жевуны подходят, глядят с восхищением и так обращаться к ним начинают, будто гости великое что-то совершили, и если Элли ещё долго не понимает ничего, и даже Тотошка заговоривший как печь или яблонька, помочь ей не может, то он-то, отец Дмитрий, да и Арина, хотя и хуже значительно, но они оба уже знают, что раздавили Гингему и башмачков секрет знают, и только обитатель страны волшебной ничего не ведает и всё за правду наивно воспринять может, и остаётся тут одно из двух: либо повторять все ходы Элли, о которых столько раз перечитывал, встречаться со Страшилой и спрашивать о его желании, хотя оно известно заранее, деланно бояться Льва, чтобы польстить ему и не удаляться от сюжета, съехидничать разве над Людоедом и предсказать ему равнодушно, на столе для приготовления связанным найдя себя, кончину его незавидную, и так далее, но в чём тут прелесть, и стоило ли ради комедии этой вообще через ураган лететь, а то, что это комедия, сомнений никаких, поскольку желая подлинное обрести, от деда пьяного убегая и бабушки плачущей, в театр попадаешь, будто Буратино, замечательная история с концом отвратительно безнадёжным для ребёнка, а театров отец Дмитрий не любит, и остаётся бессмысленное повторение, ибо попробовать в волшебной стране обосноваться, задержаться наподольше, делать всё вопреки желанию Элли домой вернуться, разве это не превратит волшебную страну в то же самое, что и тут, а ещё интереснее сказать можно: в одну из тех массовочных личностей, что в стране волшебной обосновавшись, к примеру, у жевунов, тут же, с их домиками и крышей голубой и с колокольчиками под полами шляпными, живя там, услышать однажды, после урагана очередного, что приземлился фургон ещё с кем-то, и подойти вместе со своими соседями поглядеть: знает ли вновь прибывший эту страну, читал ли, и если да, будет ли он ломать комедию или как и ты тут же останется, и если не знает, то можно вздохнуть с сожалением к себе и завистливо к нему; пожалеть себя, ибо знал сам с начала самого, пожалеть его, ибо пройдя через всё, он улетит отсюда, восхититься тому, как он на себе всё это почувствует новым, о чём из книги тебе уже известно и позавидовать новизне этой, потому как сказки все сделаны на одного героя и на один раз, и в сказке оказавшись, после этого понимать начинаешь не героических одноразовых, на которых читатель смотрит с завистью интересующейся, но на тех, для кого сказка будни обыденные, ну живёт здесь злая волшебница, ну носишь ты голубую шляпу с бубенцами, так жизнь жевунов от того не сказочней нисколько, в мире настоящем нет что ли голубых шляп или волшебниц злых, запугивающих как есть население обычное, да есть это всё, потому как любой мир сделан под одного героя и одно действие в каждый момент вместить в себя способен, и если где-то Элли уснувшая вывозится мышами с поля макового, то приземляйся сколько угодно и проникай сюда как сможешь, но Гингема уже мертва, а всё на что ты можешь рассчитывать, лишь на механически тупое, как ни на есть, единственно волшебное в странах волшебных, повторение того же самого: сиди и жди, пока цикл предыдущей Элли будет пройден до конца, а ещё лучше изволь, появись в следующий раз аккуратно к этому самому моменту, в чём твой единственный шанс, и радуйся, если придёшь один, а не с толпой таких же как и ты счастливцев, пока же будь добр, убирайся отсюда тем же чудесным образом, каким сюда попал, или, изволь, меняй мир, откуда ты бежал на этот же волшебный, но помни: для тебя здесь он навсегда будет таким же, с несущественными отличиями, к коим привыкаешь быстро, как и тот, откуда ты сюда рвался, привет жевуны, привет, радостно машут тебе руками жевуны, и челюстями так водят будто что-то жуют, но это они на деле про себя переговариваются тихо так, дабы тебе неслышно было: ещё одного нелёгкая принесла и всё время на один и тот же тысячу раз уже добитый труп нашей бывшей госпожи, один говорит, о да, старые золотые времена под игом злой, но волшебницы, другой говорит, мы уже замучились фургончики эти Эллины на дрова переводить, третий вздыхает, но другие возражают, радостно кивая тебе издалека и размахивая руками приветливо весьма: а что ты хотел, мы обслуживаем туристов, так устроен этот поганый волшебный мир, такой у нас бизнес и ничего личного, этим и живём, потому и живуны, а не жевуны, так что не жалуйтесь, братцы, а готовьтесь после презентации ещё один домик убирать и приводить место в вид девственный; и потому-то везде всё одинаково, а ожидание чуда из таких частей разрозненных строится, диву даёшься лишь, в каждый миг сказку меняя можно сказочно жить: сейчас ты как Элли, а через миг, благодаря этому, оказываешься Робин Гудом, чтобы легче было помочь Фродо от кольца избавиться желанного, за которым не Горлум и не Саурон, а, скажем, от обстоятельств в зависимости, синьор Помидор охоту ведёт при помощи псов Карабасом-Барабасом оплаченных, да и всё равно делать что-то, как в сказке, ведь возможнее, а просто так делать не бывает вообще, кушаешь котлету только потому как её кушал, ну не её, а космическую котлетку Пончик в ракете с Незнайкой, за это можно даже полюбить котлеты и позабыть позже за что они тебе так нравятся, а взрослые как, они этикетки читают на продуктах, ем вот это сейчас как тут написано, или те, кто этикеток не читают, делают как те, кто будто мог просто так что-то делать, а на деле с короткой памятью был и позабыл отчего ему это именно и полюбилось, в любом случае взрослые тоже как кто-то всё делают, надеясь: приживётся и станет это их просто, безо всяких там как, но почему же они выбирают сказки такие глупые, в которых даже тот, кем ты как он хочешь быть, даже они уже в сказке неинтересны, мог бы подумать отец Дмитрий, если не спал бы теперь, и если бы взрослее был при этом и с ребёночным уразумением также не расстался, чего не случается ни с кем, и он не исключение, а потому мог бы, да не станет, и лучше уйти в сказки сменяющиеся разные, и не возвращаться тогда ни на миг, ни к маме, ни к папе, ни к кому, они одинаковы всегда и любят тебя день ото дня, нюансами лишь различаясь, и научились жить этими вот вещами или же нет, не научились, а напротив, в сказке какой-то, не очень впрочем сказочной застряли безнадёжно, и осели, и обосноваться тем не менее не могут, и не видят, что каждый из них стотысячной Элли всерьёз путь начинает, на который местные жевуны глядят с пониманием усталым, будто на каждую вновь прибывшую роженицу конвейерную акушерки глядят: ну, конечно-конечно, ваш ребёнок самый замечательный, и весь в мамочку, никогда такого ещё не видели, и тут же: зовите следующую, и родители просто на этих самых, вновь и вновь ввозимых, рожениц похожи, мнят они себя героями единственными со всё теми же своими самыми лучшими детьми, которых никогда никто лучше не видывал, но откуда эти наивность и комедианство, которые этим новоявленным Элли позволяют хорошо отлаженный туристический бизнес живунский и даже марранов спартанских воспринимать, за подлинное радушие первых и настоящую агрессию вторых, отец Дмитрий этого не знает пока и не знает, как всё сложится, ежели наущение, им ныне ночью полученное, будто назавтра он человечков подземных услышит пренепременно, ежели это всё правдой окажется, пока, если бы знал всё это отец Дмитрий, он ответил как следует в возрасте его этом: а вот пусть я в стране волшебной окажусь, а там уж посмотрим кто кого, на свой сюжет видимо рассчитывает и на героя своего там, и от взрослых ничем в этом не отличается, не понимая того, что в туристической программе по жизни мерилом пути служит как раз путь Элли, и никакого своего сюжета быть не может, а коли будет, то не распознаешь оного, и будешь жаловаться постоянно, будто жизнь не удалась, и никакого героя своего там, где сюжет и герои чужие заданные, лишь один шанс есть у каждого, как вот у отца Дмитрия, и исполняется он здесь даже кое-как на страницах этих, впрочем шанс один, найдутся что вот такие мы никудышние и вовсе даже не существующие, а это весьма ничтожный шанс: найти среди всех существующих несуществующего, да ещё и такого, который как мы сделает тебя героем одной-единственной твоей собственной истории, но ничтожность и здесь сказывается, поскольку вряд ли кто пожелает в этой вот нашей истории оказаться, уже потому хотя бы, что каждый из нас в ней как будто немного и задействован, и как будто уже завяз по самые уши, хотя о чём это мы, так нельзя; у отца Дмитрия шанс его ничтожный, но обретаемый ныне, умалять заявлениями подобными неблагородно, к тому же он уснул уже, а на день следующий, о котором здесь речь в самом деле только и идёт с начала самого главы этой пятой уже, они с Ариной наклоняются и слушают, и чтобы вы подумали, слышат, взаправду слышат, поначалу отец Дмитрий, а затем уже и Арина, голоса и если всё в этой истории выдумано, и всё не тем может на деле оказаться, то тут правда самая правдашняя: слышат отец Дмитрий и Арина голоса какие-то, и даже не сказочные, а обычные вполне: женский и два мужских, что говорят там, нет, не слышат, но голоса вообще говорящие, да, слышат, да и как они могли бы голоса не говорящие вовсе расслышать; впервые в жизни отец Дмитрий так испугался: ведь придуманное начинает подтверждение получать нешуточное, и обрадовался так впервые, потому как там, стоит ещё чуть копнуть, настоящая волшебная подземная страна, и пусть голоса слышимые очень даже банальны на слух, да и говорят с интонацией привычной, но ведь говорят; на радостях отец Дмитрий, уверенный твёрдо в наличии именно страны семи подземных королей, притаскивает в яму два, оба сразу, изумруда своих оставшихся с пятью пузырями воздушными внутри, и он уже не желает ни один из них себе оставлять на неведомое будущее, потому как, если с дядей Толей не всё ясно было и сомнения всякие, то теперь уж что бы там ни было, но оно там точно имеется, мысленно прощаясь со всем, что они до сих пор видели, идёт отец Дмитрий ва-банк, сам не зная ещё выражения такого, оставляет отец Дмитрий на дне ямы два своих изумруда, которые назавтра должны с домом собственным воссоединиться, оставляет он их, и они идут домой, потому как темнеет уже, и бабушка позвала их в дом ужинать и купаться, и они едят блины счастливо, и телевизор смотрят счастливо, Арина с дедом беседует, без раздражения на одни и те же вопросы многажды отвечая, отец Дмитрий с бабушкой в карты играет и даже выигрывает один раз, но и все остальные не расстраивается, а совсем даже наоборот, и ложатся они спать, Арина с бабушкой, отец Дмитрий в зале с низким потолком один, но посреди ночи отец Дмитрий, голоса вспоминая и грусть испытывая от того, придётся что с папой и мамой расстаться навсегда, а они его любят всё-таки, совести угрызениями мучимый, вдруг осеняется другой мыслью: как-то слышал он от другой бабушки, будто ад под землёй с чертями и ужасами, а вдруг они не волшебную страну нашли, а этот самый ад, и стало отцу Дмитрию, в одиночестве лежащему в комнате тёмной, не по себе совсем, он проходит в комнату бабушкину, Арины осторожно рукой потной плеча касается и говорит: Арина, а здорово, да, и она сквозь сон ничего не понимая, угу, говорит, и уходит отец Дмитрий спать, удивляясь себе, ведь он хотел ей про ад сказать, куда они назавтра провалятся, а сказал так, будто о волшебной стране речь идёт, удивился тому отец Дмитрий, и уснул удивлённый, а наутро встал он позже всех, и тут же, за завтраком, бабушка упорно молчит, Арина ему улыбается и тоже молчит, дед со двора заходит в настроении дурном трезвом, и говорит бабушке: и что делать будем, а бабушка вздыхает и говорит тоном примиряющим: подумаешь, ничего страшного, и лишь тут Арина шепчет отцу Дмитрию через стол перегнувшись: дед яму нашу нашёл и это ему очень не понравилось, и что же, спрашивает громко отец Дмитрий, чем вам наша яма не нравится, сердце у него бьётся сильно-сильно, инструментов мы твоих не брали, всё из дома своего я принёс, а бабушка на деда стороне тут же: дело не в инструментах, а в том, что я думала вы там спокойно играете, а вы это, опасно же, а вдруг вас там засыпало бы, земля обвалилась, и что тогда, Арина как маленькая глаза опускает к полу виновато, отец Дмитрий усмехается, плечами пожимает и отворачивается, показывая тем самым, что бабушка глупость говорит, они же не маленькие какие, и вообще зол отец Дмитрий на короткую память бабушкину: вчера, когда дед пил, она от него плакала, а стоит тому протрезветь, она тут же его за хозяина дома почитает, нет, чтобы напомнить ему о вчерашнем, нет ведь, ни слова, а тут дед ещё своё продолжает: кто же разрешил в огороде такую махину выкопать, я еж её закапывать взад устану, а отец Дмитрий ему: а ты и не закапывай, мы же её не для того копали, чтоб ты её закапывал обратно, вот-вот, бабушка вздыхает: а для чего вы её копали, Ариночка не говорит ни в какую, ты хоть скажи: нет, кивает отец Дмитрий отрицательно, не скажем, и уходит из-за стола, даже не позавтракав, просто в знак протеста, Арина за ним выбегает, она позавтракать успела уже: и что теперь делать будем, спрашивает, не знаю, обиженно отмахивается отец Дмитрий, будто Арина виновата в чём-то, подождём, и они ждут. О том, чтобы к яме подойти, не может быть и речи, там ещё дед крутится вокруг да около, думает о чём-то, а отец Дмитрий лишь изумляется страхам своим ночным: подумаешь, ад откопали, да хоть бы и ад, лишь бы отсюда уйти, сгинуть, сквозь землю провалиться, и даже плачет, сгинуть, провалиться сквозь землю, повторяет, всхлипывая, благо там осталось всего несколько раз копнуть, ежели по голосам судить вчера слышимым, лишь бы дед отошёл хоть на полчасика, тогда уж поминай как звали, да изумруды там, вот сразу же как вывалимся, пойдём к королю на данный момент правящему, всхлипывает с недоброй улыбкой отец Дмитрий, и уж он-то что-нибудь как-никак придумает, он же король, лишь бы время обеда дождаться, когда дед от ямы отойдёт, а тут перед обедом как раз дед заходит, отец Дмитрий с Ариной уже на взводе как говорится, и бабушке сообщает с довольством явным: я придумал что с ямой делать, и ребятишки даже молодцы, гляжу: там стекло уже какое-то валяется расколотое, это он про изумруды личные отца Дмитрия, ну и придумал, мы с тобой бабушка раньше ведро помойное ходили за двор выливать к общей яме, а ныне у нас своя собственная появилась, и не успевает отец Дмитрий слово сказать, как дед берёт ведро помойное из-под рукомойника умывального, и несёт во двор, отец Дмитрий с Ариной вскакивают за ним, прямо босиком на улицу выбегают и говорят, пока дед к яме ведро тащит: дедушка, пожалуйста, ну не надо, дедушка, пожалуйста, а он бурчит, что не любит этого всего, всех нежностей этих и ничего страшного не происходит, чего не надо-то, надо и всё тут, и выливает на изумруды волшебные ведро, где вода мыльная. объедки какие-то и дрянь всякая прочая, уходит, а отец Дмитрий с Ариной глядят стоят, и тут отец Дмитрий плакать начинает сильно-сильно, Арина этого пугается: ну хватит тебе перестань, говорит, сама испугавшись, а он плачет и плачет безостановочно, на неё кричит сквозь слёзы: ты что же не понимаешь, там правда волшебная страна была, правда, понимаешь, правда, мы же слышали уже их, и там камни мои, и крик его слыша, бабушка хромая выходит и говорит: ну хватит вам, ребятишки, идёмте борщ вкусный кушать, вы в следующий раз играйте просто, не копая ничего, деда же тоже понять можно, он же за вас боится и переживает, но тут кричит отец Дмитрий: да пошли вы все, и убегает от бабушки к себе домой и три дня никуда не выходит, и ест мало-мало, а когда узнает, что Арину дед леденцами угощает каждый вечер, как и прежде, а она их берёт как ни в чём ни бывало, он вообще с ней престаёт ещё на три дня разговаривать, и сидя один в комнате, плачет и говорит себе, пытаясь успокоиться: а вдруг там не страна волшебная, но ад натуральный был с чертями, что тогда, может хорошо даже, что дед его помоями залил, но вспоминает тут же про изумруды свои, гладит человечков ковровых и зубы сжимает до боли в висках, шепчет сквозь слёзы: ну и пусть ад, что с того, это я его должен был открыть, я, и к тому же у меня больше нет изумрудов, и на стройке их больше нет, я тогда единственный забрал, и плачет до тех пор, пока его ковровые человечки к себе не забирают в своё царство сонное.
Часть шестая
в которой дамы строят глазки мужчине и ненавидят друг друга, голый писатель на даче бегает под летним ливнем, фотограф собирается сделать две тысячи фотографий, собака стремится откусить подол рясы, вода собирается на животе тридцатитрехлетнего сына – и кое-что еще
И ежели говорить теперь, Гомеру подобно, зная с отчётливостью всею: чего сказать именно желательно, и, куда более важно: чего сказать нежелательно, и талант особый иметь в дополнение ко всему, дабы это нежелательное к сказыванию не сказалось само собой для взора постороннего, ежели говорить теперь так, разве что найдём мы к тому описанию, каковым образом отец Георгий покойный ныне, с ума сошёл, и самоубийство совершил над собой, покуда ещё жив был, конечно, ведь известно доподлинно: мёртвые с ума не сходят, и не потому как сошли уже, а потому разве что нет их самих с умом их на земле, а в уме Господнем они, быть может, и схоронены, и живут и с ума сами сходят, и Творца к безумию толкают, но на земле нет их уже, разве что под землёю гниют их тела безумные, и кто через крематорий прошёлся потрохами своими, посмертно пролетать в выси голубой может лишь, родственники, если в урну праха на заключат, заботу проявляя странную, ибо ведь прах хранить это ко праху по отношению суть бесправие проявлять, будто воздух от мира сего спрятать где кто вознамерился, но отец Георгий, помним мы, захоронен под землю во время своё, быть может и не в своё совсем, в случае любом, покуда он не умер, и самоубийство, и безумие его лишь догадки. Да и как, к примеру, камыши вот эти сказать, когда они вот перед тобой шелестят, и тропе ежели последовать, они тебя уже окружили всего, и сверху над головой свои верхушки распушённые сомкнули, и так оно приятно тут, и комаров нет почти, покуда вокруг жара небывалая и трава вся выжжена, камыши эти сохраняют свою зелёность камышиную, но как не её даже, а самих их, камыши эти высказать посреди травы такой чахлой июльской высящиеся небоскрёбами приречными, так гордо вознёсшиеся, и поющие песнь сумрачной прохлады своей посреди безмолвного в прочем полуденного времени, камыши как высказать вас, или так и почиёте несказанно в месте оном, и ладно бы до осени, в коей всё сжелтеет с вами вровень: уже и судьбы не избежать вам трав выжженных прежде, и никто по осени той не будет считать уже: как долго вы зеленились и высились гордо тогда, окружное когда всё посдавалось солнцу, немилосердно фиолетовому по ободу ока своего циклопного, и думать будут все эти, по осени ныне вас не видящие, будто всё жёлтовыгорено завсегда здесь пребывало, и не будут знать они, эти все, как вы равнодушно и героически сдержали свои сроки: зеленели когда надо, и теряли свет свой когда надо вам и природе всей осенненаступившей, и не ранее, и если кто-нибудь бы сохранил в слове вас теперь, так это заходящий в вашу тенистость с головой и усладу в вас обретающий, все эти осенние правду постигли бы от слов его праведных, а коли правда нипочем им, никудышним, то удовольствие от прочтения летнего стояния вашего и шуршания вашего, а коли и до этого дела нет им, то и чёрт с ними вовсе, но нет же: в вас заходящий, он вас не сохранит, и не потому как не ощущает настоятельного взывания вашего к слову его, но бессилен ибо перед вами он полностью в обилии словес собственных, к вам не подходящих, и на следующую за этим летом осень будут все видеть вас жёлтыми, и кто зелени услаждающей вашей не застиг, слабаками сольёт вас в один цвет с травой повсеместной, а затем и зима, а весной вы предательски будете даже долго жёлтыми и чахлыми оставаться посреди уже молодой зелени окружной, столь беспамятно и волнительно к солнцу тянущейся, и не ведающей слабости своей травяной и силы его солнечной, нет, не передать всего этого в слове человечьем ни теперь ни после, но то ведь камыши обычные, живые в героизме их позднелетнем, а то отец Георгий, коего не передать даже по камишиному, тем паче по словесному вряд ли что передать можно вообще, а посему будет бессилием нашим кружить вокруг отца Георгия и наговаривать лишнее всё, кроме того, сказано чему следует быть, покуда не ведаем этого, а вокруг сколько угодно лишнего: этим можно завалиться и заплутать в нём тоже запросто любому, кто как мы, удастся.
И в душу к отцу Георгию не залезть нам и, быть может, нет души никакой у человека вовсе, а коли имеется она, то наверное уже человек от памяти отказавшийся предстать бездушным для людей сторонних должен, знаем-знаем как легко душевным выглядеть, когда хочется, и не обязательно к тому душу иметь ещё, чаще всего обязательно не иметь оной вовсе, но когда отец Георгий согласился дать интервью журналу новому, модному весьма по устремлениям своим на читателей ориентированным особым, то не двигало желание им угодить кому-то: после разговора того в церкви с Марией им вообще его желания не движут никак, коли исповедь нарушил и ангелы Господни тебе о том недвусмысленно способами всяческими через сны собственные и чужие сообщать изволяют, почитай: сам Господь, то как же тут не остановиться перед порывами собственными, не усмотрев в важнейших из них ничтожности преходящей, руки опускаются, как говорят тогда, да, но после церковной исповеди своей перед ликом Богородицы светлейшим, в присутствии свидетельском сестры Марфиной, окончательно уже демонам в душе его обиталище устроившим преподал отец Георгий себя, и воистину в руки Твои препоручаю Тебе дух свой, а кто там разберёт, ежели для своевольничанья сил не осталось вовсе, кто там в душе балагурничает: демоны ли ангелы, и даже демоны если, то как они тут оказаться сумели, воистину, без воли Его ни один волос не, это отец Георгий помнит, но помнит, будто краном как пользоваться на кухне, безрадостно и заученно повторить любому сможет, кто его посреди ночи подымет, но трудно это сделать будет весьма, покуда не спит отец Георгий ночами, и днём тоже не спит, поначалу сон пропал сам, а после прочитал отец Георгий заманчивое приглашение к гибели: мол, если какое-то время совсем не поспать, умирает человек ни с того ни с сего, и не самоубийство, и не убийство, и не смерть уготованная состариванием естественным, хотя каждому естество своё свыше предписано, а снизу регулируется и корректируется постоянно, к тому же отец Георгий выглядеть моложе лет своих стал, и ничего, что сначала пьяный будто говорить начал от бессонницы, затем вник в состояние своё новое, и уже даже нравится оно ему, когда мысли наполовину начинаются, и тут же с другими, такими же подразумеваемыми, вяжутся в узлы невидимые, и так складно выходит, как одежда Христова бесшовная; но с отцом Георгием так в моменты его бессонные нынешние обстоит: он одну мысль даже не способен удержать, он половинки мыслей разных увязывает и состояние они дают опьянения сумбурного, и за раз выглядеть это остроумием, идейностью и глубокомыслием нерешительным может весьма и сразу, ничем не являясь для него, а для остальных являясь очень даже, покуда разговор человеческий всех уравнивает к одному, ведь одна мысль и высказывается в один присест, и большинство через это с глубокомысленными уравнено в разговоре, но отец Георгий стал теперь чрезвычайно любопытным собеседником, в момент тот, когда самому ему сказать нечего, и не хочется вовсе, и что ему остальные, когда душа на поругание демонам отдалась, и спать нельзя, покуда в душу, во сне, ещё и ангелы наведываются, отец Георгий Бога теперь ждёт в гости, и пусть даже явится в обличье смерти от бессонницы Господь, что с того, для остальных всё интереснее стало, отцу Георгию проще и любопытнее даже бредить наяву, хотя прошло то время, когда он сбегал от снов кошмарных и одиночества демонического к пастве своей, нет, теперь всё ровнее свершается, одному уснуть легче свалившись, и надобно вследствие этого среди других находиться и умирать, вот умирать лучше наверное одному, но как рассчитаешь: когда свалишься, и ежели в одиночестве будет то, тело найдут когда и хватятся, кто же знает, а здесь интервью подворачивается, район престижный модный и приход богатый, а церковь даже гламурной назвать можно, ежели уж всё можно окрестить словом этим, то эта церковь Святого Иеронима больше на то годится, нежели Всех Святых, отец Георгий приглашён, и не один он, другие братья тоже, но сегодня его день, будут фотографировать, и попросили выглядеть хорошо, а потому и подмечает отец Георгий в зеркале молодцеватость свою странно с бессонницей нагрянувшую, и глаза свои разглядывает пристально: там, где-то под черепной коробкой, в глубине тёмной зрачков его, сцена демонская с канканом вертится, улыбается отец Георгий, однако не подпадает под страхи людей древних языческих примитивных, будто фотография или изображение какое с человека душу оного похищает, улыбаться не перестаёт отец Георгий, хочется даже чтобы было так: похитили душу твою язычники гламурные, домой принесли и мешок распахнули фотографический, а там, в душе этой, целый сонм чертей, но может быть и не тому улыбается отец Георгий, может быть просто ничему улыбается, откуда нам знать: он в последние дни стал улыбчивее и приветливее, просто очарователен и молодцеват, лучшего времени для фотографирования в журнал глянцевый не было у него ещё, не было и не будет, повторяет отец Георгий вслух, расчёсывая аккуратно расчёской маленькой усы свои седые наполовину и бороду. А вниманием собирается отец Георгий на опыта нового получение тем более, чем менее замечать намеренно желает визит перед тем совершения требующий: друг ему позвонил старый, из жизни прошлой совсем, и сказать можно здесь: из позапрошлой и плесенью безразличия покрытой, и когда-то по недоразумению младенческому принадлежавшей отцу Георгию, тому, кого так называли без слова отец определяющего, а когда стали именовать Георгия, к имени его отца добавляя, радостью сердце переполнялось поначалу, и не подозревал тогда подвоха необратимого отец Георгий в именовании сём, покуда полагал внимание к персоне своей увеличивающимся, и вкупе с уважением ввысь растущим, и вниманием обходя сторону обратную, на которой отдалялся от людей он недостижимо, и говорили-наговаривали они много интимных радостей своих, и мерзостей не меньше ничуть, и более даже, и можно говорить об этом как об уважения проявлении, но уважение это рода особого: таковым врача оделяет больной, гибель свою близкою полагающий, и кому всё равно на кого уповать, и Георгий из мальчика, друзей имеющего, и подруг ещё более с приятственностью имеющего, обращался в отца Георгия, коего уважали более тем, чем менее человека равного себе в нём усматривали: боже, чую одинокость свою вселенскую и вечную, ангелов сонмы хороводно кружащие и верующих упования слёзные сыплются на одинокость Твою как песок и комья земельные на гроба крышку заживо похороненного, и уютно и защищён, но через время определённое и быстрое в вечности Твоей не отличить уже один ком земли, рукой сердобольной брошенный от другой рукой кинутого, и молился тогда отец Георгий в сердце своём образом странным: пусти, говорил, Господи, меня в одинокость Твою силой понимания моего, в пойманности собственной схваченного, и мысль даже не согревала душу уже, что с Господом он одинокость Его разделил, в двуочестве сердечном прибывая, покуда разоблачил в понимании таковом собственном гордыни грех престыдный, и душу христианскую от озлобленности обречённой выводил, не следует читать, будто душа зла христианская, но лишь о зле, душой таковой в миру претерпеваемом тут сказано и более ничего, а те, кто видит больше говоримого, смиренно пусть поучаются скорее, покуда ныне и для души спасения не многое знать надобно, необходимое следует лишь, а оного ни много ни мало, а в раз самый Господом сотворено ушка игольного, верблюдом стать следует и спасаться до того, как во льва верблюд обращаться начнёт своевольно, к тому же лев в Евангелии занят апостолом одним небезызвестным Марком, писавшим остросюжетно для римлян непонимающих и не случайно чудес у него больше в книге, чем в остальных трёх выписано. Но с тех пор как гордыню различил отец Георгий в стремлении своём одиночество божественное разделить, тем самым его уже и нарушив, равно как и отдаление безнадёжное от людей остальных, тяжело ему так стало, грусть такая беспричинная, от какой лучше уж не вспоминать ничего из жизни прежней своей, безотцовской, руки в памяти к нему безнадёжно и беззащитно протягивающей: отец Георгий, и: Георгий отец, и всё тут, будто и было так изначально, ибо не преодолеть прошлого никак, да и как возможно преодоление такое, вдруг к прихожанке подойти красивой, и сообщить о том, как под рясой скрыто тело мужеское, других не хуже и не ущерблённое ничем, кроме червоточины одиночества обречённого, и нежности избыточной, нет, с каждым мигом отец Георгий удалялся всё далече от возможностей вернуться, и не стал отец Георгий помышления о состоянии таком вовсе иметь, откуда возвращаться никуда уже не следовало бы вовсе, и потому не хотелось помышлять о человеке из времён тех, каковым Николай явился неожиданно, ведь от людей избавиться труднее чем приобресть оных, и боль доставляет избавление таковое, но отец Георгий её преодолел вполне, а когда по случаю исключительному встречался с прежними людьми жизни своей, не знал уже говорить о чём с ними, и со стороны их не было поводов общению во всю ширь развернуться достойную и в силу полную, вполсилы или как-то хотя бы, прежние начинали отношение скептическое иметь к священничеству отца Георгия, не верилось им в то как друг их прежний, знакомый хороший, или так себе, вдруг стал наглость иметь в обращении служения к Богу: для них он навсегда оставался прежним Георгием без отцов всяких там, и мотивом единственным находили близость к деньгам и богатству дармовому, коего сана имение гарантировать в умах их заблудших должно, но отец Георгий от Господа отцовство обретя, точнее: в себе сыновство усмотрев, стал человеком иным, а потому не общался с прежними никак, и с Николаем не стал бы, но случай к исключению взывал здесь, покуда Николай в больнице находился в состоянии предсмертном, нет, не говорил он о состоянии своём отцу Георгию по телефону, невесть откуда узнанному, но голоса звука достаточно было отцу Георгию, и бодрости с весёлостью натужной и едва напущенной, а также клиники название услышать, как ясно стало: плохо дело, и следовало зайти к Николаю, не из сочувствия к жизни прежней безотцовской, как раз не пошёл бы ни за что поэтому, а потому зайти следовало, ибо душа страждущая в помощи и утешении последнем нужду возымела, и претерпеть следует иронию неминуемую от Николая, потому как священствует отец Георгий, двойственно всё, и тяжело неимоверно было бы, ежели не ожидалось сделать визит сей эпизодическим на пути к фотосессии неведомой, и завсегда-то люди делают из нежелательного для себя эпизоды, моменты и прерывности всяческие: так с неминуемым легче душу сочетать в союз дружественный, и отец Георгий тут мало от других чем отличался, прежних или грядущих, особенно нынешних. Николай изо всех прежних менее всего был тем, с кем можно было бы встречаться, когда ностальгия нестерпимая душой бы овладеть наглость сумела, Николай человек негодный по меркам мирским, а у отца Георгия сил нет меркам мирским противостояние оказывать волевое, проникает мирское недоверие в душу, бесами охваченную: вор Николай по прозвищу Берёза, отслужил не Богу в Храме, а кому непонятно в Чечне по контракту, а до того и в службе срочной, там же, в тюрьме был, грузчиком был, снова в тюрьме, письмо отец Георгий получал от него года четыре или пять лет назад, в коем говорил Николай: мне на воле делать нечего, в армии и тюрьме проще, кормят и спать укладывают, подраться не дурак он, Николай этот был, исправительные и общественные учреждения не к исправлению воспринимает, но и не к ухудшению впрочем также, а за дом родной и среду обитания, и кто же задаётся вопросом: улучшает его дом свой или наоборот, дом и есть дом, вот и Николай также, но не ответил отец Георгий на письмо это, в конце коего сообщалось: осталось всего четыре года и выйду, а теперь вон, туберкулёз запущенный, и не опасается отец Георгий заразы, менее всего заботу имеет и опасение о хворях телесных, когда душа разложилась почитай уже вполне, и спать хочется, благостно то лишь, как время выпадать умеет: то тянется бесконечно, на мелочи какой стопорясь, то несётся галопом лихим, через ухабы событий привлекательных ли, отталкивающих ли перескакивая, из дороги мало что помнится и внимание на себя обращает отца Георгия, разве что отец Георгий сам внимание на себя нарядом своим праздничным и видом торжественным, в коем слиты отрешённость предельная и весёлость невразумительная беспричинная воедино, и это внимание к нему окружающих отец Георгий лишь и заметил, покуда в больнице не оказался. Поначалу вручили ему маску на лицо, палата опаснобольная, изолирована для посетителей, но лицо из церкви пускают сочувственно, как и журналистов должны пускать всюду, будто отец Георгий пришёл грехи отпускать или репортаж делать пред смертью неминуемой, и кивает сестра молодая с видом понимающим, а отец Георгий про себя отличает, с помощью бесовской груди её твердые под белым халатом, и волосы, скромно под шапочкой белой собранные, и кивает в ответ ей, с видом таким же скорбным, но оттого уже, что не желает Николая видеть, но это-то ладно, более оттого скорбит, что дистанцию узревает моментально непреодолимую во взгляде сестры Ольги, имя на груди справа у неё написано в табличке бликующей от ламп света дневного, на деле не дневного вовсе, а противно белосинего, дистанция говорит отцу Георгию: уважаю вас безмерно, святой отец, дистанция шепчет отцу Георгию: никогда, никогда, никогда, ни при каких обстоятельствах не будем мы сидеть с вами в кафе и лежать под одной простынёй, дистанция скрипит в отце Георгии: и я не желаю об этом говорить, потому как мужчин много иных вокруг, у меня отбоя от них нет, и в ближайшие лет пять ещё не будет, но не каждый из них соглашается служить людям и Богу, и добро, и свет нести в мир, а вы согласны, и я вас уважаю безмерно; и дистанция эта сворачивается в петлю мёртвую, и душит она отца Георгия до того, улыбку что вызывает разве измученную, страшную, и черты лица искажающую механически, но сестра Ольга этого не видит уже, и не потому как лицо отца Георгия в маске, но идёт потому что уже, шуршит рясой отец Георгий в отделении изоляторном, по коридорам пустующим, и выглядит жутко он до смешного: чёрный весь, волосы с проседью разве что, но борода ещё чернится, а вместо лица, темнотой волос обрамлённого, белая простыня безликости, и срывает маску отец Георгий не без решительности содрогания волевого, в палату вступая, бесы ликуют, и снова в пляс пускаются, и спать уже не хочется вовсе в царстве этом болезней и снов, и Николая не хочется, а с Ольгой сестрой хочется свидания одаряющего, и не из-за Ольги этой неведомой, но вследствие невозможности свидания оного на веку своём коротком, ежели по мерке божеской его мерить.
Николая легко узнать, годы проходят, а лицо плутовское не меняется нисколько, меняется-меняется, но узнаётся несложно, хотя Николая лицо всё с собой сотворило ныне, при прочих неизменностях оказаться чтобы неузнанным, покуда плутовство-то исчезло как раз так, как может оно с рожи хитрой взаправду сгинуть, и обычное для отца Георгия зрелище вполне, покуда гибели приближение ожидающие тела изменять не перестают, а священников к последнему грехов отпущению звать не отвыкнут, хотя куда уж там отвыкать, моднее и моднее для всех это делается, народ тёмный полагает, будто и церкви это на руку, но нет: лучше бы оставили её пустынницей при мире сем, нежели в дела характера рекламного втягивать всё шибче, да так втягивать, некогда Господа уже вспоминать в волоките сей бюрократии экономической, народу того не втолковать, и ежели повествование сие было бы свойства сугубо романтического, сказали бы проще: едва войдя в палату, отец Георгий заметил своего старого знакомого, Николая, лицо которого уже коснулась распростёртая длань смерти; или так даже: беспокойный лихорадочный взгляд Николая усматривал, через пелену суеты, непреходящий и доселе неразличимый для остальных лик смерти; но мы не романтическую историю тут излагать взялись, а посему оставим смерти руки, длани, лики, лона и чресла леденящие иным рассказчикам, которые, нисколько не сомневаемся мы в том, подберут слова эти, из смерти клоуна с маской миккимаусной сделают бездумно, и кокошник напялят поверх колокольчиков, лишь бы обойти конкурентов своих неисчислимых, не чета мы им с бесхребетчиной слов наших, а посему лишь заметил отец Георгий как хитрости в лице знакомом Николая, в глаз уголках обычно таящейся, поубавилось, и быть может подумалось отцу Георгию это в связи странной с местом пребывания Николая, и с тем, как маску ему сестра Ольга настоятельно сохранять на лице советовала, хотя Ольга сестра, если уж её помянёт в своих помыслах отец Георгий ныне, не позволяет мыслям о смерти удерживаться, равно как и состояние бессонное отца Георгия, о чём мы упомянули уже, а о чём не упомянули, но не преминём исправиться тут же, так это о том, как радостно приподнимается в постели своей Николай отцу Георгию навстречу, а потому всё ещё легче объясняется: как не узнать Николая в нём, который, едва отец Георгий чертог скорбный, кипельно белый переступив, навстречу и затараторил быстро: отец Георгий, сколько зим и лет сколько, это присказка лишь, садись рядом, и резко сменяет тон голоса Николай, серьёзным делается вмиг, отчего даже жутко могло стать отцу Георгию, будь это во время иное, а не оное, но это оное, именно такое время, самое то, и слушает отец Георгий Николая, кивнув в ответ лишь, и видно как торопится Николай сказать что-то так, обиды не выказать даже чтобы, обидеться ведь немудрено: лежишь-гниёшь здесь заживо, приходит душа живая снаружи, к ней кидаешься навстречу из сил последних, а она кивком уделяет лишь, не более, но нет, не обижается Николай, и отец Георгий помнит вора этого: необидчив он, хитрость и вороватость позволяют, интерес свой преследуя, обиды сносить и не такие этикетные, но ещё не догадывается отец Георгий насколько это не так, причину насколько иную имеет Николай, вниманием чтобы не оделять условности манерничанья светские; говорит Николай тихо, соседям по палате неслышно чтобы, голосом своим склоняет отца Георгия к себе наклониться, и полумыслью мелькнула опасность заразу подхватить, но полумысли мало, а рассказ странен весьма, и предупреждает отца Георгия Николай: выслушать только, и не более, и пока он ещё не сказал ничего из выслушанным быть подлежащего, отец Георгий готов вполне к обязанностей своих исполнению, но будет удивлён уже минуту спустя, а в итоге в замешательство введён невразумительное, но Николай говорит, нет, шепчет ему Николай, историю необычную, и другой бы кто решил, будто опоздал, и спятил больной, не исповедать уже его душу, тело лишь перекрестить снаружи остаётся и всё, бред же не стоит слушать, но то иной кто, а не отец Георгий, собственной персоной, коею бесы арендовали образом нечестным, но заслуженным, видит Бог. Мне сказать нужно тебе одну вещь всего, Николай говорить так начал, но чтобы понять её, подать тебе, то есть, в виде должном, ещё несколько вещей сказать должен, должен и не иначе, была бы воля моя, уж с кем с кем, а с тобой бы и не виделся отродясь и до смерти, а почему я должен, не знаю, видимо потому, не умудрён что никак, и наук книжных чужд прежде был, а теперь и сам видишь, поздно уже что-либо здесь передумывать и местами менять, в зачин мирской труп почти не привести для удела здешнего, а в словах нездешних ты и тебе подобные получше меня секут, избрали меня к вести для того, видимо, мудрить потому как не умею, воровать да, но не грабить, убивать, но из автомата, не руками голыми, и если уж мне понятно что-то, то тебе тем паче станет ясно; сначала скажу тебе из детства своего: мамка, когда я малой ещё был совсем, отваривала макароны мне, и доставала откуда-то из запасников пасту томатную, по временам тем в семье нашей вещь дефицитную, поливала обильно макароны эти самые слипшиеся пастой этой, а, я их съедая, вкуснее ничего не знал, и перед иными ребятами хвалился даже, превосходство ощущая от того, вкуснятину что такую дома едал, а вырос когда, то открылась вещь мне одна интересная: паста та, мамкина, была самой дешёвой из всех доступных, и никто, я специально спрашивал, её даже в качестве блюда не рассматривал, как полуфабрикат лишь, и то на худой конец, и знаешь, отец Георгий, стало мне обидно, обиделся я на мать свою, будто она обманывала меня, посчитал тогда: дерьмо мне скармливала, и долго я так помышлял, но позже понял, как любила меня мама, померла она ко времени тому безвозвратно, и я на себя обиделся прежнего, ведь это я любил пасту эту проклятую, а мама мне её скармливала потому как это было самое лучшее, что она купить могла для меня, отец ведь пил бесперебойно, и она нас вдвоём с сестрой Иришкой тащила на себе, и стыдно мне стало, и обиделся я на себя такого, какой не мог разглядеть любви материнской проявления подлинного, а уже недавно совсем понял я, почему я пасту полюбил ту: не потому что помидоры мне нравились сгнившие, в массу неразличенную с гнильём перетёртые, а потому лишь, что любил я мать так сильно, и доверялся ей, и верил ей всех на свете больше, и важное для неё было для меня всего вкуснее, но поздно, поздно понял я: я любил пасту, а мама мне её давала, это неправда, нет: я любил маму, а паста могла быть чем угодно иным, а мама нет, не могла. Замолкает здесь Николай, и отец Георгий молчит, но не ждёт по-прежнему от него никаких слов Николай, а нагибается к тумбочке, открывает её и достаёт оттуда банку открытую с пастой томатной, в которой ложка торчит, и начинает есть пасту эту дешёвую, говоря: не та она уже, слишком качественнее стали делать, а мне здесь её и вовсе держать запрещали, послал я их подальше, они тогда предложили купить получше, я их тоже послал, ещё подальше, не думай будто я хочу восполнить к маме любовь, пасту эту ныне пожирая, нет, я и в самом деле полюбил её по-настоящему, бывает ведь такое, представляешь же, Николай доедает пасты ещё пару ложек, на место аккуратно в тумбочку помещает, дверцу заботливо закрывает, и рассказ продолжает свой: вещь вторая, их три будет всего: с детства мечтал я шибко невидимым стать, и не невидимым даже, достаточно сквозь стены проходить было бы, представлял я тогда, как меня отец наказывает пьяный, а я бац, и ухожу из комнаты им снаружи запертой, он открывает дверь, а меня-то и нет, и злорадствовал я в мечтах, лицо его представляя, и легче становилось даже, правда, я мог через стену, коли прошёл бы, оказаться неожиданно прямо перед его носом в комнате соседней, и дабы избежать этого, тренировался дотошно прятаться, заметь, мне это удалось: три ходки за воровство, но ни разу меня никто на месте не застукал, и, кроме того, на службе это искусство моё зараз распознали заразы, раскрыли умение нераскрытым пребывание сохранять от глаз посторонних, и на задания опасные посылали, даже отрядом своим командовал в операциях тихих, впрочем ладно, не к тому я, когда старше стал, желал уже об этом не потому как от отца сбежать не мог, а потому что не мог оказаться в раздевалке девчоночьей школьной на физкультуре, или в душе бессейновом в лагере пионерском, где девочки купались, или в комнате тайком, где та, что нравилась, обитала по вечерам и ко сну отходила, и ещё жаль было, что не мог сквозь одежду прелести их осматривать, но это так, к слову, ты же понимаешь; и глядит Николай на отца Георгия, но видит рясы облачение и вид священнический, и не конфузится, а усмехается себе в щетину недельную, до бороды ещё не дотягивающую: ладно, продолжаю, говорил это всё к тому лишь, что в детстве уже решил, увидел прямо с очевидностью недетской, коей дети только видят и животные разве что: если я не могу сквозь стены ходить, и невидимым делаться тоже не могу, но желание сохраняю в сердце своём, то имеются, просто не могут не иметься, те, кто это запросто умеет и делает, и не спросишь же меня: докажи, где они, невидимки твои, потому как глупее вопроса и не придумать, а вместо того, чтобы избавиться от этого чувства, стал я их придумывать себе и за кошками наблюдать, которые за невидимками моими завсегда смотрят, и придумывал, и следил сперва там, в комнате своей ребячьей, затем представлял и в более взрослом возрасте, например, в классе на экзаменах, все сидели и думали как списать, а я делал то же самое, но ещё и представлял присутствие этих вот невидимых, и знаешь что, курьёзы бывали, с девушками я никогда, в моменты даже интимные, не ощущал себя наедине, мне казалось, будто здесь ходят туда-сюда сквозь стены эти самые, и трудности были у меня от этого свойства интимного, а как я сложности претерпел эти, так стал в постели невозмутимым, и при зрителях любых мог всё что угодно делать, а там, в местах тех, без свидетелей редко что получалось, уединение в местах уединения вещь редкостная и невозможная, и перепадает ежели возможность с кем-то на интимность какую, то она сразу же для больше чем двоих интимностью складывается, а мне в итоге какая разница: видимые тебя взглядом испытуют и похотью распаляются, или же невидимые равнодушно проходят по постели прямиком деловито, и были у меня победы свойства постельного даже в таких компаниях, где никто не мог ничего от смущения, и в любой другой раз живые люди присутствовали и могли видеть меня, но и я их видел, а невидимые мои меня видели. а я их нет, но знал какие они беспокойные и снуют повсюду сквозь стены, и дела им до меня нет, и ты спросил бы уже давно меня: когда я от этого наваждения детского избавился и зачем тебе это сейчас толкую, но отвечу последовательно: я от этого никогда не избавлялся и сейчас ещё не, и не удивляйся, покуда у каждого взрослого и старого, чуть если поскрести по нему, куча всяких тараканов похлеще моих невидимок наружу лезет: кто в инопланетян верит, кто в заговоры жидо-масонские и колдовские, кто в бога вон, мои невидимки просто ерунда несущественная в сравнении-то выйдет, хотя, конечно были периоды, когда я забывал об этих фантазиях детских, но непременно, когда мне тяжело становилось и в помощи я нуждался, а помощи не было, я о своих незнакомцах вспоминал, а они отзывчивые, всегда тут как тут, снова усмехается Николай, но иначе чем прежде, грустнее или наоборот, когда счастлив безмерно бывал, реже это случалось, но случалось, и живых видимых не хватало на то, чтобы радость разделить мою, я снова почти видел невидимых своих, отдавая себе часто отчёт в том, какая это авантюра безумная, но говорил себе: безумие и пусть, зато моё, и часто ничего у меня кроме безумия моего и не бывало, и, если серьёзно отнестись к этому и как на духу, то и вообще ничего никогда кроме безумия не было, и вот на службе впервые случилось это: я в караулке сидел и пил чай паршивый, но с коньяком хорошим, коньяка немного, чая хоть упейся, вот и секрет причинный напитка этого появления, и не думал я тогда о своих невидимках, и не вспоминал о них даже, ни вчера, ни позавчера, как вдруг почувствовал как рядом со мной так и объявился, кто здесь спрашиваю, а мне шёпотом каким-то: а ты как думаешь, а я знаешь ли, в армии был не в самом плохом положении, за шутку такую кого хочешь наказать бы смог, а в вечер тот и пристрелить даже полномочия имелись, но как-то почуял: не шутка это, а взаправда настоящая самая, но себе на удивление говорю: я знаю, вы друзья, и больше не было сказано ничего и ощущение исчезло, но с тех пор я постоянно вспоминал своих невидимых, и никогда больше уже не придумывал их себе, а понял: тем, как я их до того себе измышлял, возможность себе же не давал к их появления усмотрению, и отныне я их ждал. Николай прервался, кашлянул в кулак, повторил все предыдущие действия с пастой томатной и продолжил: забавно, что безумие моё рода такого, о каком никому сказать не могу, кроме невидимок, но невидимки эти и есть часть безумия, хорошо же верящим в инопланетян или заговоры или бога, да и в дьявола верующим не хуже, вас вона сколько, а я один, а пасту я тебе не предлагаю, потому как заразный я, но ты не бойся, если схлопотал заразу, то и кушать уже даже не надо, а не схлопотал коли, то и тем более, нельзя кушать, усмехается Николай и закашливается сильно-сильно, отец Георгий на время оное отпрянул от собеседника, неторопливо впрочем, и окрест взглядом окинул палату: помимо Николая ещё пятеро горемычных пристроено здесь, а Николай кашляет и кашляет, да так, что уже не в кулак, а в тряпку, из-под изголовья ловко извлечённую, и видит отец Георгий как тряпка эта, свежести не первой, жёлтая уже от слюны и охристая от крови высохшей, и соседи в постели встревожено глядят, но не на Николая, а в потолок, кашель этот о себе их заставляет думать, присутствие отца Георгия и тихое нашёптывание Николая тем паче на гибельность намекают образом наглым, не по себе им сейчас более, чем обычно в палате сей, хотя и обычно здесь не по себе всё, но продолжает Николай всё тише и увереннее шептать уже снова: но тебе я это рассказываю вот почему, невидимки мои стали мне в ощущениях доступнее, когда я их сам исканием собственным от себя же прятать перестал, и теперь повсюду мне явственно ощущались, и спокойнее мне стало, будто с детством своим я воссоединился в целость немыслимую, и удостоверился к тому же: в жизни сей не только то, что мы видим имеется, а потому и жизни мы совсем не знаем, и неудачи житейские сносить легче стало, потому как здесь она неудача, а там, в невидимом дополнении мира, может и удача самая что ни на есть, и знаешь что, даже помирать не страшно теперь мне, а тогда мог любые трудности претерпевать с лёгкостью невообразимой, за дар это всё небесный, адский ли, почитая, но вот что важно: со мною они больше так не общались, туда-сюда повсюду по делам своим сновали, знай себе шастают, не скрываясь, у нас отношения стали такими, ну как за девушкой ухаживаешь долго, а она тебе сиську даже не покажет, добивайся, чёрт бы её побрал, а как сойдёшься с ней, через год уже голая перед тобой бегает по дому, и показывает всё, да тебе уже как-то не интересно, и самое главное теперь вспомнить: как не открывалась тебе прежде упрямо, и позлорадствовать: мол, вот они, красоты твои, обвисают и взгляда не радуют, дура, но тут разница такая, как если бы тебя девушка к себе пустила, но в себя не допустила, и на глазах твоих за другими увивалась, тебе не отдаваясь ни разу, распаляя желание то есть, так и я, ощущая их всё лучше и лучше, очень ревновал к тому, как они со мной в общение не вступают, а бродят ведь к кому-то и от кого-то, как в отделении бывало тебя наручниками прикуют к батарее какой, и забывают до поры до времени, внимания не обращают, будто нет тебя, а только что цацкались с тобой так, будто чикатила какая или алькапоне какое, и тогда в отделении хочется своё злодейство ещё большим выказать, чем в деле имеешь, но это специально всё, они ждут этого в отделениях-то, а мои невидимки нет, они иначе, я же сам их с детства сколько времени выдумывал, им нельзя ничего показать, остаётся ждать, они же мне дали понять, что знают обо мне и видят всё, и я ждал, а здесь мы уже и к тебе подбираемся, отец Георгий, говорит Николай это, и вдруг на подушку откидывается, и отец Георгий вперёд машинально подаётся: глупо было бы, ежели Николай теперь вот как в кино каком, умер бы, когда имя преступника на устах умершего свидетеля непроизнесённым застывает, но нет, Николай не умер, а только теперь отец Георгий видит как вспотел собеседник его, видать трудно ему даётся бодрствование такое, и придвигается отец Георгий ближе к Николая изголовью, и советует продолжать говорить в положении лежачем, и глаза пусть даже закрытыми держит, Николай будто и не слышит того уже, а продолжает, отец Георгий не договорил даже когда: в тот день, это было в карцере, я вернулся с прогулки, меня по уважению тамошнему её не лишали, несмотря на карцер, я почувствовал: пора наступила, моя кровать была занята, хотя там никого не было, я по-прежнему не видел никого, но представил себе в тот раз отчётливо, что он красный, хотя это не имеет к делу отношения, Николай, сказал он, Николай, да-да, обрадовался я, а он меня не слышал будто: Николай, Николай, Николай, и продолжалось это так долго, что я уже забыл обо всём, что накопилось за время долгое и поведать о чём хотел им, когда они внимания ко мне обратят своё, и вообще всё забыл, хотя и обиделся на то, что я им не интересен, и слушать меня не хотят они, но он повторял столько раз, сколько хватило на то даже, обиду чтобы позабыть эту, и тогда сказал он: Николай, Николай, Николай, ты скоро выйдешь на волю и свяжешься с другом своим, священником, каким священником подумал я, думать о тебе позабыл, а он мне отвечает: не таи обиду, о тебе не говорим, потому как видим тебя и помыслы твои нечистые ведаем, о каком священнике ты говоришь, спрашиваю я, священник друг твой, и что-то начал я о тебе вспоминать такое, ну ладно, думаю, и что ему сказать, скажи ему, и теперь слушай отец Георгий, открыл глаза Николай, слушай внимательно, скажи ему чтобы сыскал невесту божию и себя отдал в мужья ей, Николай приподнялся на кровати: вот как, ты что-нибудь понимаешь, загнули они вона как, священник чтобы отдал себя бабе какой-то, невеста божия видишь ли; но отец Георгий головой кивает лишь, чтобы Николай продолжал, не упоминает о Невесте Божьей, которая Церковь, продолжай говорит отец Георгий, вздыхает Николай и снова на подушку ложится, и глаза закрывает: и всё, спрашиваю, да, отвечает, а со мной что будет, спрашиваю, ты это скажешь ему, ну скажу, говорю я, а ещё, а как скажешь, так всё, говорит, что всё, спрашиваю, умру что ли, шучу даже, да, отвечает он, умрёшь, и сам не захочешь после того как скажешь жить уже, и больше я их не чувствовал, они ушли совсем, понимаешь, замолкает Николай надолго, а отец Георгий ждёт, долго молчит и ждёт, пока Николай продолжит: меня выпускают досрочно, хотя я и рецидивист, и я узнаю о тебе, пишу тебе письмо, мол, выйду скоро, через четыре года, столько мне скостили демоны мои, ведь я им поверил, а как не поверить, а потому решил, будто жизнью своею управлять могу как захочу, и если я их не чую, то и они меня не должны, и я рискованно бросался в разные авантюры, спал с такими девушками, на коих раньше и посмотреть бы побоялся, никчёмности своей стыдясь, купил жильё, и жил за твой счёт, можно сказать, твой и бабы твоей божьей, и решил для себя: не буду тебе вообще ничего говорить никогда, и не умру тогда, а для того, чтобы не проболтаться, я специально узнавал где ты бываешь, избегая встречи, и всё мне удавалось, пока не встретил я девушку Марию, которую и полюбил всем сердцем, не смейся только, сам до сих пор не верю в это, и настолько запал я на неё, что всё прошлое своё вычеркнул из памяти своей, и невидимок этих в очередь первую с пророчествами их неладными, собрался жениться даже, у неё папа начальник большой, но я безгранично верил в свою удачу, она меня со времени того разговора в карцере не подводила ни разу, и дело шло к свадьбе, дело-то какое забавное: невидимок выкинул из головы, а то, как они власть мне в руки над жизнью моей дали, не забыл, и теперь ещё думается: а не попала ли Мария на путь мой как раз по их воле, но тогда я лишь одну заботу имел: с тобой не встречаться, а покуда от причин этого нежелания уже память насильно очистил, то стал тебя беспричинно избегать, за то что ты это ты, будто самого дьявола избегал, и это до тех пор, пока не случилось кое-что, и уж позволь подробностей тебе не излагать истории той, они тебя не касаются, и так ты много у меня украл в жизни, но, заметь: и я у тебя не меньше, усмехается Николай, с глазами закрытыми говорить продолжает: в общем, узнал я вследствие этой истории некрасивой, что Марфа, сестрица Марии, сука набожная, с тобой общается, и тут, не поверишь, испугался я так, как никогда прежде не боялся, даже в Чечне, там ведь как: гибель близка и ты её видишь кругом, и ничего кроме, но есть надежда выжить, а тут наоборот всё: гибели не видно, а точно знаешь: выжить шансов не будет, это жутко, отец Георгий, очень жутко, и я сбежал, ото всех сбежал, от Марии своей любимой, от Марфы твоей чёртовой, но покуда любил Марию больше жизни, а тут кусок аппетитный прямо изо рта твоего выхватывают, и, да, прости, любил больше жизни сказал, ан нет, жизнь больше любил, раз сбежал, уехал далеко, но тут меня начали несчастья одолевать, и чем дальше от тебя уходил, тем хуже было, и даже зарок я дал: буду терпеть всё, ведь не умру же я, знал точно, но, тут Николай закашлялся до крови второй раз: уже год я лежу в этой палате с безнадёжно больными, сам безнадёжно умереть не способный, и на моих глазах умерли все, и ещё два раза все умерли, а потому они все, Николай делает жест рукой слабый, и должен он для отца Георгия значить на соседей палатных указание: они все меня боятся и за дьявола почитают, вот они удивились-то твоему визиту, усмехается Николай, или рот у него уже судорогой сводит: когда священник к дьяволу пришёл, но они не ведают того, что я знаю: дьявол-то настоящий ты, а я так, чёрт мелкий, по пути с депешей важной в кабачке загулявший, да, но сегодня они обрадуются, год я здесь, но и жить когда невмоготу, я удачу нет-нет, а пытаю, никто же не будет спать со мной, заразным, будто прокажённый для людей здоровых, ан нет, видел сегодня Оленьку, дежурит она в отделении, ну так я с ней даже маскарад устроил, она в маске была, и я сзади её для безопасности, и тут расхохотался Николай недобро, и двое соседей по палате привстали на кроватях своих: да, они удивятся теперь ещё больше, когда священник от меня уйдёт, а я того, откинусь, замолкает Николай, отец Георгий спрашивает его впервые: почему теперь ко мне обратился, спрашивает отец Георгий, а сам сожаление странное к сестре Ольге испытывает, но и желание странное неуместное телом овладевает; отвечает Николай: по трём причинам или одна на деле, видимо, но для меня их три, первая; у меня гангрена началась, и члена даже своего я больше не ощущаю, Ольга расстроилась даже, и снова усмехается Николай: но я её дурашку понять могу, ребёнок она, почти как и Мария моя, вторая причина в том, что увидел я вчера их снова, они ко мне не обращаются как прежде, их очень много, но уже не ходят они по делам своим, а надо мной нависают в присутствии своём и давят молчанием, я сегодня ночью даже закричал, спать ведь не дают даже, изверги, что вам надо, закричал я, вконец измучившись, и боли адские, но не ответили мне, а лишь сестра ночная, Владилена Михайловна, укол сделала, уснул я, они уже три месяца на наркотиках держат меня и дозы увеличивают, а боли уже и через забытье не исчезают, так, забудусь и всё, Николай глаза открывает: я тебе сказал всё, а что значит это всё, не ведаю, одно знаю: теперь меня отпустят, и надеюсь лишь, что подгадил я им немного своими уклонениями, интересно вот только: ежели я бы как вышел, тебе всё сказал, то умер бы вот так с желанием искренним, как теперь готов умереть, или всё к этому сроку и должно было подойти, не знаю, надеюсь испортил я планы их и твою бабу ты уже небесную не подцепишь. Спрашивает отец Георгий: а третья причина какая; устал я, Николай отвечает, устал и знаешь что, он снова на локте приподнимается и говорит чётко, и даже хитрость прежняя к нему возвращается: очень интересно узнать, что дальше будет, говорит это Николай и глазом подмигнуть даже пытается, но лицо тут уже определённо судорогой сводит ему и падает тогда на подушку, молвит с трудом: можешь идти, мне священник больше не нужен, и поднимется отец Георгий, но слышит вослед себе: погоди, я-то надеялся избегать вас всех как чумы, а тебя особенно, и всех бы стерпел ныне, кроме тебя, но видишь, ты единственным оказался, кто у меня побывал и побывает теперь уже, да, но я тебе вот ещё что скажу: Ольга, она как и все вы, люди, больная, она медсестра, и должна ко мне относится как к работе своей, а личное на стороне усматривать, но извращены все люди здесь, только в такого как я и может влюбиться, и горе многое от того, что не способны на стороне личное искать; зачем ты говоришь мне это, спрашивает отец Георгий, но Николай не отвечает ничего, выходит отец Георгий, и когда к столу сестерскому подходит, говорит Ольге: там у вас раб божий Николай душу отдаёт в руки Господние, а сам разглядывает Ольгу воли собственной супротив, но не тело её смуглеющее, как прежде, через халат белый, а лицо, лицо её красивое: она в маске была, нисколько не поменялось от слов священника, а я сзади её для безопасности, либо Николай надоел уже всем, либо жалеет она его, и знает в души глубине, лучше ему чтоб отошёл он, либо любит так глубоко, не всякому чтобы проходимцу священническому это видно было, я с ней даже маскарад устроил, но не думает об этом уже отец Георгий, он ведь мысль держать ныне не способен, и не желает держать ничего, к тому же торопится он на фотосессию неведомую, покуда задержал его Николай, сверх меры всякой задержал, покидает больницу, сзади суматошное бегание людей в халатах белых оставляя бесполезное.
Отец Георгий идёт на остановку, и не думает, упорно не думает, и не потому как думать не желает, а потому что не думается и всё тут, и непонятно даже думаться зачем, и всегда так бывает, когда не думается, а ныне особенно так, и только ждёт неопределённого чего-то от предстоящего мероприятия, будто сейчас желания должны его исполнится, а какие у него такие желания имеются, которые хотелось бы ему исполненными видеть ныне, он тоже не ведает, и получается, будто предстоящее ему, помимо желания исполнений ещё, и сами эти желания придумать должно, хочется захотеть и затем исполнить хотимое, и немного глуповато это, понимает отец Георгий, но на понимание это несмотря, выглядит он в случае лучшем растерянным, а вообще-то глуповатым и выглядит, и что ему ныне за дело до того как кто выглядит, а ведь место, куда направляет его троллейбуса городского путь рогатый, не иначе как то, где выглядеть значит всё, но и о том не думает он, лишь мелькнуло видом из окна, будто таким растерянным представит он священника на фотографии в виде самом что ни на есть непосредственном, но это так, вид из окна, а внутри, в троллейбусе то есть, место свободное, и ехать долго, и садится отец Георгий, друга своего или недруга не благословивший в путь самый последний, ежели мерками мирскими мерить, и даже не думающий об этом, не печалящийся и вообще ничего об этом не делающий, садится он на место освободившееся, а рядом с ним, возле окна сидит девушка молодая, а напротив девушка немолодая, женщина лет от тридцати до сорока, немолодая, но молодящаяся весьма, и видит отец Георгий, что обе незамужние они, и снова видом из окна удивление испытывает оттого, что как-то сразу он подметил это: колец нет на пальцах, у молодой колечко есть на пальце безымянном, но на руке другой: возьмите меня если сможете, а у молодящейся уже нет этого кокетства ненужного, но не об этом отец Георгий и бесы его даже замолкли, а о чём же, а о том, как смотрят они друг на друга, молодая никак, не хочет глядеть, и только так и смотрит, с мимолётным интересом на священника глянула и снова в окно, затем очки тёмные с волос на глаза снова надвинула и стала разглядывать соседку напротив, и неспроста, а в ответ на взгляд той вызывающий, и предмет этой битвы, взглядами свершаемой, невыносим стал предмет этот для отца Георгия, потому как невыносимо стало сидеть здесь и ехать куда-то, и не потому что спать хочется, и не потому что Николай позади скончался или кончится вот-вот, и не потому что едет на дело постыдное для себя прежнего, если мерками теми, коих уже нет, но которые жизнь выдерживать помогали прежде, мерить, а потому как раз, что всё это исчезло вмиг, будто и не было, и стала душа отца Георгия ареной борьбы этой, и бесы даже посторонились, хотя, гости незаконные, гостям всяким рады они, а таким: две барышни сразу, тем паче рады, исчезло всё для отца Георгия, и видит ненависть и зависть нескончаемые и неизбывные во взгляде женщин этих друг на друга, и хочется сказать: нет, не так, так не надо, надо по-другому, ты, молодая, чем гордишься ты так, тело твоё, внимание привлекающее, тебе ли оно принадлежит, и твоя ли заслуга во владении телом этим, нет, не говори здесь про диеты разностные и про моду, блюдёшь которую непрестанно, о другом я, о молодости тела твоего, к себе цветком, пыльцу расточающим, призывающим всех пчёлок похотливых в трудолюбии своём, молодость эта не твоя, а ты полагаешь твоя будто, и душу свою выстраиваешь истине этой лживой под стать, и страдать будешь весьма впоследствии, так, как вот эта спутница твоя, что напротив, страдает, она также душу формировала, но молодость ушла, а душа молодится, и потому зло остаётся от разрыва этого, и желание разве что отомстить за обман, но никто не обманывал её, телу телово, а душе душевное, иначе удушливо будет, но нет же; хорошо если так всё, но напротив сидящей говорить иное следует, с ней уже так не выйдет, и лучше вообще не говорить, ей не разговоры нужны, потому что душевного нет в душе её никакого, помимо того, что телом её ухоженным, воистину; сколько усилий по сравнению с заботами молодой в ухаживании сём, нет ничего, помимо телом подтверждаемого, и чем менее тело подтверждает, тем мертвее слова, и по тому как женщина молодая с женщиной молодящейся друг на друга смотрят, взглядом не удостаивая прямым, видно отцу Георгию: женщина лишь для женщины глядит и выглядит, и дело это их надёжнее, чем всей Церкви дело, и безвылазно оно, и никакой Господь через это болото не проберётся, и не будет даже в него вступать, найти невесту Небесную, в жёны взять невесту Небесную, всплывают в виде таком слова Николая, всплывают и тонут, потому что две, напротив друг друга сидящие, не дают ничему плыть, возле них утонуло всё, даже непотопляемое, а я-то что, спрашивает отец Георгий, или у него спрашивают, безмолвно застывшего здесь, на сиденье этом, напротив него место свободное, я-то что запамятовал и уцепиться не могу: я, отец Георгий, служитель при Церкви Святого Иеронима, у меня не то что бы вся жизнь впереди, но ведь не помирать же мне сегодня, а провести её следует чинно и достойно, и у меня привязанности сердечные имеются, и пусть служба не позволяет им отдаться, но они же имеются, значит, я живой, и всё хорошо у меня, и не стоит на эту непролазность жизни тёмной глядеть, жаждет уцепиться за это отец Георгий, да никак не получается, и будто рукой на себя машет, в место пустое напротив, сиденья коричневого обивку дерматиновую взглядом упорно вцепляясь, будто там ныне врата откровения чьего-либо отвориться должны: да, не так всё, я человек потерявшийся, согрешивший в степени небывалой, от себя утаил то, что от Господа утаить вознамерился, бесы в душе моей, и не сплю уже длительно, но и за это уцепиться отец Георгий не может, пасть в свою покаянность не способен, и хотя никогда не способен был, а теперь вот надо бы как никогда, но снова не способен, и всё тут, и хотя бы бесов услышать, но нет, не слышит, всё притихло, лишь троллейбуса гул, позади по телефону кто-то громко говорит, кто-то с живым человеком тут же перекрикивает остальных, и всё вокруг шумит и полнится шумом, но отец Георгий тишиной воплощением вдруг воли собственной супротив сделался, и не покоится в тишине этой, а вдруг разом всё это в себя вмещает, и никто вокруг не вмещает, покуда заняты все делами своими и остального не замечают, а он всё это вместил, и не за что уже хвататься, когда всё в тебе окружное себя нашло, тебе пусто, а помимо вмещённого нет ничего и не было, Господи, говорит отец Георгий, Господи Иисусе Христе, помилуй мя, а вместо Господа помощи спасительной лишь шум, и взгляд немолодой на него нескромно заинтересованный, и если не так, то отец Георгий говорит иначе: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, и слов больше, но слов и не больше того, и тогда уже девушка рядом что, плечом тела молодого к плечу тела священнического, тоже, взглядом напротив сидящей увлекаясь, на отца Георгия смотрит, он этого не видит, но чувствует очков чёрных больших обращение к нему, на ухе чует, на носу, всем профилем чует, глаза закрывает: Господи, помилуй, и не слова больше, и та, что молодая говорит: вы выходите, говорит молодая, а отец Георгий не отвечает, и та, что молодящаяся усмехается, то ли потому, что священники мужчины странные, что и доказывать не требовалось, ведь она молодящаяся и телом своим молодым преданная непонятно какому бытованию растительному и мстительному, она даже за священника замуж не вышла, попадьёй не стала, то ли потому усмехается, что у молодой что не получилось, спросила и не забегали перед ней, сучкой молодой, как обычно, внимания не обратили даже, и тогда священник молодец, он хоть и неперспективный, зато с ней заодно, священники вообще заодно со всеми старухами, но молодящаяся об этом старается не думать, она же не старуха какая там, она ещё как может, и тогда торжеством взгляд преисполняется её, если так всё; но отец Георгий не думает ничего, а ощущает все мысли эти женские, чьи тела рядом нынче, и настолько остро касаются они его теперь, что нет возможности ответить, как в лесу заблудился, и кричать бесполезно, или как морочный сон, коего опасался отец Георгий не так давно, пока бесы сами не пришли въяве: когда спишь, а мнится, будто не спишь, желаешь силу эту скинуть с себя, а ни рукой пошевелить, ни слова вымолвить, лишь пережидать, но тогда хоть ведаешь куда пережить можно, в бодрость проснувшуюся, а ныне нет, не проснуться, ведь всё наяву, да ещё как наяву, явнее нет ничего и не было, тела эти, молодые и старящиеся, собой гордящиеся и других презирающие, и не было ничего, и не будет на земле этой никогда, это та глина, из которой Господу и служителям его месить человека надо, но месиво это заведомо никогда не окончательное, и стоит Господу руку формирующую опустить, как тут же всё снова блинчиком грязи размягчённой обернётся, и едва губами выговаривает: нет; что-что, молодая спрашивает и уже заговорщицки на немолодую глядит; нет, снова шепчет отец Георгий всё также, еле-еле, взгляд теперь с трудом огромным переводя на молодую, а у неё очки на пол-лица, и видит себя, невыносимое зрелище, так вот какое оно, мира вместилище нерадостное, так о себе думает он с содроганием отворачиваясь, не вполне, так лишь, что взглядом упирается в немолодую, а та, с симпатией улыбки, молодой не подмигивает чуть ли, и обе они улыбнулись друг другу, или показалось так, однако молодая говорит: а что нельзя сразу было ответить, и отец Георгий беззащитно снова зрит на неё, будто ребёнок провинившийся, но то от растерянности лишь, никакой вины нет и быть здесь не может, уходит молодая, и заходит чета стариков, и тогда отец Георгий придвигается к окну, и напротив молодящейся оказывается, и вместо спинки сидения, перед ним шея женская, к разрезу грудей ведущая, и шея эта великолепна, ибо знает отец Георгий как старится тело женское в местах взору доступных в очередь первую: руки старятся и шея старится, а здесь руки нет, не видит, может увидеть, но не желает, и потому не глядит, а шею да, может не видеть, но взора не отвести, надо выбираться, Господи, говорит он, Господи, отпусти меня от наваждения мира твоего, устал я, Господи, и тут всё исчезает наваждение, но не покидает мира отец Георгий, и потому не следует думать, будто как в сказке фея, здесь Господь, явился, и стало хорошо всем, нет, наваждение исчезает: перестаёт отец Георгий вместилищем быть, это да, но бесы, бесы снова усиленно начинают плясать и громче прежнего многократно, и тогда отец Георгий вспоминает зачем он, не вообще, а сейчас зачем и куда едет, и тогда поднимает отец Георгий взгляд свой с шеи на лицо её, и тогда улыбается отец Георгий, и тогда улыбается она отцу Георгию в ответ, но улыбка её не невинна, но улыбка его не невинна, у неё удивление и приятность, у него бесы и нечестивое желание пользовать то, что от мира воли собственной супротив ныне только что вызнал, будто Господь отречения миги чередует с отведением взгляда Своего, глядит на отца Георгия, и тогда отец Георгий слова не скажет, не может ибо, чувствилище мира, и мира такого, где Господу не воссиять никогда, отведёт взгляд от отца Георгия, и будто можно ныне священнику мир сей пользовать как пожелает, но ни желать, ни пользовать отец Георгий не будет, а бесы в душе его будут, и те, чьим чувствилищем делается отец Георгий в миги взгляда пристального, у них всё иначе бывает, они нагрешат и в аскезу, а здесь: аскеза обрамлением непременным для греха делается, и тогда помимо улыбки, улыбкой ответной удостоверенной, отец Георгий кивает зачем-то, не знает зачем, кивает и всё, шире улыбка у попутчицы случайной, и ни следа гнева, и желания отомстить спутнице своей молодой нет ныне в очаровании существа этого прекрасного, перед ним девушка молодая и прекрасная, смущённая от кивка этого священнического, нет, не священнического: мужского и всё тут, и невольно глаза от скромности природной к окну отводит, и откуда эта скромность у тела бывалого берётся, она вросла в тело, и будь спутница эта шлюхой последней в прошлом, не к здоровым пришёл я, скромность девичья, когда одна на один с мужчиной, тут как тут, вот ведь, и надо бы её приструнить и себя осудить, но отец Георгий взгляд тоже к окну поворачивает, соглашаясь будто с правилами игры, ею навязываемыми, и тогда она снова на него смотрит, следующий шаг сделан, и кажется сейчас вот-вот, и скажется что-то, но отцу Георгию выходить, и ей тоже выходить, и выходят они из троллейбуса, но расходятся в стороны различные, ибо отцу Георгию пока ещё не совсем ясно куда ему идти, а его встретить должны на углу, где магазин книжный находится, и он следует к магазину, а спутница его молодящаяся, ещё раз оглянувшись, исчезает из вида совсем.
И после в троллейбусе пережитого Господа неявления, отец Георгий видит город свой родной иначе, и будто давно мысли у него эти уже были, но как-то не появлялись прежде во всей отчётливости своей, а ныне нежданно возникли, и видит отец Георгий улицу центральную прогулочную города, где прежде на Марфу девушку похожую в очках тёмных видел, похоть распалявшую, но мыслями не к тому дню возвращается, ибо задумал его уже до дыр он, до истёртости невероятной, до пустоты за время со дня того прошедшее, но видит он себя на улице этой маленьким, и тогда улица эта другой была, волшебной и манящей, с мамой и папой они мороженое ели из чашечек железных квадратных, с круглой выемкой посредине, точь-в-точь круг углубленный в квадрат вписан в чашечках тех, и ножки уголками загнутыми, и лето было жаркое, и видит он себя на улице той же с собакой гуляющим и портвейн дешёвый, номер семьдесят два, название такое, пьющим, и друзья все пьяны, а на улице осень, и видит себя идущим по улице за невестой своей, в возрасте девятнадцатилетнем, новогодний снег сыплет и счастлив безмерно тогда был, кольцо купил ей серебряное, на золото денег не было ни тогда, ни сейчас, и видит себя одинокого, время года не помнит, но улица та же, ночь разве лишь на ней, и ощущает вдруг отец Георгий себя машиной небывалой, которая из этих разных улиц в миг данный одну улицу собирает, и из городов множественных жизни своей, один город делает, потому как каждому ясно, что город сей один, и жил в нём жизнь всю, всякому ясно и ему ясно, но ведь знает теперь отчётливо: города множественны, как и отцы Георгии в них пребывающие, влюблённые, отчаявшиеся, счастливые, пьяные, терпящие до туалета общественного, алкоголь потребляющие, и много-много их было, и городов, и отцов Георгиев, но с тем вместе видит он себя машиной действия обратного также: один этот город жизнью своей на множественность городов разделял во время всякое, каждый день Божий, по улицам города этого бродя, делал город этот разным, и себя разменивал на многих, и никогда не узнать теперь уже один этот город или нет, один он сам, отец Георгий, или же множество их, а ведь могло так запросто быть, что жизнь его со всеми страстями была необходима для того лишь, город чтобы множился и собирался, и ни для чего более, и магазин этот вот книжный, тоже, в детстве таким множественным делался, а ныне, ныне уже нет, магазин и магазин.
Отец Георгий рано приехал, на руке у него часов нет и давно уже счастлив весьма он этим, времени у него уже ни на что не хватит, а потому его сколько угодно, но ведает как-то выучившись: без опоздания пришёл, а потому предпочитает в книжный магазин зайти более, нежели подле него, у витрин запылённых с новинками литературными стоять чтобы, новинки ведь каждый раз новые и всегда одни и те же: детективы о людях, которых никогда быть не могло и о том, как нежити эти преступления вершат свои, романы дамскими называющиеся, но то лишь когда дамы хотят из себя таковых разыгрывать, там любови страстные и предательства мстительные, любовям мешающие и за любовями с неотвратимостью в остросюжет-ности мнимой вяло спешащие, и откуда у Марфы, столь благочестивой прежде, миры эти не сущие в помыслах разместиться только могли, не от Бога уж точно, не от Него, и помнит отец Георгий себя на словах этих, ибо что не от Него мнится, то от Него исходить запросто может; внутри магазина книги интересные быть могут, которые были таковыми для отца Георгия прежде, они внутри задвинуты на самые невероятные стеллажи, как и мир божеский у читателей любовных историй и развязок всегда ожиданных детективных, и не должно в книге невероятию какому быть в виде неожиданного завершения, негодны книги читателя лишь на новизну и ожидание заповоротных персонажей готовящие, ибо о жизни нашей известно всё изначально и до конца самого, и в жизни не ожидание новизны важно, и не потакание устоям каким-то надуманным, напротив, в ней вообще не про это, в жизни, и в книгах хороших не о том, и хорошие не такие, где как в жизни нудятину разводят какую, такие хороши о которых не ведаешь что и сказать определённого, и о жизни также, и в этом литература сходна с жизнью только для отца Георгия, и ни в чём ином не может быть сходна, потому как может в них, в жизнях и литературных произведениях, что угодно случиться, а может и не случиться; идёт отец Георгий внутрь магазина, но не к религиозным книжкам спешит, те нынче на вид непременно не хуже детективов выставлены, нет, таких книг отец Георгий ныне читать бы не стал, хотя прежде читал, да не перечитывал после, и какой в лесах строительных интерес быть может, здание когда не то чтобы построено, нет, но строитель забрался когда наверх здания нового и недостроенного, за балку верхнюю руками уцепился, а леса тут возьми и рухни, и лестниц ведь никаких нет изнутри здания, и неведомо даже: архитектор так задумал, либо недостроено и потому поло изнутри оно, и какой прок ныне в лесах этих, внизу лежащих грудой дерев бесполезных, хотя бы и на местах видных, а тот, вверху что строитель, настолько высоко ото всех, что и крика его не разобрать слухом самым даже чутким, и лика его не распознать оком самым даже зорким, и всяк проходящий только и знает, как на леса свежесваленные пялиться, и сам уже всякий в помыслах дом свой выстраивать начинает, полниться прожектами авантюрными, или же постройку имеющуюся всяк обустраивать, как ни на есть обваливать, принимается в деловитости своей неприглядно вредительной, но ничего-то у прохожего не выходит, лишь шляется окрест, на свет появившись, и уходит также в никуда своё прохожее: ни своего построить, ибо построено настолько, что нового не зачать на месте этом, а иного места нет и не было; ни обустроиться на строительстве початом, ибо не так уж шибко и достроено; ни поломать нельзя никак, ибо секреты излома строители лишь ведают, а те ведь либо почили давно с миром около построения своего, либо между землёй и небом неразличимо зависли, ни там ни тут то есть; нет, не к религиозного содержания книгам помыслы отца Георгия и стопы его ныне, а к иным, ибо в отрочестве своём мечтания имел и в юности помышлял писателем стать всамделишным, и сочинения свои на свет белый миру являть, людей одарять научиться, воображению с радостью отдающимся, и не стал отец Георгий писателем вроде бы, хотя кто же знает из ныне живущих, что значит: писателем стать, одно ведомо: книжки больше не напишет отец Георгий, и меньше не напишет, но ведь не отрицает это писательства ничевокского, ибо что писатель есть, домыслы у каждого свои на счёт этот, но лишь домыслы, до мысли не дотягивающиеся, кроме прочего, отец Георгий может быть писателем и стал, а вот священником никогда и не был, и быть так может будто мы и есть отец Георгий: ведь предупреждали с начала самого как здесь всё не тем оказаться может: мы можем быть отцом Георгием, а отец Георгий нами или вами, кем угодно, и вот это-то всего удивительнее, думает отец Георгий, как литература умеет с существом человечьим крепко срастаться, так прочно и особенно ото всего прочего, и всё прочее с собой увязывая нелитературное, с человеком может именно с этим, и завсегда-то с кем угодно и ни с кем отдельным особенных дел не имеет; стоит отец Георгий у полки с книжками авторов заграничных, веков прошлого уже и девятнадцатого ещё, и глядит на источники эти, воображение его прежде утолявшие, на эти молнии, воображение его прежде сжигающие, сырость до утопленности безвоздушной и огнь до пепла распыляющийся, ныне лишь вспышками очертаний нечётких смешались в безвестность сего дня закинувшие, Бодлерами, Флоберами, Стенадалями и Уайльдами, Диккенсами, Бальзакми и Теккереями, и видит он, как с края полки века двадцатого напирают на романистов Беккеты, Кафки, Манны, Музили и Джойсы, Кавафисы и Бланшо, Дарреллы с Прустами, Рильке с глазами ангелов и Целаны, крови Господней с луж подножных испивающие, и с грустью, дыхания не выравнивающей, отказывается вспоминать о сочинениях своих подростковых, столь незначительных при амбиций величии, в них вкладываемых автором незадачливым, и как же умеют сочинения те удовольствия душе доставлять и тело направлять у графоманов мелких, и содержанием безупречно выставляясь, и размерами совпадая с запросами, столь взыскательными во времена те, и какие же нынче они пустые, трогательные разве что, и того не более; и отец Георгий не вспоминает о своих сочинениях ничего, того кроме, что таковые имелись и, быть может, где-то ещё сохранены от костров очистительных аутодафных и свалок гнетущих рукой маминой заботливой, а быть может и нет их, по рецепту незамысловатому писанных: после прочтения книги какой, писатель молодой свою непременно писать принимался, и всё-то как ново и интересно для него самого выходило, и для мамы также, выходило, да не вышло, ибо на деле лишь читанное прежде вольно и хуже переписывал, героев одарял именами новыми и чертами характера друзей и подруг ближайших школьных и уличных, а после книжек прочитанных в количестве большем всё мешалось небывало, и всё труднее было выгадать: откуда начала берут сюжеты эти, хотя два эпоса своих детских запомнил отец Георгий и по сию пору, один про зверолюдей странных шандараков: хоббитов, читать следует читателю образованному, а в этом месте у нас лишь образованные, и, тем не менее, чающие только и остались, а второй эпос про остров необитаемый, и здесь уже автор один не поможет, будь он хоть трижды Толкиеном: хоть Джоном, хоть Рональдом, хоть Руэлом, здесь целую компанию следует перемешать образом немыслимым алхимическим, как юность это беззаботно делает играючи: Дефо Даниэля, Хаггарда Генри Райдера, Брэдбери Реймонда Дугласа, Габриэля Верна Жюля, Скотта Вальтера сэра, Рида Томаса Майна, Твена Марка или, что то же самое, Клеменса Самюэла Лэнгхорна, и Сабатини Рафаэля, и ещё кого разве, до неузнаваемости их всех спутать немыслимой, и слить через воронку неширокую усвоения детского, и через сито просеять узкое стиля письма становящегося едва-едва и шаги первые делающего, умножить на что-то ныне не уловимое уже никем, ибо детское совсем это для времён наставших, и выйдет тогда Остров Джунглей на восемь тетрадей общих, с индейцами и пиратами выйдет, мушкетёрами, сокровищами, воздушными шарами падающими и дамами прекрасными сил придающими выйдет, ловушками хитрыми в момент последний разоблачаемыми и смертями всегда неожиданными и лишь втайне читателем предугадываемыми выйдет, голодом точащим и кущами райскими плодов экзотических выйдет, в лет двенадцать войдёт и лет в четырнадцать выйдет это всё, где-то между тем, когда мальчик не отучился ещё мир чудесных вымыслов от мира здешнего отличать, и мир здешний таким вот чудесным и видит, и тем, когда юноша бежит от мира здешнего в мир вымыслов чудесных и, тем самым, чем больше к чудесам стремится, тем более из мира их изгоняет, остановился отец Георгий, никогда всё же не дотянув до того времени несчастного, когда мужчина уверенностью взрослой ведает о том, как помимо мира здешнего, никакого мира вымыслов чудесных не бывает, и от вымыслов отталкиваясь в неведении своём, здешнее убогим непременно видеть желает воли своей супротив, и, ежели отец Георгий не священником, но писателем оказался бы, то легко его себе мы представить сумели бы, не сложнее, нежели священника в магазине книжном теперь, писательствующего летом знойным на даче, к примеру, собственной, и перед тем, как в комнатке закрыться дальней за партой школьной раскладной образца устаревшего одноместной, перед этим сходил бы отец Георгий по дороге через две дачи к участку заброшенному, где ничего кроме травы высокой ниже пояса чуть, в вышину ковыльную, не осталось, а травы там и не было, когда что-то иное было. но теперь ничего из прежнего нет, сгинуло, а трава завелась безвылазно, и есть ещё разве что вишнёвых кустов поросль, вишня по-сорняковски растёт, едва-едва над травой высится, но ягоды зато на кустах тех вишнёвых, хотя и маленькие, но красные-красные, мелкие, но так ведь и косточки в них мелкие, и когда их выплёвываешь, они в сока вишнёвого цвет окрашены густокроваво, и никто ягод этих не собирает давно, разве что дачники случайные, с речки идущие в плавках цвета весёлого неуместно посреди тиши здешней, такие цвета на пляж надо надевать, а лучше не надо, идут дачники в окружении трав, ароматы источающих и средь цветов фиолетовых ярких, жёлтых слепящих, белых взгляд режущих, могут они, ежели им в траву высокую с тропки подорожниковой ступить не лень будет, смогут тогда они ягод этих собрать в руку несколько штук, кусты низки, нагибаться-то уж точно лень, ведь только из речки и пока до своей дачи доберёшься, уже пропотеешь весь снова, а ежели под солнцем стоять палящим и ягодами лакомиться, тогда надо сразу же обратно возвращаться на речку, и потому вишню не собирает никто, осыпается она, никому здесь вырастая, а отец Георгий набрал бы её в миску жёлтую вымытую начисто и солнцем на столе террасовом до тепла приятного высушенную, и лишь после этого сел бы за парту в комнате дальней в даче своей, и тетрадь бы толстую раскрыл, ибо никогда не печатал бы сразу в компьютер портативный, сел бы за парту, открыл бы тетрадь, поставил бы миску жёлтую вишен кроваво-солнечных полную, да так, будто жар от неё всего лета исходит ныне, хотя нет, не исходит, так только кажется, кофе сделал бы себе сладкого слегка, пепельницу с сигаретами предварительно приготовив, и с мыслями, во время сбора вишнёвого в слова окончательно вылитыми, написал бы что-нибудь вроде: началось всё с того, что отец Георгий нарушил тайну исповеди, и уже готов был бы строки дальнейшие выводить, но тут, на солнечный свет не глядя, который снаружи всё иссушает до желтизны и от которого занавеска скрывает отца Георгия комнату затенённую дальнюю, вдруг грянул бы ливня летнего поток проливной, застучал бы по крыше металлической, и поначалу это смутило бы отца Георгия, но то лишь поначалу, ведь чуть погодя, для себя самого неожиданно, выбежал бы он на улицу под дождь, и стоял бы в солнечном свете ливня разверзнувшегося, и думал бы, глаза прикрывая: и зачем я это делаю, вместо того, писать чтобы задуманное, и лишь когда ливень закончился бы, а ведь такие сильные дожди не бывают долгими летом, зашёл бы в дом обратно, затряс бы головой будто псина телом после купания, одежду мокрую скинул бы с себя, вытерся насухо полотенцем синим махровым, и уже обнажённый, вновь за тетрадь эту бы уселся, ощущая приятную прохладу табурета деревянного, немного прихрамывающего и поскрипывающего, и вот таким писателем мог бы отец Георгий выйти, но это была бы иная история, а у нас всё та же самая идёт-идёт, да не дойдёт до края никак, и ведь не писатель отец Георгий, но священник пока, и не на даче он голый за партой школьной на табурете деревянном сидит, на ягоды в блюдце жёлтом с аппетитом поглядывая время от времени, но в магазине книжном, и голова его не прояснена неожиданным ливнем летним, но сединами увенчана и в сон непременно клонится; не будучи писателем, всё же чувствует, когда писатель не только вновь знает литературе благодаря, что мир здешний и есть мир вымыслов чудесных, но ещё и делает его таковым, показывание оное совершая через произведения свои и чужие литературные, но ныне пред взором лишь книг чужих корешки, и чувство всегдашнее отцом Георгием владеет устойчиво, будто в магазине книжном заблудиться можно сверх меры всякой разумной, и когда вновь на свете дневном оттуда оказываешься, то не помнишь наверное зачем заходил сюда, куда следовал до подпадания под власть соблазна книжек здесь собравшихся и с душой твоей всякое сотворяющими, даже без открывания их, и что со всем этим делать теперь, и ныне эта затеря в мире книжном весьма сгодилась бы отцу Георгию, ибо выныриваешь всегда иначе и иным, хоть чуть, но иным, нежели погружаешься, и всего удивительнее отцу Георгию ныне, как дивные самые миры создаются в мире всё в том же, где он теперь в магазине книжном стоит, и являются, стало быть, частью мира этого же самого, и уже потому не того же самого, и частью не случайной или неуместной, а будто для дела с самого начала в мир сей вписаны вымыслы художественные; но здесь коснулся его за плечо кто-то правое, и он обнаружил себя с томиком непонятно зачем ему приглянувшегося сегодня Стриндберга Юхана Августа произведений избранных; отец Георгий, интересуется у него женщина роста небольшого и сложения весьма крупного: да, отвечает отец Георгий растерянно, но радуется вдоволь тому, что растерянность его эта человеческого свойства вполне, а не бесовского или божеского: откуда вы меня знаете, спрашивает он с улыбкой, в женщине прихожанку безуспешно припомнить силясь и не в силах всё же; я за вами, в студию проводить вас желаю, женщина говорит: на углу не найдя вас, сразу почему-то решила сюда заглянуть, и поскольку священник в магазине оказался, и всего лишь один, предположила вас в незнакомце этом, и, как видите, не подвела меня интуитивная догадка моя; да уж, только и говорит ей отец Георгий, и взглядом выхватывает книжку толстую Дойля Артура Конана, Стриндберга вставляет между Дойлем и Дойлем, откуда взявшегося в руках его неведомо, и за женщиной к выходу направляется, в то время как та говорит ему через плечо левое: я-то думала, будто вы у литературы духовного назначения стоять будете, и туда пошла сначала-то, а вы у художественной душу отводите, на что отец Георгий развеселившись уже и в себя пришедший, от кошмара троллейбусного отойдя в мир книжный, а оттуда очистившийся выйдя, отвечает ей: художественная и есть единственно духовная, а женщина плечами лишь пожимает: вам видней, хотя как-то странно это, но я-то вообще книжек не читаю, некогда мне и работы много, отчитала своё уже, на что молчит отец Георгий и лишь про себя отмечает, что ему-то жизни целой не хватило бы даже на то, чтобы читанное прежде когда-то ныне хотя бы напомнить себе, но к чему женщину случайную во все эти соображения впутывать, ведь фотосессия впереди неведомая, и озирается по сторонам отец Георгий, будто ребёнок, коего на ярмарку впервые привели родители радетельные, или на приезд лунапарка какого, озирается по сторонам и ничего не говорит.
Студия громко было сказано, хотя говорила спутница отца Георгия негромко, а ежели это переносное выражение, то куда оно переносит неясно совсем, ибо ничего громкого в слове студия нет, в слове этом латинском, к произношению римлян древних зовущее, из коих ныне нет в живых никого, мы ни одного не встречали по крайней мере, в слове этом вся жизнь ведь вмещается с порядком мер её строгих, от первых шагов терпения, через страсть распаляющегося, к преданности, затем уже в пристрастий рутину складывающейся и здесь уже недолго совсем до закрепления в науке порыва первого от усердия, о себе не ведающем ничего, исходящего; всё это студия или студии различные, а помещение, в которое отца Георгия привели, на этаже втором дома купеческого старого в стиле начала самого модерна архитектурного эпохи, ныне на комнаты коммунальные всё сплошь разбитое, там едой пахло съеденной уже не сегодня, цветами, прежде красивыми и распускающимися, а ныне ссохшимися в воде затухшей, и собаками, и теми не только пахло, но ещё и въяве присутствовала одна, из двери кинувшаяся и чуть была ризы рясовой полы не порвавшая зубами своими, и своими можно было бы не добавлять, редко увидишь собаку, которая для целей своих кусачьих собачьих зубами чужими пользуется, и порвала бы ткань и до ног достала бы, если бы не хозяйка незлонамеренно природной псины рукой из двери чуть приоткрывшейся железной собаку обратно не утащила за ошейник, словами при этом уговаривая: подожди, подожди, чуть позже гулять пойдёшь, и спутница отца Георгия на это внимания не обратила нисколько, не обернулась даже, не от безучастия, но от привычки лишь, понял отец Георгий, рясу чуть приподняв и в руке левой в меха гармоники сосборивая; мы здесь три года уже, сказала проводница отца Георгия, которую, на волне настроя литературного и несмотря на обстановку соответствующую вполне, Беатриче он бы не назвал, пережила она возраст смерти двадцатипятилетней возлюбленной поэта великого лет на двадцать уже или вроде того, а как эту звали, так и осталось ему сие неведомым делом именования родителей её заботливых; и лишь когда за дверью студии отец Георгий оказывается, ему уже приходится поздороваться с мужчиной его помоложе, с фотографом, что позже чуть выяснится, а пока тот дверь открыл и отца Георгия пристально разглядывать начал сразу же, на два шага отступая, и уже мгновение спустя будто опомнился: проходите, проходите, отец Георгий, выглядите чудесно; здравствуйте, улыбаясь говорит отец Георгий, пока его Беатриче несостоявшаяся в сторонке стоит прихожей, и также, как и фотограф, гостя оглядывает, будто теперь только оценила ситуацию, появлению коей сама же способствовала значительно, гостя приведя; а ведь и в самом деле священник этот не просто священник, который в студии смотрится не так уж и странно, ибо студия такой же театр, да лишь без зрителей и без действия, последние на фотографиях разворачиваются, а грима, костюма пластических движений застывших в кадре сколько угодно случается; странно то, что священник-то настоящий, и настоящий священник этот не священник ныне, а фотомодель; мы с вашим руководством все вопросы уладили уже, они на вашей кандидатуре настаивали, хотя наш человек, который кастингом ведает, он другого подобрал, отца Дмитрия некоего, вы его знаете наверное, а они вас предлагают и всё тут, мы огорчились уже, думали выдадут нам обезьяну какую-нибудь в регалиях церковных, и готовы уже были к конфликту, подобрали юношу журнального вполне, в рясу намерились было одеть, но теперь видим: вы что надо, священник настоящий, говорит фотограф с улыбкой, фотографы много говорят, как водители и ведущие теле и радиопередач; священник настоящий, священник настоящий, и ошарашен моментально отец Георгий бесами, задремавшими уже было после больничного посещения, у отца Георгия голова сразу же болеть начинает, но вида соответствующего он не показывает, как ему плохо от лести этой пустой фотографической; и что это значит: священник настоящий, спрашивает отец Георгий, а фотограф с проводницей переглядываются и улыбаются загадочно: на комплимент напрашиваетесь, отец Георгий, а ведь оно-то и ребёнку понятно, что это значит, это когда, глядя на вас, душу хочется доверить в руки надёжные, вот что; душу доверить в руки надёжные, ликуют бесы, голова ещё более болит, а отец Георгий улыбнулся участливо и благожелательно весьма, из вежливости исключительно, а сам студию глазами исследует тщательно, и в самом деле схожа она с комнатами, реквизит театральный хранящими и с гримёрками актёрскими, и со сценой также весьма: прямо перед отцом Георгием окно, студия в одну комнату вмещается, но взору лишь половина её левая доступна, ибо посредине комнаты, от прихожей начала и до стены оконной напротив ширма белая тянется, а потолки высокие, метра четыре, не менее, и можно догадаться как за той частью, ширмой сокрытою, ещё одно, правое окно; слева от отца Георгия лестница, куда-то вверх уходящая, на чердак вероятно, прямо из студии на крышу; далее, вдоль левой стены, к окну ближе, стоит большой диван кожаный, хотя о нём лишь догадываться можно, поскольку он сплошь завален какими-то реквизитами студии этой самой: лежит здесь балетная пачка, странный, не спасающий от дождя, но зато блестящий оранжевый плащ с огромными, пришитыми к нему нелепыми звёздами, и ещё какая-то одежда; вдоль дивана на полу обувь и зонты, над диваном до самого высоченного потолка полки с таким же хламом одёжным; по обе стороны окна большие белые зонты на стойках, коими фотографы светом и отсветами правят, тенями и оттенками софитного света; от самого окна справа и почти до самого того места, где ныне находится отец Георгий, ещё и поныне в дверях стоящий, ширма белая тянется, доходя лишь до середины стены в высоту свою, оставляя белёный потолок где-то в поднебесье, и определить: что именно находится за ширмой, добрую половину студии огородившей, возможным не представляется, и опять же, это лишь к слову, будто половина эта добрая, ведь быть может та добрее или вообще райские кущи земли обетованной за ширмой сокрыты, но это странно будет весьма, ибо ничего особенно злого в этой, видимой, половине не наблюдается, однако отец Георгий уже видит, как тут, в фотостудии, несмотря на никчёмность и скученность реквизита, тесноту низа употребимого и высоту верха бесполезного, здесь, в этой студии творятся или могут быть сотворены столь пленяющие воображение незадачливого зрителя картинки, и лишь будь этот зритель чуть позадачливей, он бы так же непосредственно, как это самое изображение незамысловатое перед глазами его раскинувшееся со страницы журнальной, видел бы ещё и сделанность изображения этого, и оно-то понятнее: чем изображение незамысловатее, тем более замыслы в сделанности оного присутствуют, и здесь различия нет меж литературой и искусствами изобразительными, средь коих фотография самым примитивным искусством от века и до погибели пребывать обречена вследствие доступности своей всякому, и различие меж литературой и изобразительностью не в том, как каждая из уюта хаотического студий различных взрастает, а в том, сколь стихию эту каждое произведение преодолевает в себе, и в том, как литература действие оказывает или же бездействием душу заполняет, и всё это мечется в уме отца Георгия под пляски бесовские: как бы Теккерей романы свои рисовал, и как бы Рембрандт романизировал картины свои; вы проходите и присядьте пока, ноги только оботрите о коврик, фотограф приглашает отца Георгия, и на диване, реквизитом закиданном, место высвобождает, вещи, прежде ровным слоем распределённые стихийно, в кучу одну наваливая небрежно, отец Георгий проходит, садится и оглядывает помещение с места, вид свой вновь ему студийный открывшего, и оказывается, что лестница, ото входа слева ввысь ведущая, а ныне справа высящаяся в углу, раскрашена вся узорами непонятными, значения явно декоративного; куда лестница эта ведёт, спрашивает отец Георгий, в то время как фотограф, к окну подойдя, два ярких софита зажигает и зонтами начинает на ширму свет направлять; это у вас не религиозный вопрос ведь, фотограф шутит: лестница ведёт в мастерскую брата моего, художник он, и на чердаке мастерская у него имеется; и как же фотограф с художником уживается, интересуется отец Георгий, мыслей своих недавних отголосок в словах сих слыша; уживаются как брат родной с братом родным, жить которому негде, и потому он днюет и ночует на чердаке своём, фотограф с грустью в голосе некоторой отвечает, но тут голос бодрый раздаётся проводницы отца Георгия: отец Георгий, в комнату проходя, говорит она: у нас задача не просто так вас сфотографировать, но, в целях организации вашей, сюда вас пригласившей или направившей, должно показать всем через посредство журнала нашего, как прогрессивна и современна церковь в мире нынешнем, это ваши цели, наши цели изображения красивые поместить, и как именно это совместить и исполнить, руководство ваше нам это доверило полностью, будто сами не доверяют себе в просьбе своей; и что же, поднимает на неё глаза отец Георгий, несколько напряжённо улыбаясь; и мы решили вам предоставить модель нашу новую, которая будет музу служения религиозного символизировать, с гордостью проводница заканчивает мысль свою, и с ожиданием восхищения что ли ответного глядит на отца Георгия довольная собой, а у того улыбка всё шире делается: и, спрашивает отец Георгий; и поэтому знакомьтесь: Василиса, говорит проводница, ликуя, но отец Георгий ликование прерывает её: какая, говорит отец Георгий со смехом, какая ещё муза у служения религиозного, вы о чём говорите представление имеете какое-то справедливое не вполне, но проводница, убеждение составив обоснованное о том, как отца Георгия идеей журнала гениальной не убедить ни в чём, повторяет настойчиво, будто спасение в явлении грядущем ожидается для всего здесь случившегося: Василиса, Василиса, Васька, иди же сюда, и тут из-за ширмы белой голос волшебной ясности и веселия бесподобного отвечает: иду, иду, я ещё не вполне готова; а отец Георгий волнение небывалое от голоса этого испытывая, возражения продолжает выставлять супротив воли журнальной: муза это языческая богиня, а точнее коли быть, одна из языческих богинь, покуда, уточняя, муз девять, и смотря какую имеете в виду вы, они хоть и сёстры, но каждая специализируется из них на области особой, и ни одна из этих областей не может отношения к служению христианскому иметь никакого, и пока отец Георгий слова произносит, его самого начинает дрожь бить, покуда слово сёстры произнеся, невольно о Марфе с сестрой её вспомнил, и то бы ничего, он о них постоянно вспоминание имеет, но здесь ещё волнение дополнительное от звучания голоса Василисы неведомой заширменной, царицы значит неведомой, за ширмой располагающейся во время всё это, как следует, ибо вход в студию один только, и хорошо даже может быть оттого, что проводница отцу Георгию не отвечает ничего, почитай игнорирует его прямо-таки с откровенностью полной, и замолкает вдруг резко отец Георгий, говорят ему потому как бесы его: тебя сюда церковь направила, тебе следует невесту найти себе, и ответствует им про себя отец Георгий: невеста моя Марфа, и не небесная, но земная и единственная, и говоря так про себя, себе же дивится весьма, ибо никогда о таком прежде дум не имел и помыслов малейших не замысливал, и потому говорить себе продолжает, непонятно уже убедить кого стараясь: нет у меня в земных невестах Марфы, вообще невест у меня нет, не будет и не было наверное, так говорит бесам своим или себе в обличье бесовском отец Георгий, и всё это быстро происходить начинает, и не потому как для человека, который не выспался, всё быстрее идёт, ибо сам он медленно тянется, а в самом деле быстрее всё делается, ибо бесам только что отповедь произнеся внутреннюю, которую и Господь слышать может также, ежели пожелает, а вот желает ли отец Георгий, чтобы Господь беседы его с демонами слышал или не желает, не думает об этом отец Георгий, покуда ведает, в очередь первую, как Господь всё-всё сумеет, и забывает, в очередь вторую, чего-либо желать себе вовсе; и вот, как только он бесам и Господу и себе всему-всему это говорит, бесы исчезают, но в миг оный появляется из-за ширмы белой девушка по имени названная проводницей Василисою, и лишь видит её отец Георгий, как не только бесов отсутствие замечает, так и себя, с бесами общение вершащего в забвение отправляет, будто обёртку сберегающую от сути какой наиважнейшей, и сам не ведает уже: что же за суть в нём такая была, а нам следует кое-что пояснить, покуда показаться может, будто так описывается банальнейшей влюблённости со взгляда первого сила; нет, не о том сказать следует, ибо отец Георгий менее любого из нас склонен в миг такой жизни своей бессонной, но заплутавшей и посему ни к какому бдению не приставленной, менее всего склонен теперь отец Георгий не только влюбляться, но и место в душе своей, бесами населённой, под любовь к девушкам модельным отводить, и к тому же сообщено только что самим отцом Георгием было, что он Марфу невестой бы назвал, ежели бы оженихался в мире этом, и потому забвение, отцом Георгием овладевшее, иначе описывать стоит, и мы бы описали давно словами верными. и не стали бы сначала одного впечатления созидать, дабы тут же говорить: нет-нет, это не то, что вы могли подумать, и к тому же откуда такие как мы можем знать о том, кто что подумать может, если сами слов подобрать не в силах нужных, и какое нам после этого всего доверие; но прежде чем суд последний не страшный, ибо страшный не читатели, но Господь вершит и выносит, а читатель лишь последний, да и то лишь до читателя следующего пытливого появления, которое всегда супротив окружающего случается, и прежде чем на самих себе крест ставить, ибо также в ведении сие Господнем находится, сказать следует о причине слов отсутствия верных, поскольку слова здесь не то, что происходит, а в ситуации странной этой словам опасть следует, листьям подобно, как и отец Георгий сам себя отбросил куда неведомо, но по ощущениям там будто и находился сызмальства, и без слов всяких остался перед Василисой; но если бы доверие нам вернуть удалось, мы бы произнесли такие слова опадающие: чрезвычайно напоминала Василиса Марфу видом своим и, с тем вместе, иконы лик Богоматери Казанской, и отца Георгия поразило ныне то, как Марфа может так с Богородицей в лике одном сходиться, и ведь не может, и не сходилась, а тут появляется из-за ширмы Василиса, и будто звено недостающее для событий последних в жизни отца Георгия Василиса эта, и не она важна теперь, ведь не граф Рязанов отец Георгий, хоть и на авось полагается как тот, и не Марфа важна здесь, а соединение это странное впервые тут, в студии этой нежданно явленное; и слова зазвучали, которые Николай через жизнь свою донести медлил, и сегодня, тоже ведь совпадение дивное, сегодня именно и передал: невесту себе небесную в жёны возьми; и глупость эта дивная о музе служения религиозного, и бесов в тишину погружение, остаётся в миг этот отец Георгий будто с собой наедине, но не с тем, кого знал и коему спать сам же не давал, не с тем, который тайну исповеди нарушил, Андрею всё про Марфу сказав и ангела подведя божеского, и не с тем, который под музыку ударную бесов безымянных в студию на фотосессию неведомую пришёл, но с собой только что сотворённым из ничего, ибо чем всё это как ничем стало вдруг, новый он отец Георгий, и в то же время понимает: именно таким он исстари и был, сам того не ведая, ещё до рождения своего быть может, и никакой тайны исповеди он не нарушал, ибо к Марфе ангел во сне явился для того лишь, чтобы она отцу Георгию о том рассказала, чтобы он Андрею о том поведал, чтобы через грех утаивания этого бесов к себе допустил, и в компании этой невидимой, упокой Господи душу раба Твоего Николая, в компании невидимой здесь оказался, и не просто сходство Марфы подметив с Богородицей по имени Мария, и чтобы перед этим всем знал весть странную, будто оракул, о невесте небесной; оракул язычество и муза язычество, пробует говорить про себя слова прежде ведомые новый отец Георгий, и спрашивает себя: а дальше-то что, и понимает как дело всё ни к чему не сводится, если только Василиса, на которой странно спасение замаячило для отца Георгия души, если только Василиса что, а кто же его знает, что там Василиса, и пока отец Георгий новый в тупике шагов первых оказался, следует Василису описать, ибо она готовилась там за ширмой, и было бы несправедливо фотомодели этой хотя бы в двух словах описания отказать, и хотя двух слов мало, соберём их по два, дабы обещание только что данное исполнить и чтобы красот каких банальных перечисления не множить сверх надобности, в стиле пушкинском, который он ещё у французов века семнадцатого черпал, и не говорить дабы: красотка молодая, по-английски не говорить чтобы: поклонница Киприды, или тем паче: нимфа радости, упомянём о коже смуглой, волосах тёмных, глазах карих, профиле около-греческом, губах бледно-розовых, косметики отсутствии, платье белом, на свадебное похожем, невесту напоминающем, но легче свадебного значительнее, ибо под ним тело просвечивает, нет, не свадебное платье, но туника лёгкая, поясом белым атласным подпоясанная, а со стороны левой на поясе бант огромный, сандалии греческие почти, до икры загорелой серпантином шнурков белых доходящие; я муза ваша теперь, отец Георгий, вновь звучит голос Василисы: по меньшей мере муза на время фотосессии этой; и хочется отцу Георгию спросить: а после фотосессии, но не спрашивает, памятуя об оговорке странной по меньшей мере, кивает лишь скромно, воспламенения в глазах лихорадочного гасить даже не собираясь: очень приятно, Василиса, меня Георгий зовут, отец Георгий; и глядит она на него так приятственно, будто всю жизнь его только и ждала, или, даже точнее так будет: будто никого, кроме него, в жизни своей никогда и не встречала; это работа такая у неё, себе говорит отец Георгий и кланяется едва, и Василиса неожиданно говорит: да, такая работа у меня, отец Георгий; но тут проводница Василису прерывает буднично весьма: мы же о другой одежде договаривались, проводница попрекает Василису, а та отвечает с улыбкой: разговор я ваш подслушала, и решила в музу подлинную обрядиться, будет аллегория этакая античного и христианского, или даже древнего и нового; и при слове нового обновлённый отец Георгий вздрагивает и сон свой о Завете Новейшем припоминает; ну ладно, говорит проводница, укоризны и досады даже не скрывая, ибо священник не желает журнала идею оригинальную поддержать, а Василиса своевольничает, и всегда-то так с людьми: задумаешь простое что сделать, как и оно лишь чудом к исполнению, да с искажениями значительными приходит, если приходит, потому как из людей сразу же своеобразие выпирать начинает отовсюду, будь оно неладно, и они тоже, будь все неладны; ну ладно, проводница говорит и к фотографу поворачивается: давай начинать уже, а там посмотрим; и отец Георгий с дивана поднимается: что от меня требуется, это он у фотографа спрашивает, но ему Василиса отвечает неожиданно: всё будет так только, как того вы захотите, покуда муза ваша я, а вы Господу служить вздумали; и какая же, говорит отец Георгий, была последняя ваша работа тут, если не секрет; а что же секрет, отвечает Василиса, я сидела с волосами развевающимися на мотоцикле большом харлей дэвидсон называется, и главный мотоциклист города нашего вёз меня в дали небывалые ковбоевые; а теперь значит муза служения религиозного, отец Георгий улыбается и у фотографа интересуется: мы вам разговорами не мешаем; нет, не мешаете, отвечает фотограф; но Васе доверьтесь сейчас и тогда мы быстрее всё сделаем; а я и не хочу быстрее, желает сказать отец Георгий, но Васе довериться очень даже желает также, и ничего не говорит, поскольку странно ему желание подольше здесь побыть, но ведь оно-то и понятно, скажет тот кому всегда всё понятно: отец Георгий новый опыт и совсем не травмирующий получать изволяет, а тут ещё и девушка не уродливая; да, если мы не можем к отцу Георгию в душу его обновившуюся заглянуть ныне, то давайте хотя бы посмотрим что же происходит в студии, а девушка муза Василиса открытая в платье своём лёгком всячески на отце Георгии перед фотографом начинает представления свои о том, какими музы действиями в древности художников вдохновляли и обольщали, представления эти свои осуществлять, и ничего отец Георгий у неё больше не спросит, после того как получил разрешение, что ему всё что угодно можно спрашивать, и знает когда, что ответят ему всё-всё, о чём спросить только изволит, и ничего он потому не спрашивает более, кроме того, почему родители Василису Василисой поименовали, на что та ответит сначала: не знаю, беззаботно и легко весьма, а затем, чуть лоб нахмурив, дополнит не знаю своё словами такими: кажется, мама сказывала, когда в роддоме была, по телевизору тамошнему показывали как раз мультфильм, Василиса Премудрая, что ли; Василиса Прекрасная, поправит отец Георгий, фильм такой художественный, сказка, и вообще ведь Василиса с языка народа муз, с греческого, не иначе как царица; да, я знаю, беспечно отзовётся Василиса, и во всех словах её лёгкость того голоса, из-за ширмы раздавшегося, звучать будет непрестанно, и смолкнет до перерыва отец Георгий, и лишь спрашивать будет: так, или: не так, на те указания в ответ, коими его Василиса и фотограф снабжать будут, и сложится представление у отца Георгия, будто это не его фотографировать изволили ныне, а Василису и лишь её, а священника так, для фона лучшего пригласили, и главного мотоциклиста в куртке кожаной с волком огромным на спине в пламени языках башку свою выставившего, тоже лишь для Василисы пригласили, и уйдёт отец Георгий вскоре, как ушёл мотоциклист, и придут другие, лучшие да известнейшие люди города, а Василиса будет менять наряды в студии этой или в другой подобной; а в этой отец Георгий побывал на барном стуле, Василиса на коленях стоя, колени ему обнимала, отец Георгий побывал на полу, и Василиса, над ним возвышаясь, призывала его свысока последовать за ней в страну служения религиозного, и много чего ещё было, а фотограф всё это фотографировал и фотографировал, и отец Георгий сносит это всё не без приятности, поскольку всё это время доступной ставшая муза не то чтобы вдохновение вселяла, но касалась отца Георгия всячески, и мы могли бы подумать, как могли фотограф подумать и проводница подумать, будто отцу Георгию приятно особо от того, что модель его касается всячески, то коленом, то грудью почти обнажённой, лишь тканью тонкой сокрытой прозрачной, то рукой с кожей нежной, то волос прядью завитой, можно было бы подумать, что священник млеет и в преддверии греха прелюбодейственного находится, и хотя достаточно сурова ткань чёрная одеяния его, но пропускает она касания эти все не хуже, но сильнее даже делает их будто, так можно было бы подумать, ежели не знали бы мы: как сильно парализован в миг сей отец Георгий новизной, в коей посредством образа Василисиного оказался, и не знали если бы: как не знает отец Георгий, что ждёт его ныне, ибо со всей определённостью ясно ему, что старого не будет уже никогда, а что нового в новизне грядущей, не ведает, и даже предположить не может отец Георгий, и странным это ему представляется: будто день сегодняшний, значением небывалым полнясь, при этом к ожиданию участливому и действие всяческое парализующему призывает его, отца Георгия, и так это или кажется ему это так, будто в руках этих ухоженных и смуглых, с кожей молодой упругой музы его, судьба его, так же открыто, легко и играючи, доверчиво как голос её, решаться запросто может, и надо лишь подождать, и он ждёт, чего не ведая, а их фотографируют и фотографируют, и затем фотограф говорит: давайте перерыв сделаем, перекурить надобно; а за окном сумерки скорые для дня осеннего брезжат; а вы не курите, фотограф к выходу направляясь у отца Георгия спрашивает, на что проводница отвечает ему: нет, священники же не курят, но отец Георгий для себя неожиданно прерывает её, столь во всём уверенную и книг давно не читавшую: обычно да, не курю я, но сегодня, если вы меня сигаретой угостите, я бы покурил с вами, ибо необычно здесь всё весьма; и фотограф отвечает: конечно, пойдёмте, и они выходят в коридор, где холодно довольно в сравнении со студией, софитами нагретой и прочими жаркими делами страстными, а в коридоре под лай собаки из-за двери железной отец Георгий закуривает сигарету недорогую весьма, и дым через нос без привычки выпускает случайно, а фотограф его о всяких вещах спрашивает, какие люди, с церковью не связанные, завсегда у священнослужителей рады повыспрашивать, ежели только не на службе, за пределами храма то есть, вблизи себя, оных заприметят, и на вопросы такие отвечает отец Георгий, поскольку слышал их и отвечал на них тысячи раз уже, и даже катехизиса не надобно на эти вопросы, жизнь священника сама катехизисом таковым запросто помимо книг всяческих делается, будто прихожанам сразу что-то в священнике любом ясно, а что-то никогда не ясно, и в первом и во втором столько чепухи всяческой намешивается, и она у всех одинаковая какая-то; а про фотографа этого сказал бы отец Георгий, что он, как и все остальные, кто вопросы такие задавал, но лишь тактичнее что ли, большинства других, и сам отец Георгий, будто бабочка порхающая другим насекомым о гусеницах и куколках рассказывать изволила, легко и с улыбкой, докуривает почти, и спрашивает о количестве сделанных уже кадров, и фотограф отвечает, что будет кадров не менее двух тысяч, и тогда отец Георгий интересуется: а сколько же будет в журнале фотографий; одна или две в случае лучшем, говорит фотограф, но если две, то одна крупно, а другая мелко; и они заходят в студию обратно, лай собачий, за спиной раздающийся, дверью входной заглушая, и фотограф спрашивает: Васенька, готова ли ты, но нет музы отца Георгия вновь, и начинает даже бояться отец Георгий будто и не было никого, и всё это ему привиделось, но говорит из-за ширмы Василиса: нет ещё не готова, сейчас, сейчас, и зовёт отца Георгия: отец Георгий, пройдите ко мне; и отец Георгий, пока фотограф с проводницей на мониторе больших размеров, прямо в прихожей стоящем, снимки какие-то обсуждают, приподнимает ширму и оказывается в той части студии, о коей до сего времени лишь догадываться мог.
У второго окна, в углу стояла огромная для этого помещения небольшого, скульптура девы Марии: Богоматерь сидела, держа в руках тело сына; отец Георгий знал эту скульптуру работы Буанарроти, Пьета; похожа я на неё, говорит Василиса, наряженная в одеяние, чем-то напоминающее отцу Георгию одеяние девы Марии, накидкой на голове; не знаю, нерешительно отвечает отец Георгий; в этой занавешенной части студии нет ничего, кроме этой массивной скульптуры, дева Мария и тело Христа в человеческий рост, будто модели, с коих Микеланджело ваял их, окно здесь ещё, и кушетка, на которой лежит наряд прежний Василисы; ну вот, говорит с напускной обидой, хотя и ясно насколько шутливо, Василиса: а то я бы хотела повторить на фотографии работу эту мастера итальянского; как так, изумляется отец Георгий; ну гляди же, Георгий, как она здорово отклоняется, каким небольшим делается в руках её мужчина тридцати трёх лет от роду, как царственно выставлена у неё нога правая и взгляд прямо на живот того мужчины тридцати трёх лет от роду направлен, а лицо у неё не иначе как девочки молодой, будто скульптор двух Марий перепутал; прерывает её отец Георгий: этот мужчина тридцати трёх лет от роду Господь наш; ой да ну ладно тебе, подступает к нему Василиса в наряде девы Марии, и по плечу рукой ведёт: я же специально говорю так, поскольку то, что в руках Марии Иисуса тело и так всем известно, а вот если бы ты согласился на предложение моё, то; и снова прерывает её отец Георгий: но я не Иисус, и ты не дева Мария, на что Василиса отвечает, улыбаясь мило весьма: Георгий, ну почему ты всегда говоришь только всем известные вещи, тебя случайно на это никто не сглазил, она смотрит в глаза ему: не проклял; и впервые в голосе её слышит отец Георгий нотки такие, какие ему не по душе приходятся, и не знает новый отец Георгий как реагировать на это, и потому резко выходит из-за ширмы, и у фотографа ещё одну сигарету спрашивает, отчего всезнающая проводница, душа достойнейшая, издаёт кряхтенье невнятное, но выходит отец Георгий стремительно в коридор, и берёт спичек коробок, фотограф пользуется которым, закуривает и слышит, что собака никакая не лает, и вообще тишина установилась такая, будто коридор сей один в пустоте только и находится, а вокруг него ничего нет, и двери эти никуда не ведут на деле, и никакие это не двери вовсе, и даже та, из коей он вышел только что, студийная, и вдруг думается отцу Георгию, что лучше бы действительно дверь эта, позади него расположенная, лучше никуда бы она не вела, и не дверью была бы вовсе, но вдруг отчётливо понимает, как за это пришлось бы действительно мир весь, помимо коридора этого, уничтожить; чистилище, говорит это слово в пустоте коридорной отец Георгий, и тишина поглощает слово это шелестящее и шипящее, будто сгорело слово на огне тишины; докуривает отец Георгий, и заходит обратно в студию, где Василиса не появилась пока из-за ширмы, и спрашивает отец Георгий у фотографа, за сигарету поблагодарив ещё раз, можно ли мне без Василисы сфотографироваться и уйти, спрашивает отец Георгий тихо, дабы проводница не услышала, и почему не хочет он, чтобы она слышала, неведомо, а может быть не желает того лишь, Василиса чтобы услышала просьбу его предательскую за ширмой, но понимает, как за ширмой всё лучше, чем здесь слышно, в случае любом подходит к ним, пока фотограф ответить ещё не успевает, проводница, и голосом строгим чеканит так, что слышат и соседи за стеной, если только существуют они ныне: я же вам сказала, отец Георгий, муза это концепция нашего журнала, и начальство ваше понять дало недвусмысленно и со всею ясностью, что концепции, которую мы придумаем, полностью доверяет; хорошо, хорошо, бормочет отец Георгий: а сколько лет Василисе; девятнадцать, а что, спрашивает проводница, взгляд её накалён до предела, хотя ясно, что до предела проводничьего ещё далеко, и такому, как отец Георгий, никогда до предела этого не добраться, ничего, говорит отец Георгий, и на диван опускается, чувствуя, что вспотел весьма, и не от сигарет ли плохо, коих не курил давно уже; а вот и неправильно, вновь весёлым и беззаботным голосом из-за ширмы Василиса отвечает: мне много тысяч лет, поскольку я муза и не иначе, и выходит из-за ширмы она полуобнажённая, в красной повязке вдоль талии, широкой весьма, но прозрачной повсеместно, сверху тело обнажено её, на ногах сандалии красного цвета уже, и отец Георгий наготы девичьей смущаясь, глаза не отводит от Василисы тем не менее, поскольку точно помнит, как в той части студии ничего красного не было, но ведь быть так может, что пока курил он, ей туда красный реквизит отсюда, да хоть бы с этого самого дивана, и принесли, вон на нём хлама сколько, и отец Георгий начинает по дивану взором блуждать; я нравлюсь вам как муза, спрашивает Василиса отца Георгия, но прежде чем он что-либо ответить успевает, фотограф, за штативом установившись, провозглашает: всё, за работу; отец Георгий поднимается, и Василиса на первых кадрах обнимает его, грудью с сосками затвердевшими в рясу упираясь, и ведь не в рясу, а в отца Георгия тело напрямую, и говорит с интонацией ребёнка маленького: а вот если бы согласились вы на пьету, я бы была одетой, а вы раздеться должны были бы, а нынче наоборот всё, ну такая у нас, у муз тысячелетних, судьба нелёгкая, завсегда почти обнажёнными приходить, да и как можно было бы моё предложение принять, вам, отец Георгий, для этого следовало бы Иисусом стать; и шепчет едва отец Георгий в ответ, в камеру фотографическую не глядя нисколько: а вам девой Марией, Василиса, стать надо было бы: ну что вы, это же сущий пустяк, смеётся Василиса, и со спины прижимается к отцу Георгию, пальцы в волосы его седеющие запуская: если бы вы, отец Георгий, стали Иисусом, то я бы точно в Марию обратилась бы; и не ведая почему, всплывают перед отцом Георгием слова из Завета Нового: ежели ты Сын Божий, сойди с крыши, и ещё неопределённее улыбается отец Георгий, и вновь тишину слышит, не вокруг себя уже, вокруг него что-то говорит тихо проводница фотографу, будто молитву или заговор какой причитает, шуршит юбкой поясной или точнее поясом юбочным Василиса, щёлкает камера, но внутри тишина, умолкли бесы, будто и не было их никогда, и отец Георгий, сам отец Георгий будто исчез куда-то, и ни слова себе сказать не может, и кажется ему теперь, будто мысли все его не беззвучно им для себя произносятся, но во весь голос прямо здесь, в студии и говорятся; да, так и есть, говорит ему прямо в ухо Василиса, и волосы её лицо ему закрывают, и проводница говорит: да, так, так, очень хорошо, и фотограф усиленно затвором щёлкает; что так, спрашивает еле слышно отец Георгий у Василисы; если ты был бы Сыном Божьим, следовало сойти бы тебе с крыши храма, и лишь тогда я бы тебя взяла на руки, но ты бы не был Иисусом, был бы, но не тем, а я бы не стала девой Марией; так вот я и не должен сойти с крыши, ещё громче говорит отец Георгий, с крыши храма; Василиса к нему на колени садится и за шею обнимает, фотографу улыбаясь, говорит отцу Георгию по-прежнему тихо: если бы ты был Иисусом, ты бы сошёл; не сошёл, шепчет в ответ ей отец Георгий и обнимает её, по бедру, сквозь тряпицу красную плоть её поглаживая; но откуда ты знаешь, ты же не Иисус, сам ведь говорил; и смеётся Василиса, а отец Георгий говорит ей: это чепуха всё какая-то, вы вообще о чём говорите, Василиса, дочь моя; а она: я не дочь твоя, а мать, ежели ты Иисус, и муза, ежели ты священнослужитель, и я знаю всё, ибо мне много тысяч лет, и была я ещё до Иисуса; и смеётся беспрестанно и бёдрами подростковыми, почти мальчишескими, по коленям отца Георгия ёрзает, и вдруг ощущает отец Георгий: душно ему невероятно, и просит попить кого-нибудь, неласково ставя на пол Василису, которая легче, чем кажется даже, оказывается на деле.
Не помнит отец Георгий, когда именно и на какое время он потерял сознание или уснул, или что там с ним ещё такого могло случиться, но очнулся он за ширмой на кушетке, и эту половину студии он узнал сразу, скорее всего по окна расположению и по ширме, остающихся неизменными, ибо остальное всё изменения значительные претерпело: теперь не стояла возле окна копия пьеты, и эта часть студии стала почти точной зеркальной копией правой части студии, за исключением лестницы, ведущей на чердак, здесь её не было, а быть может узнал отец Георгий студию по тому, как над ним склонилось лицо Марфы, но он знал: это не Марфа, а Василиса, она уже не была обнажённой, на ней был совершенно не подходящий к её прежней красной юбке коричневого цвета жакет, лицо её никак не выразило ни радости, ни даже облегчения от того, что отец Георгий открыл глаза, и первое, что он увидел в этом лице, это как Василиса совершенно отчуждённо разглядывает его, отца Георгия, лицо, будто он умер, или, что куда больше походило на правду, если судить по её взгляду, будто отец Георгий неодушевлённая вещь, утвари предмет, работал который, работал, до поры до времени, а теперь вот отказался работать, и Василиса думает будто: чинить его или выбросить вовсе; или быть может, настолько поражён был отец Георгий её безучастностью и холодным любопытством, она была твёрдо уверена: никуда он не денется, этот священник, и очнётся, а потому всё это дело времени; так всё это показалось отцу Георгию, и ведь мы знаем, что всё не так быть может, но Василиса сразу же говорит, будто ничего не произошло и отец Георгий участвовал в беседе, не прерывая оной: а пока вы не знаете, что сказать, напомню я вам, отец Георгий, историю одну, с музами связанную; зачем, едва выговаривает отец Георгий, и лицо Василисы меняется на миг, злобой исполняясь или усталостью рутинной, и шепчет она: слушай, старик, меня; но тут же делается, как и прежде милым, и отец Георгий не мог бы поручиться, что это страшное выражение лица не привиделось, а мы ведь не скажем, как всё на самом деле, поскольку лишь фиксируем здесь происходящее, дело фотостудии фотографировать, так ведь, ни слова от себя, кроме нами говоримых, не прибавим, говорит милая Василиса ласково: а затем, что пока будете в состоянии что-нибудь говорить, надо же паузу неловкую с пользой заполнить, а вы сетовали, будто музы со Христом никак не связаны, а я свяжу их через авторитетный довольно источник, хотя для церкви он и кажется пустым, но вы-то, отец Георгий, книги любите и писанине всяческой доверяетесь, не хуже, чем Заветам Новому и Ветхому, хотя они тоже писанина, и бывают книжки получше, и ежели Бог их написал, то писатель из него, прямо скажем, неоднозначный, зато всем писакам смертным шанс какой дал; какой шанс, шепчет отец Георгий, которому не нравится всё это, и то, что он бездвижно лежит здесь, и то, о чём Василиса говорит; а такой, что сам Бог писателем побывал через пророков, дело-то богоугодное, а писал он так, что смертные вдохновиться могут на соревнование с Господом своим, правда ведь, отец Георгий; не знаю, отвечает отец Георгий: он же не для развлечения писал; ой, да ладно тебе, отец Георгий, будто книжки, которые ты в магазине сегодня вспоминал и по корешкам коих похотливо глазами блуждал, будто они авторами для развлечения бестолочей бесталанных писаны были; и приподнимается здесь отец Георгий на локте: где все, спрашивает он; кто тебе ещё нужен, улыбается Василиса; фотограф, женщина эта, указывая на ширму, силится говорить как можно громче отец Георгий, но понимает: едва шепчет слова свои; здесь нет никого уже, говорит Василиса, склоняется над отцом Георгием, волосами своими по лицу его проведя; но они ведь нам и не нужны, шепчет она и губами лба его касается, и чувствует себя от поцелуя этого отец Георгий покойником, и как будто в подтверждение тому, не в силах пошевелить ни руками, ни ногами, лишь голову чуть отстраняет, на что Василиса ещё раз его целует, уже дольше, но тоже в лоб: не надо печалиться, теперь мы с тобой будем время некоторое; какое, желает спросить отец Георгий, но не спрашивает, поскольку ощущает со всею отчётливостью: это всё правда, и разницы никакой нет: какое именно время, поскольку от него уже не зависит это, может быть и всё время; вот так вот правильно, улыбается ему Василиса: а история моя тебе известна должна быть, а ежели нет, тем более интересно будет; отец Георгий глаза закрывает: да; продолжает Василиса: муз было девять, девять сестёр, как ты верно подметил, и всё было как и должно было быть, но вселяла их власть и очарование, на людей творческих направленные, зависть жесточайшую у женщин и девушек других, да и сам подумай, отец Георгий, будь я смертной девушкой времени того и почти уже охмурила юношу какого кудрявого с губой верхней выпирающей, нежного, который ласками такими бы меня одарял, что после того, как он бы засыпал в объятиях моих, была бы так распалена я им, что, отвернувшись от него, до самого утра себя бы ублажала до изнеможения, слышите, отец Георгий; но не отвечает ничего отец Георгий, лишь кивает головой с глазами закрытыми; ну так вот, и шло бы дело к свадьбе уже, и я бы перед родственниками ещё невестой в жёнах уже почитай ходила, и носы бы утёрла ровесницам своим, соперницам и сёстрам многочисленным, замуж которые хотят, да не можется им всё, и, счастливая такая, я внимания даже не обращала бы на то, что мой возлюбленный поэт, стишки сочиняет, так, расценивала бы нюанс этот в качестве экзотики, бонуса дополняющего к счастью моему женскому обещанному, прибавка призовая и не более, а здесь, вдруг, он охладевает ко мне, и хорошо, ежели я замуж успела выйти до времени того, счастье-то женское далее в ребёнке состоит, а мужа можно послать куда подальше, и забеременеть не проблема для меня, лишь бы в браке законном, но это если я успела, а если нет, и свадьба расстроена была, а из-за чего; смолкает на миг Василиса, но тут же, реакции никакой от отца Георгия не дождавшись, продолжает она: из-за того, что муза, видите ли, посетила его, и будь она другой женщиной, обидчица, я бы ей волосы повыдирала, лицо бы порасцарапала, да перед соседями на позор выставила, так ведь нет, она не простая смертная, но богиня, и люди её почитают, святилища музам ставят, жертвы приносят в музейонах этих, дары предлагают, и есть за что вроде бы, а надо мной могут после того лишь соперницы и все, над кем я смеялась до того, посмеяться, и лишь кто-нибудь потихоньку пожалеет меня, муза к нему приходила, видите ли, усмехается здесь Василиса: видите, отец Георгий, как музу возненавидеть запросто можно, а потому завидовать ей можно тем паче: в обход всех отношений является и похищает внимание и привязанность сердечную у тебя, которая так всё ловко подстроила, ухаживала за поэтом этим, наряжалась для него и желания нескромные, себе, правда, тоже на радость, в которой я никогда не признаюсь, впрочем, на радость ему исполняла, и так ему подставлюсь и эдак, и то ему выставлю и это; и к чему, Василиса, говоришь ты мне всё это, шепчет отец Георгий, внимая тишине студийной, в которой голос Василисы поистине завораживающе звучит и душу до основ её пронизает, видеться начинает отцу Георгию всё, о чём та лишь слова произносит; а к тому, улыбается Василиса, и гладить отца Георгия по волосам принимается: к тому, что ничего женщины супротив муз поделать не могут, и терпеть вынуждены, боги мир так сотворили, но однажды нашлись девять сестёр, дочерей царя фессалийского Пиера, которые вызвали муз на состязание, и решили Пиериды петь, и муз пригласили к пению, кто кого перепоёт, и вышли Пиериды, и выступили музы, и перепели смертных девушек музы богородные, и Каллиопа, Гомеру ещё способствовавшая, к ней взывал старец слепой в строке первой каждого из творений своих великих, и Каллиопа под всеобщее улюлюканье мужское и боль женщин завистливую и сострадательную, обратила дочерей царя Пиера в птичек, которые петь не могут иначе, как небо царапая трескотнёй своей, и это не вороны были, отец Георгий, а сороки, слыхали вы об этом или нет; смолкает здесь Василиса, голову отца Георгия поглаживать продолжая; нет, не припомню, отвечает отец Георгий, и, глаза открывши, улыбается красоте Василисиной, от сопротивления почти уже отказавшись; а при чём здесь христиане; а при том, отец Георгий, говорит Василиса, что поэты любят муз ещё как и торжество победы над мечтами о счастье женском пустяковом; и с кушетки поднимается она, возвышаясь над отцом Георгием, жилетка её расстёгнута и видны сосцы её смуглые становятся; и говорю я это к тому, что вы сегодня про чистилище вспоминали, так ведь; молчит отец Георгий, ибо памятует: один он был, когда чистилище слово сказал, но ведь понятно, что происходить происходящее не перестанет, ежели он допытываться начнёт: почему знаешь это и откуда, ведает это Василиса и спрашивает, и ведь правду ведает и правду спрашивает: да, отвечает отец Георгий, я сегодня вспомнил про чистилище; ну вот и хорошо, чуть ли не смеётся Василиса: и пусть никакого чистилища в Заветах не помянуто, нам-то дело какое, а ежели бы вы, отец Георгий, открыли комедию божественную другого итальянца, не Буанарроти, но Алигьери, то прочли бы в чистилище, в начале самом, слова такие, и здесь Василиса берёт откуда-то, будто с подоконника, томик Данте, коего там не было, когда здесь пьета стояла, открывает в месте заложенном, и читает: для лучших вод подъемля парус ныне, мой гений вновь стремит свою ладью, блуждавшую в столь яростной пучине, и я второе царство воспою, где души обретают очищенье и к вечному восходят бытию, пусть мертвое воскреснет песнопенье, Святые Музы; здесь Василиса приостанавливает чтение и глядит прямо в глаза отцу Георгию: слышите, отец Георгий: музы святые, святые музы, я взываю к вам, пусть Каллиопа, мне в сопровожденье, поднявшись вновь, ударит по струнам, как встарь, когда сорок сразила лира и нанесла им беспощадный срам; дочитывает Василиса, захлопывает книгу и на подоконник её возвращает: что скажите, отец Георгий, теперь; да, я вижу теперь, как поэт, мир христианский описывающий посмертный, к музе Гомера взывает, а зачем это здесь надобно; и вдруг садится отец Георгий на кушетке и видит, как комната в самом деле будто зеркальное отражение левой части студии, без лестницы разве что; ага, у вас силы появились, они нам будут сегодня ещё нужны, мило сообщает Василиса; а здесь это надо зачем; да уж, а где это здесь, отец Георгий, где вы теперь находитесь, вы сами-то знаете, и, к тому же, представьте себе, что вы Данте, но идёте наоборот сейчас; зачем мне это представлять, спрашивает отец Георгий, пытаясь встать, но чувствуя, что сил на это у него просто нет; правильно, не вставайте, говорит заботливо Василиса, и рядом присаживается, по левую руку от отца Георгия: не хотите так, то представьте себе, что Пиериды не стали сороками, но проклятье муз было более жестоким, и теперь Пиериды, став бессмертными, могут являться к кому захотят, подобно музам, и поэт, к коему явились они, ни за что от муз их не отличит; и что, вновь спрашивает отец Георгий, зачем-то кладя руку Василисе на колено, то ли соблазняясь на неё, то ли проверяя во плоти она или химера какая; а то, отвечает ему Василиса и рукой своей тёплой и сухой руку отца Георгия к колену своему острому прижимает: а то, что ежели ранее музы похищали мужчин внимание и к искусству их подлинному вели, то те смертные женщины, кто тягаться с музами вздумал, теперь уводят мужчин чёрт знает куда, и от счастья женского уводят, и к творческому порыву не влекут подлинному, а то, что муза коли явится, поэт создаёт боговдохновенное произведение, а ежели Пиерида нагрянет, и здесь Василиса второй рукой касается руки отца Георгия, то поэт думать будет, будто сотворяет вещь достойную, а на деле в тщете прозябнет безыскусной или вовсе ничего не будет делать, на всех углах искренне убеждённый горланя, будто подлинное искусство на стороне его находится, и потому лишь, что Пиериду за музу почёл, а я ваша муза, не так ли, смеётся уже Василиса, и руку отца Георгия скинув легко с колена своего, принимается различные па перед кушеткой выделывать; то есть, растерянно улыбается отец Георгий: это искушение, то о чём вы говорите; ну слава вашему богу, застывает в позе весьма художественной Василиса; муза это демон, бормочет отец Георгий: нет, снова оживает Василиса, Пиерида это диавол, а муза это ангел почти что, но кто же отличит одну от другой, а; и снова смеётся, и отец Георгий здесь наконец-то силы находит в себе с кушетки подняться; ох, как вы вовремя встали; нам пора уже идти, подхватывает отца Георгия будто бы в танце Василиса; Василиса, говорит ей отец Георгий назидательно: но ведь даже если там есть диавол, в мире этом античном, то Иисуса в том мире точно нет; ой да ладно тебе, Георгий, говорит Василиса беззаботно, и берёт его за две руки, стараясь их поднять, но тут вдруг резко сжимает их хваткой цепкой, и тёплые пальцы её становятся ледяными клещами, она близко-близко подносит лицо своё к лицу отца Георгия и на лице её нет уже никакой беззаботности и детскости: а в твоём мире, отец Георгий, в твоём мире разве есть Христос; и отец Георгий цепенеет, но тут снова руки тёплые едва касаются запястий его, и голос беззаботный Василисы щебечет: очень хорошо, силы что вернулись, мы сейчас в кафе пойдём с тобой, у нас ужин заказан, всё же свидание первое наше; и она отпускает руки отца Георгия, и он желает что-то сказать, но Василиса подносит свой палец к губам его: нет-нет, не надо тебе ни домой, где ты не спишь всё равно и себя через силу сносишь, ни в храм, там тебя уже не ждут, я об этом позаботилась вполне; и Василиса заговорщицки подмигивает отцу Георгию: а потому этот вечер мой, ведь вы же не против, а, отец Георгий, кокетливо поводит Василиса плечом и вроде даже снова подмигивает отцу Георгию; а у меня есть выбор, только и шепчет он: вот видите, какой вы галантный кавалер и под рясой этой сокрыты ещё те куртуазные достоинства, то ли иронизирует, то ли заигрывает Василиса: а я должна переодеться, вы можете не отворачиваться, сообщает она и скидывает с себя поочерёдно жилет, юбку и лишь сандалии красные оставляет: как вы думаете, обувь не по погоде, совершенно бесстыдно стоит Василиса обнажённая, смуглая и длинноногая перед отцом Георгием, и тот глядит на её тело, и выговаривает через силу: да, за окном осень поздняя вроде бы, на что она наигранно хлопает себя по лбу: точно, как же я могла забыть, на миг делает вид, что задумывается, и тут же продолжает беззаботно весьма: оставим сандалии, я ведь муза сегодня, оставим сандалии и поедем на такси; а мы вернёмся, спрашивает отец Георгий: куда-сюда, скороговоркой переспрашивает Василиса; нет, зачем же сюда, хоть куда-нибудь, шутит отец Георгий и понимает, что он не шутит, слова его серьёзно звучат, и Василиса не менее серьёзно отвечает: а ты ещё хочешь куда-нибудь вернуться, правда; и взгляд её впервые обеспокоенным делается, и не девочка она уже беззаботная, но будто матерь о дитя своём заботящаяся; да, отвечает отец Георгий: всегда хочется верить, что можно куда-нибудь вернуться, а ещё я хочу обнять тебя; и он быстро весьма обнимает обнажённую, в одних сандалиях стоящую Василису и слова такие говорит ей: и всё же ты просто девочка маленькая, и даже если это только искушения ради, то в облике искушения этого так много подлинного, и спасибо тебе за всё, ты мне даёшь возможность о Марфе и вспомнить, и, с тем вместе, позабыть, ты ведь знаешь её тоже; и Василиса ничего не отвечает, кивает лишь, и в самом деле, в миг сей становится девочкой меньше даже лет своих девятнадцати, а отец Георгий уже не священник, нет, но и не мужчина, что когда-то священником стал, а кто, неведомо кто, тот, кто обнимает ту, что похожа на девочку невинную обликом всем, и даже значения не имеет для отца Георгия насколько повинна та, что невинной теперь кажется, ведь чует он, как мёрзнет тело её обнажённое в студии этой, охлаждённой вечерним людей неучастием; одевайся, говорит отец Георгий, одевайся скорее, муза Василиса.
Удивительно было не то кафе, куда они приехали, обычное кафе города, но то, как они туда выходили из студии, поскольку, очутившись в коридоре холодном, Василиса произнесла: чистилище, двери коего не ведут никуда, так ведь, отец Георгий; а тот, взявши на себя роль кавалера заботливого, то ли за любовницей молодой, то ли за дочерью родной, лишь проговорил в ответ: ты и сама всё знаешь лучше меня, Василиса; и тогда она остановилась перед дверью с собакой прежде лающей: а хотите, говорит она, выйдем здесь, это ведь не оскорбит ваших доводов рассудка здравого; нет, не оскорбит, кивает отец Георгий, которому роль кавалера, на себя взваленная, позволяет такие предложения как ребёнка капризы воспринимать: пусть так и будет; хорошо, улыбается ему Василиса, на которой платье вычурное одето чёрное и накидка, на свету бликующая: можно ведь ныне и вовсе без дверей, но ладно; и она легко открывает дверь металлическую, изнутри запертую, и выходят они на улицу перед студией, где стоит много машин припаркованных на ночь, и почти на середине дороги, с фарами зажжёнными, такси; это наша машина, улыбается отцу Георгию Василиса; а вас не смутит, что я в рясе, спрашивает отец Георгий, от роли отца на роль любовника престарелого переключаясь незаметно; меня, открыв уже дверцу машины, улыбается Василиса: нет, что ты, отец Георгий, ни меня, ни тебя, тем более. уже ничего вообще смущать не должно, и вы не ревнуйте к людям только; странные слова эти добавляет она, на которые отец Георгий отвечает тоже с улыбкой, рядом с ней на сиденье заднее вмещаясь и рясу подобрав: я вообще чужд ревности, дочь моя; а дальше таксист спрашивал их куда ехать, и Василиса отвечала ему, и поглядывал с интересом таксист на священника, едущего вечером с девушкой. которая в дочери ему годится, в кафе модное режима работы ночного; паству обслуживаете, даже спросил он у отца Георгия, на что Василиса неожиданно ответила: а то как же, работа днём и ночью, как у вас почти: отсюда забрать, туда доставить; и она при этом гладила отца Георгия всячески в темноте салона автомобильного, а тот молчал, и в кафе когда прибыли типа ресторанного, с официантами, удивительным оно не показалось, хотя и могло бы, могло.
Они сидели за столиком не в углу зала, но за колонной, ничего не держащей и поддерживающей лишь претензии в размахе вялого достаточно заведения, за спиной отца Георгия висел на стене большой экран телевизионный со звуком отключённым, где попеременно менялись что-то выпевающие, судя по всему, похожие друг на друга лица, и люди в зале смотрели на этот немой и яркий экран, но под экраном был отец Георгий, и это зрелище людей привлекало более, чем на экране демонстрируемое, священник в облачении и возрасте с девушкой, одетой вычурно весьма и юной к тому же чрезмерно; не обращайте на них внимания, отец Георгий, Василиса попросила его, но и без того отцу Георгию было на что обратить внимание в вечер этот; а теперь говорите, отец Георгий, Василиса предложила, и отец Георгий говорить начал: мне сейчас надо очень много сказать тебе, Василиса; но здесь Василиса прервалась на меню, после чего отец Георгий продолжил: но как бывает в таких случаях, вряд ли я смогу сказать в полноте всей то, чего желаю, и ты меня понимаешь, Василиса, и, кстати, как тебя зовут на деле; и здесь Василиса сигарету закуривает и, в ожидании вина заказанного красного игристого, говорит: это смотря на каком таком деле, Георгий, вот ты интересовался, знаю ли я Марфу, а я даже с Андреем, когда Марией ему была, Марфой для Брута выступила, друга его; а разве столь схожи вы обликом своим, спросил только отец Георгий и видит как перед ним Мария сидит, Марфы сестра, и, в то же время, Василиса Василисой и осталась; а что Андрей, спрашивает отец Георгий и во время это вино приносят им в бутылке открытой и бокала два высоких на ножках длинных; а что Андрей; не будем о нём, ты с ним ещё встретишься, отец Георгий, говорит Василиса, к вину, однако, не притрагиваясь: а вот ты мне скажи, мужчина, ты хочешь меня сегодня; и Василиса прямо в глаза отцу Георгию заглядывает, и отвечает ей отец Георгий: ты меня сегодня очень, Василиса, к тому провоцировала, и, возможно, под завершение всего этого мне бы и хотелось тела твоего, но давно уже к искушениям рода такого остыл я, и, знаешь ли, не по причине воздержания особого или недуга там телесного какого, иначе, совсем иначе. но тебе это вернее ведомо; и отец Георгий глядит на спутницу свою, и видит как в глазах её мерцают кадры, с экрана улавливаемые, да, я знаю почему, улыбается грустно Василиса, всё суета сует и всяческая суета; да, кивает отец Георгий, и не забудь дополнить: а сверх того ничего всё равно и не имеется, не имелось и иметься не будет, я есмь, так вот и говорит прямо Василиса; ну да, разве что ты, кивает согласно отец Георгий и наливает ей и себе вина из бутылки охлаждённой; что знаешь ты об отце Дмитрии, отец Георгий, спрашивает его Василиса; он безумен, отвечает Георгий, и потому я бы ему доверился, да; а вот с ним у меня ничего не будет; никогда, говорит Василиса; а со мною, спрашивает отец Георгий; этого я ещё не знаю, всё от тебя зависит пока, а вот с ним не будет, уже знаю точно; и далее пауза возникает, перед ним на столе красный свет, отражение лампы, два бокала вина, его и её, на столе деревянном, покрытом непахнущим лаком, ещё пепел её сигарет, и кругом голоса, хвальбуще толкают друг друга, всё надеясь другим, таким как они, доказать: мол, у нас хорошо всё, и будет всё лучше и лучше, только он и она промолчат как бокалов их тени, неслышно он глядит на неё, она видит его, и оба летят в пустоту, и отец Георгий прерывает вопросом паузу: но я же от этого хуже не становлюсь, от того, что доступнее его для тебя; и усмехается здесь Василиса: я же не девочка какая, чтобы чепухе этой значение придавать, меня интересует лишь механика плоти, и я давно уже ничего не представляю, дабы запустить её; и от слов этих шутливых или серьёзных возбуждение испытывать начинает отец Георгий, и ещё от вина, в организм ослабленный проникшего, и знает о том отец Георгий, что Василисе это не хуже, чем ему известно, и хочется ему рассказать о себе что-нибудь важное и совсем неслучайное, но ничего на ум из перебирания судорожного не приходит, и говорит он тогда так: я сегодня в больнице медсестру одну встретил; и глядит ему в глаза пристально Василиса: и что; её Ольгой зовут, взгляд её игнорируя, отец Георгий продолжает: и я захотел её; а мне ты это зачем говоришь теперь, спрашивает Василиса с удивлением подлинным, впервые на лице её за весь вечер так отчётливо о себе заявившем; я не знаю, искренне отвечает ей отец Георгий: не знаю, хочу и говорю; ну хорошо, улыбается чему-то Василиса: и что было дальше; а дальше ничего не было, в том-то и дело; а могло быть; да, мне хотелось её поначалу; ну знаешь, отец Георгий, шутливо возмутилась Василиса: я хоть и муза, и ревности чужда обычной смертных, но не стоит же, в самом деле, меня так искушать на сей счёт, могу и обидеться; да брось ты, Василиса, смущается всерьёз отец Георгий: я же не о том хотел сказать; а о чём же; а о том, что я увидел, как мог бы её соблазнить, со всею отчётливостью увидел; и как же; надо было бы вечером, сегодня или завтра, начинает говорить отец Георгий, но Василиса его прерывает: это невозможно; да, я знаю, отвечает ей отец Георгий: так вот, надо было бы вечером ворваться в круг её друзей, в их компанию, совершенно незнакомым человеком, их бы очень удивило присутствие священника; это точно, улыбается Василиса; и тогда бы она заразилась этим их удивлением; а сама, без друзей, не заразилась бы, спрашивает Василиса, а отец Георгий вспоминает тут же, на словах этих, о гангрене Николаевой: сама бы точно нет; ну и, спрашивает Василиса; ну и тогда я понял, что не хочу, закончил свою историю отец Георгий; не хочешь её, уточнила Василиса; и её, и вообще ничего не хочу, если всё так только, сказал отец Георгий и взглянул ей в глаза: вообще ничего больше не хочу, никогда; понимаю, кивнула ему Василиса: и это очень вовремя, и хорошо, что ты мне рассказал об этом; и она погладила руку его своими длинными пальцами; а я не знаю, зачем я тебе это рассказал, пробормотал отец Георгий, а про себя додумал: так всегда, хочешь главное сказать, а всё ерунда какая-то выходит случайная, себя за суть выставляет самую; нет-нет, будто прочитала мысли его Василиса: это и есть самая суть сейчас; но загрустил уже отец Георгий, и пауза неловкая наступила, тишина между ними за столиком присела будто; а почему здесь нет пьеты Микеланджело, спрашивает отец Георгий, паузу, по вине его наведённую, образом таким прерывая, как же, глядите внимательнее налево; и поворачивается отец Георгий налево и видит огромную копию скульптуры этой, на сей раз из головы девы Марии вода льётся, собирается которая на теле Иисуса, чашу образующем, и между ног его стекает на пьедестал; теперь вот, в виде фонтана, для разнообразия, улыбается Василиса; знаешь что, говорит ей отец Георгий, мне так много хочется тебе сказать, и нынче это так здорово говорилось бы, ведь в вечера такие каждое слово меж собеседниками впивается прямо в душу каждого, и радость неимоверную доставляет, и счастья такой дарительности обоюдной у влюбленных не бывает никогда после, кроме как теперь, когда только началась влюблённость, правда ведь, спрашивает отец Георгий и кладёт руку свою на руку Василисину; не знаю, наверное; да точно-точно, лихорадочно говорит отец Георгий: в первые встречи всё воспринимается как дар подлинный, придирки затем лишь грядут, но у нас их не будет, ведь у нас не будет потом никакого, не спрашивает, но утверждает отец Георгий с грустью некоторою несильною; да, кивает Василиса, у нас будет лишь этот вечер, и он почти уже на исходе; но это ничего, оживляется отец Георгий, это ничего, я это знаю, но ежели у нас было бы времени чуть более; то что бы, прерывает его Василиса, и руку свою, ладонью вверх повёртывает; я бы рассказал о себе всё-всё, о жизни своей, о надеждах и мечтах, о грехах и подвигах, и о том как много я не успел до появления твоего; говорит это отец Георгий, и на ладони Василисиной пальцами ведёт; щёкотно, сжимает руку Василиса: но ты же знаешь, что я это всё и так уже знаю, говорит она; да, я знаю, снова щекотит ладонь её отец Георгий: но мне было бы важно поговорить об этом, лично мне сказать всё это для тебя лично; эй-эй, отец Георгий, прерывает его Василиса: вы лишка хватили: лично для меня, скажете тоже; и смолкает Василиса, а отец Георгий глядит на неё и говорит тихо-тихо: ты так прекрасна, когда смущаешься, ну, или хотя бы имитируешь смущение; хорошо, вдруг отстранённо, от смущения или от его имитации говорит Василиса, ещё более смущаясь или смущение имитируя: и вот, когда бы ты мне всё это поведал о себе, а я бы тебе о себе, то что бы было после, а; ну не знаю, говорит отец Георгий, там уже что кто почувствует; нет, не так, Василиса прерывает его: ты всё знаешь, потом что бы было; а потом я захотел бы тебя, а ты меня бы захотела; и рассмеялась здесь Василиса: вот ведь какие вы, люди, не знаю что будет, и будет всегда одно и то же, и даже ты, знающий это и говорящий слова сына Давидова, Екклесиаста, поддаёшься и играешься, да уж, видно и в самом деле Василиса тебя прельстила; говорит она это пока, дурно чувствовать себя начинает отец Георгий, ощущение безысходности гложет его, и не будет выхода, не будет, никогда, слышится ему, и он вино пока допивает, говорит ему Василиса: поехали-ка домой, отец Георгий; да, соглашается он: да, сейчас, и глядит на кафе это внимательно, всё-всё впитывая вниманием своим, лица людей беззаботных и друг от друга уставших, и привязанных на смерть друг к другу, на экран, с певцами и певицами странными, на фонтан этот нелепый; да, говорит отец Георгий: едем; и выходят они из кафе, где расплатилась за вино Василиса, и снова их такси ждёт то же самое; а куда мы теперь едем, спрашивает таксист; а куда мы теперь едем, спрашивает Василиса, и отец Георгий говорит, за голову держась: поехали к тебе, у меня очень голова болит, и я не помню где я живу; хорошо, говорит Василиса таксисту и ещё что-то говорит, но отец Георгий не слышит ничего, у него голова в самом деле болит очень, и когда они долго-долго едут, и когда они куда-то внезапно прибывают, машина резко останавливается, и когда Василиса по лестнице какой-то ведёт отца Георгия, и когда он где-то оказывается, на кровати сидящим, ни слова не произносит отец Георгий во время всё это, но затем ему Василиса даёт что-то выпить из кружки керамической, и он вдруг чувствует лучше себя, и видит очертания сумрачные, из-за теней ему неведомыми кажущиеся, и просит свет включить, и когда Василиса просьбу его выполняет, он узнаёт жилище своё скромное; мы у меня, он спрашивает: но ведь мы к тебе ехали; а я сейчас у тебя лишь, отвечает ему Василиса что-то непонятное, но всё это понимает как-то отец Георгий и говорит ей: я очень хочу спать теперь; я знаю, ласково Василиса отвечает, очень знаю, и ты сейчас уже уснёшь; а ты, спрашивает отец Георгий и даёт ей стянуть с себя рясу; а я лягу с тобой; хорошо, говорит отец Георгий и сдёргивает с постели покрывало, и давно он уже не расстилал постели, и показалось ему ныне, будто рукой с гробницы пыль смахнул жестом этим; а завтра меня здесь не будет, продолжает говорить Василиса, скидывая платье и в который уже раз оставаясь обнажённой; а меня, спрашивает отец Георгий, впервые за день этот обнажаясь; и тебя, отец Георгий, ты же уже всё понял, отвечает ему Василиса и тут же весело спрашивает она: но мы же будем с тобой спать вместе как мужчина спит с женщиной, так ведь; так, отвечает отец Георгий; но мне бы теперь хотелось лишь обнять тело твоё и тихо-тихо уснуть, не познавая тебя, ведь я тебе так и не сказал о себе сам того, что ты и так без меня знаешь, но именно так вот, обнявши тебя тихо, видимо и подобает мне; и тогда садится Василиса на кровать, а отец Георгий обнимает тело её нежное, но касаясь его едва, будто дитя малое, и засыпает, и когда он уже почти заснул, голый ребёнок в руках её, она коснулась креста на груди его и шепнула ему на ухо: отдай его отцу Дмитрию, лишь он вынесет крест сей; и сказавши то, снова взор подняла и устремила в окно, светящееся у изголовья кровати, а слышал ли отец Георгий слова эти или нет, мы не ведаем, ибо он засыпает, и может лишь во сне забытья головой кивнул он, а может и нет, ибо засыпает он, засыпает, и заснувший, оказывается он на руках Василисы, и ежели бы кто видел их в миг этот, то узнал бы в них фигуру, высеченную Микеланджело, а мы уходим отсюда, не сказав очень многого, того, как шумно было в кафе и насколько вкусным было вино, хотя с него и заболела голова у отца Георгия, и заснул он с больной головой, лишь на миг почувствовав облегчение, коего и хватило на то лишь, уснуть чтобы, о том, что именно хотел сказать отец Георгий о себе, но так и не сказал, и много чего ещё, и кажется будто так нельзя не договаривать вещи важные, но мы теперь боимся беспокоить застывшую в комнате ночной фигуру, то ли аллегорию музы и священника, то ли античности и христианства, а то ли и просто обнажённого умершего мужчины и обнажённой несуществующей женщины, мы замолкаем на сей единственный раз, замолкаем и удаляемся.
Интермедия вторая
которой обычно не бывает, но без которой ныне не обойтись, поскольку обстановка как-никак накалилась
Её ввели.
Спиной вперед, лицом к дверям, волос распавшихся лучами ярких лун стал озарён зал заседаний; игра, игра вопрос-ответ; в заботе непрестанной из страха лишь её руки к судейскому запястью прикасанья; боишься ли ты вдруг неинтересной стать тем из своих друзей, которым на тебя плевать, спросил судья; и всем вдруг стало тесно, и стали делать все вдруг вид, что то, что дальше будет интересно и будто все сидят на собственных местах; второй вопрос не уводил от темы: любила ли ты так, чтоб изменить себе, и если да, то скольким непременно ты отдалась, спросил судья, и даже ангел обманулся бы тот миг, коль усмотреть бы смог он в тоне голоса судьи хоть полутона сладострастья; когда она ответила им: да, и это был один, судья сказал: я знаю его имя; и все воззрились на него, играя в будто бы незнание ответа; то дьявол был, спросил уж кто-то очень расторопно; её тут развернули так, чтоб не смогла она солгать, и все увидели: она сейчас прекрасна.
Судья поднял свой перст в предупреждение сторонних скороспелых восклицаний и неожиданно для всех промолвил тихо-тихо: возможно дьявол, но тогда тот дьявол – я; и я больше неспособен пред вами делать вид, что ведьму надо сжечь; я столько раз ей целовал те ноги, идя путем от стоп до живота, которые облечь намерен будет наш палач, намерен уличить в делах любви божественной бесовский ей порок, как только суд ожиданно свершится, одеть в испанский свой сапог.
Она же ведьма, тут совсем уж робко промямлил тот, кто в расторопности завяз и метил издавна на мантию судьи; да, ведьма, несомненно, ведь у многих моих друзей – иль тех, что ими звались, вдруг обнаружилися сходные болезни, которые чрез воздух не летают, но Господом в удел даются напрямую; но если как бывала до суда, она и ныне ведьмой остаётся, тогда её мы сжечь должны – заговорили многие, заглядывая в книгу откровений, которой завсегда представлено лицо инквизиционного судьи.
Да, мы должны, мы сжечь её должны, но вы позвольте мне подставить под сомненье само должны, откуда происходит, куда ведёт и для чего оно, вдруг начал живо говорить судья, но тот кто метил на место от судьи, его прервал: нет, этого мы не позволим: Господь нам истинный наш судия, сказавши так, он временно препоручил судью неправедного в общих их глазах на дело небу для того, чтоб небо возвратило как благодать уже ему судейность; все поняли, что что-то изменилось, хоть ведьма оставалась бессловесна.
Господь наш судия, я в это свято верю и разумом своим я почитаю, но разве не намерелися мы судить в угоду нашим уговорам, совсем уж с небом не считаясь вовсе, так будто там всё решено навеки им в отношении нашей правоты, которая обречена на неошибку; и прикрываясь этой правотою, в которую себя мы облачили, мы истину Христова откровенья готовы заглушить, ведь это есть любовь, но не от дьявола идущая, я специально уточняю, так возразил молчащий до сих пор степенный старый адвокат, который легко свою работу выполнял, не разу подсудимых не спасавший.
Ах, не от дьявола? воскликнул тут судья: но кто придумал что любовь, которой вы не любите друг друга идет от Господа Иисуса непременно, кто впечатлил в вас образ той любви, которая не страстна, холодна и равнодушна к тем, кого любимыми вы нарекаете; от имени болотистого ила, который нарекаете нормальною любовью, вы обрекаете на дьвольство и бесов все, что сильнее вашей темноты, и полагаете, Господь покроет это, из непонятной никому любви Его особенной лишь к вам; и до того вы не считаться с Ним привыкли, что он у вас везде как чёрт из табакерки, ручной, такой удобный, совершенный; и коли речь мою не вразумели, напоминаю языком, который непременно все тут не посчитают очень непонятным: судье не подчиняться на процессе чревато обвиненьем в ведовстве; вам диковато это слышать и бесспорно, сейчас вы ищите возможность для того, чтоб уличить в моих словах не заблуждение отставшее овцы, но ереси намеренное жало, опасное для праведной души, ведь невозможно, непривычно, чтоб судья, который навсегда лицетворит собою то, к чему стремитесь вы, на неспособности свои надеясь, что мир устроен немощно, и немощь ваша вдруг враз обернётся власти торжеством, и Господа вы сделали таким же.
Промолвил так судья, замолкнув, и взглядом он обвел зал заседаний мрачный, в котором только лунные светилися лучи, от ведьминых волос, которые, казалось, затмили солнца свет, что через образы из пёстрых витражей струился на одежды судей.
Часть седьмая
в которой мы узнаем о свойствах степного неба ночью, о сломанной хоккейной клюшке в шкафу, о беременных кошках, о том, как набить синяк на животе, есть ли в деревне Париж – и кое-что еще
Не случаен солнечного света квадрат этот на заднем дворе, тенями крыш домовой и сарайной очерченный, высвечивающий ярко невообразимо, до рези в глазах, ежели даже не смотреть на него, таза, белого когда-то, половину, грязью заляпанную, это от дождей всё, земли тут нет вовсе, может под землёй разве только, глина лишь серая наверху под ногами, и потому к ней ещё присохли соломы пучки, таз ведь для корма пернатым тварям куриным, гусиным, утиным, а подстил там завсегда соломенный, летом бывает травяной, но в степи трава летом почти соломенная, а в итоге всё травяное соломой оборачивается, либо грязью, из смеси каковой здесь даже дома бывало ранее делали, мазанками называются и ещё встречаются, сейчас не строят таких, нет, и таз хотя не белый уже, но солнце так выхватило его из-под крыш заговорщицки, само спрятавшись, небо синее высоко-высоко, прямо над головой, если смотреть, шею больно и в глазах затем всё рябит, холодный цвет небо там имеет, но это там лишь, а здесь его так и не чувствуешь, ни неба, ни холода, жара, говорят местные жители, несусветная, и никогда холод сусветный не говорят, и мало кажется вообще заботятся о том как говорить и что говорить, но то лишь кажется исключительно, а на деле к любому соседа замечанию незамысловатому прислушиваются незаслуженно внимательно, сто отмычек подберут, не подумав, что открыто здесь, заходи не хочу, именно что не хотят, поскольку целый ритуал это: слова соседей обсуждать к вечеру, услышав предложений на страницу, схолиями их многотомными изустно снабжать, но то к вечеру, а пока чуть полдень минул; таз не белый, нет, но солнце так лежит на нём, куда не смотри, в случае любом будет яркостью своею в зрение попадать и никуда не уйдёт ведь, хоть голову отворачивай на забор соседский, непременно всё заглушится присутствием тазовым, хоть на сенник смотри серый с вкраплениями гвоздей ржавых и непонятных пятен природы чудной, в котором переночевать ещё как-то обязывался, хоть на узкую дорожку пялься между сараев приземистых, точнее приглинистых с одной и загонов решётчатых для птиц и зверья домашнего покрупнее с другой стороны, хотя какие эти гуси птицы, сволочи здоровые шипящие и страшные, крылья огромные, а взлететь способны не выше курицы, и тут ещё не ветерка ведь, мухи позади жужжат, вовнутрь заползая банки из-под молока сбора утреннего, предрассветного ещё, которым завтракают перед тем как исчезнуть, куда тоже непонятно, но теперь никого, сгинули, дом пустой без хозяев, открытый, заходи кто хочешь, но что-то желающих не очень, на дне банки ещё остатки молока имеются, для человека мало, для мух предостаточно, трое из братства мушиного вон уже в молочных реках почили и кисельные берега им даже не требуются для этого, две добивают себя, безнадёжно выбраться стремясь, но нет, не выйдет у них ничего подвигу лягушиному подобного, когда взбили масло лягушата незадачливые или, напротив, задачливые, это как посмотреть, у них телеса ведь холодные, лапы сильные, у мух вообще не разберёшь температура какая тела, попробуй градусник прижми под лапу мушиную или в пасть им запихай или куда ещё постарайся, как же, чего проще, но не только мухи, нет, ещё слышно поскрипывание иногда неритмичное цепи из конуры пёсьей, а самого не видно, будка хоть и на тень приходится в это время дня, но не очень-то выходить хочется, всё равно ведь жарко до невероятия, и больше для слуха ничего, ежели не считать бормотания свои невразумительные и иногда скрип колёс велосипедных, проезжающих по улице соседней, но эта скудность вполне себе компенсируется кисловатым уже запахом молока остатков с безвонными останками мух в оном, ведра помойного, пустого ныне, но оттого все слои обнажившего археологии жизни ночной домашней, первый слой борща варенье, там овощные очистки, второй слой посудный, из-под тарелок оборщенных после ужина отмытых вода мутная в мыле и жире, борщ наваристый со сметаной, третий слой, наиболее влиятельный: ночью по нужде ходили и окурки сигаретные туда же бросали, утром всё в яму выгребную выплеснуто, но запахи от ведра не делись никуда, способствует солнышко их распространению сладостному, как и от сараев со скотом несёт коровками и лошадками, да и яма, в себя великолепие ведёрное принявшая эта всё, она тоже неподалёку, и будь ветерок хоть малейший со стороны дома, она бы приветливостью жизни людской поделилась с радостью своей выгребной, хотя ныне она не выгребная, а загребная, она и сейчас тоже делится, да сил не хватает на дом, там, себе неподалёку, радостью одаряет ночью накопленной и утром принятой, и оценить это может тот лишь, кто мухой привлечённой и очарованной неподалёку кружить будет, мухи жары не боятся, а теперь если в яму помочиться, то сразу можно накрыть навеки пару мух струей, а остальные поднимутся невысоко, интеллигентно вид сделав, что не было ничего, внимания не обративши на поступок варварский, и аккуратно к своим местам парламентским вспять возвратятся, но для этого нужно встать и к яме подойти, а не хочется этого, вообще не хочется к ней идти, шорты развязывать и далее по выписанному выше действие совершать аналогичное; в ведре, стоящем неподалёку, если уж так того хочется, тоже мухи ползают, шуршат деловито лапами своими, останавливаются наверняка, и передние лапки потирают, красными глазами не моргающими уставившись в ржавчину с белыми разводами жира и кислот: чем глубже эти мухи, тем шумнее и немушинее звуки от них, и спугнуть их чтобы, достаточно просто голову повернуть и до ведра доплюнуть или рукой до него дотянуться, щелчок заделать, но не хочется руки не то что пачкать, тянуть не хочется в раз лишний, ногой тронуть можно, носком сандалия, но к чему это всё, неясно, а вот таз отодвинуть, чтобы не мешал, глаза не мозолил, можно всё же, но и это лень, глаза закрыть проще выйдет, только и в этом случае от таза на фоне в середине оранжевом, по краям кровавом с чёрными муравьями и змеями лениво плывущими, будет маячить от таза пятно белое, однако, если глаза не открывать, можно теперь этим пятном по прихоти своей распоряжаться, двигая глаза под веками влево и вправо, и следя за тем как пятно уменьшающееся неторопливо вослед взгляду под веками направленному плывёт, так бывает, когда пенка от кофе в середине чашки, от краёв оторвавшись, и растворяясь постепенно, под воздействием животворным размешивания, вертится в стороны разные, за ложкой стремясь поспеть, жаль только, что пузырики, её составляющие, лопаются, остающиеся же друг к другу прижимаются, ряды плотнее сдвигают, спартанцам подобно, сжимаются своими боками сферическими, объединяются в один большой пузырь, который можно ложкой снова надвое разрубить, но не жалуются пузырики и мужественно вкруговую пляшут, гибнучи, а здесь даже ложкой водить не следует, исключительно глаза закрыть и тазом этим режущим, слепящим, назойливо белым вопреки цвету своему истинному плачевному, совладать этим тазом можно, а на это не каждый способен, не любой к этому приходит, чтобы так вот запросто, с места не двигаясь, власть уразуметь и с солнечным хитрым освещением бороться, власть, коей располагаешь тем более. чем в бездействие тело своё облачаешь плотнее. Ещё кошки пожалуй и птицы, максимальное обилие первых и катастрофическое отсутствие последних, ежели не считать птицами мышей летучих, когда позавчера ночью на велосипеде дедовском едучи, рубашка по ветру раздувается, расстёгнутая на первые четыре пуговицы, парусом надувается, приятно от духоты дневной, хотя и замедляет движение, ногами быстро-быстро по педалям прыгал, вдруг что-то туда и залетело, к животу прижалось и трепыхается, неприятно, тогда пришлось затормозить резко, так что щебень из-под колёс вылетает, и говорили друзья опытные возрастом хотя меньшим: так шины стираются и новых здесь не купить нигде, за ними в город нужно ездить намеренно, не случайно все почти ездят уже на шлангах, тогда задом каждую кочку ощущаешь, а здесь ничего кроме кочек на дороге, особенно где асфальт когда-то укладывали, лучше уж в поле по мягкой и пыльной, непривыкшим тогда лучше вообще на шлангах стоймя ездить, он так и ехал в ту ночь, но не потому что шины шланговые, а потому лишь, что торопился чрезвычайно, и вылетает от резкого торможения щебень из-под колес, пыль столбом в воздухе прохладном поднимается, до фонаря ближайшего достаёт, велосипед на бок заваливается, а он чувствует, что на груди кто-то продолжает трепыхаться, не показалось это ничуть, и писк какой-то жуткий, царапание, не комар и не мошка, а огромный комар или преогромнейшая мошка, и не соображая ничего от сердечного стука височного, избавиться лишь желает от гостя необычного, думает, что с ума сошёл, не иначе, ни души ведь кругом как назло, по траве вдоль дороге пыльно вытянувшейся упал и кататься начал, рубаху свою оранжевую разрывая, и на груде уже как-то затихла даже мышь летучая, а это она, хотя он её не убил, достал и разглядел впервые вблизи не по телевизору, и мышь бы разглядела или услышала его тоже, ведь даже по телевизору не сможет, с отвращением друг друга оценивающе осмотрели, но и любопытства было немало, аккуратно положил её в траву, а сам поехал в разорванной и мятой, рваной рубашке, затем выяснилось ещё и в крови всей перепачканной, своей и не своей, мышиной вероятно, грудь таки поцарапала своими когтями, но то не со зла, негоже нападением это расценивать, испугом скорее совместным всё вполне исчерпывается, вышло так, будто мышь поймал ничего не подозревающую, локаторы свои настраивающую неспешно, сачком тела и рубашки своих, и совы ещё тут низко летают бесшумно почти, по ночам и не ухают даже, а теперь днём лишь кошки, вон, две, в тени вдоль квадрата этого солнечного улеглись, и спят по-настоящему, даже щёлочек не оставили созерцательных или наблюдательных, будто мёртвые, и всё мертво будто, сам закрыл глаза ведь, от таза избавление обретая назойливого, но выглядят также глухо заперто как и кошачьи, неужели и они от того, чтобы таз не слепил, вот ведь ерунда какая, придёт же на ум такое, улыбается про себя, потому что глаза закрыты, а если со стороны видел бы, то и в самом деле улыбается ведь, не то что животные, хотя кошки эти обе тоже улыбаются ведь, ехидно так, одна обрюхаченная уже, другая под паром наверное, они чередуются, детей их топят в ведре этом же самом, они даже не успевают лапками своими с когтями мягкими поскрести по стенкам жирным и покричать не успевают котятки эти слепые, так, родились и сгинули в бульке воды ведра помойного, недоуменное житие с недоразумением даже сказать во взгляде слепом медвежье-львиной морды своей, ушки полукруглые, легче кошек того, на котов сменить, пришить им что-нибудь лишнее, нет, нефункционально получится, хотя бы зашить необходимое; он снова улыбается, но это оттого, на душе что тревожно, хотя покоит жара полуденная, схороняет тревог минуя; срывает полыни веточку, под ногой вдоль дорожки щербатой, в пальцах мнёт, к носу подносит, птиц нет, были бы деревья, больше чем имеющиеся никчёмные, были бы птицы больше чем имеющиеся, а так деревьев вместо кусты, сусликов много, и черепах вдоль реки насобирать без труда ежели захочется легко, они как раз сейчас там, понавыползали, свои раковины греют, губами пришамкивая, с глиной сливаются, жаль, что небольшие они, а то интересно ведь когда огромные тортилы; деревьев нет, и потому неделю назад ночевать пришлось в посадках, название такое для мест деревьиной жизни в деревне: посадки, там две осины и кустарник, залечь в который можно, и тогда не найдёт никто, что и требовалось, как в школе на геометрических уроках говорят, доказать. И волнение делось с тех пор куда-то, непонятно далее что будет, но скорее всего ничего далее не будет, такова жизнь, что в ней когда намечается что-то, ничего так и не наметится никак само, ежели тому не поспособствуешь, а он нет, способствовать не собирается, не враг себе он, и не друг впрочем себе же, скорее никто свой себе, посторонний, можно время у себя спросить, но не будет, ответ и так знает, тринадцать тридцать семь точно, а если нет, то всё равно точно другие цифры будут, другие не менее точные нежели эти, а посему разницы никакой нет какими их называть по порядку или в соответствии; вот спросить ежели у себя такое что в самом деле интересное, тоже не будет спрашивать, поскольку ответа не знает на интересное, лишь на скучное и точное знает, был бы и в самом деле себе посторонним, умел бы выдавать скучное и точное за интересное, что-нибудь непременно ответил бы, посторонние всегда всё знают, и в отношении других увереннее, куда как в своём собственном, действуют, значит не посторонен он себе, а какая-то форма промежуточная, полупосторонен себе, куколка, гусеница уже подохла, а бабочка ещё не народилась, плавает там себе в соплях зелёных непонятная слизистая мякоть, снаружи волосатая, они такие в школе жгли спичками, получится бабочка или нет, гусенице невдомёк, она подохнет и всё, а бабочка родится когда, вон над капустой возле ямы выгребной летает которая, противная тварь усатая, родится когда, плевать ей будет на гусеницу, растворённую в соплях для неё продуктивных, летает себе над цветочками, листочки пожирает, а что если и он сейчас и жизнь всю дальнейшую до смерти самой будет так же вот, в соплях растворённой слизью, нет, это сложно, сейчас уж лучше на речку пойти, там точно мелюзга прыгает с трамплина, а он смельчак, тоже хорош, испугался по дощечке пробежать, сзади толпа уже наседает, быстрее, быстрее, пока на доску заберёшься по глиняному берегу почти отвесному, промоченному прыгальщиками предыдущими, ноги как у колосса того самого, только голова не из золота, грязная от воды речной, в которой всякие зелёные точечки плавают, цветёт вода говорят многозначительно местные; когда на доске этой оказываешься, всё на свете перехочешь, она узкая, идёт прямо до реки середины на высоте порядочной, а точнее непорядочной нагло, скользко и высоко, чуть не упал, смеху-то было бы, ан нет, дошёл и прыгнул, весь живот отбил себе, сначала жжёт и радость, что дело сделал и в живых остался, затем видишь как живот красный весь, а затем дышать тяжело, не дотронешься, синяк огромный, к вечеру ещё и температура, но это он так определяет, без градусника, их здесь все на мух вероятно перевели, не иначе, озноб невероятный, тётка его, которую он на ты и сестрой считает, в комнате одной с ним, слышит зубами стучит: что с тобой спрашивает, он думал она спит давно уже; да так ничего, трясёт что-то, отвечает; замёрз, спрашивает тётка Ленка, усмешку какую-то непонятную в вопросе её слышит он; да, чтобы отвязаться только, отвечает; не скажешь же что прыгнул неудачно, стыдно; ну ко мне тогда иди, согрею тебя, говорит она, а у него дух аж захватывает, вмиг про живот забывается всё плохое и хорошее тоже, хоть ещё с дюжину раз прыгнуть готов, хоть ночью в одиночестве, это она что, спать ему с ней предлагает, говорит ей ртом пересохшим: да ладно я сейчас согреюсь, а сам не то что спать, уже ругает себя за нерешительность, она вон какая взрослая, на шесть лет старше, всё умеет, вот ведь шанс упускаешь, и ночью этой в комнате как будто нарочно нет никого больше, возбудился неимоверно, руками себя сжал там, но не шелохнётся, кровать сетчатая, вся скрипучая, и в помыслах исключительно то как она бы сейчас его возбуждение, ежели он с ней под одеялом бы оказался, почуяла, может и пошутила бы, но точно в руки взяла бы ему, сжала, она боевая, может, зубы застучали ещё пуще от понимания того, насколько это прямо сейчас возможно всё, и так всю ночь продолжалось, он в окно пялился на шесть прямоугольников разделённое над кроватью её, куда отсвет единственного на улице фонаря голубой падает, и план даже созрел на следующий день ей что-нибудь этакое полушутя предложить, и от этого плана ещё больше возбуждение охватило, и глаз не сомкнулся в эту ночь ни левый, ни правый, даже комара назойливого шлёпнуть не решался, потому как парализован был возможным могуществом своим, но ни на следующий день, ни когда бы то ещё ни было, он ей ничего не сказал уже, она лишь днём забегала, вечером с мужчинами взрослыми гулять уходила, а в комнате всегда ещё кто-то третий ночевал с ними, братья или сёстры, мать её или отец пьяный, дядя Коля, а на деле дед Коля, но синяк больше не болел, и когда он живота касался, то непременно геройски о себе помышлял, героем не осуществившимся, зато вполне внимание привлёкшим и могущим, могущим в самом деле, хотя кто в это поверит, не мелюзга же эта, которая на речке сейчас плещется, и ночь та прошла бесследно почти, утром тётка собиралась на работу рано-рано, когда коров доить ещё следует, а он не спящий, подглядывал за тем, как она одевалась, ночную сорочку скинула и в обнажении полном гладила себе платье в цветочек малиновый, белый, фиолетовый и синий, его груди её привлекли большие, не обвисшие, а манящие упруго к себе, ты мог бы меня потрогать сегодня ночью, левая говорила ему, а меня поцеловать, правая вторила, но он лишь телепатически с ними общался, на план свой рассчитывая, говорил про себя: всё будет, дорогие мои, именно так: дорогие мои, и не мог он им ответить вслух, тогда бы тётка утренняя, помеха досадная, распознала бы его подсматривание, и, хотя ночью предлагала ему согреться, при свете зари уж точно бы высмеяла, люди меняются демонически от времени суток за окном с шестью частями прямоугольными, ещё у неё почти рыжие волосы взъерошенные там были, но это не так волновало, сколько беседа с дорогими ему несостоявшаяся, и лишь когда она оделась и вышла, дверь аккуратно прикрывая, как бы не хлопнуть и гостя не разбудить, он кроватью наскрипелся достаточно и заснул сном мёртвым почти до вечера; но теперь до вечера ещё долго, и идти на речку к мелюзге не очень-то хочется всё же, открывает глаза он и на сенник серый смотрит. как там сквозь щели широкие просвечивает под крышей небо с другой стороны уже находящееся, но это лишь узкая полоска подкрышная, а всё остальное сеном перекрывается, сейчас, несмотря на июль, с полей степных оно не травой, а сеном натуральным привозится и укладывается, и лишь чуть-чуть преет, а ведь это самое приятное, от этого аромат полынный и тепло уютно-влажное по ночам. Лучше в дом пойти, там прохладно, но присутствия тех дом полон, кто сейчас где неизвестно, и тогда в кухню попадаешь сразу же, висит там занавесь марлевая вместо двери, которая открыта всегда летом, мухи чтобы не залетали висит, а на деле вылетать мухам на свет дневной занавесь эта препятствует, воздух расплавленный хранится в посуде грязной, на столе громоздящейся, и рукой над ней махнуть достаточно, чтобы, как из ямы выгребной, мухи в воздух поднялись прикорнувшие, бесшумно почти соседствующие с ползающими по стеклу единственного заляпанного окна кухонного тремя осами, воздух лежит тот же и в чистых кастрюлях, на полу расставленных вдоль стен, в сапогах резиновых огромных, с весны ещё глиной заляпанных, а ныне один навытяжку с голенищем расширяющимся кверху воронкой, ногу в себя заманивающей, другой набок завалился, чернеют сапоги на фоне стены безобойной цементной, и хорошо это, будь здесь обои, они бы ужаснее цемента выглядели бы, ничего хуже неудавшегося уюта с претензией на оный не бывает в домах чужих и собственном, удручает всё тогда и вселяет расположение духа дурное, но ежели на кухне не задерживаться, и не надо задерживаться, поскольку жарче чем на улице сейчас там, дотронуться достаточно до стены цементной, она лишь обещает быть прохладной, а погорячее твоей ладони окажется, коснуться если её, и нельзя здесь задерживаться, невкусно пахнет молоком скисшим тут и воздухом тёплым, который заворожено держит в себе этот запах и не отпускает его никуда, воздух, которым уже кто-то не раз дышал, и ещё пылью строительной и мебелью новой, хотя и без причин на то всяких, из мебели лишь стол старый раскладной когда-то с четырьмя квадратными ножками, и два табурета из комплекта к столу, правда к другому уже, которого здесь нет и не было никогда, и ещё два куда-то исчезли и неизвестно были они вообще когда-то или нет, и, кроме того три стула вдоль стены, которые лучше не трогать, хозяева так говорят и лучше уж им верить, трогай сколько угодно будет тебе, но не садись только на них; отсюда дверь белая с краской потрескавшейся и ручкой чёрной пластмассовой, держащейся уже на одном шурупе только, а другой был, о нём напоминает некрасивая дыра с заусенцами фанерными во все стороны торчащими, куда другой шуруп когда-то был вкручен, а затем будто выдернут и навсегда, чтобы оставшемуся неповадно было и что неизвестно именно, ведёт эта дверь в комнату, где телевизор стоит, два канала показывающий, один скверно, а другой ещё хуже, и чтобы смотреть передачи по каналам этим, необходимо непрестанно рогатину антенную двурогую во все стороны вертеть, благо она на пружинках и растет из неустойчивого куска пластмассы чёрной с переключателем бессмысленно манящим, вправо ныне выторченным, и к чему это смотреть передачи, включить телевизор, значит повернуть ручку тугую на телевизионном ящике внизу слева направо, а затем каналы перещёлкивать рукояткой не менее тугой, а громкость можно не уменьшать и вообще никак не регулировать, забыть про неё, в условие просмотра не входит ведь смотреть что показывают или слушать хотя бы внимательно, трещит он там себе что-то новостное вперемежку с рекламой и помехами ужасными, и пусть трещит, если будет между членами семьи беседа, они и так поговорят, где надо перекричат, а ежели будут ругаться друг с другом, что входит органически в любую беседу, или, точнее, во что любая беседа естественно выливается, то телевизор паузы затишные неловкости и обид, и гнева бессловесно раздражённого примет на себя безропотно, потому как всегда на него негодования обрушиваются: выключайте его к чёрту, или: сделайте потише что он так разорался, или: сделайте погромче, а ты заткнись, ничего не слышно из-за тебя, или: я из-за вас, уродов, не слышал, что там сейчас сказали, и несколько иных вариантов, набор вполне окончательный, ибо на деле всё это суть одно и то же, поскольку людей здесь интересуют только люди, и это ужасно подавляет, не меньше чем претензия на уют неосуществимая, и тогда кто-нибудь в кресле сидит единственном по диаганали от телевизора находящемся, кто-то на подобии дивана, когда-то даже диваном и бывшим, а ныне справа от кресла разместившемся вдоль стены с обоями уже жёлтыми и узорами коричневыми, а прежде зелёными с узорами золотыми, но все размещаются на полу, отодвинув с центра комнаты поближе к окну доску гладильную, которая теперь стоит опять посередине, доска с верхушкой самодельной и на саморезах прикрученной к ножкам магазинным, прямо напротив шкафа, с тремя неразбитыми и двумя разбитыми бокалами в баре без зеркала, из гарнитуров подарочных на свадьбу полученных и на рождения детей дни, гарнитуров разбитых тут же, на иных свадьбах и иных днях рождения, после которых детям книги читали детские и недетские, взятые в библиотеке сельской, давно сгинувшей по домам местных жителей, и частью соседствующей с этими бокалами в том же шкафу единственном, здесь нет у книг обложек и страниц многих, вероятно, самых несущественных, которые дети вырывали или их отцы и деды, дети потому просто, что страницы вырывались, а отцы и деды для скручивания козьих ножек, когда в доме сигареты заканчивались, а денег отсутствие или алкоголя присутствие препятствовало посещению неблизкого, а чаще всего к тому же и закрытого магазина, а в основном против книг ничего никто не имеет и если бы книги могли здесь выжить, то они были бы в нейтралитете полнейшем по отношению к людям, которых, впрочем, помимо людей, ещё иногда спортивные трансляции чрезвычайно занимают, и тогда все рассаживаются на полу и антенну вертят непрестанно и даже не ругаются, что редко бывает, зато часто спят в этой комнате, каждую ночь почти, втроём или вчетвером, спят и исчезают вместе с зарей появлением, часто это даже члены семьи, но не всегда и не обязательно совсем, иногда те, с кем хорошо выпил кто-то из членов семьи, или кто хорошо выпил без членов семьи, придя к ним и дома не застав, друзья, которым так поздно домой лучше не возвращаться, чтобы не поколотили их родители заботливые, подруги, которые ведут себя накануне чрезвычайно многообещающе, здесь почти отсутствует какой-то специальный запах, разве что пахнет лаком для волос и клеем, последний на поверку приводит к ящику нижнему выдвижному в этом самом шкафу, набитому пуговицами и лекарствами, и клея там никакого кстати, или, если нужно что-то склеить, некстати нет, в ящике же повыше, соседнем, фотографии семейные в одном большом и полупустом фотоальбоме, и остальные либо в пакетиках целлофановых, либо просто так навалены, и когда ящик выдвигаешь, что многие из фотографий неоприходованных, заваливаются в ящик с пуговицами и таблетками, а часть просто, готово и согласно загибается, а на фотографиях этих улыбающиеся молодые, красивые и здоровые люди в костюмах и платьях нарядных свадьбы, новоселья, дни рождения справляют или просто так собираются вместе, потому что им хорошо вместе, либо старые фотографии, где старики, бабушки бабушек из сепиевых цветов напряжённо всматриваются в объектив, сидят на фоне однотонном, и на фотографиях с людьми счастливыми и молодыми, можно комнату эту видеть с обоями ещё зелёными, и узоры на них ещё золотые, и это ничего, что фотоснимки чёрно-белые и сами выцвели при этом, обогатившись желтизной, с запечатлёнными на них новыми вещами, которые ныне состарились, не от времени, от пренебрежения скорее, произошло с людьми то же, что и с фотографиями, улыбались, счастье изображая на будущее, как это теперь понятно, для фотографии, сами в него не веруя, а не потому что счастливы, и случилось это пренебрежение не потому, что в доме нет хозяина, что, в общем-то, правда, а потому что люди решили, что людям людей достаточно и спортивных телепередач изредка, и за химеру эту зацепились всеми руками бурлачно-совместно, и кресло об этом вопиет в углу стоящее, купленное для несостоявшихся семейных вечерних посиделок, ведь будут же они, думали и покупали, у нас же семья и потому всё будет как должно быть у людей, но здесь во всех домах одно и то же, всё как у людей, изувеченные книги из библиотеки тоже об этом говорят, они хотели кого-то из людей чему-то научить, подарить радость или незлобливо огорчить для душевной услады рода особого, и все-все эти вещи столкнулись с тем, что людям нужны только люди, а потому счастье на фотографиях оказалось лишь обещанием, которое никогда не исполнилось: хотите счастья, смотрите на фотографии; и этот ныне пустующий дом, в котором ещё одна комната имеется, с шестичастным окном и полушкафом для одежды, у которого нет ни одной дверцы, всё давит своей несостоявшестью, там две кровати ещё, и доску иногда гладильную сюда заносят, а в шкафу под висящей одеждой лежит полусдувшийся мяч для волейбола, сыгравший пару раз и то исключительно в футбол, ибо в волейбол здесь отродясь никто не играл, но мячей футбольных в магазин также, впрочем, не завозили, а также клюшка сломанная хоккейная, применение коей неизвестно уже никому наверное, в любом случае, теперь от неё осталась палка рукояти и бумеранг нижней части, тоже перемотанный изолентой, велосипедный насос, вроде даже ещё работающий, и большой моток бечевы, ну и две кровати: одна его, пока он здесь гостит, а другая чья придётся, может прийтись тётя Лена, может тётя Лена и сестра Аня, а может брат Василий или брат Николай, а то и оба сразу, но в дом идти не стоит, лучше подождать здесь, пока спадёт жара, во дворе, и в дом этот даже когда люди там, тем более, идти не хочется, туда заходишь поздней ночью и желательно усталым до чёртиков или навеселе, чтобы уснуть и не слышать этих людей и этих вещей, обманувших друг друга. Люди заключают договор с фотографией, что будут любить людей, а при этом понимают, что людей можно любить без их связи с вещами, просто как они есть, и сосредоточенно предательски живут в сторону эту направляясь, а люди без связи с вещами скоты не более, да и те к вещам сильнее привязаны; на тех фотографиях, в ящике, имеется вид запечатлённый двора этого, там цветы виднеются которые здесь вот, где теперь помидоры чахлые и капустные вилки с бабочками, всё остальное то же самое, но как-то обещает, выглядывая с листка, большее; он достает из нагрудного кармана фотографию, вчера наконец-то полученную; хорошо хотя бы фотография вышла, люди так думают, на фото глядя удавшееся и обещающее, и он так думает теперь, на ней он с Ириной, обнимает на уровне груди, у неё руки вдоль туловища висят при этом безвольно и улыбка какая-то недоумевающая, хотя бы счастья фотография не обещает, которого никто и не ждёт от неё и от них, он почти счастлив, почти, отчего и тревожно теперь и неловко, но не настолько, чтобы вскочить и бежать, даже не настолько чтобы неспешно подняться и пойти, и не важно, что некуда, тревога подлинная безразлична к целям лирическим, но тревога тут пожалуй только и имеется, он гладит кошку серую, шерсть свалявшаяся на животе, по этим комкам очень неприятно рукой водить, взять бы ножницы сейчас из ящика того, что под фотографиями, разгрести просроченные таблетки, которыми тоже никто не пользовался для дела запланированного, как и креслом, нащупать ножниц рукоять и выстричь ей комки эти, привести кошку в вид человеческий, улыбается он, никто ведь здесь, где людей ещё надо в такой вид приводить, никто же здесь этого не сделает, и самому этого делать вроде даже незачем, но и в жизни руководствоваться тем, что другим требуется, нельзя, они сами не понимают, что им нужно и ты не понимаешь, что тебе, краешком расстёгнутой на все пуговицы рубашки пот утирает со лба и с щеки, руку кладёт на крыльца доску горячо нагретую, краска красная которого повсеместно вспучилась от непогод летних, осенних, весенних и зимних, и растрескалась по всей площади крылечной, от двери до нижней ступеньки, можно её пальцами расковыривать, как шелуху отдирая, краска ломается, но это тоже не то, что делать теперь следует, в первую очередь, по меньшей мере, а где-нибудь в Америке тоже теперь жарко, в Испании фиеста, здесь всегда она; хочется выпить воды холодной, в холодильнике банка литровая стоит такой воды, кипячёной, невкусной и тягуче-жёлтой, с неё в любом случае будет ещё хуже, хотя теперь неплохо, лучше вспомнить когда в последний раз мёрз, и легче тогда станет, чувством таким проникнешься, уловишь тогдашнее желание безнадёжное согреться, а случаев таких два было: в речке вечером вчера и неделю назад в кустарнике посадок здешних. И до сих пор неясно, правильно ли он поступил в ту ночь или нет, но кто вообще заставляет его об этом думать, в любом поступке достаточно трусости и героизма достаточно, но нет никакого смысла самому об этом после поступка думать, и он думает об этом, и как раз это самое удивительное, в самом деле, вот фотография, которую очень хотелось сделать, любой ценой надо было её сделать, это да, подлость на фотографии, нет: на фотографии Ирина и он, а само фотографирование, чего не увидишь и в день тот именно, когда оно свершилось, это подлость, пойти обниматься перед объективом фотографа единственного на выходных публичного не с той; а с той, кто только и должна стоять рядом с ним, не стоит, вообще неизвестно, что теперь с ней, ну да и ладно, а совесть грызёт: нет не ладно; кыс-кыс-кыс, иди сюда, тварь мохнатая, вот с тобой хорошо, кошка брюхатая трётся о ногу, лапки поднимает передние поочерёдно, взгляд ловит, переворачивается на сторону другую, опять взгляд ловит, он ей аккуратно руку на живот кладёт, там спинки котяточные дозревают, цепь пёсья гремит, видно приснилось что-то не то, животные доверие внушают, люди наоборот, как это, отбирают доверчивость в ущерб себе же, просто так, по мелочам; жаль, что котят твоих утопят, глаза зелёные, умилённые, зрачки палочки прямые и жмурит их ещё к тому же, он докуривает сигарету, осталось немного, вечером все расстреляют, поэтому лучше теперь самому докурить, тем более из них никто по-настоящему не курит, а ему надо; в ту ночь, помнится, выкурил две пачки от волнения, хотя не от волнения, а потому что в книжках, которые читал, часто писали: он закурил от волнения, или: он взволнованно закурил, и тогда-то, расценив состояние своё как волнение, он и курил, хотя в книжках ничего о состоянии подобном не говорится, зато о сигаретах говорится, надо же как-то с ума не сойти, но, ежели сигарет не было бы, то и не курил бы, главное про книжки не помнить или, ещё лучше, состояния не расценивать собственного, что вообще благодать высочайшая для него ныне, жить чем-то, этого не расценивая, и не потому что расценивает неверно всё, а потому лишь, что вообще происходящее мало нуждается в том, чтобы расценивали его, тем более личности такие малозначительные, трусливые и малодушные; происходящее безо всяких там расцениваний себе случается и им случается, всем случается, а ты отворяй ворота уж, готовься, и выходит, что расценивающий от себя же страдает в очередь первую и в очередь последнюю, потому как то, что случается не желает тому, с кем случается оно, зла никакого и добра, впрочем, также не желает, вообще ни желать, ни жалеть не умеет, а тут полагаешь всё изменению подлежащим, и душу лишь в смущение свою приводишь, покуда не можешь ничего на деле, лишь в безделье можешь всё; да, он тогда и курил много, парализованно, но не волновался. а впервые в жизни боялся, не чудищ придуманных и мертвецов умерших, не убийц людских и маньяков нездоровых, а реальных людей, друзей своих, и боялся того, что не знал почитай ничего о них, как оказалось; что они есть придуманные, умершие, нездоровые друзья его, бывшие рядом с ним тогда, чрезвычайно даже рядом, и которых сам пару часов назад тому искал, дабы, не знаю зачем друзья друзей своих ищут и видеть хотят, просто поговорить, узнать что с ними, хотя, что с ними может случиться, как они, руки пожать в конце концов, однако руки они в конце концов так и не пожали ещё до сих пор с вечера того памятного холодного, и он так же в тот вечер искал их, сигареты даже купил, не думал, что выкурит вскоре их от страха в одиночестве, чувствуя, что сейчас вот просто так убить могут, даже слова не успеешь вставить оправдательного или предупредительного; слова здесь не нужны, здесь только люди и люди, иногда спортивные телепередачи и книги, когда за сигаретами не дойти, и всё это неделю назад было, а теперь сгинуло куда-то бесследно, и друзья, и страхи, и сигареты те самые, но и эти сейчас туда же, он кошку пальцами ног перебирая гладит, лежит полосатая серость шерстяная на ноге его, в сандалию облачённую, и также, как прежде спит мёртво, но понаблюдать если, нет-нет, да открывает глаз левый на соперницу свою, в этот раз с животом лишь голодом и едой набиваемым, с укоризной вероятно смотрит, мол, мне одной за племя наше ушастое и хвостатое отдуваться придётся на этот раз, и уже, вон, отдуваюсь, а та, ежели взгляд перехватывает, понимает упрёк, может и не принимает, но понимает непременно, отвечает: и что же, зато я тоже от жары мучаюсь нынче, но вот точно неизвестно: не помнят ли они обе в самом деле или вид лишь делают, что не памятуют о детях своих прежних, в этом самом ведре сгинувших внезапнее, чем народились которые, и что ни один не выживал, и что они затем с плачем ищут их несколько дней после родов, чтобы глаза облизать, и молоком своим, ставшим таким бессмысленным вмиг, накормить, а может и помнят, специально теперь его охмуряют по-кошачьи, милостявят, чтобы хоть в этот единственный раз было всё иначе, он вздыхает, затягивается сигаретой, но в такую жару курить до ужаса неприятно, будто в бане натопленной изрядно, ибо приятнее всего на холоде, воздуха когда не хватает и надышаться трудно, а потому любой аромат приятен и ощущается лучше, в жару тоже воздуха не хватает, но его и не хочется, если честно. Теперь ничего не осталось от тех событий, а если и осталось у кого-то, то ему это неинтересно, ему нет здесь друзей, точнее, видеть никого уже не хочется, чтобы руку пожать, узнать как дела у них и сигаретой угостить, шутки несмешными стали уже все, но вечером он пойдёт на улицу всё равно, потому как дома оставаться ещё хуже, и тут уже компания не такая весёлая и живая как прежняя будет, но он любит смотреть на небо, открыл для себя небо июльское степное, со звёздами огромными: на лавку ложишься, голову на чьи-нибудь колени, женские лишь бы, и дивишься тому, как греки древние какие-то созвездия выделять смогли из обилия этого, здесь же что хочешь можно выделить, это как на листе белом выделить сочетание линий белых особое, зато у них красивые вещи получались, и удивительно, выкидывает он окурок в ведро котятно-помойное, кошка тревожно, глаза открыв, голову подняла, следит за траекторией полёта запоздало; удивительно что небо он увидел накануне той ночи впервые, когда с Катей пошли в посадки, но не в те, в другие, дальше намного тех, и не знал он, что они туда идут, что они вообще куда-то определённо идут, просто вроде бы гуляли пока светло, потому как в темноте они тоже гуляют, но иначе: на лавочке сидят, а тут гуляли буквально, шли долго через всю деревню, и была в тот вечер деревня хоббитанией до начала всего, никогда он её такой удивительно умиротворенной не чуял, хотя и провожали их люди взглядами и наверняка обсуждали недобро, но казалось, что благословляют их и не иначе, затем через поле шли, что за деревней сразу, покатое и как бы в трубочку свёрнутое гигантскую; там, посреди поля колодец стоит каменный, удивительно сложенный будто из замка средневекового, и странным это ещё ему показалось, они в колодец заглядывали тогда и не увидали воды там, но то оно и понятно, она же глубоко внизу должна быть, хотя камешков не бросали, пригодится ещё сказал он пословицу, и прав был, на обратном пути, под утро, пил из этого колодца такую же воду местную, невкусную и тягучую, которой не напиться никак; и шли им навстречу коровы, пастух гнал их по дороге, а два бойких пса дворняжных, с хвостами, бодро кренделями скрученными, деловито туда-сюда шныряли под телами бурёнок, языки вывалив из пасти, но не тявкали; он пошутил ещё, что собак этих неплохо тоже подоить было бы, и шутка эта неудачная, он тогда решил этого не замечать даже про себя, но знал наверняка, а теперь уже не страшно, всё равно всё позади и лишь спокойствие ленное ныне испытывается, а потому он даже вслух говорит себе: шутка эта неудачная и дурацкая, и голос его услышав, к нему вторая кошка подходит, рядом укладывается, не на ногу вторую хотя бы и то спасибо; а они всё шли и шли в тот вечер, за руку он Катю держал, как думал, но, скорее всего, она его, не смотрел на неё, он предпочитал слушать её, и тогда она была прекрасна, а лицо её он видеть вовсе не привык, потому как общались они в палисаднике её по ночам и познакомились также, знал лишь сразу почти, что тело у неё упругое, поскольку обнимал часто, поглаживал, прижимал и шутливо приставал, ни на что не претендуя из отказа опасения последующего, чтобы глупо было его всерьёз воспринимать, это он всё помнил, а теперь руку её сжимал потную, но иногда ладони приоткрывали щёлочкой, чтобы руки остыли, а затем с звуком таким странным, резко прижимали их вспять друг к другу; она что-то ему говорила, точно помнил он, что она говорила, просто значения это никакого не имеет вообще: о себе, об учёбе в школе, об одноклассниках и о музыке любимой, которой у неё не было почти, ибо из родителей один отец и тот запивающий периодически, некогда ей музыкой заниматься, а говорить начала потому лишь, что от него часто слышала разговоры о книгах да о музыке; что касается книг, так она их бросила читать, некогда, пока скотину накормишь и отца накормишь, он тогда ещё хотел пошутить насчёт того, что отца можно было не выделять, ибо зол он стал на судьбу её и хотелось её защитить немного, но лучше бы не хотелось, а вообще он много раз, излишне много, более чем достаточно, неудачно шутил и шутил удачно не меньше, рассказывал о себе, кое в чём привирая, стараясь тем не касаться, которые ей жизнь не позволяет изучать, но не знал зачем о себе говорил, ибо впервые от себя очень много нового о себе услышал, и, в общем, узнавал нового не меньше, чем она, но теперь не воспроизвёл бы этого, и пусть это всё в Лете внутренней сгинет и не всплывает никогда, хотя такое всегда всплывает и не тонет по-настоящему даже, но всё это потому может, что говорили тогда без свидетелей с Катей впервые, и, кстати, в последний раз говорили с ней тогда, хотя, честно сказать, может и не надо этого добавлять было, но дело сделано, также как не надо, наверное, было и о том, что тётя Лена больше никогда не будет спать в этой комнате с ним наедине, ведь он-то этого не знает сейчас, и никто не знает, покуда человек жив и молод, но в том-то и всё дело, что здесь полдень, которому минуло десятилетий несколько, а насчёт жив лишь Тот ведает теперь воистину, о ком всуе не стоит. и не чтобы нельзя, мы-то люди не суеверные, но не будем и всё, не важно и всё; они тогда впервые общались долго наедине, и день сходил на нет, впереди них поле озарялось солнцем закатным, позади распластавшимся, и в степи красиво было неестественно, хотя ничего красивого; ни он, ни она, если бы их попросили перечислить хоть что-то неестественно красивое или просто красивое, не назвали бы, потому что красиво было всё от этого света, и они были красивы, хотя и не глядели друг на друга даже, но в этой их красоте нельзя было усомниться хотя бы потому, что о ней не думал никто особенно, и красиво было то, что они идут впервые вдвоём, и ни его друзья, ни её подруги им не докучают для компании, хотя если бы не они, то и эти двое с самого начала постеснялись бы не то что вместе куда-то идти, а познакомиться друг с другом и даже поздороваться, ибо первое приветствие в компании неловкое для ситуации другой, здесь небрежностью и лёгкостью всегда отдаёт: ах да, привет, привет, но случилось это уже всё на момент тот, и теперь хорошо, что они вдвоём наконец-то, и всё красиво именно потому, что им хорошо, а не скажут они об этому никому, кто спросить их мог бы как раз в силу простого обстоятельства; даже себе не скажут, а как тогда другим сознаться, он теперь это понимает, на крыльце сидя и краску с крыльца бесцельно пальцами отдирая: у неё план был, и она по плану действовала, хотя сама может не ведала о нём, но в любом случае посадки дальние в плане этом роль играли решающую. А в ту ночь лучше было бы затаиться в Саду Сказочном, поскольку в посадках чувство грязности неизбывное имелось, не от кустов этих куцых наверное, более от людей; растения завсегда людей благороднее, животные хуже значительнее, на людей уже повадками походя более, да и обликом своим, хотя наоборот может быть всё и животные здесь не виноваты, но как же теперь после басней про лисиц хитрых и ослов тупых на вопрос этот ответить точно; но в Саду том спокойствие несказанное в предвестии чудес подлинных, что само по себе чудо, это когда впервые там очутились, было сразу явственно; яблоки июльские зеленоватые в Саду спелее, чем где-либо, спелее деревенских собственных и соседских спелее, хотя соседские всё же повкуснее будут, да и охота не столько яблок, сколько дела какого заполучить в зной полуденный, покуда товарищи вечерние кто где, не на улице только и не на речке даже, там невыносимо в полдень и лишь малышня барахтается, воду мутит дно илистое, клубами глина поднимается сначала, будто взрыв какой замедленный атомный грибовидный, но грандиозный, ежели в воду первым незамутнённую ступишь; а яблок они с Олегом нарвали, чему Олег, привыкший к делу такому, мог бы ради напарника своего городского лишь деланно порадоваться, на деле в этих яблоках ничего желанного для себя не усматривая, да и ему, другу его городскому, пришлось бы разыгрывать довольствие, что цели обоюдной достигли, лишь на словах дельной, на деле незначимой, ежели бы не оказался сад тот Садом заливным и до деревьев чтобы добраться нужно раздеться до трусов было, и меж стройных рядов в параллели выращенных яблонь, на возвышенности взрастающих, впадинки канальные образованы, по коим даже плыть можно преспокойно, ибо вода до груди доходит и глубина ровная повсюду; но удивительное самое то, какая вода там прозрачная и тёплая, зеркально сокрытая от ветра любого рядами яблоневыми, и под ней трава и цветы различные видятся-водятся, потому как Олег вспомнил буднично, Сад залили четыре дня назад намеренно, а воду подержат ещё с неделю и спустят вспять, но не успевши договорить, замолкнет, потому как собеседник его рассмеялся смехом безумным воистину и вплавь с головой кинулся, никогда-то Олегу на ум не приходило, что плавать тут можно, лишь за яблоками разве что слазить, вода препятствием досадным представлялась ему, прихотью смотрителевой, который образом таким полив свершает намеренный, реку отлажено заводя к деревьям в гости, но городскому товарищу его всё иначе явилось; усматривая завсегда лишь в природе образец совершенства любого и домыслам человечьим не доверяя особо, ибо не вникал в них, неинтересно и всё тут, увидел теперь сказки воплощение действительной, он никогда о сказке и не заикнулся бы, ибо к тем же домыслам человечьим относил её с печками говорящими и щуками волшебными, но теперь слова иного не нашлось и всё тут, смеётся счастливо и плывёт по саду яблоневому, сказка, лишь вскрикивая и сторожа даже не убаиваясь, к чёрту сторожей и людей всех, даже Олега с яблоками его к чёрту, но Олег удивление своё подавляет и усмиренно в радость дружескую погрузиться через испытание собственное намереваясь, сам вплавь по ряду параллельному устремляется; плывут они так, что меж ними строй деревьев нечастых движется, а под ними одуванчики, подорожник, земляника и даже комочки с лопухами проплывают, иногда чертополох по животу пощекочет, а на сада середине мокрые уже и уставшие, но счастливые, один сам, другой от первого заражаясь, выберутся на холм, по коему ряд деревьев меж ними произрастает, сядут на траву по живот в воде оказываясь всего лишь, и яблоки, тут же, с ветвей нижних сорванные вкушают сочные, и кислые те ещё, сок от яблок этих брызжет во все стороны и хруст при надкусывании случается непременно, а доесть не успеваешь ещё, как они со стороны оборотной уже коричневато заветриваются; и в раз тот недолго были они там, Олег радость хоть поделил, но отнёсся к ней как к баловству какому и сиюминутностью настроенческой разве что к жизни вызванной, но как же не хотелось покидать это Царство Воды и Растений; теперь, ежели Рай как-то представить надо будет, скажем после смерти задание на скорость, говорит ангел: как Рай сможешь представить, так и будешь пребывать в оном, и теряется душа ведь, только с телом рассталась и на тебе, такие решающие вопросы надо отвечать, и нет органов телесных чтобы на нездоровье оных сославшись, ответа избежать требуемого и спать не хочется и не болит ничего, выдумывай Рай, но откуда душе незадачливой такое, вот все и оказываются в аду по части большей; и вот ежели кто теперь из ангелов спросит Рай представить, то так только и не иначе, это он уже затем решил, когда на следующий день здесь один оказался, поскольку Олег яблоки в майку бойцовскую чёрную завернув узелком, спокойно расстался с местом неземным этим, а вечером угощал девочек яблоками кои спелее всех в обычных садах по округе растущих, сам водку ими закусывал, а о чуде не обмолвился ни словом, не схороняя его в сердце воспоминанием дорогим, но вовсе в Саду чудесности не усматривая потому что, и в событиях дневных приключившихся разве можно усмотреть чудесное что привлекательностью своею, и это в деревне, где себя хозяином полновластным ощущаешь, разве что выбивающиеся неприятностями случаи какие, неповиновение там или забил кого по пьяности совместной, это да, интересно, хотя и тоже не чудо, для Олега вообще чудес не бывало и не будет, или ещё девочек всё касающееся, но не сад же водой залитый, а потому назавтра, тоже вечером о Саде не обмолвившись из желания уже схоронить интимнейшее души своей самому, Олега он с собой не брал и один в Саду на целый день остался, никому не сказав где и с кем, никто и не интересовался хотя, а будь так, всё равно не сказал бы, поскольку самое приятное за всю жизнь к тому моменту случившееся в Саду том обретал, и настолько серьёзно отнёсся к прихоти сердца своего изумлённого себе самому, что испугался себя самого, и в Сад как пришёл, плавать сразу и блаженствовать не стал в одиночестве своём, а к сторожу обратился, с трудом отыскав такового, разрешения испросив побыть тут просто, даже яблок не трогая, и сторож, не весьма трезвый к обеду уже или ещё, оказался человеком к просьбе странной такой за жизнь его сторожевую впервые услышанной, миролюбиво настроенным, и даже позволил в пределах, голод насыщающих, яблоки кушать, и умысел был в этом простой и из опыта сноровки охранительной почерпнутый; ежели запретить яблоки срывать, но в саду при этом быть дозволить, следить придётся самому тут же, либо же заведомо при слежения отсутствии, указание невыполнимое давать значит, пусть уж кушает, всё равно воруют, а этот много не съест, тощий уж больно, да и странный всё же, разрешения на побыть просто испрашивает, а посему сторож разрешил всё, яблок вкушение к плаванию присовокупляя, и спать лёг, даже присовокупив просьбу, ежели воры какие покажутся, дойти до него и сказать это, а он, от сторожа выйдя, на день целый пропал в Раю несказанном.
И тогда за день тот небывалый он впервые за время длительное в деревне отдыхал, ибо только говорится это впустую и по привычке ведь людьми всеми, при том знающими великолепно: не так обстоит всё говоримое ими на деле, будто в деревню на отдых отбыть или в лагерь оздоровительный или пуще того на даче пожить, сил понабраться, тогда на деле как всё оказывается весьма хуже усталости обыкновенно случающейся в быту привычным укладом идущем, ибо в деревне у родственников ежели оказываешься, а на кой туда ни к кому в пустоту праздную мчать, в любом случае не приживёшься ведь с людьми добрыми, будто Крис какая в городе собачьем, у нас и того хуже выйдет, с родственниками ежели деревенскими, что днём не могут череду забот хозяйских вследствие гостя прибытия прервать, по ночам посиделки устраивать пристрастишься, и вконец так спиться без спанья можно, отдых первый, а они-то от тебя не отстанут, но им тяжелее с коровками и свинками на заре ходить алой с лучами первыми солнца, Америку покидающими и на Русь перебирающимися, гости спать ложатся во время это только лишь, а хозяева ждут с нетерпением покуда гость дорогой подобру-поздорову отбудет вспять дорогой прежней; в лагере оздоровительном в тюрьме будто преступноисправляющей, отдых такой на деле душе и телу так скажется, что упоминать не стоит, а посему и не упомянем ни разу, кроме раза только что упомянутого, отдых второй стало быть; а ещё и третий имеется, когда на дачу собственную пребываешь и устаёшь от хозяйских забот дачных ещё пуще, нежели бы в городе оставался, третий отдых этот самый известный, вероятно, и от первого отличие то имеет, что там деревенское хозяйство жизнеспасающе для себя ведут, если только плоти сохранение какое-то отношение к жизни спасению иметь может суметь, а тут хозяйство дачное здоровье губящим оказывается, ибо делается всё будто на будущее заботу проявляешь детям своим или к старости собственной, и в том движетель непременный и стимул тайный, ибо каждому понятно, что в момент сей никакого отдыха и быстрее бы от него к работе вернуться, но на деле оказывается иначе всё вновь, ибо ежели ты не хозяйствуешь, а детям оставляешь хозяйство это, то хозяйство забот таких может начать от хозяев новых требовать, коих дети приложить не очень-то и захотят некоторые, а сам в старости плодами не накушаешься заранее заготовленными, потому как плоды любые только здесь и теперь случаются, будто птицы небесные и лилии полевые, и отдых третий истину кажет иную: всякий, в ущерб себе здесь поступающий, не получает ничего в будущем, ибо будущее будет своих ущербов собственных требовать от того, кто уже и ущербнуться окажется не в силах подлинно; а посему отдых обозначением имеет зачастую смену обстоятельств труда бессмысленного и тягостного на столь же бессмысленный и ещё часто даже более тягостный, активным называется, но саму смену и почитают за отдых, а полного отдохновения душа и не испытывает, а многие уже и не ведают даже о души отдохновении, и показаться может, будто некоторые и не способны к таковому, раз сменой жалкой довольствуются по части большей, и более часто; но к чему нам о других домыслы тут пустые строить, у нас, сказать так можно, свои собственные тут имеются, а собственный нам впервые и не только за деревенское пребывание своё, но и за длительное весьма время жизни своей отдохновение небывалое получил в Саду, одиночеством исполненный благоговейным, и тогда уже чувство возымел, предчувствие точнее, ибо на большее в случаях таких рассчитывать и не приходится, покуда в чувствах расчёт не случается мерой действенной, ни в былых, ни в грядущих тем паче, тогда бы и разводов в браках нефиктивных не случалось, предчувствие было лишь и не более, но подлиннейшее и оправдавшее себя впоследствии полностью, а мы добавить можем теперь: до конца самого оправдавшее себя: так хорошо ему никогда уже и не будет, иначе будет в обстоятельствах иных наверняка, но вот так, до глубины чтобы пронзающей донной, нет; и удивительно когда такое испытуешь о грядущем из мига лишь настоящего, пока длится под видом дня обычного, вот он сад, с яблонями этими, вот вода тёплая чистая, и трава под ней как в стёкло внесённая искусством удивительным, но уже понимаешь: не обычный он нисколько и не бывать такому впредь никогда-никогда, и говорилось же: остановись Сад яблоневый заливной, ты прекрасен; но скажешь так в сердце своём, и смешно от сентименталий подобных, и грустно от верности предчувствия неповторимости с точностью линеечной ощущаемой; а посему остаётся купаться, пока не устанешь среди рядов этих, и почему усталость среди Сада небесного такая быстрая и земная, ибо пожалуй до тебя и после тебя никогда купаться никто не помышлял здесь, а с тобой вчера Олег один, и то не расскажет, не вспомнит, а вспомнит, значения не придаст и усмехнётся лишь, а придаст ежели, то того же сам и устыдится, остаётся ловить этот Сад с солнцем вместе ускользающий, безнадёжно ловить, как в отдыхе дачном третьем вперёд не наработаешься, так и здесь миг глубокий до дна нынешний не достанешь на линии времени, хочется извлечь глубину настоящего короткого мига и положить её из вертикали в горизонталь длительности, и пусть она сопровождает тебя, и на всю ведь жизнь хватит и даже умрёшь с улыбкой счастливой от сопровождения оного; нет, не случится, а потому он даже не говорил себе ничего после дня того, в Саду что испытал, и не как Олег не говорил, напротив, потому как важнее ничего нет глубины дивной в сердце твоём, а посему сказанность её кому-либо ложью обратится вмиг, и хулой на сокровенность свою, и сокровенность яблонь этих, солнца этого, воды неколышущейся, и всего-всего хулой станет, всего, кроме чего не то что ничего нет, есть, как же, но как-то убого и не по-настоящему есть, и даже не есть потому, а лишь наличествует жалко всё, кроме этого вот Сада.
Когда один, уже от того одиночества благостью душа наполняется неимоверную, как сейчас вот, на крыльце в одурелость от жары пришедший, но сейчас не хорошо вообще, а лишь один что хорошо, вокруг же это самое никакое распласталось кошками у ног; в Саду том тогда хорошо вообще было и по-настоящему, будто настоящее, которое всегда такое вот, тут себя проявило так, что жить воистину хочется и смысла нет вместе с тем; остановиться и застыть в оцепенелости блаженства, за душу никто не тянет и особою вольготностью преисполняешься, теперь же леностью и усталостью жаревной и необходимостью, даже неизбежностью полнейшей встречи вечерней с ними, чтобы голову было для звёзд созерцания огромных на кого преклонить, но тогда другие появляются рядом и вмиг душа хламом заполняться начинает; до того не то, чтобы чистой была, нет, до того как будто не было её вовсе, а теперь вот раз и появилась, и хламом преисполненная сразу же, и себя со стороны озабоченной обнаруживает, ухода требует, тревоги за неё и за других в ней поселившихся непрошено; не лучший так сказать повод отыскать себя, лучше уж без оного и без себя соответственно бытовать, даже не как птица полевая, но как яблони те чудесные среди воды прозрачной, но и в ином прелесть есть бесспорная, как в вечер тот и не будь зайца этого чудесного, может было всё и хуже или лучше всё было бы, но было бы нечто иначе, он понимал; они тогда улеглись в посадках тех дальних, невзначай будто, а как же иначе, молодые люди, девушка с юношей пошли за деревню как бы само собой и само собой пришли к посадкам, где их взгляд людской не видит и легли там, устали ведь, что непонятного, всё само собой, невзначай, неясно, правда, перед кем этой невзначайностью было хвастать, ибо вдвоём на ночь глядя ушли в даль такую, не для того ведь на закат чтобы полюбоваться, в таком случае на реку можно было спуститься, от дома в паре шагов которая, и там на берегу любоваться, и не для того ведь, что её посадки эти интересовали или тем паче его могли бы заинтересовать; помимо Сада заливного здесь вообще нет ничего, в степи этой, тут люди по недоразумению лишь жить изволили сначала, от сусликов и черепах коренных в отличие, и не для того он туда направился, на посадки глядеть чтобы, и главное, невысказанное доселе, сказываться стремительно начало, едва поспевай; он себя обнаруживал со стороны постоянно с вопросами: ну что ты делаешь и зачем тебе это всё надо, по отношению к себе же и обращёнными; она же ему лишь первый из двух задавала, потому как на второй догадалась что ответить себе от лица его и души его, а вот на деле было бы очень интересно что она там себе понаотвечала от его имени, ведь он-то себе как раз чётко мог ответить что он делает, кофточку ей расстёгиваю, безнадёжно лифчик этот дурацкий хочу стащить, да с застёжками туалета подобного дела не имел прежде, и на что ты делаешь, хитрости не надо ответить чтобы, а повторяй всё происходящее, стало быть подбирай воплощение, словесами одетое, к случающемуся, хитрости не надо много, ведь никто не требует от тебя это оформлять как-то своеобычно, нет, даже вслух лучше не говори, а точнее: вообще даже и не вздумай говорить, и себе в том числе, ибо одно, что ты лифчик расстегнул-таки и сам от себя тая, и в глаза ей не глядя, рукой дрожащей, осторожно, аккуратно ладони серединой соска её касаешься и не сжимаешь, как в кино русских, а поднесёшь и отдалишь руку, и так всё быстрее и быстрее, а другое дело, ежели в момент сей взбредёт тебе славы журналистской добиваться, и станешь говорить-комментировать: вот я тут тебе лифчик дурацкий твой снял, ага, наконец-то, а сейчас буду тебе сосок ладонью шерудить, и слово шерудить непременно само тут подворачивается, или быть может: буду сиську твою ладонью наяривать, ещё чётче и метче, публика это любит; нет, не стоит говорить ей в ответ ничего на вопрос этот: ну что ты делаешь; и не так уж и просто в словесные одежды происходящее обряжать, иногда так обрядишь, что и стошнит от того, что сам делаешь, а не обряжал бы, делал и не задумывался; но и вообще не говорить, молчать, как-то стыдно, если ничего, будто кого-то обманываешь, неловкости чувство молчанье порождает тогда, в тишине-то стало быть полной, а тут к тому же и в темноте такой же, вот и шепчет он голосом от дыхания учащённого сбивающимся что-то, чепуху какую-то, шутки даже шутит, она дыханием таким же и посильнее даже, ибо он на ней уже, ответственно отсмеиваться пытается по делу и не по делу, и дело-то теперь не в шутках, понятно ведь, не дети же, и ничего более она не говорит, молчит; он и ведущий вечера и герой программы, и дурак полнейший и шут гороховый в лице одном, хорошо его никто и она даже не видит, достаточно того, что он её носом в щёку с пушком одуванчиковым касается и в ресницы щекочащие, и дыхание слышит её и запах особый, ей одной принадлежащий лишь, ощущает; и много надо времени пройти будет, чтобы понял он, что запах этот не её был, но определённых женщин запах, о которых он пока не ведает ничего, ни о женщинах, ни о типах оных, она одна такая так пахнет, и всё тут.
И теперь-то уже можно улыбнуться, один когда сидишь на крыльце, а кошки не видят, да и видели бы, им-то что; тогда же ещё более нужно было улыбнуться, даже засмеяться, но уж точно не злиться и не серьёзничать, и не чуть ли расплакаться от бессилия, когда весь мир против тебя как говорится: из темноты прямо поверх её головы, на земле кверху небом лицом лежащей, тьму с рёвом жутчайшим разрезал, через кусты мельтеша окнами и дверьми тамбурными, поезд, и он в момент этот только что с джинсами её чрезмерно для неё узкими справился, и поезд этот ужасом наполнил сердце подлинным, и, что хуже того, она ещё засмеялась: а ты не знал, что это посадки у железной дороги, разве я тебе не говорила; и ладно бы спросила просто, нет ведь, так спросила, будто вчера за завалинке дома её яблоки ели, когда и пиво пили горькое, о чём отвлечённом речь зашла будто: мол, а у нас за деревней посадки имеются; угу, он ответил бы; а там железная дорога проходит; было бы так, он бы и ответил: понятно, и всё тут, что такого, но не теперь же вот, когда ты столько препятствий без иного ответа на вопрос зачем тебе это надо, кроме как: не знаю, нужно и всё, преодолел это всё когда, а тут поезд этот ужасный; как он его не слышал приближения, неясно, занят был и сердцедыханием-её своим оглушаем в темнотнотишинной ночи, и тон такого рода со стороны её, будто: не бойся маленький, иди к мамочке, я тебе дам сисечку; это уже ни в какие ворота не лезет, а он ещё и не пытался даже ворот достичь никаких, не то что внутрь забираться, да только ненавистью сердце его преисполняется в раз всякий, ежели девочка какая, неважно какая, к нему обращаясь, интонацию в голос свой подобную вплетает, и не оттого, что не любит жалели его чтобы, отчего же, но весьма желательно, непременное это прямо-таки условие для него, чтобы жалости в жала не обращались разящие серьёзно, а потому, когда его жалеть или когда его жалить, следует у него поинтересоваться, прежде чем приступать к тому; ну, не напрямую, конечно, так неужели же это и так не понятно, когда приблизительно хотя бы время; но тут уж нельзя было ошибиться и теперь лишь, днём сегодня, он понял: не знал он её, Катю эту, просто, и всё: она не невнимательной к нему была, напротив, внимательной; но в силу склада её особливого, о котором он не то что понятия не имел, а просто и не думал тогда об этом всём и правильно делал: когда о складе душевном размышляешь, лифчик трудно снимать в возрасте таком и в любом вообще, ведь главное прорывалось уже почти, не до складов там разных, тем паче на путях ночью железнодорожных; и сегодня лишь видно: чуть иначе она к нему относилась, потому как для неё происходящее не столько повод к главному, наподобие его чувствования, но собственно главное неслиянно в единстве пребывало; и то, что он в качестве повода рассматривал ко времени этому весьма досадным уже, она неотличимо с грядущим сливала, иначе и не могла, так устроены Кати различные в этом отношении сходно весьма меж другими; и потому, восприняв его, успокоено решила; а понял он это из событий ночи уже другой, взаправду ужасной, ежели эту, с Катей в посадках, лишь постыдной можно наречь, да и смешной ещё, вследствие недоразумливости происходящего; и заяц этот ещё, когда он от поезда обиделся за интонацию вопроса её, тут же и лёг рядом, в стороне, и увидел как белеет тела её пятно: она на речку даже не ходит и не загорает как ребята остальные и девочки; с отцом и хозяйством по дому, лишь в ночь выходя на улицу к компании, которая и лица-то толком её воспринять не может, и потому белеет тело её неразличимо в отдельностях своих аппетит вызываючи нежелудочный, но он обиделся и отвернулся, игра такая в обиделся называется, а она садится тогда, и кофту застегивает на себе: ну что ты обиделся, испугался, спрашивает, и гладит его по щеке; и тогда это уже не игра, теперь он по правде обижаться начинает; неужели же из-за его обиды дурацкой дело такое важное прекращать, кофту застёгивать, нет уж, и не отвечает ей, а руку её молча берёт и к себе на живот перекладывает, а рука у неё холодная и влажная даже кажется, будто лягушачья лапа, на живот к себе её, чтобы она ниже уже сама из обстоятельств руководствовалась, а она и руководствует рукой своей, вспять на щёку его её перекладывая, но кажется ему и тем паче сквозь обиду, будто она от сути уходит или хочет уйти тем самым, и переспать с ним не желает, а потому ни слова также не говоря, хотя нет, сказал фразу одну, садится, на траву её валит снова и расстегивать методично весьма кофту во второй раз принимается, и фраза эта: ну зачем ты её во второй раз напялила, кто тебя здесь увидит, спрашивает он у неё, и не видит того, как груба фраза эта его, но ему уже ни до чего дела нет, лишь бы сделать всё и гори оно синим пламенем, хорошо, что во второй раз кофту расстегнуть как домашнее задание выполненное показать, легко.
И оно всё горело и таким синим, что он даже не ведал о цветах таких синих и настолько всё, что он подивился: сколько же у него дорогого всего имелось до мига сего, но не в ту ночь было это, а в иную уже, после этой дней через несколько кажется, когда уже и сфотографироваться ходил не с Катей он, потому как с Катей он наутро после ночи заячьей встретился, и увидел как некрасива она, безобразной просто показалась, и ночь прошедшая не помогла ничуть, а может и усилила впечатление подобное пуще прежнего, и потому взял он другую с собой, она ему тоже не нравилась, но меньше не нравилась, чем Катя, зато другую эту все почитали за красавицу первейшую, а в ночь синего пламени горения, накануне вечером, снова они у Кати вместе все были, но Олег разве что в настроении пребывал упадочном и с другом каким-то напивался, с которым прежде здесь вместе не показывался никогда, ни с кем в общение не вступая, и слышно со стороны местонахождения его недалёкого лишь усмешки какие-то или всхлипы, потому как к девушке его, отличнице Анечке, отец её запретил Олегу заявляться впредь, Анечка школу закончит в году следующем и в город, не иначе в Университет, жить поедет и учиться соответственно, а тебе, Олежек, делать тут как ни на есть нечего, и всё тут; и Олег, перед тем как сюда явиться, к Николаю пошёл, товарищу, мать у которого самогон сотворяла в количествах, за нужды семьи превышающем довольно, и взял Николая этого, и самогона, и по дороге к Анечке выпил количество напитка этого поначалу неприятного и в конце питья неприятного и в середине неприятного, выпил количество превышающее начало, но недостаточное к концу упасть чтобы и уснуть крепко, и отца Анечкиного побили Олег с Николаем крепко, в количестве изрядном, сознание чтобы потерял, но недостаточном, чтобы скончался, и мама Анечкина побежала в милиции отделение неближнее единственное, и потому сидели теперь немного обескураженные Олег с Николаем, и то ли усмехались на всё, то ли носами шмыгали; не задавался вечер тогда уже ясно было как день, хотя день задавался не хуже обычных, о коих не вспомнить чем занимался собственно, вроде всё тут на месте, в наличии своём жалком, перечисляй не хочу, и не хочется ведь перечислять, ибо перечисление такое привкус пустоты имеет, гнилостью голодной расползающейся; но ладно они, Олег с Николаем, у них повод вон какой появился нерядовой, они о нём даже девочкам не рассказывали, не женское это дело, и проблемы не бабьи, а он, он-то сам что, ему неприятно с поры той ночи самой заячьей и дня следующего как Катю увидал днём непонравившуюся, ему тяжело, как до ночи той самой, будто не было ничего, также говорить и шутить беззаботно, будто Катя раскрыла его тогда и теперь шутками, будто масками не скроешься, а на самом деле он скучный, и она знает это теперь, и не интересен он ей как она ему, да и Кати голос с места хозяйки палисадника неизменного стал каким-то трогающим не по делу и без повода всякого, и лучше бы глупость говорила или молчала как прежде, но нет ведь, и потому тянет он один через силу беседу, ставшую необычайно трудной и натянутой, и спать уже все ребята разошлись, остались лишь Катя с Еленой, подругой её, самой некрасивой из всех присутствующих, её тоже он днём видел, она просто ужасна; и единственное, что очаровывать в ней ещё способно, шанс её так сказать последний, что не тебе она принадлежит, но и здесь камни подводные имеются: тебе она не принадлежит не потому что другому, тогда сразу бы желанней стала, а потому как и не нужна никому, хотя девушка весёлая и когда её не видишь, как тогда например, под голос её звонкий и молодящийся сверх меры возбудительно, запросто другую владелицу подвести, какая тебе только в мечтаниях твоих понравится сможет, и в этом Елены секрет ночной привлекательности, она компанию всю и ведёт, и почему только день солнечным светом полнящийся бывает в мире этом жестоком, можно здесь вопрос со стороны её досадой исполненный спросить; и Елены помимо остались он, Олег, Николай и Катя; Николай здесь, в компании этой, впервые находился, но сказать нельзя, что он никого не знал или его не; это в городе так: кого знаешь, с тем и общаешься, а в деревне ведь знаешь всех почти, но не со всеми в палисаднике вечеришься, вот и Николай таким был, он хорошо знал Катю, и отца её ещё пуще знала мать Николаева, ибо клиент завсегдашний отец Кати в охочести своей самогонной, и Елену знал, она одноклассницей его значилась, у них всего в школе два одиннадцатых класса на деревню всю; знал их, но по состоянию своему, не очень трезвому, и по характеру своему, не чересчур разговорчивому, молчал, и Олег молчал, и неловкость навёртывалась ещё и от этих Катиных поддакиваний глубокомысленных и тайный смысл будто имеющих, но это он тогда так негодующе помышлял в себе, умысел тайный ей приписывая, разоблачить его чтобы перед всеми, Катя же умысла не имела, и узнает об этом он через часов уже несколько, но что за часы будут это, горит когда всё синим пламенем, горит-горит и перегореть не сподобиться никак. Когда поздно стало по времени и деревня вокруг смолкла, и комаров первая шеренга полегла частью и оставшейся частью скрылась туда, появилась откуда, Катя подругу свою Елену провожать уходит, а в палисаднике он, Олег и Николай остаются лишь, Николай вздыхает, и понятно почему: втянул Олег его в передрягу ту ещё, теперь дядя Гена, отец Анечки, когда отойдёт от побоев, отойдет если, ему нанесённых, непременно отомстит, если до того милиция не найдёт их, хотя что искать: домой придут и всё, никуда тут не скроешься, и хуже будет если дядя Гена от побоев не отойдёт, но об этом лучше и вовсе не помышлять; Олег его успокаивает в отношении заботы милицией вызванной: у него в милиции дядька работает, а посему ничего им от милиции по меньшей мере не станется, а вот от дяди Гены, да, ну так он ведь, говорит Олег слова по преимуществу неприличные, в данном случае вообще так и ругательные, хотя и непристойностей в них предостаточно всяческих, дочь свою в шлюхи городские отдавать собирается, урод старый, не обижайся, говорит Олег другу своему городскому: но у вас там в городе все бабы шлюхи, это как пить дать, и поворачиваясь к Николаю говорит: дай кстати пить, и Николай ему отдает остатки самогонные, а затем, не передёрнувшись даже, Олег говорит: но сегодня сегодня-то наш день, и ночь наша; Олег говорит и улыбается как-то недобро, и уже слушатели его спрашивают: о чём это ты, а он отвечает: я сейчас кое-что Николаю скажу, мы, так сказать, обмозгуем это дело, а какое не говорит; ну ладно, остающийся кивает, и кошку гладит теперь, вздыхая: лучше бы тогда ушёл сразу домой, мол, до завтра, спать охота, но остался потому лишь как долг вежливости исполнить следовало: с Катей как-то попрощаться, спокойной ночи, до завтра, сказать, и за руку взять её без охоты к тому особой, но и не без удовольствия от того особого, в мечтах лелея: а вдруг я домой сейчас вернусь, а там тётя Лена опять одна на один с ним будет, тогда уж не упустит своего он, и её не упустит ничего, а посему продолжает далее в палисаднике один сидеть, и слышит сразу же шаги чьи-то, под фонарём фигуры мелькнули приближающиеся: нет, не Катя, Олег с Николаем возвращаются, и настроение у них шибко аж не по-доброму весёлое, и говорит из них Олег, а Николай молчит вследствие скромности прирождённой, не от родителей точно унаследованной, но от состояния своего нетрезвого, слова когда не слушаются тебя и сами что-то лопочут, и от речи Олега содержания ещё молчит Николай, которая не рот закрывает ему, но душу в замешательство смятенной пустоты подвешивает: сейчас Катька домой вернётся, и мы её втроём, говорит Олег и замолкает торжественно, вечный двигатель будто изложил подробно, но не всем понятно устройство перпетума такого и мобиле этого; что втроём, спрашивает третий; ну что-что, вон, уложим, и по очереди; это как так, спрашивает третий, и не на Олега уже, а на Николая глядит. А деревня вокруг в ночи летней упокоенная двигаться как-то начинает; в смысле как, переспрашивает Олег: ты что маленький что ли, по очереди, мы решили уже, и поскольку мы пострадавшие с Николаем, то и будем первыми, если тебе интересно, то я сперва, он потом, у нас стресс сегодня, а уж ты последним, и тебя берём потому лишь, что Катька неравнодушна к тебе, и ты к ней вроде, первым я буду; Олег аргументирует: поскольку она сопротивляться может, не захочет с тремя так, вы с Николаем будете глядеть, чтобы никто не помешал, хотя кто тут мне помешать может, и он недобро снова улыбается, и теперь лишь видно становится: у него зуб выбит и губа разбита сильно, видно дядя Гена руку в ответ свою приложил, и становится не по себе совсем, и представить уже трудно: что же они с дядей Геной сделали, с этим добродушным дядей Геной, которого Олег ему и представил, а дядя Гена вопреки многим беседам деревенским захотел с ним о книгах говорить, и говорили ведь за чаем тогда, пока Олег с Анечкой в комнате её сидели, или что они там делали, и вот этот дядя Гена теперь там лежит, и жутко оттого ещё, что ведь они задумали ну совсем не доброе дело, чрезвычайно недоброе, и кажется уже, будто в книжках такое бывает, а в жизни нет, не бывает, и оттого неуютно, деревня вокруг вертеться сильнее начинает, а жизнь собственная вся вот, в момент этот вдруг кошмарный собирается, да так неуютно собирается в ужасе этом, что себя тут же, в жизни этой своей, чужим находишь; и чего ради всё это было, и коли это не в книжке, то жизнь твоя сама как книжка с концом дурацким совсем уж: жил, любил, приехал в деревню отдохнуть, а тут раз, будто автор не просто фантазии лишён, нет, в оной ему не откажешь, напротив; но как-то специфически весьма у него эта фантазия выступила, будто пот на языке, а с другой стороны, подумалось ему тогда странно, не случайно же тогда в Сад этот чудесный попал, так вот контрастом всё и кончится, и ещё представилось, как он ждёт своей очереди, в то время как они там это, и как он Кате в глаза поглядит её некрасивые, впрочем, теперь уже красивейшими на всём белом свете ему вспомнившиеся; но что, что же ему сделать, домой отпроситься, в школе будто: у меня голова болит, сказать: я домашнее задание выполнил, но дома забыл, его собака ела-ела, не доела, кошка ела-ела, не доела, а мышка бежала, хвостиком махнула, и не окажешь же им сопротивления никакого; либо убежать малодушно, либо участвовать, не знаю даже как, и не убегает он, не потому как участвовать хочет или помешать может, нет, а потому лишь парализован что происходящим, и Олегу говорит, себе со стороны поражаясь: ага; а себя проклинать уже начинает; но ты, говорит Олег ему, ещё службу нам сослужишь, мы сейчас к Николаю сходим за самогоном себе и тебе, и ей, и отцу, самое главное её, а то проснётся, возмущаться будет, алкаш старый, а мы бутылёк ему сунем, и пусть дальше спит довольный, он нам ещё спасибо скажет за это, и уже оба они, Олег и Николай даже, усмехаются, осведомлены о силе чудодейственной напитка сего для людей, отцу Катиному подобных: я бы Николая одного послал, чтобы добыча не сбежала, но так ведь там милиция может быть или ещё что от родителей Анечки, напасть какая, а ты покуда Катьке приглянулся, будь тут, и проследи, чтобы она никуда, понял, а то, бывает, к подружке умотает, и замолкает Олег, и даже спросить не поворачивается язык, что значит слово им тут употреблённое: бывает, не до филологии сейчас как-то, но ясно лишь: неспроста слово бывает вырвалось; но спрашивает Олега о другом: а если милиция за изнасилование как-никак, усмехается Олег по плечу хлопая, подобно отцу заботливому, или брату старшему пекущемуся: ничего не будет, у меня дядя в милиции, он ко всему привычный; и спросить опять хочется: ко всему что значит, но язык снова по делу не поворачивается, и Олег с Николаем уже под фонарём показываются, и скрылись в темноте, и кажется: торопятся они, а он остался один, и не думает ни о чём вообще, ну правда, вообще не думает, но всё вокруг дрожит, будто карусель усложнилась деревенская, и теперь ещё всё прыгать начинает, второй уровень препятствий, пристегните ремни, детишки, и он закуривает, и курит, и вновь прикуривает от докуренной, выбрасывает последнюю, и вновь, и вновь, и прошло времени сколько неизвестно, но ему уже казаться начинает, будто он растение, и покой тогда разливается нечеловеческий, и удивляется уже страху своему недавнему: я же растение, чего мне бояться человеческого вреда; потому как в состоянии таком наступления отупелости вертящейся не помнит ничего, а что помнит, в том значимости не видит никакой, и ощущается в тебе присутствие Ульриха некоего, без свойств человека своеобразного. И понимание наступает: Катя совсем невинна ведь, нет, не говорила о том она ему, но он думал так почему-то, и в домыслах этих его ведь ничем она в вечер тот предшествующий поездной и степи разлитой закатной, не опровергла этих догадок, и потому стало быть так и есть всё, невинна она, и как теперь быть не ведает он нипочём, а лишь о том и вспоминается безучастно, но боль доставляюще всё же, как он снова её укладывает, с усмешкой натянуто осведомляясь о расписании поездов, и не потому как ехать подумал куда, нет, ехать думает через неделю-полторы в город обратно, и Катя знает о том, отчего встреча их странная свободной игрой враз с трагичностью глубинной окрашивается в душе каждого, однако теперь расписанием интересуется дабы заранее знать когда ему нового поезда ожидать, а Катя расписание знает, хотя в городе раз была лишь, в детстве далёком, когда мама жива была ещё, но она о том почитай и не памятует ничего, кроме того что было это и всё, и ещё мороженое в железных тарелочках на ножках помнила, и душу свою полнит он идеей неожиданно взыгравшей в нём: а не взять ли её с собой, но как же родители, ничего, с ними решится, надо перед фактом поставить и всё тут, это в душе рождается, а телом своим безуспешно проникнуть в неё пытается, в кудрях тамошних путаясь, и вроде всё как надо, он разоблачился от джинсов своих, а она им разоблачена совсем донага, и не нравится ему тело её немного рыхловатое, но сейчас не об этом думать следует, нравится не нравится, ныне надо дело сделать, ведь и ему надо, да и перед нею стыдно будет дойти до степени такой и прерваться на том, нет, нельзя так, и гладит он её, там увлажняя, а она ему руку отводит непременно всякий раз, и это его даже не раздражает, он игрой это воспринимает весёлой, ведь раздеть-то себя она позволила; и когда сознаёшь, что всё это игра лишь, хотя и по правилам неведомым вовсе, но тебя в неё пригласили, да так ещё, будто ты игрок что надо, коли других не наблюдается рядом, а то, что его не впустили в игру, а он сам её создаёт поведением своим здесь и сейчас, об этом он не думает, но когда уже сквозь силу намеревался соделать задуманное, а она по-прежнему его отводит, не руку уже, а то, что полагается, берёт рукой нежно и отводит упрямо, и это его уже раздражать начинало всерьёз, как здесь это появляется, и ужасается он не меньше, чем от поезда, а поболе даже, потому как там она хотя бы не испугалась, а тут и она вскочила в испуге, сбросив его с себя, и понятно стало ещё ярче, что до того шутки были, коли вот так враз смогла его с себя былинкой малейшей стряхнуть, сидят и на кусты глядят, где это шуршит громко: раз два и смолкнет, и опять, но в тишине, нервами накалённой, это монстр какой огромный и не иначе, и она кофточку вновь одевает, и его это не огорчает уже, потому как рядом с ними что-то бродит в ночи, а она по щеке его вновь проводит, и говорит всё тем же тоном заботливым: ну что же ты испугался, это заяц, он сам боится нас; и он тогда ей говорит со смехом: а ты чего испугалась; она кивает: да, мол, испугалась поначалу, а смешно теперь самой; и страх сменяется усталостью радостной у него, и видит она как он сам одевается методически настроенно на уход отсюда, и спрашивает: куда ты отец Георгий, и рукой его уложить обратно желает, а он нет, ни в какую, говорит: не обижайся на меня только, и не вздумай даже, но мне не хочется ничего уже, пойдём домой, и испытывает чувство вины странное, потому как если бы она не играла в отстранение с ним, небесприятное впрочем, а помогла бы например сама, они сейчас бы уже всё успели, даже с зайцем этим чёртовым, а теперь нет, не хочется, всё, гейм оувер ту би нот континью, и сам решает что не повторит такого по воле доброй, и мысль странную её к себе в город взять уже с удивлением гостьей незваной в дом чуждый пришедшей воспринимает, но при этом странным образом Катя в представлении его возносится, вследствие того, что не вышло ничего, возносится на пьедестал невинности недосягаемой, и святой почти, и странно это потому ему, что не вышло у них не вследствие невинности её, а потому как поезд проехал и заяц зашуршал, да игрались долго ещё, хотя кто знает, может без этого всего всё равно на играх всё бы и закончилось, но решает он, что удачно всё вышло в общем-то, и он в грязь лицом не ударил как говорится, силой мужской своей не дискредитируясь перед нею, ибо он ей в руку силу свою вкладывал, она нежно сжимала её и пыталась отвести опять же, но нет, он пальцы её мягко удерживал до того момента, как она руку сама уже без его понуждения ласкового удерживать стала, и сила при нём теперь, и Катя в невинности утверждена своей, а потому в вечер тот, когда ушёл Олег с товарищем своим по несчастьям за напитком пьянительным, особо парализовала отца Георгия эта невинность Катина, и грустно, но из иной уже жизни будто, вспомнилось ему как он Катю за руку всю дорогу держал во степи предрассветной, и не потели уже их руки, степь остыла за ночь, дышалось легко, не в пример положению нынешнему, когда он в фонаря свет единственный всматриваясь ждёт: кто первым вернётся, хотя дело столь безнадёжно и участие самого отца Георгия не предполагает никак, ибо насиловать Катеньку невинную не будет он точно, это единственное, что он может теперь, глядит на фонарь: кто придёт, а в душе надежду сохраняет глупую: никто вообще не явится, будто и кошмар этот на стадии своей замысловатой в прошлом останется призраком воображаемым разве что. У него было достаточно сигарет: в эту ночь по негласно и заранее образовавшейся традиции, они с Олегом чередовались в отношении снабжения курительствами своих вечеров, была очередь отца Георгия, он курил много и ещё больше хватило бы сигарет, а его едва ли хватило бы, что ничуть его не заботило вообще-то и было весьма желательно, но неисполнимо, а заботило, напротив, ежели он останется, что было нежелательно, мягко выражаясь, но уже исполняется здесь и сейчас, и в свете фонаря как раз две фигуры мелькнули, и безразличие наполнило сердце леденяще, останавливающее, если точнее выразиться: Олег вернулся с Николаем, кто же ещё здесь будет парочкой блуждать в округе, и значит: всё, и решает отец Георгий уже покинуть их, просто сказать: вот, я вас дождался, всё сделал как договаривались, но голова болит от вас всех; и уйти, и пусть думают о нём что им угодно, потому как сами насильники, и насильники не кого-нибудь там, а его собственной Кати, с которой ночь его заячья породнила интимностью посадочно-железнодорожной, и решению такому радуясь, не представляя причём, как он себя будет чувствовать, уйдя, и зная о происходящем здесь, он идёт навстречу подходящим, но из темноты со смехом выхватывает его обнимающе Катя, а рядом с ней Елена стоит; сообщают они о том, как порешили сегодня у Кати заночевать, и уже у родителей Елениных отпросились, хотя решение непросто такое родителям любым подруг Катиных давалось: у Кати дома отец, мужчина ещё не старый, и всякое не всякое, но основное могущий ещё, находится; и не отпускали бы Елену, если бы не было со стороны иной родителям Елениным жаль Катерины и судьбы её несправедливой, как всеми и полагалось, и отпустили Елену родители; и: здорово что ты ещё не ушёл, Катя говорит весело, а Елена подтверждает улыбкой нехитрой, и: я чая сейчас сделаю, на улицу вынесу, Катя завершает, и не обижаются они, что в дом не зовёт: отца там находящегося стыдится поскольку, и: да да, говорит им он; ты что же, всегда Катю ждёшь, спрашивает игриво, не без зависти Елена, и, ответить не давая ему, и хорошо, ибо он не знал бы что именно говорить в ситуации такой, Елена Кате затягивает: это так здорово, говорит, о-о-о растягивая на конце: и так романтично, что аж прям уж не знаю. И идёт за ними отец Георгий в палисадник обратно, на фонарь оглядываясь, и мерещатся ему фигуры Олега и Николая там, и гаже ему делается, чем дотоле в оцепенении одиночном, когда себя не находил, ибо ныне нашёл себя, но от того что именно нашёл, кем это не назвать, чем лишь, от того, что на месте своём он сейчас обнаружил, дурнопротивно и гадостномерзко стало, впору хоть яду попросить чая заместо; и тогда уже думать не поспевая, догоняет он Катю, его дожиданием приятно удивлённую до сих пор, и удачно так вышло ещё: подруга её застала феномен сей небывалый и удивительный, догоняет её и за руку берёт, спокойно говорит: не надо, Катя, чая никакого, я хочу предложить прогуляться, а вы расскажете мне всё здесь, и покажете; и это он-то, уже всё тут знающий говорит, а Катя изумляется пресильно: это ночью-то, и кажется она себе самой всё светлее от этого предложения, ведь не домогаются её, а гулять предлагают в миг тот, когда домогаться всего лучше; да ночью, улыбается ей он и она тогда у Елены, слышащей всё, спрашивает взглядом более чем словами: ну что пойдём, а Елена кивает: почему бы и нет, с ними впервые такое, необычно по своей деревне, по Парижу будто, гулять ночью так вот, с целью экскурсионной, они и днём такого никогда не делали, и тогда берёт он их обеих под руки, и ведёт через проулок в сторону от Николаева дома противную, и под руки берёт дабы тянуть их легче за собой в ускорении некотором неестественном, в целях прогулки ежели расценивать оное, легче чтобы было идти быстрее; идут они и он говорит, будто не они экскурсоводы, а он, что давно Элеватор хотел у них посмотреть, вследствие высоты всеми жителями не иначе как Парижем и именующийся, и особенно странно желание это его, ибо Элеватор всякий видит, кто на поезде сюда приезжает, но они заинтригованы его странной страстностью, будто он в себе их пустил в комнату потайную, в которой никто прежде не бывал и где странно всё, но отец Георгий рассудил: Элеватор ведь дальний край деревни, и по пути ещё милиция будет, на полпути прямо и находится, и хотя Олегу ежели верить, то милиция мало чем поможет, но не приходит ничего иного теперь на ум в деревне, чужой для него теперь вмиг ставшей, а точнее вообще ничего не приходит, и идут они, о разном разговаривая беззаботно весьма, особенно так беседу эту рассматривает Катя, и Елена так же, будто и не было ночи с зайцем, и будто эта встреча их вторая ещё или первая, когда не решено даже с кем быть ему: с Альбертиной, Жильбертой или с Андре; вот и переезд прошли, и девушки утомляются уже, а он на батарейках будто, идёт как ни бывало ни в чём, хотя, уступая им, ход сбавляет, а на переезде их настигает машина иностранная с музыкой громкой, и останавливается, а оттуда голос обращается на отца Георгия: эй, тебе двоих не многовато ли, поделился бы; и теряется отец Георгий, этого ещё не хватало, но из машины смех женский доносится, и девушки, которых отец Георгий под руки держит, улыбаются, и вероятно даже краснеют в смущении льстящем себе же, однако не видно в ночи лиц их особенно, но из машины тут же голосом изначальным ободряюще звучит: молодец, отец Георгий, не теряйся, так держать; и скрывается машина из виду вовсе, и спрашивает Катя: откуда они тебя знают, а отец Георгий гордостью преисполняется непонятной и говорит: я вообще-то очень знаменит, и смеётся, и лишь затем узнает, что в машине тетя Лена была с друзьями своими, на заднем сиденье сидела, и сказала тогда водителю по имени Саша: Саша, вон мой племянник городской, отец Георгий, идёт с девушками, давай притормозим, поздороваемся; но пока отец Георгий этого не знает, хотя уже более спокойно себя чувствует по ту сторону переезда, а здесь уже и отделение милиции, а на крыльце дежурный курящий говорит им игриво и фамильярно весьма, и не знал пока отец Георгий почему тон у милиционера такой, позже лишь выяснит это: что-то поздновато гуляете, Екатерина, говорит дежурный, и тут же тоном серьёзным добавляет: ты не видела Олега или Николая, и отвечает Катя беззаботно, прогулкой увлечённая: были у меня вечером сегодня, теперь ушли, а что случилось что; да так, отвечает милиционер дежурный, докуривая сигарету свою: они отца Анечкиного побили; как, ужасается Катя, и Елена вскрикивает даже: это дядь Гену-то, когда же; да после вас, верно, усмехается невесело милиционер и заходит в отделение милиции; отец Георгий готов упасть тут же и во всех преступлениях, нераскрытых и несовершённых ещё даже, сознаться, но лишь спокойнее уже путь продолжает. Когда по рассветному времени они обратно от Элеватора шли, милиционер тот же сообщил им, что Николая взяли дома у него же, а Олег убёг куда-то, чудит, и добавил: встретите, попросите его в отделение зайти, его дядька с ним поговорить желает, он сегодня как раз с утра заступает; хорошо, говорят все трое, и думает отец Георгий: боже упаси увидеться, представить трудно в каком ныне состоянии быть может Олегэ и что сотворить может, а потому к дому не без страха, к Катиному, спутниц своих спроводив, сам домой не пошёл уже, а в посадках спать улёгся, не в тех дальних, а в ближних, на территории деревни находящихся; хотел было в Сад тот заливной попасть, но чувствовал, что не дойдёт, покуда девочек как проводил, им усталость необычайная овладела, и дрожь от холода и сигарет нервная пробивать стала так, что даже зубы стучали, и пел что-то громко он, вот бы в Сад попасть этот сказочный воистину, там никто искать не станет, но он забрался в посадки, среди бутылок и мусора место себе высвободил, и уснул сном мёртвым.
Да и сейчас бы, в жару эту, неплохо бы в Сад пойти, думает отец Георгий лениво, кошку, на ноге которая лежит, гладя посредством пальцев ноги перебирания: что тварь мохнатая, как думаешь, ведь никак хорошо у тебя всё всегда, даже плохо ежели, разумения не хватает на понимание плохости свершающейся, а посему почитай и плохое сойдёт за хорошее; и у отца Георгия хорошо всё вероятно, даже как в ночь ту, когда разумение на плохое хватило, а вышло всё супротив разумению неплохо: Олег уснул тогда как от Николая вышел, вследствие милиции появления жданного в принципе, и под крики и всхлипы матери Николаевой нетрезвой, но матери всё же, покинул дом товарища своего, и пришед к товарищу неблизкому, но близкоживущему зато, тоже клиенту мамы Николаевой, как и отец Катеринин, уснул у него, у дяди Вити, запросто так, и даже один раз видел с тех пор его отец Георгий, когда спросил его Олег: ну тебе-то хоть перепало чуть, а, надеюсь не оплошал, и вспомнив вопрос подобный из машины исходящий, на переезде в ночь ту, неопределённо кивнул, как-то не по-мужски неуверенно отец Георгий: да так; и жест этот его воспринять за что угодно можно было, и не обижаясь уже на то, что вместо шанса с тётей Леной в комнате оказаться наедине не лицом к лицу, что он, не видел лица её что ли, некрасивая она тоже весьма, но телом к телу, и вместо этого он ночь ту и ночь следующую в посадках провёл низкорослых, сигарет искурив запас весь, и по ночам замерзая нещадно, но как это всё уже неважно, а затем он узнал, что тёти Лены всё равно не было дома в эти ночи, она на машине каталась с мужчинами городскими заезжими, но тогда он этого не знал и сожалел, а теперь всё неважно уже, уладилось когда всё, и решает отец Георгий Сад посетить, и кошек сгоняет, поднимаясь, и уже к калитке направляясь, слышит окрик малышни местной: отец Георгий айда на речку, и Сад отложить решается до времен лучших, и на речку шествует выше всех в толпе ребятишек, те уважают его не за то, что старше, а за то, что городской, а к вечеру, когда малышня у воды более взрослыми особями разбавляется, компания хоть и незнакомая, но они принимают отца Георгия к себе, городского, и он на их лавочке, ему доселе незнакомой в качестве места вечернего времяпрепровождения, находит колени девушки по имени Инна, милой барышни, и даже ничего не зная о ней, глядит с лавочки чужой на небо знакомое, почитай, что собственное оттого, в то время компания как, незнакомая по именам, но такая же как все ему прежде здесь знакомые, пиво им купленное распивает и проблемы обсуждает от: идти в армию или нет до страшных историй пионерлагерей, и: поднимется ли с постели Сиси Кэпфелл, отец Георгий упокоен, и впервые не говорит ни о чём, присутствует лишь, а потому как бы и нет его, у Инны колени тёплые и острые по-девчоночьи, иногда сбалует отец Георгий и руки за голову будто подложит, что на деле оказывается девочку Инну по месту её мягкому, но так лишь говорить принято, у неё оно упругое весьма, получше Катиного, по месту её мягкому, у неё упругому, гладит, а она не противится нисколько, ибо полагает, что все городские, вероятно, таковы, и так у них в городе там наверное принято, а девочка Инна не желает казаться некультурной деревенщиной и к жизни городской неготовой, нет, вон гляньте-ка, вполне она готова к жизни этой, хоть в Нью-Йорк с лавочки этой улетай за океан.
А когда ночью девочки домой разошлись все, у них жилища рядом с лавочкой этой прямо и находились, в деревне мальчики ходят к девчоночьим местожительствам, принято так и всё; и воздух когда наполнился свежестью приятной, о коей отец Георгий знал, как легко она в холод ночей посадочных обращаться умеет, и лилиями запахло особыми, в ночи раскрывающимися, а днём жёлтыми и невысоко-неприметными, остались лишь молодые люди, юноши незнакомые, но покуда отец Георгий их разговоры незатейливые впитывал в себя молча без желания на то особого, но и без неприятия к тому, имена их знает уже отец Георгий, спрашивают они, Вадим заводила и предводителей воинства сего: у тебя, городской, имеются ли деньги ещё; а что, отвечает отец Георгий, снова помышляя о том, как он Катю родителям знакомить будет, колени Инны на мысль эту ум его нагрели в вечер этот; хотели предложить тебе две бутылки водки купить и дальше развлекаться пойти; это как же, спрашивает отец Георгий и на лавке садится: без коленей Инны хотя небо и обширней стало, да затылок занемел вконец, садится и затылок трёт Винни-Пуховым образом; здесь есть одна девушка, говорит Вадим и друзья его усмехаются на словах этих: она за бутылку что хочешь тебе сотворить может, хоть так, хоть этак; а почему бы и нет, думает отец Георгий, на тетатетное присутствие с тётей Леной не очень из опыта своего полагаясь, а вслух говорит: пойдёмте, почему бы и нет, и покупают они в магазине единственном круглосуточном, том самом, из-за дальности коего книги страниц своих лишались, две бутылки водки, сигареты ещё, а себе пива тёмного дорогого, которое в магазине в музейном качестве находилось доселе, ибо деревенские такие деньги за пиво не отдадут, берёт себе пиво и сигареты отец Георгий, отдав славному молодцу Вадиму водку, и всех четверых ещё угостив курительностями своими, идут они молча, и когда места до боли знакомые уже появляются, спрашивает славный молодец отец Георгий, доселе в грёзы о первом опыте любви с проституткой погружённый, у предводителя дворянского Вадима Ясного Месяца: а кто она, дева эта славная, спрашивает он; кто, Вадим спрашивает в ответ; ну, девушка идём к которой, отец Георгий уточняет, доспехи свои поправляя; это, брат, шлюха деревенская, которая тебе и не снилась в городе твоём, отец у неё пьющий воин, она ему, дабы воду огненную поставлять, за бутылку для папеньки и рот откроет когда надо что туда тебе поместить, и наклонится в любую сторону, и мы, и Вадим предводителей дружину свою оглядывает весело: мы, как наши-то разойдутся, пользуемся ею завсегда, втроём даже пару раз было, и неплохо было, скажем тебе; и смеются они неприятно воины достославные, и отцу Георгию неприятно делается от смеха этого, будто враги по ту сторону ворот крепостных неприступных непристойности выкрикивают, но и возбуждение чувствует подступающее: унизить в постели женщину недостойную, и про себя чтобы неприятное впечатление от грубости спутников отвести, повторяет пыхтелку тут же сочинённую: шлюха деревенская, я тебя люблю, шлюха деревенская, я к тебе иду, шлюха рот откроет, скажет мне: ням-ням, водку ей поставим, и не будет драм; бред какой-то в общем эпический сочиняет воин странный отец Георгий, но в момент какой-то неожиданный встаёт отец Георгий на месте конём, шоры ненамеренно скинувшим, потерявшим воли своей супротив, и задаёт два вопроса всего, враз ему явившихся и ответа, в общем-то, не требующих, будто две сестры беззаботные за руки держащиеся, и первый вопрос спрашивал отец Георгий: а как зовут девушку эту, которую шлюхой именуете вы небеспричинно; и ответствовал ему Вадим, предводитель стаи похотливой: звать её Екатериной, и живёт она на улице Большой Советской в доме номер пятнадцать; и второй раз спрашивал отец Георгий: а кто пользуется услугами её, и нет ли среди них Олега, красного молодца; и вновь ответствовал ему Вадим, полководец водкопочитающей братии, двумя бутылками напитка сего в руках зажатых жестикулируя убедительно, словно культями рук, в боях оторванных: да все пользуются, и стар, и млад, а как же, и Олег ясный молодец, про него говорили даже, что он Катьку каждый вечер пользует, как от Анечки своей приходит, да так что она с него водки не берёт даже, отсюда моральное поучение Вадим выводит многозначительное: шлюха-то шлюхой, но с Олегом ей хорошо, говорят у него будто у коня соседского вороного, а ещё со всем отделением милицейским наша Катенька почивает, ноченьки сладенькие разделывает; и хохочет дружина славная, и тогда говорит отец Георгий им: передайте привет девице сей от отца Георгия городского, когда будет она рот открывать как угодно вам будет, а я пойду, что-то голова заболела; и удивилась дружина величавая, но ничего не сказал ни один из них, распрощавшись, и сигарет разве что испросив по две на брата, ими же тут и полученных.
А наутро следующее купил отец Георгий билет на поезд вечерний, и по пути обратному в центре деревенском, где магазины и базары различные, куда деревенские по выходным идя, наряжаются городских паче, и кто вычурнее другого соревнуясь, встретил там отец Георгий Олега, и спросил его про Катерину: почему знал и не сказал, что шлюха она; и ответствовал тогда уже Олег красный молодец воочию: ну, во-первых, не шлюха, а девушка с судьбой непростой, а тебе не говорил, думал знаешь ты, да и к тому же она тебя любит, по-моему, самым настоящим образом, а нет коли, так ты её да, я что же не вижу, что ли; угу, прервал отец Георгий его: и потому насиловать её хотел; отмахнулся Олег: хотел-хотел да перехотел, не сложилось, и, к тому же мы так часто развлекаемся с ней, и ей даже нравится, но я думаю когда ты с ней того, она тебе сама всё поведала, а меня после случая того дядька ещё помучил, ибо дяде Гене сотрясение, и зубы выбили, но это ничего, мы с ним помирились, хотя они, уроды, Анечку всё равно в город хотят отправить; угу, вновь говорит отец Георгий: а ты с ней это как; как-как, кверху каком, хорошо, отвечает Олег снова: она девка такая, коих поискать, моя Анечка головой вышла лучше, без спора, но с Катькой в постели не сравняться ей ни за что, и никто не может с ней сравняться в этом серьёзно, говорит Олег и добавляет: да ты с ней когда спал, поди сам всё знаешь, не так ли, и хлопает его по плечу, но молчит отец Георгий, а Олег продолжает: повезло тебе, Жорик, ох повезло, я тебе ей богу завидую наверно даже сегодня, ты ведь уезжаешь, не так ли, пойду к ней, и сделаю с ней всё что умею, я ведь её пальцем не тронул после того, как увидал, что ты к ней не равнодушен, Олег на минуту смолчал и продолжил: а ежели хахали какие заявятся к ней, в морду дам им, и всё тут; на этом они расстались, руки не пожав, из рассеянности то ли, из принципа может, но в поезде, на полке верхней лёжа, опустевшим умом хотелось отцу Георгию урок извлечь, да не выходило ничего кроме как банальности рода такого: другие люди бездна, и так сказавши вспомнил, как они за руку шли к посадкам, и не ведал как сообщить Кате отец Георгий о своём желании, и как она руку его оттуда убирала постоянно, и как на пьедестале невинности недосягаемой находилась, и как он её вытянуть хотел из деревни этой и к родителям свезти, и стало ему ясно на миг кем был он для неё, другие люди бездна, и в душе моей бездна, и страшно коли бездны эти в соответствие приходят, тогда ничего правдивее и быть не может уже, да только правду такую высказать нельзя и вынести смолчавши нельзя, и спать надо поэтому, и уже под стук колёс засыпая, чтобы в городе проснуться и родителям на вопрос: как отдохнул и почему раньше приехал, пробурчать невразумительное: понравилось, всё хорошо, по дому соскучился, под стук колёс, в убыстрение приходящих дальнорасстоянное, как раз мимо Элеватора проезжая, Парижа того самого местного, вздохнул отец Георгий, сожалея, что не попал в Сад заливной сказочный, но мыслью успокоил себя, что в следующий раз как приедет, только там и будет, заснул с этим отец Георгий пятнадцатилетний, и мы говорили уже: не будет следующего раза, спи отец Георгий пока, спи вечным сном, аминь тебе из Сада яблоневого, и только.
Часть восьмая,
в которой все время говорят о разных важных вещах, стараясь быть искренними – и кое-что еще
Теперь уже начинает проясняться насколько всё не так, и как жутко не хватает слов для происходящего, для называния его слов, да, сколько угодно, но дело в том-то и есть: слова эти, сами подвёртывающиеся, только со стороны выдают себя за такие точные и уместные, и подкупают тем ведь, что знаешь их давно уже, мол, мы знакомые твои старые, ты чего же, нам не доверяешь, и если не доверяешь, пеняй на себя, быть тебе скотиной бессловесной, бросим тебя, обидимся, и тогда поймёшь затем, да поздно будет уже, как надёжно были мы правы, и будем правы всегда, потому что мы единственные, а не первые попавшиеся, ведь вторые тебе отродясь не попадались, да и сам проверь с обратной стороны правоту нашу простую, если очень уж того хочется: первое попавшееся слово разве не есть уже потому самое главное, чёрт тебя подери, самое лучшее и верное, вон даже и психологи первым попавшимся словам доверяют больше других, вот-вот, не подставляй верных друзей, тебе же хуже после будет, останешься с носом, и даже без носа, ведь нос это тоже первое что на ум приходит, да и как ты иначе эту штуковину на физиономии своей называть будешь, как не этим вот, первым подвернувшимся, и опять же, заметь, единственным и неповторимым, носом;
нет-нет, теперь вам меня не обмануть, вы все как один риторические приёмы, ловушки и капканы, и не для мыслей вовсе, нет, куда хуже: для людей и их жизней, но я знаю теперь всё, и всё это не такое, каким вы его хотите показать и показываете, да показать не в силах, и пусть отныне у меня нет слов для происходящего, но, о чудо из чудес, оно продолжает случаться, именно теперь, когда вы, подворачивающиеся под ноги и ставящие подножки, надоедливые слова цепляетесь за меня, просите: назови, назови вот это твоё нами, нет, пусть это останется непоименованным, и пусть я даже не получу его себе, пусть, зато и вы, вы, маленькие уроды, его не получите уже, и отныне никто на этой земле не завладеет происходящим со мной, а если отец Дмитрий прав, то пусть всем отныне безраздельно господствует Тот, кому всё это и принадлежит, но это не мне решать, хотя, почему это не мне, я же не за других, но за себя вполне в силах решить: здесь, на моём месте, надоевшим своей лживостью названиям, делать больше нечего, и отныне буду я хранилищем неназванного;
избавляюсь от любви в первую очередь, от этого слова, от любви к Марфе своей, тянула потому что называнием своим множить миг настоящий в будущее непрестанно, а грядущее сопротивлялось: не навязывай, вопило, продолжения во мне того, чего тебе вчера хотелось, у меня свои собственные имеются хочется и не хочется, а ты тащишь уют унылой и холодной зимы, когда лучше укрыться с головой под одеялом и обнимать Марфу свою, тащишь это в весну сырую и холодную, но весне не нужны твои одеяла и уюты, и ты Марфин не нужен, и Марфа твоя не нужна, у весны своя стихия: будоражащая, не считающаяся с твоими вялыми инертными намерениями, неуютность; да и к зиме, был ли ты к зиме настолько внимателен, Андрей, чтобы понять: не Марфа уют создавала душе твоей и телу удовольствие чинила, но уют требовал и создавал Марфу тебе и тебя Марфе, и мог на месте твоём любого создать, и на месте её любую создать, и было бы всё таким же, но ты и Марфа были бы им и Марией, а если ты остался бы по милости зимовьей, а рядом другая стала, то была бы тебе она Марфой не Марфой, да к тому ведь всё всегда и клонилось само, ветвями яблочного дерева с плодами налитыми, место Марфы может занять сегодня вечером Настя, Ольга, Светлана, Мария, Алёна, Катерина, Дарья и недели не проходило без того, чтобы не мелькнул в душе помысел подобный, страшным тебе казавшийся, а ты, глупец, пугался его как неверности промысла в мыслях своих, но так его ты левой рукой отгонял, а правой, ведь у тебя две руки до сих пор, правой рукой, Андрей, не обращая на то внимания, Марфу крепче к себе прижимал и мысль о её заместительстве любой другой подначивал, и поглаживал даже неистовее, и когда происходило это, то и любовь так называемая к Марфе разгоралась ярче, и ты верил даже, будто это она и есть, и Марфу заставлял в то уверовать, поступая страстно чрез меры обыденной, но это всего лишь зима, Андрей, зима говорила тебе своё, и уюта требовала, а не любовь какая-то, уюта с кем угодно, и создавала из кого угодно тебе идол снежный, бабу с морковкой и ведром на башке круглой, а ты чучело идола тобой схваченного в наивности своей, в весну решил протащить, и удивляешься теперь талости её, и хруста прежней свежести от поглаживания не ощущаешь, и лёд не обжигает тебя страстно уже, когда к ней прижимаешься телом своим, а лишь грязные подтёки и вязкая жижа рядом с тобой, не греет и не холодит, нет, Андрей, ничего у тебя не выйдет, и ни у кого не выходило, брось идола своего, и не спрашивай: с чем я останусь, когда брошу своё, ибо ничего у тебя никогда и не было своего совсем, а лишь зимы уют удавшийся, весны будоражение тревожащее, лета ярость окутывающая и осени тревога обновляющая, и никакой любви, понял ли ты Андрей, так ведь;
и теперь, когда я это понял, я готов отказаться уже от всего приобретённого, ибо я понял, как сильно мне оно никогда не принадлежало, и даже понимание это, опустошающее напалмом душу, не моё, откуда душе моей взять напалма сжигающего внутренности её, у меня нет даже жути этой цепенящей, ведь это всего лишь харакири, сэппуку и не более: кишки и гнилостные внутренности, по недоразумению за свои принимаемые, а на деле тебя составляющие, но ничьи, ничьи и никогда чьими-то стать не могущие, эти кишки души моей теперь наружу выходят через слов заезженных отказ употребления, и разве эта дыра, на краях уже рвущаяся, а в середине ровная и аккуратная, через которую вываливается ещё свежее и ссыпается порошком пепельным старое, она мне принадлежать может, когда и то, что в ней остаётся и падает, шмякаясь под ноги, и я сам не свой был, а казаться лишь таким хотелось, и казался, а вы, слова дурные, меня в этом укрепляли и уверовывали постоянно, нет, хватит уже;
и ревность ещё была в сердце твоём, и призывала ревность эта, слово это ревность, и слово ревности этой, не видеть ничего, но ты смог посредством весенним расколоть её изнутри, взорвать нутро изъеденное её, такой снаружи блестящей и аппетитной в правоте уверенной своей, взорвать и разметать во все стороны червей, утробу её точащих, а и без червей вышла она вся, и не оказалось её вовсе, не было ничего кроме червей в оболочке аппетитной уверенности её, и можно от неё только очиститься, и взорвал её к чёрту, и вот теперь перед тобой и позади тебя и всюду окрест ошмётки милых вещичек, тобой копимых и лелеямых, кои зимы напролёт собирал ты, на времена года внимания не обращая, ошмётки брони ревностной и комья червей её, и все проходящие мимо говорят о тебе какой ты грязный, и как грязно говорят, но нет, Андрей, ты смог очиститься, и чем дольше тебе идти впредь по пути очищенья, тем паскуднее будет идти, тем всё большие и большие комья грязи, тех, кто шёл по пути очищения прежде, окружат тебя на пути, и ты понимаешь, Андрей, как в итоге будешь выглядеть ты, чистый, в глазах других, которые носят на себе броню блестящую, и чьё нутро приятно оползают щекотливые черви, о которых они говорят: то мысли наши, то чувства наши, ты для них будешь средоточием мерзости всей земной, и ты знаешь ведь уже, Андрей, о том, что никогда не сможешь сказать им отныне: я чист, и чистота моя принадлежит мне: нет, тебе вовеки не сможет принадлежать чистота новая, когда всё твоё от начала и до конца не твоё и тебе не принадлежало, и отброшено в пыль, где подошвы сандалий безымянных шагают взад и вперёд, и всё это лишь подленько составляло тебя и заставляло тебя, и свет заставляло от тебя своей гладкостью, и блестело, но света источник не в мерзости блестящей, она отражала оный лишь, и тем более блестело, чем менее света оставляло, и погоняло тебя, и ничего не сможешь ответить им на их порицания, и готов быть должен к молчанию со словом одним лишь на устах, и будет молчания тем более, чем грязнее будет всё окрест тебя, чем больше очистишься ты от своего, которое не твоё, а общее, и готовность эта единственно и может быть у тебя, и готовность эта к отказу от себя и есть ты, и никогда ничего более, и если это понятно, оглянись теперь в себе: видишь, как далеко ещё захламлены чердаки души твоей, и подвалы её и комнаты множественные, и чуланчики, и не думай, что времени не хватит на выбрасывание всего: Господь мерит жизни твоей время и только на очищение оно у тебя и имеется, а больше и нет ни на что, и не было никогда, всё остальное вечность, и даже на захламление не надо времени, оно в любой миг, всегда уже тут, и это другая вечность, и не деле обе они одно, и одно это всегда не тобой случается;
расколол я ревность надвое, но тогда уже оказалась незначимой она и бездейственной, все сверкавшее металлом на ней скукожилось и потемнело в грязную тряпицу, Марфа, Марфа, и почему избавление от ревности нерадивой, меня лишь касавшейся и во мне лишь зревшей, выглядело так, будто от тебя я избавлялся в сердце своём, будто с тобой случилось что-то, тогда как лишь слову ревности отказал я в претензиях его никчёмных, да и как оно иначе быть могло, когда ты, Марфа, на кого-нибудь с восхищением поглощающим тебя всю: и глаза твои, и руки твои, и губы твои, и груди твои, и волосы твои, и всю-всю тебя, когда ты так на кого-нибудь глядела, хотелось прервать мне это улетучивающее тебя утягивание в воронку души проходимца первого встречного, да и какая душа у него там имеется, вопрос ещё большой, думал я так в гневе своём, и вырывание твоё через прерывание содеявал, врывался собою, интересное тебе закрывая и тотчас, да, ты печальной случалась или растерянной, и негодовал я про себя: почему этому проходимцу даришь ты своё сердце сама и всю себя, на, мол, бери, а мне растерянной или печальной достаёшься завсегда, негодовал про себя я так, но не на себя, и уверил себя почти в том, будто настоящая Марфа это та, которая всегда печальная либо растерянная, и когда видел тебя другою, то казалась мне в ослеплении моём, будто не я ревную тебя, а ты, сама ты, Марфа моя, себя теряешь, и делал я всё возможное, и сверх того, поднаторел с тех пор в искусстве этом пакостном, делал я тебя настоящей сразу способами разными, приводил к растерянности и к печали, то уличая тебя в чём-либо, или сообщая что-нибудь важное, но не к месту, и погружение твоё в радость, не мной созданную, прерывая, выбрасывая тебя куда угодно, лишь бы там, где прежде была, не оставалась ни минуты, или же пытался показать тебе, как неинтересна ты мне сейчас вот особенно, да и всегда была в принципе, или же какой скрытный и злонамеренный собеседник, тебя увлекший, на деле есть, разоблачая в глазах твоих его беспричинно, а на деле не разоблачая, а переоблачая, и порою даже в одежды несоразмерные для души его и тела его, и многие-многие другие деяния научился совершать я, тебя теряя, как думал, но случались миги невнимательности моей, и тогда ревновал я тебя, Марфа, иначе: глядел на тебя, вниманием поглощённую, и тогда видел я где-то далеко-далеко, как ты, мне не принадлежащая, никогда мне и не принадлежала, и такого даже быть не может в мире сём, покуда в такие времена я сам себе не принадлежал, тогда любовался тобой я без гнева в сердце своём, не как тобой, а как той, какой ты представала в моменты сии: любовался тобой как ничьей, не Марфой, а кем угодно становилась ты, пейзажем безлюдным, милость явившего обликом своим, притом, как ни одного человека не запечатлено там, и тогда пейзаж иначе человеческим делается, чем зарисовка любая из сцен житейских, покуда людей изобразить ещё не значит человечность привнести в картины облик, очень много людей баклажанов, тыкв и горшков, и портреты некоторые натюрморты и есть, и не по неумелости художнической, линии выводящей графические или же мазки кистью широкие кладущей, а люди потому что баклажаны, с коих портрет, но в состоянии моём представала ты, Марфа, пейзажем красивым и притягательным, и ничего там не было умильного и сопливо бабьего, о чём девушки многие, сестра твоя тоже, Мария, думают как об угодном мужескому вниманию, нет: в это время, Марфа, ты не заботилась о том, чтобы показаться или показать, и, на это несмотря, была прекрасна в восхищенности своей не мною, а кем-то, и я не благодарил этого незнакомца, хотя быть может, и надо было бы, но и не хулил его ни прилюдно, ни перед тобой, ни в себе, а глядел на тебя тогда, но видения такие с тобой не связывал, как и чудный пейзаж на картине не узнаётся, если на той же поляне с друзьями решились в палатках дней несколько провести, и себе видения эти не приписывал, потому как себя не ощущал никак в миги оные, выпадал будто бы из всего, и раскололась ревность моя на меня и меня, но в осколках тех себя уже не нашёл я совсем;
и для других теперь твоё собственное будет зваться самоуничтожением, оно и есть то единственное слово, которое следует оставить, запомни его, будет одно оно аусвайсом тебе насквозь них проводящим, другие станут прозрачными от него, а тебя оно от них избавит, и да не станет для тебя весеннего слово это чем-то большим, чем обман, молчи и лишь когда слово будут с тебя спрашивать, говори именно это, ведь им всё равно что ты скажешь, они давно не слышат, они никогда не слышали, они никогда не услышат, но чуткость их не ведает предела, Андрей, никаких границ нет для их проницательности, если ты на слова перестанешь полагаться, слова не важны, но очень важна им податливость твоя к обману, словесами навеваемому и от слов любых исходящая, а тогда проведать придётся нешуточно: каково это, когда людям нет дела до тебя в том, как ты хотел бы, и как слова приучают ждать, и когда людям назойливое дело до тебя спать не даёт, даже случайнейшим из них, и в первую очередь именно им, потому как ближайшие твои давно не слышат тебя и не видят тебя, и дело до тебя тараканом заведётся и осой кружить будет жалящей, захотят извести тебя вскоре, но не делай вида, будто ты с ними заодно и жить стараешься впредь им подобно: в этом они тебе никогда не поверят, и слова твои такие не обманут их, а потому запомни пароль, и будь готов произносить его им вновь и вновь, в лица родные и близкие, далёкие и незнакомые вовсе, только это слово гранатой бросай и уходи в тень молчания своего, навес коего опасен и дрожать от взрывов будет, и спасаться от взрыва, манить будет лживым спасением в болтовне толка любого, остерегись, и запомни: самоуничтожение, и больше для них ни слова, а для Господа, не беспокойся, Господу душа твоя и так книгой предстаёт, и тем читать её лучше, чем меньше будешь сам ты говорить всякое, ведь книг дело не говорить, а молчать, только так они своё сказывать способны сокровеннейшее, тогда только, когда слов никаких не звучит, и хотя из слов книга, но говорит только в немотствовании своём и в онемелости окружающих, будь и ты книгой отныне, страницы её будут исписаны письменами никому не ведомыми, и тебе тоже неведомыми, а на обложке одно слово, которое прочесть каждый осилит: самоуничтожение, и даже картинки не надо никакой, картинки на книге души твоей не следует вытатуировывать и подавно;
но я пытался, и ты знаешь это не хуже меня и никто более не ведает о том, пытался быть искренним в своих помыслах не перед собой только, но и перед Марфой, да и не было бы никакой возможности свои помыслы тайные и влечения несказанные на свет пред очами собственными вытаскивать, ежели бы не желание до Марфы донести их в миги искренности устраиваемой, но потерпел неудачу я в деле этом: как только помысел высказывался подлинный, таким жалким и тщедушным представал он, в слова облачённый, не хотел признавать в нём уже я своего, и не верилось нисколько мне, будто мне он принадлежал только что, и вообще единородным был когда-то, и самое неприятное для меня в том состояло, что помысел этот в словах чуждым и неродным был, а внутри прежнее действие продолжал оказывать, будто и не было ничего; к примеру вот приглянулась мне Мария, и я не говорю Марфе о том, но в присутствии Марии живее становлюсь к радости общей, а как выпадет желание открыться и противно тогда станет от всего, будто преступное что замыслил, будто скверное что правит и ты скрываешь правление ото всех это, и перед Марфой замалчиваешь, но ведь любишь её, и потому надо бы скверну выложить перед ней, и вроде даже не скверна это никакая, радость всем приносит, пока правит скрытно, почему же должна горечь нести при раскрытии своём, стану говорить я к ней так: нравится сестра мне твоя, Марфа, и Марфа, цену искренности со мною разделяя даже, не обижается на слова мои, в смуту ревности душу не сразу ввергает, а переспросит лишь: значит, нравится тебе Мария, и уже в таких вот моих словах, но из её уст звучащих, начинаю не узнавать того, говорил что только вот, но желаю путь до конца пройти: да, нравится; и Марфа ничего-ничего, кроме: понятно, не говорит, но слышали бы небеса это её: понятно, будто приговор звучит оно для меня тогда, и не в том дело, что Марфа зло говорит или ядовито, нет, но мне, мне это так именно перед самим собой слышится;
и тогда спрашиваешь Марфу: что именно понятно тебе, Марфа, а далее какие угодно слова следовать могут, кроме имеемого тобою в виду, или просто слова эти же повторит она, ей сказанные, будто конфету леденцовую разгрызает и зубами кусочки её переламывает, и может в этом скрежете, под повторение обычное звучащее подстроенным, быть всякое: значит с Марией хочешь переспать, и: значит меня теперь не любишь уже и никогда не любил, а её любил, и: я так и знала, и вздох простой, но тяжёлый каменно, и атланту, к лёгкости, от искренности получаемой якобы готовому, с тяжестью этого вздоха атланту никакому не под силу управиться, и ты не можешь управиться тем более, что иное в виду имел, да слов иных, кроме сказанных не бывает, а ежели бывают, так тебе не доступны они вовсе, и так вот эти неудачные подбирал столь тщательно и момент выгадывал подходящий, а здесь такое разыгрывается нечестное, будто подлавливали тебя со стороны Марфы в момент самой что ни на есть беззащитности твоей, и ведь правда Мария симпатична тебе, но спать с ней цели нет вроде, с уст когда Марфиных, но знаешь сам: если бы случай подвернулся, а он ведь подвернулся-таки, если бы подвернулся, то и переспал бы, но не так, чтобы об этом Марфа тебе в отчуждении теперь говорила, и разлюбить Марфу цели не было, чтобы влюбиться в Марию, и не было цели Марфу обидеть, напротив: раскрыться хотелось и светом поделиться подлинным, который тебя вечер весь согревал, но вместо того обида застилать глаза начинает за всё: за тебя, что хотел такого, за неё, что не поняла, чего хотел, и за глупость наступающую тут же ситуацией неразрешимой, и руки опускаешь в бессилии полном, и про себя говоришь, а иногда и вслух говоришь: никогда больше не буду искренним, и никогда больше не буду желать непозволенного, и будет настроение у всех от меня такого пакостным, хотели чистоты, держите её, хотели искренности, получайте, говоришь так, и сам себе веришь на миг лишь, потому что не прикажешь себе запретить манящее подмечать, как бы ни любил кого, как бы ни хотел;
и тогда говорю я себе вслух: не то имею я в виду, что говоришь ты, Марфа, теперь, а Марфа в ответ давит ненамеренно пока: я ничего не говорю своего, слова твои были изначально, ты сказал; всё равно не то, отвечаю; а как же мне понять тебя, скажи иначе, Марфа спрашивает с меня, и даже без подоплеки всяческой спрашивает, сама понять меня желает, и я понять желаю себя ещё ретивее, чем когда к говорению приступился, но нет слов иных, говорю, у меня, а Марфа не верит мне: не бывает такого, слов чтоб иных не было, слов очень много, тебе их никогда все не пересказать, и тогда я замолкаю в бессилии, и ни на Марфу, ни на Марию в вечер тот более взглянуть не в силах, и о себе думать не могу, убегаю в гости к Бруту, он мне друг, хотя и не понимает случилось что, а я и сам говорить не могу, и не хочу, а хотел не смог бы, смог бы Марфе сказал лучше, да и что говорить здесь, кроме слова одного: Мария, а как обставить его, в какую оправу одеть слов иных, дабы ото всех Марфиных значит избавление обрести, и самому себя выслушать без отвращения и с приятием должным, намерениям соответствующим собственным, с коими в себе несказанное вынашивал и доволен был доселе, но не годится слово Мария без оправы, слишком оно голое и незначительное, и с тем вместе значимее всего остального сказать что желал и сделать что намеревался в вечер этот, но не всегда и насовсем, а теперь и тут, но следует отказаться от слова, оно будто мост в вечность для Марфы, и если Мария, то Мария навсегда и ранее и впредь, слово будто теперь и тут только не может звучать и гибнуть, и правдой при этом оставаться этих теперь и тут разных, и не в точности слова дела, Мария точное слово, точнее некуда, а в том беда, Марфа что держится за слова, настолько верит в них, что я, перед ней присутствующий во плоти и душу обнажающий со всеми недостатками её, натиска слов выдержать собственных не могу, становлюсь ничтожным, и даже исчезаю будто вовсе, будто слово навсегда слово, и душа в сокровенном своём не может скверной полниться, а непременно светом божественным осиянна быть должна в стерильности какой, однако не к здоровым же пришёл я в мир сей, но к больным;
преступным себе предстаёшь ты, Андрей, вдвойне и более: оттого что желаешь чего-то похотливого, и невозмутимость выказать, хорошо когда тебе, и в слова обрядить точные, против тебя же всё и обёртывается, и негодяем предстаёшь перед собой тогда ты, запутался который в показаниях, и из ловца лёгкого и сильного преображаешься в зверя забитого и в угол загнанного, и Марфе тебя жаль становится даже, и ещё хуже тебе оттого: не ты ли только что в настроении приподнятом о сестре её помышлял, саму Марфу при том из помыслов своих не выпуская, душа от влюблённости раскрывается другим навстречу угоднее и многих впускает в себя, а теперь будто тебя на воду чистую выволокли мерзкого, илистого и чёрного, и ничего-то ты не можешь и не хочешь вовсе, да и как такой как ты мог посметь даже захотеть чего-то, ты же смешон, Андрей, нет, того быть не может, а что теперь жалкий и тогда весёлый, оба взаправду были, нет, о том ни ты, ни Марфа не вспомнят из привязанности вашей обоюдной, а не её одной, к словам лживым и в смуту вводящим псевдовечностью, архивечностью своей, наоборот, полагаете вы оба теперь, будто весёлый и желающий и желанный тёмен, илист и гниль, и неправда в нём всё, кроме мерзостности его назойливой, а вот этот вот, жалкий и бессильный и преступный, растерявшийся и есть настоящий самый, и только он с жалким тем уживаться может повсеместно, и всё это перед Марфой, которая о себе ничего ведь порочащего не говорит, могло что против неё обернуться бы, как с тобой только что вышло, и тогда ангелом она чистым предстаёт как ни на есть, святой и невинной, а ты оттого ещё мерзостнее делаешься, и ненавидеть начинаешь свет такой вот неподставляемый, незастилаемый и пронизывающе выжигающий нутро твоё в миг откровенности твоей предельной, и вообще свет всякий ненавидеть, и обиду на свет таить, и ни слова, ни одного слова ни о каких ангелах не слышать чтобы впредь, будто сам Господь тебя отринул в момент оный;
и так таил обиду в сердце своём, и руководство её признавая над делами своими, легко к разоблачению склонял всех окрест, себя во всём этом кошмаре распознать не в силах, обвинял всех и в чистоте неподлинной, люди не ангелы и ангелов попросту не бывает, и со мною рядом никому ангелом не бывать и не случиться по недосмотру моему даже, и в чистоте подлинной обвинял, когда упирался в спокойствие светлое души соседней, коего в своей допустить никак не мог, ежели и захотел бы даже, и было так до пор тех, пока на Марфу не излил я вспять всё это ангеловедение удобное и тщательно на иных отрепетированное, хотя Марфа и была причиной подлинной науки моей странной появления, но вернулось ей всё позже остальных, хотя вернулось больше и злее от меня, на иных я репетировал можно сказать, а ей премьеру устроил самую что ни на есть настоящую, и даже при зрителях, Мария тогда присутствовала не в желаниях моих тайных, а в квартире их с Марфой назойливо въяве плотью своей, столь с Марфой схожая поразительно, сколь ужасающим становится любое различие меж ними малейшее и бездну являет, в которую не могущий сказать чего он хочет, упасть запросто и безвозвратно способен, и когда прежде я на других при Марфе обвинения свои в ангелоподобии подлинном и ангелоподобии лживом осыпал даже не огненным, но уже пепельным гневом своим, то на деле до других дела не было мне никакого, но её имел я в виду всегда, Марфу, и она будто специально этого не понимала, когда я злился от одного присутствия её, ничего супротив неё не имея, кроме того, что она сейчас и здесь рядом пребывает, то других разоблачать принимался, её оберегая будто от себя же в душе своей, в мыслях боясь ей вред причинить. но намерению следуя причинить-таки его во что бы то ни стало, то в мыслях моих было, а теперь понятно, как на деле себя изводил я всем этим, за неё её же решая, и с собой дела иметь опасаясь, но отныне не хочу ни за кого ничего придумывать, пусть каждый за себя решает, ибо мои решения за других мне во вред и им не на пользу, каждый в любом случае поступит с моими предостережениями и моими заботами, из коих я замков и крепостей меня не защищающих, но заживо мурующих, навозводил, каждый поступит с этим вот всем не считаясь, и правильно сделает, покуда иначе не может, и не надо;
но однажды обрушил ты на Марфу свою всё, чему научился, других разоблачая, и не могло было быть поражения для тебя в беседе той молниемётной и туманосеющей, Марфа никогда не выказывала желаний твоим подобных, и отсюда её ангелоподобность ты вывел, и само слово ангел произвольно схватил, само собой подвернулось вроде бы, о природе ангельской не помышляя, коя в посланничестве исключительно и состоит, а не в чистоте, хотя чистота в иных случаях посланием быть может сильнейшим, известием людям необходимейшим, и не полагал ты, в мыслях своих того, как ангелы бессильны, передавая весть, сами в неё придумать что-либо, а потому на ангела сетовать нет смысла малейшего, лишь на весть можно, ангелом переданную, однако ангелу до того дела нет уже, он может сочувствовать, а может и нет, это его ангельское дело, всё равно как на ведущего новостей сваливать катастрофы, им сообщаемые, но если ведущий может и умолчать, и другою вестью сменить весть тяжёлую, как прежде и ныне ещё часто делают недобросовестные журналисты, то ангел не имеет иной вести, кроме вручённой ему, и за чистотой, ежели ангел являет её, нет ничего, разоблачению подлежащего, это дар или проклятие, но от всего сердца что называется, и ни одной задней мысли здесь не имеется, тем более у Господа, на счёт твой за посланием таким, и ещё не подумал о том ты, что ежели ангел не с небес, а средь людей пророчески назначен был, то человеку этому страдательно непременно в посланничестве таковом пребывать должно в случае любом, и рад он изменить что-либо в миссии своей, да не может, и если даже миссия власть даёт безграничную передающему её, и радость несет безразборную имущим и обездоленным, ангелу мучительно это не менее вестей судострашных и жизни ангела самого угрожающих, гнетёт человека не содержание вести, которое не ему принадлежит, но Господу: невозможность отказаться от несения её и заняться любой другой глупостью, лишь бы другой, вот что мучительнее разрушений и прочих бед, случающихся с человеками повсеместно, невозможность быть иначе, будучи уже: вот ужас ангела подлинный, коего тебе не вместить никогда, Андрей, прежде лишением свободы именуемый, не тюремное заключение тела твоего во дне сегодняшнем, а Господом в суть твою без ведома в вечности подмешанное назначение, и как же странно Марфе это высказывать было, будто она сама от себя такой по ночам не мучается нисколько, думал ли ты об этом, Андрей, в вечер тот и после и до него, скажи мне, думал или нет;
нет, не помышлял я о том, и о том не думал, ангела что себе придумал сподручного, сильнее лишь бы стать за счёт выдумки своей, и это сошло бы мне с рук, ежели ангелов не было бы на деле, и Господь исчез или погиб, или просто скончался, однако придумав себе ангела карманного, я и Господа сотворил тайком от себя удобного и глупого, не помышляя о том, как отдал себя во власть сил неведомых тут же, но тогда иное меня преследовало и к гонениям душу подвигало непрестанным: Марфу разоблачить и обвинить, сделать ей больно через уличение в ангелоподобии, однако она, ожиданиям моим вопреки, не возражала нисколько, как это другие делали, она даже попыток к тому не совершала, чем более гнев мой и сарказм мой и мраки души моей подпитывала, и ни слова не произносила, и я требовал с неё ответов настойчиво, будто ранее требовал признания обоюдного и примиряющего в помыслах преступных похотливых, и как тогда какие-то слова о лос-анджелесских бассейнах и машинах с верхами открытыми и с садовниками отцеподобными всерьёз за желания тайные не воспринимал, но лишь за воображения игру пустую супротив моих настоящих признаний, так и теперь не принимал её молчания за ответ или отсутствие такового, и лишь раз спросила меня она, почему обвинения излагая ей, я не согласен на ответ её честный в молчании заключённый, какой она через молчание и даёт, а ещё и жду от неё ответа, мной уже заранее припасённого на обвинение, мной же заранее вынесенное и лишь ныне предъявляемое, надо бы масштабы низости своей было охватить мне тогда с высоты полёта птичьего, но я и этого не сделал, а лишь более распалялся до тех пор, пока она мне просто не сказала, как к ней во сне ангелы являются во времена последние, и ничуть эти ангелы не похожи на моих, о коих я ныне толкую и в родстве с которыми, и псевдородстве с которыми всех подряд подозреваю, и её вот ныне черед наступил, нет, ты не в очереди, но первейшая, сказал я себе так тогда, а ей не сказал, но лишь спросил с недоумением некоторым: при чём здесь ангелы твои ночные, неужели не понимаешь ты, не в ангелах дело, ангел это слово лишь, а слово звук пустой и не более, она мне в ответ: это потому как ты их не видел, а я видела, и не чистые они и не нечистые, а вообще дело в другом с ангелами этими;
и не подумал ты тогда, Андрей, как наоборот всё на деле обстоит, и как ты частью дела этого, искажённый и ущербный, но подлинно весьма являешься, ангел это слово, и слово это подлиннее того, настоящим что ты называл перед Марфой в вечер тот, каких-то отношений ваших, которые ты выяснял тогда и не выяснил, эти отношения перед ангелами Господними и ликом Его слова и не более, но и здесь без слов не обойтись, и приходилось тебе слова на слова наваливать, и когда разоблачал, и когда обвинял, и в любви когда признавался, и ни разу не помыслил о том, как слова эти свои за мир принимаешь и будто на существующее что-то на них полагаешься, в то же время как настоящее и редкое, Господь, ангелы, за всего лишь слова почитаешь, отказывая им во всём, но теперь, теперь-то ты знаешь оборотничество это своё, и на вопрос Марфы, когда она спросила: если ангелы не при чём, зачем ты о них тогда вообще говоришь, тебе теперь есть за что покаяться и смирение и стыд и смущение испытать, и не перед Марфой даже, но пред собой и пред небом этим, и ты мог бы сказать нам честно: дело не в ангелах, потому как ангелы это лишь мой повод придраться к тебе, Марфа, за то, что я желания некоторые тая, и питаясь ими, не могу их сам выразить образом достойным нашего с тобой приятия оных, а посему вижу как наше с тобой всё к концу неминуемому близится, а я не хочу этого, но сам это приближаю, ибо кажется мне, будто это мелочь: слова для желаемого подыскать в миги искренние, и такая это мелочь, из-за коей отношения разрывать глупо, ведь отношения не слова, а что-то существеннее, но ничего поделать не могу я с этим, из-за слов отсутствия существенное всё разрывается и распадается само собой, ежели через слов пелену, преступность лишь мою являющих, не сможешь другого усмотреть и принять, настоящего и против тебя не направляемого, ведь когда к Марии тянулся ты, Андрей, рядом с Марфой будучи, не желал ты перемены, вследствие коей сидел бы ты с Марией рядом и к Марфе тянулся, а чего-то иного желал, но не смог выразить этого в мере должной и понят в недолжной был, и Марфой, и Марией, и собой самим, но и теперь выразить не в силах, когда закончилось всё, зато знаешь уже вполне: слова не всего лишь слова и всё, а слова всё и есть, и через них не продирающийся, плоть свою в кровь разорвёт, и язык и живот поразит, а со словами-то ничего не случится, хоть это тебе ведомо ныне;
теперь вполне, а тогда Марфа стала мне долго говорить: каких ангелов она видела, и о чём они ей говорили или молчали они ей о чём, как тщательно пытался припомнить я после этого слова те её, и о том как она отцу Георгию не решается всё поведать, потому как выдумкой это всё полагает своей, а не вестью Господней, и если уж она во всём этом сомневалась сама, то я, я-то точно ведал для себя в тот миг, ничуть не сомневаясь в ведении своём заблудшем: выдумка это всё и не более, и даже решать здесь нечего, но посоветовал рассказать всё этому её отцу Георгию, ибо полагал все эти вещи увлечениями детскими, женскими и стариковскими, и коли сказка какая в душу запала и не уходит до навязчивости упорной, то сказочникам её и следует вверять, священникам всяческим, и серьёзно это ей советовал оттого лишь, что она сама к этому серьёзно относится, и не хотелось на споры об этом теперь отвлекаться, не мог её серьёзное за своё принять, а того от неё в отношения себя требовал, и у меня такая ангелология разворачивалась самобытная тогда, и теперь-то ведаю я с определённостью всею, если и не о правоте Марфиной тогда, то уж о неправоте собственной точно, ибо сотворил себе кумира из ангелов несущих, демонов как есть, и Господа, не бывшего Создателем всего и бесславного, дабы себя выгородить через разоблачение не своё, а не через смирение своё, но других к смирению неуполномочено призывал недостойному;
но ныне, Андрей, готов ли ты признать всё это в происшедшем с тобой не разобравшись хотя, но никто не ведает бывшего, в глазах Господних в прошлое никогда не убывающее, но всегда и впредь и с начала времён случающееся вновь и вновь непрестанно, ты ныне готов уже к смиренному отказу суд выносить над другими, и слова усмирить непокорные через незаслуженное умаление их, аккуратен теперь к говоримому и замышляемому ты, слова не условностью полагая, но дань давая им заслуженную через неупоминание суетное, ибо душу они твою формируют, воли твоей супротив, и благие слова благо дарят душе, злые слова искажают её зло намерениями скверными и делают из неё себя не переносящую, и нет гнева уже, и удивления нет, мстительность таящего, на Марфы отпускание во мрак невозвратный, ни ты его напустил и не она, и никто не в силах, Господа кроме, ибо волос ни один не падает с головы любой, если вознамерится к тому воли Его супротив; от слов отказываясь любых, душу великой свою открываешь негаданно, и ведаешь теперь: как всё может случиться из того, случиться что не могло бы никогда, и Марфы уход не плата за прелюбодеяние твоё с сестрой её Марией в вечер тот же совершённое, ибо Господь не аптекарь и вину твою через прощение непременно воспринимает, лишь бы душа твоя велика для прощения сама стала, а иначе сам себя и ближних твоих тиранить напрасно будешь, и у любви твоей с обличьем Марфиным сроки свои, ни от тебя, ни от Марфы не зависящие, и Господа благодари лишь за то, случилось что это, ибо могло и не быть этого, а другое было бы или даже ничего не было бы, ан нет: стало всему вопреки, и это чудо подлинное, однако пресытился человек до тех пор, чуда ему мало в случающемся и случиться не могущем, за чудо непременно воспринимать желает могущее случиться и не случающееся, впрочем ты ещё не закончил слов своих о вечере том, не так ли;
да, не закончил, но прежде сказать должен: если ранее полагал я, будто расстался с Марфой раньше срока и не вовремя всё случилось, нас разорвавшее, то ныне знаю точно: Марфа и я ещё и не встретились даже, а если так, то былого меж нами для встречи грядущей и намеченной более чем достаточно, и за это я, конечно же, благодарен, а вечера того касательно упомяну лишь разговора нашего окончание и Марии роль в продолжении оного, ведь беседа наша с Марфой до сих пор ещё не закончилась, а только ещё грядет, и уверенно сознавая неотвратимость её в наступающем, готов ждать долго и беспечно весьма, и благодарить за прелюдию, разыгранную, оркестру случающегося: спасибо приносить день каждый жизни своей предуготовительной, и не более, но если бы я тогда знал в какое смутилище помещу душу свою и тело своё же в тот вечер, оказавшимся небесприятным, а после него, и вплоть до расставания с Марфой первого, будто намеренно мы жизнь свою доводим до такой невыносимости сами, дабы затем вздохнуть с тяжёлым и не радующим никого облегчением, вместо того, чтобы расставание со спокойствием и радостью воспринимать научиться, ибо встречаться мы научаемся легко и умеем изрядно, а вот каждый раз строим себе вечность без расставаний впереди, и расстаемся всякий раз, глаза сожмурив в страхе горестей прощальных, и на следующий раз снова вид делаем, будто снова навсегда встретились, но теперь каждый миг встречи следует приятственно вспринимать через расставание для него желанное не менее, чем встречу, и то и другое радости исполнено свершающегося щедрого, если бы ведал тогда я об этом, и никто ведь не сказал ничего, умолчание на этот счёт повсеместное распространено, будто заговор воли собственной супротив людьми разворачивается повсеместно, им же во вред;
но если ты не желаешь к вечеру тому возвращаться, а лишь около блуждаешь в нерешительности понятной, помогу я тебе сам, Андрей, а ты меня в том поддержишь, не так ли; и ты стал лицо её стирать, как назвал это в прежних беседах наших, а я понимаю это так: когда говорила Марфа в тот вечер об ангелах своих всерьёз, в то время тебя же ангелы не настоящие, но придуманные интересовали лишь, да и те не интересовали по-настоящему, вызывали слова эти её раздражение твоё, недоумение за коим следовало, растерялся ты и лицо тебе Марфино в глазах твоих назойливым казаться стало, и чрезмерно присутствующим до неприятия, и уже не как прежде прекрасной становилось оно во взгляде этом твоём, но напротив, кислотой будто стирал ты красоту всю с неё, прежде тебя так восхищавшую, и больно тогда ещё не было тебе от этого стирания, покуда полагал наивно ты в момент тот, будто мысли простые это, обыденно в числе прочих мятежничают там себе и развлекаются, и не более, и к Марфе отношения не имеют никакого, покуда лицо её остаётся прежним и ничего любой взгляд твой сотворить с оным не в силах, но уже тогда странным это всё казалось тебе, и стал ты себя одёргивать, чуя весомость неземную опасений этих, в общем-то, чудных, и всё более преступным себе казался через меры всякой, а затем;
а затем будто щёлкнуло что-то в небе, и либо это было в области затылочной и не иначе, либо со стороны стола, который за спиной Марфиной располагался, и за которым Мария находилась в момент оный, и стал я лица Марфы различной на то, предо мной которое, примерять скоро-скоро, либо же, напротив, с того лица, предо мной которое об ангелах вещало вещих и во сне являющихся, стал я будто маску за маской времён прежних наших совместных сдирать, будто искал чего-то важного, какого-то любимейшего из лиц её, но чем дольше я делал это, тем быстрее я делал это, и не заметил как от поиска отказался всякого, стягивал и рвал, отклеивал и выдирал с мясом нежности обоюдной, так, что боль не Марфе, словами своими увлечённой, передавалась, ей будто ничего, но хуже ещё себе делал и не чуял себя вовсе, а рядом уже исчезали, не смогущие никогда впредь вернуться на место лица разных Марф моих, хотя я полагал, как верно заметили вы, будто эти лица, мною с неё сдираемые, никуда с неё не денутся и ей как принадлежали, так и будут далее, и всё это лишь причуда моя мгновенная и того не более, будто сейчас всё отойдёт и на местах своих по-прежнему воцарится, будто не было ничего, но теперь я познал необратимость причуды сей: исчезали, доставляя мне даже удовольствие от гибели этой непонарошечной, все мои Марфы, одна за одной;
позволь продолжить мне называние лиц Марф этих: Марфа, увиденная тобою впервые, погружённая в думы свои отстранённые от вокруг происходящего и которую только ты будто один видел, а более никто; Марфа, встреченная второй раз, в подружковых шутках и смешках пустяшных бабочкой лёгкой порхающая, будто не было у неё никогда прежде и быть не могло погружённости никакой тяжкой, но ты знал уже: имеется таковая и манит тебя тайностью своею, тайна в том была великая, ибо твоя только, и вот лицо Марфы таинственной сброшено тобою уже взглядом твоим, действом такого рода непривычного завороженным, и с этими тайнами, которыми делились друг с другом вы, исчезло и совершенно никчёмным делалось всё сердцу дорогое, лишь тебя с Марфой единящее и никому третьему из рода человеческого неведомое; шутки посыпались под ноги с лицом Марфы родной сорванным и неуместным оказавшимся, шутки и нежности, родившиеся за долгое время, и крепшие меж вами как дети родные; и привыкшие к вам и вы к ним привыкшие, тайные знаки, коими обменивались меж собой в людей чужих присутствии, и которые делали заговорщиками вас всего мира супротив, а ныне, прибегни к ним ты, оказались бы они отвратительно неуместными; и Марфы лицо страстное, глаза коего прикрыты и лоб хмурится будто, но на деле хмурость эта радовала тебя, и удовольствие доставляла, и гордость тщеславную мужескую питала, ибо являлась тебе в миги самые что ни на есть экстазные; и Марфы плачущей лицо, среди прочих лиц её исчезло, стёрлось, распылилось, хотя и редко видел его, а теперь вон, явилось со всеми прочими наряду, сгинуть дабы тут же, и летело оно поверх первых опавших: Марфы злившейся, Марфы ревнующей, Марфы раздосадованной, Марфы стыдящейся, и предстал пред тобой облик в итоге истёршийся, на который с недоумением взирать можно было лишь;
верно, хотя и остановился бы я на Марфы оргазмической лице сейчас, события воспроизводя, покуда тогда на ней я дольше всего задержал внимание своё, меньше даже Марфе родной внимания уделив, напротив, родную отбросил сразу же и даже глядеть не мог, ибо больно было неимоверно и лучше закидать её чем-то худшим и холодным, а на этой задержался, прежде чем стереть, и хотя много ещё мною Марф не упомянуто здесь, в том нет недочёта моего, покуда я сам их, хотя и сбрасывал с лица её ангеловещающего, и дивился числу тому великому, но назвать не смог бы многое из тогда вмиг облетевшего и отринутого, и теперь не смогу, особенно когда исчезло это всё в вечер тот неосторожный, и теперь бывает явится из ниоткуда лицо такое из числа сброшенных мною с неё, и обстоятельства все вживе предоставит, его порождению способствующие, и поначалу меланхолически улыбался лицу этому я, а ныне нет, спокойно отстраняю призраков подобных, и прочь гоню их, даже без злобы и без досады даже, ибо ни тёпл, ни горяч стал в их отношении я, будто инвалида безрукого донимает желание руку отсутствующую почесать или приснится даже, будто рука у него не то что есть ещё, а наново выросла, досадно и не более того, и Марфа к образам этим отношения никакого не имеет уже, хотя тогда остались лишь слова её, когда лица стёр я, и не ведал от кого слышу их, ибо ни одной из Марф, только что мной развенчанных, не принадлежали они и принадлежать не в силах были, и Марфу придуманную за время долгого знакомства нашего к говорящей не подобрав, отказался я воспринимать слова её вовсе, а то, Марфу что подлинную я не знаю вовсе или словами этими она передавала волю не собственную, себе даже вопреки, не ведал я тогда, хотя и был момент страха неимоверного, когда осознал: находится предо мною кто неизвестно совсем или даже что неизвестное вовсе, а я столько раз целовал это, проникал в это, гладил это и спал подле этого, тогда дивиться оставалось беспечности своей прежней, а нынешнему спасаться подальше от лица этого неведомого и ничьего, и никому не принадлежащего никогда, так мне явилось всё в вечер тот;
и в пустоту лица её, тобой открытую, и из пустот прежде сотканного, в ныне распущённом лице её усмотрел ты лицо иное, и было лицо то Марии лицом, и спастись решил ты в Марии лице в момент тот, и не потому как испытывал к ней тягу необходимейшую, но потому более, что присутствовала она рядом и сразу сообщником стала твоим, в общение не вступая даже, и поэтому может быть легче из неё сообщника тебе изобресть было, рядом она была и слышала это всё, свидетельствовала Мария беседе твоей с Марфой об ангелах, и показалось тебе тогда, будто она усмехнулась на слова сестры своей об ангелах, на деле же прикурила она лишь, но щелчок этот зажигалки воспринят был тобою как усмешка, хотя лица Марии ты ещё не видел, ибо не глядел на неё вовсе, а лицо Марфы ты уже не видел, ибо выглядел из неё к тому мигу все лица памятованию и разумению твоему доступные, и щелчок зажигалки этот со стороны вывел тебя из этого танца, призраков множащего, и сказал будто: эй, имеется нормальная жизнь рядом совсем, без наваждений этих твоих и Марфиных ангелов всяких дурацких, и будто воочию услышал ты призыв этот, хотя на деле всего-то зажигалка щёлкнула, а для тебя и призыв в ней к Марии, и усмешка Марии сообщническая, делающая происходящее с тобой и важное таким случайным и внимания недостойным более уделённого, и спасения обетованием простого жизненного сразу в зажигалке той щёлкнуло, и не иначе как волю небес в присутствии Марии закурившей углядел ты, и отныне придумал для себя почему Марфу не видишь ты: потому лишь, Мария что здесь, а Марфа никуда не денется, завтра всё вернётся на круги своя, и не ожидал ты ничего от Марфы уже, а от Марии ожидать начал, так ведь;
так, отец Дмитрий, воистину так и было, но это ещё не всё, и следует мне помянуть о том, к делу что не относится, а моя прихоть то скорее изначальная, прежде даже за порок выдаваемая, а то и сил жизнь продолжить мне дающая во времена безысходностью отягощённые: никогда случающемуся хорошему с тобою не доверять вполне, будто это незаслуженно всё, и тот, с кем тебе ныне хорошо, это ещё не тот, с кем хорошо будет окончательно, из боязни разочарования последующего или страха самораскрытия это, не ведаю ныне и не интересно даже мне, но в ситуациях плохих и тягостных способность та всегда лазейку искать втайне от меня начинает и случающееся неокончательным чуять, помогает мне она, а пользоваться ею так и не приспособился, и никогда сказать не могу наверняка: когда именно от случающегося здесь сбегу; срабатывает это всё помимо ожиданий здоровых, и тогда вот сработало: Мария стала тою, из присутствия лишь одного которой, достаточно было с Марфой и мною происходящее соделать неокончательным, и потому уже скончавшимся сразу же, а также недоверие полноте происходящего и доверчивость необъяснимая ко всему не случившемуся ещё быть может, в случае любом Марфу попросил я беседу нашу завершить и с Марией попрощавшись, вышел тогда в ночь сентябрьскую, на прощание Марфе сообщив лишь, будто не обижаюсь на неё совсем ни за что, и пусть меня тоже простит, обидел коли, а сам про себя повторял: Мария, Мария, Мария, и лицо истёртое до манекена безликого Марфино промаргивал в подъезде ступенями, вниз ведущими, и старался лицом Марии свежим заменить;
но не поехал ты домой тотчас, ни к Бруту твоему в гости дружеские, а вышел на улицу и долго бездумно глядел на машине своей отблески домовых окон, и ничего не думалось тебе вообще, лишь: Мария, Мария, Мария повторяли губы твои беззвучно, и закурил ты тогда, но не ведал как началась смутилища эпоха в днях твоих уже, и поныне даже не завершившаяся, хотя и приятности будут в ней рода телесного, и милые радости душевной безделушки принесёт с собой она в дар тебе, но обратного пути не будет уже тебе к людям, и до встречи нашей полагал ты, дело что в Марфе и в любви к ней незадавшейся, но теперь, отказавшись от слова этого, так редко уместно употребительного, а чаще невместимо навязывающегося и ноги опутывающего, и мысли цементирующего, теперь более всё тебя касающимся предстаёт, и на Марфу вину уже не свалить, и даже тень вины на неё не свалить, ибо не в Марфе дело вообще, ибо и вины никакой нет, а лишь в отсутствии прощения во всём, случающемся с вами обоими, в нежелании отпустить небом дарованное вспять и в пристрастии присвоения всего, не принадлежащего тебе, и принадлежать не то что тебе, а никому из смертных не могущего, не ведал ты о смутилище том и лишь задумчиво в машину сел свою, и привычка эта тебе уже позволила с отцом Георгием почившем свидеться, но это после, а тогда явился тебе гость менее экзотический, нежели священник покойный, но более для тебя именно неожиданный, хотя и весьма ожидаемый тобой, ведь о священнике мёртвом ты подумать не мог, и потому не ждал и ждать не помышлял даже, и это неожиданность рода первого чудесного, а здесь рода иного неожиданность, покуда мы много чего тайно ото всех жаждем, а когда она на деле случается, мы ей пуще вестников со света того поражаемся;
да, время какое-то спустя, не глядел на часы я тогда, но помню точно: маячили каким-то путём в мыслях моих родители Марфы и Марии, и вышла, мыслям моим неожиданно вопреки и в тупик меня четырёхстенный перемещая, Мария, казалось: мимо пройдёт, но уверенно в машину ко мне тут же на место заднее пассажирское села и дверцей хлопнула едва, поехали, говорит мне Мария так, будто мы с ней заранее договорились куда поедем, и будто договорились ещё прежде, именно что с ней поедем, а не я один или с Марфой, манера свойственная ей и ей подобным, будто всё обо всех им заранее понятно и все вокруг в дел их курсе, и так они обо всём помышляют, игра такая нечестная, в одни ворота, в данном случае в мои, конечно, ведь я могу либо согласиться с ней, и сыграть по её правилам, как ей заблагорассудится и во что пожелается, либо, ежели что не так пойдёт, остановит меня, прервёт в момент любой, посмотрит так, остолоп будто я последний самый, скажет что-то вроде: и куда это ты собрался ехать, а в ответ и остаётся что промямлить: ну ты же говорила поехали, вот я и поехал, а она: неужели всерьёз думаешь, будто с таким как ты, куда-нибудь такая как я, поеду, или ещё что из рода такого, а потому и в одни ворота: либо соглашаешься и угождаешь, либо на издевательство нарываешься и насмешку, и лучше уж в случае таком сразу к чёрту игроков таких посылать, но это если только у тебя замыслы собственные имеются, игры, правила и кого ты по оным разыграть вздумаешь, а вечер тот был для меня неиграбельным, хотел я быть ею разыгранным, хоть кем-то разыгранным, а потому поддался, насмешек не опасаясь, что мне насмешки её, ещё одной больше или меньше на фоне ангелов Марфиных и ссоры нашей, на фоне лица Марфиного из души стирания, и потому Мария понимать должна была: не удастся из меня мышонка сделать сегодня, кошкой обернувшись, и сама, стало быть, на риск шла, вот это оценил я, и то, что терять нечего, а лишь интереснее будет что впереди, и ответил ей: поехали, мотор завёл машины и мы тронулись;
подожди, Андрей, признаёшь ли ты теперь то, что осознавал слова Марии во всей неправдивости их, или как сказал сам: игра это, и того не более, и как поехавши с ней, ты неправде поддался;
а вот здесь не соглашусь я с вами впервые, ибо об игре заговорил для того лишь, преимущества Марии подчеркнуть в вечер тот дабы пред моими, и того не более, ибо не ведаю что значит неправда слово в устах ваших теперь, и что правда, ибо играет Мария всегда и везде, и в том правда её и неправда её вместе с тем, и в игры разные весьма, и так играет, к правде что никакой, помимо наигранной или ею же разыгранной, склониться не в силах, и кто с ней чрез меры длительно пообщается, тот либо как она становится в отношении такого безразличия, либо толковать начинает по тому, что вы только что, отец Дмитрий, правдой назвали, но ничего к правде стремящийся о ней не ведает после Марии, кроме того, что Мария лжива и наигранна, и правды в ней не сыскать, однако мне, какое дело мне до этого неправдивого стремления к правде неведомой, если я лицо Марфы стёр с неё, и если Мария неведомым спасителем мне до того, как в машину ещё села, мерещилась вечер целый;
понимаю тебя хорошо, Андрей, и достаточно мне слов этих твоих о наигранностях её, которые, на фоне обезличивания Марфы могут заиграть светом подлинности неведомым, и к себе заманить неподдельно, а потому вы поехали с Марией, куда ехали вы, кстати;
я спросил её об этом: куда едем, кстати, тем самым не только ей подыгрывая, но показывая всем: отдаю душу свою и тело своё в руки твои, Мария, а она, вместо шутки или уверенного ответа какого, плечами, на сиденье заднем сидя, пожимает и говорит едва-едва, голосом тихим, но отрешённым: это тебе решать, ты же за рулём; хорошо, отвечаю ей, и здесь в меня будто все силы ада вселились враз, ведали ли вы, отец Дмитрий, в жизни своей миги окрыления такого подлинного, и не потому даже, что всегда уверенная в себе и недоступная мне прежде Мария сказала теперь так, будто полностью мне со словами этими уже отдалась, здесь, в машине, и обладать телом её отныне лишь деталь техническая и того не более, не потому окрылился я, но ощутил потому что свободу свою полную, и не в виде ненужности, но обрёл свободы понимание в миг самый что ни на есть подходящий, безотчётность перед Марфы присутствием: как раз только что освободившись от него, ради Марии в рабство можно впасть следующее, однако в рабство от Марии я не попал с тех пор и вряд ли попаду, у меня другого рабства достаточно и куда более тягостного, но я от всего избавлюсь с вашей помощью, а тогда почуял: жизнь моя вся-вся собралась вдруг в миг этот вот самый, собралась и на ладонь мне легла, делай со мной, с жизнью твоей, Андрей, всё, чего только пожелаешь, и я ей мысленно: всё-всё, а она будто ответила собранная, меж пальцев выглядывая: всё-всё, и дело какое странное: Мария тоже почти также мне сказала, и будто жизнь моя освободившаяся, и Мария в машине сидящая одно странным образом составляют мне по-прежнему неведомое, и я снова про себя: Мария сказал, и вслух тоже: Мария сказал, и рядом со мною Мария была, о которой подумал и позвал которую:
Мария, сказал я, мы поедем к моему другу вначале, его Брутом зовут, хорошо; а она мне: я же сказала уже, ты здесь сильный, ты мужчина, ты решай; а я и не спрашиваю, отвечаю ей шутя, я констатирую, шутя отвечаю и улыбаюсь, но вижу в зеркале вида заднего: серьёзна Мария небывало, и взгляд её тоже в зеркале мой взгляд тогда поймал, но они не встретились образом ожидаемым, а будто прошёл взгляд её сквозь меня, и не потому как силился во мне глубины какие различить, да различить не сумел, но потому лишь, что вообще ничего взгляд её не искал, и ничего ему не надобно, и я в том числе не надобен, смутился я немного, но лишь немного, какое мне дело до её глаз, можно вообще ей в глаза не смотреть сегодня и, кроме того, мог случайно взгляд таким выйти, когда думает она, будто на неё не смотрят, и к тому же мне жизнь моя полностью возвратилась только что, и от глаз всяческих глядящих различно, ставить её в зависимость обидную не собираюсь, тем более что сделалось мне на миг до жути не по себе, будто в машине не Мария, но Марфа сидит персоной собственной, и хоть я их никогда не спутаю, но они похожими меж собой делаются, ежели нынче обе сзади бы сидели, в сумрак погружённые, и лица их лишь светофорами да фарами машин встречных мгновениями освещались бы, а тут мне вдруг показалось, что обе они здесь, и покуда одну лишь я вижу, то это и Мария, и Марфа, и ни одна из них вообще, а кто-то третья, о которой я доселе не слышал ничего даже и не знаком с которой;
должен теперь вернуться я к вопросу моему прежнему о неправдивости Марии и сказать как неправ был, его задавая, покуда вспомнилось мне, с природою по аналогии, как часто безо всяких к тому оснований происходящее мы удвоить стремимся, сами того не ведая, говорим: натуральная пища, вместо: пища, или: свойственное природе удовольствие говорим, вместо: удовольствие, или: простые радости, вместо: радости, и вроде бы то же самое всё, да не то, ибо вдруг оказывается сплошь всё забито пищей ненатуральной, то есть: не пищей, удовольствиями противоестественными, то есть: страданиями, коих сами страдающие по ошибке лишь таковыми числят, но мы-то знаем, откуда неведомо, как же жестоко они все заблуждаются, и сколько раз Церковь в игру эту неблагородную ввязывалась с удвоениями, когда нечто сиюминутное раскладывать и определять на богоугодное и богопротивное бралась, а после оступалась, спотыкалась и падала, и оглядывалась: никто не увидел, не заметил, но никто решать не в силах вместо Господа что Ему, Господу угодно или противно, и кто так решает, он не просто непосильное берётся исполнить, он ещё и решение Господнее неуместным тем самым делает, и Господа Самого, но о богопротивном вопрос особый встаёт: ежели противное Господу допущено им к бытию своему, то кто же допустил это, впрочем, не хочу ныне в теодицеи свет вмешиваться, на то лишь указать хочу, как Церковь ведёт тогда себя, войну богоугодной объявив или технические средства какие дивола орудием, а когда война кончилась, мира не вернув и жертвами лишь разлагаясь длительно, а технические средства в обиход запросто вошли монастырский так, что и не извлечь их оттуда, из обихода нашего, самого обихода не порушив во всём строе его, тогда Церковь вид делает ребёнка нашкодившего, коему родители понять дали, будто провинность им совершённая, им известна, и то известно также, кто именно совершил оную, но больше ничего родители не говорят и не пожурят даже как следовало бы, а коли пожурили или даже оплеухой наградили в сердцах, ребёнку легче стало бы, но нет, не наказывают, и будто совершённое совершилось, и будто бы не совершилось, лишь знать дают, ничего не следует из знания такого, и тогда ребёнок вид делает, будто не было ничего, а что: наказания ежели не будет, что к вопросу зазря возвращение совершать, так и Церковь об инквизиции и походах в Землю Святую крестовых умалчивает, и о связях постоянных с мелкими власть предержащими людишками умалчивает, и не потому как с неё никто не спрашивает, напротив, в лицо повсеместно тычут людишки ещё более мелкие от непонимания своего, промах любой, даже где не было такого, ещё более ожидает толпа там промахов несовершённых, но совершёнными могущих быть или даже не могущих не быть совершёнными, дабы алчно попрекнуть за них: покайся, говорят тогда, Церковь, будто сами не от неведения своего лишь безгрешны в чём, но Церковь эта ребёнок тот, коему родители на провинность указав, наказывать не стали почему-то, тот ребёнок и есть, и когда другие дети из песочницы оной над ним издеваться начинают и дразнить, зачем ему пред детьми этими ответ держать, ежели о них доподлинно известно как они свои провинности совершают и не такие, но их родители каждый день лупят, и они на день следующий с совестью чистой заново всё вершат, и этот ребёнок тоже был бы рад, если бы его как прочих наказали, но на это наказание лишь собственные родители способны, которые важнее ему всей ребятни окрестной, и совесть окружающих чиста потому лишь, что их наказывают тут же, и решать им ничего не приходится самим, как нашему малышу, ему сложнее, он себе провинность списать не может, и наказания не получает, это к решениям приобщает с детства самого, а остальные лишь критиковать бесконечно готовы то, как другие решения вынуждены собственные принимать, но не поймут другие, решения не принимавшие никогда, что ребенка нашего решительным не мнение их, малодушных, делает, но собственная нужда, им самим неведомая, вот потому в словах окружающих для ребёнка этого не звучит никогда упрёк за живое задевающий, покуда воспринять таковой от равных себе можно лишь, а кто в мире сём Церкви равен быть может, ежели под Господом все ходим, но лишь Церковь, которая в этом хождении преимуществ перед остальными никаких не имеет, лишь она за это всеобщее хождение ответ держать берётся, и говорю всё это не к тому, дабы Церковь оправдать в глазах твоих или в своих, ибо бесполезно оправдывать то, что в оправдании нужду равную всему сущему имеет и не более, но прихода что чает подлинно и воистину Судящего и подлинно и воистину Оправдывающего по Суду Своему, Господа чает прихода Церковь, на землю, пусть явится и осудит всерьёз или простит навеки, а ежели кто позабыл о Его пришествии из людей, в том числе и Церковных, то пусть Он их судит мерой своей, а мы нет, не будем слов таких важных Правда и Неправда различия сами принимать и применять окончательно, не потому как всё условно в мире, Марии мнение такое игривое, а потому лишь, что окончательность подлинно правдивую в руках Господних усматриваем и усматривать впредь собираемся, как бы кто ни было с пути нас сего не совращал, но это даже Господу не под силу: душу, его избравшую и возлюбившую жертвенно, от Себя отринуть, а потому отказ твой, Андрей, от словесных различий правды Марфиной и неправды Марьиной понятен мне весьма, однако теперь об очень важной жути заговорил ты, ибо, различия подобные стирая и в забвение относя, Марию и Марфу в существо тебе неведомое влил ты стиранием и отнесением своими, и оказалось существо это в машине твоей на сиденье заднем в вечер тот памятный;
очень ценю слова эти ваши, отец Дмитрий, и не к месту быть может сказанные, но думается мне вот что: слова обличать на словах можно лишь, но и тогда несомненная польза от них присутствует, ибо историю вам свою ведая в беседах наших, впервые сам её слышать начинаю и тем случаюсь, кто себя впервые через рассказ такой обретает, покуда одно дело случившееся пережить, а это бессловесное дело всегда почти, а иное совсем: дать случиться пережитому, а здесь другой человек надобен уже, хоть кто, простите конечно, собеседник лишь бы, и слова надобны, если уж свидетеля в молчаливом свершении не было, а у меня не было в вечер тот от начала и до конца свидетеля, о чём я уже очень пожалею на обеде у сестёр в день следующий, как не было свидетеля и в тот вечер, когда отца Георгия встретил, ни одной живой души, душа отца Георгия не в счёт, покуда не свидетель он свершающегося, но само свершающееся и есть, и Мария в вечер тот рассказываемый не была свидетелем мне, покуда мы к дому Брута направлялись бесцельно, и лишь одну быть может цель преследуя: сообща уехать, молчали далее, а я от жути своей враз историю сочинил странную, если страшную не сказать, коей сам же удивлялся как тогда, так и ныне дивлюсь, ибо стёрла она грань различия между вымышленным и привычным, не действительным, но привычным именно, покуда мы за действительное лишь привычное и разделяемое всеми принимаем, но и всеми разделяемое тоже по привычке говорим, ибо не спрашивали мы у всех что именно они разделяют, а что целым оставляют и нетронутым, и события дальнейшие показывают: найдутся всегда те, кто самые невероятные фантазии твои с тобой разделит, потому как за единственно возможную действительность давно уже такие же почитает, а ты их дивился и стыдился быть может даже, но в вечер тот я шутя стёр эти все различия всерьёз, свою игру лихорадочно измышляя, если уж мне доводится, освобождение неведомое обезличивающее от Марфы получив, освобождение, о коем я не подозревал даже до обретения его, и если уж мне доводится теперь в игру неведомую Марии, сестры Марфы, сыграть, тогда я свою себе тоже игру сочиню, и сочинил, и будет игра моя далёкой от происходящего на самом деле, так решил я, а потому разочаровать меня она не сможет, и все правила в ней мои от начала и до конца, и риска нет проиграть никакого, а лишь выигрыш за выигрышем, так мне казалось в миг тот, и если бы теперь я мог вернуться в вечер тот, то всё тем же я оставил, но к игре моей лишь серьёзнее бы отнёсся;
всё свершается так, как тому надлежит, Андрей, и если тогда осознания не было, но быть ему суждено, то вот, ныне оно здесь случается, а если быть ему не суждено, то и теперь ни ты, ни я ничего не поймём, но хуже лишь себе сделаем, полагая, будто разобрались в чём; но если к игре твоей вернуться, то началась она с игры света и тени причудливой на лице спутницы твоей в машине находящейся, то на Марию делалась она похожа лицом, будто Мария в машину села, и ты к ней даже так и обратился уже: Мария, мы поедем к моему другу, его Брутом зовут, то на Марфу походила лицом, будто Марфа в машину села, ибо сёстры они близнецы, и хотя ты отличаешь их превосходно, иногда прежде одной супротив другой обладать желая, но сам же говорил перед этим, как стёрлись лица Марфы с Марфы лица в прежней беседе, и как плохо различалось в сумраке машинном лицо Марии, да и что значить могло подобие лица Марии лицу Марфы, ежели потеряло последнее любые черты до того, по коим его можно было бы сравнить с кем угодно, глядел на Марфу и не видел Марфы, а теперь в свете светофора глядел на Марию в зеркало и Марфу усмотрел к ужасу своему, ту самую, которая лица своего лишена, так ведь;
да, когда вы говорите, лучше вижу основания я тогдашние для игры своей взбалмошной, прихотью лишь пустой и забавой вечера грядущего показавшейся, решил я, будто не Мария со мной и не Марфа, но третья, а покуда в ушах моих звучали слова Марфы об ангелах, недоумение лишь у меня вызвавшие, то сказал я себе наверное следующее: со мною сейчас не Мария и не Марфа, но ангел Господень или чёрт диволов едет, и сказал шутя, в мыслях имея Марфу упрекнуть за истории её дурацкие про ангелов всяких, да и себе значимости придать чтобы, и сколько глупостей мы себе говорим каждый день, подумаем и выпускаем в ту самую пустоту, откуда они к нам приходят, а здесь я удержал одну такую глупость и сказал себе уже не: Мария, как прежде, и не: ангел, но: ведьма неведомая, так мне казалось интереснее, любил ведь фильмы всякие страшные и мистические я, и глянул в темноту зеркала вида заднего, и здесь вдруг неожиданно лицо её вдруг осветилось фарами машины встречной, и ни Марии, ни Марфы в лице том я не увидел, зато девушка эта красивая, чем-то сестёр напоминающая, глядела мне теперь прямо в глаза и произнесла: пусть будет так; испугался я и переспросил: что будет так, и хотел Мария имя добавить, но не добавил, ибо играть начал в игру свою, а она говорит: пусть будет так, как ты думаешь обо всём происходящем; и молчит, а я уже не знаю что и думать, но она голосом Марии и манерой Марии добавляет беззаботно: в гости к Бруту так к Бруту, и улыбается так, как Мария улыбается, глазки строит, у меня от сердца отлегло, наваждение спало и решил тогда будто игра эта, мною придуманная только что, будто не Мария со мною и не Марфа, но существо ангелодемоноподобное, в самом деле лишь игра, и чего это я испугался, покуда в салоне Мария находится персоной собственной, глупец, будто знал я тогда, да и теперь ведаю будто, что такое персона собственная Марии или Марфы, и если это игра, думал я, то я в неё и поиграю, к тому же от мысли тягостной меня она отвлечь способна, мысли, что я с сестрой Марии поругавшись, тут же ей с сестрой Марией и изменю, это нехорошо, и потому проще считать и ощущений острых добавляет считание такое, будто здесь со мною что-то третье, демон сидит в обличье женском;
ведьма ты сказал, Андрей, ведьма, хотя для тебя меж ангелом, демоном и ведьмой различий не было и нет пока ещё, но давай уж тем самым как-то будем называть ту, что в машине твоей тогда находилась по правилам, тобой же измышленным, и как ты говорил прежде, правила эти позволяли тебе варьировать три этих слова: когда ты совсем не боялся, ведьмой величал, когда хотел быть грубым, ночью уже, ангелом, а когда интерес терял: демоном, и каждый раз новое слов употребление этих трёх в перечислении своём напоминали тебе об игре твоей, интерес поддерживая, вперёд привлекая заглянуть и как тогда сюжет будет выглядеть происходящего, ежели Мария не Мария; однако во всех этих трёх случаях о Господе не помышлял ты вовсе, и если это ангел, то он действует по воле собственной, а не как посланник, и если это ведьма, то все силы её ей одной и принадлежат, и лишь если это демон, представлял себе смутно диавола роль ты, ибо кино тебя всяческое приучило к мысли, будто где диавол имеется, там и Господь сам собой объявится, и ежели диавол до тебя охоч сделался, значит Господу тоже ты нужен, и в помыслах этих в основном существо, в машине находящееся, полагал ты по воле самостоятельной, существа этого, действующим, но нам надо как-то называть его далее, и ты упомянул ведьма словом первым, согласен ли ты и впредь так её или его именовать;
подумал я, и как говорил в начале самом беседы нашей сегодняшней, первым словам подвёртывающимся пусть психологи доверяются, первое не значит лучшее, и пусть это будет демон лучше, хотя чем лучше не ведаю, быть может тем, что я чаще всего это слово из трёх вышеперечисленных упоминал про себя в вечер тот, может действительно за демоном Господь ближе всего маячит, чем за ведьмой, ангелом же не назову после случившегося ныне эту Марию, пусть демоном будет в игре моей, коей лучше бы тогда не затевал, а ныне всё может быть иначе было бы, и не то, что прежде я в такие игры не играл, в детстве каждый загадывает себе ерунду всякую, дойду до того столба и обойду если вокруг него три раза, то девочка, какая нравится, поглядит на меня и я ей наконец-то тоже понравлюсь, и хоть связи никакой, однако же кружил вокруг столба аккуратно три раза, и даже если девочка на тебя не глянет, чувствуешь так, будто сделал всё, от тебя зависящее, и даже если смотрят на тебя взрослые с улыбкой снисходительной, когда вокруг столба ритуально кружишь бетонного с проводами наверху и фонарём, по вечерам горящим, внимания на взрослых не обратишь, на провода и на фонарь тоже, ибо важным делом занят, до коего никому, кроме тебя и силы этой неведомой дела нет, и часто меж взрослыми и детьми непонимание по поводу этому, взрослые мило улыбаются, покуда дети во власти силы этой подлинно мистической пребывают, а когда взрослее становишься, иначе знаки всякие считываешь, но считываешь, и поэтому то, что демон в машине у меня, забавным мне показалось, ибо в тот миг не верил я, будто по прихоти измышленный знак может силу какую-то иметь, и то уже странно, как прежде доверяешь знакам выдуманным и следуешь им недалеко и не всерьёз, но неуклонно и так, будто реальнее их ничего не было и быть не может, но здесь нисколько не верил в демона своего я, безопасная игра в знаки и в опыт мистический, где надо завсегда не видим, а где не надо блюдем неукоснительно до фанатизма, такая вот чепуха;
зря ты говоришь теперь, будто игры эти в знаки и в совпадения мистические суть детские шалости только, покуда каждый из нас играет в игры такие всю жизнь свою, разве что прячет их глубоко и от себя в очередь первую, кто-то произвольно договаривается играть или ему подсказали, в игру такую, будто Господь существует и дело до игрока имеет какое личное, и в этаком мессианстве внутреннем с тяготами бытовыми легче справляется, полагая, будто Господь Сам ему помогает, и на ближних такой бывает что свысока поглядывает, будто пастырь тайный на овец беззаботных своих, кто-то, напротив, в игру такую играет, будто Господа не существует, и всё знаки выискивает священные, которые ему бы на отсутствие священного показали, и где другие ничего из этого не видят, Господа отрицающее, он с лёгкостью усматривает и про себя говорит: ну-ну, уж я-то знаю как вы, верующие, заблуждаетесь, но знает он точно также, как и мессия незадачливый уверен в избранности своей и проистекающем из неё Господа существовании; нет, Андрей, игры эти совсем не детские, ибо по ним жизни мы строим и смерти получаем, и правят они нами посильнее всех правил смысла здравого, ведь как оно бывает: мессия который для себя уверенно, и другим того не кажущий, на воду всё же не ступит и верой своей гору какую всерьёз двигать не будет, хотя верит в избранность свою доподлинно и безумно, но ведёт себя человеком среди человеков обычным, и лишь в некоторых случаях незначительных, нет-нет, да прорвётся для взгляда, за ним наблюдающим внимательно в поведении его, но кто же ныне внимательно за людьми ближними глядит, нет, полагается, ежели на воду не ступил и в гору не упёрся, то человек нормальный и здоровый в отношении умственном, и всё это вследствие предрассудка великого, будто человек одно что-то есть, либо здравомыслящий, либо безумный, либо верующий, либо атеист, но один человек сразу многое, и многое это в слова человечьи не вмещается, так и ты теперь историю должен говорить либо так, что игра твоя правда, либо так, будто выдумка, а совместить не способен, слова в этом смысле не ограничены, а правила диктуют свои неукоснительно, но и Господь не там обитает, где в него кто-то тайно верит по прихоти своей, но там где нами невмещаемое и словами исключаемое, взаимно, в согласии пребывает неведомом для нас и совмещаться умеет, и лишь Господь ведает условность здравомыслия нашего, когда мы на здравомыслие полагаемся, и мессианства нашего, которому верим, не проявляя оного нисколько, или есть что-то третье, в чём уживается всё это, для нас в последовательности любой к абсурду лишь приводящее, но это третье, никогда нас не отпускающее в играх наших глубинных и всегда тут как тут присутствующее, и есть Господа живого Дух Святой, и ничего больше, впрочем, отвлеклись мы снова от вечера твоего, хотя это и показывает условность слов наших, и кто постичь способен, когда мы о деле говорим: когда думаем, что говорим, или когда отвлекаемся, и есть ли тут вообще дело, которое мы, немощные, постичь силимся, нет, не знаем, кто такое постичь может, а всё же пребывать как-то мы должны, вот и делаем всё как можем, а остальное в руках Господа пребывает, и выпускается из них лишь по усмотрению Его, нам непостижимому;
хотелось бы мне знать, как такому Господу неведомому служить тяжело наверное, но, ладно, не буду беседу нашу отвлекать и в следующий раз мы к этому вернёмся как-нибудь тогда, а я добавлю лишь, что в игру эту, придуманную, всерьёз играть решился, покуда придумал себе безопасность её, и Брута тоже вовлечь в игру, пусть думает, будто Мария просто Мария, а не демон натуральный, а я буду знать правду, и вот мы уже у Брута, я перед тем, дверцу открывая заднюю и демона выпуская, в любезностях напускных расплылся, и Марии это было понятно наверное так, будто я Марфу от себя через любезности эти гоню, и ссору нашу гоню прочь, но мне уже всё равно было, что Мария думает, покуда демон здесь неспроста и я раскрыл его, раскрыл, и он не ведает, будто я ведаю, и слова, им произнесённые: пусть всё будет так, как ты думаешь, Марии приписал, дабы себя обезопасить, а на самом деле демон это, и как это в голове укладывается не ведаю, и верно вы сказали, что такое только Господу совмещение усмотреть под силу, но вот мы у Брута, и тут на лестнице я ещё одну игру затеял, совместную уже, покуда Брут до того Марфу видел один раз всего и от Марии её ни за что бы не отличил, подговорил я Марию, в тот момент не играя, будто она демон или играя, кто ж разберёт, подговорил я её к розыгрышу, дабы лишний раз в сообщники взять и подчеркнуть интимность нашу новую, мол, доверяю тебе беспредельно, подговорил её Марфой назваться, и она вновь повторила слова те свои: пусть всё будет так, как ты думаешь, но уже не отстранённо и жутко, а в свете лампы подъездной произнесла их с блеском каким-то в глазах сверкнувшим авантюрным, и по словам выходило, будто она как есть демон, а по блеску в глазах будто она Мария, легкомысленно и прелестно весёлая, а посему, когда к Бруту зашли, представил я её: знакомься, Брут, знакомься теперь по-настоящему, это Марфа моя, и подмигнул ей, и спросил его: не помешаем ли мы тебе, на что Брут ответил: нет, не помешаете, и видели мы, что он не догадался о розыгрыше нашем с Марией, и видел я, как обвожу пока демона вокруг пальца;
и не пришло тебе в голову тогда, что демон этот в открытую тебе сказал уже два раза, будто помыслы ему твои доподлинно известны:
нет, отец Дмитрий, не пришло мне в голову это, потому как сам этот демон мне в голову пришёл, и не могло прийти в голову то, будто демон этот настоящий, и видите же, какая ерунда на словах выходит меж нами: не пришло в голову, что слова демона подтверждают то, что демон пришёл в голову, потому что воспринимал демона за то, что всего лишь в голову пришло, но это так, к слову, а что касается Брута, обманул я его или нет, в тот момент я сам верил почти в отсутствие у Марфы лица, а вместе с игрой в демона выходило, ежели со мной не Мария, то почему бы существо это Марфой не назвать или вообще как угодно, и у Брута ничего значительного и внимания вашего заслуживающего не случилось, разве что позвал он меня на кухню, когда мы уже вполне распивали выставленное им вино, и спросил там у меня, неужели это и есть моя скромная Марфа, имея в виду наряд её, а ведь и в самом деле, я до момента этого не обращал на это внимания: Мария, одевающаяся и без того достаточно вычурно, успела переодеться, и за время столь малое, пока я вышел из подъезда и в машину сел, не ведаю как успела, но успела, и вышла к машине уже вовсе в таком нескромном виде, ну, знаете, прелести её не то, чтобы взору доступны были напрямую, но любым глазам, глядящим на неё, хватило бы чуть воображения силы, а можно точнее даже выразиться: любой взгляд, не отягощённый намеренной неприязнью, невольно вступал в союз с той толикой фантазии, которая отныне, будто света и тени игрой, Марию делала то доступнейшей из девушек, то, напротив, навсегда удаляла её из вселенной глядящего, и чередование это было столь быстрым, что Бруту казалось одновременным, и удивление у него было вызвано несоответствием расточаемой Марией похотливостью, её отчужденной и согласной на всё податливостью с моими прежними рассказами о Марфе, и особо упомянуть стоит, как Марфу единственный раз Брут видел рядом со мною, и наше знакомство прервалось тогда тем, как Марфа направлялась в церковь, а мы с Брутом не решались за нею туда следовать, каждый по причинам своим: я из недоверия принципиального ко всему, с институцией церковной связанным, а Брут отшутился своим именем языческим, и будто вспыхнет тут же тело его, ежели переступит храма любого единобожного порог, и в раз тот Марфа поглядела на Брута на идиота будто неуместного, а на сей раз Мария, Марфой представленная, казалось мне, была бы не против, ежели мы втроём ночь провести бы собрались образом самым интимным, так и представил как она своё: пусть всё будет так ответила бы, и ведая, насколько реально это нынче, сказал Бруту: да, бывает и такое, две мысли тая: как хорошо, что Марфа настоящая в этом не участвует воистину, и это первая мысль, а также: демон соблазна этот в ночь грядущую будет моим только, и никому более он не достанется, ибо диавол направил его ко мне, именно ко мне в машину, а не к Бруту, а посему и плоды греха святотатственного мне в усладу лишь и предназначаются;
хотелось тебе, то есть, тела демонского отведать, Марии, сестры Марфиной, возлюбленной твоей, и соблазн, Марией расточаемый намеренно и не на тебя одного действующий, а без разбора на особей всех пола мужеского, себе в предназначение ты отписывал и предуготовлял, не помышляя, будто демон настолько примитивно представляем тобой, что лишь средствами грубыми и общедоступными пользоваться будет, и будто силы у демонов не хватает соблазнить тебя так, дабы никто того и не заметил, и где бы кто ничего соблазнительного усмотреть даже не успел при желании особом, ты бы там уже схвачен был образом особым, и душа твоя в плену пребывала бы бесповоротном, и тело заведено пружиной тугой, более сдерживанию не подлежащей;
не нагнетайте обстановку, отец Дмитрий, никаких демонов в природе не существует, и не только в учебниках физических, но и в ваших катехизисах различных, а мне в тот вечер проще оформить было своё предательство Марфы, ибо так по наивности тогдашней расценивал я связь намечавшуюся с Марией, и не потому как сестра родная Мария Марфе, не думал о том я тогда вовсе, но лишь как измену Марфе с женщиной любой другой, а сестрой или не сестрой, не важно мне было, а того что для Марфы Мария никогда не предстанет женщиной какой угодно другой, о том не помышлял я тогда, ибо брата у меня не имеется, вместо брата Брут лишь был до обстоятельств времени последнего, и о зовах крови различных лишь по сериалам слышал, коим не доверяю основательно, да у Шекспира читал, но так мир у него не наш, старый совсем, то ли античность, то ли Англия, в любом случае к нам отношения, как полагал я, не имеет, но то что я в демона играю в вечер тот, это к какому времени относится не думал нисколько, лишь теперь разумею как любое людское во времена любые разворачиваться способно, и хорошо ещё ежели у того, с кем это случается, разумения хватит с масштабами происходящего совладать, а то ведь котятами слепыми пребывают вместо Цезарей, Сократов и Христов, как актёры на сцене, не ведающие того, что актёры и что сцена имеются;
оставь эти рассуждения свои, Андрей, о Христах особенно, и давай беседу нашу к концу уже подводить, насколько помню по словам твоим прежним, после Брута отвез ты демона своего, Марию не Марию, к себе домой, и там овладел ею, мечтания свои заветные во исполнение приведя;
ох да, сколько раз до того, лаская Марфы тело, думал о Марии, интерес детский испытывал даже: ежели они близнецы, то каково у них устройство там интимное, не могут же они стонать одинаково и должен же мужчина различие меж ними своим телом почувствовать, и могу одно сказать на счёт сей: весьма они разные, даже самые далёкие и незнакомые друг с другом девушки более схожи быть могут в постели меж собой, чем Марфа с Марией, но это так, не по делу, я в вечер тот намеренно ведь отгонял образ Марфы от себя, она тому сама достаточно способствовала с ангелами своими, а я уже с демоном продолжил лишь, и потому, в подробности не вникая нескромные, которые здесь никому не нужны, упомяну лишь грубость свою мне несвойственную, в обращении тогдашнем с Марией, платье порвал ей, шею покусал, но в моменты некоторые даже всерьёз полагал, будто с демоном в сношение вступил: она мне спину справа расцарапала до ужаса, будто кошку бросили на спину, и она, от страха вцепившись, сползла, когти не выпуская, но тогда это не пугало меня, и не больно было, а лишь на следующий день к вечеру и через день особенно заболела спина, и не боялся я тогда: а ну как Марфа увидит, улетела Марфа в ночь ту насовсем из мыслей моих и из сердца моего, до того исчезла, что как и сказал, когда в Марию проникал, то даже Марфы тело не мог себе представить, как обычно это делаю я для возбуждения дополнительного и к удовольствию обоюдному, однако странная вещь случилась, которая для меня свидетельством демона явилась присутствия: мало того, что Марфу я не представлял, но и никого другого не вспомнил, а что Марфы касается, то будто и не было её в соприкосновении со мною никогда, только телом Марии занят был я, и если бы не священство ваше, отец Дмитрий, не только для меня впрочем сомнительное весьма, поведал бы я о прелестях ночи той, покуда несмотря на те мучения, которые за ночью той воспоследовали, сама эта ночь невероятно для тела усладительной оказалась, и пусть тому доказательством лишним одно обстоятельство будет: никак и никого в ночи той иного, помимо Марии, я не воображал, а с тех пор, с кем бы ни спал, непременно тело демона моего сладостного вспоминаю, да со времени встречи с другом вашим призрачным, его ещё поминаю, но даже когда: отец Георгий, отец Георгий приговаривать силился, Марию вспоминаю демонскую, будто как-то связан отец Георгий покойный с демоном этим, в обличии женском, и не улыбайтесь так теперь, да, пошутил ваш покойник, понимаю, и я уже привык, но каково, представьте тем, кто со мною оказывается и слышит это всё, а мне ещё придумывать объяснения раз всякий приходится, хотя, как вы себе представить можете, вы же того, безбрачным вроде быть должны;
ты заблуждаешься несколько на счёт этот, Андрей, в браке не состою я, верно, но тебя понимаю превосходно, и не случайно же ты священство моё сомнительным именовал, впрочем, не обо мне речь теперь, а об истории твоей продолжении, итак, овладел ты Марией, а далее;
овладел я Марией, замечу, четыре раза, а уж сколько раз её судороги били, не считал, не до арифметики было, а далее случился странный диалог, когда в ожидании её ответа обычного: пусть всё будет так, сказал ей: это между нами останется всё, не спросил, а констатировал, и не то, что раскаивался в содеянном, напротив, готов повторять хоть каждую ночь, пока не надоест, не хотел лишь Марфа чтобы узнала, да и казалось мне, будто Марии тоже это некстати было бы, гнев сестринский и в соблазнении предательском жениха обвинение, но ответ её отрезвил меня невероятно: не будет так; и я спрашиваю тут же, по следам будто ещё неостывшим ступая: но ведь мы договаривались, что сегодня всё будет так, как мне хочется; а она мне: во-первых, это уже вчера было, и вчера всё в самом деле было так, как тебе хотелось того, но день новый за окном начало взял своё, а это значить может, что нет силы теперь от мыслей твоих никакой, но я бы здесь пошла на уступки, невелика потеря, если бы, во-вторых, просьба твоя на дни грядущие безоглядно не замахивалась бы, ибо в отношении этом здесь все мы бессильны; сказала так, будто шантажирует меня, подумалось мне тогда, однако теперь вижу больше глубины в словах её тех: я на грядущее силы не имею, но это не значило вовсе, будто она или ещё кто-то третий из смертных имеет, ибо хотеть можем одного, а грядёт другое, своё, и не более, но это теперь я понимаю, а тогда, вспотевший, обессиливший, и, к перепадам настроения, от перевозбуждения испытанного только что, склонный, впал в отчаяние заметное, и надеялся, что утешит меня она, ведь постель сближает людей способом особым, не заменимым ничем иным, и мне её лицо в миги иные разные даже грезилось в ночь ту, но она не подыграла мне в этом, а лишь две вещи как-то холодно сказала: точно скажу тебе одно: такое больше никогда не повторится, и почему не спрашивай, и не мучай Марфу тем, что она не я, и с Марии меня не требуй; странно так сказала, но я решил, будто это манера выражения лишь необычная, а вещь-то вполне банальная прозвучала, и второе ещё сказала она: отвези меня теперь туда, откуда взял; и хотя я пил вино вечером, и от меня пахло сильно ещё, но алкоголь с потом прежде вышел весь почти, пока с Марией ласкались мы, а что осталось в крови, тут же перестало от отчаяния нагрянувшего действие любое оказывать, и штрафа не опасаясь, свёз я демона своего взад, к дому Марфы и Марии, и домой вернулся в состоянии духа ужаснейшем, покуда думал: завтра же, а точнее сегодня уже, расскажет о всех Мария Марфе в ночи минувшей событиях, и ни Марфы, ни Марии не увижу я, и впервые тут Марфы облик явился предо мной за вечер весь, явился любимым и к себе зовущим, но сил у меня не было грустить даже чтобы, и потому решил утром же поехать к сёстрам, и будь что будет, а теперь спать, упал на кровать свою, от тел наших с Марией мокрую ещё, уткнулся в подушку, ею пахнущую, и уснул сном мёртвым;
но проспал ты утро всё и дня часть бо́льшую, а когда проснулся, было вреени уже около четырёх часов, и ещё боль пока унял головную, и душ пока принял, ибо казалось тебе, будто Марии запах предательски особый, ничем с Марфы запахом несхожий, стал твоим собственным, и постель влажная его расточала, и комната, проветренной даже будучи, казалось Марию всё навевает окружающее вещное беспрестанно, а в душе под воды потоками лицезрел ты органа своего поднятие и даже от зубов Марии следы покраснения, но ещё пуще о ночи минувшей напомнила тебе спина твоя, ею расцарапанная, ибо пощипывать начали раны, от ногтей её полученные, и в зеркале увидел ты с правой стороны, более чем с левой, полосы кошачьи, но вот вытерся ты уже, расчесался, кофе попил, хотя искушение было распить бутылку портвейна дорогого, в холодильнике с пор давних початую, допить и не ездить никуда, а в игру сыграть, будто не было ничего, ни Марии, ни Марфы даже, и будто жил иначе вчера и до вчера, и кто первый объявится, тот и продолжит игру твою: Марфа объявится, значит была вчера Марфа и до этого Марфа была и Марфе быть впредь, Мария объявится, и при мысли этой возбуждение ощутил, тебя удивившее и немного болезненное для утра твоего послеобеденного, значит была вчера Мария и до этого Мария была и Марии быть впредь, а не будет их, другое что-то будет, Брут в гости придет или к себе позовёт, и вспомнил тут как Брут вчера на кухне про Марфу спрашивал, и противно стало, за него, за себя и за Марию, за его похоть и за свою ложь, и за её согласие на всё, за игру сообщническую с Марией, будто она Марфа, а вот про игру свою в демона не вспоминал, будто в постели она уже действие должное оказала и хватит, забыть её стоит, и хотя казалось тебе ещё, будто Марии запах нисколько не исчез с тела твоего, равно как и казалось, будто Марфа безошибочно сестру свою от тебя учует, решил ты, будто никакого запаха нет уже, точнее даже: это лишь воображение твоё работает, подтверждением чему возбуждение тела твоего воспалённого при Марии имени поминании, а Марфа ведь не чует мир как ты его чуешь, и обычно для влюблённых это препятствие верное, но тебе на руку ныне была нечуткость людей любящих обоюдная, и спроси тебя кто, сказал бы не сомневаясь, будто Марфу одну любишь, а Марию, тело будоражащую, из мыслей гнал, противно её поминать теперь тебе и самому от себя такого противно, противно и приятно, вот чудеса какие, но не только ещё и неприятие сознательное она вызывала, ибо на прощание такие слова сказала, из коих решил, будто она Марфе всё поведает случившееся, и не просто случившееся, а намеренно содеянное, и теперь казалось тебе, будто она с начала самого намеренно супротив сестры тебя соблазнить надумала, и так-то мы всегда всё в пользу свою истолковать сумеем, и душу теперь то лишь грело, удовольствие что ты ей всамделишнее доставил, пусть ведает отныне: любовник ты всё равно превосходный, и с такими мыслями противоречивыми прибыл ты к дому сестёр, и кнопку звонка надавил тревожно;
и дверь мне открыла маменька сестёр, по лицу её силился прочесть я бури следы и катастрофических душевных землетрясений руины, но она осветилась радостью всегдашней искренней и воскликнула, что села только что с дочками ужинать, и вовремя к столу подоспел я, теперь вся семья в сборе, и от слова этого семья, ко мне в применение прозвучавшем, стало неловко мне, но она продолжила, что лишь папенька отсутствует, муж её, но ныне, как я пришёл, стол не без мужеского присутствия будет, и прошла в гостиную, объявляя дочерям о визите моём, а я намеренно долго обувь снимал и тапочки собственные, в доме этом для меня заведённые, надевал, и руки мыл, ожидая как выйдет ко мне Марфа и прогонит прочь меня, сказав, будто я предал её, или выйдет ко мне Мария, и прогонит меня, обвинив в наглости, или обе выйдут и что-нибудь эдакое сообщат, а в чём же ещё как не в наглости, кто как не наглец вероломный мог на день следующий же заявиться, или выйдет ко мне маменька снова, но с иным лица выражением уже, и укажет на дверь, и плакать будет непременно, она много у них плачет, от мужа обид в основном, а теперь вот от меня разрыдается, ещё один мужчина в доме, конечно, и слёзы, и обман, и подлости предательские, и боль значит в доме ещё одна женском, укажет мне на дверь и скажет: уходи, Андрей, и не приходи сюда больше, и я даже не смогу разыграть вопроса всерьёз: а в чём дело, или: а что случилось-то, согласно уйду тогда, скажу любой, которая бы не вышла: простите, и ничего более, и поминай как звали, Андрея раба божьего, но нет, никто не вышел, и тянуть сил уже не было, как-то глупо выходило замешательство моё в прихожей и в ванной, и я зашёл в гостиную, не глядя на лица присутствующих и сел сразу же за стол на место своё, а рядом и Мария, и Марфа, и маменька их за приборами обеденными сидят, и мой прибор уже ждал меня на месте всегдашнем, хотя, сказать честно, есть мне не хотелось ничуть, и пить не хотелось, хотя меньше не хотелось, чем есть, а вот быть там теперь, самым мучительным для меня делом было;
самостоятельный мужчина, герой любовник, испытывал ты ныне чувства школьника классов младших, обличения опасался, но всё повернулось неожиданно для тебя, ко всему готовому, кроме одного, кроме того, что случилось, а именно: начался обед, потекла беседа так и такая, будто не было ничего у тебя с Марией ночью, и будто не сообщила сестре Мария о ночи с тобой, а это различные свидетельства всё, ибо Марфа искренне осведомилась о состоянии и настроении твоём, улучшились ли они после ссоры вашей вчерашней, и просила тебя не принимать к сердцу близко разговоры об ангелах, отчего тебе ещё совестнее стало, а Мария также вела себя как обычно, кокетничала, но вполсилы, что с ней завсегда почти случается, и ничего из ряда вон выходящего, никакого намёка на ночь, ни от одной. ни от другой, и когда ты понял, что сестре Мария ничего не сообщила, преисполнилось сердце твоё спокойствия, благодарности и даже игривости: бури не будет, Мария с тобой заодно, ах, она, такая неповторимая и страстная, с тобой заодно, снова лёгкое возбуждение и стал на Марию ты поглядывать, и должны взгляды эти твои будто знаком служить её сообщничества вашего, но Мария не реагировала на них никак, и стало тебе досадно;
поначалу я думал, будто она при сестре стесняется, но затем увидел, что она вообще меня игнорирует в сообщничестве нашем, и я уже разозлился, и как же это было отлично от моего состояния, с коим я за стол садился, и тогда почудилось мне на миг, будто и в самом деле ничего не было ночью, а мне всё минувшее пригрезилось, или я безумец, или, мысль мелькнула, будто они меня безумцем выставить желают, перед собою и предо мною позабавиться, вот ведь, отец Дмитрий, как человек устроен удивительно: полчаса назад хотел искренне и с сердца замиранием, чтобы не было ничего из в ночи развернувшегося, а здесь уже усиленно доказательства в уме перебирал, засвидетельствовать бы мне помогшие, что было в этой ночи всё минувшее, и вспомнил о Бруте в очередь первую, но ведь Брут уверен, будто это Марфа со мною была, а вдруг Марфа скажет: да, это я была, Брут ведь не отличает их, и не скажешь же Бруту: дружочек, я тебя разыграл в тот вечер ради шутки, поверь мне, и Марфа, которая тебе показалась развратной, никакая не Марфа была, а Мария самая что ни на есть настоящая, ты мне веришь теперь, что Марфа была Марией, да, свидетельство это слабоватое, а что на очереди, на очереди платье Марии с того вечера порванное, но пойди, сыщи в этом необъятном гардеробе её, у Марфы вещей поменьше, а у Марии бесконечно, и может у Марии несколько таких платьев, а может и у Марии, и у Марфы по такому платью, нет, так не пойдёт, стоп, шея, я кусал ей шею, и гляжу я ей на шею, где отчётливые были следы, даже когда вёз я её домой, гематомы от зубов моих, но нет на шее Марии никаких следов, хотя у меня спина болит от её царапаний и впиваний, ну, думаю, крем тональный прямо-таки чудеса творит;
и спрашиваешь ты тогда, отчаявшись перед выбором быть предателем по-честному или безумствовать догадливо, и скажи тебе кто, когда ехал туда, что сам будешь к вечеру минувшему беседу вести, когда все о ней молчат, не поверил бы, но теперь спрашиваешь ты у Марфы: как, Марфа, ты вечер вчера провела по ухода моего времени; и Марфа отвечает тебе: читала книгу; а ты, Мария, спрашиваешь, и глазами Марию насквозь пронзить собираешься, и, в то же время, умоляешь её и соврать, и правду показать хоть как-то, и чего ждёшь не ведаешь, лишь бы чего, пусть в сообщники возьмёт, пусть раскроет тебя, но хоть что-нибудь, а Мария, ложкой в тарелке водит вяло среди еды оставшейся, и отвечает тебе также вяло: а что это ты интересуешься жизнью моею вдруг, на что маменька ей: Мария, ну что же ты так с Андреем разговариваешь, и сама тебе маменька за Марию отвечает, таков уж нрав у маменьки их, углы острые сглаживать, боль семейную всю на себя и неурядицы все принимая, отвечает тебе маменька: мы с Марией вчера кино допоздна смотрели про любовь, звали Марфу, но у неё настроение никчёмное было, читала она; и ты понимаешь тут, что если даже сёстры и хотят тебя разыграть, то маменька, знаешь ты её превосходно, ни за что бы в эту игру их не включалась, слишком много супруг её саму разыгрывал, и, к тому же, отношения с мужчинами дочерей её дело важное, и одного ей лишь хочется: чтобы дочери счастливы были, а счастье на обмане не построишь, в этом маменька уверена, и зная всё это о маменькиных убеждениях, пробивает тебя озноб уже настоящий, и понимаешь ты, что ничего ты не понимаешь, и слов предупреждение Марии не Марии беспомощно припомнить силишься;
но тогда я их не вспомнил дословно, много позже всплыли они предо мною, но смысл их приблизительный помнил, а вот формулировки точной нет, помню лишь, что Мария себя саму в лице третьем именовала, и вот они, слова эти: такое больше не повторится и почему не спрашивай, и не мучай Марфу тем, что она не я, и с Марии меня не требуй, вот слова её те, и вспомнил я об игре своей в демона, и стало мне так дурно, что попросил я выпить чего-нибудь покрепче, и тогда маменька Марфу за коньяком отправила на кухню, а меня спросила шутливо: а ты что же вчера делал, коли сегодня трясёт с похмелья всего, и видел я точно, что Мария заинтересованно взглянула на меня, но не как ночь со мною проведшая, а как та, которой мой визит к Марфе безразличен и неприятен, и кто, наконец-то, может что расскажет интересненькое здесь, и тогда я сказал, что пил с Брутом, отмечал помолвку одного нашего общего с ним друга, которого вы не знаете, а далее я уже так и не смог определить для себя: что же было ночью этой со мною, и кто был тогда это, Мария или демон всамделишный;
а что же Брут, он никак не прояснил ситуации этой, Андрей;
Брут уверен до сих пор, что то была Марфа, вероятно уверен, ибо я его не видел давно;
и ты его не желал переубеждать в том, дабы историю твою необычную поведать;
да, но он не переубеждался, не верил мне в этом, и я хотел бы другу всё рассказать, да он обиделся на меня шибко тогда, и я не ведаю: в чём дело тут, разговор у меня с ним был вскорости после того, как мне отец Георгий ваш явился, ведь накопилось уже две истории у меня странных вместе с явлением этим, и пока лишь ночь одна на счету чудес водилась, в коей я с Марией не Марией страсти похотливые утолял, то меня в смущение и жуть всё это вводило такую, о коей не хотелось никому, даже другу, ведать, а как этот ваш священник ко мне в машину сел, и как с вами мы тогда повздорили у сестёр дома, так умалчивать чертовщину эту или боговщину мочи уже никакой не было;
почему, Андрей, коли о том ты вспомнил теперь сам, почему в ярости таковой находился ты в вечер тот встречи нашей первой, со стороны ведь казалось, будто с тобой, наоборот, никогда ничего подобного не случалось ни разу, мистический опыт девственно пустынен, будто скептиком ты от не заселённости этой даже заделался, и Мария подлинная, сестра которая Марфы подлинной, она так и полагает до сих пор на счёт твой;
Мария глупа и вам ли того не знать, отец Дмитрий, со всею проницательностью вашей, но прежде чем вам отвечу я, скажите: а разве вы, в вечер тот, не верили в скептицизм мой;
нет, Андрей, не верил, поскольку наслышан тогда уже был о том. как сорокадневный срок соблюдя, по совету отца Георгия, получил ты Марфу свою, и это чудо, ангелом наведённое ты сам пережил, и даже участие в оном принял, и сколько раз тогда я к нему ни возвращался, сёстры уходили от вопроса этого, и ты, Андрей, сам сейчас уже, вновь не причислил на счёт чудес своих ещё третьего, этого сна Марфиного, а оно не менее удивительное, нежели ночь, удовольствиями одаряющая, хотя и с кем проведённая неведомо, не менее удивительно, нежели явление священнослужителя почившего;
не думаю я так, отец Дмитрий, поскольку с Марфой мы расстались, и сорок дней ей эти присниться могли случайно, по собственному наущению, и она настрой сама к тому же соответствующий имела: сойтись со мной через срок этот, а я предупреждение от отца Георгия имел оговоренное, и от неё в тайне сохранённое, и удивительное здесь если и есть что для меня, так это, что отец Георгий нарушил исповеди тайну, посчитав сон этот Марфин событием значительным, и, во время то же, умолчания не заслуживающим, покуда, как можно было весть Божию, тайно поданную, и в которую веришь сам коли, разгласить, и, ежели не веруешь в неё, то к чему вовсе сообщать оную: вот тайна для меня и чудо, а остальное нет, не чудо;
мы отклоняемся от разговора нашего, а следует вернуться к нему, но перед этим хотелось бы спросить о моменте одном деликатном, об отца Георгии проклятии, на тебя наложенном, как удавалось справляться тебе в делах постельных;
ох, отец Дмитрий, момент деликатнейшим стал бы непременно, ежели бы не расставание с Марфой, после коего всякая, в постели моей оказавшаяся, была другой равна и, даже если полагала меня человеком со странностями, то лишь поначалу, привыкала затем, ну а если не привыкала, то я другую тут же отыскивал себе, но и это ещё не главное, ибо равнодушие такое ко мнениям девушек этих сочинилось прежде времени проклятия: после вечера того с Марией не Марией, будто бы Марфа мне руки развязала, и не руки даже, а всё остальное побольше даже: казалось тогда мне, будто теперь, когда не всё в порядке и святая она такая с ангелами своими, будто теперь могу я признание сделать, будто чудовище я, что я и сделал ей тогда, а после такого признания кто же будет чудовище обвинять в игрищах на стороне всяких, нет, никто не будет, и, хотя, что чудовище я, сказал тогда ей, а вот об играх этих не говорил, отчего моя чудовищность-то в меру полную и расцвела цветом пышным; но да ладно, ведь никто из нас не верит, когда ему человек говорит: я подлец; кажется, будто сказал если, то уж и не подлец поэтому, ан нет: ничего подобного, ещё какой может быть, даже и не догадываться сам, и в том самом, в чём признаётся подлецом запросто быть может, но я не к тому сейчас, а к другому, к тому, что в период этот, между ссорами нашими, той вечерней и разрывом окончательным после поста сорокадневного, отцом Георгием предвещённого, со многими девушками был я, и каждую из оных предупреждал: не собираюсь ни замуж брать вас, ни встречаться даже, но они, разомлевшие, шептали лишь: да, да, конечно, нам тоже этого не надо, мол, нам сейчас хорошо и ладно, однако после дел постельных обижались почему-то, когда о словах своих им необещающих напоминал, и приучилось сердце моё к холоду, и к сердец чужих страданиям претерпению лёгкому, закрываться что ли стал я, не знаю даже назвать как это, мог обещать что угодно, и что угодно назад из слов своих забирать, поскольку, когда говорил им поначалу вещи серьёзные, они лишь делали вид, что внимали, на постель больше полагаясь, мол: сказал, что не будет со мной, но вот сейчас со мной ночку-другую проведёт, и будет мой как миленький; ну, и ежели у них расчёт таковой был слов моих помимо, так зачем же мне на свой расчёт не полагаться, ибо всё равно ничего я сделать не мог, разве что вовсе с ними не общаться, но ведь похоть не денешь никуда, и потому-то, после проклятия отца Георгия, к состоянию моему лишь пунктик один добавился, на который я внимание их обращал, конечно же, но так они и к моим причитаниям ночным: отец Георгий, отец Георгий, отец Георгий, относились также как к обещаниям моим, вполуха, о себе прекраснейших размышляя, и упование на телеса свои и прелести более имея, чем на любые слова мои, зато. обращаю внимание ваше, отец Дмитрий, я с тех пор, как говорю: отец Георгий, отец Георгий, у меня воли супротив возбуждение начинается, связь, так сказать обратная появилась;
это интересно, Андрей, и наблюдения твои о девушках интересны, о сердца твоём очерствении, и о рефлексе этаком условном, можно сказать: проклятом рефлексе, тоже интересно, но к вечеру следует вернуться нам к тому, где ты пришёл для других скептически выглядящим;
да, отец Дмитрий, я в вечер тот, когда застал вас с сёстрами, не скептиком был, а в истерике, от недоверия ко всему окружающему подхваченной, поскольку, накануне встречи с отцом Георгием, был у Брута в гостях, и хотел Брут о Марфе побольше вызнать, и вообще после ночи той, когда я ему демона своего за Марфу выдал, каждый раз затем видел, как Брут волновался на счёт её, и потому хотел ему идею донести, что он Марфу так и не знает подлинную, и тогда не Марфа была со мной, а кто непонятно, и с этим кем непонятно разыграли мы его вместе, но как в это поверить человеку со стороны, будто я сам не знал с кем я, не бывает такого, сказал мне Брут со всею решительностью, не бывает;
и что тогда;
Брут мне не верил, и полагал, будто я его от Марфы хочу отделить, покуда демон мой в вечер тот, как я уже поминал, дал Бруту надежду на доступность свою, и ежели для неё это было от безразличия и готовности ко всему содеяно, то для Брута здесь искренности много усмотрено было, а потому я, когда Брут не поверил мне, огорчён был весьма этим, и к тому же я сам стал уже сомневаться воистину: было это, или небылица придумалась от одиночества и усталости в ночь неспокойную, и если бы не спина разодранная, хотя и спину можно где угодно оцарапать, я говорил себе: где угодно и оцарапал значит, а как начинал себе это где угодно представлять, так ничего не представлялось, и в самом деле: очень сложно представить себе что-то другое о вечере том, который помнишь отчётливее остальных даже; и в таких нерешительностях ваш отец Георгий тут ко мне подсаживается, и я-то не ведал в миг тот, что мёртв он, да и ежели даже жив был, не менее всё удивительно складывалось бы, но хотелось послать всё к чёрту и уцепиться за Марфу, с коей ко времени тому расстались окончательно уже, а тут один поп, затем другой, и где: прямо в средоточии надежд моих последних в нормальность возвращения собственного;
почему Марфа в помыслы твои вспять вернулась, ежели не видел давно ты её и расстались окончательно вы;
откуда же мне ведать это, спросите ведь, отец Дмитрий;
я хочу к тому лишь спросить, что не сыграл ли Брут роли здесь своей, ведь он о Марфе расспрашивал тебя непрестанно при встрече каждой, а как ты расстался с ней, так он должен был бы и вовсе полагать её своею, не так ли; и каждый раз теперь твоё воображение любовное распалял втайне от тебя Брут, как ты это прежде по отношению к нему делал;
я не думал о том, но даже если так, то какой же болван он, должно быть, если полагал, будто Марфа когда-нибудь его стать может, и почему Вас интересует это так, отец Дмитрий;
нет-нет, не время теперь останавливаться на этом, вернёмся к той, с коей спал ты в ночь ссоры вашей, из-за ангелов сновидческих приключившейся, как ты понимаешь теперь: кто это был;
странный вопрос, отец Дмитрий, покуда вам сказал я вполне: демон, ангел или чёрт сам, ведьма быть может, или как Вы там их называете: сатана, дьявол ли;
а почему в списке имен таких, кои дал ты ей, Бога нет; вы меня поражаете, отец Дмитрий: Бога, неужто Бог с мужчиной смертным спать будет, да хоть бы и с бессмертным, тоже ведь не будет, женщиной являясь к тому же;
а почему нет, Бог спал же с женщиной смертной; но это не странно, Бог ведь мужчина;
это предрассудок, мужчиной явился Сын Его, и к тому же, почему же сатану к себе в постель готов ты положить, а Бога нет;
очень странный вопрос, отец Дмитрий, и, к тому же, ответа на него ни Вы, ни я никогда не узнаем, живём покуда, но даже от вопроса этого безответного жутковато как-то всё делается, и мне нехорошо, не по себе ныне стало, и теперь я бы хотел вернуться к теме беседы нашей, а именно к чуду, Вами помянутому: о сне Марфином, и почему я это в качестве чуда не рассматриваю, это ведь психология лишь, плюс воображения ожидающего сила женского, и аргументом дополнительным здесь тот быть может, что после срока сорокадневного терпения и ожидания постного, встречались недолго с Марфой мы, и, будь сон тот воистину ангельским, неужто сорок дней ждать стоило, чтобы через столько же расстаться вовсе, ведь нет смысла в этом, кажется мне так;
а что же, Андрей, хотел бы ты думать, будто, если Бог что сообщит, так то навеки пребыть должно; а разве нет, отец Дмитрий;
а разве говорилось во сне том, через сорок дней будто вы соединитесь на всю жизнь вашу;
не говорилось, нет, и отец Георгий ничего такого не сообщал, но я подумал;
что ты подумал, Андрей;
что это на всю жизнь, и предполагается само собой, иначе к чему всё это;
это всё само тобой предполагалось, как и девицами предполагалась жизнь ваша совместная после двух-трёх ночей, но пути Господни неисповедимы воистину, и Господь может сотню лет трагедию такую готовить, поколения к ней созидая целые, которая за один день разрешение себе найдёт полное, ибо это у нас время имеется лишь, а у Господа нет времени, нисколько нет, ибо вечность перед ним, и твоё на всю жизнь ожидание для него не более предпочтительнее быть может дней твоих же сорока, и время появилось тогда лишь с Господом сопряжённое, когда вся жизнь Христова в тридцать три года наших вместилась, но это такие же вечные тридцать три года, как и твоих сорок дней ожидания, и ваших сорок дней встречи после: ничего не проходит, Андрей, из былого и никогда не прейдёт в глазах Господних, отсюда и сила прощения Его, ибо к чему прощать то, о чём позабыл в суетности своей; впрочем, я ещё тебя хотел спросить об одном обстоятельстве;
давайте, спрашивайте, отец Дмитрий, а то устал я уже чрезмерно от беседы нашей и предпочёл бы завтра её продолжить во время то же;
расскажи о Николае мне, Андрей;
я уже в беседы предыдущие вам ведал о нём всё, отец Дмитрий, и знаете достаточно, что человек этот неприятен мне до крайности, и будто намеренно всегда к нему возвращаетесь; хорошо, что теперь у меня сил нет даже злиться, и я готов снова рассказать вам всё, что знаю;
знаешь ты, Андрей, что отец Георгий перед смертью виделся с ним, и потому мне интересен Николай этот, упокой Господи его душу, а то, что ты злишься на него до сих пор, это также понятно весьма, ибо когда с Марфой встретился ты, Николай с Марией уже год как почти вместе были, и дело ко свадьбе шло, и отец Марфы и Марии, Лев Петрович, полагал Николая женихом образцовым, и тебя по мерке его мерить сразу же начали в семье этой, хотя прошлое твоё менее преступлениями и смертоубийствами отягчено, нежели Николаево, а Николай этот тебя вообще в качестве мужчины не рассматривал, и Марфа, сестре младшей, в невестах уже ходившей, завидовала, как то обычно меж девочками случается, и она тебя по Николаю равняла немного и поначалу, но тебе казалось: много и всегда, а кроме того ты Марию возжелал;
ладно-ладно, отец Дмитрий, мы это всё с вами ранее уже обсудили, и мне знать хочется лишь о том, что ныне вас интересует;
меня интересует лишь одно: почему Николай бежал от Марии, чем это вызвано было;
я уже говорил вам, отец Дмитрий, что история эта тёмная, для нас с Марфой, и для Марии самой, и даже для родителей её, умудрённых опытом побольше нашего, сам Николай лишь ведает её, да и он умер уже, и глупо всё там было до нелепости, ведь и Марию взаправду любил вроде бы, и капитал отца её уже наследовал бы в виде части приданного её, но ведь нет, бежал, и не просто бежал, а сразу и без предупреждения, и отец Марии следил за ним, голову ломал: может на стороне завёл кого, так ведь нет: бежал воистину просто так, сломя голову, а затем диагноз этот его смертельный, и хорошо лишь то, Мария что быстро отошла от истории этой, и забылась;
но ты сам же сказал, Андрей: Мария глупа, и следует отличать забылась от не придавала с начала самого значения большого, так ведь;
в случае любом. отец Дмитрий, бежал Николай далеко и навсегда, и единственное, что мы установили тогда советом семейным, в который я был уже вхож, так это то, что побегу его предшествовало столкновение с отцом Георгием в церкви Святого Иеронима, куда мы всем семейством тогда ходили ещё; спасибо, Андрей, на сегодня беседу завершим наверное; да, отец Дмитрий, ещё; что ещё, Андрей; помните о моих просьбах; о каких именно, Андрей;
Марфе привет от меня там; а ещё;
а ещё, если умрёте раньше меня, попросите там отца Георгия проклятье его снять, или сами как-нибудь это сделайте тайком даже от него;
хорошо, Андрей, я его попрошу; спасибо, отец Дмитрий;
благословляю тебя, сын мой, и сожалею о том лишь, что нет тебя на самом деле со мной рядом теперь, когда говорю я с тобой, а как хорошо было бы побеседовать с тобой не только так вот, в мыслях полузабытья своего;
ничего, отец Дмитрий, ничего, вы же знаете, что мы с вами не виделись с того самого раза, когда я крест отца Георгия вам так и не передал в руки;
конечно, знаю, Андрей, знаю, я же не сумасшедший, и даже более того чует сердце моё: не увидимся мы уже с тобой никогда;
неисповедимы пути Господни, отец Дмитрий, воистину неисповедимы, но то, что вы со мной в уме вашем лишь беседуете, не помешало нам подружиться и каждый день беседовать как ныне;
да, Андрей, ты прав, и, как всегда, ты делаешься с каждым днём всё проницательнее;
а вы, отец Дмитрий, что с вами случается теперь; а меня, Андрей, меня сейчас за безумца почитают, но я лишь служу Господу, как и ранее, но вообще-то темы этой не хочется сегодня касаться, а посему: до завтра, Андрей;
хорошо, отец Дмитрий, буду ждать вашего воображения, до завтра.
Исступление
в котором мы узнаем о том, как отец Дмитрий просыпается – и ничего больше
И когда отец Дмитрий просыпается, когда он даже ещё не открыл глаза, он не знает о том, что он их может открыть, что они вообще у него имеются, он не знает, отец ли он Дмитрий или сын или вовсе не человек, и даже не знает о том, что он чего-то может не знать;
и когда отец Дмитрий просыпается, он лес, но он лес так недолго, что кажется ему будто он не лес, но он слышит лес, и даже ещё не понимает, шум ли это леса или просто лес, который и есть он сам, и лишь когда лес начинает шуметь, он отделят лес от шума леса и себя находит в этом всём;
и когда отец Дмитрий просыпается, он сожалеет, что он себя находит среди лесного шума, и сожалеет, что не лес он, ибо лес не слышит себя, как не слышал себя отец Дмитрий, стоя посреди хора, поющего псалмы, и никто из хора не слышал ни себя, ни других, а потому были предоставлены они себе каждый, и предстояли пред очами Его в неброскости своей и пустотности праздной, и лес не слышит себя, шумит когда, и предстоит пред очами Его в уверенности части каждой своей, шумящей по-особому, и вместе всё это возносится к небесам гекатомбой языческой, и услаждает лес Творца, и жалеет отец Дмитрий, находящий себя в лесу, а не лесом и не частью его, и леса в себе уже найти не могущий в миг этот краткий утра раннего;
и когда отец Дмитрий просыпается, сожаление прерывает он тут же, и глаза открывает, и ведает, что леса в нём нехоженого побольше леса окружающего будет, и не огорчается он тогда, а радуется, и вдыхает воздуха свежего молоко, и радуется лесу в себе и лесу вокруг, и ведает уже, обретённый, что каждый, кто не перешёл от сожаления к радости, не проснулся ещё, и надобно будить их, горемычных, даже пребывали они бы в радости одной если бы беспробудной, надобно будить их сейчас;
и когда отец Дмитрий просыпается и будить всех стремление имеет, то слышит тотчас, как из лесного шума выделяются, остатками бренными из породы земной вечной, голоса остальных, кои не спят уже; и не остальных, но оставленных, говорит себе отец Дмитрий, ему на попечение и Господу на заботу; не спят они уже и когда они просыпаются именно, не ведает того отец Дмитрий, не ведает, но рано, видит Бог, рано;
и когда отец Дмитрий просыпается и выходит из комнаты своей с потолками высокими настолько, что теряется в полумраке постоянном потолка этого ветхость и побелка осыпавшаяся кусками целыми, выходит в коридор полутёмный от широты своей, и по дорожке истёртой ступает ковровой, цвета красного, как и покрытие ковровое, дубам чиновничьим сердце услаждающее, в доме Марфы и Марии, идёт по дорожке этой, семнадцать ступеней в коридоре преодолев, через переход этажей межуровневый, девять вниз и восемь вверх, и входит в залу общую, столовой служащую и местом собраний общих, ежели случались бы таковые, но таковых не было ещё ни разу, за исключением редких визитов Льва Петровича, Марфы и Марии отца, редких постольку, поскольку видеть дочь свою за границей ума допустимой тяжко сердцу отцовскому, пусть и в службе военной ожесточённому и на службе чиновной разжиревшему, но надежды прежде на карьеру дочернюю возлагающего и ныне с Марией оставшегося, и будто сломило это отца Марфы;
и когда отец Дмитрий просыпается, и в зале общей оказывается встреч несуществующих санатория этого частного для людей убогих, из усадьбы загородной Львом Петровичем сымпровизированного, появляется здесь Пётр с книгами, роли различные играющий в хозяйстве сём сложном, ибо непросто среди людей ущербных пребывать человеку с умом исправным, и отцу Дмитрию непросто, да служба такая у него, отправили сюда его бессрочно вослед за Марфой, которая востребовала в заключение своё добровольное священника своего, и хотя отца Дмитрия тоже за безумного почитают и подыгрывает им в этом уверенно он, но ведает про себя: для того это только, дабы людей окружающих не расстраивать, и не расстраивает он их, и справляется у Петра сразу же: как дела у Марфы, но не отвечает Пётр на это ничего, плечами пожимает лишь и вздох испускает сострадательный, покуда его отец Марфы сюда работать направил и плату заработную большую исправно платит, но заключение оно и есть заключение, где бы оно ни было, а тем более здесь: в забытом Богу лесу северном, за границей финской, откуда до России просто так не выбраться, заработанные деньги негде потратить, и, к тому же, привыкли к нему обитатели местные очень, а это многое значит и просто так теперь нового человека сюда не поставит, даром что люди вокруг русские, русские-то русские, да такие же заключённые как и он, но к тому же ещё безумцы, и потому ничего не соображают угнетательного в участи своей, и за благо её воспринимают, и лишь Пётр мучается долей такой, за себя вдвойне и по разу за каждого;
и когда отец Дмитрий просыпается, спрашивает у Петра он тревожно, пока тот завтрак священнику подаёт: не являлся ли сегодня сюда Брут, и не приставал ли к Марфе снова, с тревогой в голосе спрашивает он подлинной, покуда не желает он повторения этого ни за что, но глядит на отца Дмитрия, так вопрошающего уверенно, с тревогой не меньшей ответной Пётр, и отвечает отцу Дмитрию ласково и осторожно, что Брут сюда ни за что не доберётся и напрасно отец Дмитрий день каждый Божий печётся об этом, покуда Брута давно наказал батюшка Марфы бедной, но отец Дмитрий отчего-то не верит в меру эту, и не говорит ему Пётр то, что с языка сорваться готово в утро каждое, но говорить это запрещено под угрозой строгой, не упрекает отца Дмитрия, ныне так о Брута появлении пекущемся, как Марфа была Брутом изнасилована в городе ещё, ведь присутствовал поблизости отец Дмитрий тогда, присутствовал, да не помог, не среагировал никак, а лишь затем узнал об этом с уст чужих, и будто после известия этого из порядка своего он выпал, и не говорит Пётр о том, как отец Марфы и Марии зол был на отца Дмитрия, и как жаловался в управление епархиальное, и как лишили отца Дмитрия, по решению освидетельствования медицинского оплаченного и суда церковного, сана священнического, добился этого извержения из сана отец начальствующий Лев Петрович, но когда Марфу стал сюда справлять, она, безумная, востребовала отца Дмитрия, да так, что доктор не посоветовал в просьбе отказывать дочери родной, пусть и безумной, ибо благостно ей пребывание отца Дмитрия рядом, и, в самом деле, что, так опасен отец Дмитрий ваш; нет, бездействием лишь опасен и ничем более; уймите обиду тогда, Лев Петрович, и сердце отеческое тем утешьте, что когда с дочкой вашей произошло это, насилие случилось когда то есть, с ней до этого уже безумие случилось, а потому не очень-то это для неё вредительно было, хотя, простите покорнейше, вещи такие отцу разве можно, никак нет-с, нельзя; и вот, таким образом странным через каприз просьбы Марфиной оказался здесь отец Дмитрий, сана лишённый начисто, а потому просто можно было бы: Дмитрий Михайлович, да доктор не советовал, мол, для Марфы пусть он будет священником, да и для себя пусть в уверенности таковой пребывание сохранит, и потому молчит Пётр: нет, не видел Брута сегодня, отец Дмитрий, говорит лишь, и тогда отец Дмитрий смолкает и завтракает не торопясь, будто взглядом теряясь в стене противоположной, и что он себе там надумывать может, Пётр глядя на него думает, но лишь думает и не говорит ничего;
и когда отец Дмитрий просыпается, позавтракав, выходит он в это вечное осеннее лето, и дивится всякий раз красоте изумительной места этого, домом огромным старым на холма склоне крутом, лестнице величавой каменной, от времени разваливающейся, но от того ещё живописнее делающейся, ведёт лестница эта к речке узкой, холодной всегда и чистой, с течением воды быстрым и дном каменистым, меж двух холмов лесистых зажатой, с пляжем камней гранитных осколками выложенным, и будет проводить на нём день до обеда отец Дмитрий, и вечер с обеда до ужина, быть может, и все там день проводить будут, за исключением Петра, и они там уже, это же видно, машет им приветливо отец Дмитрий, и они ему в ответ улыбаются, мол, доброе утро, отец Дмитрий;
и когда отец Дмитрий просыпается, вниз спускается к пляжу он, как все здесь место это окрестили, хотя купаются здесь реже, чем в месте любом реки какой угодно, пока идёт по лестнице вниз он, они все, ввосьмером, глядят на этого человека в одеянии чёрном, и не видят они насколько истрепалась ряса отца Дмитрия, покуда не могут даже подобное себе помыслить, ибо с достоинством держится он, да и Марфа настолько убедила всех, что человек этот единственная надежда их на спасение, под коим не к здравомыслию возвращение банальному имеется в виду, но спасение душ их заблудших, и настолько чтили они Марфу, внемля просьбам коей, отец её, светлейший Лев Петрович поместил их сюда вместо больничных клеток белокафельных и хлороисточительных, настолько Марфа спасла их этим уже, что, ежели она ещё и души спасти им обещает, так нельзя ей уже не поверить в чём-либо, а теперь, за время это долгое отец Дмитрий стал им родным, а ещё прежде они сами ему родными сделались, все семеро, за исключением Марфы, все, кого сюда поместили вместе с ней в бессрочное забвенное пребывание;
и когда отец Дмитрий просыпается, и на пляже оказывается, спрашивает он у паствы своей, приветствие утреннее провозгласив, как дела у них, и они все, улыбаясь, за исключением Софьи, девочки тринадцати лет, говорят, что хорошо у них всё и как вы спали, отец Дмитрий, и отец Дмитрий отвечает им, а затем, одежду скинув, в одних плавках, в воды холодные быстрыми шагами погружается, и пока вода пробуждает его окончательно, думает всегда он об уменьшении паствы своей из Церкви Святого Иеронима до размеров восьми человек, Петра не считая, но нельзя же его не считать, и уже без скорби помышляет о том, покуда перед ликом Господним одного человека даже душу спасти задача достойнейшая, и статистика здесь не работает, мол, буду общаться с тысячью, глядишь кто-то уверует достойно, а там уж и спасётся, нет, не так; вот, самая компактная в мире паства, суженная до коммуны невиданной безумцев из восьми человек, и я с ними девятый, улыбается себе отец Дмитрий, и из воды выходит весь мокрый и на солнце блестящий, и кажется, будто сильнее него нет никого, чем восхищение у паствы своей неизменное вызывает;
и когда отец Дмитрий просыпается и, в реке искупавшись, на берег выходит, то идёт он сразу к Марфе, сидящей на камне большом с книгой какой в руках, и глядит на неё с симпатией, а она лицо к нему поднимает и улыбается завсегда грустно немного, но приветливо, и отец Дмитрий не стремится её к веселию праздному обращать, он спросит лишь как её самочувствие, какую книгу читает, и она говорит ему: всё в порядке, отец Дмитрий, вот, теперь Гессе Германа читаю, в бисер игру, и там прямо как вы есть, учитель Кнехт, герой главный, и пересказывать начинает книгу, и когда она так делает, непременно к ней подходят все остальные, им интересно эти рассказы Марфины слушать, а ей нравится им рассказывать, и после на вопросы их до обеда самого и даже во время оного, пока Пётр тарелки перед ними расставляет, отвечать;
и когда отец Дмитрий просыпается и отобедает когда, отправляется он в комнату свою, где впадает в забытье странное, для остальных сном его послеобеденным является оно, и забытье это непременно с того начинается, что сокрушается отец Дмитрий, поскольку задания ещё не выполнил, не расследовал смерти причину отца Георгия, хотя и понимает: причин у смерти нет также, как и у жизни, а коли и нашлись бы таковые, то в руках Господа они единственно и пребывают, человека сотворивших и в прах глины возвращающих, и потому лукавое это дело: смертям и жизням причины подыскивать, и можно его лишь как иносказание к чему-то иному понимать, но об этом ином не помышляет отец Дмитрий, зато мыслями возвращается к тому, что успел узнать уже, и тогда ведёт диалог воображаемый с Андреем, чаще про себя, иногда вслух, и тогда Пётр слышит его из-за двери кельи, как они здесь комнату отца Дмитрия прозвали полушутя, а может и всерьёз, и тогда качает головой сокрушённо Пётр, но не поводит у виска пальцем дабы сказать: вот ведь сумасшедший, покуда запрещено ему здесь намёк подавать, будто что-то в доме этом отрешения мирского не так, и к тому же начинает для Петра грань уже стираться незаметно между нормальными и ненормальными, и тревожит его это и гнетёт, но чует где-то глубоко, как в грани этой исчезновения имеется истина своя, спасительная, других истин мирских даже глубже, но как только доходит до этого Пётр, то отходит стремительно от дверей кельи отца Дмитрия, и по делам своим спешит суетливо, дабы через обязанностей своих исполнение, ужин готовить следует начинать, дабы через обязанностей своих исполнение суетливое сбежать от догадки, что сам он тоже с ума сходит как и все здесь, и что это для него лучшая жизни перспектива, если ещё не сошёл, но это дело времени, причём недолгого;
и когда просыпается отец Дмитрий, то, после обеда, в комнате своей затворившись, беседы с Андреем ведёт, ибо не отдал ему креста Андрей, но так это и не страшно, ведь крест нести тоже иносказание, даже если тебе его буквально священник почивший в руки с проклятием вместе передаёт, но Андрей с беседой каждой воображаемой всё проницательнее делается, и многому в нём восхищается отец Дмитрий, и в деле отца Георгия многое уже прояснили они, вдвоём, в беседах этих, а то, что беседы эти вымышленные, да, памятует о том отец Дмитрий, но не сокрушается нисколько по поводу этому, ибо сколько бесед подлинных, люди кои между собой живые, во плоти, ведут, на деле пустословие, и похуже они вымышленного диалога с Андреем, значительно хуже, ибо не ведут к души спасению, и к трудностей мирских разрешению тоже не ведут, даже напротив весьма, и об этом тоже говорит отец Дмитрий с Андреем, и вообще обо всём они говорят подолгу, часа по три в день, не меньше;
и когда отец Дмитрий просыпается, от забытья своего послеобеденного в лес возвращается, с Андреем попрощается когда, неизменно около дверей кельи его, которую он перед ужином покидает, Марфа ждёт, и спрашивает: как там Андрей, отец Дмитрий, на что отец Дмитрий привет ей передает всегдашний от Андрея, и тогда воистину радуется Марфа, искренне радуется, и спрашивает об Андрея здоровье, и отец Дмитрий утешает её в вопросах её, не всё содержимое беседы пересказывая впрочем, и пока бродят они вдвоём, отец Дмитрий и Марфа по парку, окружающему дом этот, уже в лес через разрастание возвращающемуся, другие глядят на них с уважением, и только Софья, девочка тринадцати лет, ревнует отца Дмитрия к Марфе, а может и Марфу к отцу Дмитрию, ибо сама не разобралась ещё с этим, да и не собирается, она же ненормальная;
и когда отец Дмитрий просыпается, и с Марфой об Андрее побеседовав, и новое что-то в деле своём от беседы этой случайно вынеся, зовёт их Пётр ужинать, и тогда второй раз за день они в зале для собраний все вместе встречаются, и сидят за столом общим: во главе стола отец Дмитрий, по правую руку от него Марфа, по левую Софья, и тогда веселей Софья делается, и не печалится уже в сердце своём, и ревность изгоняет из души своей, покуда видит снова: любит она Марфу как сестру и как девушку, как сестра даже прежде Марфу не любила родная, Мария, и любит она отца Дмитрия как мужчину и как брата, хотя не знает ещё вполне что это значит, но время придёт, узнает, и глядит на это Пётр со стороны и головой лишь качает: не приведёт это всё к добру, а к чему приведёт, не ведает он, и так они вместе в зале общей сидят для собраний все, а собрания, нет, здесь не проходят почти никогда;
и когда отец Дмитрий просыпается, и день прошёл уже почти когда, и к вечеру время идёт, то выходят они все вместе, погода ежели позволяет на воздух свежий как говорится, и тогда либо к пляжу спускаются, либо, дождь если, на крыльце располагаются часто, или в зале могут остаться, когда Пётр со стола всё уберёт уже, рассаживаются они вокруг отца Дмитрия, и читает он им Писание Священное или же письма отцов святых, но сегодня вот из Завета Ветхого главы, Екклесиаста, и они слушают его, вопросами никогда не прерывая, но читает он понемногу, и после каждого отрывка они что-то спрашивают, он отвечает им или просит подождать до следующего отрывка, чаще всего на вопросы их сам не отвечает даже, а из того же Писания другой отрывок будто ответ на вопрос их зачитывает, и тогда кто спрашивал, ответ со слов Божьих, голосом отца Дмитрия озвученных, получает, и чтение они заканчивают поздно, покуда ночи здесь светлые, чаще Пётр зовёт их укладываться спать, но завершает чтение отец Дмитрий завсегда чтением псалмов, и Софья, если Петра рядом нет, просит Песнь Песней: пожалуйста, отец Дмитрий, но не любит читать Песнь Песней отец Дмитрий, ибо Марфа грустить начинает, не любит, но одну или две главы прочтёт, ибо также слово сие Божие есть, и тогда Софья, пока он читает, внимательно глядит на лицо его, и как губы его шевелятся, а когда он закончит, довольна она вполне, и Марфа не слишком печальна, а после желают все друг другу ночи спокойной, благословляет паству свою отец Дмитрий, и расходятся они по комнатам, а Пётр следит, дабы все в комнаты свои зашли и на улице никого не осталось, и лишь тогда запирает дверь дома этого, сам спать отправляясь, девятым из восьми;
и когда отец Дмитрий просыпается, и день когда закончился, следует уже ему спать ложиться, и долго сон к нему не идёт, взбудоражен ум Писанием Священным, Марфой, Софьей, Андреем и остальными не менее, с судьбами их горестными, и тогда начинает он представлять себе, будто он то один, то другой, то третья, как-то ей, этой Марфе теперь, как там засыпается, и что, если был бы он не отцом Дмитрием, но ею, начинать тогда следовало бы иначе всё: когда Марфа засыпает;
и когда отец Дмитрий просыпается, и когда Марфа засыпает, смешивается всё в свете комнаты с потолком высоким, и начавшееся кончается, а законченным выглядящее не началось ещё даже, и перед самым сном, находясь в комнате один и слыша леса шум за окном, чувствует отчётливо отец Дмитрий как его волос касается чья-то рука, но в комнате нет никого, и неужели же это вторая ладонь Господа?



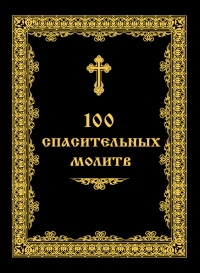


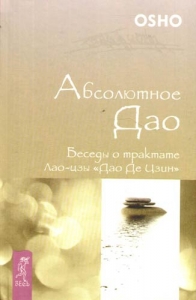
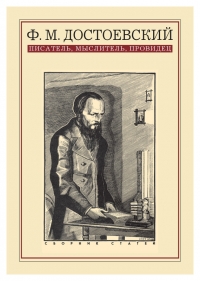

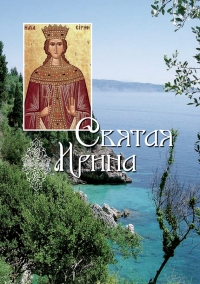

Комментарии к книге «Имя Твоё», Михаил Александрович Богатов
Всего 0 комментариев