Андрей Ткачёв «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ
Часть I. КТО ВНУШИЛ НАМ МОЛЧАТЬ О САМОМ ГЛАВНОМ
КИРПИЧ
Мама, а знаешь, Кельнский собор начали строить в XIII веке и до сих пор не до конца закончили.
– Угу, – мама глядит в кухонную раковину, куда из крана льется вода. Она моет посуду и вполуха слушает сына, вертящегося возле нее.
– Мама, а собор Нотр-Дам-де-Пари строили почти 200 лет, и он называется «сердцем Парижа». Там Квазимодо на колокольне жил, помнишь?
– Угу, – тарелки гремят, вода льется, и мать не оборачивается. – Откуда ты всего этого набрался?
– Я смотрел фильм по «Дискавери» и записывал все в тетрадку. А знаешь, какие еще соборы готические есть?
– Какие?
– Амьенский, Ахенский, Бернский. Их все столетиями строили. Представляешь, люди умирали и рождались, поколения менялись, а собор все строили и строили?
– Представляю.
– А еще во Франции были такие места, где больших камней не было. Туда в монастыри ходили люди и тоже долгие годы носили с собой камни. Им так монахи повелели. Или попросили. А когда камней стало много, из них соборы стали строить. Они и до сих пор стоят. Классно, правда?
Мать закрутила кран, повернулась к сыну и, вытирая полотенцем руки, спросила:
– И к чему ты мне все это рассказываешь?
– К тому, что я в лагерь еду от храма, а лагерь стоит там, где храм строят. А там кирпичей мало и люди бедные. Им нужно по кирпичу привезти.
– Как это «по кирпичу»?
– Просто. Каждый берет кирпич и везет. Это недорого и не тяжело. Кто-то два или три привезет, и они за лето храм закончат.
– Так тебе что, кирпич нужен?
– Ну да.
– Это – к папе. Не женское дело – кирпичи носить. К папе.
* * *
Мальчика, пристававшего к маме, звали Елисей. Не шибко привычное по нашим временам имя, но красивое и, главное, церковное. Папа очень хотел назвать сына как-то так: Рафаил, или Захария, или Софроний. Папа был интеллигентнейшая и глубоко верующая душа не вполне от мира сего, и мама смирялась с его особенностями, здраво рассуждая, что иные жены смиряются с вещами похуже. Рафаила и Захарию она отмела, а на Елисея согласилась, о чем сама никогда потом не жалела. Через день после описанного диалога Елисею предстояло путешествие в церковный летний лагерь, куда организаторы, в плане помощи местному приходу, просили привезти по кирпичу. Дело хорошее, не тяжелое и на века зримо остающееся вкладом в молитву Церкви. Вопрос оставался за малым: предстояло найти кирпич.
* * *
Илья Ильич (звали папу так же, как Обломова, но характеры его и литературного героя не совпадали) был человеком добрейшим и культурнейшим. Он был несколько наивен, но зато весьма активен и последователен. Совесть Ильи Ильича требовала от него великой щепетильности. То, что другие берут без спроса, а потом спят спокойно, он непременно покупал или просил в подарок, обещая достойную замену. А иначе, простите, был не обучен.
Кирпичи у нас продаются оптом на складах стройматериалов, а в розницу – на стройках. Но и там розница – это не один кирпич, а тачка, кузов «Жигуля» или нечто от таковых. Илья Ильич нашел стройку и стал высматривать, кто мог бы ему кирпич продать. Двое людей, похожих на тех, что действительно могут продать кирпич в темном переулке, стояли у плиты подъемного крана и курили.
– Простите, вы не могли бы мне продать кирпич?
– ???
– Я спрашиваю: кирпич не могли бы мне продать?
– А сколько тебе?
– Один.
– ???
– Понимаете…
Тут Илья Ильич начал сбивчиво объяснять что-то о лепте на храм, о Елисее, едущем в лагерь, о Кельнском соборе и поймал себя на мысли, что в глазах этих добрых людей он выглядит не очень адекватно. Они и сами поняли, что имеют дело с кем-то непривычным, но безобидным.
– Бери кирпич и иди, – буркнул один, отщелкивая пальцами окурок.
– А сколько он стоит, и кому заплатить?
– Ты че – в натуре идиот или прикидываешься?
* * *
Так кирпич был приобретен. Оставалось теперь только узнать его цену и отдать ее кому-то в виде милостыни, раз добрые рабочие согласились благотворить бесплатно. Ну, а пока…
– Ил я! (Так мама ласково называла папу.) Откуда в ванне столько грязи?
– Я мыл кирпич. Не повезет же мальчик на стройку храма грязный кирпич.
– Йля, ты неисправим. Это же просто кирпич! Ты в своем уме?
– Сонечка, я в своем уме и поступаю совершенно правильно. Лучше скажи мне, кому отдать деньги за кирпич, потому что я себя неудобно чувствую. Кстати, сколько он стоит?
– Не смеши людей. Он ничего не стоит. У нас от дома отвалилось сразу три кирпича. Бери любой.
– У нас от дома? А ведь это идея! Мы возьмем кирпич от нашего дома и вложим его в стены будущего храма! Как тебе это? Где они лежат?
– Да под балконами, со стороны клумбы.
– Я возьму этот кирпич и положу его на место того, да?
– Ты с ума меня сведешь своими причудами. Делай, что хочешь, и уходи из ванны. Я уберу за тобой. Ну, хуже ребенка!
* * *
Если вы думаете, что заменой кирпичей все кончилось, то вы не знаете Илью Ильича. Сначала он действительно заменил кирпичи, стараясь класть «свой» точно на место выпавшего из кладки дома. Но потом он подумал, что сразу три кирпича – это символично. Причем все три – из их дома, а семья у них как раз состоит из трех человек. В общем, втянув ноздрями сладкий воздух повседневной мистики, Илья Ильич взял все три кирпича домой и, конечно, вымыл их в ванне с мылом. Потом он подумал, что тот, четвертый кирпич, который по счету – первый, не стоит оставлять на месте трех. Как-никак, один – это не три и замена неравнозначна. Он решил взять все четыре кирпича, а цену их узнать и в ближайшее воскресенье отдать нищим у входа в их приходскую церковь.
Узнавание в Интернете цены товара, мытье стройматериалов и укладывание их в багаж весь вечер сопровождалось то истеричным смехом, то гневным криком мамы. Но дорогу осиливает идущий, и близко к полночи дело было сделано.
* * *
Скажите, если вы помогаете кому-то нести багаж, а он оказывается весьма тяжелым, то что вы спрашиваете? Вероятно, вы спрашиваете хозяина багажа: «Ты что, туда кирпичей наложил?» Именно этот вопрос задавали Елисею все, кто хоть пальцем трогал его дорожный чемодан. И всем тем, кто трогал хотя бы пальцем его дорожный чемодан, он отвечал искренно: «Да, кирпичей наложил».
* * *
Добрались они до места хорошо, и смена в лагере прошла отлично, и храм в соседнем селе, действительно, за лето подняли и успели накрыть. Все четыре Елисеевых кирпича вкупе с прочими дарами и жертвами пришлись кстати. И цена кирпичей отцом была узнана, но оказалась она столь скромной, что пришлось умножить ее еще на четыре, чтобы воскресная милостыня Ильи Ильича оказалась достаточной, а не обидно ничтожной.
Вы, вероятно, смеялись, читая эту историю, – уверяю вас, я сам смеялся, когда мне рассказывали ее. Но согласитесь, есть в ней еще кое-что кроме повода к смеху. Есть в ней некая преувеличенная серьезность в творении маленьких добрых дел.
Вполне возможно, что серьезность эта – смешная и наивная – как-то компенсирует ту тотальную и всеобщую несерьезность большинства людей в отношении и добрых дел, и повседневных обязанностей.
ПИСЬМО К БОГУ
Обязательно нужно измениться. Иначе не стоит жить. Не стоит быть пятном на одежде, ржавчиной на металле и зловонным душком, носящимся в воздухе.
Жизнь оправдана, только если есть возможность и желание меняться к лучшему. О, Дарвин! О, армия атеистов! Если бы я был тем, кем вы представляете человека! Кусок земли, временно снабженный нервами и кровью. Никакой совести, никаких дерзаний, стремлений и угрызений. Одни инстинкты. О, рай бессознательности! Я был бы счастлив, хотя и не понимал бы своего счастья.
Вместо этого внутри меня, как угли в камине, жарко горят, сменяя друг друга, сотни сердечных мечтаний и еще тоска, лишающая мир вкуса и красок. Спросите меня: «Как твои дела?» «Снаружи прекрасно, благодаря Господу Богу, – отвечу я и добавлю: – Ужасно, благодаря моему добровольному безумию».
Совершенно очевидно, что человек без Христа мертв. Как-то страшно и фантастически мертв, хотя он и трудится, и маячит перед глазами, и даже чему-то смеется. А вот Христос жив. Его не видно. Он не «маячит» перед глазами и не смеется. Но Он жив по-настоящему, в отличие от нас. Это поразительно.
Живы и Его ученики. Мы служили однажды в память одного из святых, и один священник сказал: «Как интересно: святой (имя рек) вроде бы мертв, но на самом деле жив и собрал нас на молитву. А мы – вроде бы живы, но, скорее всего, мертвы и пришли сюда, чтоб ожить и обновиться». Он мучительно прав, этот добрый анонимный батюшка.
Вечная смерть понятна человеку, как черта собственного лица, и противна, как змея, залезшая под одеяло. Живет по истине Христос. Живет без греха, без угрызений совести, без страха перед будущим. А человек может быть мертвым, не умирая, и это жуткое состояние нужно почувствовать, чтоб его испугаться.
Где вы, атеисты? Где вы, примитивные и невнимательные мыслители? Опять на моих устах ваши легковесные имена.
Как вы беспросветно глупы! Вы, те, кто думал, что смерть – синоним исчезновения. Это легко и не страшно – умереть и не существовать.
Гораздо страшнее умереть, но не исчезнуть. Умереть, но продолжить существование в такой же, как вы, неживой действительности.
Ад – это область, населенная неумирающими мертвецами. Они не могут исчезнуть и не умеют жить. То есть не умеют любить, благодарить, молиться, каяться, смиряться.
Смотрю внутрь и закусываю губу от резкой боли. Смотрю вокруг и зажмуриваюсь. Нужен ли еще какой-нибудь ад кроме существующего ада?
Если мир – это кладбище движущихся мертвецов, то, чтобы жить, нужно умереть для мира.
Смерть для мира – это монашество.
Если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности (Рим. 8, 10).
Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим. 6,11).
Давайте станем под прицел, под хищные дула честных и беспощадных вопросов. Нам придется признать, что самое красивое и правильное в жизни – это монашество.
Я люблю его всей душой, это предстояние Богу один на один, это презрение к суете и беспощадность к собственной «многострастной плоти».
Я люблю это, понимаю, чувствую, но совершенно к этому не способен. Ведь можно же любить и понимать, к примеру, музыку или живопись, но не уметь играть ни на одном инструменте и не быть способным нарисовать даже яблоко, надрезанное и лежащее на подоконнике.
И куда теперь, с чувством и пониманием, но без воли к действию и без силы к борьбе? Куда, спрошу я вас, теперь идти человеку, не хотящему жить «так» и не умеющему жить «иначе»?
Его жизнь должна превратиться в непрестанный, не слышный для уха внутренний крик. Бесполезно звать маму и глупо кричать «ой-ой-ой!» Нужно звать Того, Кто слышит звуки, не нарушающие тишину.
Иисусе, Пастырю мой, взыщи мене.
Иисусе, Спасе мой, спаси мене.
Иисусе, желание мое…
Иисусе, надеждо моя…
Иисусе… Иисусе… Иисусе…
Я так рад, что Ты есть, и рад, что Ты жив. Что Ты был мертв и воскрес и теперь жив во веки. В мире так много стен, и об любую из них можно было бы во время тоски и отчаяния разбить голову, если бы не священный запах Твоего Имени. В мире так много причин и условий для того, чтобы сгореть, утонуть, потеряться, исчезнуть. Разве я дожил бы до сего дня, если бы Ты не спасал меня многочастно и многообразно?
Разве я писал бы сейчас эти слова на этой бумаге, если бы Ты не разрешил мне это?
Обними меня, прошу Тебя, обними и не отпускай. Ты же видишь, я похож на больного, который срывает повязки и отказывается от процедур. Ты же видишь, что, как безумный, говорю одно, делаю другое, а думаю третье. И мне не нравится это.
Если бы мне это нравилось, Ты стал бы моим врагом. Твои слова, Твой Лик, Твое присутствие стали бы для меня нестерпимы.
Но, напротив, знаю и исповедую, что жизнь – это Ты, а человек без Тебя – живой труп. Ты живешь, а мы умираем. Я и грешу потому, что грехи исходят от меня так же естественно, как исходит смрад от разлагающегося трупа. Но худшее падение – это полюбить свое падение, согласиться с ним и придумать ему оправдание. Этого во мне пока еще нет. Покуда живет «пока», покуда я не изолгался окончательно, сжалься надо мною и сделай со мною что-нибудь.
Ведь Ты же доктор, умеющий вылечить даже от смерти. Я не теряю надежды. И совесть во мне жива. Слеза, упавшая на бумагу, тому доказательство.
КТО ВНУШИЛ НАМ МОЛЧАТЬ О САМОМ ГЛАВНОМ
Кто внушил нам молчать о самом главном? Почему в информационных передачах обязательно нужно говорить о спорте, о погоде и о новостях с мировых рынков, но никогда ни слова о том, что всем нам нужно будет умереть и стать перед Богом с ответом за прожитую жизнь?
* * *
«Господи, неужели все, кто идет сейчас по улице, непременно умрут? Какой ужас!» В одной этой розановской сентенции, в одном этом испуганно-удивленном вздохе больше ума и чувства, чем в многочасовой лекции «О перспективных направлениях развития науки в XXI веке».
* * *
Трудно представить, чтобы из камеры, наполненной заключенными, каждый день молча уводили куда-то навсегда по одному узнику, а остающимся не было до этого никакого дела. Куда уводят? Отпускают на свободу, ведут пытать, расстреливать? Какая, дескать, разница. Давайте продолжать мусолить карточную колоду, или спать, свернувшись на нарах, или рассказывать анекдоты. Не верю. Так почему у нас нет тревоги и почему мы не прислушиваемся к приближающимся шагам за дверью?
Есть некий вид приличия, я бы назвал его «проклятой вежливостью», который ограничивает темы разговора до самых незначительных. Все, что тревожит душу, все, что способно затронуть за живое, этим приличием выносится за скобки. Можно мило улыбаться и, помешивая ложечкой сахар в кофейной чашке, учтиво слушать собеседника, говорящего о новом средстве от перхоти, о ценах на недвижимость, о страшной аварии, случившейся накануне. Но почувствовав вдруг, что беседа плавно съезжает на одну из важных, вечных тем, можно посерьезнеть и сказать строго: «Давай не будем об этом». Стилистика фразы может варьироваться от аристократически-чопорной до матерноблатной, но суть не в речевом этикете, а в аллергии на темы вечности, суда и воздаяния.
* * *
По телевизору идет вечерняя информационная программа. Уже рассказано о новостях в стране и за рубежом, уже подошло время новостей спортивных и прогноза погоды. Диктор произносит импровизированный или заученный слоган типа: «Как будут развиваться события, покажет "Время"» – и вдруг неожиданно добавляет: «Не забудьте помолиться на ночь, поскольку мы не знаем, проснемся ли утром». О! Это было бы интереснее всех рассказанных ранее новостей. Часть зрителей была бы обрадована, очень многие бы опешили. Сотни тысяч, а то и миллионы почувствовали бы себя оскорбленными и стали бы засыпать редакцию гневными письмами. Возможно, и редактора, и ведущего сняли бы с работы. Возможно, в аптеках исчез бы валидол, раскупленный на следующее утро либералами и атеистами. Но, поверьте, это было бы интересно, а главное, знаково.
* * *
Откуда взялся этот ложный стыд в разговоре о вере? И кто вообще придумал толерантность и политкорректность в их настоящем виде, когда парады геев проводить можно, а вслух о Боге за пределами храма говорить нельзя? Судя по всему, диавол как-то по-особенному культурен и воспитан. Но это именно те условности, на которые можно смело плевать, не боясь оказаться хамом. Конечно, можно прослыть реакционером, черносотенцем, фанатиком и еще неизвестно кем. Словарь работников либеральной прессы не намного превосходит словарь Эллочки-людоедки. Это неприятно, но не смертельно. Смертельно будет, когда всякий, убивающий христиан, будет думать, что он тем служит Богу (Ин. 16, 2).
* * *
В больших городах по радио сообщают об интенсивности движения на дорогах, о пробках и т. п. Что, если бы к этой полезной информации подмешивать немножко веры, как соль к пище? Например: «Медленно движутся машины по мосту Метро в направлении Набережного шоссе. Из-за аварии стоит мост Патона. Всем, кто попал в пробку, советуем не нервничать и не ругаться. Читайте по памяти псалом 90-й, или "Отче наш", или любую другую молитву».
* * *
Вернемся к теме смерти. Она как нельзя лучше подходит к ситуации в нашей замученной выборами стране. Философ Семен Франк говорил, что очень глупо считать полноправными членами общества только тех, кто живет сегодня. А что же те, кто отдал нам эту землю в наследство, кто защищал, пахал, застраивал ее?
Они что, навсегда исчезли и теперь не в счет? Действительно, какой жестокий и безверный подход. Неужели мы забыли, что «все живы у Бога»? Неужели мы и вправду думаем, что в данное время самые главные на земле – мы?
Накануне выборов, равно как и в дни всенародных испытаний или всенародных торжеств, нужно служить панихиды и посещать кладбища. Нужно делать то, что мы делаем на Радоницу, когда поем Пасхальный канон над могилками. Так мы делимся с усопшими радостью или вовлекаем их в свои тревоги. Но и то, и другое есть победа веры над смертью.
* * *
Если вера не занимает главное место в нашей жизни, значит, у нас ее нет. Эта фраза вертелась однажды у меня в голове, в то время как руки мои крутили руль автомобиля. На багажниках машин, ехавших впереди меня, то и дело попадались игривые наклейки вроде «Тише едешь – меньше должен» или «Не едь за мной. Я заблудился». Прочтешь, улыбнешься и едешь дальше. И вдруг читаю неожиданную надпись: «Господи, благослови того, кто едет за мной».
И стало хорошо на душе. Тихо на душе стало, хотя дорога в четыре ряда была плотно заполнена рычащими автомобилями.
ЛЮБОВЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Помню, смотрел пару лет назад одно ток-шоу. Их у нас так много, что название забыть не составит труда. Там обговаривались темы верности, измен, блуда. Были, как водится, психологи, депутаты, артисты. Был там и известный клоун, дрессировщик кошек Юрий Куклачев. От него я лично ничего серьезного услышать не ожидал. Клоун все-таки. Но получилось иначе, и то, что получилось, было знаменательно.
Обидную чушь и набор банальностей несли все, кроме него, – психологи, звезды и депутаты. А вот клоун взял да и рассказал историю из цирковой практики. В истории речь шла об одном артисте, который женился на женщине из труппы старше его лет на десять-пятнадцать. Ему еще не было тридцати, кажется, хотя за цифры я не отвечаю. Друзья отговаривали его от подобного брака. Дескать, ты через десять лет будешь еще «ого», а она, мягко выражаясь, уже совсем «не ого». Но они поженились и те десять лет, о которых говорили друзья, со временем прошли.
Он, действительно, как мужчина был еще «ого-го», и она стала такой, как предсказывали. Но чудо заключалось в том, что он любил ее, не думал бросать и к нежности отношений подметалась необидная жалость и бережность. Доброжелатели советовали разводиться или ходить налево по причине очевидной разницы в возрасте, а наш герой, по словам Куклачева, был верен своей подруге и отвечал почти гоголевской фразой: «Она же человек».
Такая вот история о победе совести над гормонами, прозвучавшая из уст клоуна, за что я перед ним снимаю шляпу. И еще он сказал, этот мудрый клоун, который улыбается на сцене и, наверное, грустит за кулисами, что слово «блуд» указывает на блуждание, то есть неприкаянность. Не нашел себя человек, вот и блудит из стороны в сторону, из постели в постель, от эмоции к эмоции. А человеку ведь нужно найти себя и успокоиться, потому что броуновское движение неприкаянного искателя счастья только ранит всех вокруг и его самого в придачу.
«Удивительно мы живем, – подумал я тогда, – князья злодействуют и лекари калечат. От священника иной раз слова не услышишь, а на правую дорожку тебя скоморох наставит. Русская непредсказуемость. Картина маслом».
И еще одну историю я вспоминаю, коль скоро разговор зашел об «ответственности за тех, кого мы приручили». Это я уже видел не на экране, а перед носом без помощи технических средств. Жила-была молодая и успешная в мирском смысле супружеская пара. Были деньги, был статус, были силы. Ребенок был, один (потому как лучше одному все дать, чем голытьбу плодить, так ведь?). И вдруг хрустальный замок превращается в груду осколков по причине автокатастрофы. Мужа парализует после аварии. Сначала отнимаются ноги, потом болезнь поднимается вверх, угрожая полной беспомощностью. Жизнь превращается в кошмар. Поиск врачей, нехватка денег, массирование пролежней, утки, сиделки. Врагу не пожелаешь. И молодая жена вскоре говорит парализованному мужу пару емких фраз: «Я еще молодая. Я жить хочу». Потом хлопок дверью и – до свиданья.
Я соборовал и причащал этого мужчину, и лишь из этических соображений не называю его имя и отчество. У него на момент нашего знакомства уже была вторая жена. Это была брошенная своим первым мужем хорошая женщина, хлебнувшая горя и связавшая свою жизнь с жизнью калеки. Они были нежны друг с другом и веселы на людях. И только морщины вокруг глаз указывали на то, чего им стоило это веселье. А что же первая? Та, что хотела жить и жалела пролетающую молодость? Она очень скоро тоже попала в автокатастрофу. В той аварии она разбилась насмерть.
Теперь самое время помолчать и подумать. Самое время перебрать в уме кубики с надписями «случайность», «возмездие», «нравственный закон», «какой ужас!», «так и надо!». И дело в том, что жизнь, упорно желающая быть похожей на глянец, кишмя кишит подобными примерами. Именно подробные примеры и есть лицо жизни без макияжа. Об этом надо говорить и думать. Тогда шансы остаться человеком хоть чуть-чуть, но увеличатся. У нас в православии нет венчальной клятвы, как у католиков. Да и не надо. Но смысл имеющейся у них клятвы стоит знать. Врачующиеся перед Лицом Бога обещают быть друг с другом вместе всегда: в здоровье и болезни, в молодости и старости, в бедности и богатстве. Мы этого вслух не произносим, но, несомненно, подразумеваем. Крепость нашего союза должна быть безусловной и вечной. Этого требуют и вера, и совесть. Это и есть настоящая жизнь, а не игры в погоне за миражами.
Вот пишу и вижу в памяти эпизод из «Иронии судьбы». Главный герой возвращается домой из Ленинграда, устало прислонившись к стеклу вагона, а за кадром звучат стихи. Это хорошие стихи. Там есть такие финальные строчки:
С любимыми не расставайтесь!..
Всей кровью прорастайте в них, –
И каждый раз навек прощайтесь,
Когда уходите на миг!
СКАЗКА
Хочу поделиться радостью – пересказать полезную и прекрасную идею. Не я придумал. Я только услышал. За что купил, за то и продам. Это не голая идея, а идея, одетая в форму сказки. Сказка, как шубка, тепла и пушиста.
Слушайте.
* * *
Один король с женой и единственной дочкой отправился в путешествие на корабле. Их корабль попал в шторм и, разбитый волнами, утонул. Погибла вся команда, но Бог сохранил короля и его семью. Их выбросило на берег и там, в лохмотьях, как нищие, они стали искать ночлег и пищу. Никто из них даже не заикнулся о том, что они – особы благородной крови. Кто поверил бы трем оборванцам? Их могли бы и высмеять, а то и подвергнуть побоям. Ведь не все любят нищих, а уж наглых нищих не любит никто.
Так случилось, что один из жителей той страны приютил у себя несчастных, а взамен повелел пасти свое стадо овец. Король стал пастухом, а королева и принцесса – женой и дочкой пастуха. Они не роптали на судьбу, только иногда по вечерам, сидя у огня, вспоминали жизнь во дворце и плакали.
Король той страны, где они очутились, искал невесту своему сыну. Несколько десятков пар гонцов разъехались в разные концы королевства в поисках самой красивой, самой умной и самой благочестивой девушки. Они получили от короля приказ не пренебрегать дочкой даже самого последнего бедняка. Ведь умыть, приодеть и научить манерам можно любую, а дать человеку ум или целомудрие гораздо сложнее, а то и вовсе невозможно. Поэтому гонцы беседовали со всеми девушками, присматривались к ним, просили угостить едой, которую те приготовили. Все, что видели они, записывалось в специальные книги, и затем мудрейшие придворные изучали записи в поисках лучшей невесты принцу.
Увидели гонцы и дочку бедного пастуха, начавшего было забывать о своей королевской короне. Дочка была прекрасна. Она и в простой одежде была так грациозна, словно была одета в дорогое платье. Солнце сделало ее смуглой, а свежий воздух обветрил лицо, но это только добавляло ей миловидности. Что же касается разговора, то восторгу послов не было предела. Столько ума и такой эрудиции они не встречали и при дворе. Нужно было доложить о ней принцу. Тот, услыхав о красавице-простолюдинке, не ждал ни секунды, и вскоре его взмыленный конь уже стоял у порога пастушьей хижины. Принцу хватило нескольких минут, чтобы сердце его заныло от глубокой любовной раны, исцелить которую могла лишь та, чей взгляд эту рану нанес.
И дело, казалось, было решено, но странно вдруг повел себя отец. Этот пастух, который во сне иногда все еще видел себя королем, потребовал от принца знаний какого-то ремесла. «Вы должны, – сказал он принцу, – уметь делать что-то руками. Неважно, что». «Но я – принц. Я умею разбирать дела государства, владеть шпагой, принимать послов и подписывать договоры», – с удивлением отвечал молодой человек. «Да. Это правильно. Но я хочу, чтобы вы знали ремесло плотника, или ювелира, или портного, или любое другое. Если нет, дочь моя не станет вашей женой»
Видит Бог, каких усилий стоило принцу не заколоть на месте этого наглого пастуха. Но принц сдержался. В тот же день он уже ходил по базару, присматриваясь к работе ремесленников. Кузнецы, чеканщики, повара, ловцы птиц, сапожники. Как их много, и как тяжел их труд. Обучаться любому из ремесел придется долго, а любой, кто знает томленье любви, согласится, что ожидание – худшая мука для влюбленных.
Принц остановил свой выбор на человеке, плетущем циновки. Два дня он учился, и к концу второго дня три циновки были худо-бедно сплетены руками королевича.
С изделием своих рук опять стоял королевич перед лицом отца своей избранницы. Пастух держал в руках и пристально рассматривал труд будущего зятя.
– За сколько можно это продать? – спросил он.
– За две медные монеты каждую.
– Как долго ты их плел?
– Два дня.
– Два дня, три циновки, шесть монет, – произнес отец и вдруг сказал: – Бери в жены мою дочь!
Принц даже подпрыгнул от радости. Затем обнял отца. Затем подошел к раскрасневшейся избраннице и, склонившись на колено, поцеловал ей руку. Но затем он повернулся к будущему тестю и спросил голосом не жениха, но будущего короля: «Объясните мне свое поведение»
«Видишь ли, сынок, – отвечал пастух, – я ведь тоже был король. Я водил войско в битву, и подписывал законы, и вслушивался в доклады министров. Никто не мог подумать, что я буду оканчивать жизнь простым пастухом.
А когда Бог изменил мою жизнь, больше всего я страдал оттого, что не умел ничего делать по хозяйству. Если бы я умел плести циновки, то шесть монет за каждые два дня сильно помогли бы моей семье».
* * *
Бы прослезились, господа? Если нет, то сердце ваше жестоко. Я смахиваю слезу всякий раз, когда пересказываю эту историю. А пересказываю я ее не первый десяток раз.
Мы хотим, чтобы дети наши подписывали важные бумаги и ездили в дорогих машинах. Но жизнь может сложиться по-всякому. Вдруг им придется держать в руках лопату, ходить пешком и утолять жажду простой водой? Тогда они, изнеженные и неспособные к простой жизни, проклянут нас. Эта мысль была понятна многим. Солон, древний мудрец и творец законов, разрешал детям не кормить на старости того отца, который не научил сына ремеслу. И апостол Павел много послужил проповеди Евангелия тем, что ничего не брал у паствы, но нуждам его служили его собственные руки, владевшие ремеслом делателя палаток.
Это была сербская сказка, господа. И люди, сложившие ее, кое-что понимали в жизни, хотя Западный мир с презрением и называл их свинопасами. Если в головах свинопасов живут такие высокие мысли, то я, господа, готов обнимать таких свинопасов, как братьев, и спокойно проходить мимо «звезд», о которых пишут в журналах.
СЛУХ И ЗРЕНИЕ
Есть арабская пословица, гласящая, что между правдой и ложью расстояние – ладонь. Человек гармоничен, и отдельные части тела вписаны, встроены в целое на основании четких пропорций. Так расстояние между глазами в идеале равно размеру глаза. Рост человека соответствует размеру головы от подбородка до макушки, умноженному на семь. Таких строгих математических соответствий в нашем теле много. Греки подробно изучали и высчитывали их. Поэтому в известной фразе «Человек – мера всех вещей» есть место и для подобных математических открытий. Да и греческая скульптура непревзойденно красива благодаря найденной гармонии между частями и целым.
Итак, расстояние между глазом и ухом равно ширине ладони. В этом смысле пословица называет «правдой» глаз, а «ложью» – ухо и измеряет дистанцию между ними. То, что тебе сказали, может быть ложью. По крайней мере, ты этому не очевидец. Но то, что ты видел, – это правда, и ты ей – свидетель. В этих отношениях между виденным и слышанным, а также между органами слуха и зрения, соответственно, выражено сложное отношение между Ветхозаветным и Новозаветным мировоззрением.
И слух, и зрение принадлежат к одному телу, как и оба Завета принадлежат к одному Писанию и исходят от одного Бога. Но картины мира, рождаемые слухом и зрением по отдельности, не полны и нуждаются друг в друге.
И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? (1 Кор. 12,16).
Ветхий Завет – это религия слуха. И говорил Господь к вам на горе из среды огня; глас слов Его вы слышали, но образа не видели, а только глас. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день (Втор. 4, 12, 15). Строго-настрого вменяется в обязанность израильтянам рассказывать о чудесах Божиих своим детям и детям детей. Дверями слуха вера совершает свое течение во времени, от поколения к поколению, ибо вера от слышания, а слышание от слова Божия (Рим. 10, 17). Так долго жили люди, имея веру, но, не имея света и зрения, как бы во тьме, сообщая друг другу заповеди и обетования. И было так, пока не пришел Христос.
Его Пришествие евангелистами сравнивается с сиянием великого света. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет (Мф. 4, 16), – так цитирует пророка Исаию апостол и евангелист Матфей. А вот как, никого не цитируя, говорит Иоанн Богослов: Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал (Ин. 1, 9–10).
Этот Свет вошел в мир с великою кротостью, чтобы никто не ослеп от Его прихода. Ведь известно, что людям, привыкшим к темноте, больно смотреть на рассвет. Однако нашлось множество любителей мрака. Сами себя они считали зрячими и спрашивали: неужели и мы слепы? (Ин. 9, 40). Эти наглые кроты, эти жители подземелий объявили Сыну Божию войну. До сих пор эта война не прекратилась.
Но были и другие, те, которым Господь сказал: Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали (Мф. 13, 17). Обетования во Христе исполнились. Спасение во Христе совершилось. Теперь история мира длится, чтобы люди, эти свободные личности, в свободном акте веры усваивали плоды спасения и прививались ко Христу, как дикие ветки – к благородной маслине.
Ветхий Завет не изжит до конца. Его можно изжить, преодолеть только внутри своей собственной жизни, совершая переход от Закона к благодати, от ветхого к новому. Поэтому сказано, что тьма не «прошла», но «проходит». Еще тяготеет смерть, еще плоть и дух воюют друг с другом, еще сопротивляется диавол. Но тьма проходит и истинный свет уже светит (1 Ин. 2, 8).
Увидел Христа Павел и потом всю жизнь служил Христу, говоря: ходим верою, а не видением (2 Кор. 5, 7). Сердечными очами видели Христа все, любящие Его, потому и поется на воскресной утрене «Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу».
Изживая внутри себя Ветхий Завет, мы становимся похожи на слепого Вартимея, сидевшего у ворот Иерихона. Тот был слеп. Он слышал об Иисусе и верил, что Иисус силен исцелить его (см.: Мк. 10, 46 – 52). Чувствуя приближение Спасителя, Вартимей стал сильно кричать и молиться. Ему мешали, но он кричал еще сильнее. Наконец Господь спросил слепца: чего ты хочешь от Меня? Услышав просьбу об исцелении, Христос исцелил Вартимея. Вера, бывшая от слышания, стала зрячей, и он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге (Мк. 10, 51-52).
Можно сказать еще и о том, что глаз и ухо сами по себе являются чудесными творениями. Любая популярная медицинская книжка по офтальмологии или отоларингологии может читаться, как фантастика. Органы слуха и зрения, со всеми мельчайшими волосиками, пленочками, косточками, являются произведением не просто Художника, а Ювелира. Если так сложен и точен глаз, при помощи которого человек видит мир, то насколько же зрячим является Творец глаза?! Если обычное ухо самого немузыкального человека – это сложнейшее и искуснейшее изобретение, то насколько же тонок слух у Создателя уха?! Воистину, насадивший ухо не услышит ли? и образовавший глаз не увидит ли? (Пс. 93, 9). От Него ли мы, люди, хотим укрыться?
Смиримся перед лицом Его и помолимся, чтобы войти нам в то Царство, которого не видел глаз, не слышало ухо, и красота которого не приходила на сердце человеку. В Царство, которое Бог приготовил любящим Его (см.: 1 Кор. 2, 9).
ЕДИНСТВЕННЫМ, НЕПОВТОРИМЫЙ
Мы все живем в одном и том же мире, который все больше приобретает черты огромного дома или даже непомерно разросшейся коммуналки. Но в то же время, мы живем в довольно обособленных, закрытых мирах, отчего разговор двух землян сплошь и рядом рискует быть похожим на разговор лунатика с марсианином. Эти обособленные миры заключены в наших грудных клетках и черепных коробках. Это внутренние миры, которые у двух наудачу выбранных людей никогда не совпадают. Дай Бог, чтоб хотя бы пересеклись или только соприкоснулись.
Четыре человека едут в одном купе до одной и той же станции. Едут на фирменном поезде из Киева во Львов. Пиджаки сняты, чемоданы водворены под сиденья, постели застелены, билеты проводнице отданы. Можно раскладывать на столике «что Бог послал», заказывать чай и коротать время за самыми приятными занятиями – беседой, едой, смотреньем в окно и мерным, усыпляющим покачиванием под стук колес.
Первая порция чая выпита, и проводницу попросили «повторить». Совершилось шапочное знакомство и нащупаны темы для разговора. Выборы, футбол, курс доллара, анекдоты, истории из жизни…
* * *
Один из попутчиков был в столице по делам министерства. Он ходил бесшумными шагами по мягким коврам, сидел с умным видом на убийственно длинном совещании, что-то доставал из папочки, зачитывал, выслушивал замечания, делал записи в блокнот. Он краснел, зевал, вытирал пот, смотрел на часы, считал оставшееся время до отъезда. Потом, за два часа до поезда он пообедал, нет, скорее – поужинал, наблюдая в окно за тем, как темнеет воздух на улице и зажигаются огни большого города. И вот теперь он здесь, в купе, слушает собеседников, вяло поддерживает разговор и мечтает вытянуть ноги на сырой простыне и такой же сырой простыней укрыться.
– Вот у нас был случай во дворе. Мужик имел любовницу в соседнем доме. Как-то раз говорит жене, что его отправляют в командировку. Собирает белье, бритву, тапочки в чемодан и «едет» в соседний дом на неделю. Ну а бабы – они везде бабы. Любовница его заставляет по вечерам, когда совсем темно, мусор выносить. Ну, он и задумался о чем-то своем, вынес мусор и на автопилоте пошел обратно. А ноги его привычно привели в собственный дом, задумчивого, в тапочках и с чужим мусорным ведром. Как он отверчивался, ума не приложу.
Последняя фраза была перекрыта взрывом дружного хохота.
* * *
Второй пассажир ездил к дочери. Помогал по хозяйству, нянчил внука. Уже третий раз он приезжает в Киев недели на две и сидит в четырех стенах на седьмом этаже, спускаясь вниз только вместе с коляской.
Он ни разу не был ни на Майдане, ни на Крещатике, не посетил ни одного театра или музея. Он не сделал ничего из того, что рисовало ему воображение, когда он гордо говорил соседям: «Еду в Киев к детям». По музеям он ходить, конечно, не любит и театр не понимает, но искренне считает, что житель столицы или гость ее обязан, так сказать, потребить некую порцию культурной пищи. В этот раз опять не заладилось. Но зато новости он слушал по телевизору регулярно и был способен поддержать любую болтовню на политическую тему.
– У моего батьки в колхозе был сумасшедший голова. Злой, как зверь. Мог людей избивать даже, и никто ему слова не говорил. Все боялись. Как-то раз одна баба пошла на колхозное поле кукурузу красть. Только приступила, видит – на дороге фары мелькнули. Она думает: «Это УАЗик головы!» – и со страху бежать. Через дорогу – кладбище старое. Она между могил села и сидит, как мышь, дрожит. Уже УАЗик проехал, а она не выходит. Вдруг смотрит – два пьяных мужика ведут по кладбищу бабу. Остановились недалеко от той, что спряталась, достают стакан и бутылку, наливают и говорят своей бабе: «Пей». Та отвечает: «Не буду». Они снова: «Пей!» Ясно, что хотят ее напоить и… того… Та баба, что спряталась, видит – надо спасать землячку. Ну и, пока те свое твердят: пей – не буду, пей – не буду, она вытягивает руку из венков и говорит: «Давай я выпью».
Поезд заезжает в тоннель, и взрыв хохота совпадает по времени с внезапным наступлением темноты. Кажется, что у всех потемнело в глазах именно от смеха.
– И что было дальше?
– А что было? Посадили ее – ту, что в венках спряталась.
– За что?
– За то, что один из тех мужиков умер на месте от разрыва сердца.
* * *
Третий путник был совсем еще молодым человеком, почти мальчиком. Он ездил сдавать документы в консерваторию и был плохо способен к поддержанию разговора. Из всего существующего на свете занимала его только музыка. В Киеве он был впервые и из всех впечатлений дня главными были испуг и усталость. Молодой человек был напуган многолюдством, суетой и расстояниями. Столица показалась ему муравейником, в котором все спешат и все друг другу безразличны. Уже к концу дня он смертельно устал от метро, от шума, от контраста между лицами, улыбающимися с рекламных плакатов, и угрюмо сосредоточенными лицами на улицах. Юноша привык слушать больше музыку, чем слова, и к концу этого дня звуки Киева измучили его слух.
Как тот набоковский шахматист, которому мир представлялся разбитым на клетки, а сама жизнь – похожей на хитрую партию с неизвестным соперником, этот молодой человек представлял мир зашифрованным нотными знаками. Он еще не успел испытать ни любви, ни ненависти, он еще даже не начал бриться, и не интересовало его покамест ничего, кроме специальных предметов, преподаваемых в только что оконченном музучилище. Ему было отчасти неловко, отчасти скучно. Но просто молчать и смотреть в окно он позволить себе не мог.
– У Мусоргского… Ну, знаете, есть такой композитор – Мусоргский. Он был очень талантлив и опередил свое время, только он пил очень много. Ну, короче, у него есть такое произведение – «Картинки с выставки». Это такие музыкальные пьесы: «Тюильрийский сад», «Два еврея, богатый и бедный», «Балет невылупившихся птенцов». И там есть такой фрагмент, который называется «Быдло». Нам преподаватель рассказал анекдот, как на концерте однажды выходит женщина-конферансье и объявляет: «Мусоргский. Падла.» Ей из оркестра шепчут: «Дура. Быдло. Быдло!». А она поворачивается к ним и говорит: «Сам ты быдло». Потом опять в зал громким голосом: «Мусоргский. Падла!»
Безразличные к Мусоргскому, мужики все же от души рассмеялись над историей, повторяя затем в уме «падла» и «быдло» и стараясь не перепутать, что здесь ошибка, а что – название произведения.
* * *
Четвертый попутчик ездил в Киев к товарищу. Они были в школьные годы «не разлей-вода» и продолжали дружить после армии. Потом дороги их разошлись, друг перебрался в Киев, и вот, лет двадцать спустя, они нашлись на сайте «Одноклассники». Стали переписываться в сети, потом друг пригласил его в гости. Теперь он возвращался домой, перебирая в памяти обрывки впечатлений. Главным впечатлением было посещение Лавры. Приглашавший и принимавший его друг искренно удивился, узнав, что школьный товарищ много раз бывал в Киеве, но ни разу не удосужился спуститься в пещеры и пройтись с молитвой по темным подземным коридорам. Б один из дней они и поехали в Лавру, спустились в Ближние пещеры и неторопливо обошли их. Возле каждого гроба останавливались, крестились и целовали стекло над мощами. Друг кратко рассказывал о каждом святом, и было видно, что с Лаврой и ее историей его связывает крепкая многолетняя любовь.
Это воспоминание и эти впечатления действительно сейчас казались возвращавшемуся мужчине главными во всей поездке. Все остальное отодвинулось на обочину сознания и представлялось маленьким и несущественным. Было действительно странно, почему до сих пор он ни разу не бывал в этом полумраке, где тьму слабо рассеивают свечи, где воздух пахнет особо и где люди молятся у гробов с мертвыми телами так, словно лично знакомы с усопшими и продолжают с ними общаться, несмотря на очевидно и давно наступившую для тех смерть.
Четвертый попутчик не позволял себе окунуться в мистические переживания и размышления полностью. Он чувствовал, что воспоминания эти остались на дне души, как не растворившийся сахар на дне выпитого стакана чая.
Он чувствовал, что воспоминания эти никуда не денутся, что они не раз еще воскреснут в душе и поведут ее, душу, за собой в какие-то пока не известные дали.
Он пил чай вместе со всеми, и смеялся над анекдотами и историями, и рассказывал их сам, когда подходила очередь. Только рассказывал что-то очень короткое, вроде: «Рабинович, вы устроились? – Нет. Работаю».
Утреннее пробуждение в поезде всегда хлопотно. Тот интимный момент, когда человек проснулся и хочет вылезти из-под одеяла, в поезде отягчен присутствием большого количества чужих людей.
Люди встают, одеваются, с помятыми лицами выходят в коридор, занимают очередь в уборную. Люди опять заказывают чай, смотрят на часы, спрашивают друг друга, сколько осталось до прибытия и без опоздания ли идем.
Когда поезд прибудет на перрон, пассажиры с чемоданами и сумками в руках будут, один за другим, покидать вагоны. Можно представить себе, как к каждому из них подходит некто и задает один и тот же вопрос: «Где вы были?». Люди, покидающие поезд «Киев – Львов», прибывший по назначению, будут отвечать: «Я был в Киеве».
«Я был в Киеве», – скажет чиновник министерства.
«Я был в Киеве», – скажет отец семейства, проведавший дочку с зятем и внука.
«Я был в Киеве», – скажет юноша, сдавший документы в консерваторию.
«Я был в Киеве», – скажет мужчина, гостивший у друга и впервые посетивший Лавру.
Никто из них не соврет, в случае если вопрос будет задан, но очевидно, что все они побывали в разных городах. И дело не в том, что Киев огромен и каждый находит там то, что его интересует. В этом смысле огромен всякий город и всякое место на земле.
Дело в том, что мы все живем в своем собственном, неповторимом мире, из которого изредка высовываемся, чтобы понять, нет ли какой-то опасности. Мы живем настолько обособленно, что ни совместное пребывание на одном кусочке земли, ни чтение одних и тех же книг, ни одинаковая пища, ни работа, ни учеба, ни война не делают нас одинаковыми. Каждый остается самим собой. Более того, и войну, и любовь, и работу каждый переживает по-своему, лишь приклеивая общеупотребительные слова к своему уникальному опыту.
Я думаю об этом часто. И, быть может, думают об этом проводники, провожающие взглядом людей, приехавших, казалось бы, из одного и того же места, но на самом деле побывавших в совершенно разных местах.
НЕПРИЯТНЫЕ ВЕЩИ
Если леденец вынуть изо рта и засунуть в карман (как случалось в детстве), то уже через минуту он будет облеплен мелким сором, и сунуть его обратно в рот не будет никакой возможности. Подобным образом облепливаются чуждым смыслом слова, и со временем уже трудно понять смысл прямой и непосредственный. Вкус леденца заменится вкусом сора. К. Льюис в книге «Просто христианство» писал, что в XIX веке «джентльменом» называли каждого мужчину, живущего на доходы с капитала и имеющего возможность не работать, неважно был ли он галантен и образован или нет. То есть можно было, не вызывая смеха, сказать: «Джентльмен X. – порядочная скотина». Но сегодня это слово иначе как с воспитанностью и порядочностью не ассоциируется. Подобные метаморфозы сопровождают бытие термина «фарисей».
Хранитель и знаток Закона, ревнитель религиозной жизни, лучший представитель еврейского народа после возвращения из плена, этот персонаж превратился в синоним лицемера, заведомо фальшивого и корыстного человека, втайне полного всех пороков. К слову, евангельские «мытари» и «блудницы», которые не только буквальны, но и символичны, не претерпели таких смысловых изменений. Они так и остались хорошо всем знакомыми по повседневной жизни блудницами и сборщиками дани. Фарисей же мутировал.
Блудница и мытарь – это профессии сколь доходные, столь и позорные, избранные открыто ради обогащения с грехом пополам. Фарисей же это не профессия, а психологический тип. Так нам кажется. Так мы считаем. Этим именем не называют, а обзывают. И более всего это имя, ставшее оскорбительным, употребляется по отношению к политикам и религиозным людям. Первые декларируют заботу о народе, от вторых ожидается «профессиональная святость». И первые, и вторые привычно приносят массу разочарований, поскольку политики и не думают кому-либо служить, кроме себя, а религиозные люди попросту недотягивают до идеала. Все остальные люди в той же степени, если не больше, больны теми же грехами и пороками, но им кажется, что их грехи извиняются отсутствием особых ожиданий праведности. А вот политики и церковники, те, мол, другое дело. Это, конечно, не более чем ложь, овладевшая миллионами голов, и только количество обманутых временно извиняет это заблуждение.
* * *
Хорош ли чем-то хрестоматийный фарисей? Кто он, этот сложнейший человеческий тип, стремящийся ко всецелой святости, но незаметно сбивающийся с пути на полдороге? Фарисей не тотально грешен. Фарисеем по образованию и воспитанию был апостол Павел. Никодим, приходивший к Иисусу ночью, был подобным книжником и ревнителем традиций. Мы согрешим, если вообще откажем фарисею (читай – ревнителю) в возможности святости.
Фарисей любит добро, и это совершенно очевидно. Вся жизнь его в идеале настолько религиозно-педантична и насыщена мыслями и усилиями, что мы – ленивцы – и одного дня по-фарисейски прожить бы не смогли. Он плох тем, что внутри не таков, каким старается выглядеть снаружи. Но, простите, мы все снаружи кажемся лучше, нежели являемся внутри. Вывернись любой наизнанку и обнажи пред миром скрытое неблагообразие – жизнь вряд ли станет возможна. Вся наша хваленая культура и цивилизация есть явления лицемерные по преимуществу, при которых шкафы блестят от полироля, но в каждом шкафу – свой скелет. Лицемерна деятельность любого банка, любого рекламного агентства, любого производителя, начиная от «творцов» зубной пасты и заканчивая автогигантами. Но никто не называет их фарисеями, очевидно приберегая словцо для бедного попа или чуть более богатого архиерея. Можно тему продолжать, но можно и остановиться. На бумагу просится лишь слово «несправедливость».
* * *
Если фарисей верит в свою святость, то он уже не просто лицемер. Тогда он в прелести. Он болен. Именно таковы были те самые фарисеи, скупо, но ярко описанные в Евангелии. Они считали себя чистыми и были убеждены в этой самой ритуально-нравственной чистоте. Такой типаж выходит со страниц Евангелия прямо на улицу и продолжает жить в христианской истории на всем ее пространстве. Такой человек просто-напросто духовно болен и неисцелим обычными средствами, поскольку болезнь его тяжелейшая. Тогда его подвижничество тяготеет к изуверству и фанатизму. Тогда его мир черно-бел и в этом мире нет места сострадания к «иному». «Иные», по его убеждению, достойны ада, огня, бесовских крючьев, и искренний фанатик часто бывает сильно обижен на Бога за то, что Тот не спешит казнить очевидных грешников. «Куда Он смотрит?» – думает святоша, и в это время даже мухи отлетают от него подальше. Вот это и есть фарисей типический и подлинный. Таких мало, поскольку редкая душа способна соединить ненависть с молитвой, а влюбленность в себя – с памятью о Боге. Для этого нужно быть чуть-чуть похожим на Ивана Грозного.
Если же фарисей знает о своей внутренней худости (грязи, никчемности) и, не имея сил «быть», старается «казаться», тогда он в темноте красным светом не светится и им детей можно не пугать. Он банален и повсеместен. Своим притворством он платит дань добродетели, как говорил Ларошфуко, то есть самой игрой в праведность он представляет праведность высшей ценностью.
Это – общее состояние, при котором, по слову Аввы Дорофея, лгут жизнью. Будучи развратниками, изображают из себя людей целомудренных; будучи скрягами, не прочь порассуждать о милосердии и щедрости и проч. Но, конечно, за религиозным человеком фарисейство ходит неотвязно, как скука – за Онегиным («и бегала за ним она, как тень иль верная жена»).
И это потому, что религиозная жизнь морально насыщена по определению, а требований к человеку всегда можно предъявить больше, нежели он способен исполнить.
* * *
Любая мощная религиозная традиция сильна прошлым и влюблена в прошлое. Это вполне касается и нас, православных людей. Наша история полна знаков явленной святости, любовь к которой (внимание!) не должна отменять открытости по отношению к творимому настоящему и будущему.
Дух творит форму. Минувшее оставило нам множество священных форм, порожденных Духом: богослужебный чин, одежда, этикет, архитектура, и т. д. И легче всего, при этаком богатстве, соскользнуть в желание остановить время, то есть пожелать канонизировать и догматизировать все (буквально все), что получено в наследство. Тогда всякие сюсюканья, вроде бесконечных «спаси Господи» и «простите – благословите» убьют саму возможность нормально общаться. Еще в результате может родиться каста начетчиков и охранителей старины, неких носителей идеи града Китежа, согласно которой «все хорошее уже было», а впереди – только утраты и поражения. Это мышление еретично и отвратительно. Но есть вещи и похуже.
Хуже, если мы обожествим формы, ранее рожденные Духом, и на этом основании откажем Духу в праве творить иные формы и обновлять ранее созданные. По сути, мы тогда вступим с Духом в конфликт и постараемся запретить Ему действовать в качестве Сокровища благ и жизни Подателя. Мы скажем Духу, что кое-что из Своих сокровищ Он нам уже показал и нам этого хватит. А, следовательно, мы настоятельно просим Его, и даже требуем, чтобы Он прекратил Свои творческие действия, которых мы не ждем и в которых не нуждаемся. Жутко звучит, но именно это повсеместно и происходит.
На наших глазах из любви к прошлому может ожить «Легенда о великом инквизиторе». Там в темнице инквизитор говорит Христу, что завтра с одобрения народа он сожжет Христа, как еретика, причем в Его же Имя. «Ты дал нам власть и все сказал, а теперь не вмешивайся. Мы сами будем править от имени Твоего», – говорит прелат. Причем Достоевский рисует нам не лопающегося от жира сибарита, некоего развратника, пользующегося властью ради удовольствий, а изможденного подвигами и тяжкими думами аскета, состарившегося в трудах. Этот умный и волевой изувер есть, несомненно, духовный человек, духовность которого отмечена знаком «минус».
* * *
Какая из болезней мира не проникла в Церковь? Проникли все до одной. Правда, оказавшись в Церкви, болезни мира одеваются в подрясник, отращивают бородку и меняют обороты речи, отчего некоторым кажется, что они «освятились и оправдались». Но сути своей болезни не меняют, разве что по причине внешней елейности приобретают некую повышенную степень отвратительности. Имеем ли мы право об этом говорить, не подрывая веры? Думаю, что защищая веру, мы просто должны об этом говорить. В обществе, именующемся открытым и информационным, не нужно создавать себе имидж «безгрешных», а потом яростно оправдываться после очередной утечки информации или злобного нападения недоброжелателей. Нужно своевременно, адекватно и спокойно говорить о жизни духа и ее опасностях с теми, кому Церковь небезразлична. И если речь будет точна и не фальшива, многие информационные конфликты и провокации увянут, не успев распуститься.
* * *
Болезни Церкви, идентичные болезням мира, – это не просто порабощенность вещами, спутанность сознания, бескрылость бытия и желание удовольствий. Все это слишком очевидные болезни эпохи. Человек стал мелок и спесив. Мелкий и спесивый человек в миру отличается от своего собрата в Церкви тем, что первый пафосно рассуждает о правах человека и гражданина, а второй дежурно бубнит о смирении. О, не знаю, знакомо ли вам то ощущение мистического ужаса, когда спесивый человек начинает говорить о смирении? Тогда воистину хочется заткнуть уши и убежать за горизонт.
Но главное даже не это, а то, что мы (христиане) живем в той же мирской атмосфере замкнутости и эгоизма, в которой никто никому толком не нужен. Человек не нужен никому в миру. Это прописная истина. Но сплошь и рядом не нужен он никому и в Церкви. Человека привычно и повсеместно используют и нигде не любят. Не избавлен он от такого отношения и в Церкви.
Если же мы говорим, что мы «иные», что мы умеем любить и болезней мира нет в нас, то, во-первых, нам самим при этих словах станет стыдно, а во-вторых, люди не смогут не чувствовать фальшь этих утверждений. В ответ они будут молча от нас отдаляться или громко против нас бунтовать.
* * *
Фарисей в основном занят решением дилеммы «быть или казаться». Решает он ее, как и подобает фарисею, в сторону «казаться». Напомню, что в нашем мире это состояние угрожает в основном деятелям религии и политики. Мир же в целом решает уже другую дилемму: «быть или иметь». Люди в миру уже не хотят никем казаться, поскольку не только утрачивают четкие нравственные ориентиры, но и не верят, что такие ориентиры в принципе могут существовать. Соответственно, дилемма решается в пользу «иметь». «Все ищут ответа – где главный идеал? Пока ответа негу, копите капитал». Нельзя сказать, чтобы и церковный люд был свободен от этого бытийного перекоса. Мы тоже хотим «иметь», но при этом хотим еще и «казаться». Состояние поистине ужасное. И тем более ужасное, что мало кто захочет с диагнозом согласиться. Начнут на зеркало пенять. Начнут пытаться зашторивать окна и раскачивать поезд, делая вид, что мы едем, вместо того чтобы выйти из вагонов и обнаружить завал на дороге, из-за которого ехать дальше нельзя.
* * *
Я люблю Церковь. «Человеку свойственно ошибаться», но, по-моему, я ее очень люблю. По крайней мере, рядом ничего поставить не согласен. Только я отказываюсь любить все то, что принято с Церковью ассоциировать. Не все, то золото, что блестит, и не все, то Церковь, что пахнет ладаном.
Причем Церковь без моей любви проживет, и это ясно, как дважды два. Вот я без нее не проживу. И именно по причине желания сохранить самое дорогое, без чего и прожить не удастся, хочется с болью то шептать, то выкрикивать неприятные слова о том, что мы более играем в христианство, нежели живем во Христе.
И я не о мирских людях говорю, которые живут там, где ад начинается. Я говорю о тех, кому «все ясно», и кто в своей праведности уверен. Тяжелее, чем эти люди, в мире нет тяжестей.
Я И ТОТ УЧЕНИК
Мои хорошие знакомые однажды провели эксперимент. Они договорились в течение дня следить за собой и не произносить местоимение «я». Не «якать» то есть. Вместо «я знаю» нужно было просто говорить «знаю» или «мне это знакомо». Нужно было сломать привычную речевую стилистику и постоянно следить за собой, не выпуская из-за зубов последнюю букву русского алфавита. К исходу дня все согласились с тем, что это очень тяжело и что все участники эксперимента многократно нарушили запрет, невольно и по инерции то и дело «якая».
Это очень важный опыт. Нужно опознать в себе падшее и эгоистичное существо, которое пытается поставить себя в центр Вселенной, и оттого постоянно «якает», словно оно самое главное в мире.
Я, мне, меня, со мной, у меня, мое. «Мое» – в особенности. Любимая лексика, костяк речевой активности, сладкая музыка смертного человечества.
А теперь – внимание! Что называется, оцените разницу!
Очевидец евангельских событий, да не рядовой, а любимый Господом, Иоанн Богослов, постоянно говорит о себе в третьем лице. Тот ученик, которого любил Иисус (Ин. 20:2), – говорит он о себе. «Тот ученик бежал скорее Петра», «тогда вошел и другой ученик, и видел, и веровал». Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его (Ин. 21:24).
То есть зритель неизреченных откровений обыкновенно говорит о себе, словно глядя на себя со стороны. Это не исключает обычной речи, и в Апокалипсисе он прямо говорит: Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царствовании, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос (Откр. 1:9) Однако что касается страданий Спасителя и событий, связанных с Воскресением, то там Иоанн находится в некоем изумлении и отказывается говорить о себе привычным языком.
Апостол Павел сильно отличается от Иоанна и по условиям призвания на служение, и по характеру проповеди. Однако и Павел умеет говорить о себе в третьем лице. Смиряя коринфян, по необходимости говоря о видениях и откровениях, Павел говорит о себе тоже, словно о ком-то другом. «Знаю человека во Христе, – говорит он, – который тому назад четырнадцать лет… был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 12:2–4). Без сомнения, этот человек – сам апостол Павел. Тем не менее он не говорит «я был в раю. Я видел ангелов. Я знаю то, чего никто не знает», а говорит: Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только немощами моими (2 Кор. 12:5).
Ух, мы бы всласть «поякали», если бы были на его месте. Но, видно, оттого нам и не дается ничто сверхъестественное, что нет в душах наших достаточной степени отстраненности от себя самих, которая называется простотой и скромностью. Это еще не смирение, но необходимое условие последнего. Нет простоты, значит, нет глубины. А нет глубины, значит все, что ни нальешь в душу, тут же ее переполняет и наружу льется. Льется через болтовню, через похвальбу или осуждение, которые друг другу тождественны, как сиамские, телами сросшиеся близнецы.
Мы вправе думать, что привычно «якаем» потому, что не имеем подлинного благодатного опыта. А самого опыта не имеем потому, что «якаем», потому что на себе зациклены. Только мелкий, как наперсток, человек, постоянно трезвонит о себе, любит себя, хочет смотреть на себя, окружаясь фотографиями. Он не заглядывал «за шторку», не видел бездн, ничего не слышал ушами сердца. Здесь причина его пустоты и шумности. Не секрет, что именно такой тип человека сознательно плодит общество потребления. Если посвятить этого господина в тайны, то он не скажет, что «знает кого-то, кому было открыто нечто». Он ляпнет, как в лужу: «Я видел. Мне открыто. Я знаю». Ну как такому тайны доверять?
Какой же вывод сделаем, братья? Видимо, тот, что весь шум мира поднимается людьми, ничего толком не видевшими и ничего не понявшими. И предметы мирского шума так же пусты, как сами распространители шума. И если мы сами шумим, то это верный и неутешительный диагноз.
Если же возжелает душа высоты и глубины, если захотим мы узнать что-либо духовное основательно, то должны будем научиться забывать о себе, молчать о себе, отказываться от титулов и званий, скорее «мыкать», чем «якать», говорить о себе, как апостолы, в третьем лице, а не в первом.
ЛЮБИТЬ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ
О любви за всю историю человечества написано и сказано столько, что, кажется, нового не добавишь. Даже тем, кто не отличается особым усердием к чтению и размышлениям, – и тем все вроде бы ясно с любовью. Но стоит лишь попытаться дать себе отчет в том, что же именно «ясно», как почва под ногами становится шаткой.
Эти беглые строки – еще одна попытка сказать несколько осмысленных слов о любви человеческой.
Скульптор отсекает от глыбы все лишнее, освобождая заключенную внутри статую. Так красиво может сказать мастер о своем искусстве или ценители – о мастере, хотя за изяществом фразы стоят годы трудов и неудач, пот и бессонные ночи. Тем не менее формула верна, и верна не только для скульптуры, но и для других видов творчества. И мыслит человек так же – отсекая лишнее.
Насколько важен предмет размышления, настолько важно умение определить, чем не является этот предмет. Путем постепенного отсечения того, чем он не является, мы приближаемся к определению его сути.
Этот принцип важен в правильном разговоре о Боге. Размышляя о Боге, мы окружаем Его частицами «не», оставляя невысказанным то, что прячется в смысловой сердцевине. Бог невидим, неизречен, неизобразим, непостижим – и так далее. И чем дальше вглубь, тем тише слова, тем значимей молчание.
Мыслить о Боге – значит отрешаться от мыслей о мире, обнажать ум от всяких образов. Такое богословие именуется апофатическим, и, быть может, кто-то из читателей окунется вскоре в умный мир средневековых мистиков и глубоких мыслителей о Существе Высочайшем. Это будет мир, где отброшены ветхие одежды, мир приближения к реальности, с трудом вмещающейся в слова.
Ну а нам предстоит разговор более легкий, хотя не менее важный – разговор о любви.
О любви тоже нужно говорить апофатически, если не языком богословия, то хотя бы языком поэзии, в духе известного стихотворения:
Любовь – не вздохи на скамейке,
И не гулянья при луне…
В любви на первый план выступает эмоциональная сфера. В груди колотится, в глазах темнеет, сердце екает, и «пломбы в пасти плавятся от страсти». Эту-то сторону легче всего и принять за суть явления. Такую же ошибку поверхностного мышления мы совершаем в отношении денег. Ценя их за покупательную способность, в самом приобретении товаров и услуг видя смесь удовольствия, самореализации, свободы и безопасности, мы можем докатиться до того, что назовем деньги смыслом жизни. Это логическая ошибка, сулящая катастрофу. Если движение – это жизнь, а велосипед – это движение, то отсюда не следует, что жизнь – это велосипед. Именно частицей «не» следует ограждать разговор о деньгах, подчеркивая их служебную функцию и утверждая, что они – не смысл жизни.
* * *
Но вернемся к любви.
Человек не есть одно лишь тело. Будь он лишь одушевленным организмом, некой живой машиной – тогда, по примеру бессловесных, мы тоже ограничились бы идеей продолжения рода, эдакой возможностью родового бессмертия при личной смертности. Но человек, по Евангелию, лично бессмертен! Родовое бессмертие и продолжение рода для него – не главная цель. Циники от науки, с некоторых пор заговорившие о том, что человек есть просто высокоорганизованное животное, смеются как раз над любовью, вернее – над самой идеей любви. В ней им видится лишь сладкая приманка, зовущая к чадородию.
Гибельные плоды подобных теорий говорят нам языком фактов о том, что неправильные мысли суть смерть человечества.
* * *
Человек – не «просто тело», ибо «просто тело» есть труп, а трупы не пишут стихов и не поют серенады под балконом. Человек не сводим также и к формуле «тело плюс душа» – тело и душа есть и у животных, чуждых слову. В мире животных есть запахи и звуки, но нет слов. Человеческий же мир словесен, поскольку у человека есть еще дух, и человеку предстоит всему дать имена и во всем разобраться. Человек есть дух, душа и тело в их живой связи и взаимопроникновении. Они действуют друг на друга, и после грехопадения ведут противоборство. Насколько тело способно отяжелить и уплотнить дух, настолько и дух способен утончить и облагородить тело. Любовь же, как евангельская закваска в отношении трех мер муки, должна сквашивать всего человека и относиться не к телу только, или душе только, но к духу, душе и телу – вместе.
* * *
Даже телесная сторона человеческой любви не может быть сопоставлена с животной. Там, в сфере тела и размножения, человека ожидают глубины не животные, но сатанинские, где разлагается тело и уже нет никакого размножения. У животных есть половая жизнь, но нет разврата. Человек же способен в саму телесную жизнь внести некий дух, поистине злой и животным не ведомый, который половую сферу расцвечивает трупными пятнами всех цветов радуги. Человеческий разврат – это насилие злого духа, по сути, над невинной и безответной плотью, которая нещадно и безобразно эксплуатируется.
Любовь душевная – сложнее. Она может избегать выражений, присущих полу, но не чуждается телесности. Так ребенок, любя мамочку, обхватывает ее за шею, не отпускает, хочет вжаться в материнское тело до неразличимости. Но кто из нас скажет, что любовь ребенка к маме – ненастоящая? Любящий любимого действительно хочет даже съесть, и поэтому мать кормит дитя собою, равно как и Господь кормит нас Своим Телом и Кровью. И старики могут любить подлинно и нежно, уже не имея особых сил для телесных чувственных проявлений.
Грусть сопутствует душевной любви. Грусть со всем синонимическим рядом: с тоской, печалью, меланхолией, томлением, жаждой неведомого, желанием распахнуть окно и смотреть на звезды. Юношеское томление ищет выхода, старческое отличается созерцательностью. Но часто это – лишь балансирование на жердочке. Душевное в человеке непостоянно и нетвердо. Душевность либо соскальзывает вниз, в тот самый разгул плоти, причастившейся злому духу, либо же стремится насытиться вверху, в духе, объединяющем и тело, и душу.
Неправда, однако, что духовный человек подчеркнуто и непременно бесплотен, антителесен. Бах был веселым толстяком, наплодившим уйму детей. Этой осязательной телесностью, быть может, уравновешивались внутренние порывы и откровения, от которых бы и умереть недолго.
На вершинах, в духе, человек творит и отдает, от чего получает ощущение полноты. Приносить себя в разумную жертву, отдавать более, чем принимать, причем без ропота и недовольства, – вот что значит любить по-человечески. Сходя сверху, эта любовь даст место всему остальному в человеке – и всему, чему даст место, определит границы.
* * *
Итак, любовь, сходящая свыше, приносит внутреннее чувство полноты, насыщая сообразно и дух, и душу, и тело человеческое. Она есть дар, получив который, человек сам хочет дарить и отдавать. В противном случае, мы получили подделку.
Любовь направлена не на тело без души, и не на дух без тела, но на всего человека. Именно по ней тоскует душа в своем зависшем, нетворческом, неоплодотворенном состоянии.
Наконец, любовь не такова, чтобы, сваливаясь на голову человеку, вертеть им по слепому произволу, лишать его способности мыслить, как думали романтики. И это тоже – подделка. Любовь не только не запрещает мыслить о себе – она повелевает о себе мыслить.
ПОТРЕБИТЕЛИ БЕЗРАЗЛИЧИЯ
Всеяден стал человек. Ничего не испугается, ни от чего не отшатнется. Скривится, но съест все, что ни попросят, тем более, если снимают на камеру.
Скажут ему: «Вот здесь поцелуйте, вот здесь подержитесь, вот тут на коленки встаньте. Это для счастья», – исполнит. Всякую чушь на себя наденет. На фоне какой хочешь глупости сфотографируется. Любую палочку ароматную зажжет перед любым истуканом.
И все это – от внутренней пустоты и того уменьшения пространства во времени, которое называют глобализмом.
Так и передвигается внутри съежившегося пространства внутренне пустой человек, важный представитель западной цивилизации. У него избыток денег и масса свободного времени. Он получает легкий доступ к любой интересующей информации, но вместо цельного и выстраданного мировоззрения имеет только жалкую смесь из газетных клише вроде «рыночная экономика», «свобода личности», «террористическая угроза», «защита окружающей среды»…
У этого правнука былой христианской цивилизации в словарном запасе все те же слова, что и триста-четыреста лет назад: вера, надежда, любовь. Но это уже «вера в прогресс», «надежда на научные достижения» и «любовь к себе». Борьба за истину переросла для него в борьбу за рынки сбыта. А частицей большого целого он чувствует себя не на крестном ходу и не в храме, а на стадионе и возле урны с бюллетенями на очередных выборах.
Этот милейший человек любит животных, но лишь потому, что не любит людей, а любить хоть кого-то, да надо. Смирение он обозвал униженностью, а гордыню – добродетелью. Наконец, потеряв всякий вкус к истине, он решил, что истины нет вообще, и, значит, все по-своему правы.
Эту мерзкую мысль он объявил своим достижением и назвал толерантностью.
Что же скажет этому представителю белого, гордого, цивилизованного мира остальной мир – экзотический, многоликий и «нецивилизованный»? На многих языках – одно и то же: «Приезжай к нам. Лечись нашими народными средствами. Танцуй по ночам на наших пляжах. Фотографируйся на фоне развалин наших древних храмов. И плати нам за это».
Он говорит тихо, склонив лицо вниз и орудуя щетками чистильщика над блестящими туфлями белого туриста:
– Мы скоро сами к тебе приедем. Многие наши уже приехали, но это только десант. Мы будем жить в твоих городах, учиться в твоих университетах. У тебя есть деньги, много денег. Нам нужны они и твои технологии. Ты стал ленив и привычен к комфорту, а мы все еще умеем работать. Мы умеем улыбаться и одновременно презирать того, кому улыбаемся. Мы умеем брать подачки, но и ненавидеть тех, кто нам их подает. Мы сто раз согнемся до земли, но однажды мы выпрямимся, а ты согнешься. Только ты уже не распрямишься.
Мы ненавидим тебя, даже когда учимся в твоих университетах. Мы завязываем галстуки по твоей моде и ненавидим тебя. Мы учим наряду с языком своей матери языки чужих матерей, но лишь для того, чтобы со временем проклясть тебя на всех языках. Ты слишком долго пиршествовал и наслаждался, подчинял и властвовал. Это время заканчивается. У тебя больше нет души, и в твоей системе координат нет другой точки отсчета, кроме твоего эгоизма. Поэтому тебе не на что опереться. Когда ты умрешь, даже когда ты только упадешь, утомленный развратом, пьянством или собственной дряхлостью, количество людей, желающих вытереть о тебя ноги, будет так велико, что ты навеки будешь смешан с прахом…
Но правнуки былой христианской цивилизации словно бы и не слышат этих угроз. Они не желают вспомнить об истине и заполнить ею душевную пустоту. Цивилизация, в которой мы живем, перед достижениями которой, как перед истуканом Навуходоносора, ползаем в пыли, – цивилизация безразличия к истине, цивилизация наследников евангельского Понтия Пилата, равнодушного и трусливого соучастника богоубийства.
Будем помнить, что рано или поздно всякой неправде приходит конец. В День Возмездия небеса совьются, как свиток. Великий позор ожидает лживую славу века сего.
Не позавидуешь тогда не только большим и маленьким современным пилатам, но и тем мелким душам, которые сегодня готовы шнурки завязывать цивилизованному европейскому барину. Только за одно это мелкое холуйство будут они наказаны в полной мере наравне с теми, чьи шнурки рвались завязывать.
А уж День Возмездия будет, поверьте. Бог наш на нас мало похож. Чего-чего, а толерантности у Него нету.
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОВЧЕГА НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ
В строительстве Ковчега нужно участвовать. Даже если не просят.
А в строительстве Вавилонской башни участия принимать не надо, даже если сильно просят и очень зовут.
На практике все происходит с точностью до наоборот. Виной тому, отчасти, видимая абсурдность строительства Ковчега. Ной строил его, мало того, что очень долго, так еще и вдали от воды. Вся аристотелевская логика бунтует против такой трудовой деятельности. Зачем? По какому поводу? Ради чего? «Бог повелел. Так надо. Послушаем Бога, а там видно будет». Все это не аргументы для практичного ума, неспособного воспринимать идеи и внушения из иного мира.
Вся религиозная жизнь, с точки зрения мирского практика, это бесполезно-абсурдные труды ради эфемерных целей. На стороне мирского практика – логика и практический опыт, выгода и прибыль. С ним трудно спорить. Пока вода с небес не польется.
Кстати, Петр Великий свои первые корабельные верфи устроил далеко от всех морей и океанов – под Воронежем. По степени кажущегося абсурда – аналог строительства Ковчега. Трудно поверить, что из этой затеи выросли все Российские флоты: Балтийский, Черноморский, Северный, Тихоокеанский.
То ли дело – Вавилонская башня? Сложное архитектурное сооружение, призванное прославить род человеческий; сооружение, в фундамент которого, помимо кирпичей и блоков, заложена своеобразная мистика! Тут не один Ной, под насмешливый посвист зрителей таскающий бревна с сыновьями. Тут – сотни тысяч организованно трудящихся людей; тут – дисциплина, идея, воодушевление и – очевидный, на глазах вырастающий в размерах результат. Тут самый ленивый захочет кирпичик поднести или тачку с песком наверх затолкать. Дело проверенное.
Во дни Помаранчевой вакханалии в Киеве даже те жадины, у которых бесполезно зимой снега просить, были замечены в делах специфической благотворительности. Варили борщи, пекли блинчики и бегали на Майдан «революционеров» кормить. Приобщались, как могли, к историческому моменту. Так действует массовое беснование, для которого не обязательны оргии и черные мессы, которое вполне сносно проявляет себя и в атмосфере фальшивого человеколюбия.
Итак, нужно Ковчег строить, притом, что цели до конца не ясны и будущее – в тумане. Приказы и заповеди не предполагают развернутых толкований. Вся Церковная жизнь не есть ли аналог подобного долговременного и странного строительства? Зачем посты? Почему здесь труды, а там – воздаяние? Почему необходимы и послушание, и борьба со страстями, и покаянный плач? Нельзя ли просто, посмотрев, как этим занимаются другие, присвистнуть и уйти по своим делам?
А мирская активность, пренебрегающая волей Божией, не желающая ждать Града, сходящего с Небес, и строящая свой собственный Град, она не есть ли новая Башня, для которой весь мир – Вавилон? Очевидно, что черт общих много. Но тянет, тянет к себе и засасывает в свой водоворот земная активность. Глобальная экономика, глобальные ресурсы, глобальный обмен информацией. На горизонте когда-нибудь заалеет красной полосой глобальное правительство, чей хилый близнец в виде ООН всем давно известен.
Строительные бригады стоят в очереди за возможностью поучаствовать в стройке века. «Вас еще не пустили? Вы еще не в ВТО? Мы тоже. Ах! Будем ждать. А квоты вы успели продать по углекислому газу? Мы тоже. Будем ждать». И ждут. Целые народы со своей генетической памятью, душевной болью и длинной историей ждут «часа X», когда им позволят намесить раствора для каменщиков, орудующих на верхних этажах.
Ковчег строился в одно время. Башня – в другое. Буквальный водораздел между двумя событиями – вода Потопа. Ковчег и Башня – события буквальные и исторические. Но, вместе с тем, это события духовные и символические. С точки зрения духовных процессов, сегодня и Ковчег, и Башня строятся одновременно. Одновременно происходят созидательные процессы, направленные на спасение, и процессы, связанные с богоборческой активностью, с построением Града земного, ощетинившегося в сторону Града Небесного ракетами класса «земля – воздух».
Интересно и то, что многие успевают поработать на двух объектах: до обеда – на строительстве Ковчега, ближе к вечеру – на строительстве Башни. И народы участвуют в этом процессе по-разному. Некоторые еще не строят ни того, ни другого. Некоторые строят только Башню. Некоторые, как уже сказано, успевают получать деньги по двум ведомостям. Но нет, со слезами говорю, нет ни одного народа, который бы строил только Ковчег для всех желающих спастись, и не месил бы глину для строителей-богоборцев.
Мы бы хотели быть таким народом. Быть таким народом есть наша национальная идея и сокровенная мечта. Она же и надежда мира. Но получается пока плохо. Видно, плохо хотим. Или плохо разобрались с сутью происходящего.
Время требует если уж не прозорливости, то, по крайней мере, проницательности. Ключ же к узнаванию обеих строек в повседневности, как всегда, находится в Литургической жизни, трезвении и любви к Писанию.
БОГ ВИДИТ, А ТЫ СМИРЯЙСЯ
Добродетели несут награду не сами по себе, а за смирение – такая мысль есть у великих отцов. Представьте, что эта мысль – дождь, и станьте под нее, как под холодный душ. Или представьте, что она – град, и тоже станьте. Пусть этот град побарабанит вам (мне, им, всем) по лысине. Мы ведь страшно хотим гордиться собой. И чем еще гордиться, как не своими добродетелями. А добродетели, оказывается, мостят нам дорогу в ад, если мы посреди благих трудов не смиряемся. Человеку гордому лучше не иметь заметных добрых дел, а то он от любви к себе совсем осатанеет.
* * *
Все это на милостыне очень заметно. Вернее, на той форме милостыни, которая носит римскую фамилию Мецената или заокеанскую кличку «спонсора».
У доброго человека даже зло с добром перемешано, а у злого само добро никуда не годно. Качество милостыни зависит не столько от количества, сколько от чистоты (нечистоты) сердца жертвователя. Будучи, например, стихийным материалистом, спонсор (меценат) неизбежно захочет пощупать свои добрые дела. Следовательно, будет жертвовать на каменные строения. Не щупать же ему сытые желудки, в самом деле, и не слушать, как играют на скрипках юные гении. Гений отыграл – и забылось; голодный поел – а завтра опять есть захочет.
А в здание, за твои деньги построенное, можно будет всю жизнь пальцем тыкать. Мое, дескать, добро.
Если жертвователь – самохвал, он непременно захочет увековечить себя на памятной доске, как будто Бог не видит или не помнит. И орден непременно захочет, и грамоту, чтоб при случае говорить, с кем он на короткой ноге, и кто ему награды вручал. Фотографии при этом предусмотрительно прилагаются.
По нашей крайне вялой, зачастую, вере он (меценат-спонсор) даже мысли не допускает, что его деньги могут где-то не взять. А ведь это – подлинный холодный душ и – град по лысине, когда человеку, уверенному «на все сто», что все покупается и продается, в том числе и в Церкви, вдруг говорят: «Заберите деньги, пожалуйста».
– «Как это заберите?! Вам что, деньги не нужны? Здесь очень много!»
– «Нужны, но не от вас. Заберите».
Вот это – маленький Страшный Суд! В одном житии так и пишется: «Отверг некий преподобный богатую милостыню, сказав богачу, что рука этого богача мать собственную била. Теперь из этой руки Бог милостыню вовек не примет». Было это очень давно. А вот прочел это один современный богач, и в пот его бросило. Он только на деньги надеялся и думал, что их всегда возьмут. А тут понял, что «не всегда». От того часа стал он думать о настоящих добрых делах, а не о привычных откупах от совести.
* * *
Вообще уметь давать – это великое уменье. Всякий знает, что есть такие люди, у которых даже коробку спичек брать не хочется. И это потому, что нет любви и смирения в дающем человеке. И то, что просящий и берущий помощь должен смиряться, это все знают. А то, что дающий тоже нуждается в смирении, это уже тяжелее понять.
Был бы я Оле-Лукойе, покрутил бы я над всяким богачом зонтик с одним и тем же сном. Был бы это сон про то, как никому твое богатство больше не нужно, никто тебе не завидует, никто от тебя ничего не просит и не берет. То есть буквально – сядь на свои банковские счета и ешь их в одиночку. Больше делать с ними нечего.
После этого сна проснется человек и вспомнит, что кроме покупки новой яхты или купания очередной любовницы в шампанском можно помочь молодым ученым в перспективных разработках, и калекам в приобретении колясок, и матерям-одиночкам в плате за садик. И все эти виды помощи пока и ждут, и готовы взять. Но гордиться ими уже не удастся, поскольку это не капитальные строения. И многие из ждущих помощи готовы со слезами молиться о благодетелях. А на Страшном Суде всего этого уже не будет.
* * *
И молитва, и пост, и милостыня есть виды жертвоприношений. Их нужно приносить Богу с верой и без гордости, то есть не так, как Каин.
Имя свое при этом нужно, по возможности, скрывать. Потому что это ради Бога делается, а Бог видит все.
Помнить бы неплохо, что «великое перед людьми есть мерзость пред Господом», и, следовательно, не хвалиться, не назначать поспешно своим же делам свою же цену. Бог все оценит во время свое.
Не только на храм нужно жертвовать. Во-первых, потому что сказано о неких зданиях: «не останется здесь камня на камне» (Мф. 24, 2; Мк. 13, 2.); а во-вторых, потому что человек – тоже храм. Накормить человека – это храм поддержать. Одеть человека – это храм украсить снаружи. Научить человека – это залить храм светом и вымыть его изнутри после долгого запустения.
Дать возможность учиться тому, кто талантлив и не может жить без знаний, – это уже дело трудно переводимое на язык цифр или аналогий. А еще в древности считали за великое дело собрать девушке-сироте хорошее приданое и помочь ей замуж выйти. Или – помочь досмотреть старика и дать ему умереть не в грязи и холоде, а по-человечески, в тепле и среди заботы.
Да и сколько еще есть подлинно добрых дел, помимо закупки мрамора для парадной лестницы епархиального управления!
И забывать, забывать надо тут же любое доброе дело, сразу после его совершения. Так, чтобы если ты только что нечто хорошее совершил во имя Христа, а не ради своего тщеславия; и тебя спросили «у тебя что доброе за душой?», а ты искренно ответил тут же: «Ей-Богу, ничего доброго я еще не сделал!»
ВЕРА И ВЕРНОСТЬ
В марте 1974 года, через 29 лет после выхода Японии из войны, на одном из Филиппинских островов закончил свою войну один из японских воинов – подпоручик Онода. В конце 44-го он получил задание от майора Танигути и приказ воевать до тех пор, пока лично Танигути не даст команду «отбой». Дальнейшие события превосходят всякую фантазию.
В 1946 году по чащобам острова Лубанг (место происходящих событий) в сопровождении американских солдат ходит японец с мегафоном и оглашает джунгли вестью о капитуляции Японии. На его призыв сложить оружие из леса выходят разрозненные группы японских солдат. Оноды с подчиненными среди них нет.
Его группа редеет. Один солдат сдается в плен в 1951-м. Через три года в перестрелке погибает второй. Еще через восемнадцать (!) лет погибает последний соратник Оноды. Но подпоручик продолжает выполнять приказ. Одна за другой остров посещают делегации из Японии. В их составе родственники Оноды – отец и брат. Отец выкрикивает строки хайку:
Сколько воспоминаний
Вы разбудили в душе моей,
О вишни старого сада!
Сын слышит голос отца, но приказ выполнять не перестает. Наконец к воюющему подпоручику приезжает его непосредственный командир. Среди филиппинских джунглей стоящему навытяжку с винтовкой у ноги Оноде майор в отставке Танигути отдал приказ об отмене боевого задания. Война для Оноды закончилась.
Вот уникальный пример верности долгу, присяге, императору. Думаю, что если бы Онода был христианин, и ему случилось бы попасть в руки мучителей, требующих отречения от Господа, то Церковь имела бы в святцах еще одно имя – мученик Онода. Верность и твердость в одном неизбежно проявились бы и в других областях жизни.
* * *
Как правило, говоря о верности, мы касаемся одной из нескольких основных тем. Это верность Богу, верность в браке и верность Родине. Все три типа верности очень связаны между собой. Причем верность религиозная является как бы связующим звеном между двумя другими. Это потому, что верность Родине чаще всего имеет религиозное измерение. Это любовь к святыням алтарей, к «отеческим гробам», к священной истории своей страны и готовность за все это умереть.
С другой стороны, верность семейная насквозь мистична и является прямым подобием верности Богу. У пророка Осии кланяющиеся идолам евреи уподоблены блудливой женщине, которую любит муж и которая, однако, постоянно изменяет ему. И апостол Павел уподобляет глубину отношений супругов отношениям Христа и Церкви.
Так что, получается, в центре понятия верности расположены Бог и человек в своем взаимном отношении друг к другу. Затем, вблизи этой сердцевины находятся верность супружеская и гражданская.
Далее идут верность сказанному слову, взятым обязательствам и прочие виды верности, плавно перетекающие в то, что мы называем честностью, надежностью, порядочностью.
* * *
Чем выше дерево, тем глубже и мощнее его корень. Говорят, что дерево внизу столь же глубоко в корнях, сколь высоко оно на поверхности поднимается стволом и ветвями. Должен быть корень и у верности. Это религиозное и нравственное воспитание. У поручика Оноды и многих подобных ему таким корнем был и остается дух бусидо – моральный кодекс самураев, ставший одной из основ японской культурной традиции. Очевидно, что у нас должны быть свои корни, дающие подобные плоды. Это – вера в Бога.
Самый грубый слух не может не улавливать корневую связь между двумя этими понятиями – вера и верность. Я слышал однажды от одного глубоко образованного человека, что в древней иудейской традиции верующим называли не того, кто верит, что Бог есть. Подобное «разрешение» Богу «быть» еще ничего не означает. Подобную «веру», как говорит апостол Иаков, имеют и бесы. Верующий человек означает человека верного, человека, через исполнение заповедей доказывающего свою преданность Господу. Отсюда несокрушимая твердость трех отроков в Вавилоне. Отсюда же мужество Соломонии и ее семи сыновей, чья мученическая смерть описывается в книгах Маккавейских.
Только Бог абсолютно верен Самому Себе и всему, что Он сказал. Человек всегда стремится к высшим степеням верности и других добродетелей. Таким образом, воспитание верности – это путь уподобления Богу. И подобно самой длинной дороге, начинающейся с первого шага, воспитание верности начинается с малого. Если ты сказал «я сделаю», значит, нужно сделать. Если ты сказал «приду в восемь», приди без пяти восемь, но никак не в полдевятого. Верность, как выносливость, воспитывается, тренируется. Говорят, купеческое слово ценилось больше любых гербовых бумаг с печатями.
* * *
В наше время людей больше всего волнует верность семейная, супружеская. Еще бы! Вера в Бога считается делом частным и весьма отвлеченным. Тема Родины размывается с каждым годом, и что-то, а может, кто-то, стремится превратить человека в аморфного жителя Земли без гимна и флага, и, конечно, без чести и совести. Лишь бы с хорошим уровнем дохода. Остается семья, остаются сложности взаимоотношений. Это еще волнует, и боль этой темы остра. Она доказывает то, что человек жив. Если и эта тема его трогать перестанет, если безразличие распространится и на эту сферу жизни, то значит, человека пора закапывать. Он уже умер.
Страдая любовью к повторениям, скажу еще раз: без верности Боту верность в личных отношениях – это всего лишь сентиментальная мечта или редчайшее исключение.
Но как ее в себе развить, воспитать, вырастить?
Думаю, нужно носить в душе правильные мысли. «В мире нет женщин, кроме моей жены». «В мире нет мужчин, кроме моего мужа». «Я не должен (не должна) этого делать. Господи, помоги мне!» Чем это не броня? Мыслящий подобным образом человек похож на рыцаря, одетого в доспехи.
Слово «блудить» означает не просто телесные действия известного рода. «Блудящий» человек – это человек «блуждающий». Он, как неприкаянный, бродит туда и сюда, он не нашел ни себя, ни своего места в жизни. Бо время этого броуновского, то есть бесцельного, движения он входит в соприкосновение и временный контакт с такими же приблудами, как он сам. Человеку же нужен якорь. Нужна ясная голова и твердая почва под ногами.
* * *
И верность Богу, и верность человеческая испытываются. То есть искушаются. Взрослая вера – это «Осанна», прошедшая сквозь горнило страшных сомнений. И глубокие, верные отношения – это две жизни, огнем испытаний сплавленные воедино. К этому нужно готовиться.
Если воин идет на битву, то ему нельзя слушать жалостливые или похотливые песни. Его дух нельзя расслаблять. Пусть только удары меча о щит и мужественные звуки военных песен доходят до его слуха. Жизнь – это тоже битва, и горе тому, кто войдет в ее гущу в соломенной шляпе и тапках на босу ногу.
Отнимите у человека семью, веру, Родину. Что от него останется? Нечто странное, имеющее вид человека. Нечто похожее на стоящий в витрине манекен. Можно натягивать на него любые рубашки и пиджаки – он не согреет их своим телом, не передаст им свой запах. У него нет ни тепла, ни запаха. В редкие минуты, когда он захочет пооткровенничать, вы можете услышать горький рассказ о том, как у него украли веру, отобрали Родину и как разрушили его семью. Сострадайте ему и жалейте его, но знайте, что это лишь малая часть правды. На самом деле он сам потерял веру, сам покинул Родину и сам развалил семью. И все потому, что был он самовлюблен и суетен, поверхностен и невнимателен. И еще – он не был верен. Ни Символу веры, ни воинской присяге, ни брачной клятве у алтаря.
Простите меня те, кто искал в моих словах о верности конкретных советов и рекомендаций и не нашел их. Я и сам хотел бы знать больше об этом священном предмете. Но вытащить из шляпы зайца, которого ты туда не положил, не сможет даже самый великий фокусник. Мне, как и вам, еще предстоит долго учиться и самовоспитываться, чтобы достичь цели и насладиться плодами великой добродетели – верности.
Богу, семье, Родине.
ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ
Оскар Уайльд пишет «Портрет Дориана Грея». Ведая о том или нет, он пишет художественную иллюстрацию к словам апостола Павла о двух людях внутри одной личности – о человеке внешнем и внутреннем.
Там, где гений скажет две-три фразы, талантливый и работоспособный человек напишет дюжину книг. Апостолы не были гениальны в античном смысле этого слова. Они были благодатны. Но там, где они обронили несколько фраз, выросла великая культура и литература. Литература христианская, даже при переходе в постхристианскую, все же продолжает питаться из евангельских источников. Очень глубокими должны быть эти источники, раз авторы, попирающие этические нормы христианства, продолжают находиться в поле притяжения смыслов Нового Завета.
Внешний наш человек тлеет, а внутренний обновляется – так пишет апостол (см.: 2 Кор. 4,16). Павел очень остро переживал временный конфликт между тем, что человек уже спасен во Христе, но продолжает страдать, и все творение – «вся тварь» – вынуждено стонать и воздыхать вместе с человеком. Апостол язычников говорит, что «мы спасены в надежде», что «сокровище благодати мы носим в глиняных сосудах», то есть в смертных и хрупких телах. Он говорит о сокровенной жизни сердца, ума и совести, и верховный Петр вторит ему, упоминая о «внутреннем, сокровенном человеке».
И вот Уайльд пишет живую иллюстрацию этих слов. Правда, сам писатель по образу жизни подпадает под гневное обличение того же Павла из Послания к Римлянам. Он, Уайльд, один из тех, кто не потрудился «иметь Бога в разуме», и за это Бог предал его в «неискусный ум творить непотребное». Писатель – один из тех, кто оставил естественное употребление пола женского и разжигается похотью на подобных себе мужчин. Он не гермафродит и не тиран, сошедший с ума от злодеяний. Он – эстет. Мировоззрение эллинов созвучно его сердцу, и Уайльд готов отступить вглубь древних мировоззрений, чтобы сглатывать слюну при виде юношеских тел. Поэтому его апология Павловых идей – не прямая, а косвенная. Точнее, это апология от противного.
У апостола внутренний человек красив, если возрожден под действием Святого Духа. Внешний же человек, с морщинами, кариесом, слабеющим зрением, скрипом костей по утрам, со всеми то есть признаками смертности и временности, обречен истлеть, чтобы затем воскреснуть. У английского эстета, отторгнутого обществом на родине, все наоборот. У него внешний человек красив, красив, как античный бог, а внутренний, соответственно, гнил и безобразен. Но это именно и есть доказательство от противного, и любой математик скажет, что оно прекрасно доказывает истинность изначальной посылки. В нашем случае это – проповедь апостолов.
* * *
Итак, «Портрет Дориана Грея». Это книга о том, как в жертву временной красоте и успеху приносится «сокровенный в сердце», внутренний человек. В нашу визуализированную эпоху людям, не любящим долго читать, но все же не желающим остаться без мысленной и нравственной пищи, можно посоветовать одну из экранизаций романа. Лучше ту, где Малкольм Макдауэл играет искусителя. Там события вырваны из викторианской эпохи и погружены в эпоху гламура и журнального глянца. Сам портрет главного героя превращается в фотопортрет, происходит талантливая инкультурация главной идеи в сегодняшний день. И правильно. Души искушаются и гибнут во все эпохи одинаково. Меняются только траурные марши и наряды на похоронах. А книга стоит того, чтобы заставить всех молодых людей, мечтающих о звездной карьере, прочитать ее. Фабула проста, как все гениальное. Юному красавцу предлагается сделка. Через компромиссы с совестью он должен заложить собственную душу, того самого внутреннего человека, чтобы взамен получить славу, успех и неувядающую красоту. Молодой человек принимает условия сделки. Отныне он внешне не будет стареть. Вместо него стареть будет его портрет (фотопортрет, если речь о фильме). Все грехи, все подлости будут отныне проступать на портрете в виде безобразных черт. Внешне же все будет так, как об этом мечтает каждый из числа не верующих в вечную жизнь и не слишком прислушивающихся к совести.
* * *
Поначалу Дориану хорошо. Он – объект зависти, сплетен, шепота за спиной. Он – luckybоу (счастливчик), на месте которого мечтают оказаться юноши, и в объятьях которого мечтают оказаться девушки. Но Дориан не мог быть просто бессовестным счастливчиком. Об изменениях внутри его души ему ежедневно сигнализирует портрет. В этом великая сила подлинного искусства, при помощи которого вскрываются внутренние механизмы человеческой жизни и обличается грех. Зачастую обличается сам художник. Богачи и актрисы, диктаторы и люди, больные нарциссизмом, узнают себя в художественном произведении. Они задумываются о своем «портрете», которого вроде бы нет в природе, но который тем не менее есть. Этот портрет не висит в потаенной комнате. Он живет в совести.
Что там на нем? Появился ли лишний фурункул после вчерашней вечеринки? Не загноился ли недавно подсохший струп после подписанного накануне контракта? Сколько новых морщин появилось на этом портрете, покуда хозяину вводили укол, разглаживающий внешние морщины? Для этих рассматриваний не нужно бежать в спальню, к портрету.
Тем более не нужно садиться у трюмо и вглядываться в зеркало. Художественный вымысел, выросший из евангельского материала, возвращает читателя к себе, то есть к совести. И чем больше сходных черт в жизни Дориана Грея и читателя (внешняя слава, приобретенная ценой внутреннего компромисса), тем очевиднее и неоспоримее внутренние параллели.
Василий Великий в одном из поучений говорит о том, что неизбежно плохо закончится то, что началось плохо. Портрет будет гнить на глазах, указывая на процессы, происходящие в сердце. Бывший первообраз вместо того, чтобы цвести и пахнуть, тоже будет гнить, внутренне. От грехов Дориан будет уже мертв душой, но только, разве что, заморожен на время, так что ни запаха, ни вида мертвеца в нем заметно не будет. Затем конфликт дорастет до высшей точки, и 1иску-Ьоу совершит специфическое самоубийство, посягнув на целость портрета. Удар в физиономию собственной гнусности, воплощенной на картине, станет ударом по самому себе. Красавчик рухнет замертво, в секунду переняв свой настоящий образ. Уродство портрета перейдет к трупу, а в раме будет висеть изображение «того» Дориана, прекрасного и увековеченного в его навсегда пропавшей красоте.
Это касается далеко не одних только актрис и плейбоев, озабоченных липосакциями и фотосессиями. Тема касается всех, поскольку всякий, взглянув на собственное внутреннее безобразие, буде оно предстало пред взором, захочет ударить ножом это чудовище. Это и будет самоубийство.
* * *
Очень интересно находить блуждающие библейские темы в известных произведениях искусства. Даже общеизвестные факты, например, связь книги Иова с прологом «Фауста», или тема антихриста в «Ревизоре», радостно кружат голову, несмотря на привычность. Тем более приятно открыть для себя историю прекрасного Иосифа в «упаковке» «Огней большого города» или нечто подобное. Ромео и Джульетта, например, обречены изначально. И они невинны. Именно невинная смерть должна была примирить враждующие кланы. Кому как, а для меня это – литература, выросшая на христианской почве, на почве веры в Невинного Искупителя, обреченного стать Жертвой с самого начала. «Дориан Грей» оттуда же.
Если уж продолжать выискивать корни, то вспомним и блаженного Августина. Он говорил, что нравственность человека расположена между двумя гранями. Это – любовь к Богу вплоть до ненависти к себе – и любовь к себе вплоть до ненависти к Богу. Между этими гранями находится каждый, и каждый не стоит, но движется. Оскар Уайльд строил свою, достойную сожаления, жизнь на «любви к себе», предпочитая фразу до конца не договаривать. Тем более удивительно, что он написал умнейшую и прозорливую книгу, бичующую не меньше других его самого.
Пора вернуться к началу статьи: очень глубокими должны быть христианские источники европейской культуры, раз авторы, попирающие этические нормы христианства, продолжают находиться в поле притяжения смыслов Нового Завета.
ОТКУДА ПРИХОДИТ ГРУСТЬ?
Порой безо всякой видимой причины человеку бывает грустно. Дома все здоровы, и нет проблем на работе. Цветет жасмин, щебечут птицы, и вечер обещает фантастический закат – но грустит венец природы. Словно забыл что-то и никак не может вспомнить…
Грусть – она где? В крови у того, кто грустит, – или, как микроб, в воздухе, и ею все дышат?
Когда человек двигается, грустить тяжело. Гораздо легче грустится лежа на спине, глядя в небо. Или лежа на животе и глядя на муравьев в траве. Рубишь дрова – не грустится. Бросил рубить, сел, вытер пот со лба – опять грустишь.
Один человек мне сказал, что грусть родилась от чувства потери. Такой потери, про которую ты забыл. То есть ты сам не знаешь, что потерял, однако же грустишь и не понимаешь, с какой стати.
Допустим, ты потерял ключи от дома. Разве ты будешь грустить и тем более петь протяжные песни? Нет. Сто раз нет. Ты будешь ругаться последними словами, искать виноватых (жену, к примеру), будешь смотреть под ноги, словно ты – грибник, а кругом – лес. Ты будешь зол и активен. А все потому, что предмет потери известен.
А вот потеряли мы рай. Потеряли начисто и безнадежно. То есть так, что если искать самим, то не знаешь даже в какую сторону бежать. Но ищут, когда знают, что потеряли. А мы забыли об этой потере. Мозгами забыли, но душой помним. У нас душа временами на собаку похожа. Скулит что-то нечленораздельное, тоску нагоняет, а понять ничего нельзя. Вот откуда грусть в человеке.
Делаю вывод, что грустят все, хотя опыт этот вывод стремится опровергнуть. Я все ищу вчерашний день и натыкаюсь на стройные колонны оптимистов, которым тепло на свете от полного забвения своей главной потери. Я думал, что у них есть тайна, что они так бодры оттого, что и дверцу нашли, и ключик от дверцы у них в кармане. Разговаривал, спрашивал. Оказалось, никто ничего не знает. Даже не понимают, о чем я спрашиваю. Некоторые, те, что посмышленее, гневно кричали: «Гони его! Он нам сейчас дурацкими вопросами совесть разбередит и душу наизнанку вывернет! А у нас футбол сегодня, финал Кубка чемпионов».
Если бы у нас, как в Средние века, была культура публичных диспутов, я бы предложил открытый диспут на тему всечеловеческой грусти. Вселенской грусти. «Вселенская грусть – двигатель прогресса». Или «Попытка забыться и развлечься как источник науки и искусства». Было бы интересно.
* * *
Грусть – это не тоска и тем более не уныние. Это – не смертный грех. Наоборот, смертным грехом пахнет оптимизм. В восьми случаях из десяти можно подозревать, что оптимист украл что-то, или избежал наказания, или придумал какую-то хитрую пакость. Оптимизмом дышит гимн Люфтваффе, тот самый, где «вместо сердца – пламенный мотор». Наоборот, все влюбленные, то есть те, кто не хочет смотреть на мир сверху вниз и сбрасывать бомбы, грустят. Влюбленные, конечно, пляшут под дождем, скачут через заборы, ночуют под окнами. Но еще они непременно грустят.
Грустит весенним вечером девушка, ощущая себя пустой и бесполезной. Соловей щебечет, черемуха с акацией дурманят ум роскошью запахов, а она грустит. Она чувствует, что когда-то родит новую жизнь. Но когда, когда? И как это будет? И где тот, кому можно склонить голову на плечо? И вот природа расцветает и веселится, а человек, тот, ради кого сотворена природа, грустит и томится.
Грустит и томится юноша. Кровь в его венах – что кипяток в батареях. Но зачем он здесь? И почему Луна такая близкая, но рукой ее не достать? Юноша тоже чувствует, что какая-то девушка должна родить новую жизнь. Но он не знает, какая именно, и не понимает еще до конца, при чем тут он. А природа продолжает свою хамскую весеннюю радость. Это все равно, как если бы царь во дворце грустил, а вся челядь, все пажи, все стражники и поварята были безумно счастливы.
* * *
Раньше думали, что человек велик потому, что сумел делать самолеты. Теперь такую глупость может повторить только человек с врожденным психическим дефектом. Человек велик потому, что ему всего мира мало. А раз ему его мало, раз не для этого мира только создан человек, то ему остается утешаться стихами и песнями. Человек велик потому, что он грустит о рае и поет песни. А самолеты нынче и беспилотные есть. Они компьютерами управляются. Но никакой компьютер не споет «Не для меня придет весна», и никакой компьютер, услышав песню, не прослезится.
Физику понимают не все. Не все могут разобрать и собрать автомат Калашникова. Не все могут плавать под водой с аквалангом.
Но влюблялись все, и грустили все. Значит, это и есть отличительная черта существа человеческого. И само человечество есть великая семья существ, потерявших рай, грустящих по этому поводу и не понимающих причин своей грусти.
* * *
Грусть – это смутная память и не менее смутное предчувствие. Это – бездна, раскрывшаяся в душе и ничем, кроме Бога, не могущая наполниться. О душа, грустящая об утраченном блаженстве! С кем мне сравнить тебя? Сравню тебя с царевной Несмеяной. Почему бы нет? Будем говорить о великом на детском языке. Не будем бояться приоткрывать завесу над тайнами при помощи шуток и прибауток. Будем вести себя как шуты, то есть как самые грустные на свете люди, которые кажутся всем самыми веселыми.
Царевна-Несмеяна плакала во дворце. Сложность была в том, что ей самой была неизвестна причина плача. «Диагноза нет – лечить нельзя», – говорили немецкие доктора. А царевна все плакала и плакала, так что под ее троном вздулся паркет, а в углах девичьей стала отсыревать штукатурка.
Царь-отец был человек прогрессивный. Он верил в силу таблеток и мечтал о межпланетных странствиях. «Смотри, доченька. Я тебе новую мобилку купил. В ней три гигабайта памяти». А она еще пуще слезами заливается. «Пойдем, доченька, ко мне в палаты. Посмотрим новый фильм Стивена Спилберга». А она еще сильнее воет, и слезы текут без всякого намека на исчерпаемость ресурса.
Дальше эта сказка по-разному сказывается. Но главная линия – везде одна и та же. Все новомодное, все блестящее, дорогое, заморское усиливало неразгаданные страдания царевны. Так она и убила бы себя страданием, так бы и потеряла зрение от слез, если бы не любовь к человеку, которого, по причине обычности и невзрачности, никто и замечать не хотел. Он ее развеселил, он ее утешил, он ей слезки вытер и к жизни вернул. Он стал ей другом и мужем навсегда.
Это, друзья мои, образ Христа, проникший в сказку. Это намек на Христа, Которого не видят те, кто от повседневной мишуры ослеп, и Которого по причине Его простоты и смирения не принимают всерьез мудрецы века сего.
Ну а плачущая царевна, вестимо, это – душа наша, которая ревет безутешно и страдает, якобы беспричинно, пока Небесный Жених в простой одежде не посмотрит на нее мудро и ласково.
Вот оно как.
ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ
Десять заповедей, которые Моисей принес с горы на каменных досках, на равные части не делились. Четыре и шесть – так группировались эти заповеди: первая их часть относилась к Богу, а вторая – к людям. Шесть слов, начертанных на второй скрижали, открывались заповедью о почитании отца и матери.
Заповеди – это не беспорядочная мешанина. Они логичны, последовательны, связаны изнутри. Мы можем смело, не боясь ошибиться, думать, что неисполнение пятой заповеди делает невозможным исполнение всех остальных, касающихся человеческого общежития.
Кровопролития, воровство, похоть, зависть и всевозможная ложь становятся просто неистребимыми, если мы проигнорируем заповедь о почитании родителей и не дадим ей должной оценки. Между тем классическое общество распалось, отцы и дети перестали быть тем, чем быть должны, и только в силу биологии продолжают именовать себя как прежде. А мы не чувствуем опасности и называем черное белым, как будто пророк Исайя не произнес «горя» на тех, кто делает это. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом, тьму почитают светом, и свет – тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое – горьким!» (Ис. 5; 20).
Из всех заповедей пятая наиболее нравится родителям. Им кажется, что эти слова гарантируют их эгоистические интересы и стоят на страже их прав.
В действительности это не так. Если я хочу, чтобы меня почитали мои дети, я сам должен почитать своих родителей. Поэтому я, как отец, должен на глазах своего сына проявлять сыновнее почтение к своему отцу, то есть дедушке моего сына. А такой добрый пример может быть очевиден при совместном проживании нескольких поколений.
Послушание, уважение, почтение должны быть жизненными принципами, а не высокой теорией. Хорошее дело на глазах своего сына мыть ноги, целовать руку и отдавать лучший кусок своему отцу, то есть его дедушке. Это лучший залог формирования в юной душе правильной системы ценностей и залог подобного отношения к тебе в старости. Но для этого нужно, как минимум, чтобы у твоего отца не было второй семьи, и он не бросил твою маму с тобой на руках и не стал искать счастья с другой женщиной.
Много ли у нас семей, где три и четыре поколения живут рядом? Много ли семей, где словосочетания «второй муж» или «бывшая жена» являются кошмарными и нереальными?
Итак, из сказанного уже ясно, что реальность противится, а отнюдь не способствует исполнению заповеди о почитании родителей. Пойдем дальше.
Главные разрушители пятой заповеди – это не строптивые дети, а «любящие родители». Это они развращают детей, избавляя их от домашнего труда, сочиняя для них «великое» будущее, лишая их счастья воспитываться в коллективе многих братьев и сестер. Они рожают одного, максимум – двух детей, думая, что уменьшение количества рожденных улучшит качество их воспитания. Они превращают детей в «домашние божества», и сами превращаются в идолопоклонников. Весь жар нерастраченной гордости и нереализованных мечтаний такие отцы и матери вкладывают в «воспитание», которое лучше бы назвать погублением или развращением.
Спесивые, изнеженные, заласканные, приготовленные для «великой будущности», эти маленькие эгоисты жестоко разочаруют своих родителей. Те на старости лет опомнятся и станут, быть может, требовать к себе уважения и почтения, вспомнив о пятой заповеди. Но о каких заповедях можно будет вести речь в доме престарелых или над могилой безвременно погибшего посреди разврата молодого человека?
Отец семейства должен быть капитаном корабля. Мать и жена – помощником капитана или – боцманом, хоть и звучит это не по-женски. А дети – юнгами и матросами. Их нужно сбрасывать, как ложных богов, с пьедестала и запрягать в работу. В черном теле, а не в белом воротничке нужно держать их. К труду, а не к карманным деньгам должны привыкать их руки. Если родители этого делать не будут, то они – разрушители пятой заповеди, а значит, и уничтожители всех остальных. Рожденные ими гордецы и лентяи не остановятся на отсутствии почтения к родителям. Они начнут и красть, и убивать, и прелюбодействовать. И некому будет сказать святую фразу из Гоголя: «Я тебя породил, я тебя и убью».
Классическое, или традиционное, общество рождено пятой заповедью. Там, где жена послушна мужу, а дети – маме; там, где старость в почете, а молодость – в послушании, эту заповедь знают. Там не увлекаются суетным прогрессом и не готовы из-за открытия электрической энергии отказаться от тысячелетних устоев. Счастье и прогресс не только не являются синонимами. Они даже не рифмуются и, более того, часто противоречат друг другу. Вы избрали прогресс? Что ж, готовьтесь поломать всю свою жизнь до самых корней и разделить судьбу старухи у разбитого корыта. Вы хотите счастья? Изберите в качестве ориентира классические ценности и стремитесь к ним, как бы их ни обзывали и ни обсмеивали в газетах.
Всесильный Бибиков, как свидетельствуют мемуары, не смел присесть в присутствии маменьки без ее на то разрешения. Иначе щеки «хозяина Киева» были бы отхлестаны незамедлительно. Милорадович, герой войны 1812 года, бывал не раз сильно бит отцом за различные грехи. Если в высшем обществе таковы были отношения отцов и детей, то что сказать или подумать о простонародье, где и нравы строже, и верность навыку прочней? Именно такие люди, которые и в генеральских эполетах «съедали» смиренно отцовские и материнские пощечины, построили, укрепили и многократно отстояли нашу страну. Поколение ничтожных людей, людей без святынь и ценностей, людей, за неимением иных целей в жизни служащих плоду своего прелюбодейного чрева, способно в считаные десятилетия растерять и разрушить все накопленное столетиями.
Мы видим себя в европейском доме. Да будет известно нам, что этот дом – дом престарелых. Во-первых, потому, что Европа состарилась в войнах, спорах, борьбе за истину. Как старый человек, уставший жить и желающий отдохнуть, Европа уже не живет, но почивает на «заслуженном» отдыхе. Во-вторых, культура Европы – это культура распавшихся семей. Это – культура узаконенного разврата, где плохо не столько то, что разврат есть, сколько то, что развратничают, не краснея. Это культура, где юноши не имеют авторитетов, а старики – иных целей, кроме путешествий в теплые края.
Европейцы умудрились нарушить все заповеди, не нарушая при этом приличий. Этим-то они и привлекательны миру. Называя аборт прерыванием беременности, воровство – восстановлением справедливости, а разврат – уступкой требованиям организма, они стали центром притяжения для всех, кто ненавидит Бога, но любит личину приличия. Конечно, заповедь о почтении к родителям не осталась нетронутой.
Пенсионный фонд и социальные службы выполняют теперь то, что должны выполнять по отношению к постаревшим родителям взрослые дети. Умыть руки и сбросить с себя ответственность – вот главная забота современного человека. И этот человек хочет счастья? Нужно сделать одно из двух. Либо отказаться от счастья, вести жизнь, которую мы ведем, и ждать огня с неба… Либо изменить систему ценностей и повернуться лицом к простым и незаметным человеческим качествам, составляющим сердцевину нашей земной действительности.
По части веры и культуры мы – европейцы. Наши музыканты играют и Гайдна, и Моцарта. Наши ученые ориентируются в мире западных идей с той же свободой, с какой хорошая хозяйка ищет нужную вещь в своем шкафу. Все, что есть в культуре Запада, понятно нашему сердцу, ибо мы – христиане.
Но мы не полностью отданы Западу. У нашего сердца есть «восточная камера», а у мозга есть «восточное полушарие». Таджикская или афганская деревня, где гостю не показывают лица дочерей, также близки нашей душе. Арабская семья, где сын бежит на голос отца, чтобы налить ему чаю или поправить подушку, тоже должна быть нам близка и дорога.
Высшие достижения Запада нам должны быть понятны. Высшие проявления Востока нам должны быть милы. Высшие достижения Запада – это философия, наука и технологии. Высшие проявления Востока – это ценности не спеша живущего человека. Это ценности, связанные с семьей: уважение к старшим, трудолюбие, взаимопомощь, послушание и многое другое.
Технологии, оторванные от морали, поставили мир на грань выживания. Если миру суждено еще пожить, то это зависит от лучших ценностей Востока. «Чти отца и мать» – одна из них, и не у Запада учиться ее реализации.
ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЖИХАД
Чтобы убить человека, нужно сильно разгневаться и взять в руку камень. Чтобы убить миллионы людей, нужно сначала придумать теорию. И кто бы подумал, что из невинных опытов по измерению формы и объема черепа вырастут концентрационные лагеря. Кто бы подумал, что из-за одной кабинетной ошибки богослова могут разгореться религиозные войны…
Би-би-си показывает фильм о человеке. Главный герой – маленькая девочка по имени, допустим, Мэри. Ребенок с двумя прорезавшимися зубками, одетый в платьице, пускает слюни и ходит на четвереньках. Голос за кадром объясняет: лет за семьдесят жизни слюнные железы Мэри выработают столько-то (называется число) тонн слюны. Каждый день в течение семидесяти лет ее почки будут перегонять и очищать столько-то (называется число) ванн крови. Ее ногти, если их не стричь, выросли бы на десятки метров. Из волос можно было бы сделать два или три каната для занятий физкультурой…
Весь этот бред длится в начале минутами, затем часами, и человек в этом наукообразном бесовском мареве предстает странной машиной, производящей слюну, сопли, кал, мочу, перегоняющей кровь, выращивающей волосы и, в конце концов, сгнивающей в земле безо всякого остатка, без надежды на воскресение, без всякой попытки уцепиться за вечность.
Если бы Би-би-си снимало такие фильмы во времена Гитлера, фюрер взял бы эту компанию на денежное довольствие, как одно из подразделений геббельсовской пропаганды. Более человеконенавистнических опусов людям никогда не выдумать. По сути, это киноучебник по догматическому человекоубийству. Поскольку, если не сказать, что эта слюноточащая и калообразующая тварь способна писать стихи, молиться и сострадать всему живому, если не сказать, что это существо создано ради преображения для будущей вечности, – то не останется ни одного аргумента против массового и безжалостного уничтожения этого самозваного царя природы. А этого-то как раз и не сказано.
* * *
Без мысли о Творце, более того, при отказе от Творца человек не имеет ценности. По сути, война против веры – это идеологическое человекоубийство. Не сразу, но уже в ближайших поколениях эта анти-вера родит из себя невиданные жестокости и убийства, поставленные на конвейер. Люди немало поиздевались друг над другом с тех пор, как расплодились за пределами райского сада. Но до эпохи «исторического материализма», то есть до времен догматического безбожия, люди не придумывали фабрик смерти и не ставили кровопролитие на промышленный поток.
Гитлеровцы не просто жгли людей в камерах или травили газом. Они сначала брили их, чтобы волосы использовать на утепление подводных лодок, и вырывали золотые коронки, чтоб переплавлять на слитки для рейха. И сам пепел сожженных рассыпали по полям в качестве удобрений. Дьявольская экономика.
Скифы, если верить Геродоту, так относились к лошадям: в шкуры одевались, мясо ели, кости жгли и выделывали из них иглы, резцы… В желудке варили жидкую пищу, кровь коней пили на длинных переходах. Безотходное производство. Но то лошади, а это – люди. Чтобы поступать так с людьми, нужно сначала в уме уравнять их с лошадями. Эту услугу оказала атеистическая философия.
* * *
Даже для отлова или уничтожения бессловесных животных человеку нужны не только ловушки, силки и патроны. Нужны еще хитрость, смекалка, опыт, практические знания. Тем более для уничтожения человека одним оружием не обойтись. Нужно создать идеологическую базу, придумать оправдания своим действиям. Это – умная брань. Чтобы защитить и сохранить человечество, Церкви нужно вести умную борьбу. Победишь – выживешь. Проиграешь – на место теоретиков придут каратели.
Прежде чем над широкой рекой раскинется мост, прежде чем по его бетонной спине побегут автомобили, нужно создать этот мост в голове. Люди в очках, не похожие на титанов, будут рассчитывать будущую конструкцию и испишут циферками и буковками какие-то бумаги. А потом уже поедет техника, наступит время кранов, арматуры, камней, цемента. Если те худенькие люди в очках ошибутся, если какая-то циферка с какой-то буковкой перепутаются, мост рухнет. Ошибку в расчетах нельзя будет компенсировать ни лишними подпорами, ни добавочными нормами материала. «Умная» ошибка приведет к тому, что погибнет труд, а может быть, погибнут и люди.
Думать нужно правильно. И о человеке, и о Боге, и о мире. Это тяжелое занятие дал Бог человеку, чтобы тот упражнялся в нем (см.: Еккл. 1,13).
* * *
В классическом исламе есть красивая идея о джихаде языка.
Я, не смущаясь, пользуюсь этим термином, поскольку мы живем в мире, в котором слова и понятия смело выдергиваются из разных культурных контекстов. Никого не коробит словосочетание «арабский террорист-камикадзе», хотя это настоящие «сапоги всмятку». Мы произносим «мекка туризма», «крестовый поход против большевизма», «мое кредо», при этом не вдумываясь в точный смысл слов «кредо», «Мекка», «крестовый поход» и в плотное смысловое облако, сопутствующее этим понятиям. Поэтому и я смело буду пользоваться словом «джихад» – не для того, чтобы сотрясать воздух элементами арабской лексики, а, напротив, для того, чтобы вскрыть серьезный смысл, в этом слове содержащийся.
Итак, джихад – это усилие, напряженный целенаправленный труд, который может выражаться также и в войне. Но война – не главный и не единственный смысл слова джихад. «Джихад руки», например, – это наказание виновных (заключение вора под стражу, телесное наказание отцом ребенка за серьезный проступок). «Джихад языка» – это смысловая борьба, при которой со зла срываются маски, добро поощряется и восхваляется, а зло клеймится. Родители, учителя, священники, учащие добру и ограждающие от зла, ведут настоящую войну, причем священную. Ведут джихад, если угодно. Переведи старика через дорогу, не смейся над калекой, наведи порядок в своей комнате, поделись бутербродом с другом на перемене… Не лги, встань перед старшим, помни Господа. Вы думаете, это просто слова? Это оружие, это стрелы, пущенные в лукавого, а учащий этому детей взрослый человек – воин, стоящий на защите всего мира. Он не обязан говорить то, что всем нравится. Иногда его слова кого-то гладят против шерсти.
Назовите «прерывание беременности» убийством нерожденного человека, «ваучерную приватизацию» – грабежом, и сомнений в том, что вы вступили в войну, у вас не останется. Вас назовут реакционером, фанатиком, религиозным экстремистом. Вас обзовут и чужие, и свои, что еще сильнее усложнит ситуацию и родит много боли и недоумения. Но истина стоит того, чтобы раз за разом зажигать свечу правильного понимания жизни. Свет этой свечи не разгонит всю тьму, но уничтожит абсолютность тьмы, а это – уже победа.
* * *
Есть хитрый термин – свобода слова. За ним скрывается право говорить, говорить, говорить до тех пор, пока слова не отделятся от смысла. Так бывает в детской игре, когда сто раз повторенное слово как бы развоплощается и, теряя смысл, становится звуком, просто звуком. Люди, живущие в атмосфере «свободы слова», первым делом утрачивают способность анализировать услышанное. Информация подается в виде готового фастфуда. Затем утрачивается желание и способность вслушиваться в чужой голос. Чужой голос становится фоновым явлением. Затем членораздельная речь становится подобной потоку эстрадных песен, звучащих отовсюду, песен, где даже носитель языка слышит лишь «а-а-а-а», «о-о-о-о», сопровождаемые телодвижениями исполнителей. Уже нет «В начале было Слово». Нет даже гамлетовского «слова, слова, слова». Свобода слова неумолимо движется к свободе междометий. И на некотором этапе этой свободы (назовем ее сквозь слезы вершиной человеческого развития) речь исчезает, превращаясь в «му», «гав», «мяу» и «ку-ка-ре-ку». Сам же человек становится на четвереньки и, никого не стесняясь, обнюхивает рядом стоящего на четвереньках бывшего человека под хвостом. Поскольку явление носит массовый характер, никто особо не мучится совестью, видя себя таким же, как все, не хуже и не лучше. Сама совесть объявляется «средневековым пережитком», притом слово «средневековый» понимается лишь одним человеком из десяти.
Если это процесс управляемый (а что-то говорит мне именно об управляемости этого процесса), если кто-то стоит не на четвереньках, а на двух ногах и наблюдает из укрытия за человеческой массой, «доразвившейся» в результате «свободы слова» до хлебания из миски, то он, сей таинственный наблюдатель, может праздновать победу. Он может теперь эту животную массу убивать, дрессировать, может ставить над ней опыты. Потерявший свой природный облик и достоинство человек, человек, добровольно ставший в один ряд с животными, согласившийся считать себя «только животным», пусть прямоходящим и пользующимся орудиями труда, – такой человек и отношение к себе заслуживает лишь как к животному.
Вот вам и воплотившиеся прозрения Оруэлла и Хаксли с Замятиным. Вот вам и ремейк на тему «Архипелаг ГУЛАГ». Наше время так любит ремейки. Вот вам и фраза «Это не должно повториться», написанная детской рукой на листочке в клеточку. На листочке, зажженном от дорогой зажигалки и брошенном в пепельницу, стоящую на письменном столе одного из закулисных представителей мировой элиты.
* * *
Говорят, что Мухаммед, вернувшись с битвы, сказал: «Мы совершили малый джихад. Теперь займемся большим». Это означало: «Мы воевали и победили. Это – малая война. Теперь будем бороться с собой, со своими недостатками. Это – большая война, большое усилие».
Мы, восточнославянская православная цивилизация, никогда не были никому рабами. Мы победили во многих войнах и смирили хазар и татар, Наполеона и Гитлера. Перечень битых нами врагов занимает долгие страницы справочной литературы. Но то был «малый джихад». Теперь нам предстоит борьба за истину, умная борьба в войне, которую никто не объявлял, но которая, тем не менее, ведется. Пока мы проигрываем в этой войне. А пленных на этой войне не берут. В ней воюют на полное уничтожение.
Прославить Бога и защитить человека – вот задача православной цивилизации, богочеловеческой цивилизации по своему призванию. Не надо откапывать дедовскую винтовку. На той войне, которая ждет наших усилий, нужно не стрелять, а молиться; не разбираться в устройстве гранатомета, а обладать умением объяснить Символ веры и вскрыть тайную ложь в заманчивой на первый взгляд идее.
Это наш джихад, наш великий православный джихад.
СТАРОСТЬ, СМЕРТЬ И ИЛЛЮЗИИ
Кто знает, чего бы ни натворил человек, не награди его Всеблагой Господь слабостью. Человек устает, исчерпывается, иссякает, заканчивается. И все это ни в коей мере не противоречит учению о вечности человека. Учение о том, что человек будет жить вечно, нужно различать от мыслей о том, что человек будет «жить всегда».
«Жить всегда» – так можно назвать представление о вечной жизни, похожей на ту, что мы проживаем в нынешнем состоянии. В этом случае мы совершаем мысленное усилие и продлеваем до размеров «дурной бесконечности» ту жизнь, которую влачим сейчас. Это истинное проклятие, а вовсе не благословение, как бы странно это ни звучало для кого-то.
Жизнь вечная – это не та же самая жизнь, что известна нам по земному опыту, лишь умноженная на бесконечность. Это – иная жизнь. А «эта, нынешняя жизнь», к счастью, конечна, исчерпаема. И конечным, исчерпаемым в рамках этой жизни является главный герой земной драмы – человек.
Старик может жить полноценной осмысленной жизнью. Но для молодежи он почти что мертв. Мертв потому, что не смеется над шутками молодых и не пляшет под их свирели. Отказаться от шуток и плясок для молодых то же самое, что лечь в гроб. Иной способ жизни им пока недоступен. Тот, кто не разделяет их взгляда на жизнь, для них – мертвец. Но, повторяю, разве старик мертв только оттого, что не вскидывает колени под музыку и не хохочет, надрывая связки?
Блажен старик, который не пляшет оттого, что повзрослел для пляски. Горе старику, который рад бы плясать, но радикулит – помеха. Тогда он действительно мертв и в своих глазах, и в глазах молодежи.
Он должен исчерпаться для одних занятий, но созреть для других. Если это произошло, то пусть кто-то считает его живым трупом, – найдутся и те, кто посчитает его кладезем мудрости. Думаю, тот же порядок мыслей справедлив для смерти вообще.
Человек исчерпался, иссяк, ослабел для земных дел. Но вместе с этой слабостью должна вызреть в нем внутренняя бодрость для иных дел и иной активности. «Я дерусь молча», – говорил в одном из последних интервью А. Ф. Лосев, имея в виду, возможно, молитву.
Он, старик, не совсем мертв. Скорее полумертв для земли с ее делами, но уже есть в нем нечто и для иной жизни. К биению этого зародыша в сердце он может прислушиваться с той же степенью трепетности, с какой молодая мать слушает робкие движения внутри своего чрева.
Чтобы разобраться в перипетиях свежих политических событий, у него хватает ума. Но не хватает желания этим заниматься. И времени не хватает, поскольку есть дела поважнее. Назовите его «мертвым гражданином», и это будет значить, что одну из мыслей блаженного Августина вы подчеркнете красной линией: Для града земного человек омертвел, для Града Небесного он созревает.
Писатель писал, писал и вдруг замолк. Публика, раздразнившая вкус, требует продолжения банкета, а он молчит. Композитор, находясь на вершине признания, вдруг перестает сочинять музыку и морщится, слыша речи о своем таланте. Не встречали ли мы подобных случаев в истории? Еще сколько встречали. Россини, к примеру, на вершине славы вдруг перестал писать, как пот со лба вытер. Дескать, хватит. И прожил еще очень долго без угрызений совести о закопанном таланте. Один американский писатель сказал, что пятьдесят лет ему понадобилось, чтобы понять, что у него нет писательского таланта. К сожалению, добавляет он, я уже был известным писателем.
Значит ли это, что талант иссякал и на место оазиса творческих вдохновений пустыня бесплодия насыпала свои пески? Иногда – да, но иногда и нет. Иногда человек перерастал ту стадию творческой деятельности, которую распознали и полюбили в нем, и выходил на высшую степень, которую ни понять, ни полюбить большинству не удавалось.
Наш Гоголь не стоит ли особняком от всей пишущей братии именно благодаря беспощадности к своим творениям и таинственной молчаливости? Надо думать, что то, о чем он молчал, было значительнее того, о чем он писал. Слова и звуки вообще рождаются из молчания, как и все краски мира появляются из белого цвета при разложении. И кто-то уже счел Гоголя мертвым, раз он перестал писать, а он, быть может, только жить начал. Вернее, перешел на иную ступень жизни. Ведь жизнь это лестница вверх, это лестница Иакова. Гоголь и молился в предсмертном бреду к Богоматери словами из акафиста: «Радуйся, Лествице Небесная, Ею же сниде Бог». Не по памяти читал слова, а из глубины души, самой душой при сумеречном сознании молился!
Я думал когда-то, что святые все сплошь и рядом были дерзкими и радостными перед лицом разложенных костров, наточенных топоров и пил. О том, что многие бледнели и слабели вплоть до бессилия взойти на помост казни, как-то не думалось. Сплошные сентенции крутились в голове, вроде: «помолился, и идолы, упав, сокрушились»; или «внезапно пролившийся дождь потушил костер, и олово вдруг остыло». Это не моя глупость виновата. Это виноват восторженный житийный стиль, позаимствованный у католиков в барочные времена. Если бы таковы были все страдания, то страдать не только не страшно, а даже хочется. Куда как страшнее проза жизни с лампочкой без абажура, следователем напротив и истязуемым священником, у которого выбиты зубы, сломан нос и расстреляны все родственники. А на столе у следователя – протокол с фантастическими признаниями. И не факт, что доведенный до грани отчаяния священник или епископ его не подпишет, хотя бы ради скорейшего расстрела.
Точно так же и о старости думалось. Вот, мол, жил себе святой человек, не чувствуя тяжести прожитых лет. Жил и только о Господе радовался. Потом безболезненно и непостыдно с молитвой ушел из этого мира в тот. Казалось, ни старость, ни болезни не должны действовать на святого человека. Потом с большим удивлением дочитался до того, что к старости у многих слабела память, оскудевали силы. Потом на место удивления пришло благодарное спокойствие. А разве может быть иначе? Вот и любимый ученик Господа, доживши до глубокой старости, не от лени ведь говорил одну краткую фразу: «Дети, любите друг друга». От старости и слабости он повторял ее одну, поскольку, если бы был крепок, то говорил бы так же ярко и богато, как писал в Евангелии.
Иллюзии уходят. Пропади они пропадом, но только постепенно. Сразу от всех иллюзий освободиться нельзя. Или можно, но очень опасно. Так и Господь обещал евреям прогнать всех врагов от Обетованной земли, но не сразу, а постепенно. Почему постепенно? Чтоб не умножились дикие звери на опустошенных землях. Так вот! Избавь слабого человека от всех иллюзий одним махом, он и веру потеряет, поскольку вера его на добрую половину из иллюзий состоит. Звери тогда умножатся. Дикие и умные звери. И пожрут человека.
Человек устал. Народ устал. Человечество устало.
Все это явления закономерные и неизбежные. Вечный марш энтузиастов звучит кощунственно и омерзительно над землей, в которую зарыто столько мертвых тел, многих даже без отпевания. Посему не надо бояться усталости. Ну устал, ну исчерпался, ну выработался. Что такого? В одной шахте породу выработали – другую роют. В одном месторождении запасы нефти истощились – другие скважины бурить пора. Не заливать же пустую скважину слезами от тоски, что нефть в ней кончилась.
Оскудевают таланты, исчерпываются силы, истекают дни. Святые, и те устают. Праведники тоже болеют. И все о смерти думают с содроганием. Шакалу только – радость. Можно громко крикнуть, что Акела промахнулся. А мудрому – наука, чтоб еще мудрей был. Великое унизится, стройное согнется, красивое поблекнет. Сладкоречивый умолкнет и храбрый не пойдет на бой. Рано или поздно, в той или иной мере, всем нам придется с этим повстречаться. Так попробуем поумнеть заранее, чтобы не осквернять впоследствии воздух глупыми словами, родившимися в глупом сердце.
Вот человек озирает медленным взглядом дом, в котором он жил. Сейчас он уйдет навсегда, и нужно забрать самое важное. Он не может унести шкаф, кровать, комод. Там, куда он идет, ему не пригодятся ни занавески, ни горшки с цветами. По всему, что лежит на полу и висит на стенах, человек скользит прощальным взглядом. Все, что он может взять, это лишь заплечный мешок с деньгами, хлебом и документами. Вот он крестится, надевает шапку и захлопывает за собой дверь. Теперь дом останется только в памяти, да и то ненадолго.
Так будет уходить из этого мира в иной всякий человек. Не всякий перед дорогой перекрестится, но, что совершенно точно, никто не возьмет с собой в дорогу ни кухонный шкаф, ни прикроватную тумбочку. Отчужденным взглядом посмотрит человек на многое, что окружало его при жизни. И только документы, деньги и хлеб нужно будет взять человеку. То есть надо будет понести на душе знаки того, что она веровала в Господа, и добрые дела можно будет понести, как свидетельство, и причаститься Небесным Хлебом нужно будет перед дорогой. Вот и все! Хотя и этого чрезвычайно много.
И тот отчужденный взгляд, которым окидывает уходящий человек свое место закончившейся жизни, непонятен тем, кто под жизнью понимает только «эту» жизнь. А тот, кто уходит, уже не захочет вернуться, даже если бы ему предложили. Здесь он иссяк и исчерпался. Пора начинать жизнь в другом месте и в другом качестве. Все это совершается ежедневно, но продолжает оставаться непостижимым и удивительным.
ТЫ ПРИШЕЛ!
Я Тебе честно скажу, без Тебя очень плохо. Есть хлеб на столе, есть друг, пришедший в гости, есть свежесваренное пиво. Трещит в камине сухое полено, младшая дочка играет на полу и сыновья рисуют акварелью парусные корабли. Идет за окнами снег, и, елки зеленые, чего еще может не хватать человеку для счастья?! Но я Тебе честно скажу: без Тебя так грустно!
Ты видел глаза домашнего пса? Сытого, чистого, любимого всеми пса? Конечно, видел. Ты же все видел. Какие это грустные глаза! Очень умные и очень грустные. Такие же глаза у сытого и умного человека, которого все любят, но которые не чувствует рядом Тебя.
Я всегда знал, что Ты есть. Это даже не вера. Это убежденность, это некое знание. Разве может Тебя не быть?! Но мне мало знать, что Ты есть. Я хочу чувствовать себя у Тебя за пазухой, как в теплом овчинном тулупе, хочу слышать Твой голос, вдыхать Твой запах.
Много раз я выходил за окраину города (Ты помнишь) и кричал, и звал, и молился. Я просил Тебя прийти, приблизиться, сделаться ощутимым и близким. Ты молчал. Ты ведь так умеешь молчать, как никто иной.
И я возвращался домой, оглушенный собственным криком, усталый и насыщенный воплями. И вот, когда ничто не предвещало исполнение моих просьб, странные вести, одна за другой, стали тормошить и тревожить мою уснувшую и уставшую душу.
Сначала, в один из обычных зимних дней, мимо наших окон проехали трое всадников непривычного вида. На них были высокие шапки странного фасона. В замерзших пальцах каждый из них держал небольшой сундучок. Заиндевевшие морды их коней говорили о том, что животные привыкли к более теплой погоде. Я открыл окно и один из всадников повернул ко мне свое спрятанное в густую бороду лицо и тихо, но внятно сказал на фарси: «У омад» – «Он пришел».
Они проехали мимо, и снежный ветер долго хлестал меня по лицу, пока я смотрел им вслед. Кто пришел? О ком сказали эти странные люди? Откуда они знают, что я чуть-чуть понимаю фарси?
На каждый день хватает своей заботы. И я не забыл о трех всадниках, чьи следы на снегу быстро замела вьюга. Я просто отодвинул мысль о них на задворки памяти и занялся домашней работой. Так прошло несколько дней. Но снова удивление ворвалось в мой дом, теперь уже высказанное на родном, а не чужом наречии.
Пастухи, старые, добрые пастухи, веселые пересмешники, которые всегда готовы посмеяться над собой, когда мы смеемся над ними, принесли в мой дом новую волну удивления. Мы часто смеемся над их бедностью и смешной одеждой, над их стадами, которые они любят больше чем своих жен. А они платят нам той же монетой, называя нас домоседами и клопами, спрятавшимися за печкой. Они говорят, что ни на какие деликатесы мира не променяют свой кусок сыра и глоток вина. А некоторые из них даже дерзают предсказывать, что эта пастушеская пища – сухари с сыром и вином – со временем станет украшением стола богатых.
Но в этот раз они были перепуганы. Их обветренные лица выражали детский испуг и искреннее удивление.
– Мы помним, что один из пастухов стал царем Израиля. Мы знаем, что его любил Бог и охраняли Ангелы. Но, честное слово честного пастуха, мы никогда не думали, что Ангелы явятся нам самим!
– Говорите конкретней, что случилось? – при этих словах я налил им по полной чашке грога.
И они рассказали, что пасли стада, как обычно; что Ангелы вдруг запели над ними, и они чуть не умерли от страха; что главная мысль Ангельских слов заключалась в рождении Кого-то, Кто принесет на землю мир и в людские души – стремление к добру.
Мы выпили с ними еще по стакану крепкого и горячего напитка, и я попросил их рассказать поподробнее о том, что они видели и слышали. Но пастухи! О, эти пастухи! Вы когда-нибудь разговаривали с пастухами? Вы пили с ними грог? Размякшие от вина, они быстро забыли тему нашего разговора и стали клевать носами. Те, кто работает на воздухе, быстро засыпают в тепле.
Они уснули, а я вышел из дома. Я знал, где они пасут свои стада, и где могло произойти то, о чем говорили люди с обветренными лицами. Снег, сухой и твердый снег, хрупал под моими ногами, пока я шел к обычному месту выпаса овец. И вдруг свет, необычайный, мягкий и теплый свет согрел мою щеку. Он не ослепил глаза, а именно согрел щеку. Видит Бог, Которому я так много молился раньше, что не пойти на этот свет было выше сил человеческих. Я пошел, и снег подо мною был утоптан, так что было ясно – по этой дороге иду я не первым.
Не помню точно и врать не буду, кто был там, кроме меня. Старики ли это были, или молодежь. Но я прошел сквозь небольшую толпу, никого не заметив и не узнав в лицо. Дверь скрипнула, и глаз мой непроизвольно зажмурился. Не от яркого света, нет. Свет в домике был более чем скуден. Я зажмурился от сияния, окружавшего головку Младенца, мирно сопевшего на руках у Матери. Он выглядел простым, обычным ребенком. Таким, которые плачут от газиков в желудке, жадно ищут сосок и краснеют от долгого плача. Но я ведь не простак, не так ли? Я же понимаю, что никакой вол не будет дышать на младенца ноздрями, если это не особый младенец. И никакие чужестранцы не возьмут на плечи тяжесть долгого пути, если речь идет об обычном ребенке. И никакой пастух, сколько бы он ни выпил вина, не станет придумывать невозможное, приплетая к своим фантазиям Самого Господа Бога. Да и само сияние от Его темечка, оно, не говорит ли лучше всяких слов о том, Кто пришел и Кто родился!?
Я замер в углу комнаты на скрипучем полу. Замер, боясь пошевелиться и заскрипеть половицами. Мои глаза устремились в теплую и мягко сияющую глубину колыбели, а мысли заскакали, как сошедшие с ума.
«Неужели это – Ты? – думал я. – Неужели, Ты пришел? Бот так странно и неожиданно пришел?! Пришел беспомощным и слабым, нежным и беззащитным? Я думал, что изнемог, когда просил Тебя явиться. А теперь Ты явился, и я изнемог еще больше, потому что Ты пришел неожиданно, без всякого величия…
Я стоял и смотрел. А слова сплетались в цепочки и нити, а затем расплетались, оставляя мысль пустой и беспомощной. Я ждал одного, но получил другое. Я встретил то, о чем не мечтал. Самое время прекратить думать. Колени мои сами собой подогнулись, и я опустился на них, склонившись лбом до самого пола. «Ты правильно сделал», – услышал я через минуту над правым ухом. «Не надо размышлять. Надо преклониться».
Я повернул лицо и увидел сияющий взор. Только взор и только на секунду. Видимо это был один из тех Ангелов, что возвестили пастухам рождение Господа от Девы. Как хорошо они говорят! Как кратко и точно говорят Ангелы! Не надо размышлять. Надо преклониться!
Я преклонился. А теперь распрямился и стал на ноги. Младенчик все так же спал. Мать склонялась над Ним, напевая что-то тихо и нежно. Не поворачиваясь к Ним спиной, пятясь, я вышел на улицу, унося в груди такую сладкую и густую смесь ощущений, что тысячи людей могли бы напитаться ею и устать от сладости.
Снег хрупал под ногами. Сухой и твердый снег. Снег опускался на мои ресницы, облеплял усы и бороду, таял на теплой коже шеи. «Он пришел», – думал я и захлебывался слезами. «Он пришел, но не так, как я просил, а по-своему, смиренно и невообразимо. Какой же Он удивительный. Какой же Он…»
Когда я вернулся домой, пастухи только что стали просыпаться. «Ну что, – спросили они, – ты был там?»
Я молчал. Снег на ресницах растаял, но пастухи умели отличить растаявший снег от слез, стоявших в глазах. И слезы благоговения они тоже умели отличить от слез боли или обиды.
«Давайте выпьем!» – сказал один из них. И этот голос был истинным спасеньем от нависшей тишины. Мы долго пили и пели, мы радовались до самого рассвета. Мы боялись произнести лишние слова, чтобы не оскорбить грубыми звуками человеческой речи ту Тайну, к Которой мы все прикоснулись.
Он таки пришел! Как интересно потечет теперь жизнь человеческая! Как сложно и хитро, как странно и счастливо теперь заживет человек!
Я был весел не в меру. Но изобилие горячего вина и шумная пастушеская компания не мешали мне всякую секунду этого спонтанного праздника твердить про себя: «Ты пришел! Ты пришел! Благодарю Тебя!»
ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО
Когда смотришь в пятый, шестой раз знакомый фильм, то замечаешь самые тонкие повороты сюжета, не уловимые при первом просмотре фразы и интонации. Очевидно, что в работах гениев нет мелочей и что смотреть их нужно не раз и не два. Великие работы надо изучать вначале в целом, а затем в деталях. Конец известен, диалоги выучены, и только затем открываются новые слои. А что же тут библейское?
А то, что мир в деталях так тонок, отчетлив, так ювелирно прописан именно потому, что Художник мира – Бог, уже додумал его до конца. В мыслях Бога этот фильм уже снят, эта картина дописана. Оттого вокруг и нет мелочей, и все важно, все вписано в общий замысел. Пространство Писания озирается свободно с высоты Апокалипсиса.
Лазарь, четыре дня пролежавший во гробе, Лазарь, настолько тронутый тленом, что запах смертной гнили был слышен уже из фоба, этот библейский Лазарь ничего не рассказывал о своем загробном опыте. Вероятно, «тамошняя» реальность не вмещается в слова. Что может рассказать о тюремной жизни маленькому сыну человек, отмотавший срок?
И Афанасий Печерский, умерший и вернувшийся к жизни, после этого долгие годы молился со слезами и никому ничего не рассказывал.
Какой контраст эти реальные истории представляют в сравнении с вымышленным путешествием Данте Алигьери по Раю, Аду и Чистилищу. Без сомнения, великий флорентинец потерял бы не только красноречие, но и сам дар речи, если бы его опыт был реальностью, а не полетом творческого воображения.
О делах Божиих нужно помнить. Забвение наползает на сознание так, как песок наползает на оазис, или так, как море постепенно размывает береговую линию. С песком и водой непрестанно борются и на Востоке, и в Голландии. Нужно бороться и с забвением. Великие дела Божии, чудеса Его тускнеют в сознании людей не столько по причине их временного удаления. Большей опасностью является разрыв в преемственности благодатного опыта. Чудеса, описанные в Библии, и чудеса, бывшие со святыми, рискуют для многих превратиться в сказку не оттого, что происходили давно, а оттого, что сердца слушающих необрезаны.
Человек, в XX веке изучающий древнюю икону, должен иметь некоторую меру тождества своего внутреннего опыта с опытом человека XII века, написавшего эту икону. Иначе все без толку.
Так и нам нужно внутренне ощущать ужас Потопа, драматизм сорокалетнего странствия и многое другое, чтобы верить Писанию сердцем, а не только читать его вслух.
Превращение посеянного зерна в колос – это ежегодное чудо умножения хлебов. Оно совершается регулярно, и именно по этой причине не воспринимается как чудо. Но это – дело Великого Чудотворца. Жизнь зерна, его прорастание, превращение одного зернышка в колос с десятками подобных зерен – это ли не чудо?!
Стоит ли удивляться насыщению многих тысяч людей малым числом хлебов? Тот, Кто ежегодно каждое зернышко умножает многократно, может без труда в Своих руках умножить уже готовый хлеб.
Воистину, Иисус Христос есть Бог Всемогущий, и Он сотворил мир. «Имже вся быша».
Братья, продавшие Иосифа в рабство, не узнали его в Египте. Так евреи, отвергшие и распявшие Христа, не узнают родившегося от них по плоти Господа, Который уже прославился в мире и превознесся. Страдальческой судьбой, целомудрием, прозрением будущего Иосиф проображает грядущего Господа. Не менее он изображает Христа и удивительным незлобием. Он едва удерживается от слез при виде братьев; затем он плачет во внутренней комнате (Быт. 43, 30); он громко рыдает, открываясь им (Быт. 45, 2). Такова любовь. Таков и Христос, до сих пор не узнаваемый евреями. Если не узнают Его до Страшного Суда, придется им возопить и заплакать, узнав Его с опозданием.
Они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце (Зах. 12, 10). О том же говорит и первая глава Апокалипсиса.
Чудеса Христовы многослойны. На первый взгляд может показаться, что все ясно – воскресил, исцелил, накормил. Но стоит присматриваться. Стоит перетирать, по слову Златоуста, лепестки розы между пальцами, чтобы извлечь большее благоухание.
Так, исцеление слепорожденного таит в себе, по крайней мере, три чуда. Во-первых, это само дарование зрения человеку, родившемуся слепым. Второе чудо в том, что Господь сделал человека способным видеть сразу. Науке известно, как постепенно привыкает к окружающему миру младенец, как он незряч в свои первые дни после рождения. Известно, как постепенно снимаются повязки с тех, кто перенес операцию на глазах. Сорвать с них повязки резко означает ослепить их повторно уже навсегда. Человек, никогда не видавший ничего, в порядке естественного процесса, должен был бы постепенно привыкать к образам никогда не виденного мира, к расстояниям между предметами, к цветовой гамме. Увидеть вдруг все означает сойти с ума и вновь ослепнуть. Мир, всей своей огромностью, должен хлынуть в видящие глаза, и это должно быть непереносимо.
Но человек посмотрел на мир так, как будто он его уже видел и знает. Это – второе чудо.
А третье то, что увидел он перед собой воплотившегося Бога. Многие пророки и праведники хотели видеть и не видели. А слепорожденный, прозрев, тут же посмотрел в глаза Иисуса Христа. Глаза в глаза – только что исцеленный и Источник исцелений, Богочеловек, Спаситель стояли малое время, глядя друг на друга.
У пяти дев, ожидавших Жениха, в лампадах закончилось масло. Произошла естественная убыль. Если не подливать в лампаду масла, если, другими словами, не возрастать в вере, то угасание светильника неизбежно. Чего стоит доктор, который после окончания медицинского вуза не читает специальной литературы, не продолжает свое практическое и теоретическое обучение? Чего стоит священник, после семинарии и пусть даже – Академии, прекративший свое внутреннее образование? Разве доктору и пастырю хватит той начальной базы знаний и опыта на всю жизнь? Разве эта порция елея не истощится вскорости?
Кроме того, огонь лампады мягок и нежен. Его может задуть даже ребенок. Это не факел и не бикфордов шнур, способный гореть даже под водой. Огонь лампады нужно беречь.
Нравственные выводы очевидны.
Когда человек окутан воздухом благодати, когда он попадает в атмосферу реального чуда, человек удивляется. «Неужели это я? – спрашивает себя человек. – Неужели все это происходит со мной?»
И когда человеку совесть напоминает о прежних ошибках и беззакониях, падениях и безобразиях, он говорит себе: «Неужели это был я? Неужели это произошло со мной?»
Выходит, что на пиках нравственных состояний, в благодати и в падениях, человек не узнает себя, изумляется тому, что с ним происходит.
Где же тогда сам человек и что он такое, если ни в благодати, ни в безблагодатности не чувствует он себя естественно? Истинно, мы – витязь на распутье; более потенция, чем факт; все еще возможность, а не реальность.
Один человек говорит: Господи, помоги мне исправиться. Другой человек говорит: Господи, исправь меня Сам, как знаешь, я на все согласен.
Второй выше первого. Первый просит у Бога помощи на то, чего хочет сам. Второй не верит себе и отдает себя в руки Божии и в благую неизвестность.
Второй выше первого, хотя я его ни разу не видал. Да и где ты увидишь второго, если и первый попадается один на тысячу.
Священник – это Луна, а его жена-матушка должна быть космонавтом. Луна смотрит на Землю всегда лишь одной своей стороной. И священник дома не священствует так, как священствует в церкви. Дома он – муж и отец, любимый человек и хозяин. Для того чтобы видеть в нем священника, его жена должна иногда забывать, что он делит с ней кров, стол и ложе. Она должна совершать космический полет на «ту сторону Луны». Туда, где ее муж, подобно Неопалимой Купине, объят священным огнем и, стоя перед лицом Божиим, священнодействует Тайны Тела и Крови Христа. Как минимум раз в неделю это чудо происходит с ним, а значит, и с ней, той, что привычно делит с ним кров, стол и ложе.
Из обычных земных женщин матушка – самая удивительная женщина в мире.
После братьев Люмьер человеческая жизнь кажется невозможной без картинок, бегавших когда-то по белой простыне, а теперь мелькающих на экранах и мониторах. Воздух больших городов загазован до предела, и точно так же до предела визуализировано сознание современного человека. Он мыслит картинками и живет так, будто играет в кино. Пусть кино нам поможет понять кое-что.
Сравним нашу жизнь с огромным количеством отснятой пленки. Это еще не готовое кино, но рабочий материал. Потом придет смерть и, как говорил Пазолини, смонтирует все, что отснято, в готовую ленту. Только в конце, когда на экране появится слово the end, можно будет правильно оценить фильм целиком и каждый эпизод в отдельности. То есть только после смерти, после окончания работы безмолвного инженера монтажа.
Первый показ фильма о твоей жизни будет закрытым. На нем будут присутствовать только Бог и ты. Ты будешь отворачиваться от экрана, краснеть, морщиться, стыдиться. Никакой ад не покажется тебе страшнее этого первого показа. «Смотри сюда, сынок, – может быть, скажет Он, – ведь ты и это сделал. И еще это, и это. И в этом ты виноват. А теперь смотри сюда, сейчас будет самое важное».
«Не надо! Я не могу! Перестаньте, пожалуйста! Я прошу вас, не надо!» – ты будешь метаться из стороны в сторону, и весь вспотеешь от страха, и захочешь проснуться, но это будет не сон.
Если это хоть немножко похоже на правду, то Страшный Суд будет похож на один кошмарный кинофестиваль. Ни призов, ни фуршетов. Вместо этого – для многих и очень многих проход по алой дорожке в одну сторону. Проход с опущенными лицами, поскольку тайное стало явным, его увидели все, и нет в этом тайном ничего, чем можно было бы похвалиться.
Если в семье несколько детей, то можно услышать такие слова: «Вырасту и женюсь на сестричке» или «Выйду замуж за братика». Возможно, это – живое напоминание о том, что было в начале мира, когда человечество плодилось внутри одного семейства – среди детей Адама и Евы.
Когда грешит человек, то не весь он грешит. Это грех живет в человеке и действует. Сам грех грешит и вовлекает в поле своего действия человека. Грех хочет, чтобы весь человек грешил, но редко ему это удается. Остается в большинстве людей что-то не поддавшееся греху, некие святые точки, не вовлеченные в круговерть войны с Богом. Точки эти живут в сердце, как звезды в небе.
И когда человек молится – не весь он молится. Какая-то часть человека стремится к Богу, но все остальное повисает балластом, не дает лететь и само не хочет молиться. Молитва хочет распространиться пожаром и охватить всю человеческую природу. А грех хочет пролиться дождем и погасить человека, сделать его до нитки мокрым и тяжелым, не способным сиять и светить, но только коптить. Борьба эта изнурительна.
Во Христе нет ни одного греха и даже тени греха. Вместе с тем Он знает все. Казалось бы, Ему проще простого презирать человека, опозоренного и испорченного беззакониями. Он же, напротив, нежен с человеком, как кормилица, долготерпелив и многомилостив. Как не похожи на Христа обычные люди-грешники. Если кто-то хоть чем-то лучше ближнего, сколько сразу высокомерия и осуждения! Если кто-то знает о чужих грехах, сколько тайной радости о чужом позоре, сколько злого и презрительного шепота об этом.
Грешники и грешницы! Удивимся и прославим Единого Безгрешного. Он свят, но не гордится. Он знает о нас все, но не гнушается.
НЕ ПРОДАЕТСЯ
Одним из косвенных, однако могучих факторов моего детского воспитания были советские мультфильмы. Любители хулить целиком все советское прошлое, умолкните!
Говоря о советской мультипликации, мы в очередной раз встречаемся с конкретными фактами, превосходящими любую узкую историософскую схему. Уже никто и никогда (это совершенно ясно) не будет рисовать и снимать так много хороших мультфильмов с нравственным содержанием, таких скрытоправославных мультфильмов, если быть до конца честным. Никто, нигде и никогда.
Нас, несколько поколений советских детей, посредством говорящих птичек и зверушек, рисованных, пластилиновых, вязанных, учили не врать, не красть и защищать слабых. Нас очень многому учили и кое-чему таки научили. Спасибо.
В одном из таких мультфильмов (назывался он «Летучий корабль») речь шла о построении чудесного воздушного судна. Царь, выдающий дочь замуж, предлагает женихам в качестве задачи построение этого самого летучего корабля. Среди соискателей руки царевны – богатый, толстогубый и толстопузый купец. «Построишь корабль?» – спрашивает царь. «Куплю», – басом отвечает тот.
«Все куплю, сказало злато. Все возьму, сказал булат». Классика.
Благословен богач, в некие моменты жизни смиренно произносящий: «Я бессилен. Это не покупается».
Проклят богач, нагло уверенный, что все купит и все приобретет. Стоит лишь поторговаться. Нас научили делить надвое самоуверенность и не приписывать деньгам атрибуты Бога – то есть всесилие.
Но мы живем с некоторого времени в атмосфере этих «классических» отношений, где все покупается и продается, где на вопрос: «Построишь?» – отвечают: – «Куплю».
Многим так и кажется, что все можно купить, и это ясно как Божий день. В это верят не только обладатели больших сумм, способные купить товары из слоновой кости, мрамора, золота, шелка; не только покупатели и продавцы здоровья, счастья, душ и тел человеческих. В это верят и те, кто скребет в кармане мелочь на булку с тмином и ничего больше позволить себе не может.
Бедные ослеплены идеей всемогущества денег еще более, чем богатые, и это – истинная беда и, может, проклятие. Именно в этой наивной вере бедняков во всесилие богатства как раз и таится звериное лицо богатства наглого, жестокого, беспринципного.
* * *
Образование уже не просто получают и осваивают. Его покупают.
Здоровье покупают. Семейное счастье страхуют от возможных неприятностей, заранее оговаривая раздел машин, сковородок, бигудей и квадратных метров.
За деньги вырезают внутренние органы. За деньги же начинают войны, проплачивая в газетах и журналах статьи о неизбежности военных операций.
Самое время повести громкий разговор на тему о том, что вообще не продается, что не может быть измерено деньгами; о том, торг о чем неуместен.
* * *
Дзен-буддист может сказать, что дороже всего – мертвая кошка. У нее нет цены. Это правильно. Это пощечина по мордасам тем, кто решил все вообще прокалькулировать. Но этого мало.
Чтобы потеснить деньги с места, им не свойственного, мало отстреливаться восточными каламбурами. Нужно определить самый главный перечень вещей и понятий, которые деньгами не измеряются.
Жена, дети, родители не продаются. Если даже кто-то назначит им цену, указанную сумму нельзя обсуждать. Это торг о бесценном, и он позорен.
Не продается Родина, если, конечно, такое понятие присутствует в мозгу пациента.
Не продается вера.
Не продается честь.
Совесть, даже будучи попранной при помощи шуршащих денежных знаков, все равно откажется признать себя проданной и будет мучить беззаконного продавца до смерти и далее.
Нужно непременно каждому человеку озаботиться вопросом: что я ни при каких условиях не могу продать? что я не буду продавать, даже если для меня лично разожгут костер и приготовят пыточные орудия?
Таким образом, в результате мысленного труда мы получим в сухом остатке неприкосновенный запас подлинных, непродаваемых ценностей, и благодаря этим ценностям жизнь сможет приобрести истинную глубину и смысл.
А иначе развращенная умом девица сможет без всяких внутренних затруднений продать девственность, а факт продажи заснять на камеру, чтобы, опять же, продать затем кассету за дополнительные деньги.
И мамаша, зачавшая не весть от кого, сможет продать новорожденное дитя за энную сумму. А если возьмут ее на горячем, будет удивляться: «За что это к человеку невинному прицепились?»
И весь этот бедлам и содом будут показывать по телевизору, то есть, опять же продавать информацию рекламодателям, чтобы вбить ее в мозги телезрителей. Ну, а те, соответственно, расшатав и без того расшатанный внутренний мир, будут гугнить на всяком перекрестке, что все, мол, продается и покупается. Будут читать в газетах под заголовком «Куплю» перечень вещей, которые пользуются спросом, вплоть до «души» и «совести». И будут пытаться продать свой залежалый товар, вряд ли понимая разницу между его истинной ценностью и ценой неизвестного покупателя.
Итак, месседж прост:
– вычленить из числа вещей и понятий, продаваемых и покупаемых, перечень явлений и предметов, никогда не могущих быть проданными или даже попавшими в оценку;
– отделить эти вещи и понятия как предметы неприкасаемые, имеющие быть хранимыми во Святая Святых;
– и только после этого считать себя человеком.
Иначе жизнь убедит всех и наглядно докажет, что люди, не совершившие подобной духовной процедуры, являются не столько человеками, сколько «антропоморфными существами».
Отношение к ним – соответственное, и вечность блаженная – не для них.
Кстати, еврейское слово «святой» («кодеш») означает «отделенный», «выключенный из числа предметов обыденных».
В любом случае это означает – «непродающийся».
ТЫ ГДЕ И КАК УМИРАТЬ ХОЧЕШЬ?
Чего ты глаза вытаращил, будто я сказал что-то неприличное? Ты что, умирать не собираешься? Или ты об этом думать не хочешь? А о чем тогда думать – о футболе, о бабах, о деньгах?
* * *
Я, например, не хочу умирать в городе. Грязь, пыль, суета. Во многих высотных домах даже грузового лифта нет. Такое впечатление, что строители их спланировали для людей, у которых в жизни не бывает ни шкафов, ни гробов, ни пианино. Вот так умрешь на девятом этаже, тебя сносить замучаются. Те мужики, что поприличнее, сплошь лентяи и через одного – сердечники. Они гроб не понесут. Придется нанимать пролетариев за бутылку. Так они тебя, с матом пополам, и потащат. Не под «Святый Боже», говорю, потащат, а под матюги.
* * *
Потом, кладбища все далеко. Будут полдня тебя везти в ритуальном автобусе, будут в пробках стоять, будут рычать сцеплением и визжать тормозами. И не будет в этой фантасмагории ни тишины, ни умиления. И кадильного дыма не будет. Как намек на смрадную жизнь, смерть будет окутана выхлопными газами.
Ты не кривись и не соскальзывай с темы. Если не я сейчас, то кто и когда с тобой об этом поговорит? О смерти говорить надо. Она сама молчит по пословице «Когда я ем, я глух и нем», молчит и в тишине пережевывает человечество. А люди должны нарушать эту тишину. Лучше всего – молитвой, а нет – так хотя бы разговором.
* * *
Даже гробовых дел мастер Безенчук, который пьян с утра, имел для смерти множество имен. Раз люди по-разному живут, думал он, значит, по-разному умирают. Одни «приказывают долго жить», другие «упокоеваются», третьи «ласты склеивают» и так далее. «Гигнулся», «кончился», «зажмурился». Все-таки лучше, чем просто «сдох». Это уже как-то совсем по-скотски.
* * *
Ты как хочешь, «сдохнуть», или «окочуриться», или «Богу душу отдать»? Я, например, хочу «упокоиться». Как дьякон в церкви гудит: «Во блаже-е-нном успении ве-е-е-чный покой…»
И надо, чтобы деревья росли у могилы или цветы вокруг. Все-таки на рай похоже. А если никакой лист над головой не шелестит и если каждый луч норовит пришедшему на могилу человеку лысину обжечь, то это истинная печаль и земля изгнания.
* * *
Ангелы за душой придут, придут, родимые. Заплаканные придут, потому что подопечный их скверно жил. Как-то все для себя жил, к Богу спиной стоял, ближнему дулю показывал. Мелко жил, без полета, без настоящей радости. Как червяк жил, все рыл и рыл хитрые ходы в беспросветной тьме. Вот, дорылся.
Собственно, и не жил совсем. Разве это жизнь, когда перед смертью вспомнить нечего, а родственники, кроме как «сколько водки на стол поставить» и «сколько венков заказать», больше ни о чем думать не будут?
* * *
Страшно будет на себя со стороны смотреть. Они тебя моют, а ты на них со стороны смотришь. Они твои негнущиеся руки в новую рубаху запихивают, галстук тебе повязывают, туфли новые надевают, а ты смотришь. Смешно даже. Глянь, как туфли блестят.
Отродясь в таких чистых не ходил. Засмеялся бы, если бы не Ангелы за спиной и не эти… чуть поодаль.
* * *
Эти придут, понимаешь? Ты понимаешь, бараньи твои глаза, эти придут! Те, которые с тобой до сих пор только через мысли общались. Они шептали, а ты гадости делал; они подзадоривали, а ты психовал без причин; ты грешил, а они твою совесть убаюкивали. Ух и страшные же они! Вот когда ты молиться начнешь. Хотя вряд ли. Не начнешь. Там начинать поздно. Там можно только продолжать то, что на земле начал. Нет, пить не буду. И ты не пей. Не отвлекайся. Слушай.
* * *
Картину Мунка видел? «Крик» называется. Там человек на картине кричит, и его сначала слышно. Не веришь – найди и посмотри. Хоть и в Интернете. Сначала слышно. А потом крик таким пронзительным становится и до такой высокой ноты доходит, что его уже и не слышно.
Так души от страха кричат. Не приведи Господь, и ты так же кричать будешь, когда свое окаянство почувствуешь и этих увидишь. Самое страшное, что на тебя в это же время будут с трудом пиджак надевать и все мысли родни будут крутиться вокруг расходов на похороны и продуктов на поминки.
* * *
Опять же, время года какое будет, неизвестно. Летом страшно, что от жары вздуешься. Мухи, вонь… Не приведи Господь. Поститься надо, чтоб сухоньким преставиться. Незачем червям пиршество устраивать. Хотя грешников и тощих вздувает…
Зимой зябко в холодную землю ложиться. И могилу копать тяжело. Гробовщикам больше платить надо. Почему тогда телу не зябко? Зябко. Оно же не навсегда мертвое. Воскреснет же. И чувство в нем не сразу погасает. Когда в крематорий, в печку, тело запихивают, так оно даже сжимается, как будто от страха. Наукой доказано.
* * *
Лучше, конечно, весной, но не ранней, когда слякоть, а после Пасхи. Если в Пасху умереть, то даже над гробом вместо простой панихиды будут петь торжественно, весело… «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его. Пасха-а священная нам днесь показа-а-ася: Пасха нова, святая…» Красота. Вечной жизнью жить хочется!
* * *
Как откуда я это знаю? У меня ж зять – батюшка. Я у него на приходе всю прошлую зиму прожил, по дому с внуками помогал, ремонт там мелкий всякий, и читать по книжкам старым научился. Я ведь книжки люблю, ты знаешь. У, брат, сколько лет без толку прожил, только под старость маленько прозрел. Сколько всего интересного зять мне понарассказывал, сколько я и сам потом прочитал!
И мне теперь как-то все про смерть думается. Со страхом, конечно, но и с надеждой. И поговорить, поделиться хочется. А люди, как от чумного, от меня бегут. Говорят, мол, серьезный человек, полковник в запасе – и с ума сошел. Глупые.
Хорошо, что я тебя сегодня поймал. Не смотри на часы. Метро допоздна ходит.
Так ты где и как умирать собираешься?
МИФ О ПРОГРЕССЕ
Разменяться на мелочи – древнейший соблазн человечества. Бессмертие разменяли на сомнительный фрукт, первородство – на чечевичную похлебку… Бесспорно, великое видится на расстоянии. Но послужит ли это оправданием нам – тем, кто и сегодня меняет свою небесную прописку на «блага» цивилизации?
В «Дневнике писателя» среди множества ярких мыслей и интересных эпизодов есть такой. Достоевский вспоминает время своей юности, посиделки на квартирах друзей и страстные разговоры о будущем человечества. В это время он был частым гостем у В. Г. Белинского. Белинский увлеченно рассказывал о будущем счастье мира, о новом социальном устройстве и походя критиковал Христианскую Церковь и ее Божественного Основателя. Достоевский же непременно морщился и всем видом показывал неудовольствие от слышанного всякий раз, когда осмеивался или критиковался Христос. И вот однажды «неистовый Виссарион» отреагировал на неудовольствие юного писателя. «Посмотрите на него, – сказал он, указывая на Достоевского еще одному человеку, молча сидевшему в кресле. – Да ведь если ваш Христос явился бы сейчас в мир, то Он так бы и стушевался при виде современного развития человечества. Паровые машины, электричество, высотные здания… Ваш Христос был бы обычным маленьким человеком и не посмел бы рта открыть в современном мире».
Молча сидевший в кресле человек возразил Белинскому: «Нет. Христос непременно стал бы во главе движения» (имея в виду движение социалистическое). Белинский поспешно согласился: «Да-да, непременно стал бы во главе».
Эта история, несмотря на свою давность, кажется мне очень актуальной. Христос, возглавляющий социальное движение, Христос-революционер – это впоследствии стало реальностью в головах многих людей.
…В белом венчике из роз Впереди Иисус Христос, – писал Блок в поэме «Двенадцать». Это и так называемая «теология освобождения», распространенная в Латинской Америке, это и пафос борьбы за бедных, характерный для первых лет революции, и многое другое. Мне же более живучими представляются примитивные мысли Белинского. Поскольку к пару и электричеству за последнее столетие добавилась укрощенная атомная энергия, полеты в космос, интернет, мобильная связь и еще множество различных достижений разума, именно плоскостной подход к религии среднестатистического поклонника науки представляется опасным. Символ веры такого недоучки можно сформулировать так: «Если у меня в кармане мобильный телефон, а дома – компьютер с выходом во всемирную сеть, то важны ли для меня какие-то заповеди какого-то палестинского проповедника двухтысячелетней давности?» Кроме суеты, вечно заслоняющей от человека духовную реальность, ныне «единое на потребу» скрыто еще и под густым слоем «цацек» и побрякушек, придуманных техническим прогрессом. Эти побрякушки делают человека чванливым и самодовольным, безразличным ко всему, что нельзя съесть и во что нельзя выстрелить из пистолета.
А между тем природа человека не изменилась. Современная жизнь знает сотни примеров того, как профессора и академики в случае беды или болезни обращаются к безграмотным «бабкам», шаманам, экстрасенсам. И знания от этого не спасают, и религиозный скепсис куда-то испаряется. Человек – это такое существо, которое даже поднимаясь по трапу современного звездолета, может сжимать в кулаке монетку «на счастье» или приколоть под скафандр заговоренную булавку.
И верить будет пилот звездолета не в научно-технический прогресс и не в гениальную чудо-машину, а именно в монетку и булавку. Это и плохо, и хорошо одновременно. Плохо потому, что, не имея правой и истинной веры, человек неизбежно освобождает место в душе для веры ложной, суетной и мелкой. А хорошо потому, что такое дремучее поведение громче всех доводов рассудка говорит о человеке как о существе вечно религиозном, нуждающемся в невидимой помощи сил, которые выше человека.
Цивилизация кроме всего прочего может оказаться фактором нашего осуждения на Страшном Суде. О чем нам говорит любой автомобиль – не важно, мерседес или запорожец? Он говорит о том, что человек – это очень умное существо, существо творческое, а еще такое существо, которое ничего не может в одиночку, но кооперируясь и концентрируя усилия, может творить буквально чудеса. Значит, все научные открытия и технические достижения отнимают у нас вечные отговорки – дескать, я ничего не понял, я ничего не знаю, что я мог сделать один? – и прочее. Мы, например, скажем Господу: пощади нас, слабых и глупых. А Господь нам ответит: если вы сумели построить метро, то какие же вы слабые и глупые? Конечно, суд будет молниеносный, и на нем мы без «оглагольников» осудимся, но все же задумаемся, пока не поздно: любая из окружающих нас ежедневно цивилизационных «цацек» есть плод величайшей концентрации умственных и физических усилий. Институты думают и фабрики работают над тем, чтобы наш быт был насыщен микроволновками, стиральными машинами, мобилками и т. п. Все это стоит, повторяю, величайшей концентрации усилий многих людей, занимающихся одним и тем же делом. И если наши самолеты преодолели звуковой барьер и, в то же время наши правительства не преодолели голод и средневековые болезни, то это значит, что одно мы хотели сделать, а второе – не хотели.
Что касается самого Белинского, то последние годы своей жизни, будучи смертельно больным, он утешал себя тем, что наблюдал издалека за строящимся в Петербурге новым вокзалом. Б грохоте землеройных машин ему чудилась гармония будущего счастья, подобно тому, как итальянские футуристы считали рев революционных моторов красивее песни влюбленной девушки. Вот такие плоские души, лишенные всяческой глубины, были хозяевами дум и у нас, и на Западе. Точно такой взгляд на жизнь нам проповедуется ежедневно средствами массовой информации. Если ядро жизненных интересов составляет «потребительская корзина», то взгляд независимого исследователя буквально через один логический шаг усматривает за «корзиной» ее неизбежное последствие – ватерклозет.
Кто мы – дети унитазной цивилизации или вечные люди с небесной пропиской? Решать нам.
ПУТЕШЕСТВИЕ ВНУТРЬ СЕБЯ
У каждого есть опыт потерь и разлук. Каждый из нас время от времени спит. Все мы однажды болезненно попрощались с детством или, если детство ушло незаметно, с юностью…
Каждый человек богат мистическим опытом. Этот опыт у каждого свой, но вместе с тем он – общечеловеческий, поскольку сон, потери и память о детстве присущи всем. Этих бриллиантовых мелочей хватает для того, чтобы по временам сидеть молча, перебирать в уме свои сокровища и желать только одного – чтобы никто не подсел к тебе с разговорами.
Разлука – это вокзал. Конечно, не только вокзал. Да и сам вокзал – это не только разлука, но и спешка, и отрицание ухоженного быта, и одиночество среди многолюдства. Но стоит поискать глазами на вокзале большого города, и найдешь непременно пару, над которой реет скорбный Ангел и на фоне которой прочие люди – ожившие экспонаты из музея мадам Тюссо. Он не уезжает на войну, а всего лишь на учебу или в очень короткую и недалекую командировку. Но зачем вам война, если боль мира и без нее очевидна? Вот Мария Магдалина у Пастернака говорит Господу:
…когда я на глазах у всех
С Тобой, как с деревом побег,
Срослась в своей тоске безмерной.
Если есть она и он, и если он уезжает, а она остается, то всегда есть безмерная тоска, и разделить их обоих так же больно, как побег и дерево. И муж для жены – это господь после Господа, и он для нее оправдание жизни. Но острый и беспощадный, как нож садовника, и такой же металлический и безучастный голос женщины, объявляющий отправление и прибытие поездов, отделит их и разомкнет объятия.
Мужчину всегда ждет впереди что-то помимо семьи, что-то историческое, или псевдовысокое, или вовсе обманчивое. И он, повинуясь обстоятельствам, ежедневно оставляет ее и ныряет в двери вагона. А она остается умирать, хотя никто не увидит трупа и не вызовет «скорую». Если бы она была Дидоной, то на вокзале запылал бы погребальный костер, огонь которого жег бы слабее, чем огонь разлуки.
Вокзальные стены впитали этот запах незаметных страданий, как свитер или рубаха впитывают в себя запах владельца. И разве нужна еще какая-нибудь мистика, чтобы ум удивился, а сердце заныло жалостью?
Совсем по-иному обстоят дела на маленьких провинциальных вокзалах. Там холодные и полупустые залы ожидания. Там скудно меню в буфете. Там кресла тверды и неудобны. На этих вокзалах тоже разыгрываются страсти, но эту игру тяжелее представить и еще тяжелее заметить. Если случится ждать поезда в подобном месте, то лучше всего, обняв дорожную сумку, спать.
Сон. Что это? Где гуляет моя душа, какие ветры ерошат ей волосы, когда тело беспомощно распласталось или, наоборот, скрутилось в позе зародыша? Был бы сон простым явлением из области физиологии, разве Бог являлся бы столь часто великим людям во сне?
Вот Иаков спит, положив камень под голову, и видит Лестницу, достигающую неба.
Вот Иосиф видит множество снов, из-за которых братья решаются его убить. И снова, в земле изгнания, он видит судьбы сокамерников во сне, и эти сны сбываются с точностью. Вот, выйдя из темницы, он спасает Египет от голода, толкуя фараоновы сны о семи тучных и семи скудных годах.
А вот тезка его, живший много лет спустя и оберегавший Пречистую Деву, принимает многократно вразумление во сне от Ангела. Не бойся принять Марию, жену твою… Встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет.
Только начни перечислять случаи чудесного вразумления во сне, и пальцев не хватит.
Значит ли это, что надо читать сонники, ждать ночных посещений, засыпать с желанием что-то увидеть? Да, конечно, при условии, что ты – неисправимый глупец, и грош цена твоему примитивному любопытству.
Нужно просто ложиться спать, а уж если будешь целомудрен, как Иосиф Прекрасный, или смирен, как Иосиф Обручник, то Владыка неба и земли скажет тебе что-то на ухо или покажет, чему надлежит быть вскоре. А может, и не покажет. Это Его дело. Он – Господь. Ты же, главное, спи, спи. Без сна нельзя. Без сна можно с ума сойти. А сном можно спасаться от уныния, от душевных перегрузок. Во сне можно летать, можно повидаться с интересным человеком, вернуться в детство и походить по залитым солнцем улицам, на которых обычные дома высоки, словно небоскребы.
Воздух свеж и мир огромен в той стране, из которой мы вышли, – в детстве. Все хотели быстрей повзрослеть. Все мальчики именно поэтому пробовали курить и бриться раньше появления первого пушка на щеках. Все девочки именно поэтому надевали мамины туфли и портили помаду, делая нелепый, несвоевременный макияж. Но потом все повзрослели, и мало кто этому сильно обрадовался. Когда детство улетает, когда его уход неумолим, как бегство Амура из объятий Психеи, тогда люди плачут. Они плачут на выпускном вечере и потом при встрече восхода. Или они плачут после. Но всякий раз, плача, они сами не знают, почему из глаз течет соленая вода, а грудь сжимается до боли.
Разве это не подобие смерти? То есть не подобие ли это некоего перехода из одного качества в другое? Разве можно не плакать девушке, когда расплетают ей косы перед первой брачной ночью? И жених любим, и сей день желанен, но плачет, бедная, и не может ни слез своих понять, ни остановиться.
Хорошо тому, кто знает, о чем речь. Плохо тому, кто скакал в постель так смело, как скачут в воду с вышки спортсмены. Причем до всякого брака, без мысли о браке, презирая брак по существу.
Память о прошлом, переход из возраста в возраст, разлуки и встречи возможны только при наличии времени. Время, невидимое, как радиация, пронизывает все, и дозиметр для его отсчета виден почти у всех на руках. Водонепроницаемые, кварцевые, противоударные, дорогие и дешевые часы обхватывают сотни тысяч запястий. Стрелки часов дрожат в торговых залах, электронные цифры мигают в поездах и переходах. Но однажды Ангел, подняв руку, поклянется Богом, что времени больше не будет. Это нельзя представить. Это будет начало нового мира, и само начало будет невообразимым.
Я представляю себе Ангелов, носящих на руках часы, у которых нет стрелок. Часы без стрелок – это такой меткий образ прекратившегося времени и начавшейся вечности. Он есть у Бергмана в «Земляничной поляне».
И я однажды заснул в пономарке. Недолго спал. Проснулся и почувствовал, что воздух другой, пространство другое. Вышел через алтарь на улицу и вдруг с ужасом понял, что времени больше нет. Покаяться нельзя, измениться невозможно. Стрелок на часах нет, и ничего не тикает. А вокруг так пусто, тихо и безвоздушно, что рот сам собою раскрылся в ужасе и закричал без звука. Тут я проснулся, крича. Это был сон, гоголевский многослойный сон, при котором много раз просыпаешься, но оказывается, что продолжаешь спать, потому что посыпаешься внутри сна.
Я во сне чувствовал, что такое «времени нет». Я не из книжек знаю, что человек многомерен и таинственен. Он не может «просто» жить. Все, что он делает, не «просто». И сам он не прост, но похож на Ихтиандра, который должен был постоянно переходить из воды на воздух и обратно. У него для этого были и легкие, и жабры. А у человека кроме костей и кожи есть совесть и память, есть погребальный обряд и надежда на будущее. Он сам для себя загадка и может силой ума и воображения смотреть на себя со стороны то с удивлением, то с ужасом, то со стыдом.
Любая из теорий, умалчивающая о Боге, не в силах объяснить, откуда человек взялся, как должен жить и что с ним будет. Только чудесная весть о загадочном и непостижимом Боге способна положить на весы с вопросами о человеке уравновешивающие ответы. В той стороне, где живет Таинственный Бог, нужно искать ответы, потому что сам человек чудесен. Небольшое путешествие внутрь себя в любое время даст ему возможность в этом убедиться.
Часть II. УМНАЯ ВОЙНА
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Демократические процедуры – вещь хорошая, но вряд ли такая уж безальтернативная. Демократия и торжество личных свобод диалектически превращаются в свою противоположность, если их пытаются изобразить чем-то единственно правильным, часто не к месту цитируя Черчилля. Демократия, мол, несовершенна, но лучшего, дескать, никто не придумал, и так далее, и тому подобное. Все это достойно сомнений. И можно Черчиллю предпочитать Станиславского, говоря «не верю».
* * *
Вас не смущает голосование? То есть сам принцип, при котором побеждает большинство? Меня смущает. Что-то подсказывает мне, что большинство вовсе не обязано быть правым по сути. Большинство способно чудовищно заблуждаться. А ему вручают санкцию на непогрешимость суждений на основании одного лишь количественного перевеса. По меньшей мере – странно. По большей – чудовищно.
* * *
Предположим, что мы заблудились в лесу. «Мы» – это некая разношерстная группа людей, случайно оказавшихся вместе, как пассажиры поезда. «Сумма избирателей»
часто именно такова. Темнеет. Есть нечего. В душу заползает страх. Нужно куда-то двигаться, поскольку пребывание на одном месте угрожает смертью. Начинается галдеж и обмен мнениями. Один говорит, что надо идти «туда». Другая вопит, что надо бежать в противоположную сторону. Один человек пытается объяснить, что немного знаком с ориентированием на местности. То ли он был скаутом, то ли работал геологом. Короче, у него есть некие практические и неэмоциональные соображения. Одна беда – его не слышно. Вместо того чтобы послушать компетентного человека, заблудившиеся решают голосовать: идти «туда» или бежать в противоположную сторону. Бывший геолог подчиняется законам массы. Далее – сценарий триллера или картина на тему «Толпа линчует несогласного одиночку».
* * *
Выбор направления исторического движения – чем не аналог голосования заблудившихся людей. Мы все исторически «блуканули». Надо искать жилье, людей, хоженые тропы, надо спасаться. И один голос более-менее компетентного человека в этой каше испуганных голосов стоит больше, чем единогласное или большинством полученное решение людей, руководимых лишь эмоциями. Простой сумме невежественных воплей должно противостоять умное слово знающего человека. Так технолог на кондитерской фабрике не обязан устраивать митинг на тему определения количества изюма, закладываемого в массу для будущего кекса. Голосование здесь ни к чему. Есть знание специалиста. И так повсюду.
Другое дело, что есть сомнения в компетентности специалистов. И есть подаренное массам право спесивой самоуверенности в том, что воля ее – это воля Бога. Тот еще афоризм.
То есть подарена ложная мысль, что «мы сами с усами» и во всем способны разобраться в силу избыточной и врожденной гениальности. Вот только завотируем и пробаллотируем, да честно подсчитаем результаты, и плоды родиться не замедлят. Эта уверенность и есть «внутреннее проклятие демократии».
* * *
Что вообще понимает большинство? На что оно опирается? Обязано ли оно всегда избирать лучшее и не способно ли иногда избрать худшее? Представим себе, что большинство почему-то решило питаться из выгребных ям, находя это экономичным и естественным. Просто представим это в видах мысленного эксперимента. И что делать меньшинству, отстало и консервативно предпочитающему иметь на столе хлеб белый и черный? С точки зрения процедуры все безукоризненно: победила цифра. Но с точки зрения истины произошла антропологическая катастрофа – люди предпочли несъедобное. Два явления произошли вместе: антропологическая катастрофа и победа демократических процедур.
* * *
Пример с хлебом и выгребными ямами – конечно, сгущение, но намеренное. Впрочем, почему сгущение? Недалек тот час, когда общественное сознание разрешит человеку, быть может, смотреть с вожделением, как на сексуальный объект, со всеми вытекающими последствиями, на собственную дочь или сына. Произойдет взлом очередного массового табу, и большинство вдруг решит, что «ничего страшного». Ведь уже сегодня список тех явлений, что раньше считались неестественными, а сегодня превозносятся до небес, весьма пространен. Вопрос, как водится, проголосуют. И кем станут те, кто не согласен ни с формулировкой вопроса, ни с итогами голосования? Они будут врагами истины, коль скоро под истиной привыкли понимать мнение большинства.
* * *
Хорошо, если большинство состоит из людей умных, ответственных, работящих, честных. А что если нет. Что если оно состоит из лодырей, завистников и развратников, из лжецов, которые врут не краснея? Тогда что? Сама по себе процедура голосования не включает в себя размышления о нравственном состоянии голосующих. Не включает она и какой-либо коррекции с учетом этого нравственного состояния. Процедура есть явление схематическое и холодное. Теплеет она, лишь наполняясь кровью и дыханием живых участников процесса. И кровь эта может быть отравленной, а дыхание смрадным.
* * *
Голосование и вера в правоту большинства возникли там и в тот момент, где и когда люди были действительно социально активны, богобоязненны и ответственны. У них за душой был немалый набор копившихся столетиями ценностей. Поэтому проект сработал. А затем умы постепенно впитали мысль об универсальности человечества и всеобщности отдельных, удачно апробированных процедур. С тех пор стали считать, что если что-то где-то работает, то это «что-то» должно работать везде и сразу.
То, что дите сосет молоко из груди, а взрослый жарит стейк на гриле, и местами их менять нельзя, понятно. А то, что понятное одному народу может быть вовсе не понятно другому, как-то упускают из виду. Упускают из виду то, что народам, как и людям, нужно расти, учиться, преодолевать внутренний хаос, набираться опыта, и все это совершается не по графику, не линейно, а путано и таинственно, под действием Промысла.
* * *
Одни люди доросли до чего-то. Другие и не думали расти, но уверовали в силу формулы и внешних механизмов. Пока вторые бесплодно внедряли чужие схемы в свою горбатую жизнь, те первые (правнуки изобретателей формы и творцов идеи) изрядно растеряли нравственные качества, породившие успешную процедуру. Обе стороны пошли друг другу навстречу, как при строительстве железной магистрали. Одни, теряя прежнюю крепость, другие, мучаясь бесполезным обезьянничаньем. Когда те и те встретятся, вера в формулу у них будет идентичная, а внутренний мир – одинаково далек от возможности правильного внедрения формулы. Если вы не потеряли нить и поняли, о чем я, то можете представить себе встречу двух потоков как всемирный исторический акт – финальный и безобразный.
* * *
Демократии привычно противопоставляется диктатура, страх перед которой толкает людей к бюллетеням, урнам, референдумам, агитациям и прокламациям. Но линия антагонизма проходит не между диктатурой и демократией, а внутри любой социальной формации между здоровым и…
Символы российской монархии. Венец, скипетр и держава царя Михаила Федоровича извращенным ее вариантом. Так монархии противостоит не демократия, а тирания, что видно на примере крушения монархии в России с вползанием на опустевший трон красных тиранов. Демократии же противостоит хаос, поскольку субъект процесса может представлять из себя «охлос» толпу, а не «демос» – носителя определенных ценностных ориентиров. Существует еще аристократия, извращающаяся в олигархию, то есть «власть немногих», – людей, напрочь лишенных аристократизма.
Россия привычно существует в рамках борющихся друг с другом монархии и тирании. Вкрапления либерального словоблудия лишь способствуют разрушению относительно здоровых форм жизни с целью замены их на откровенно бесовские. В России мираж шапки Мономаха столь отчетливо различим в воздухе, что любой Разин или Пугачев лишены возможности назваться каким-либо именем кроме «настоящего царя». Мышление русских имеет вертикальную координату и сакральную составляющую. А Украина сопротивляется именно идее царской власти, и альтернативу видит не в демократии вовсе, а в аристократии (казацкая старшина, местные помещики – просвещенные и не очень, ей:.). И недоношенная местная аристократия удобно превращается в олигархию (новые помещики, местные князьки, латифундисты, рабовладельцы и проч.) Все очень органично и до некоторой степени неизбежно. Демократия же, как осознанный выбор свободно распоряжающегося своей жизнью человека (но не пролетария и не люмпена, а труженика) у нас даже не ночевала.
* * *
В подобных, исторически сложившихся условиях наша возня с плебисцитом (говорю об Украине, поскольку пою о том, что вижу) есть обидное баловство, не имеющее конца и сжигающее народную энергию. Украине, вполне возможно, не видать ни монархии, ни демократии, по причине внутренней к ним неспособности. Поезд, везущий в счастье, она вынуждена ожидать на станции «Олигархия». И сама олигархия вряд ли когда-нибудь станет аристократией, опять-таки по причине внутренней к сему неспособности.
Ситуация подобна той классической, когда перед лицом приближающейся катастрофы, с одной стороны, делать что-то нужно, а с другой – любая активность по определению бесполезна. В это время можно только молиться, что украинцы умели раньше и должны уметь сегодня. Нужно просто-напросто постараться остаться человеком с именем Божиим на устах до того часа, когда небо начнет свиваться, подобно старой одежде. Вряд ли нам даны еще какие-то иные творческие варианты.
* * *
Готовых формул, даром несущих счастье, в принципе нет. К примеру, есть партитура гениального произведения. Но произведение же нужно исполнить! Нужны годы, затраченные на овладение исполнительским мастерством, нужно грамотное чтение партитуры и проникновение средствами музыки в сокровенный авторский мир. А это – ой какой труд! Точно таков же и путь овладения всяким апробированным рецептом успеха научного, социального или художественного.
Активным субъектом всюду будет личность. Не народная масса и не другое понятие из разряда больших цифр, а живой и разумно действующий человек. Наше агонизирующее поведение повсюду обнажает главный дефицит – дефицит здоровой личности. Нет тех, кто силен, умен и спокоен, кто владеет темой и медленно прокладывает по земле борозду. А именно такие люди нужны в государстве и обществе, Церкви и школе.
Так получается, что скрипки есть, но нет ни ушей ни пальцев. И мрамор подешевел, но количество скульпторов не увеличилось автоматически. И демократические процедуры есть, но есть ли демос?
Все превращается в баловство и симуляцию, если на вас не смотрит понимающий взгляд человека, который ответствен за свои слова и поступки. Тем-то и плоха демократия, что она питает самодовольство в человеке, которому нечем гордиться. И долю ответственности за страну демократия с преступной легкостью возлагает на плечи даже тех, кто пуговицу пришить не может. А воспитание личности благородной и стремящейся к совершенству в задачи демократии вписывается с трудом. Поскольку такие личности тяготеют более к монархии или аристократии, книгам верят больше, чем рекламе, и если куда-то бегут, то, скорее, в храм, чем на распродажу.
УМНАЯ ВОЙНА
Есть понятие «умной войны», и мы находимся в гуще военных действий уже не одно десятилетие. Война всегда «умна», поскольку она есть не просто столкновение государственных систем, вооруженных народов, борьба новых видов вооружения с новейшими и прочее. Война всегда – столкновение воль и умов.
Специфика сегодняшнего дня заключается в том, что прежние войны требовали от воюющих сторон напряжения ума параллельно с собственно военными усилиями, а нынешние войны могут проходить без пушечной канонады и информационных сводок с фронта.
Нет, мир не стал добрее. Слабого и сейчас, в эпоху неотъемлемых прав человека, всегда побьют или даже убьют, а иногда даже разберут на запчасти с целью пересадки его почек и сердца богатому пациенту. Но если противник силен, его постараются обмануть, облапошить, оккупировать (в случае, если это страна) без единого выстрела. Вот такая война с нами и ведется.
Никто не объявлял мобилизации, никто не пел «Вставай, страна огромная», потому что свойство самой жестокой войны – ее незаметность. Пуля, пролетая мимо, свистит. Радиация не свистит, но убивает не менее эффективно.
Столь же эффективно и молча убивают человека болезнетворные микробы и вирусы, а также греховная информация.
Греховная информация – это истинное оружие массового поражения. Никакая отравленная стрела вроде бы не впилась в тело человека, а между тем человек гниет, и, как свойственно гниющему, смердит, и сам себя ненавидит, и ничто в окружающем мире ему не мило. А если таких гниющих людей будет много, очень много, то страна, населенная ими, будет неким подобием лепрозория. Гитлер таких неисцельно больных приказывал расстреливать без сожаления. Смею догадываться, что внуки англосаксов, судивших Гитлера в Нюрнберге, не намного гуманнее относятся к жертвам собственной пропагандистской отравы.
Раньше, говорят, когда пушки говорили, Музы молчали. Сегодня Музы перекрикивают пушки, а иногда их с успехом заменяют. И зачем вам тратиться на классические виды вооружения, вроде банальных и дорогостоящих снарядов, если головы вашего противника забиты вашим идеологическим продуктом?
Если вы внушили врагу, что он свинья и живет в грязи, а вы – бог и обитаете в раю, то ваш враг либо повесится от тоски, либо станет перебежчиком.
Если вы внушили врагу, что жизнь – бессмысленная случайность, он тоже с собой что-то сделает, оставляя на ваше усмотрение жену, дом и приусадебный участок.
Если вы научили противника слушать сутками на максимальной громкости проданную вами музыку, то он вскоре непременно оглохнет, и, значит, можно будет брать его голыми руками, а жена, дом и приусадебный участок останутся на ваше усмотрение.
Все это происходит и совершается, золотые мои. Совершается даже ежечасно и ежеминутно. Поэтому «Вставай, страна огромная» петь придется.
Если бы речь шла о честной борьбе, где рвутся мышцы и трещат кости, то причин для тревоги было бы меньше. Наш человек хоть и не богатырь давно, но все еще силен и смел. Его боятся и для этого страха есть основания.
Но та борьба, которая ему навязана, а вернее, против него развязана, ему плохо понятна. Он и не подозревает даже, что когда ему без перерыва поют песни по радио, его хотят уничтожить. Именно потому, что с нами ведут войну сознательно, а мы самой войны не замечаем, мы и проигрываем постоянно. А это не просто битва за нефть. Это битва за жизнь.
Стоит добавить, что война, о которой мы заговорили, чрезвычайно хитра, беспринципна и абсолютно бессовестна. Такой степени бессовестности нет у рядовых и всюду встречающихся Джонов или Брюсов. Для человека вообще такая бессовестность – редкость. (Сорос, правда, как-то сказал, что он был человеком, пока не стал бизнесменом)
Войну ведет умный дух, презирающий все святое и ненавидящий благодать, а люди у него, что рыбки у Бабки на посылках. Эту войну он ведет не только с нами. С Брюсами и Джонами он ее тоже ведет, и нет никакой радости быть использованным в качестве стенобитного тарана или начинки для Троянского коня. Но с нами все равно разговор особый, потому как есть и огромные природные ресурсы, и ядерное оружие, и умение дать в зубы, и в придачу почему-то не исчезнувшее, но несколько укрепившееся Православие. Так что не хуже Бабы-Яги, чуявшей, где «русский дух и Русью пахнет», режиссерский коллектив глобальных мировых процессов знает, кто в мировом строю идет не в ногу.
Умная война, сопровождаемая товарным переизбытком и культурной экспансией, идет вовсю. Ты чистишь унитаз Domestos-ом, куришь Маrlboro и предел твоих мечтаний – пятидверная Ноndа. Это тоже признаки продолжения войны, хотя и не самые главные. Твои дети слушают МТV и знают тексты рэповых песен, но воротят нос от Гоголя. Ты и сам ничего серьезного не читал годами, а по телевизору смотришь только юмористические передачи и новости. Это уже намного серьезнее, поскольку говаривал доктор Геббельс, что покоренным народам должно быть разрешено только развлекательное искусство. Тебя сожрут, возлюбленный, очнись. А что еще хуже, в тебя могут влезть и окончательно завладеть твоим внутренним миром, и тогда тебя самого принудят пожирать других. Это, действительно, еще хуже.
Раньше такое понятие, как «умная война», было известно только монахам. Но, во-первых, не всем монахам, а только честно монашествующим. А во-вторых, звучало это словосочетание архаически: «невидимая брань», как чеховское «аще» и «дондеже» из рассказа «Мужики» ласкает слух, но смысл непонятен.
И вот, что называется, дожили. Теперь основы невидимой брани, или ведения умной войны, или основы внутреннего духовного сопротивления, (как хотите называйте) должны быть известны самым широким слоям крещенного люда. Элементарный курс аскетики должен преподаваться хотя бы так, как раньше на курсах гражданской обороны гражданам рассказывали о ядерном взрыве, химической атаке и пользовании противогазом. Польза непременно будет.
Конечно, специальные курсы – это фантазия. Полезные знания и навыки духовной самозащиты должны быть передаваемы дедовским, вернее, святоотеческим способом – от священника пастве, от родителей детям, от учителя ученикам. И еще нужно активизироваться на информационном поле. Это поле и есть поле битвы. То, о чем мечтал Маяковский, произошло уже очень давно: к штыку приравняли перо. Радиоточку приравняли, соответственно, к эскадрилье истребителей, умную критику и публицистику – к пограничной заставе, качественное периодическое издание – к армейскому соединению.
Лично я не сдаюсь. Вообще не сдаюсь, тем более – без боя. Мне больно видеть Гулливера на службе у хитрых лилипутов. Больно наблюдать настоящее, зная прошлое и предчувствуя будущее. Поэтому я пою «Вставай, страна огромная». Пою тихо, а не во весь голос. Во-первых, потому что имеющий уши услышит. А во-вторых, потому что война наша – умная. Нам орать ни к чему.
АЗБУКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
Экономика – слово, обозначающее некую таинственную и всемогущую реальность в мире человеческих отношений. В газетах и на телеэкранах – «рентабельность», «конкурентоспособность», «инвестиции». На кухнях и в курилках – «сколько стоит?», «где взять денег?», «одолжи на месяц»…
Готов вместе с Настасьей Филипповной согласиться с мыслью Лебедева о том, что «мы при третьем коне, вороном, и при всаднике, имеющем меру в руке своей, так как все в нынешний век на мере и на договоре, и все люди своего только права и ищут: "мера пшеницы за динарий и три меры ячменя за динарий"… Но… за сим последует конь бледный и тот, коему имя Смерть, а за ним уже ад…» (Ф. Достоевский. «Идиот»). Лебедев, как известно, был специалист по части толкования Апокалипсиса.
Уникальность этого литературного персонажа требует отдельного, специального разговора, что мы и сделаем в свое время. Сейчас же вернемся к нашей теме и к нашему миру, где все, вплоть до калорий, растраченных в любви, подсчитывается и переводится в банковские знаки.
Экономика холодна, как межзвездные пространства. Имея вид науки бесспорной, не терпящей возражений, экономика претендует на управление жизнью человечества в одиночку. Ей не нужны помощники в лице морали или метафизики.
Она сама, опираясь на свой ум, свои вычисления и свою целесообразность, осмеливается диктовать жизни условия. Кому рожать детей и сколько рожать, а кому вовсе не рожать и стерилизоваться. Кого лечить и спасать, а кого не лечить, поскольку дорого и бесполезно. С кем воевать и с кем разделять сверхприбыли, а кого оставить без работы и обречь на эмиграцию или попрошайничество. Для всех этих явлений у экономики есть своя холодная аргументация. Если вы хотите стать убийцей миллионов, но не хотите сесть при этом в тюрьму, обоснуйте свое людоедство экономически. Это дело испытанное. Люди этому верят.
«Помилуйте, – вскричит стесненный человек, – но это бесчеловечно!» – «Зато экономически оправдано, выгодно и, значит, неизбежно», – ответят ему. Миром, дескать, правит экономика, а у нее нет ни чувства сострадания, ни прочих сантиментов.
Все это ужасно и привычно, но не утрачивает ужасности из-за привычности.
Я согласен показаться похожим на Дон Кихота Ламанческого, согласен и на неизбежные в этом случае насмешки, но все же скажу то, что думаю.
Без нравственности и религиозности экономика не имеет права на существование. У человека, пользующегося экономикой как инструментом, должна быть высокая цель и положительный нравственный идеал. Иначе выстроенные им системы будут безжалостно пережевывать живых людей, не делая исключений для самих изобретателей системы. Как там говорил драгоценный Лебедев: «Не верю я, гнусный Лебедев, телегам, подвозящим хлеб человечеству! Ибо телеги, подвозящие хлеб всему человечеству, без нравственного основания поступку, могут прехладнокровно исключить из наслаждения подвозимым значительную часть человечества, что уже и было…»
Это было сказано по поводу промышленного шума в человечестве, в котором одни видели залог будущего счастья, а другие – залог будущего людоедства (см.: роман «Идиот», часть третья, глава четвертая).
Мечту о создании земного рая на основе эгоизма и экономических законов разрушила сама история. Но веру во всемогущество денег еще предстоит разрушить. И еще смелее и активнее следует восстать против выдавливания морали из области денежных отношений, ибо экономика – это не просто сфера действия морали. Это – сфера проверки морали на предмет ее наличия или отсутствия.
Капитализм, как известно, родился и развился в протестантской среде. Католику с его упованием на благодать и ожиданием Царства Небесного, равно как и православному человеку, прибыль не нужна. Сытость желанна, покой нужен, здоровье не помешает. Но прибыль – не нужна. Капитализм – это огромное количество энергии, накопленной для Небес, но растраченной протестантизмом ради земных целей.
Отнюдь не желаю ругать швейцарских часовщиков и английских мануфактурщиков. Хочу лишь сказать, что из-за спины экономического преуспеяния выглядывает религиозное мировоззрение. Оно же выглядывает и из-за спины экономической отсталости. Надеюсь, понятно, что в первом и во втором случае это будут разные мировоззрения, хотя оба – религиозные.
Тот протестантизм, из чрева которого выползли капиталистические отношения, был явлением горячим и молитвенным. Отцы новых экономических систем молились Боту, не расставались с Библией и были неприхотливы в быту. Нынче все это – вчерашний день. Сегодняшний капитализм сделал возможным выпуск таблеток, которые никого не лечат и даже не создавались с целью кого-то лечить. Они произведены, чтобы впихнуть их в потребителя при помощи рекламы и прочих манипуляций с сознанием и получить прибыль. Все! И так – во всех сферах хозяйствования. Это и есть то, о чем говорил Лебедев: превращение благодетелей человечества в людоедов и приближение четвертого коня, бледного (см.: Откр. 6, 6–8).
Православие никогда не раскроет уст, чтобы проповедовать труд ради прибыли. По крайней мере, только ради прибыли. В этом смысле мы всегда будем отставать, проигрывать в экономических состязаниях и соревнованиях. Но Православию есть, что сказать человеку о труде, о законном заработке, о хлебе насущном.
Например, можно сказать о том, что в труде есть наслаждение. Есть у столяра удовольствие, которое не известно Ангелам. А именно – ощущать теплоту выструганной тобою доски и видеть, как в твоих руках разрозненные куски дерева превращаются в табурет, в стол, в детскую игрушку. Мастер и ремесленник отличаются друг от друга степенью любви к своему делу.
Православие – вера восточная. А Восток – дело тонкое, и там всегда было полно людей, которым деньги нужны не для того, чтобы их было больше, а лишь для того, чтобы в доме не закончились мука и масло. Если западная душа суетится и мечется, если ей всего мира мало, то Восток доволен тем, что есть. Он благодарен, и ему хватит.
Самое красивое место на земле – это православный монастырь. Там трудятся, но не ради прибыли, а ради общего блага и для того, чтобы не быть праздным. Чувствуете разницу? Один трудится, чтобы тратить на удовольствия. Другой трудится потому, что ни о чем, кроме прибавочной стоимости, думать не умеет. Монах трудится, чтобы смирить себя, чтобы хлеб даром не есть, чтобы быть для других полезным, наконец, чтобы иметь возможность нуждающемуся брату помочь. И сама природа платит монахам благодарностью. Вода в монастырских колодцах вкуснее, чем в колодцах соседних сел. Цветы в монастырях цветут краше и пахнут лучше, чем в любом саду. И яблоки монастырские вкуснее, чем у Мичурина, а хлеб душистее, чем на столе у царя Соломона.
Трудиться, чтобы есть. Трудиться, чтобы разбогатеть. Разбогатеть, чтобы не трудиться. Разбогатеть во что бы то ни стало. Украсть украденное, ограбить грабителя, украсть у того, кто украл украденное. Полный кошмар и глубина безумия.
Я сегодня ел, и дети мои сыты. Солнце так роскошно садится и гаснет в море. Сколько мне лет? Впрочем, какая разница? Разве не вечность впереди?
Господи, как много беды пришло в мир вместе с экономической грамотностью.
ЧАСЫ ИЗ РАЗРЯДА «ПОСЛЕДНИЙ ПИСК»
Есть часы из разряда «последний писк», в которых видна часть механизма. Вообще механизм (например, автомобиля) всегда закрывали, в противном же случае было некрасиво и отталкивающе. Но в этих часах последней моды открыто ровно столько пружинок и колесиков и показаны они именно так, что эстетическое чувство не оскорблено. Наоборот, есть ощущение особого шарма. Все это очень похоже на демократию, точнее на посвященность в тайны управления процессами, доступ к которым якобы открыт народу.
Народ верит, что он способен собой управлять и сам собой командовать посредством демократических процедур. Над Мюнхгаузеном, который тащит себя из болота за волосы, народ справедливо смеется, как над выдумкой, и даже способен языком физики объяснить невозможность такого трюка. Но вот в способность собою управлять он все-таки верит, и языка, на котором можно было бы его в этом разубедить пока нет.
Подарили людям некий механизм демократических процедур, и люди уверовали, что они теперь полные хозяева жизни, а урна с бюллетенями – это аналог некой волшебной кнопки. То есть подарили человеку часы, в которых механизм частично виден, а человек взял и уверовал, что он отныне – часовщик и специалист по части пружин и колесиков. Хотя еще древние говорили: увидишь человека с топором, не думай, что это плотник.
Вообще-то зрелище обнаженных тайных пружин должно так же пугать, как вид выпавших внутренностей или вывалившихся кишок. Поэтому никто и никогда все механизмы обнажать не будет. Никто, и никогда, и нигде, вплоть до самых наидемократичнейших стран включительно. Так, кое-что покажут, заведут, так сказать, разок за кулисы, откроют гримерную, но в сложные отношения внутри актерской труппы посвящать не станут. Потом так же за локоточек, вежливо проводят до двери. Зато у человека будет гордая и совершенно ложная убежденность в том, что отныне он – «почетный гражданин кулис».
Те, которые кричат и в мегафон, и без него, чего хотят? Зачем зовут, то «Русь к топору», как Добролюбов, то «пипл» на баррикады, как современные борцы за рай земной и справедливое житье в Отчизне? Ой, не верю я, что их намерения чисты, как первый снег. Как Лебедев не верил в «стук телег, подвозящих хлеб голодному человечеству», так и я не верю. У публичных борцов за всеобщее счастье часто бывает – души таковы, что клейма негде поставить. Притом и история минувших дней точку зрения Лебедева оправдала. Борцы за счастье понастроили концлагерей, а филантропы массово переквалифицировались в террористов и людоедов. Кто с историей знаком, у того иллюзий мало.
С какой стати нынешние крикуны должны быть лучше крикунов вчерашних? Ни с какой. Хуже должны быть, это точно, а лучше – нет. Но народ то ли в школе плохо учился, то ли еще что, – на подобную болтовню легко «ведется». И поскольку с хлебом пока все в порядке, народ хочет зрелищ. Разница между футбольным матчем, просмотром кинофильма и участием в демонстрации стирается. И не только потому, что Рейган был президентом, а Шварцнеггер – губернатором.
Спортсмены и актеры лезут в политику, как в родную среду. И это значит, что публичная политика имеет внутреннее подобие с клоунадой, с яркими шоу. Но дело не только в этом. Дело не только в подлых планах декабристов, но и в неразвитости народного сознания. Простые люди, которым показали часть механизма, верят в то, что видели весь механизм. И не только видели, но могут его отремонтировать. Это непростительная глупость. Это было бы то же самое, если бы болельщики верили, что умеют играть не хуже своей команды, и массово выбегали бы на поле «подсобить» своим. Спортивный праздник был бы сорван, а виновные заслуженно наказаны. Спортивное шоу требует полных трибун, профессиональной игры и распределения обязанностей. Кто вам сказал, что политическое шоу устроено иначе? И откуда вы знаете, что попадание нынешних народных вождей в высшие эшелоны власти не станет в очередной раз сущим проклятием?
Вся ложь питается демократическим пафосом, внушенным простому обывателю. У человека обычно хватает ума понять, что 12 раундов в тяжелом весе он не выстоит. Лучше сидеть с пивом возле телевизора и подпрыгивать на диване в такт наносимым ударам. Но почему здравый ум заканчивается, когда речь заходит об управлении государством? Почему человек, подпрыгивающий с пивом на диване, то, что он – не чемпион, понимает, а то, что он ничего не смыслит ни в международной политике, ни в вопросах государственного управления, уже не понимает? Это – загадка.
Власть, говоришь, плохая? А какая должна быть хорошая? И где вообще есть хорошая власть? И где ассенизатор не пахнет тем, что ассенизирует? Думаешь, во власти только на золоте едят. Нет, брат. Там такие мешки разгружают, что добровольный поход во власть под силу только рыцарю или негодяю. Ну-ка, угадай с трех раз, кого в мире больше и кто заметнее? Те клоуны, которые тебя на бунт зовут и кровь лозунгами будоражат, думаешь, – лучше будут, когда во власть залезут? Говоришь – лучше. Ну, извини, мил человек. Я думал, ты умный, а ты… кхе-кхе.
Хочешь верить в демократию, верь на здоровье, только руками не размахивай. Если ты не тренер, и не спонсор команды, и не родственник одного из игроков, то сиди на трибунах и болей за «наших». Это все, что от тебя требуется. Изменить счет матча не в твоих силах. Так в спорте, так же и в том, что у нас демократией называется. То и другое придумали в общих и главных чертах одни и те же греки.
Ты тоже нужен как болельщик и часть процесса. Как массовка в кино. В конце концов, играть при пустых трибунах – позор и наказание. Но не надо верить в свою незаменимость и в возможность прямого влияния на результат. Особенно насторожись, если услышишь голос: «Наши играют плохо. Наши – никакие не наши, а переодетые чужие. Матч заранее куплен?! Айда всем на поле! Вместе мы победим!»
Победим-то победим, но забитые толпой голы не засчитают, и сначала будет весело, а потом прибежит ОМОН, приедут машины с водометами и все закончится грустно.
Кому-то из зрителей поломают ребра, зато зачинщики беспорядков «заявят о себе» и на следующем матче уже будут сидеть в правительственной ложе.
Я знаю одного «патриота», который страшно любит свою страну и желает ей счастья. Но рыбу этот патриот ловит электросетью и грязь за собой из лесу после пикника никогда не убирает. Этот патриот ненавидит власть, всюду зрит воров и занимает активную политическую позицию. Он уверен, что войди во власть он и такие, как он, жизнь была бы несравненно лучше. Но меня терзают смутные сомнения по части правильности его жизненных установок. И когда он в очередной раз щедро сыпет матом на тех и на этих, мне кажется, что ходи он на футбол, он и там заплевывал бы все вокруг семечками и ломал бы стулья, будучи полностью убежден в правильности своего поведения.
До каких же пор, думаю я, люди с подлыми намерениями будут греметь красивой фразой и баламутить грязную воду народных страстей? До каких пор эти газетные и уличные вакханалии будут преподноситься и восприниматься как формы народовластия? До каких пор люди, не научившиеся владеть собой, будут верить, что они влияют на ситуацию в стране, а те, кто загадили и не хотят убирать собственный дом, будут стремиться навести порядок в мире?
Сколько раз еще можно втаскивать внутрь городских стен очередную импортную деревянную лошадку, напичканную спецназовцами, не говорящими по-русски? И разве одна такая лошадка менее опасна, чем другая, если на ней написано «Демократия»?
ПИАР
Радостная привычка громко разговаривать на все темы, вплоть до тех, в которых ничего не понимаешь, – вот лик нашей отечественной демократии. Никакой оригинальной новой черты мы ни в минувшие времена, ни в нынешние к этому портрету не дорисовали. Связь между болтовней, переименованной в «свободу слова», и достойной жизнью работящего человека до сих пор не выяснена. Поэтому болтовня продолжается в надежде на магическое появление земных благ, якобы сопутствующее всякой демократии.
А Церкви в этой ситуации что делать? Присутствовать ли ей на тех аренах, что оглашены треском ломающихся словесных копий? Может, ей стоит совсем устраниться от мирского шума и сосредоточиться на внутренней молитвенной жизни? Конечно, стоит. Но это – та оборотная сторона Луны, которая не видна праздному взгляду. Должна быть и другая сторона.
Напомнить нам о том, что мы должны молиться и только молиться, кстати, не прочь даже те, кто сам никогда не молится. Стоит нам сказать слово на важную, но не стопроцентно церковную тему, как раздается глас: «Молитесь, мол, а за нами оставьте сферу мирскую и гражданскую». Хорошо ли с такими голосами согласиться? Думаю, совсем не хорошо. Нельзя разрезать живой глаз на две части без потери при этом зрения.
Нельзя и жизнь народную искусственно разделять на область «чистого духа и сладких воздыханий» и на сферу житейскую, сколь запутанную, столь же и важную.
Христианину подобает исповедовать веру не только перед Чашей словами «верую, Господи, и исповедую», но и в гуще повседневных событий. И свет молящегося ума нужно, если удастся, вносить в гущу бесплодных перепалок, которыми полны эфиры. Говорю «если удастся», потому что это непросто – сохранять мир и выносить из внутренней сокровищницы слово на пользу там, где спорят не для обретения истины, а чтобы выкричаться. И формат может быть против проповедника. Потому как все спешат, все друг друга торопят, ссылаясь на эфирные ограничения. И взгляды у большинства людей установившиеся, принуждающие видеть перед собой не столько живого человека, сколько представителя той или иной касты или корпорации.
Кратко сказать – все против вдумчивого слова по существу. А оно все-таки должно звучать. Нам трудно даже представить, сколько нечаянной и подлинной радости приносит множеству наших соотечественников точное слово пастыря, сказанное, например, с экрана. «Мы живы, – думает в это время простой человек, – и Церковь жива, и правда есть. А миром правит Бог и только Бог»
* * *
Есть и еще препятствия, не считая общей суматохи, брожения умов и отсутствия культуры публичных диспутов. Дело в том, что православные христиане не всегда сходятся друг с другом по части желаемого идеала. Одни влюблены в допетровскую Русь, другие – в монаршую и синодальную, третьим подавай быстрее Царя, четвертые ищут сплочения на фоне антиглобалистских тревог. Каждый полк – под своим знаменем, и немало их, этих полков. Жаркое отстаивание своей правоты мешает любить, и в брате не дает увидеть брата. Это тяжкий недуг. А ведь все споры сводятся, как всегда, к двум вариантам Церковного бытия: бегство от мира, ставшего окончательно антихристовым, или присутствие в мире, ради приведения людей к Богу. То есть «уже бежать» или «еще оставаться»? Но эти два сопутствующих историческому христианству вопроса обычно так осложнены повседневностью, что распознает их далеко не каждый.
* * *
Любая историческая эпоха есть перепутье, с которого надо двигаться в одну из предлагаемых историческим моментом сторон. Стороны эти предварительно еще предстоит распознать, разглядеть. В этом труде и заключается умная задача любого поколения. Эта задача не решается корпоративно, то есть одними интеллектуалами, или одними политиками. От ее решения зависят судьбы великого множества людей. Следовательно, великие множества и должны быть вовлечены не в говорильню, убивающую время, а в толковый смыслообразующий разговор. Думаю, что именно такого серьезного разговора интуитивно ждет простой человек. Прошли те времена, когда, увидев на экране батюшку, мы думали: «Этот наш». И тепло нам становилось. Сего малого тепла на согрев больше не хватает. Теперь нужно, чтобы человек послушал, помолчал и прореагировал: «Вот этот, с бородой, дело говорит. А эти – как обычно».
Автор сих строк искренно считает, что мы живем во времена, требующие не массового бегства, но соборных трудов. Бегство же остается, как и в минувшие века, за искателями подлинного монашества и подражателями Илии и Крестителя. Остальным нужно свидетельствовать веру словами и делами, не гнушаясь при этом грязной работы и не отказываясь по необходимости «райские ризы замарать». К таким тяжелым и неблагодарным видам работ, чреватым столкновением с грязью особого рода, автор относит также апологетическую и проповедническую деятельность в медиапространстве.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ПАВЛА ИВАНОВИЧА?
Знаете ли вы Павла Ивановича? Какого, спросите? Ну, как же! Милейшего человека средних лет, приятного обращения, не то чтобы толстого, но и совсем не худого. Не очень высокого, но вовсе и не низкого. Неужели не вспомнили? Да Чичикова же! Чему вас только в школе учили? С тех пор как бричка с кучером Селифаном умчалась из города М, Павел Иванович не растворился, не канул в Лету, никуда не исчез. В русской жизни, как в зеркальной комнате, Чичиков стократно отразился в каждом из зеркал и стал почти вездесущим. Николай Васильевич специально наделил Павла Ивановича чертами типическими, расплывчатыми, общими. Автор творческим чутьем уловил будущее. Он понял, что Собакевичи и Маниловы нуждаются в сохранении для грядущих потомков. Типы эти уже тогда были исчезающими и нуждались в детальном и тщательном увековечивании. Их фигуры, манеры, голоса и причуды Гоголь прописывает с той тщательностью, с какой египтяне древности мумифицировали усопших, помещая каждый орган в специальный глиняный коноб, и только мозг выбрасывали вон, поскольку не знали о его функции. А вот главного героя автор пишет, как импрессионист – широкими мазками, не вдаваясь в детали, но создавая яркое чувство: «Этого господина я знаю». Гоголь чувствовал – будущее за Чичиковым, Чичиков – хозяин настоящей и будущей эпох.
Пока он вынужденно улыбается, обделывая делишки, пока он еще шаркает ножкой. Но это пока. В будущем он преобразится и приосанится. Это сегодня он один – и вынужден мелькать на фоне мелкого и крупного люда. Будет время, когда Чичиковых будет много и уже народ, мелкий и крупный, будет сновать на их фоне. Вот потому и не прописан детально портрет Павла Ивановича, что предстоит ему стать лицом типическим, с чертами общими. Что, собственно, и совершилось уже.
* * *
Чичиков – это русский капиталист периода первого накопления капитала. Его главная черта – умение делать деньги из воздуха. Пусть американские Форды проповедуют о том, что ключ к богатству не золотой, а – гаечный. Чичиков – человек русский, с глубоким чувством национальной гордости и соответственным презрением ко всякой «немчуре». Заниматься изобретательством, улучшением производства ему недосуг. Долго, да и ненадежно. Деньги нужно брать умом и сразу.
* * *
Пишу и думаю: уж не являются ли «Мертвые души» настольной книгой у творцов ваучерной приватизации, дефолтов, купонов, бартерных схем – словом, у тех, кто обогатился в известные времена за одну ночь или за неделю, оставив народ с фигурой из трех пальцев? Если да, то я снимаю шляпу. У бедных работников гусиного пера или шариковой ручки всегда найдется довольно снобизма для взгляда сверху вниз на плохо образованного миллионера. А ну как миллионер потому и с миллионами, что хорошо знаком с классикой и читает ее не для отдыха, а для жизни?
Иудину страсть к деньгам назвал корнем всех зол (1 Тим. 6, 10) еще святой апостол Павел. Деньги открывают доступ ко «всем тяжким» и именно за это ценятся. В последней главе первого тома «Мертвых душ», где впервые сообщаются подробности биографии Чичикова, не зря говорится, что деньги сами по себе наш герой не любил. Он не был скупым рыцарем и вообще рыцарем не был. Жизнь в нищете и ежедневные походы в подвал, где в бликах сального огарка в сундуках мерцает злато, были не по нему. Он, скорее, поставил бы подпись свою под фразой Филиппа Македонского, сказавшего, что осел, груженный золотом, откроет ему ворота любой крепости.
Деньги можно любить за их умение превращаться в каменные дома с фонтанами, в бриллиантовую заколку к галстуку, в богато сервированный стол, в женскую любовь, в общественную значимость… Да мало ли еще во что могут превращаться золотые монеты и банковские билеты! Нельзя ли сказать, что это и есть тот философский камень, который искали алхимики, камень, дающий доступ ко всем удовольствиям?!
Так что прочь донкихотство, прочь пение под окном и глупые поединки. Прочь романтизм – и да здравствует трезвая практичность! Нужно доставать деньги. Именно доставать, а не зарабатывать, потому что зарабатывать – значит трудиться долго и получать мало. Честным трудом, говорят, не построишь хором, а жизнь бежит, и так многого хочется.
* * *
«И в тебе, и во мне есть часть души иудиной», – так говорит в одной из проповедей на Страстной седмице архимандрит Иустин (Попович). Гоголь говорит примерно то же. Он говорит, что быть слишком строгим не нужно. Стоит проверить себя: нет ли и во мне частицы Павла Ивановича? А ну как и я ценю деньги больше всего святого? И для того именно ценю, что ими надеюсь купить или сласти запретные, или власть, коли не над миром, то над родным городом, по крайней мере!
Вопрос не праздный, как и все вопросы, поднятые Гоголем.
* * *
Как тип исторический, Чичиков имел на Руси много препятствий к тому, чтобы развернуться. Заветные мечты не раз ускользали у него не то чтобы из-под носа, но из самых рук. Как герой гоголевской поэмы, он, претерпев тысячи унижений, взлетал на нужную высоту, но изменения судьбы внезапно сбрасывали его вниз, и опять начиналось тяжелое восхождение.
Вскоре после описанных у Гоголя времен пришла отмена крепостного права. А ведь это целая смена эпох. Как ручей, пересохло помещичье сословие. Маниловы или сыновья их сделались дядями Ванями, и стук топора, вырубающего вишневый сад, возвестил о новом историческом периоде. Пришел шумный, как паровоз, и гордо высящийся, как заводские трубы, капитализм. Для Чичикова это то же, что для рыбы вода. Государственные подряды, частная инициатива, всеобщая и открытая любовь к деньгам. Но…
Начало странно лихорадить государство, то самое, что казалось незыблемым. Чиновник долго грабил с чувством собственной значимости. А мужик столетиями пахал, лукавил и терпел. Все немножко пили, немножко скучали, немножко болтали о том о сем. Как вдруг пошли стачки, листовки, призывы к восстанию.
Какие-то комитеты, партии, слова о свободе. Все расшаталось и взбеленилось. Как перегретый котел паровоза, империя вскоре взорвалась. Последствия этого взрыва повлияли на историю даже самых отдаленных стран. Нас и сейчас еще пошатывает от ударной волны того взрыва, которая хоть и ослабела, сто раз обойдя вокруг Земли, но все еще не исчезла. Мир изменился до неузнаваемости. Чичикову пришлось надолго затаиться.
Он вышел на свет в 20-х годах прошлого столетия при НЭПе.
* * *
Мне неизвестно, приходило ли в голову кому-либо то, что я сейчас скажу, но Чичиков воскрес на страницах творений Ильфа и Петрова. Как и в начале «Мертвых душ», в начале «Двенадцати стульев» главный герой приходит в уездный город N в поисках авантюрных и легких заработков. Правда, заходит он пешком, а не въезжает в бричке, и под штиблетами у него нет носков, но это – дань отшумевшему лихолетью. А так – перед нами все тот же пройдоха, умеющий делать деньги из воздуха. Пройдясь прогулочным шагом через пространство первого романа, доказав всем свою смекалку и непотопляемую живучесть, он появляется во втором романе, чтобы сразиться с собственным двойником.
Господин Корейко из «Золотого теленка» – это ведь тоже Чичиков. Это сребролюбец и ловкач, который скрывается под образом мелкого служащего, как и сам Пал Иваныч когда-то, но не потому, что стремится обогатиться, а потому, что не может воспользоваться уже накопленным (читай – наворованным) богатством. Бендер и Корейко связаны между собой, как тело и его тень. Так в фильме Алана Паркера «Сердце Ангела» герой Микки Рурка ищет себя самого. Они встречаются, и встреча не сулит добра. Пересказывать фабулу фильма и содержание романа нет смысла. Одним они известны, другие пусть ознакомятся. Но в виде рубахи-парня с одесским акцентом и криминальными замашками Чичикову тоже не удалось прожить долго. НЭП свернули. Пройдохи затесались в аппарат (не для того, чтобы обогатиться, а чтобы выжить) или не по своей воле уехали умирать на стройки века. Чичиков опять исчез.
* * *
Гоголь мучительно писал свою поэму. Обремененный даром провидца, он ее и не закончил. Русь неслась куда-то как ошалелая. Гоголь чувствовал это, и завершение работы ему не далось потому, что выписанный тип должен был еще долго жить и развиваться, а гоголевская Россия должна была исчезнуть.
То, что Чичиков «живее многих живых», это ясно. Но куда все движется? Все эти философские отступления о русской душе, о быстрой езде, вопросы: «Куда несешься ты, дай ответ?» – не от предчувствия ли надвигавшейся бури?
* * *
Еврей с рождения получает в наследство ум и настырность. Если у него есть вера, то он может стать наследником пророков. Если веры нет, но есть совесть, то станет он скрипачом, или шахматистом, или ученым. Если же нет ни веры, ни совести, то будет он крайним материалистом, циником и персонажем анекдотов.
Русским не подобает слишком уж ругать евреев, потому как те и другие похожи. Если у русского есть вера, то будет он стремиться к святости. Если веры нет, но есть совесть, то будет он честно строить и храбро воевать, а после бани в субботу выпивать с друзьями по маленькой. А если нет ни веры, ни совести, то будет он злым на весь мир лентяем и пьяницей.
* * *
Чичиков – человек без веры и совести, но с честолюбием и образованием. Такой не сопьется. Но не из любви к добродетели, а из гордости. Для такого в мире всегда полно людей доверчивых, верящих на слово, не вчитывающихся в каждый пункт договора о купле-продаже. А значит – можно жить, и причем – неплохо. Мы пережили целый многолетний период чичиковщины, с различными МММ, с обманом вкладчиков, с быстрым обнищанием сотен тысяч людей и обогащением единиц. Павел Иванович жив, «жив курилка». Он растиражировался по миру и удивляет заморский люд своей изворотливостью и наглостью. Он теперь торгует не мертвыми плотниками и кузнецами, а живыми девушками для чужих борделей. Он научился разбавлять бензин водой и взламывать банковские счета.
Правда, нации потихоньку стираются, и Чичиков уже не совсем русский. Он смешал в себе черты русского и еврея, но того и другого в их падшем – безверном и бессовестном – состоянии.
* * *
Дорогой Николай Васильевич! Нам было смешно, когда ты пел нам плачевные песни, и только спустя время мы поняли смысл этих песен. Да и все ли поняли?
Доброе у тебя сердце и острый у тебя взгляд. Оттого и все портреты твои грустны.
Однажды мы свидимся, и дай-то Бог, чтобы и тебе, и нам эта встреча была в радость.
Когда тело мертво? Когда душа его покинет.
А когда душа мертва? Когда она Господа забудет.
Умереть, в смысле – пропасть, душа не может. Но, отлучившись от Бога, уже не живет, а лишь существует.
Вроде мы закончили разговор, а он опять начинается.
«Мертвые души». Так о ком же это сказано?
НЕ СЕГОДНЯ, ТАК ЗАВТРА
Жил-был на белом свете человек, мечтавший сделать белый свет красным. Он родился подданным государства, которое люто ненавидел. Любил он вообще только партийную бессовестную возню, охоту на зайцев, мечту о новом мире и свое место в этой мечте. Он грассировал, большие пальцы рук любил закладывать за проймы жилета, в спорах был зол, в деятельности – неуемно активен, в жизни – беспринципен и совсем не переживал о том, что для полноты образа ему не хватает только рожек на лысине.
Его планы в значительной доле исполнились. Люто ненавидимое им государство все-таки рухнуло наземь всей тяжестью своего колоссального организма, а на его месте возникло новое, возглавленное упомянутым человеком. Оно не стало лучше прежнего, это новое государство. Напротив, оно потребовало оплатить свое появление ограблением одних граждан, убийством других, бегством третьих и забитым молчанием всех оставшихся. Лысый человек не считал все это кошмарными случайностями, поскольку изначала планировал процесс именно так и не иначе. Любимый соратниками, он был справедливо ненавидим миллионами других людей и вскоре получил пару отравленных пуль, так и неизвестно от кого. Кланом партийцев-подельников он намеренно был превращен в символ, в легенду, в «портрет на флаге» еще до наступления физической смерти.
Ненужный по факту, он стал нужен как идол. И когда (как утверждали) под музыку Бетховена его душа ушла из тела, над гниющей плотью человека, которому не хватало одних лишь рожек, стали сразу колдовать и шаманить специалисты.
Поскольку идеи картавого человека были названы вечными, подобало сделать вечным и его труп, дабы вечностью трупа подтвердить вечность трупных идей. Так и лег он с тех пор в специально построенном капище посреди оскверненной страны в самом сердце униженной древней столицы. А страна продолжала страдать, и всякое новое беззаконие, словно мантрой и заклинанием, освящалось именем человека, превращенного в идола. Страна чуть не умерла, но выжила, если можно назвать это жизнью. Она довольно долго воевала, строила, умывалась кровью, билась в конвульсиях, съедала сама себя, боялась собственной тени, себе на себя писала доносы, кого-то кормила из личного скудного пайка, против кого-то вооружалась, а он лежал на своем месте, охраняемый стройными воинами, красиво менявшими караул. По лестницам над его алхимически сохраненным трупом регулярно восходили и нисходили люди, вначале – в фуражках, затем – в папахах. Они называли себя его верными последователями и учениками и делали знаки ручкой людям, марширующим внизу, как в древности в Колизее – римские императоры.
А он лежал в холодной полутьме и продолжал влиять на массовое сознание граждан страны, которую создал, и никакая сложная система вентиляции не могла воспретить этому тонкому яду смешиваться с воздухом, распространяясь на север, на юг, на восток и на запад. Но в сказках нечисть гуляет, пока петух не пропел. А в жизни она свистит и пляшет, пока Бог не запретит. Было ясно, что не вечно чеканить шаг возле трупа стройным воинам с примкнутыми к карабинам штыками. Уйдет страна, рожденная злым гением, погибнет с шумом и память о самом гении. И вот случилось – та страна ушла. А вождь и ныне там. Почему? В чем причина? Причина в том, что не добром, как ожидали, стала очередная смена государств, а тем же злом, но лишь по-модному одетым. Хаос террора сменился хаосом разврата, а ни ума, ни честности, ни благородства не прибавилось. И мумия в холодном Мавзолее улыбнулась. Уж кому-кому, а ей известно, что ни ее не вынесут, ни жизнь не наладится, пока стыдом, трудом и покаянием народная душа сама к себе из многолетнего плена не возвратится. Вытрезвится, образумится народ, кроме хлеба ситного и ржаного возжаждет хлеба иного – Слова Божия, и тогда только выметет за порог идолов старых и новых. До тех пор ничего не изменится. Мумия может беззвучно смеяться.
Но что это? Что-то меняется в жизни. То там, то здесь больше света в глазах, больше ума в речах. Имя Христово слышится чаще. Грязи много, как прежде, но цветов прорастает все больше. Неужели выедет, выберется из бездорожья на твердый грунт птица-тройка? Дай Бог! Помогай, Пресвятая Богородица!
Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра нужно отдать земле насильно лишенное погребения тело. Только, выкопав могилу, нужно будет у земли прощения попросить: «Прости, землица-матушка, что мы нынче того тебе отдаем, кого ты так долго принимать не желала».
ВОПРОС ОБ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
Термин «интеллигенция» расплывчат, как чернильная клякса. Неясно до конца, что это: социальная группа или внутреннее душевное качество? Или и то и другое вместе? А может, это некий тайный орден, имеющий свои цели и скрытно их реализующий?
Думаю, не далек тот час, когда слово «интеллигенция» превратится в технический термин, предназначенный для описания отечественной истории ХIХ-ХХ веков.
За пределами этого временного среза и за границей российской географии термин этот нежизнен и бесполезен. У нас же ему придано слишком большое значение.
Как указывает латинский корень, термин касается познавательных способностей. Очевидно, интеллигентом должен называться тот, кто умеет накапливать коллективные знания и опыт, умеет систематизировать и анализировать накопленное. Вот и все. Никаких шансов для самолюбования.
Можно предположить, что человек, отмеченный способностью к подобной деятельности, станет заниматься в жизни тем, что у него получается лучше, чем у других, и, соответственно, займет свое место в обществе.
Но наш народ в указанное время (XIX–XX века) настырно присоединял к умственным способностям некие возвышенные нравственные качества и получал в результате «виртуальное элитное существо», отмеченное умом и святостью. По сути – аналог ангела. Теперь на этого «ангела» можно возложить задачу благого переустройства мира, а в случае неудачи – повесить на «несправившегося ангела» всех собак.
Эти мысли не могли прийти когда угодно, но пришли в период возникновения веры в науку и в неизбежное счастье, достигаемое в результате прогресса. Очень примитивная цепочка размышлений, но крепка, как корабельный канат.
«Прогресс – это благо. Наука принесет счастье. Люди умные, вооруженные знаниями и передовыми идеями, двигают человечество к цели. Принадлежать к этим людям почетно и вожделенно». И вот, усвоив новый символ веры, полезли в духовную элиту все, кто боится физического труда, непомерно страдает от неутоленного тщеславия, ну и, вестимо, желает счастья всему человечеству.
Марево это рассеялось, отшумев сначала газетными спорами, затем залпом с «Авроры», затем такой свистопляской, что отдельно взятый ум осознать ее не способен. Это дела важные, но минувшие. Там, в минувшем, осталась интеллигенция разночинная, то есть семинаристы со злыми глазами, пишущие статейки в левые газеты. Осталась интеллигенция советская (термин насколько зловещ, настолько запутан). В парижских кофейнях память о себе оставила интеллигенция эмигрировавшая, поспособствовавшая гибели родной страны собственной ленью, позерством и ограниченностью. А еще была «вшивая интеллигенция», чем-то по привычке гордившаяся, но не умевшая себя ни прокормить, ни защитить. И были те, кого А. И. Солженицын называл «образованцы», то есть, по толкованию Д. С. Лихачева, помесь самозванца и оборванца.
Теперь, когда веры в науку поубавилось, скепсис увеличился, счастье удалилось за горизонт, а взгляды потухли, мы продолжаем пользоваться термином «интеллигенция» по инерции, постоянно путаясь в трех смысловых соснах.
Вот люди строят мост. Инженеры работают головой, рабочие – руками. Кто здесь интеллигенция? Я, честно сказать, не знаю. Если главный инженер пьян с утра на в сяк день, а прораб матом не ругается, а разговаривает, то интеллигентом может оказаться экскаваторщик, читающий за работой Иисусову молитву, а дома перед сном – Шекспира. Именно он и будет аристократом духа, тем более истинным по той причине, что ни медали, ни добавки к зарплате за красоту своего внутреннего мира ни у кого никогда не попросит.
Интеллигенции либо нет вообще, либо (если это невидимое братство благородных душ) принадлежность к ней от рода деятельности не зависит. И уж что действительно правда, так это то, что работники умственного труда ни привилегий, ни почета, ни особого статуса за один только факт умственного труда не заслуживают.
И не надо Церкви расшаркиваться перед каждым актеришкой и режиссеришкой на том основании, что они якобы к истине вплотную подошли. Подавляющее их большинство никуда не подошло и подходить не собирается, а мы к ним – на цыпочках да с микрофончиком.
Жизнь наша такова, что даже беседа с профессором философии в девяти случаях из десяти обещает быть скучной и бесполезной.
И это потому, что профессорами философии часто становятся не от любви к истине, а как раз наоборот.
Приносить реальную общественную пользу силой своего интеллекта может тот, кто осознает действительность, снимает с нее смысловые слои и вскрывает скрытые пружины и механизмы.
Непонятый мир хаотичен, и жизнь в нем настолько абсурдна, что самоубийство может стать эпидемией. Тот, кто осмыслил мир и преодолел хаос, кто дал событиям и явлениям правильные имена, тот умничка. На латыни – интеллигент. Им может быть и актер, и режиссер, но не всякий актер по необходимости.
Интеллигент – это тот дворник из анекдота, который был похож на Карла Маркса, но бороду не брил, потому что все равно «умище девать некуда».
В советское время как раз среди дворников количество более-менее вменяемых людей было в процентном отношении больше, чем среди представителей других профессий. Были люди, которые не хотели подниматься вверх по карьерной лестнице, оставляя внизу совесть, и потому занимали скромные жизненные ниши, что-то осознавая и о чем-то Богу молясь. По мне, так это и есть умственнонравственная элита.
Не надо также забывать, что существует еще антиинтеллигенция. Это очень неглупые люди, харизматичные и не без амбиций, но пойманные бесом за губу; люди, которые не распутывают, а запутывают мир. Их ум обладает каким-то бесовским качеством, какой-то инфернальной особенностью сбивать с пути, делать простое сложным, менять уродство и красоту местами, короче – превращать мир в бесовскую грезу. И эта категория людей представлена писателями, драматургами, критиками, художниками, философами, политологами, борцами за всевозможные права еtс.
То есть это представители умственного труда. Быть может, термин «интеллигенция» для них неприемлем, но к элите они себя относят. Их чернильницы, вернее – картриджи их принтеров, заполнены концентрированным ядом, способным отравить сознание очень большого числа людей. Дьявол любит этих своих духовных детей, поскольку у них в руках – отмычки от замков человеческого сознания.
Тот, кто способен вести с легионом подобных «мыслителей» умную войну, и есть самый нужный человек, служащий Богу своим интеллектом.
Оставляя в стороне споры о роли интеллигенции в истории Отечества и размышления о точном определении этого самого явления, нужно озаботиться тем, чтобы «иметь глаза в голове своей» и понимать, что происходит вокруг нас и внутри нас.
Учиться надо, думать надо. При этом ни гордиться, ни считать себя лучше других нельзя. И молиться надо непременно, потому что немолящийся ум чем более силен и изворотлив, тем более похож на сатану. Такой ум все что хочешь запутает до крайней степени. До той самой степени, до которой в российской истории запутан вопрос об интеллигенции.
ОЧАГИ И АЛТАРИ
Формула цивилизации
Из каких камней складывается здание цивилизации? Совершенство орудий труда, развитие хозяйственных отношений, расцвет письменности и материальной культуры… Как и в любой постройке, эти «кирпичи» скрепляются незримым раствором, претворяющим груду камней в устойчивое целое; как и в любой постройке, видимое держится невидимым…
Как долго и трудно вынашивается, рождается, растет и воспитывается человек – и как легко лишить жизни это уникальное существо. Как вообще легко и необратимо уничтожается то, что создавалось долго и мучительно. Между трудной добычей и легким потреблением, между чудом творчества и бездумным проглатыванием его плодов лежит пропасть. И пропасть еще более страшная разверзается между чудом творчества и преступным пренебрежением его плодами…
То, что год растет, можно за день съесть. И ничего страшного, что съели, – на то и росло. Но страшно, если не заметили, не вникли, не постарались понять, что съели плод годичного труда. Облизнулись и сказали: «Еще давай!»
Ты не обязан выращивать хлеб. Ты можешь учить детей читать или сапожничать. Среди твоих учеников будут дети хлебороба, или сам он будет обут в тобою сшитые сапоги. То есть ты будешь с хлебом и при других полезных занятиях. Но ты обязан в общих и главных чертах понимать, что такое труд на земле, каких усилий он требует и какова его внутренняя ценность. Равным образом и хлебороб должен понимать, почему болит согнутая спина ремесленника и насколько важен его труд. И, конечно, оба они должны с уважением смотреть на учителя, чей труд сообщает разумный свет глазам детей – как пахаря, так и сапожника. Эти умные связи взаимного уважения созидают цивилизацию.
Ради рта своего и ртов домашних своих человек должен постоянно заниматься каким-то жизненно важным делом. Но понимать он должен чуть больше, чем секреты своего постоянного ремесла. Он должен понимать, например, что сложное социальное бытие делает всех от всех зависимыми и всех для всех необходимыми. Аптекарь нужен и плотнику, и трубочисту. И трубочист нужен и кондитеру, и аптекарю. И на труд друг друга, и на самих участников труда они должны смотреть с пониманием и уважением. Именно ментальные связи и некий мировоззренческий компонент, а не только товарно-денежные отношения, творят общество, делают возможным законотворчество, созидают цивилизации.
Должны быть, как говорили римляне, очаги и алтари, то есть – общая ценностная база, защита которой рождает героев, а укрепление и развитие – мудрецов.
Жизнь удерживается от распада осмыслением и силой мысли, пронизывающей сырую ткань бытия. Бытие как таковое, или «голое» бытие, именно достойно наименования сырого. Мысль же оплодотворяет и согревает его, дает силу для рождения новых форм.
Удивительно, но творцами цивилизации являются люди, не производящие материальных ценностей. Военные, законодатели, поэты, путешественники и ученые, религиозные учителя и нравственные авторитеты не связаны непосредственно со сферой производства. Но именно они увековечивают народы и государства и совершают долговременное влияние на жизнь всего человечества. Египет, Вавилон, Рим, Византия, Россия, США, таким образом, хотя и подавляют воображение историков и обывателей материальным величием и масштабом свершений, сами вырастают и расцветают из зерен нематериального характера. Любая великая цивилизация – это манифестация породившего ее духа, и цивилизации настолько разнятся друг от друга, насколько разнятся духовные явления, лежащие в их основаниях.
Поэтому просто работящий народ, умеющий варить суп из топора, строить дом без гвоздей, ловить дичь голыми руками, но не имеющий за душой великой мысли, ничего по-настоящему великого не создаст. Это удивительно, но он будет способен создавать и творить только под началом того, кто способен к цивилизационному творчеству или же в дружеской спайке с ним. Иначе он даже может быть порабощен в тех или иных формах теми соседями, у кого кроме силы, выносливости и трудолюбия есть в запасе великая мысль и воля к ее воплощению.
Поэтому понимание чужого труда, кажущееся столь естественным в отношении пахаря, нужно продлить и далее. Мы же не хотим быть сбродом, то есть бесцельно бродящими людьми, которые то сбредутся в одно место, то разбредутся кто куда. Мы хотим быть цивилизацией. А для этого сочувственно понять нужно и того, кто не производит материальных ценностей, но цивилизацию творит и одушевляет: музыканта, художника, представителя власти, чиновника. Да-да, чиновника. Конкретный чиновник может быть специфически плох как человек, а само чиновничество в разные времена может болеть разного рода нравственными недугами. Но необходимость чиновничества этим не упраздняется. Оно неизбежно, как неизбежны в аэропорту диспетчеры и таможенники, а не одни только пилоты и стюардессы.
Немецкий мотор работает лучше отечественного. То же самое можно, наверное, сказать и о соотношении работы их и наших чиновничьих аппаратов. Теперь нужно заставить мысль еще чуть-чуть побыть на свету и не убегать в привычные сумерки. Нужно следующим шагом признать, что моторы и конторы у них работают лучше не просто потому, что у нас в конторы плохо подбирают кадры, а моторы собирают «с бодуна». Это не ответ. Очевидно, что-то есть в сознании их – и отсутствует в сознании нашем. Не в руках и кошельках, а в сознании! Эти отсутствующие в одном месте и присутствующие в другом внутренние качества придают особый характер всей жизни и не могут возникать в один день. Усидчивость, ответственность, пунктуальность, аккуратность… Просто где-то их воспитывали столетиями, а где-то – нет. Где-то, возможно, воспитывали не менее важные качества, просто не заметные в производстве автомобилей и в канцелярской рутине.
Нельзя просто пытаться ввести у себя то, что вчера увидел где-то. Законы, привычки, чистота, взаимная вежливость… То, что радует глаз в чужом саду, долго росло, окапывалось заботливыми руками и сумело сберечься до сего дня трудом и заботой хозяина. Хочешь себе того же – приготовься к долгому созидательному труду. Да поинтересуйся еще, какие невидимые внутренние качества наиболее понадобятся. Потому что невидимое важнее видимого. Первое вечно. Второе – временно.
В творчестве невозможно банальное копирование. И быстрый плод в масштабных трудах невозможен. А если возможен, то это – «химическое яблочко», которое даже червячок есть откажется. Нужен труд, причем двоякий: видимый и невидимый. Монастырский хлеб вкуснее обычного. И клумбы цветочные в монастырях красивее своих «мирских» аналогов. В монастырях обычно все вкуснее, трогательнее, красивее, чем в миру, потому что живущие там должны трудиться двояко. Там нужен обязательный умный труд и невидимая брань (без них монастырь становится колхозом). Но там нужно и личное усилие в различных послушаниях, чтобы не есть хлеб даром. Сочетание работящих рук и молящегося сердца – это подлинное выражение православной цивилизационной самобытности. Эту идею нужно сильно прижать к сердцу и сродниться с нею. А затем ее стоит двигать и распространять. Потому что людей, которые одновременно молятся и трудятся, причем любят и умеют делать оба дела, у нас очень мало. А они должны быть везде.
Если труд прекращается, природа быстро возвращается туда, где недавно царствовала цивилизация, – вспомним, как в мультфильме про Маугли бандерлоги скачут по развалинам древнего города в глубине джунглей. Смолкает детский смех, затихают голоса жениха и невесты, прекращается звук мелющего жернова. Дикие вьющиеся растения оплетают статуи с отбитыми носами и руками, филин кричит по ночам из бывших царских покоев. Травой зарастают дороги, мягкая зелень неведомой силой пробивает насквозь бетон и асфальт. Очаги погасли, и алтари покрыты многолетним слоем опавшей листвы. Таковы города-призраки, смотрящие в чисто поле глазницами выбитых окон. Таковы умершие цивилизации, чьи руины стали прибежищем для дикого зверя и летучих мышей.
Какие-то цивилизации зачахли от опустошительных войн. Какие-то – от неизвестных болезней. Но сегодня невооруженный глаз наблюдает за тем, как распадаются и умирают цивилизации не от чего иного, как только от человеческого неумения думать и слепого эгоизма каждого отдельно взятого гражданина.
КРУЖНОЙ ПУТЬ ПАЛОМНИКА
Что влечет человека прочь с насиженного места? Во времена испытаний – война, голод, опасность. Однако и в пору мира и благоденствия миллионы людей пересекают земной шар, влекомые надеждой на лучшую жизнь. От чего же мы бежим – и чего ищем?
Множество людей, как утверждают опросы, хотели бы покинуть родную страну и уехать туда, где лучше. В точном соответствии с пословицей, первая часть которой утверждает, что рыба ищет, где глубже, люди массово стремятся покинуть если и не страну, то насиженное место. Сельские жители перебираются в города, жители провинции – в крупные центры, ну а жители столицы – те вообще нуждаются в семи воротах с надписью Аrrival. Ворот же с надписью Departure им хватит и одних.
Это вовсе не красноречивое свидетельство неправильности нашей жизни или общей отсталости, как кому-то кажется. С некоторых пор кочевые настроения стали характерным признаком жизни вообще, а не только нашей жизни. Вернее, кочевые настроения подкрепились техническими новшествами в части реализации.
Огромные массы людей оторваны, откреплены от земли. Их не держит ни привычный быт, ни оседлый уклад, предполагающий работу на земле и питание от нее, ни дорогие могилы и наследственный очаг. Человек в принципе стал легким на подъем.
Родных святынь нет или почти нет, тишина скорее пугает, чем манит, смыслом жизни стал поиск удовольствий, предметы первой необходимости доступны и недолговечны, и деньги не оттягивают карман, но странным образом хранятся на карточке. Если ты человек молодой и тебя не отягощает груз семейной ответственности, если ты энергичен и полон замыслов, пусть даже самых копеечных, то ничто не удержит тебя от странствия в любую из четырех сторон света. Копеечными я здесь называю, к примеру, слова «Я хочу учиться на Западе». Те, кто действительно хочет учиться, учится до изнеможения уже здесь (благо, это возможно), а Запад сам ищет эти светлые головы и приглашает к себе. Многие же лодыри и знатоки новостей шоу-бизнеса тоскуют по совершенно другим занятиям. Ни читать книги, ни слушать лекции, ни настырно вдумываться в научную проблематику они терпеть не могут, но прикрывают благородными именами подлинную мотивацию, которую даже по нынешним временам озвучивать неприлично.
Итак, мигрирует или мечтает о перемене мест часто именно молодежь, если, конечно, нет войны, которая снимает с места и превращает в странников всех без разбору.
Если нет никакой серьезной беды, делающей людей беженцами, мечта о миграции зиждется на двух вещах, из которых одна – убеждение, а другая – иллюзия. Убеждение заключается в том, что «жизнь здесь – …» (выберите сами название, лишь бы оно означало «плохая»), А иллюзия состоит в том, что «там несравнимо лучше» или «просто прекрасно». Здесь речь уже не о молодежи, а людях как таковых.
Это не сегодняшнее новшество. Оно распространено не только среди зрителей МТУ, идейных или стихийных космополитов еtс. Такие мысли жили всегда и будут жить всегда в человеке, который утратил рай, живет в одном шаге от адской пропасти, но ни смутной генетической памяти о рае не осознает, ни ада, по причине духовной незрячести, не видит.
Словами о том, что «мы уедем, и там все будет по-другому», наводнена вся литература и весь кинематограф. Хорошая, надо сказать, литература и недурственный кинематограф. Такой, где зрителей хотя бы не пугают ожившим трупом и не смешат видом чужих трусов.
Грусть чеховских пьес в немалой степени состоит из того, что привычный мир рушится на глазах и хочется куда-то уехать, чтобы все начать заново. И «так грустно играет военный оркестр в саду», и «мы заживем, заживем, и увидим небо в алмазах. Мы услышим ангелов, мы отдохнем», и «поезд уже пришел. Пора. Но ведь ты приедешь за мной? Нет, это я к тебе приеду. Мы обязательно встретимся и будем счастливы».
И пока на одной стороне Земли она кутается в шаль, а он хмурится и жадно курит папиросу, пока оба в сумерках слушают соловья, на другой стороне Земли восходит огромное солнце, и она говорит ему по-английски: «Милый, уедем. Уедем куда угодно: в Европу, на какой-нибудь остров в Тихом океане, чтобы были только ты и я. Прочь отсюда, от этих небоскребов и суеты, от каменных джунглей. Начнем жизнь заново».
Всем хочется жить хорошо, и всем кажется, что для этого надо куда-то уехать. Из Парижа – в Нью-Йорк, из Нью-Йорка – в Тибет, из Тибета – в Лондон, из Петербурга – в Ниццу, из Ясной Поляны – на станцию Астапово.
А между тем везде в мире продаются носовые платки. И это значит, что все люди плачут и надо чем-то вытирать слезы и во что-то сморкаться. Еще везде есть тюрьмы и кладбища, то есть знаки присутствия смерти, насилия и несправедливости. Й, раз уж мы вспомнили о тюрьмах, вспомним и о том, что именно за тюремными стенами живут самые жаркие надежды на изменение жизни после освобождения. О том, как трудно даются и далеко не у всех получаются эти изменения, нужно говорить отдельно. Пока лишь стоит подчеркнуть: мечта о лучшей жизни – постоянная жительница тюремных камер. Вместе с надеждой, той, что умирает последней, эта мечта держит на плаву множество обездоленных людей и дает им силы терпеть и ждать.
Так не в тюрьме ли мы живем, раз так страстно желаем вырваться, освободиться, начать жить заново, но только на новом месте? Не в тюрьме ли живет большинство жителей земли, желающих освободиться бегством в далекие края от жизненных неудач, долгов, ошибок, нищеты, кошмарных воспоминаний?
На этом старом, как мир, психологическом явлении, как на дрожжах, выросли Соединенные Штаты. «Сияющий город на холме», страна равных возможностей, соперничая с Христом, стала говорить: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». И были годы, когда французами подаренная статуя в нью-йоркской бухте встречала в день десятки пароходов, битком набитых людьми, начинающими новую жизнь. Люди и сейчас прибывают, только воздушными воротами по грин-карте или пешком через мексиканскую Гранину. Сияющий город на холме давно превратился в империю, которой, чтобы сохранить власть, нужно воевать «за демократию» во всех частях мира…
А человек остался недовольным и смутно тоскующим, даже когда его накормили и обеспечили медицинской страховкой. Если он не снимается с якоря и никуда не отправляется, то не обязательно потому, что он счастлив на месте. Быть может, он устал, или постарел, или у него нет денег на путешествие. Быть может, его географические познания весьма скромны, и у него просто нет заветной мечты по этой части. Всю жизнь он пределом мечтаний, возможно, полагал поездку к Великому каньону, но так и не сподобился. И теперь на старости, когда жена с особенно мрачным видом возится на кухне, он в который раз говорит ей: «А давай бросим все и махнем к Великому каньону. Прям сейчас! А?» Но жена все это уже сотню раз слышала и хорошо знает, что они никуда не поедут. Да и в ее возрасте понятно, что никуда не надо ехать. И будь она знакома с этими строчками, то, не оборачиваясь от стряпни, процитировала бы их мужу:
«Скушно жить, мой Евгений. Куда ни странствуй, Всюду жестокость и тупость воскликнут:
"Здравствуй"»…
Так что если мы в очередной раз услышим о том, что люди массово сбежали бы из страны, если б могли, – будем делить эти речи на три. Всегда есть люди, готовые неугомонно мотаться по свету. Одни стремятся заглушить душевную боль наплывом свежих впечатлений. Другие услышали, что дают бесплатный сыр, но не дослушали – где. Третьи бегут от себя настоящего в поисках себя идеального. Есть, пожалуй, еще и четвертый, и пятый, и прочие варианты. Есть то, о чем сказано в воздушной книге:
Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест).
И это уже другие стихи на ту же тематику.
Единственное, что нужно, – это дать человеку возможность посмотреть на чужое небо и поесть чужого хлеба. Дать возможность самому, а не с чужой подачи, развенчать собственные иллюзии и фантазии и ощутить тот особый вид тоски, который называется ностальгией и от которого чахли и умирали на чужбине лучшие сыны и дочери твоей земли. Это действительно сообщает жизни ту степень глубины, на которой привычное становится чудесным.
Если свобода перемещений действительно необходима, то именно для такого «кружного пути паломника», который в результате путешествий и поисков вновь обретает смысл жизни, и родину, и свое место в ней.
СУМЕРКИ СОЗНАНИЯ
Человек, поверивший в Бога, однажды неизбежно становится перед выбором: идти узким путем настоящей веры, ведущим в жизнь, – или пространным, легким, накатанным путем суеверия.
Совсем не верить нельзя. Это против природы, поскольку человек очень мало видит, но очень много чувствует. И чувства, интуиции вторгаются туда, где обычный глаз слеп.
Оттого вера необходима. Она раздвигает границы жизни, пытается осмыслить прошлое и предощутить будущее. Вера – такой же внутренний определяющий антропологический признак, как прямохождение – признак видимый. Но вера истинная тяжела, как жизнь Авраама. Поэтому человеку свойственно бежать от ослепительного света веры подлинной, веры крестной – в теплый сумрак магизма и суеверий.
Магизм и суеверие работают с «хорошим материалом». Например – с чувством взаимосвязи всего сущего. Ты здесь зажег ароматическую палочку и пошептал нечто, а там он с ней расстался или, наоборот, они друг друга встретили. Это же поразительное бытовое подтверждение веры в сущностное единство мира и взаимозависимость всех нравственных процессов.
Или вам предсказывают будущее человека по его фотографии. Это же связь образа с первообразом. Карикатурное применение догмата Седьмого Вселенского собора, ни больше, ни меньше.
Падение мага… Середина XVI в. Худ. Питер Брейгель Старший
Или для магических ритуалов требуют прядь волос, каплю слюны или крови. Это тоже попытка влиять через часть на целое и, соответственно, вера в то, что часть и целое связаны и взаимозависимы.
Все это – прекрасная тема и обширное поле для самых разных исследований, популярных брошюр или даже диссертаций. Любителей подобного рода деятельности хватает. Мы же лишь приводим примеры для подтверждения уже сказанных слов: магизм и суеверие работают с «хорошим материалом», то есть с врожденной религиозностью и зачастую верными мистическими интуициями.
Магизм нельзя осуждать только на том основании, что он «не работает», что он весь – область действия шарлатанов. Это и так, и не так.
Шарлатану действительно легко найти себя и свою выгоду в этих сумерках сознания. Но магизм едва ли не страшнее именно тогда, когда он работает, нежели тогда, когда он надувает простаков и выуживает деньги.
Суеверие страшно тем, что это отказ от светлой и подлинной религиозности ради религиозности сомнительной и сумеречной. Оно страшно лишь «на фоне» большего и лучшего. Без «фона» же суеверие естественно и необходимо. Необходимо беречь скотину от сглаза и жилище – от злых духов. Необходимо вшить в одежду нитку оберега и на шею водворить амулет. Необходимо связать с неким обрядом проведение первой борозды, и, поскольку связь между «плодородием вообще» и плодородием земли в частности слишком очевидна, обряд обещает быть ритуально-блудным.
Мы по необходимости попадаем в маскарад, в ритуально-мистическое царство, в котором живут почти все без исключения люди. С ним вообще сложно бороться, поскольку для этого нужно преображать человеческую природу, а сегодня бороться и того сложнее.
Советская эпоха, стремившаяся изменить человека, ставку делала не на преображение, а на отмену и запрет. Что из этого вышло – известно. Естественная религиозность осталась неистребимой, а к возрождению язычества добавился пафос «возрождения традиций» и этнического самосознания. Теперь хороводы водят не иначе как с умным видом участников солярной мистерии. Так же и через костер скачут.
Магизм дается относительно легко и подвига никакого не требует. Ничего не требуя, он много обещает. Обещает успех и здоровье, чем весьма льстит современному эгоисту. Обещает обретение чувства полноты и приобщенности к роду и традиции, чем тоже угождает современному эгоисту, уставшему от внутреннего одиночества, страхов и собственной ненужности. В этом смысле магизм и суеверие приходятся очень даже ко двору, и если бы их не было по факту, их стоило бы выдумать. Но мы ранее коснулись имени Авраама. Это не случайно.
Авраам – буквальный отец, то есть предок по плоти арабов и евреев, а также – по духу отец всех верующих в Истинного Бога. Он был язычником и сыном язычника. Но в нем Бог усматривал ту глубину, которая необходима человеку, чтобы вместить в себя нечто большее, чем естественная религия. Больше религии естественной – религия открытая, возвещенная Богом, богооткровенная.
Авраам был избран, и это избранничество принесло ему не бытовой успех и кучу удовольствий, а муку и крест. Он был многажды проведен сквозь огонь невообразимых, с точки зрения простого человека, испытаний. Обетования грезились впереди, как миражи, а повседневность дарила внутреннюю муку и внешнее скитальчество. И все это было сделано не ради него, но ради (пафос неизбежен) всего человечества. Ради появления избранного народа, ради воспитания в среде этого народа лучших представителей человечества, наконец, ради появления Девы, от Которой родился Христос.
Входя в общение со Спасителем, мы входим и в духовное родство с Авраамом, отчего и сказано, что многие придут с востока, и запада, и возлягут с Авраамом, и Исааком, и Иаковом в Царстве Небесном (Мф. 8, 11). И принимая спасительную веру, мы принимаем не только обещание будущих благ, но и крест повседневной ответственности. Мы становимся странниками и скитальцами, взыскующими грядущего непоколебимого Царства.
Мы ощущаем в груди горечь противоречия между чудными обещаниями и серостью повседневности. Мы начинаем внутренним чувством понимать Авраама и других людей, отмеченных близким общением с Богом. Это – черты подлинной религиозности. Черты, не исчерпывающие всего, но необходимые.
Светлая религиозность тяжела и не естественна, но сверхъестественна. Она не работает на коротких отрезках типа «сделал – получил», но требует именно веры и ожидания, как труд земледельца. Менее всего она рассчитана на людей нетерпеливых, ожидающих быстрых плодов. Она предъявляет высокие требования к человеку, поскольку исходит от Бога, создавшего человека, а не подстраивается под человеческие похоти и прихоти. Уже того, что мы успели сказать, достаточно, чтобы понять простую вещь: людей суеверных и мыслящих магически всегда больше, чем людей, несущих веру на плечах, как крест.
У нас нет статистики, и она вряд ли возможна. Но будь она возможна, будь она объективна и будь она в виде столбцов с цифрами на нашем письменном столе, эти цифры были бы красноречивы.
С тех пор как народ наш крещен и привит к древу Церкви, вся наша жизнь зависит от людей проповедующих и молящихся. То есть – от духовенства, просветителей, катехизаторов.
На Страшном Суде «все внезапно озарится, что казалося темно; встрепенется, пробудится совесть, спавшая давно». Но гром и молнии проповеди прежде Суда озаряют жизнь и делают явным то, что хочет скрыться, то, что боится прямых лучей. Суд слова и проповеди прежде великого дня Суда – это и есть единственный способ рассеивания мрака и водворения на место теплых бабкиных суеверий веры свежей и здоровой, как морозный воздух.
Христос есть Свет, пришедший в мир. Симеон Богоприимец называет Его «светом во откровение языков», то есть народов. Без этого света народы обречены на пребывание если не в полной тьме, то в привычном полумраке народной религиозности. Грустно сказать, но и через тысячу лет после Крещения мы все еще стоим перед лицом все тех же задач. Правда, и утешает то, что у Господа тысяча лет как один день (Пс. 100).
ОСНОВАНИЕ ЖИЗНИ
Человек не склонен ценить то, что имеет. Когда мы любимы, мы не боимся потерять любовь, когда хорошо себя чувствуем – не особо заботимся о здоровье. И лишь теряя что-то важное, готовы хвататься за ниточку, чтобы вернуть утраченное. Но бывает слишком поздно…
Человека можно лишить многого. Но есть нечто, чего можно лишиться только по своей вине. От лени или гордости, от скуки или со злости можно однажды потерять самое главное сокровище сердца – веру.
Розанов сказал, что народ-богоносец, то есть русский народ, отрекся от веры так быстро и так легко, словно в бане вымылся. А Чехов, напротив, считал, что между «верю» и «не верю» лежит большое расстояние. Его, как поле, нельзя перейти быстро. Вот человек по привычке продолжает говорить «верю», а сам, чуть ли не вприпрыжку, несется по полю к противоположному краю. Другой же, напротив, бормочет «не верю» и подыскивает аргументы, но сам уже дошел до той черты, за которой поют «Осанну».
Впрочем, Чехов говорил это в противовес той легкости, с которой люди бросаются словами о вере и неверии. То есть он таки считал, что современные ему русские люди в массе своей расстояния между двумя полюсами не ощущают и о сложнейших вещах говорят как о чем-то обыденном.
Кого-то в вере держит быт и земля. Раньше, когда вся империя была крестьянской, таких могло быть большинство. Антея, чтобы задушить, нужно было от земли оторвать. Иначе он из земли силу впитывал. Крестьянин, оторванный от земли, есть тот же могучий Антей, поднятый в воздух Гераклом и там задушенный.
У Короленко в повести крестьянин с Волыни приезжает в Америку и там первое время еще вспоминает Бога. Все странно ему и все пугает: дома до облаков, поезда метро, несущиеся над головой по эстакаде. «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф», – то и дело говорит он, крестясь. Но земляки, уже освоившиеся на новом месте, ухмыляются на его молитвы. Они тоже молились поначалу. Они знают, что скоро он перестанет креститься и молиться, как и они. Если будут у него дети, то дети снова начнут молиться, только по-английски, и не в храме, а в молитвенных домах.
Так смена культурной среды убивает привычную веру в тех, для кого вера – не главное в жизни, а придаток, культурный фон. Таких – всегда большинство. И необратимый слом сельского, земледельческого быта требует нового уровня веры, более глубокого, более стойкого к перепадам духовного климата.
Сельский быт сломан везде, кроме редких оазисов. Сломан он где революцией, где эволюцией, но и там, и там – последовавшей затем урбанизацией и индустриализацией. Теперь явилась уже и информатизация, и не стук колес мешает читать псалмы, но забитая мусором голова не запоминает Символ веры.
Вернуться к крестьянским приметам, к освященному быту, к праздничному церковному циклу, счастливо совпавшему с циклом полевых работ, можно лишь в виде экологического туризма.
Если за веру не бороться, то исчезает она незаметно. Еще тепло недавнего присутствия сохраняется, еще запах не выветрился, а самой веры уже нет. Как страшно!
У Хармса в одном из безумных рассказов есть персонаж – верующий человек. Так вот он заснул верующим, а проснулся неверующим. Но была у него привычка измерять перед сном и после пробуждения свой вес на медицинских весах. Он измерил. Оказалось, что в то утро, когда он проснулся неверующим, он весил на двести граммов меньше, чем когда засыпал. Я не гарантирую точность вычислений. Там это все в фунтах, в пудах. Но вывод: вера весила ровно столько, сколько составила разница между взвешиваниями.
Как страшно!
Хармс ведь никого не смешил. Он смотрел своими сумасшедшими глазами на улицу, по которой сновали люди и ездили трамваи, и когда он вертел своей сумасшедшей головой, ни одна муха его не боялась и не отлетала в страхе. Мухи считали его своим.
Страх увеличивается обыденностью. Вот так просто, обыденно человек утратил веру. Как будто ему случайно отрезали голову, и никто не испугался. Даже не ахнул. Как там у Достоевского: «Мы тогда обедали… – Да, вот вы тогда обедали, а я вот веру-то и потерял!»
Хотя, что это я все от писателей да от писателей примеры беру? Я ведь лично слышал сотни похоронных проповедей. Один священник так и говорил: «Ученые всего мира доказали, что душа человеческая весит три грамма!» Слово «грамма» он произносил так, что удвоенное «м» было отчетливо слышно. Проповедь заканчивалась так: «Спи, наш дорогой. Спи спокойно. Спи тихим, безмятежным, беспробудным христианским сном». Вот так! Ни больше, ни меньше. И беспробудным, и христианским.
В такие минуты сам Хармс мог заглядывать выпученными глазами в окна за нашими спинами и улыбаться сумасшедшей улыбкой.
Незаметно теряется самое главное. И гром не гремит над головою тотчас. Все чинно, и аккуратно, и скатерть крахмальная, и полы блестят. С какой стати все должно измениться в худшую сторону? Разве оттого, что кто-то сказал: «Я в Бога больше не верю»? Вот гимназист Миша Булгаков взял да и сказал эти слова папе – профессору Духовной академии за обедом. И жизнь покатилась дальше, словно дети – с горки на санках. Покатилась весело и беззаботно, сыто, комфортно, с заливистым хохотом. А то, что потом было – и революция, и Гражданская, и голод, и липкий неотвязный страх на долгие годы – так это разве как-то связано?
«Мы не знали, что в бутылке – джинн. Мы не хотели его выпускать. Просто открыли пробку, и все. Мы не думали, что это серьезно. Что нам теперь будет?»
Это лепечут те, кто аплодисментами встречал зарю новой жизни. Бедные и глупые. Из тюрем они теперь будут выходить без мученического ореола, но с отбитыми почками и без зубов. На стройках новой жизни они не смогут читать книги, как когда-то революционеры в ссылках. И забирать их будут среди ночи из теплой постели без санкции прокурора. Расстреливать тоже будут без суда.
Это раньше надо было для очистки совести «родить, посадить, построить». Теперь – колокол отлить, храм восстановить, научиться читать часы перед Литургией. Ну а после этого, или параллельно с этим – сын, дерево, дом.
Если первого не будет, кто-то опять придет и разрушит второе. Ограбит дом, заберет сына в окопы, порубит дерево на дрова в холодную зиму.
За веру надо бороться, за веру. Остальное приложится.
НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА
Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные.
(1 Кор. 11:19)
Если ты не знаешь, зачем ты живешь, – это не повод стрелять разрывными», – сказал один поэт и был совершенно прав. Впрочем, если знаешь – это тоже не повод…
Наверно, вам знаком такой киножанр, как вестерн. Уж пародию на вестерн вы точно хотя бы раз видели.
Обветренные, суровые лица молчаливых и храбрых мужчин. В углу неразговорчивого рта главного героя – либо серная спичка, которую при случае можно зажечь о каблук, либо окурок сигары. Маленькие городки Дикого Запада, состоящие из одной улицы, в конце которой – деревянный протестантский храм.
Вот городок замер во время сиесты (Мексика рядом), и главный герой ступает на площадь, погруженную в зловещую тишину. Вечером из салуна зазвучит расстроенное пианино, но сейчас даже курица не кудахчет, не скулит пес и не фыркает привязанный к столбу конь.
Главный герой стоит в напряженной, подозрительной тишине, и мы видим его со спины. Видим по кобуре на каждом бедре, а в них – кольты; видим руки, опущенные вдоль тела; руки, готовые схватить оружие в любую секунду. Наконец многочисленные враги высовываются из каждого окна, как по команде, и открывают пальбу.
Герой тут же молниеносно выхватывает пистолеты.
Казавшийся вымершим городок в прерии в секунды заволакивается пороховым дымом и погружается в шум стрельбы. Главный герой разит врагов из-под плеча, навскидку, в кувырке, в полете, стоя на одном колене и лежа на спине. Он стреляет, не целясь, назад, вперед, вправо, влево. И на каждый его выстрел враги отвечают предсмертным криком, и очередной злодей выпадает из окна.
Битва завершается так же быстро, как и началась.
Серная спичка или окурок сигары по-прежнему – в углу волевого, презрительного рта. Холодный взгляд храбреца из-под ковбойской шляпы озирает замершие в пыли трупы. Но пистолеты все еще в руках, и дула их дымятся. Это не зря.
Потому что по закону жанра какой-то недобитый враг должен приподнять голову и дрожащей рукой навести оружие на главного героя. Бот он прицелился. Вот он зловеще улыбнулся. Но…
Герой резко поворачивается в сторону коварного стрелка и последним выстрелом отправляет к праотцам последнюю двуногую гадину, пригревшуюся в этом маленьком городке на границе с Мексикой.
Мне вспоминаются эти бесчисленные фильмы с оглушительной стрельбой и короткими диалогами по причине, совсем не связанной с кино и освоением прерий.
Образ меткой и безжалостной ковбойской стрельбы вправо-влево, вперед-назад мне приходит на ум при мысли о культуре дискуссий.
Мы дожили до тех времен, когда у православных христиан появилась возможность общаться, меняться мнениями, обсуждать значимые явления и события светской и церковной жизни. Мы получили доступ к главной радости – к радости взаимного общения, причем общения с единоверцами. Но тут оказалось, что мы не умеем слушать, не хотим думать и способны зачастую только ругаться, выискивать еретиков и вешать на оппонентов ценники вкупе с ярлыками.
Впрочем, какие оппоненты? У нас их нет. Несогласные, минуя категорию оппонентов, попадают прямо во враги, и не только «мои враги», а «враги Истины», «враги всего святого». И как Некрасов сказал кой о ком «этот стон у нас песней зовется», так и мы можем сказать, что это у нас такая «культура дискуссий».
Наш православный спорщик – это вылитый ковбой, зоркий глаз и гроза злодеев. Он стреляет не в силуэты, а в шорохи.
Скрипнула дверь – бабах!
Открылось окно – бабах!
Мелькнула тень – бабах!
Кругом враги, и бить нужно насмерть с одного выстрела. Патроны дороги.
Такой американский подход к расправе над мировым злом похож еще на неконтролируемые реакции, на безусловные рефлексы. Прикоснитесь чем-нибудь горячим к коже человека, и он, невзирая на свое мировоззрение, отдернется обожженным телом от источника боли. Это произойдет мимо всякого ума, раньше всякой культурной рефлексии. Но то, что хорошо в отношении боли, плохо в отношении чужого слова.
Вы услышали слово, не совпадающее с вашими мнениями, и тотчас разрядились во «врага» односложным ответом, хлестким, как выстрел.
«Враг», «гад», «шут», «бес»! Но, братья, это же подход неверующего человека. Это способ мысленных рефлексий человека, напрочь лишенного культуры внутреннего мира. Где уж там рассуждать о борьбе с помыслами и об умной молитве, если даже элементарных навыков осмысления и анализа нет, и доброжелательности вкупе с порядочностью нет.
Пусть бы так общались лишь те, кто ни разу не слышал слов «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы Отца и Сына, и Святаго Духа»! Или слов «всякое ныне житейское отложим попечение»…
Каким еще образом и общаться людям, этих слов не слышавшим? Но нет. Они могут быть сдержаннее нас. А я говорю о тех, кто православен, кто причащается. Некоторые из заядлых православных борцов мыслят, что так же хорошо знакомы с истиной, как хорошо товарищ Бывалов из фильма «Волга-Волга» знал «Шульберта». А знал он, я напомню, «Шульберта – лично». Вот эти знатоки истины – самые непримиримые стрелки, самые меткие мстители. Стреляют же они только по своим.
Чужие их либо не слышат, либо голос их для чужих не авторитетен. Приходится тогда ругать своих, чтоб чужие боялись. Что ж, и Моська лаяла на слона с целью прославиться, и без риска для здоровья.
Интернет-пространство – это не только сеть каналов для получения информации, коллективный организатор и место идейных встреч. Это еще и коллективный канализатор, поскольку дает возможность сливать в себя душевный кал и внутренние помои.
Вонь от иных форумов может соперничать с вонью городского коллектора. Сколько агрессии! Сколько ненависти! Сколько комплексов и инстинктов выплескивается даже и православными людьми, когда они отстаивают в сети истину и клеймят другого православного человека!
Вот уж где конец света. И эти же люди еще смеют рассуждать о кодах, в которых, а не в хамстве и невежестве, видят исполнение пророчеств!
Для одних Кураев еретик, для других Осипов отступил от веры. Там трещат копья в борьбе против Восьмого Вселенского, тут раздают ярлыки, не предполагающие и тени сомнений.
Чтобы казнить человека через повешение, нужно вначале повесить на его грудь табличку с наименованием вины. «Она стреляла в немецких солдат», – было написано на такой табличке у Зои Космодемьянской. Табличка есть, теперь можно выбивать из-под ног табуретку.
Так вот, развешивание ярлыков в ходе неразборчивой в средствах идейной войны всегда похоже на приготовление оппонента к казни. «Еретик», «мракобес», «либерал», «консерватор», «масон», «обновленец», «ретроград»… Легко произносимые слова, похожие на смертоносный выстрел. Вот он и герой – гордый человек, навскидку стреляющий словами, лихо сдувающий пороховой дымок с нагревшегося дула.
Молодчина. Боец. Православный мститель.
Зверобой, на лету убивающий комара, кровный брат Виниту Большого Змея и сам – большой змей.
В обмене мыслями, в работе с идеями, в попытках выйти из мысленных чащ мне по душе более не кольт, а образ фотоаппарата. Причем не цифрового, а аналогового. Не нужен Ро1аго1б, так чтоб щелк – и карточка. Не нужно спешить и плодить халтуру.
Нужно сфотографировать явление, затем – еще одно и еще одно, пока не заполнится тематическими снимками пленка. Потом нужно пленку проявить. Медленно и таинственно, при соблюдении всех правил в красноватой тьме лаборатории на пленке проступят контуры запечатленного явления. Потом нужен фиксатор, или закрепитель (впечатления ведь надо проявлять и закреплять). Потом наступает время печати снимков, просушки, обрезки, вставления в рамки.
Точно так же продолжительно, специфично и, значит, культурно, следует относиться к мыслям. Их нужно ловить, удерживать, про являть, закреплять, приводить в увеличенный вид. И лишь затем, когда явилось скрытое и уяснилось непонятное, следует именовать их шедеврами или же выбрасывать в мусорное ведро в порванном виде.
А иначе дела не будет. Иначе, как до зубов вооруженный трус, некультурный человек будет палить изо всех видов оружия во всякое инакомыслие и насмерть поражать зачастую тех, кого он не понимает только по причине собственной неразвитости.
Именно этот умный труд, подобный труду старого фотографа, я и называю культурой, и если сетую на глубокое бескультурье нашего народа, то имею в виду не сморкание в кулак (это не смертельно), а неумение и нежелание думать. И православная часть нашего общества, имеющая неписаную обязанность быть по совести за все в ответе и понимать глубинную суть процессов, должна учиться культуре мышления, культуре спора и ведения диалога в первую очередь.
Говорят, Оскар Уайльд, путешествуя по Штатам, видел в салуне такую надпись над инструментом: «Не стреляйте в пианиста. Он играет, как может».
Мне же, возвращаясь к началу, хочется сказать: «Не стреляйте в своих. Не стреляйте в них вовсе. Лучше фотографируйте мысли, проявляйте и увеличивайте. И лишь потом делайте взвешенные выводы».
ЧТО НОВОГО В НОВОМ ГОДУ?
Новый год – прекрасный праздник. Точнее так: Новый год может быть прекрасным праздником, если бы не пьянство, не бессонная ночь перед телевизором и если бы не контраст между ожиданием «чего-то» 31 декабря и отсутствием этого «чего-то» 1 января. А так – все очень мило. Мороз, предпраздничная суета, всеобщая нервная взвинченность. Дети ждут подарков, взрослые стараются раньше уйти с работы и месят снежную кашу, заходя по дороге домой во все попавшиеся магазины…
Если правда то, что Рождество на Западе все больше утрачивает религиозный смысл, если правда, что люди там все чаще поздравляют друг друга не с Рождением Мессии и не с Боговоплощением, а с каким-то аморфным «праздником», предполагающим семейные посиделки, печеного хуся и обмен подарками, то наш Новый год – это почти «их» Рождество. С праздником – чмок! С праздником – дзинь! С праздником – буль-буль! С праздником – спокойной ночи!
К Новому году нас приучила советская власть. Если бы не засилье идеологических праздников, никто бы не вкладывал столько души в ожидание смены цифр на календаре. Но все остальные праздники требовали либо патетической печали, либо безудержного энтузиазма. Просто человеком побыть было некогда. Отсюда эта истинно детская любовь к елочному конфетти, запаху хвои и мандаринам. Это лишнее доказательство того, что стареет тело, а душа, завернутая в умирающую плоть, стареть не хочет, не может, не умеет. Она, душа, остается детской, ей хочется сказки и чуда.
Но есть в праздновании Нового года и грусть. Эта грусть рождается оттого, что нового в Новом году нет ничего, кроме изменившихся цифр на календаре. Все остальное – старое.
Человеку свойственно перетаскивать свой ветхий скарб страстей и привычек из года в год с завидным постоянством. Оттого всякий новый год – старый. «Куда дерево упадет, там оно и лежит», – говорит кто-то из пророков, имея в виду злостный навык человека. И в одной из молитв соборования говорится, что «якоже руб поверженный, всякая правда наша пред Тобою». «Поверженный руб» – это и есть то самое упавшее дерево, которое указывает всегда в одну и ту же сторону, как и жизнь закосневшего в грехах человека.
Нужен какой-то креатив, какая-то истинная новизна, по которой стосковались (уверен) очень многие. Чем не нов такой, к примеру, лозунг: «Встреть Новый год трезвым и без телевизора»? Это же настоящее новое слово, и я уже вижу его на рекламных плакатах больших городов.
Над воротами Дантова ада было написано: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Над воротами, вводящими в новый календарный год, можно писать: «Оставь все злое, этот год начавший».
Год будет действительно новым, если вступающий в него человек запасется желанием обновляться: бороться со злыми привычками, приобретать благие навыки. У нас есть заповедь быть мудрыми, как змеи. Именно это животное регулярно меняет кожу, пролезая между острыми шипами кустарника или тесно стоящими камнями. Больно змее или нет, не знаю, но старая кожа, как чулок, сползает, давая место новому кожному покрову. Это, конечно, урок – не только природный, но и евангельский.
Земля протанцевала очередной тур вальса вокруг Солнца. Замкнувшийся круг и начало нового движения стоит отметить молитвой. Потихоньку входит в обычай служение Литургии в ночь с 31-го на 1-е. Это еще одна ночная Литургия, кроме Пасхальной и Рождественской, и она обусловлена уже не догматами, а насущной потребностью. Большинство людей валяет дурака и натужно изображает предписанное веселье. Люди напиваются – то ли от тоски, то ли от радости; засыпают, не раздевшись; просыпаются в неизвестных местах… Или, в лучшем случае, терзают пульт в поисках хоть чего-то интересного по «ящику». А совсем небольшая часть граждан провожает уходящий год словами: «Господи, помилуй» и встречает наступающий год словами: «Господи, благослови». Не знаю, как вам, а мне кажется, что это и есть истинная новизна и самый красивый способ празднования.
Но даже если не будет ночной Литургии, пусть будет краткая молитва. Ничего лучше, чем «Отче наш», не придумаешь. Куранты бьют, снег за окнами медленно опускается, а некое семейство читает молитву Господню и просит у Бога благословения на наступающий год. Красота!
И еще одно. Это ведь условная дата. Новый год праздновали то в марте, то в сентябре, то на Василия Великого. Теперь вот на Вонифатия. Плюс у каждого из нас есть свой новый год. Разумею день рождения как начало нового года жизни. И всякий раз смысл остается тем же: хочешь меняться – будет тебе новый год, новое лето благости Божией. Не хочешь меняться – не будет тебе ничего нового. Мандарины будут, «Голубой огонек» будет, мигрень с утра будет, и тоска, конечно же, тоже будет. А новизны не будет. Так что думай, товарищ. Без веры в Христа и без молитвы все годы Свиньи, Крысы, Собаки, Буйвола грозят превратиться в сплошной год Осла, грустного при этом, как ослик Иа, потерявший хвост.
Зима вошла в полные права вопреки слухам о глобальном потеплении. Земля укуталась в снежную шаль, как в пуховый платок. Глянешь и невольно вспомнишь псалом: «Омыеши мя, и паче снега убелюся». Я сто раз уже пробовал начать жизнь заново, и все сто раз у меня почти ничего не вышло. Но чего нет во мне, так это отчаяния. В этот Новый год я буду пробовать опять. Надо же, в конце концов, чтобы Новый год был действительно новым. Помоги нам, Господи.
СИЛА И СЛОВО
Людям свойственно разговаривать. Если же разговаривать разучились или так презирают друг друга, что и словом не удостаивают, – тогда они жутко враждуют или дерутся. Насмерть и без пощады.
Есть еще малая часть людей, которые не разговаривают, потому что вдали от обычного мира молятся непрестанно. Но и они дерутся: постоянные молитвы вдали от суеты обнаруживают наличие близ нас лютых существ, причастных всем человеческим бедам.
Людям свойственно и драться, и разговаривать. Причем чем меньше разговаривают, тем больше дерутся…
Помню одну телепередачу, в которой некий писатель рассказывал о своем детстве. Это были военные годы, он жил в эвакуации. Там пришлось ему сдружиться с местной шпаной, которая воровала и из вагонов на вокзале, и из карманов на базаре. Будущего писателя с собой не брали, так как он был к хулиганской жизни не способен, но прикармливали его за то, что он увлекательно пересказывал малолетним «джентльменам удачи» прочитанные книги: «Всадник без головы», «Капитан Немо» и прочие. Тогда будущий литератор впервые понял, что может зарабатывать словами. Но это еще не все.
Дети улицы часто дрались, и драке неизменно предшествовал разговор – точнее, взаимное обливание друг друга словесными помоями. Каждый из бойцов изощрялся в оскорблениях, и собственно драка начиналась не раньше, чем заканчивался запас ругательств. Бывало, что оскорбления одного были очень уж метки и болезненны, и тогда второй, не имея больше сил терпеть, пускал в ход кулаки. Так или иначе, это было важнейшее свидетельство прочной связи между кулаками и словами.
Каждый может примерить сказанное к своей жизни. Женщины больше кричат, мужчины чаще дерутся, но и те, и другие способны на оба вида «обмена любезностями», и еще неизвестно, что больней. Оба вида атаки ближнего иногда так странно меняются местами, что драки вспыхивают там, где должно царствовать слово, и, наоборот, слова избыточествуют в местах обычной работы кулаков. Первое наблюдается в парламентах, где перестают рагlег, то есть говорить, и начинают лупить оппонентов смертным боем. Второе происходит, например, в профессиональном боксе.
Дело в том, что бокс изначально был спортом джентльменов. А те кое-как блюли принципы, подобные рыцарским, вроде «чем меньше слов, тем тяжелей удары». Позже бокс стал массовым зрелищем и спортом, где удача улыбалась бедным (бедные – самые злые, а успех на ринге – способ разбогатеть). Мохаммед Али был первым боксером, который внес в атмосферу предматчевых прессконференций вихрь похвальбы, злой ругани и едких оскорблений соперника. Он доходил даже до того, что мог требовать наличия в зале «скорой помощи» для своего оппонента, которого он якобы искалечит. Все это были сознательные, тщательно обдуманные ходы, практикуемые ради привлечения к себе максимального внимания. Но многие соперники Али перегорали до боя, сломленные психологически. Дурное дело не хитрое, и с тех пор оскорбления и грязные выходки перед знаковыми боями регулярно кормят общественное сознание.
Так смешиваются слова и удары, и, повторюсь, неясно, что больней. Человек, не боящийся драться, может быть сломлен клеветой и насмешками. Вообще слово сильнее и ножа, и кулака уже потому, что оно бьет на расстоянии, действует долго и проникает в самое сердце, не оставляя синяков. Оно, слово, еще потому необходимо, что человеку мало просто выиграть в противоборстве. Человеку важно осознать и представить свою победу как проявление высшей справедливости, как плод действующего нравственного закона. Для этого воюющие армии тратятся не только на снаряды, но и на пропаганду. Нужно представить противника исчадием ада, а себя – поборником высшей правды. Нужно, чтоб «у нас» были только разведчики, а «у них» – только шпионы. И горе тому, кто в войне недооценивает силу слова печатного и устного, силу идей.
Учебники истории переписываются по той же причине – победитель хочет видеть себя и не грубым захватчиком, и не орудием случая, а законным и единственно достойным победы лицом. Чтобы этого добиться, нужно разговаривать, обосновывать и объяснять историю с точки зрения свершившегося факта.
Любой третьесортный голливудский фильм, в котором плохой парень наказуем в конце концов парнем хорошим, подтвердит сказанное. Там акт справедливого возмездия будет, как правило, предваряться выяснением разницы в мировоззрениях. Уже один висит над бездной, слабо держась за карниз, а второй все еще не бьет каблуком по его пальцам. Они разговаривают! В этом разговоре герои выясняют, кто виноват, кого следует наказать и как именно. Лишь когда зрителю ясно, что на экране изображено справедливое возмездие, а не грязное насилие, руки соскальзывают с карниза, или палец нажимает на спусковой крючок, или иным образом последняя капля наполняет чашу законного гнева.
Люди дерутся и люди говорят. Успех дипломатии предотвращает объявление войны. Несвоевременные слова способны произвести кровопролитие. Но никогда люди не молчат: ни когда дерутся, ни когда пребывают в мире. Если же молчат – плохо дело.
Ты говоришь – а в ответ тишина. Ты смотришь по сторонам, а от тебя отворачиваются. Так же молча берут в руки топоры или вилы и, не раскрывая уст, движутся в твою сторону. По-моему, дело ясное. Или ты солдат оккупационных войск, отбившийся от своих. Или ты – негр, оказавшийся в южном штате до отмены рабства и подозреваемый в изнасиловании… В любом случае – тебе конец, потому что никто в тебе уже не видит живого человека. В человеческом достоинстве тебе отказано, а значит, и жить ты, по мнению некоторых, не должен.
Именно в такой ситуации люди вообще не разговаривают. Тот, с кем ты не согласен говорить, скорее всего, мешает тебе на этой земле, и где-то в глубине сердца ты не прочь, чтобы его вообще не было.
Есть, конечно, и другое молчание, не таящее агрессии. Оно рождено от усталости, от житейской изношенности, от непреодолимой разницы в опыте, возрасте, образовании и еще многих причин – но мы сейчас не о том…
Планеты и звезды движутся по своим траекториям молча. Но люди – не планеты, им есть что сказать. Уже поэтому людям необходимо разговаривать. Необходимо делиться мыслями, так как по мере понимания собеседника тает, зачастую, лед произвольных мнений и надуманных подозрений. Превращаются в дым и исчезают чудовища, рожденные невежеством и настороженной замкнутостью.
Христиане приобщаются Богу через пищу Таинств и Слово. Люди же вообще приближаются друг ко другу через совместное вкушение пищи и открытый разговор. Если это есть, то необходимость драться будет уменьшаться «в значенье и в теле», а разжатые кулаки будут протягиваться для рукопожатий.
НЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИКИ
Есть такое выражение: «Война – слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным». Эта сентенция содержит большую долю правды, но чтобы сделать ее стопроцентно правдивой, нужно добавить еще одно слово: «только» военным. Точно так же будет справедливым выражение: «Здоровье – слишком серьезное дело, чтобы доверять его только врачам». И «экономика – слишком серьезное дело, чтобы сводить ее только к деньгам».
* * *
На обывателя ежедневно обрушивается лавина информации, в которой он в принципе разобраться не может. Слыша об инвестициях, котировках, демпингах, картельных сговорах, ценах на нефть и платину, простой человек должен чувствовать себя заложником в большой игре, от которой он полностью зависит и на которую совсем не влияет. Чувство глубокой несправедливости сложившейся ситуации заставляет взяться за перо, взяться за перо в интересах «простого» человека.
* * *
Понимаем ли мы с вами (все те, кто не учился на экономическом факультете) что-либо в экономике? Должны понимать, если мы вообще хоть что-то понимать способны.
Например, зависит ли экономика страны от такого качества, как трудолюбие? Конечно, зависит. Но трудолюбие – это не экономическая категория, а, скорее, нравственная. И честность – тоже нравственная категория, и от нее тоже зависит экономика. И исполнительность, и аккуратность, и трезвость – это нравственные категории, от которых напрямую зависит экономика любой страны и любого региона. Не делайте вид, что вы этого не понимаете на том основании, что не учились на экономическом факультете.
Если в некой стране (назовем ее условно N) преобладающими типами будут лентяй и жулик или жулик и пьяница, то не стоит заниматься экономическими расчетами – никакие инвестиции эту страну не спасут. Заливайте воду в решето, позвольте Сизифу бесконечно закатывать на гору свой вечно срывающийся камень. Все это точно такие же бесполезные и бесконечные занятия, как и оздоровление через инвестиции той страны, где мелкие воры, лодыри и пьяницы встречаются на каждом шагу.
* * *
Не могу удержаться, чтобы не сказать несколько слов по поводу внутренней связи между тремя вышеназванными типами. Вор, конечно, в своем роде – талантлив. Он даже может быть гением, но именно «в своем роде». По отношению к созидательному труду он – воплощенное лентяйство. Настоящие ценности создает настоящий труд, чьи свойства очень похожи на свойства неутомимо трудящейся природы. Природа творит незаметно и постоянно. Точно так же создаются великие культуры и цивилизации. И ничто так не противоречит психологии вора, как это постоянство созидательного труда и медленное накопление его результатов. Вор хочет пользоваться накопленным и получать все сразу. Вряд ли его мелкая душа способна на мысли о вечности. «Жизнь коротка, и надо брать от нее все», – это именно «символ веры» паразита, неважно, «тырит» ли он мелочь по карманам или проворачивает махинации с ценными бумагами.
* * *
Итак, вор – это лентяй по отношению к созидательному труду. А лентяй – это вор по необходимости. Из всех любителей полежать на печи только Емеле повезло с волшебной Щукой. Всем остальным надо по временам с печи слезать. Голод заставляет. Пошарив по пустым горшкам, лентяй пойдет на двор глядеть – не лежит ли чего без присмотра? Если лежит, то он это утащит и, скорее всего, пропьет, так как «жизнь коротка, и надо брать от нее все». Так лентяй плавно превращается в пьяницу. Так кредо лентяя совпадает с воровским «символом веры».
Их тянет друг к Другу, словно магнитом. Шулеру-наперсточнику как воздух нужны лодыри, мечтающие разжиться «на халяву». Пока второй мечтает, первый реально богатеет, и эта схема незыблема везде, где есть идея «быстрого заработка без особых усилий». Потом обманутый идет топить горе в водке, а обманувший – обмывать успех.
* * *
Нравственно испорченному человеку нельзя помочь материально. Он будет вечно недоволен, вечно будет сравнивать себя с теми, у кого «больше», будет ворчать, завидовать, кусать ласкающую руку. Мир вечно будет казаться ему злым и несправедливым. Свои претензии он дерзнет предъявлять даже Творцу мира, и примитивное безбожие будет казаться ему аргументированным мировоззрением. Сказанное об отдельном человеке в полной мере относится к отдельным народам.
Нужно изменить внутренний, невидимый мир, чтобы заметно изменился мир окружающий. Нужно нравственно исцелиться или, по крайней мере, начать этим заниматься, чтобы внешние усилия перестали быть похожими на заполнение бочки без дна. Реформирование отраслей хозяйства, законотворчество, головоломки с выбором экономических моделей наталкиваются на лень, воровство и пьянство и разбиваются в пыль, как волна о гранитную набережную. В теории все хорошо, но «человеческий материал не вмещает теорию».
* * *
У стран, которые живут богаче нас, есть своя длинная история. В этой истории есть место самоотречению, великому терпению, долгим периодам нищеты и разрухи. Там есть место кропотливой работе мысли, вынашиванию идей и настойчивой реализации этих идей, реализации, иногда растягивающейся на столетия. Нельзя завидовать чужому дому, не зная и не желая знать историю этого дома.
Человек бежал марафонскую дистанцию, выиграл золото, еле остался жив от перегрузки, а какой-то болельщик-зевака просит у него медаль «поносить». Некрасиво.
* * *
Мы хотим жить лучше? Законное и безгрешное желание. Давайте начнем с благодарности и умеренности. Благодарности Богу за то, что Он есть, и умеренности в изначальных претензиях. Иаков просит у Бога хлеб есть и одежду одеться (Быт. 28, 20). Просьба звучит несколько странно, не правда ли? Разве не ясно и так, что хлеб едят, а в одежду одеваются? К чему такой речевой оборот? Оказывается, к тому, что у некоторых столько одежды, что ее впору есть, и столько еды, что ею можно обвешаться, как одеждой. Праведник просит только необходимого, и если затем Бог одарит его богатством, то у этого явления будут нравственные корни. Смиренная душа от изобилия даров не возгордится и не испортится.
Мало того, современная культура потребления грозит уничтожить Землю путем истощения ресурсов и загрязнения среды. «Воздержание» и «умеренность» скоро станут синонимами выживания и будут рассматриваться ведущими аналитиками и экономистами мира как основополагающие принципы развития человечества. Культура производства материальных благ, не уравновешенная культурой их потребления, угрожает миру не меньше ядерной войны. И если эту проблему решать, то это будет вторжением норм этики в сферу экономики.
* * *
Собственно, этика всегда вторгается в экономику, всегда тайно ею руководит (а не наоборот), всегда питает ее изнутри. Как только отмирает одна из этических систем, как только ослабевает или вовсе исчезает одно из мировоззрений, тотчас начинает замедлять свой ход, а затем замирать и рассыпаться соответствующая экономическая система.
Мы еще не нашли себя. Не нашли ни своего лица, ни своего места. Работу стоит продолжать (а может – начинать). И это не просто научная работа, доверенная узким специалистам. Это труд всенародный, причем народу предстоит самая важная задача, а именно – сформулировать свой этический идеал, на основании которого можно будет создать эффективную экономику.
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ
Люди, появляющиеся на страницах Евангелия, не похожи на нас. Так нам может показаться. Они не ездят в машинах, не разговаривают по мобильным телефонам. Они не носят носков. Как бы ни были дороги их сандалии, ноги у них голы. Под их одеждами (непривычно длинными) наверняка нет нижнего белья. У них есть деньги, но нет кредитных карточек. У них есть гостиницы, но в этих гостиницах нет ни душа, ни бара. На их дорогах не увидишь дорожного инспектора, их перекрестки не оснащены светофорами.
Может показаться, что и мораль Писания, и тайны Писания устарели для нашего изменившегося мира, раз сам мир так сильно изменился с тех пор. Бьюсь об заклад, вы именно так и думали, хотя бы иногда. Это соблазнительные мысли. Если «огонь благодати погас», если прав Ницше и «Бог умер», то будем грешить, не мучаясь совестью. Не так ли?
В Писании есть сюжеты, совпадающие с современностью вплоть до неразличимости. (Шепотом и на ухо скажу, что все Писание сливается с действительностью, хотя это и не всегда очевидно.)
Смерть Предтечи – вот иллюстрация современности.
Праздник, пьянство, обилие угощений. Танцы, умелые вихляния молодого неодетого тела, заразительный музыкальный ритм. Где-то ниже цокольного этажа, в темноте и сырости подвала – палач с мечом и невинная жертва.
Отвлекитесь от смерти Предтечи и согласитесь, что, взятые по отдельности, все компоненты этого евангельского сюжета до краев наполняют историю XX века. А раз XX, то и XXI, ибо сильна инерция истории, и кто совладает с нею?
* * *
В тот день, когда праведнику отсекли голову, Ирод праздновал день рождения. Праздники, плавно перетекающие друг в друга, – это признак нашей эпохи. Потеря смысловых ориентиров рождает незамысловатый «символ веры»: станем есть и пить, ибо завтра умрем (1 Кор. 15, 32).
За столом можно сидеть (как мы), можно лежать (как Ирод), можно бродить между столов с бокалом в руках, если стол шведский. Это – детали. Суть не меняется.
Человек – существо словесное, даже если он – существо жующее. Есть и не разговаривать – противно природе. Празднуют богатые – говорят о бизнесе, о мировой политике, об интригах при дворе. Празднуют бедные – говорят о бессовестности богатых, о повышении налогов, о ценах на продукты. Но и те и другие, если это мужчины, говорят о женщинах.
Женщина появляется вовремя. Молодая, почти девчонка. Непременно – глупенькая, верящая в то, что будет молодой всегда и будет жить бесконечно. Дочь царицы, она с детства привыкла к роскоши, а значит – к разврату. Для многих богатых разврат – это следствие роскоши. Для многих мечтающих о богатстве это средство платежа за роскошь. Можно и в дорогом дворце жить в чистоте и страхе Божьем. Но то был не тот случай.
Девица танцует в разгар праздника… В предложении «Она танцует» всего два слова. Но зато сколько страсти! Мужчины сыты и пьяны. У них развязано все – языки, завязки одежд, мысли…
Посмотрите любой музыкальный канал. Это иллюстрация того, как танцевала дочка Иродиады. Конечно, иллюстрация сглаженная, более сдержанная, но… Главное остается.
Главное – это эротизм, призывность. «Вот я, – говорит она. – Ты может меня коснуться, можешь до меня дотронуться, ты можешь и больше…» Такие танцы направлены не на прыщавых юношей. Их объект – дяди в возрасте отца, страдающие от одышки, лишнего веса и лишних денег в кармане. «Им не хватает любви. Я продам им свою любовь», – думают жадные, гордые, расчетливые юные прелюбодейки с гибким телом и томным взглядом.
* * *
Обжорство и блуд были фоном, на котором разыгралась драма убийства Предтечи. Любой современный ресторан, в котором заказан «корпоратив» и после полуночи должны появиться «девочки», абсолютно идентичен той атмосфере, в которой был убит Проповедник покаяния. Пиршественная зала Ирода умудрилась клонироваться и размножиться в тысячах экземпляров. Современному человеку трудно понять, как жил святой Иоанн, но очень легко понять, как жили и что чувствовали те, кто молчаливо одобрил его убийство.
* * *
Желудок сыт, когда полон. Гортань не сыта никогда. Изобретатель излишеств отнюдь не желудок, а – органы вкуса: язык и гортань. Дорогие, редкие, экзотические блюда нужны не для поддержания жизненных сил, а для вкусового удовольствия.
В самый разгар пира к сытым гостям Ирода было принесено блюдо. На нем была не очередная перемена еды, но – голова Иоанна. Это – кульминационная точка любого обжорства. Когда сытость заставляет отрыгивать, а жадная гортань рождает фантазии на тему «чего бы еще съесть?», совершенно логично, хотя и жутко, перед пирующими появляется отсеченная голова праведника. «Чего вам еще не хватает? Вам этого мало? Крови захотелось? Нате, ешьте!»
Да, братья, культура обжорства, с тыльной своей стороны, – это культура жестокости и кровожадности.
Смертные грехи так трогательно держатся за руки, будто дети-близняшки. Только лица у этих «детей» – словно из страшного сна или фильма ужасов. «Блуд» нежно держит за руку «убийство». Лучшее доказательство – история Давида и 50-й псалом. Не верите Библии – поинтересуйтесь статистикой абортов. Зачатые от блуда дети расчленяются и выскабливаются из материнских утроб и без числа, и без жалости.
* * *
Богатство хотело бы быть праздным. Хотело бы, но не может. Богатство требует хлопот. Богатство рождает тревогу, страх за самое себя и за жизнь своего обладателя. Оно требует забот по своему сохранению и умножению. Это, по сути, великий обман.
Все, кто хочет быть богатым, хотят этого ради беззаботности, легкости жизни и доступности удовольствий. Но именно этого богатство и не дает. Беззаботности и легкости в нем нет ни на грамм. А те удовольствия, доступ к которым оно открывает, часто превращаются в мрачные и безудержные оргии. Чтобы забыться. Чтобы доказать самому себе, что я – хозяин жизни и свободно пользуюсь ее дарами.
* * *
Богачи, пирующие до утра, знают, что они улеглись на отдых на краю обрыва. Вниз спихнуть их могут в любую секунду или «заклятые друзья-завистники», или кровные враги, или взбалмошный приказ верховного правителя. Мы все – бройлеры в инкубаторе, но богачи – больше всех. Если кого-то сегодня уже убили, то они первые вздыхают с облегчением. «Слава Богу, не меня. На сегодня лимит исчерпан. Можно веселиться спокойно».
Я думаю, что без всякого страха, без содрогания, без отвода глаз встретили голову Иоанна, несомую на блюде, те, кто возлежал с Иродом. После того, как обжорство и разврат обосновались в душе, ничто не препятствует человеку сделаться жестоким и хладнокровным к чужому страданию.
XX век, как говорил иеромонах Серафим (Роуз), лучше всего символизируется изображением Диснейленда и колючей проволокой ГУЛАГа, темнеющей на фоне этого аттракциона. Друг без друга эти явления не полны. ГУЛАГ не полон без Диснейленда. Диснейленд вряд ли возможен без ГУЛАГа. Связь между ними более прочна и органична, чем может показаться.
Развратная пляска малолетней девчонки, одобрительный гогот объевшихся мужиков и окровавленная голова Пророка, внесенная в зал на блюде, представляют собой не соединение отдельных автономных деталей, но некое органическое и страшное в своей органичности единство.
* * *
Наконец, сама смерть Иоанна – это смерть образца XX столетия с его фабриками смерти. Это смерть, напрочь лишенная всякой романтики. Ни горячих предсмертных речей, ни сотен состраждущих глаз, никакой публичности. Никакой иллюзии правосудия с прокурорами и адвокатами. Все обыденно, дегероизированно. Все выдержано в духе концлагеря, или коммунистических застенков, или холодного и расчетливого геноцида. На худой конец, все – в духе политического убийства, столь тщательно спланированного, что истинные заказчики будут известны не ранее Страшного Суда.
Палач привычно делает свою работу. Какая ему разница, что перед ним на коленях – Пророк, больший всех, рожденных женщинами. Руки связаны за спиной, стоит только нагнуть его пониже и откинуть с затылка длинные пряди слипшихся волос… Вот и все.
* * *
Это очень современный рассказ. Богатые веселятся, девочки танцуют, праведник подставляет голову под меч. И все, как в классическом театре. Полное единство времени и места.
Кстати, о театре. Давно понятно, что есть пьесы, далеко шагнувшие за пределы своего времени. Где бы и когда бы их ни ставили, сердце зрителя содрогнется. «Что он Гекубе? Что ему Гекуба? А он рыдает». Таков Шекспир. Его можно ставить и экранизировать костюмированно, с погружением в эпоху. Но можно интерпретировать его всечеловечески и сделать нашим современником. Так уже снимали «Ромео и Джульетту», где Монтекки и Капулетти живут в современном городе, ездят на машинах и стреляют из пистолетов. Так и «Гамлета» уже не раз экранизировали, одев короля в современный костюм и перенеся диалоги из коридоров замка в современный офис. Если сделать все это талантливо, текст и смысл не страдают. Наоборот, общечеловеческая проблематика становится очевидней и понятней, когда конкретные исторические одежки с пьесы аккуратно сняты и заменены на современные брюки и галстук.
* * *
Так нужно иногда поступать и с евангельскими текстами. Положим, назвать сотника «командиром роты оккупационных войск». Перевести все денежные единицы – пенязи, таланты, кодранты – в долларово-рублевый эквивалент. Мытаря назвать «инспектором налоговой службы», блудницу – так, как называют сейчас подобных женщин. На этом пути переименований, перевода с русского на русский, многие вещи удивят нас своей свежестью и актуальностью. Некоторые вещи так даже испугают доселе непримеченной очевидностью.
Если мы этим займемся, то историю казни Иоанна Крестителя будет перевести на язык современных понятий не очень сложно. Так уж получилось, что вся она соткана из вещей, виденных нами неоднократно или хорошо известных по книгам и выпускам новостей. Жаль, конечно, но так было всегда и так будет до скончания века.
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ ПРАВДИВО ЖЕСТОК
Ветхий Завет правдиво жесток; жесток, как сама жизнь. Человек, открывший Библию с мыслью о том, что это книга любви, может с содроганием закрыть ее, столкнувшись с некоторыми картинами Ветхого Завета. Бог казнит грешников, над согрешившими праведниками изощренно издеваются враги. Сами праведники, одержав победу, ведут себя так свирепо, что возникает соблазн усомниться в их праведности. Что все это значит?
Во-первых, спросим себя: откуда это недоумение и нравственное отторжение от жестокости?
Оно от Благой Вести, просочившейся в наше сознание. Сегодняшний человек, даже если он не верует, мыслит евангельскими категориями. Нам жалко побежденных и проигравших; нам не верится, что честность и богатство совместимы; женщина в наших глазах имеет равное достоинство с мужчиной. Все это и многое другое в нашем мировоззрении от Евангелия. Христос действительно изменил мир. Не прибегая к заговорам, мятежам, революциям, Христос овладел самой неприступной крепостью – человеческим сердцем. И покорившийся благодати человек стал мыслить небесными категориями. Вот почему нам кажется диким то, что древнему человеку казалось естественным. «Умыть руки в крови грешника», – это даже для Псалтири не является исключением.
Ветхий человек, тот, который изнутри не перерожден и снаружи не взнуздан соответственным воспитанием, – он и сегодня радостно пляшет над трупом убитого врага. Для него, как для Чингисхана, формула счастья совпадает со спинами убегающих врагов и заревом от их горящих жилищ. Мы от подобных зрелищ морщимся и отворачиваемся. Жаль только, очень многие доброту и сострадание называют признаками цивилизованности. Дескать, давайте вести себя как «цивилизованные» люди. Но это не от цивилизации. Вернее, не от любой цивилизации, а от той, что выросла из Страстной Пятницы, когда миллионы людей в тысячах храмов смотрят на Распятого Страдальца и слышат Его молитву: Отче! прости им, не ведают бо, что творят (Лк. 23, 34).
Чтобы каждая девушка, к примеру, была благодарна Христу и чтобы если не исчезли, то хотя бы поутихли разговоры о «закабаленной» христианством женщине, стоит лишний раз прочесть историю Лота. Точнее, то, как он спасся из Содома. За Лотом были посланы Ангелы. Местные развратники захотели «познать» этих новичков, а Лот вступился за них. Спрятав незнакомцев у себя в доме, вот что Лот говорит содомлянам: Вот у меня две дочери, которые не познали мужа; лучше я выведу их к вам, делайте с ними, что вам угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего (Быт. 19, 8). Далее было бегство в Сигор, уничтожение Содома и Гоморры, превращение Лотовой жены в соляной столп. Но нам должны быть интересны и одновременно страшны слова Авраамова племянника. Дочери ему менее важны, чем гости. В этом эпизоде – весь древний человек. У него другая шкала ценностей, другие ориентиры, и я сомневаюсь, что нам эти ценности безоговорочно нравятся.
Если Библия жестока, то жестока с первых страниц, точнее, с первых шагов по земле человека, изгнанного из Рая. Вспомним первое убийство и одновременно братоубийство. Преступление совершается на почве зависти, причем зависти духовной. Ссора вспыхивает из-за вопроса о том, чьи жертвы Богу угоднее. Еще Господь никого не карает, никому не угрожает, а люди сами проливают кровь. Их совсем мало, но им уже тесно на земле. Обвиним в этом Бога? Нет. Обвиним землю нашего сердца, которая стала обильно плодить колючий сорняк различных страстей.
Бог же поступает на удивление милостиво. Он не казнит смертью Каина и потом, когда каиниты научились делать оружие из металлов, завели у себя многоженство, одним словом, освоились на земле изгнания и о небе забыли. Господь терпит их, терпит вплоть до самого Потопа.
Бог, через Евангелие познанный нами как Любовь, не изменяется. Он не «стал» Любовью в Новом Завете. Он был Любовью всегда. Но это любовь зрячая, требовательная к человеку и не сентиментальная. Ради пользы любимого любовь может наказывать. Толерантным и нетребовательным часто бывает безразличие. Этого о Господе по отношению к нам сказать нельзя.
Священное Писание можно условно разделить на законодательные, учительные, исторические и пророческие книги. Какие из этих книг могут показаться особенно жестокими?
Книги законодательные и учительные не столько жестоки, сколько строги. Синайский закон провозглашает «не убий». Но он же перечисляет определенные случаи необходимого применения смертной казни. Так, например, возмездию через убийство должны быть подвержены богохульники, чародеи, мужеложники, скотоложники, люди, грешащие против родителей. Одни грехи представляют нравственную заразу для общества и должны караться смертью ради общего блага так, как прижигаются огнем опасные язвы. Другие грехи выводят человека за рамки человеческого достоинства, делают его худшим бессловесного скота. Опустившись ниже человеческого естества, такой человек не вправе требовать к себе гуманного (т. е. человеческого) отношения.
Нужно задуматься: чего здесь больше – жестокости или человеколюбия? Хирургия – довольно кровавая отрасль медицины, но преследует цель спасения человека, а не издевательства над ним.
Господь не любит страданий и не наслаждается зрелищем казней. Давая повеление жестоко карать неестественный блуд или волшебство, Он преследует высшие цели. Он воспитывает Свой народ так, как отец воспитывает своего сына. Его милость не простирается до безнаказанности, и именно так Соломон учит воспитывать нам своих сыновей. Можно не сомневаться: без суровых мер и длительной педагогики Израиль не был бы способен произвести на свет Чистейшую и Непорочную Деву.
Наиболее изобилуют сценами насилия и жестокости книги исторические. Это – сама правда, рассмотренная в упор и оттого беспощадная. Вообще-то человечеству, пережившему XX век, не стоит слишком пафосно рассуждать о проблемах жестокости и милосердия. Минувшее столетие показало если не последнюю глубину человеческого растления, то все же беспримерное извращение ума и сердца. Механистически мыслящий, рациональный, эгоистичный человек поставил вопрос убийства на конвейер. Человек для издевательства над человеком же придумал теории и наплел кружева казуистики. А теперь, когда печи крематориев погасли, но еще не успели остыть, мы склонны делать вид, что «это не повторится», и предъявлять Богу упреки в жестокости.
Библия написана о нас. На примере одних людей она говорит обо всех людях, и к этому свидетельству нужно прислушаться. Люди, оказывается, способны есть во время голода собственных детей. Способны в погоне за властью идти на убийство отца и братьев. Достигнув власти, люди способны становиться ненасытными, подобно аду, и отбирать последний клочок поля, последнюю овечку у бедняка. Об этом говорят книги Царств и Паралипоменон, истории Авессалома, Иезавели и многих других. Точные копии подобных злодеяний хранятся в летописях любой древней цивилизации. Информационные сводки свежих газет – тоже об этом. Все это – симптоматика нашей общей болезни, спасти от которой людей пришел Христос. Все, что нам надо, – это поменять угол зрения или точку обзора, с которой мы смотрим на Писание. На него нельзя смотреть снаружи или сверху вниз. При помощи Писания нужно смотреть внутрь себя. И тогда становится понятным: внутренний распад личности под действием греха высвобождает энергию, сопоставимую с неуправляемой ядерной реакцией. Из царя над миром человек превращается в отвратительную язву на теле мира, он саморазрушается и уничтожает все вокруг себя. Библия лишь описывает процесс распада и его последствия, и упрекать ее за это неразумно.
Новый Завет отличается от Ветхого настолько же, насколько залитый солнцем полдень отличается от ночи с ее бледным лунным светом. Но одна Новозаветная книга все же выглядит суровее многих Ветхозаветных. Это – Апокалипсис Иоанна Богослова. Древние пророки, такие как Исаия, в грядущем видели мечи, перекованные на серпы; льва, покоящегося рядом с ягненком, и мир людей, полный Богопознания, как океан полон водой. «Отбеже болезнь, печаль и воздыхание», – эти пророческие слова мы произносим часто и связываем их с Царством Христа. А вот Апостол Любви, на контрасте со всем остальным, что написано его рукой, своим Откровением может внушить нам ужас. Судьбы мира, открытые ему и запечатленные в самой таинственной библейской книге, местами кошмарны. И все потому, что Библия – книга правды и писали Божии люди не то, что хотели, а то, что открывал Господь.
И Господь открыл, что развращение людей будет велико и невообразимо. Открыл, что из недр человечества, как самый горький плод общих грехов и беззаконий, родится антихрист – вместилище всякой скверны и человек греха. Это будет закономерный итог всечеловеческой греховной жизни. Как Богородица явилась лучшим цветком всечеловеческого древа, так антихрист станет плодом и итогом безбожной жизни многих, очень многих. Та часть человечества, которую он возглавит, потеряет не только вечную жизнь, но и право на нормальную жизнь земную. Земля откажется кормить такого человека. Небо не захочет смотреть на него. Конечные судьбы мира, решившегося жить без Бога, будут ужасны. И не Бог тому виной.
Беда в том, что человек, ставший на скользкие пути, как правило, уже с них не сходит. Оттого Господь и сказал о строителях Вавилонской башни: Не отстанут они от того, что задумали делать (Быт. 11, 6). Если кому-то хочется обвинить Создателя в жестокости, то вся жестокость Его в том, что Он вмешивается в историю и разрушает Вавилонские башни.
ТИШИНА
В те годы, когда солнце светило ярче, а краски жизни, даже среди слякотной весны или промозглой осени, казались сочнее, чем сейчас, короче – в детстве, во всех газетах и журналах то и дело печатали рубрики с названием «Их нравы». В одной из таких рубрик, я помню это отчетливо, однажды была напечатана статья о том, что на загазованных улицах Токио продают кислород. Люди подходят к автоматам и, так же как мы, привычно бросая монету, получают право не на стакан газировки, а на глоток чистого воздуха. Далее говорилось о том, что Мехико, Нью-Йорк, Токио и ряд других городов задыхаются в выхлопных газах и фабричном дыму. О том, что люди на Западе теперь покупают то, чем раньше все пользовались бесплатно и неограниченно.
Много воды утекло с тех пор. «Их» нравы стали «нашими». Мы тоже задыхаемся, хотя свежий воздух еще не покупаем.
Та заметка вспомнилась мне, поскольку в ней отчетливо видна тенденция нашей жизни – дефицит обычного, нехватка того, без чего жизнь становится невозможной.
Без дружбы, любви, общения невозможно прожить. Если мы научились обходиться без этого, то это уже не жизнь, а существование. Миллионы людей засохли без любви, сотни тысяч не знают обычной и настоящей дружбы, тысячи полезли в петлю или шагнули с балкона потому, что не с кем было поделиться – не было общения.
Общение – это лишь пример. Не оно меня сейчас интересует. Интересуют тишина и одиночество.
То, как растет из зерна колос, хорошо представляют, но плохо понимают даже титулованные биологи. Личность же растет в тишине и одиночестве. А у нас нет ни тишины, ни одиночества. Только шум и суета, только толкотня и трескотня.
* * *
Шумные праздники – обратная сторона отчаяния. Попытка втереться в толпу веселящихся людей – худший вид побега от себя самого. Худший, потому что безуспешный. Сам себя все равно догонишь. На больничной ли койке, у разбитого ли корыта – все равно.
* * *
Негде и некогда вырастать личности. Шаблон, стандарт, размен на удовольствия. Неудивительно, что вера Христова переживает не лучшие времена. Иудеи и мусульмане верят все вместе, общиной, народом. Христиане исповедуют веру Соборной Церкви, но врастают в нее по отдельности. Церковь как община существует из не растворимых ни в чем, неповторимых личностей. Евангелие обращено к сокровенным глубинам каждого отдельного человека. От того, насколько вспахана земля сердца, сколько на ней сорняка, зависит прорастание Семени.
* * *
Наши былинные пахари в детских книжках изображаются рассыпающими зерно широким и щедрым жестом. Так же щедро мы поливаем наши газоны и огороды. А на Востоке, где воды мало, ее не льют по площадям. Шланги протягиваются вдоль кустов или деревьев.
Вода не льется, но скупо и точно капает на корень растения. Это – личностный подход. Бог аккуратно поит нас живой водой и интересуется каждым в отдельности. А мы не интересуемся толком ни Богом, ни собой. Потому что себя не знаем, а о Боге не помним. Оглохли от суеты сильнее, чем от бомбежки.
* * *
Хочется говорить о тишине и творческом одиночестве, о тех комнатах, где можно купить полчаса спокойствия для важных мыслей. Пофантазируем.
Представьте, вы встречаете на улице бутик, над дверями которого написано: «Полчаса тишины. Время, рождающее вечность». Текст может варьироваться. Вы покупаете билет, заходите и начинаете думать впервые о том, о чем до сих пор думать не получалось.
Конечно, абсолютной тишины нет. Всегда есть тиканье часов, шум машин за окном. Наконец, есть стук сердца внутри грудной клетки. Но даже относительная тишина будит в человеке спящие мысли. Из страха перед ними человек всегда боялся и будет бояться тишины. Но мы вошли. Мы не из пугливых. Кого мы встретим?
* * *
Сначала нахлынут ближайшие впечатления, лица, словесный шум и прочее. Они будут таять так, как тает пена в ванне. Это нужно просто переждать. Затем, до окончания получаса, может больше ничего не произойти. Так, что-то вспомнится, о чем-то подумается. Залежи хлама внутри слишком велики, чтобы созерцать лазурь с первой попытки. Но даже если после такого первого, относительно бесплодного опыта молчания человеку случится оказаться на футбольном матче, он будет поражен, а может, и сражен контрастом. Еще ничего особенного в душе не шевельнулось, но уже многоликая толпа, объединенная чувством бессмысленного и безумного единства, начнет пугать.
Митинги и демонстрации собирали бы куда меньше людей, если бы этим людям приказали полчаса посидеть и помолчать перед мероприятием.
* * *
Сторониться возбужденной толпы так же естественно, как и не подходить к извергающемуся вулкану. Заслуг или повода для высокомерия здесь нет ни на грамм. Гораздо важнее продолжить путешествие в страну относительной тишины и временного одиночества. Не исключено, что к вам со временем могут прийти те, кто похож на вас, или те, кого вы когда-то обидели. Все происшедшее в нашей жизни для совести произошло «сегодня». Как только повседневные впечатления потеряют яркость, совесть поспешит нам напомнить о многом. Обманутые люди, неисполненные обещания, тяжелые камни больших ошибок и мелкий песок суеты, наполнивший не один мешок, – все это поплывет к нам навстречу медленно, но необратимо, как баржа, влекомая бурлаками.
* * *
Человек, неподвижно сидящий в одиночестве, временами глубоко вздыхает. Короткие святые слова вроде «мама» или «Господи, помилуй» по временам шевелятся на его устах. Но не только вера рождается в тишине. Самые ядовитые мысли стремятся проникнуть в ум там же. Самый странный холод заползает через уши и стремится к сердцу там же.
А что вы хотели? Чтобы вера была наивна и ничем не испытана? Нет. До победной и не сомневающейся «осанны» нужно дойти сквозь самые разные препятствия. Наиболее опасные спят внутри и просыпаются в одиночестве.
* * *
Отчего так тревожно и тяжело умирают люди? Не засыпают тихо, не посылают прощальных улыбок и благословений. Не говорят «до встречи» и не смотрят вдаль с радостной надеждой. Вернее, все это есть, но составляет, скорее, редкое исключение, чем всеобщее правило. Откуда эти хрипы и агонии, метания на постели и трепыхания, как у птицы, пойманной хищником?
Может, отсюда, от нежелания заняться главным? Все как-то думалось, что успеется. Жил по соседству с волшебной комнатой, но так ни разу и не зашел. Не успел. Забыл. Не вышло.
Думал, пишу в черновике, а они взяли и забрали тетрадку. Оказалось, это была директорская контрольная. Теперь хоть сгори со стыда.
* * *
После подобных мыслей не хочется разворачивать газету или включать телевизор. А если его включат другие, то смотришь в него бесстрастно и бессмысленно, как рыба, подплывшая к иллюминатору субмарины. Правда, так продолжается недолго.
Часть III. КРЕСТ, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ БРОСИТЬ
МОЛИТЬСЯ БОГУ И БУДИТЬ ЛЮДЕЙ
Жизнь коротка, и опыт человека ограничен. Долг совести велит записывать виденное и слышанное, если оно способно со временем принести кому-то пользу. Вот вам рассказ-притча от одного из ныне здравствующих почтенных архиереев, достойного именоваться отцом многих.
«Один батюшка хотел сменить приход. Люди были к храму нерадивы, и жить было нечем. "Не мрут, не родятся", – говорил огорченный священник, имея в виду отсутствие треб. И сколь циничной ни покажется эта фраза иному читателю, цинизма в ней не больше, чем в медицинском или юридическом отчете. С просьбой о переводе священник и приехал к своему преосвященному. А тот неожиданно дал совет.
– Сколько, – говорит, – у тебя улиц в селе?
Священник отвечает:
– Три.
– Поступай так. Часов в 12 ночи становись на молитву и вставай с нее не раньше, чем через два – два с половиной часа. Читай Псалтирь, Евангелие, акафисты – что хочешь. Можешь и поклоны класть. Но изволь два с лишним часа помолиться. Потом выходи на улицу, вооружившись очень длинной, как удочка, палкой. Село к этому времени уснет, и все огни погаснут. Стучи палкой в ближайшее окно и беги, чтоб тебя не видели. Собаки залают, окно зажжется, люди выйдут на крыльцо, а ты уже должен быть далеко. Потом стучи в другие окна и сразу убегай. Делай так, пока за несколько ночей все село не обойдешь.
Священник принял совет и, хотя недоуменно пожал плечами, обещал слово исполнить. Он молился и обходил село, стуча по ночам палкой в темные окна. Потом приехал к владыке на отчет. Епископ велел еще раз село обойти, предварительно крепко помолившись. Священник и в этот раз покорился абсурдному благословению. Вскоре о нем призабыли. А через месяцев семь-восемь он появился в епархии снова.
– Не переводите, – говорит, – владыко, меня никуда.
– Что так?
– Почти в каждом дворе хозяйки с животиками. Через пару месяцев у меня в селе крестин столько будет, сколько я в жизни не крестил!
– Вот видишь, – говорит преосвященный, – как важно человека вовремя разбудить».
* * *
Когда я и другие рядом со мной слушали этот рассказ, то, дослушав до слова «разбудить», громко рассмеялись, полагая, что история подошла к концу. Но нет. У истории оказалось продолжение, назидательный вывод, ради которого вся история и была изложена. Преосвященный произнес последнюю фразу: «Твоя задача, батюшка, молиться Богу и будить людей!»
Разумеется, не для того только будить, чтобы через девять лунных месяцев в семействе был приплод, а в приходе – очередная треба. Людей нужно будить в духе слов апостола Павла: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос!» (Еф. 5, 14). От тяжкого сна греховного нужно пробуждать великое множество крещеных людей. И приступать к этому нелегкому делу нужно только после усиленных и продолжительных молитв. Это очень близко по духу к служению пророческому и к словам Божиим, сказанным через Иезекииля. Священники, пробуждающие народ, похожи на сторожа, который будит людей звуком трубы, видя приближающегося врага или стихийное бедствие. «Если… страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, – то… [кровь погибших] взыщу от руки стража. И тебя, сын человеческий, Я поставил стражем дому Израилеву… Если же ты остерегал беззаконника от пути его… но он от пути своего не обратился, – то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою» (Иез. 33: 6–9).
* * *
Молиться Боту и будить людей. Можно и наоборот: будить людей и молиться Богу. Но, без сомнения, для того и другого нужно прежде самому проснуться.
РЕЗИНОВЫЙ МЯЧ
Резиновый мяч, с усилием погруженный в воду, тотчас выскочит из воды, как только мы отпустим руки. Точно так же мысль о смерти выскакивает из сердца, как только перестаешь ее туда с усилием погружать. Мысль о смерти чужда человеку, и в этом есть тайна. Для того чтобы понять, что ты обязан уйти из мира, как и все остальные, нужно столько же усилий ума, сколько тратит человек, начиная партию с «е2 – е4». Но в том-то и фокус, что логические операции – это не жизнь. Это – обслуживание жизни. Сама жизнь нелогична, вернее – сверхлогична. Страшно сказать, но мне иногда и дела нет до того, что одни уже умерли, а другие умрут. Чувство вечности, чувство личного бессмертия живет в моей груди, как цыпленок под скорлупой, и с каждым ударом сердца просится наружу. А что же смертный страх? Он есть? Да, есть. Но это страх Суда, это боязнь уйти на Суд неготовым. Это предчувствие того ужаса, который охватит грешника, когда надо будет поднять лицо и глаза в глаза посмотреть на Иисуса Христа. Для человека, который не любил Христа и всю жизнь умудрился прожить без Него, других мук не надо. Надеюсь, для любящего все будет иначе. Трогательны слова Акафиста:
Иисусе, надежде в смерти моей;
Иисусе, животе по смерти моей.
Иисусе, утешение мое на Суде Твоем;
Иисусе, желание мое, не посрами мене тогда…
Так, посреди шума костей, сустав к суставу соединяющихся друг с другом, посреди страха от разгибающихся книг и ожидания приговора, человек, любящий Христа, будет смотреть на Него с любовью. «Что бы Ты ни сказал мне, – подумает такой человек, – куда бы Ты ни отослал меня, Ты – утешение мое на Суде Твоем».
* * *
Миллионы людей молились и молятся Боту, и всех их слышит Господь. Не только слышит, но и понимает. И понимает не потому, что Он – полиглот, не потому, что знает все человеческие языки со всеми их наречиями и произношением. Не потому. А потому, что слышит Бог человека еще до того момента, как раскроются молящиеся уста. Зародыша в женской утробе видит Бог с первых секунд зачатия, и зарождающуюся молитву видит Бог в глубине человеческого сердца еще до того, как она станет звуком. Язык сердца нашего знает Бог. В этом языке нет подлежащих и сказуемых, причастий и наречий, запятых и кавычек. Но в нем есть то, чем живет человек: вера, тревога, радость, страх, сострадание. Все это видит и понимает Бог.
А если звуки, слетающие с уст человека, не соответствуют тому, что живет в его сердце, то это вовсе не считается молитвой. Как на рыбу, бессмысленно и беззвучно открывающую рот, смотрит Бог на такого человека, и жалко Ему, что это не вполне человек.
* * *
«Я не нашел себя в списке». Есть ситуации, когда ничего страшнее этих нескольких слов не придумаешь. Это знают провалившиеся абитуриенты. Они мучились с репетиторами, не спали по ночам, заходили в аудитории с потными от страха руками. Теперь экзамены позади, и уже вывесили списки тех, кто зачислен. Родители и дети, вытягивая шеи и приподнимаясь на цыпочках, пробегают глазами по столбцам с фамилиями. «Нет! Нет меня! Не поступил!» Слезы сами брызжут из глаз. Обида сжимает горло. Огорченные родители обнимают плачущих детей и плачут с ними вместе. Деньги потрачены даром, и год потерян. Но сильнее всего обида за то, что не признали, не поняли, не заметили.
Есть ситуации несравнимо более болезненные. Они тоже связаны с именами и фамилиями в списке. Это, к примеру, списки выживших в авиакатастрофе. Лучше упасть замертво от удара молнии, направленной именно в тебя, тебя одного, чем не найти в таком списке родное имя и фамилию.
«Вас нет здесь. Вы не прописаны» – это значит, что вы – бомж. Ваше имя расплылось от воды, или стерлось на сгибе, или было неправильно записано в документе – все это означает, что у вас начались большие и непредвиденные неприятности, а может даже жизненная катастрофа.
Не надо пренебрегать «бумажкой». Она мистична, и не зря от нее так часто зависит жизнь. Наступит день, когда все тайное станет явным. Об этом дне сказано: Судьи сели, и раскрылись книги (Дан. 7, 10). Речь пойдет о месте вечного жительства человека. Всякому захочется войти в ворота Небесного Иерусалима. Но, хотя Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет (Откр. 21, 25), войти в них сможет не каждый. Писание говорит, что не смогут войти те, кто предан мерзости и лжи (Откр. 21, 27). И здесь, на земле, открытие книг и поиск имен – это постоянное напоминание о будущем, которое заранее увидел Иоанн. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими (Откр. 20,12).
* * *
От любви ко Христу зависит все, зависит и временная жизнь, и вечная. Грешишь ты, брат, не переставая, потому что Христа не любишь.
Грех любишь, себя любишь, футбол любишь. Расплескал силы сердца по тысячам мелких любовей, а единое на потребу (Лк. 10, 42) не любишь. Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих (Ин. 14, 24). Напротив, кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое (Ин. 14, 23). Не от силы воли и не от привычки к благочестию зависит жизнь по заповедям, а от любви к Господу Иисусу. С этой мыслью слушай, что Господь трижды спрашивает у Петра: Симоне Ионин! любиши ли Мя? (Ин. 21,16).
Только с этой мыслью можно, не опасаясь соблазниться, читать Песнь песней Соломона. Если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? что я изнемогаю от любви (Песн. 5, 8).
Как по-разному умирают люди! Серафим Саровский – на коленях перед образом, в молитве. Достоевский – под тихий голос жены, у его кровати читающей Евангелие. А вот другие примеры. Арий – присев для исправления надобности, в общественном туалете. Дидро – подавившись косточкой персика и гадко ругаясь. Пушкин шептал: «В горняя, в горняя». Суворов сказал в забытьи: «Покой души – у Престола Всевышнего». Чехов попросил шампанского.
У египетских отцов был совет: услышав о том, что кто-то готовится умереть, идти туда и находиться при умирающем. Нужно помочь человеку молитвой и нужно ловить последние слова уходящего брата. Умирающий не лжет и не лицемерит. В одну фразу он вмещает весь опыт прожитой жизни. И души тех, кто находится рядом, напитываются страхом и величием происходящего.
* * *
В биографической литературе мне интересны последние страницы, описание смерти. Внезапно умер или после «долгой и продолжительной болезни». В кругу родных или в одиночестве. Успел причаститься перед смертью или об этом даже речи быть не могло. Все это – самое важное и для нас, и для покойного. Как писал Бродский – «Точка всегда очевидней в конце прямой».
* * *
Мне известно, по крайней мере, два характерных случая. И там и там речь идет о здоровых мужиках, которым, по народному мнению, «еще жить и жить». Каждый из них в свое время пришел домой раньше обычного и первым делом налил себе граммов сто пятьдесят водки. Выпил залпом и затем потребовал от жены исполнения «супружеских обязанностей». Жены удивлялись и отнекивались, ссылаясь на то, что, дескать, еще светло, рано и прочее. Но мужья в обоих случаях были настойчивы и мотивировали требование тем, что это «в последний раз». Оба они в ближайшие часы после этих нехитрых и одинаковых удовольствий отдали Богу душу.
Эти истории произошли в разное время, в разных городах и с совершенно непохожими людьми. В обоих случаях они как будто поставили точку в своей жизни, последний раз совершив самые дорогие для себя действия. Оба почувствовали смерть как-то по-звериному, хотя ни они сами, ни их родные, ни врачи еще за день ни о чем подобном не помышляли.
Думаешь об этом и понимаешь, что нет никого мудрее и человеколюбивее, чем наша Церковь, заставляющая нас ежедневно молиться. «Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны, и добраго ответа на Страшнем Судище Христове просим».
И еще вспоминаются Павловы слова о некоторых: Их конец – погибель, их бог – чрево, и слава их – в сраме, они мыслят о земном (Флп. 3, 19).
* * *
Как жалко, что мои учителя биологии не сумели поселить в моей душе любви к природе. И учитель астрономии не научил меня с любовью смотреть на звездное небо. Как жаль. Они не сделали этого потому, что не ставили себе таких целей. Они цедили сквозь зубы научными терминами и писали мелом на доске всякую никому не нужную чушь. А ведь я с совсем особым чувством читал бы теперь главы «Бытия» о творении, и 103-й псалом, и последние главы Книги Иова. Все то в Писании, к чему живая природа является живой и доступной иллюстрацией. Окуджава с его песней «Виноградную косточку в теплую землю зарою» – гораздо лучший учитель, чем многие дипломированные педагоги.
* * *
Когда мы измучиваемся от лжи и бессмыслицы, мы спрашиваем Тебя, Боже: «Разве так должен жить человек?» И когда Ты видишь нашу усталость и недоумение, Ты говоришь нам о Небе, о будущем Небесном Царстве, где высохнут слезы, отбежит печаль и воздыхание.
А когда мы поднимаем глаза наши вверх, когда хотим получше узнать об этом будущем Царстве, Ты заставляешь нас опустить глаза на землю и показываешь нам зерно, и рыбу, и виноград. «Царство Небесное, – говоришь Ты, – подобно зерну горчичному, посаженному винограду, пойманной рыбе» (см.: Мк. 4, 31; Мф. 20, 1; Мф. 13, 47)… Так мы и проводим жизнь, то задирая голову, то опуская ее, то утешаясь мыслями о Небе, то рассматривая земное, чтобы лучше понять Небесное.
Пришел однажды человек на прием к кардиологу, а тот не нашел у него сердца. И трубочкой слушал, и на ультразвук водил – нет, и все! «Где ваше сердце?» – спрашивает доктор. «Там, где мое Сокровище», – улыбаясь, отвечает пациент. «Что-что?» – переспрашивает доктор. А пациент открывает Евангелие и показывает страничку, где написано: Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше (Мф. 6, 21).
«Мое Сокровище, доктор, из мертвых воскресло и одесную Отца на небесах сидит. Там мое сердце». Сказал, надел пиджак и вышел из кабинета.
ВСЕ ДЕЛО В ЛЮБВИ
С таким понятием, как «старец», у нас стойко ассоциируется представление о монахе-подвижнике почтенных лет. Проведя многие годы в усердных и внимательных трудах, такой подвижник может получить от Бога особые дары – знание человеческого сердца, способность направлять людей на прямые жизненные пути. Такие люди любимы православным народом, их ищут, к ним едут и идут, преодолевая любые расстояния. Таких подвижников не ищут в миру. Хотя, говоря по совести и следуя Писанию, можно и в миру найти тех, кто является неукоризненным и чистым, чадом Божиим непорочным среди строптивого и развращенного рода (Флп. 2,15).
Таким был отец Иоанн Кронштадтский. Но еще более этому слову соответствует житие Алексия Московского (Мечёва).
Отец Иоанн не имел детей, не был связан необходимостью прокормления и воспитания. Он служил, служил и паки – служил. Проповедовал, проповедовал и паки – проповедовал. С момента прихода к нему всероссийской известности он путешествовал по всей стране, всюду принося дух апостольской ревности и апостольского чудотворства.
В отличие от него, отец Алексий никуда не путешествовал. Он сидел на месте, и храм, в котором он служил, был одним из самых маленьких и невзрачных во всей Москве. Он был семейный человек, и, когда отдавал последнее нищим, сердце его не раз сжималось болью о своей семье.
«Чужим помогаю, а о своих не пекусь», – мучительно думалось ему в эти минуты. Как и кронштадтский пастырь, отец Алексий искал силы и вдохновения в молитве, наипаче – в Литургии. Каждый день год за годом в его маленьком храме звонили к Литургии. «Опять звонишь? – спрашивали соседи-настоятели. – Зря звонишь».
Но годы прошли, долгие годы почти одинокого подвижничества, замешанного на нищете и борьбе с тяжелыми мыслями, и в храм потянулись люди.
Живя в миру, отец Алексий был очень близок по духу подлинному монашеству. Ведь монашество – это не только и не столько безбрачие и черные одежды. Это самопожертвование и любовь, это частая молитва о людях, со временем превращающаяся в молитву всегдашнюю. Живя так, Алексий Московский был един в духе с лучшими представителями предреволюционного духовенства. Старцы Оптинские считали его своим. Серафим Саровский, к тому времени уже вошедший в небесный покой, наблюдал за его деятельностью и посылал к нему за помощью людей.
Одна женщина, доведенная до отчаяния житейскими трудностями, решила свести счеты с жизнью, для чего пошла в лес, прихватив веревку. В лесу она увидела сидящего на пеньке благообразного старичка, сказавшего ей: «Это ты нехорошо задумала. Иди-ка в такой-то храм к отцу Алексию. Он тебе поможет». Удивленная женщина побежала в указанный храм, и первым, что она увидела – была икона старичка, спасшего ее от самоубийства. Это был святой Серафим. А храм этот – Никольский храм на Маросейке, где настоятелем был отец Алексий Мечев.
Такой случай был не единственным. Но дело не только и не столько в чудесах. Дело в любви, без которой засыхают души человеческие; которую многие жадно ищут; которая является отличительным признаком для безошибочного узнавания учеников Христовых.
Никаких миссионерских путешествий, никаких написанных книг. Ничего внешне великого или грандиозного. И вместе с тем подлинная святость, подлинное сердцеведение, при котором батюшка, раскрыв ладошку, мог сказать духовным детям: «Все вы у меня вот где».
Он переживал о них, думал о них, склонив колени, усердно молился о них суетными днями и долгими ночами. Он действительно любил всех попавших в орбиту его молитвы, и они все были у него словно на ладошке со всеми своими страхами, трудностями, проблемами.
Таких людей не бывает много. Захоти любой среднестатистический батюшка унаследовать подобный образ жизни, а вслед за ним – благодатные дарования отца Алексия, порыв его утихнет и «бензин закончится» очень быстро. Далее может начаться «стук в моторе» и капитальный ремонт. Тайна подлинной святости сродни тайне истинной гениальности. Никогда не знаешь, почему дано тому, а не этому; почему у одного хватило верности, твердости, мужества, а у сотен других не хватило. Но запах святости должен быть доступен всякому духовному обонянию. И запах этот подсказывает нам то, что мы встречаемся с повторением того опыта, который был у Павла. А именно: И уже не я живу, но живет во мне Христос (Гал. 2, 20).
Живет Христос в отце Алексии, в отце Иоанне, в отце Серафиме.
Живут во Христе отец Алексий, отец Иоанн, отец Серафим.
Мы знаем об этом. И тепло, приносимое в души наши мыслями о святых, свидетельствует духу нашему о том, что, хотя мы и далеки от всегдашнего подражания друзьям Божиим, все же совсем чужими мы ни им, ни Христу не являемся. Но сама теплота эта свидетельствует о том, что и работы много, и двигаться есть куда, и помощники, ранее нас прошедшие путь до конца, готовы прийти на помощь.
Ведь действительно, если в дни земной жизни никто от них не ушел без утешения, то неужели сегодня, войдя в славу и умножив дерзновение, они откажут нам в помощи?
Не откажут. Правда, батюшка Алексий?
ЧЕСТЕРТОН, ЛЬЮИС, МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ
Кем-то было удачно подмечено, что в XX веке среди всех проповедников Евангелия в Великобритании (а их там в это время было немало) лишь голоса трех людей были расслышаны и глубоко приняты. Эти проповедники – Гилберт Честертон, Клайв Льюис и митрополит Антоний (Блюм). Стоит присмотреться к этим трем «последним из могикан», поскольку именно в трудах, подобных тем, что понесли они, нуждается любое общество, сохраняющее свою связь с Христом и Церковью.
Честертон и Льюис – миряне. Они не занимают никакого места в иерархии, не связаны корпоративной этикой, на них не лежит печать школьного, специального образования. Поэтому они специфически свободны. Там, где епископ и священник трижды оглянутся на мнение вышестоящих, на возможный общественный резонанс и прочее, эти двое говорят, что думают, подкупая слушателей простотой и смелой искренностью. Они говорят не в силу необходимости, не в силу обязательств, наложенных саном и положением в обществе, а в силу одной лишь веры и сердечной обеспокоенности. Невольно вспоминается наш отечественный «рыцарь веры», как называли его с уважением даже враги, а именно – Алексей Хомяков. Он боролся за Церковь не потому, что окончил академию, а потому, что жил в Церкви и Церковью.
В области учения о Церкви никто из иерархов не был так свеж, как этот мирянин.
Впрочем, Хомяков, хотя и поэт, но в богословии был именно богословом, а отнюдь не богословствующим сочинителем. Он писал не статьи или очерки, а большие серьезные труды. Честертон же и Льюис богословами были вряд ли. Каждый из них начинал как поэт. Но известность они приобрели: один – как журналист, эссеист и критик; второй – как писатель и истолкователь христианских основ, некий катехизатор с академическими знаниями.
В отличие от них обоих митрополит Антоний не писатель и не профессор, не журналист и не полемист. Он – свидетель. Его слова – это всегда свидетельство о том, что, казалось бы, известно с детства. Но владыка митрополит умеет всегда дать известному ту глубину, на которую редко кто нырял. Прочувствованно, с большой силой достоверности, проистекающей из личного опыта и глубокой убежденности в правде произносимых слов, он всякий раз открывает слушателю Евангелие заново. Слово Божие в его устах никогда не сухо и никогда не скучно. Он не размахивает цитатами, словно дубиной, устрашая несогласных. Но он возливает слово, как елей; он врачует души от язв неверия, суетности, безответственности.
Все трое не родились христианами, но стали ими. Каждый из них способен на честный рассказ о своих сомнениях, о поиске Бога и обретении Его. Эта подкупающая честность способна прикоснуться к самой сердцевине современного человека, который боится традиции, для которого христианство «слишком отягчено» грузом минувших эпох. Изнутри традиции, не отвергая ее вовсе, скорее – утверждая, трое благовестников воскрешают чувство евангельской свежести. В их устах Новый Завет поистине Новый, а Евангелие – благая весть, и лучше не скажешь.
Любопытно, что, в отличие от Честертона и Льюиса, митрополит Антоний ничего не писал. Он действовал по-сократовски: спрашивая, отвечая, замолкая по временам и размышляя вслух перед лицом Бога и собеседников. Это потом его речи превращались в книги благодаря усилиям друзей и почитателей. Благо, он жил в эпоху средств аудиозаписи, и усилия скорописцев не требовались. Кстати, об эпохе. Технический прогресс, увеличение народонаселения, распавшаяся связь времен и общее смятение… Кто не ругал новейшую историю и духовную дикость современного людского муравейника?! «Железный век, железные сердца». Но эта эпоха все же позволяет тиражировать речи мудрых с помощью технических средств и доносить эти речи до тысяч и миллионов слушателей.
По-хорошему нужно, чтобы в каждом городе был свой митрополит Антоний, в каждом университете – свой Льюис и в каждой газете – свой Честертон. Но это – по-хорошему. А если по-плохому? А по-плохому люди такие являются редкостью, и была бы для многих непоправимой утратой та ситуация, при которой их слышало бы только ближайшее окружение. В средние века при неграмотности большинства паствы, при дороговизне книг и отсутствии массовых коммуникаций все зависело от возможности послушать мудрого человека вживую. Сегодня, удаленные друг от друга временем и расстояниями, мы можем назидаться благодатным словом при помощи книг и различных аудио– и видеозаписей. Все трое это понимали. Все трое в разное время и с разной интенсивностью выступали по радио с беседами, лекциями и проповедями. То есть они вполне современны, чтобы быть понятыми сегодняшним человеком, и вполне устремлены в вечность, чтобы не угождать минутному вкусу, но защищать истину или возвещать ее.
Нам нужны эти трое, конечно же, с другими фамилиями. Нужны фехтовальщики, подобные Честертону, готовые извлечь из ножен отточенную шпагу неоспоримых аргументов и принудить к сдаче любого скептика или недобросовестного критика, хулящего то, чего не знает. Этот формат наиболее подходит для всех видов журналистики.
Нужны профессора, гораздо уютнее чувствующие себя в компании древних рукописей, нежели на автобусной остановке. Эти, зовя на помощь бесчисленный сонм живших ранее писателей и поэтов, способны представить взору людей, учившихся «чему-нибудь и как-нибудь», христианство как плодотворную силу, во всех эпохах зажигавшую сердца и дающую радость.
Нужны, наконец, епископы, способные говорить о Христе не сверху вниз, а лицом к лицу, не как учащие, а как независтно делящиеся истиной.
Эти трое нужны для общества, считающего себя образованным и умным; общества, даже несколько уставшего от своего всезнайства и, подобно Пилату, пожимая плечами, спрашивающего: «Что есть истина?» Для простых людей нужны простые проповедники. Но простота исчезает. На ее место приходит недоучившаяся спесь, всегда готовая спорить с Богом по причине недоученности. Приходит привычка произносить легкие слова о тяжелых темах и давать чужие, лично не выстраданные ответы на вечные вопросы. Бот им-то, людям, заразившимся метафизической несерьезностью, и полезно было бы за одним из жизненных поворотов повстречать кого-то из этих трех: Честертона, или Льюиса, или митрополита Антония. С другими фамилиями, конечно.
МЫСЛИ О ПОКАЯНИИ
Покаяние – это заповедь. Покайтесь и веруйте в Евангелие (Мк. 1, 15). Заповедь же дается на всю жизнь. Сказано: приимите, ядите, сие есть Тело Мое (1 Кор. 11, 24). Значит, не один раз надо причаститься, но причащаться всю жизнь: или доколе Господь отсюда призовет, или доколе Он придет (1 Кор. 11, 26). Нельзя сказать: «Я однажды выполнил заповедь». Заповедь должна исполняться постоянно. Поэтому нельзя сказать: «Я однажды покаялся. Больше каяться не в чем». Но нужно говорить: «Я обратился и покаянием вошел в Церковь. Продолжать же каяться буду всегда, ибо есть в чем».
* * *
К покаянию понуждает испорченная наша природа, и сам грех есть не столько нарушение данных правил, сколько гной, текущий из отравленного источника. Чтобы грех не мучил и не собирал с человека дань в виде «мертвых дел», нужно совершенно преобразиться. Поэтому Преображение – самый важный праздник после Пасхи и Рождества. Поэтому всякий может повторить вслед за Апостолом: не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. И еще: не я делаю то, но живущий во мне грех (Рим. 7,15 и 20).
* * *
Грехом и смертью поражена и заражена вся природа человеческая. Отдельный человек, будучи неповторимой личностью, есть также и носитель общей природы. Пока хотя бы один представитель человечества болен грехом, никто, будучи человеком, не может быть вполне от греха свободен. Грех – общий враг и общая беда. И не только люди, но и вся тварь совокупно стенает и мучится доныне (Рим. 8, 22).
Без Христа мы совершенно беспомощны в этой борьбе. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим (Рим. 7, 24–25).
Покаянные труды есть усвоение плодов Христовой победы.
* * *
Грехи различаются тяжестью и количеством, но не нам, грешникам, их измерять. Любые наши долги неоплатны. У одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят (Лк. 7, 41). Но платить обоим было нечем, и прощать нужно было обоих. Условно говоря, один торговал наркотиками, а другой обвешивал на базаре, торгуя черешней. Но ни тому, ни другому платить нечем. В милости нуждаются оба.
Покаяние – всечеловеческое занятие.
* * *
Входить ли в точное и подробное перечисление грехов? Классифицировать или анализировать их? Этот вопрос тревожит не одну христианскую совесть. Истинное покаяние чувствительно к тончайшим действиям греха, но чуждо мелочности. Вытирая пыль, мы не считаем пылинки. Математическая точность в перечислении грехов не равна покаянию. Покаяние – это, скорее, слезы без слов, чем много слов без слез. Блудница, омывшая ноги Христа слезами и вытершая волосами головы, услышала: «Прощаются тебе грехи твои», – хотя подробного исповедания она не принесла.
* * *
У воцерковленного человека есть соблазн заменить борьбу с собой, искоренение гордыни и самолюбия на своеобразное «отцеживание комаров». Оставаясь тяжелым и вздорным, или ленивым, или склочным человеком, христианин, оставив первую любовь свою (Откр. 2, 4), т. е. первую радость о Господе и первые слезы, заменяет христианскую жизнь на псевдохристианскую мелочность. Жить с ним рядом легче не становится, но сам себя он может мнить подвижником.
* * *
Бог знает о нас все. Если мы не до конца облысели, то, причесываясь, снимаем с расчески некую часть вырванных волос. Мы не считаем их и почли бы за глупость заниматься таким подсчетом. Но Бог посчитал то, что мы не посчитали, ибо у Него власы главы нашей изочтены (Мф. 10, 30). То же касается и грехов. Вряд ли нужно знать о себе все, что знает о нас Бог. Это невместимо и непереносимо. Мы идем на покаяние, движимые внутренней болью. Идем к Тому, Кто больше сердца нашего и знает все (1 Ин. 3, 20).
* * *
Нужно наставление в заповедях. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай (Рим. 7, 7). Но не нужно карикатурно копировать великих отцов древности и пытаться «отполировать» душу до зеркального блеска с помощью внутреннего делания. К этому способно очень мало людей даже внутри монашествующих. Нужно быть максимально честным по отношению к себе, не «лезть на небо с ускорением», не мечтать и воевать с господствующей страстью.
* * *
Враги человеку – домашние его (Мф. 10, 36). Это не только родственники по плоти. Это и те страсти, те грехи, с которыми сроднился человек, которые человек считает неотъемлемыми от себя и потому не борется с ними.
Покаяние – это объявление себе войны, причем войны с той страстью, которая заметнее всех и находится на поверхности. Покаяние – это именно война с собой, а не изучение в период поста товарных этикеток на предмет наличия в продукте сухого молока.
* * *
Общее число заповедей, данных Богом через Моисея, – 613. Книжники выяснили, что 365 из них являются повелительными и соответствуют числу дней в году. А оставшиеся 248 являются запретительными и соответствуют числу костей в теле человека. Все это и свято, и важно, и удивительно. Но сознание Ветхозаветной Церкви тревожилось вопросом: какая заповедь большая? Ведь не могут быть равнозначными заповеди о почитании родителей и о пришивании кистей на края одежды! Однако и то и другое – от Бога. Поэтому с вопросом «что важнее?» подходили ко Христу книжники. Он отвечал, да и они в ответ на его вопрос говорили, что больших заповедей две: всецелая любовь к Богу и любовь к ближнему, равная любви к себе. И то и другое невозможно без покаяния.
* * *
Покаяние примиряет человека с Богом. Очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость – в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас (Иак.4,8-10).
Покаяние примиряет человека с ближними. Кающийся в своих грехах не замечает чужих грехов, перестает осуждать, никого не мнит быть хуже себя. Отсюда – открытая дверь для деятельной любви и добрых дел.
Без покаяния служение Богу – лицемерие, любовь к ближним – льстивое и тщеславное человекоугодие.
* * *
Евреи считали себя семенем Авраама и людьми свободными. Они считали себя близкими Богу, Христос же говорил: вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели; и не имеете слова Его пребывающего в вас (Ин. 5, 37-38).
Мы считаем себя людьми кающимися, но может статься, что покаяния истинного в нас нет ни на спичечную головку, но все подменено досадными мелочами, скрывающими отсутствие любви.
* * *
Покаяние ровняет путь. Оно наполняет низины и срезает холмы. Оно одно приводит ко Христу. Если по пути покаяния человек пришел ко Христу, то он отныне должен предстоять Христу. Это предстояние тоже будет называться покаянием, хотя это будет иной его вид.
Великие отцы рыдали, стенали и слезили всю жизнь. Их слезы были пролиты не столько о фактах, сколько об общей порче, не только о себе, но и о других. Мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего (Рим. 8, 23).
* * *
Покаяние далеко выходит за рамки исповеди и способно охватить собою всю жизнь. Только не думайте, что истинно кающегося человека можно будет заметить за версту по унылому виду. Нет. Истинно кающийся человек боль сердца своего спрячет и явит людям свое светлое и умытое лицо, по заповеди (см.: Мф. 6,17-18).
* * *
Не удастся принести Богу покаяние и плоды, достойные покаяния, без помощи Самого Бога. Молитва Златоуста: «Даруй мне благодать Твою, да прославлю Имя Твое святое» – в отношении покаяния уместна как никогда.
Пока продолжается эра милосердия и не наступила эра воздаяния, пока открытые Христом двери Им еще не затворены, нужно поспешить «разорвать сердца свои пред Господом». Только нужно делать это честно, мужественно и не размениваясь на мелочи.
НАСЕКОМЫЕ
Пчелка хороша. Плоды ее сладки для гортани и бедняка, и простолюдина. Муравей хорош. У него нет начальника, но он сам зарабатывает хлеб свой, о чем подробно пишет автор Притч. Вот муха плоха. Настолько плоха, что «король мух» – «Баал зебуб» – есть имя диавола. В привычном для нас произношении это имя звучит как Вельзевул. Так насекомые входят в мир религиозных понятий, и мы вынуждены о них говорить и думать.
* * *
Религиозный уровень жизни есть высший уровень жизни. Если насекомые присутствуют в религиозном сознании, то они присутствуют и в поэтическом сознании, хотя сами не очень поэтичны. Стрекоза и Муравей нам известны с детства. Известна Муха-Цокотуха и спасший ее от паука Комарик. Наше мышление мифологично. Комарикам и стрекозам там всегда найдется место, и значение их будет аллегорично. Но в новейшее время насекомые стали входить в поэзию как таковую, причем – всерьез, а если даже и в шутку, то с улыбкой сумасшедшего с бритвой.
* * *
Всерьез героем не басни, но стихотворения насекомое стало с легкой руки Достоевского. Рука у него легкая, но раны вскрывает тяжелые и неудобоисцельные. Его капитан Лебядкин пишет стишки про таракана, под которым мы разумеем самого лирического героя – человека, в жизни окончательно потерявшегося.
Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
И потом попал в стакан,
Полный мухоедства.
Серьезный труд требует серьезного толкования. Капитан сам и толкует свое творение. «То есть когда летом, – заторопился капитан, ужасно махая руками, с раздражительным нетерпением автора, которому мешают читать, – когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухоедство, всякий дурак поймет, не перебивайте, не перебивайте, вы увидите, вы увидите. И он продолжил:
Место занял таракан,
Мухи возроптали.
«Полон очень наш стакан», –
К Юпитеру закричали.
Но пока у них шел крик,
Подошел Никифор,
Благороднейший старик…
Там дальше у него не было окончено. Ясно было только, что старик Никифор выплескивает «всю эту комедию», то есть таракана и мух вместе, в лохань. Такая печальная эсхатология венчает в узел завязанную драму тараканьего бытия. Смешно, не правда ли? Но и немножко страшно.
* * *
Почему страшно? Насекомые маленькие, вместе они, правда, неистребимы, но зато поодиночке беззащитны. Совсем как люди. Но если посмотреть на них в увеличительное стекло, то действительно станет страшно.
«Я видел однажды, как подрались муха и клоп. Это было так страшно, что я выбежал на улицу и убежал черт знает куда», – писал Хармс. Обэриуты вообще были близки к капитану Лебядкину. Они чувствовали, что человек мельчает и что личность управляется законами масс. Они чувствовали, что история будет безучастно топтать обезличенные массы людей. И что самим им придется сгинуть в этой беспощадной круговерти, где палачи похожи на немигающих насекомых с «коленками назад».
* * *
Один из обэриутов – Олейников – в образе таракана предвосхитил репрессии с пытками и расстрелами. Его жертва прямо перекочевала в литературу XX века из тетрадок капитана Лебядкина. Но это уже не ерничество, а подлинный кошмар.
Написано за три года до расстрела самого автора. Прошу внимания:
Таракан сидит в стакане.
Ножку рыжую сосет.
Он попался. Он в капкане,
И теперь он казни ждет.
Ожидая казни, существо наблюдает за вивисекторами с ножами и топорами. Эти люди будут таракана мучить:
И стоит над ним лохматый
Вивисектор удалой,
Безобразный, волосатый,
Со щипцами и пилой.
Подлинная жертва, конечно, не насекомое. Это – лирический герой, который чаще всего есть сам автор, то есть человек. Точно так же человек – герой «Превращения» Кафки, проснувшийся однажды в мерзком виде насекомого. Не правда ли, XX век щедро пропитан интуициями родства человека и насекомого и общей трагичности их судьбы, которая, в случае человека, есть еще и фарс. Кровавый, но фарс.
Таракан к стеклу прижался
И глядит едва дыша…
Он бы смерти не боялся,
Если б знал, что есть душа.
Но наука доказала,
Что душа не существует,
Что печенка, кости, сало –
Вот что душу образует.
Есть всего лишь сочлененья,
А потом соединенья.
Против выводов науки
Невозможно устоять.
Таракан, сжимая руки,
Приготовился страдать.
О, прочтите, прошу вас, прочтите до конца эту короткую стихотворную, полупридурковатую, грубо срифмованную повесть о насекомом, в котором сердце чует что-то более родное и близкое, нежели просто домашнего паразита. Прочтите о том, как:
Его косточки сухие
Будет дождик поливать,
Его глазки голубые
Будет курица клевать.
В некотором смысле это – единственный род поэзии, которой достоин человек, убежденный в том, что кроме «печенки, костей и сала» ничего больше в человеке нет. Удивляться ли, что судьба такого человека (человечества) строится по модели: «По вере твоей да будет тебе»?
* * *
Теперь от «литературы» перейдем к жизни. В конце 40 – начале 50-х годов прошлого века увидели свет так называемые «Отчеты Кинси». Это был своеобразный прорыв в области изучения человеческой сексуальности. Отчеты носили специфические названия: «Половое поведение самца человека» и «Половое поведение самки человека». Публикации этих работ и их широчайшее распространение могут рассматриваться (да и рассматриваются) в качестве катализатора движения, со временем получившего название «сексуальной революции». Фрейд поведал миру о подавленных желаниях, о наличии в психике неких тайников, где хранятся запертые ключом культурных табу, непреображенные сексуальные переживания. Кинси поступил иначе и совершил иное. Он взял голую человеческую сексуальность, пристально рассмотрел и описал ее в доступных ему пределах и… расчеловечил человека. Мы и начинали со стишков Лебядкина, то есть с Достоевского, и заканчивать вынуждены будем им. Митя Карамазов, цитируя Шиллера, восторженно говорит Алеше: «Насекомым – сладострастье. Ангел – Богу предстоит». Дескать, пусть молятся те, кто к этому предназначен, а я – насекомое. Мой удел – сладострастье. Вот таким болезненно сладострастным насекомым и предстает человек в работах доктора Кинси. Теперь добавим, что научную шлифовку и ученую степень доктор Кинси получил, занимаясь изучением… насекомых.
* * *
Род занятий ложится сеткой и трафаретом на сознание человека. Кто работает в посудомойном цеху, для того весь мир только то и делает, что ест, пьет и что-то недоеденное оставляет в тарелке. Юристы и врачи, сказал классик, развращаются быстрее всех, поскольку имеют дело: одни – с болезнями плоти, другие – с болезнями социума. Ну и «кто в армии служил, тот в цирке не смеется». То, что нам кажется опытом объективным, есть лишь взгляд на улицу из зарешеченного окна – из окна нашей внутренней тюрьмы. И изучая насекомых, вполне естественно и на человека посмотреть под особым углом зрения. Под этим углом зрения вся наша жизнь будет лишь слюноточивой историей о том, как паучок «нашу муху в уголок поволок». Только если у Чуковского есть место и благородству комарика, и чаю с кренделями, и свадьбе, то у энтомолога будет только сухой язык цифр о том, какое же это гадкое насекомое – человек.
* * *
Человека нельзя изучать как насекомое. И как примата его изучать нельзя. Его надо изучать только как человека, иначе выводы рискуют иметь некоторые погрешности, незаметные глазу обывателя, но полностью извращающие конечные выводы эксперимента.
Ни химия, ни физика, ни биология не видят человека, не замечают его и, соответственно, не имеют дела с ним, хотя о нем и рассуждают. В результате «человеколюбивая» наука делает некую вивисекцию с «топорами и пилами», как над оным олейниковским тараканом. В XX веке такие вивисекции производились над целыми народами. И все с умным видом, да для всеобщего блага, да ради преодоления предрассудков…
Видно, правильно написано:
Кому велено чирикать –
Не мурлыкайте!
Кому велено мурлыкать –
Не чирикайте!
Не бывать вороне коровою,
Не летать лягушатам под облаком!
Вот так полезешь в «чистую науку», а получится у тебя в качестве вывода либо тотальный разврат, либо массовое кровопролитие. Или то и другое разом. Потом подойдет Никифор – бла-го-роднейший старик, ну и…
Кстати, не зря стишок у Достоевского не дописан. История ведь еще не кончилась.
«УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ»
Ехали мы, ехали по большой России.
Видели мы, слышали разное в пути.
Было безобразное, было и красивое,
Многого не поняли, как тут ни крути.
Неизвестный автор
Ты жива еще, моя огромная, печальная Родина. Это так удивительно и так благодатно. Твои дороги все так же плохи, как бессмертны и твои дураки. Нашу машину раз за разом встряхивало на очередной яме. Каждый удар отзывался болью в сердце водителя, и он со смаком, но без злобы цедил сквозь зубы отборные ругательства. А ты, одетая в придорожную пыль и свежую весеннюю зелень, смотрела мне в глаза, первозданная и грустная, как девушка в хороводе.
В каждой второй твоей деревне можно снимать фильм про времена Ивана Грозного и не переживать о декорациях. Лишь бы в кадр не попал какой-нибудь «жигуль» или электрический провод. Все остальное почти не изменилось.
Как вилка итальянца, наматывающая на себя клубок горячих макарон, колеса бегут и наматывают на себя пространство и время. В любой европейской стране мы проехали бы уже от западной границы до восточной. А здесь, глядя на карту, с ужасом понимаешь, что ты только начал двигаться. И вдруг прямо перед тобой, как грибы из земли, как войско Черномора из морских глубин, вырастает воздушная громада монастыря. Пирамиды, прячьтесь. Нотр-Дам, устыдись.
Сколько силы в каждом звуке колокола! Сколько веры в плавных линиях куполов! Если бы я был немцем, я бы с испугом и недоверием смотрел на людей, которые строят такие храмы, а живут в смиренных деревянных домиках. Но я не немец. Я – дома, и мне стыдно, что ни один кирпич в этих стенах не положен моей рукой.
Вспоминаешь невольно Святую Землю. В католических храмах чисто и холодно. Мраморные полы и стены, каменные алтари. Молитв не слышно. Слышно щелканье фотоаппаратов. В одном из монастырей услыхали звуки григорианского хорала, но то были голоса из включенного магнитофона. У православных иначе. Толкотня, шум, живой беспорядок. Но везде молитва и сердечная теплота. Можно гневаться на неорганизованность и хмуриться из-за недостатка чистоты. Но никого не пожуришь за недостаток искренности. Россия похожа в этом смысле на Палестину.
* * *
На Руси не зря так полюбили придуманную в Японии матрешку. Куколки, прячущиеся одна в другой, – это ведь сама жизнь, и русская в особенности. Грязная улица, носящая имя Ленина, магазины с надписью «Вино. Табак», провинциальная тишина и ленивое спокойствие. Вот она, глубинка. Но это только первая «матрешка», самая заметная. Повернем ее по часовой стрелке и найдем другую. Где-то рядом, наверняка, местный Кулибин колдует над невиданным изобретением, а новый Циолковский разрабатывает план переселения человечества в космос.
Открываем дальше одну за другой всю семейку «матрешек» и так, оставляя в стороне необузданного Митю, циничного Ивана, противного Смердякова, находим, наконец, Алешу Карамазова. Это самая махонькая «матрешка», но и самая главная. Это – Левшой подкованная блоха, чудо природы, малое семя, из которого со временем непременно вырастет дерево.
* * *
Стою на высоком холме. За спиной – белокаменный красавец, владимирский собор. Приложился к мощам, постоял молча перед Владимирской. Теперь вышел на воздух и подставил ветру заслезившиеся в храме глаза. Кажется, что рядом стоит Федор Иванович и говорит чуть слышно:
Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.
– Батюшка! Пора. Нам еще ехать километров триста!
Оборачиваюсь на голос шофера:
– Да, да. Поехали.
Прислонюсь виском к стеклу машины. Буду ехать и думать: «Боже, как хорошо».
КРЕСТ, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ БРОСИТЬ
Могут ли слова иметь вес, вкус, запах? Слово «жизнь», как мне кажется, имеет запах и вкус, но не имеет веса. А вот слово «талант» тяжелое. Может быть, оттого, что одним из его значений является древняя денежная единица. Килограммы драгоценного металла слиты в слово «талант», и ради этого металла люди способны на предательство, воровство и убийство.
Денежные знаки нынче не оттягивают наш карман. В бумажный век и деньги легковесны. А потому не будем отвлекаться на омоним, а будем говорить о таланте как об уникальной способности.
Талант не облегчает жизнь. По мне, он больше крест, чем утешение. Вернее, он – утешение другим, но обладателю он – крест, который нельзя бросить. Крест, с которого снимают.
Мелкая душа мечтает побыть на день царем, на час – халифом. И это для того, чтоб нарядиться в «царское», покрутиться перед зеркалом и «сфоткаться». Еще – отдать пару взбалмошных, бессмысленных приказов. Конечно, поесть на золоте, попить из серебра. А потом надо быстрее сматываться. Пока не рассекретили и не натолкали в шею. Или пока груз ответственности и реальное бремя власти не стали пригибать к земле.
Иначе думают те, кто родился на царстве. «Не хочу быть царем», – плакал наедине с воспитателем маленький Александр Второй.
Жуковский, штудировавший с наследником всемирную историю, языки, литературу, понимал ребенка. Понимал, но поднимал его ни свет ни заря и продолжал занятия. Положение обязывает. Царствовать – титанический труд.
Точно так же обязывает талант. Он ведь не изобретен. Он дан, и за его использование спросят.
Прожить легче и лучше с ремеслом. С тем, что не рвет тебя в небо, но помогает устроиться на земле и быть полезным. Ремесленник понятен. Талант – далеко не всегда. Ремесленник согласен со вкусом и требованиями заказчика. Талант неуживчив. С Тарковским, например, было трудно работать. Никто не понимал, что у него в голове, почему одну сцену снимали по сорок дублей. Ради какой-то коряги или сухого дерева ассистент мог провести в поисках неделю. Кстати, Андрей Арсеньевич один из тех, кто не проповедовал «радость от занятия любимым делом». Для него работа была тяжелой и обязательной. Как будто он, как генерал на фронте, получил из ставки главнокомандующего одному ему известный приказ и молча несет на себе груз ответственности за его выполнение.
Талант отчасти напоминает святость. Любого человека можно научить неплохо рисовать или рифмовать слова. Но никого не сделаешь вторым Репиным или Мандельштамом.
Всем нужно стремиться к праведности. Но святость выше праведности. Она всегда неожиданна и неподражаема. К тому же, вблизи истинного таланта так же трудно долго находиться, как возле раскаленной печи. Здесь тоже со святостью скрыта схожесть.
Архимандрит Софроний в книге о старце Силуане говорит, что со святыми рядом тяжело. Святой живет перед лицом Христа, а ты это чувствуешь, но далеко не всегда можешь это понести. К святому хорошо ходить за благословением или исцелением, но, получив просимое, нужно возвращаться. И Николай Сербский пишет, что льющийся к нам и все оживляющий солнечный свет на самом Солнце представляет собой жуткие взрывы энергии, всплески и вихри огня. Таковы и сердца святых. Они льют нам тепло, но прячут от нас свою боль и борьбу.
Истинный талант в этом отношении сродни святости. Он непонятен, и мы видим только его фасад. Можно замереть в картинной галерее.
Можно бежать с работы, как на свидание, к недочитанной книге. Можно, непонятно почему, плакать от звуков флейты или скрипки. Но мы так и не поймем, чего все это стоило автору. А главное, как это тяжело – под земной шляпой носить небесные мысли.
Без твердой нравственной основы талантливый человек похож на воина в ночной сорочке. Ни одного доспеха. Ни один жизненно важный орган не защищен. Оттого они сгорают рано и гибнут пачками. Мистиков, прочно стоящих на земле подобно Баху, мало. Очень мало.
Талант делает обладателя отшельником поневоле. Если он интроверт и меланхолик, тогда все в порядке. А если нет, то одиночество будет еще одним звеном на кандалах избранности. Оттого гений бывает так чувствителен к простому человеку. Он, отделенный от обычной жизни, способен по временам смотреть на повседневность глазами Ангела – с жалостью и милостью. Отсюда, от бессонных ночей с пожарами мыслей, пастернаковское:
Мне к людям хочется, в толпу,
В их утреннее оживленье.
Потому и Моцарт, говорят, любил подолгу играть для простых людей. Даром. Просто так.
Есть, правда, гении, зеленые от злобы, любители противопоставить себя «толпе» и желчно рассуждать о «ее» низости. Но это – другой куплет и из другой песни. Этих я в гении не записываю.
Опять хочу вернуться к повседневной жизни. Кто-то сказал, что «красота – это талант». Согласившись с этой мыслью, не умолчим о том, что красивые люди редко бывают счастливы. Красивой женщине трудно прожить свою жизнь правильно. Слишком многие жадно смотрят на ее красоту. Слишком велик соблазн превратить красоту в капитал и пустить в оборот с целью получения прибыли. К тому моменту, когда зеркало просигнализирует о приближении неумолимой старости, совесть вчерашней красавицы нередко похожа на портрет Дориана Грея. В отношении всех остальных талантов эта схема тоже может работать.
Лучше поэтому не лезть ни в чужой огород, ни в чужие сани. Шапка Мономаха действительно тяжела. Середнячок без особых дарований – это Божий любимчик, человек, счастливо избавленный от множества опасностей и искушений. Хорошие отец и мать должны научить детей трудиться, должны закалить их и воспитать на твердых нравственных основаниях. И они же должны часто молить Бога о том, чтобы никаких чрезвычайных дарований Господь их детям не давал. Иначе вся жизнь становится под знак вопроса, и счастье детей, а вместе с ними и родителей, становится эфемерным.
Конечно, истинный гений пробьет себе дорогу. Бороться с ним так же невозможно, как невозможно полету мысли преградить дорогу шлагбаумом. Но, Боже милостивый, как все это опасно и неоднозначно. И как глупы те, кто лезет в гении настырно, гением не будучи. О таких можно сказать словами Ионеско: «Один петух притворился собакой. Но ему не повезло – его узнали».
Для «бескрылых», правда, есть одно серьезное утешение. Узнать гения, почувствовать его талант – это тоже талант. Не только сам Рахманинов, но и ценители Рахманинова гениальны. Между ними есть связь. Вероятно, он без них и невозможен. Как для одного летящего в небе самолета нужна масса наземных служб, техников, диспетчеров, так и для одного гения нужна особая культурная среда, нужны друзья и братья по крови. Нужны те, кто поймет с полуслова, поддержит, ободрит. Мало кто говорит и пишет о гениальности такого рода.
Наденем на нос очки с прагматическими линзами. Прищуримся и еще раз присмотримся к предмету рассуждения. Талант покажется нам бесполезным. Даже вредным. Не зря Платон, проектируя «идеальное государство», предлагал выгнать всех людей искусства. Не зря и Ленин укомплектовал и отправил за границу целый философский пароход. Во всем этом есть неумолимая внутренняя логика. Строительство идеального общества не может примириться с яркой индивидуальностью, какой всегда является талант. Верховенский в «Бесах» очень логично планирует душить Шекспиров и вешать Коперников.
Пока одни дикари привязывают к древку кремневый наконечник, а другие сшивают шкуры, какой-то лентяй и мечтатель рисует на стене пещеры быков. Зачем ему это? Не лучше ли поддерживать огонь или идти на охоту? Но вот протекли столетия и тысячелетия, и мы знаем о тех далеких людях, что они умели рисовать. Они, конечно, что-то ели и как-то одевались. Но не это главное. Главное, что делает их людьми в наших глазах, – это чудесно нарисованные животные на стене одной из труднодоступных пещер.
Жизнь совершенно невозможна без некоторых вещей, которые нельзя ни съесть, ни примерить. Например, без молитвы и музыки. Но как рождается в душе то и другое, непостижимо. Как число Пи, природа гениальности убегает от нас в бесконечность.
СТАРЫЕ РАНЫ НОВОГО СВЕТА
История для думающего человека – книга за семью печатями. Сухой перечень фактов и событий едва ли открывает суть и смысл происходящего. Различные интерпретации порой слишком далеко уводят от ответов…
История Америки в общих чертах известна. Но как подобрать ключ к ее тайне? Где скрыт этот клад? Стрелка компаса честного и пытливого кладоискателя указывает в сторону Церкви.
Человек мыслит стереотипно и обобщающе. Русские – это медведи, водимые по улицам за кольцо в носу, жуткий холод, много водки и танцы под балалайку. Китай – это прорва низкорослого народа, то ли улыбчивого, то ли прищуренного, послушного вождю и способного запустить ракету в космос из большой рогатки, если резинку натянуть всем миром. Англия – это густой туман над Темзой. Франция – худощавый и высокий мужчина в плаще и берете, разглядывающий женщин из окна кафе.
Скажите только слово – и мозг среагирует фонтаном ассоциаций, если позволят знания. Если знаний мало, мозг лениво выцедит из себя какой-то шаблон, более или менее общий для одной из человеческих групп. Что делать? Таковы законы непреображенной мыслительной деятельности. А какими реакциями отвечает мозг на слово «Америка»?
Бьюсь об заклад, что здесь ассоциаций побольше будет, чем при реакции на имя «Монголия».
Америка – это Вьетнамская война и психоделическая культура. Аминь.
Америка – это страна классического рабства, объявившая раньше других рабству войну. Аминь.
Доллары, джинсы, тычущий перст дяденьки с козлиной бородкой – оттуда. Мозги президента, брызнувшие на асфальт центральной улицы Далласа, – оттуда.
Это консервативное общество с максимальным градусом разврата. Аминь.
Это самые дерзкие небоскребы и самая непролазная провинция в десятке миль от ближайших небоскребов. Аминь.
Это империя, жонглирующая понятиями свободы и равенства, ради их полной нивелировки. Аминь.
Это – строительная площадка царства антихриста, где больше всего заняты чтением Библии. Аминь. Аминь. Аминь.
Что бы мы ни сказали об Америке, это будет смесь холодного и горячего, смесь, логически невозможная, однако реально существующая. Живой труп, горячий снег. Это – Америка.
Все можно подвергать сомнению. «А вы там были?» Не был. Другие были, вернулись и рассказали.
Мы-то сами – попроще. Мы пели «Гудбай, Америка, о-о-о, где я не буду никогда…» Раньше слово «никогда» во мне рождало грустную зависть к тем, кто был или будет. Теперь рождает нечто новое, вроде «а оно мне надо?» В Европе вон тротуары шампунем моют, и то не больно хочется во всех городах побывать. А тут: сходи в МсDonalds, пожуй жвачку, не закрывая рта, – и культурное погружение состоялось. Нас и купили яркой этикеткой американского образа жизни во времена недавнего слома эпох. Безусловно, расхожие образы Америки, навязанные массовой культурой, – это экспортный товар. Реальность другая. Но не будем забывать, что в информационную эпоху виртуальная реальность спорит с действительностью почти на равных. Так что человек, понимающий правила бейсбола, вправе считать себя на половину американцем.
Я же по грехам никак в толк не возьму, кто и зачем лупит битой по мячику и кто куда потом бежит. А между тем результаты этой игры – чуть ли не главная новость утренней газеты.
В «Преступлении и наказании» господин Свидригайлов ассоциировал Америку с путешествием в одну сторону, на тот свет. Такой себе опе way ticket Этот господин был большой оригинал по части представлений о загробной жизни. В то, что эта жизнь есть, он верил. Но считал гораздо справедливее представлять ее не в виде Города, сходящего с неба, и огня, который не угаснет, а в виде обыкновенной бани с пауками.
Холодным, серым утром, утомленный собственным целожизненным развратом, на берегу Малой Невы господин Свидригайлов пустил себе пулю в лоб. За полминуты до отправления в баню с пауками он перекинулся парой фраз с околоточным.
– Здеся не место.
– Я, брат, еду в чужие край.
– В чужие край?
– В Америку.
– В Америку?
Свидригайлов вынул револьвер и взвел курок…
– Коли тебя станут спрашивать, так и отвечай, что поехал, дескать, в Америку.
Он приставил револьвер к своему правому виску…
Мы не хотим совершать подобные путешествия за океан. Господь да сохранит нас от этого! Но жуть как хочется знать, почему все дороги, что раньше вели в Рим, ведут теперь на Уолл-стрит или к Белому дому?
Деньги, свобода самореализации, побег от условностей, царящих на родине? Возможно. Но должно быть что-то еще.
Царство Божие на земле, но без Маркса, Энгельса, Ленина. Это уже теплее. Коммунизм бредил земным царством справедливости, но без религии, то есть без покаянного шепота в исповедальне, без первого Причастия, без колокольного звона по воскресеньям. Европейский коммунизм и в теории, и в практике – антирелигиозен вообще и антихрист по преимуществу.
Америка – это опыт построения общества счастья, но без войны с религией. Это смесь европейского индивидуализма и европейской же религиозности.
С одной стороны, везде свобода, речи и крики о ней. Свобода частной собственности, свобода предпринимательства, религиозная свобода, свобода избирательных прав и гражданских собраний. С другой стороны – обязанности, долги. Ты должен быть на молитвенном собрании в воскресенье, ты должен платить налоги, интересоваться политикой, бороться с ожирением и парниковым эффектом. Ты должен улыбаться, должен быть счастливым или, по крайней мере, изображать счастье. Пункция, вытянутая из спинного мозга Европы и впрыснутая в девственные просторы нового континента, – это Америка.
Если поставить вопрос так, что человек может выбирать не только место жительства и род занятий, но и пол; что он свободен спать с кем хочет, делать что хочет, то такой тип свободы станет разрушительным явлением. Речи о свободе станут словесным прикрытием для греха. А свойство греха – убивать свободу в зародыше. «Всякий творящий грех есть раб греха». В силу логической неизбежности рабство греху следует высматривать в той стороне, где громче всего кричат о свободе.
Стоя на таких основаниях, я предлагаю нам всем – и любящим Америку, и ненавидящим ее (ибо она всего этого достойна) – точку зрения, ракурс на ее историю. Я предлагаю изучать ее историю как историю сект или многочисленных протестантских деноминаций, как историю продолжения религиозной жизни Европы и утверждаю, что вне контекста развития протестантизма историю Америки не понять. Лучше не тратить попусту время и заняться чем-то другим. Например, собиранием пластинок Майкла Джексона.
Нет, можно, конечно, можно изобрести и другие подходы. Можно, к примеру, познакомиться с биографиями президентов на долларовых купюрах. Рыжего вояки Гранта с банкноты в пятьдесят баксов, или ирландца Джексона с двадцатидолларового билета. Это тоже путь, и на нем есть интересные открытия. Но все равно это скольжение, а не погружение. Погружение же обязывает интересоваться жизнью духа. Да и все 43 президента США, как ни крути, христиане. Одиннадцать – члены Епископальной церкви, десять – Пресвитерианской, пятеро методистов, еще баптисты (кстати, Клинтон), квакеры. Один иеговист (Эйзенхауэр) и один католик, чья жена Жаклин после его смерти стала женой миллионера Онассиса и о чьей насильственной смерти мы упомянули раньше.
Путь предложен. Он длинен, как китайская дорога в тысячу ли. Его одолеет идущий. Я же в развитие темы перечислю несколько фактов, подтверждающих мою теорию.
Первых колонистов в Новый Свет выталкивала Европа. Уставшая, отчаявшаяся добиться гражданского мира и согласия между разными христианскими исповеданиями, почти обезумевшая от религиозных войн Европа заставила своих детей искать счастья там, где европейский Макар телят еще не гонял. Дети пересекли Атлантику, неся с собой Библию короля Якова и мечту о жизни тихой и безмятежной во всяком благочестии и чистоте (1 Тим. 2, 2). Еще они думали, что исполняют буквально слова апостола: Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь (2 Кор. 6, 17). «Из среды их» – это из среды европейцев, уставших от Варфоломеевских ночей, папских булл и династических споров. Первые колонисты, как и их бесчисленные поздние подражатели, горели желанием начать жизнь заново, и непременно на твердом основании слов Христовых.
По степени ревности они были подобны древним монахам, уходившим в пустыни и жаждавшим благодати. Но они были протестанты, и ревность их воплощалась иначе. Они воевали с индейцами, копали, строили, не расставались с Библией, рожали по дюжине детей. Это была протестантская аскеза, вынужденная обживанием новой, неприветливой территории.
Конечно, перемещение в пространстве не влечет за собой автоматического изменения жизни. Колонисты привезли вместе с собой религиозные распри, уверенность в личном спасении, подозрительность ко всем, кто верит иначе. Убегая от религиозных преследований на старой родине, они умудрились зажечь свои костры теперь уже протестантской инквизиции. Со временем у них начались свои «охоты на ведьм». В 1692 году, к примеру, в штате Массачусетс были сожжены двадцать человек. Те, кто любит отождествлять протестантизм с гуманностью и прогрессом, обязаны знать и эти истории.
Суд над обвиняемыми в колдовстве в колониальном Массачусетсе в 1690-х годах. Гравюра конца XIX в.
Если смотреть на Моисеев Закон как на книгу обязательных для общежития норм, как на уголовный и гражданский кодекс, то к числу правонарушителей будут относиться не только воры и насильники, но и колдуны, и ворожеи. Диавол есть, должны быть и его слуги. Мысль, работающая в этом направлении, обязательно усмотрит в окружающей действительности нечто инфернальное. Слугой чаще всего будет женщина или девушка. Ева – первая жертва змеиной хитрости. Ее дочки любопытны, доверчивы, эмоциональны. Для лукавого они – слабое звено. Все это было ясно для пуритан как белый день. Вопрос был только в сроках, то есть когда люди решат, что голод, мор скота или ураган вызван бесовским влиянием. Когда чье-то поведение станет подозрительным? Кого видели ночью уходящим из селения? Кто перестал ходить на службы и неодобрительно высказывается о вере?
Самый громкий процесс против ведьм в Новой Англии имел место спустя семь лет после последнего сожжения ведьмы в самой Англии.
До сегодняшнего дня одним из расхожих голливудских сюжетов является появление диавола в каком-то тихом провинциальном городке. Он внешне респектабелен и ни у кого не вызывает подозрений. Но скоро городок накроет волна взаимной ненависти, прольется кровь, загорятся здания. Злобный хохот на фоне пожара даст нам понять, что судьба этого городка есть репетиция планетарных событий.
Говорить о бесовщине я не люблю, хотя не сомневаюсь в ее наличии. Вернемся лучше к тем дням, когда все начиналось. В 1620 году трехмачтовый барк под названием Мауflower причалил к восточному побережью, высадив на землю 102 поселенца. Это было рождение Плимутской колонии, зернышка, из которого выросло дерево Соединенных Штатов. По вере эти люди были в основном пуритане. Что это такое, мы должны знать хотя бы приблизительно – или благодаря одноименному роману Вальтера Скотта, или благодаря специальной литературе.
Пуритане XVII века – это люди, от которых требовалось ежедневное посещение службы два раза в день и строгое почитание воскресного дня. Они должны были соблюдать крайнюю строгость в одежде, не играть в карты, не читать ничего, кроме Библии и толкований на нее. Жизненный успех, благодаря заимствованию кальвинистских идей, воспринимался как залог спасенности.
Детей пуритане крестили, по поводу чего с ними жарко затем спорили баптисты.
Им было очень трудно первое время. Лютые зимы, болезни и неумение добывать пищу в новых условиях поставили жизнь первой колонии на грань исчезновения. Помогли туземцы. Местные индейцы научили белых выращивать кукурузу. Маис стал культовым явлением, далеко выходящим за рамки пищевой пользы. Вот почему и мы теперь жуем попкорн в кинотеатрах! Вот почему Хрущеву покоя не давали успехи США в сельском хозяйстве и он мечтал обогнать Штаты в выращивании именно этой культуры. Вот почему наши местные протестанты празднуют дни урожая и благодарности за урожай. Они соблюдают традиции американских учителей, хотя нас учат презреть традиции и чтить только Библию.
Хотя жизнь плимутских братьев была спасена добротой индейцев, последних колонисты не жаловали. Они считали их злыми язычниками, врагами народа Божия и, соответственно, жестоко уничтожали. Индейцы сопротивлялись храбро и умело. Эту страницу мировой истории мы можем изучать лежа на диване и просматривая старые фильмы киностудии «Дефа» с Гойко Митичем в главной роли.
Вообще историю США можно изучать лежа на диване перед включенным телевизором. «Унесенные ветром» с Кларком Гейблом расскажут о Гражданской войне. Война всегда лишь фон для любовной истории, не правда ли? О Золотой лихорадке, об урбанизации, пережевывающей маленького человека, расскажет немое кино с Чаплином. Но вернемся к первым поселенцам.
Гораздо терпимее к туземцам были другие религиозные группы, например, квакеры. Свое имя эти люди получили от английского глагола «трепетать», поскольку родоначальники этого протестантского ответвления благоговейно трепетали от страха, думая о Боге или слыша о Нем. Квакеры основали на восточном побережье колонию под названием Пенсильвания («лесистая земля Пена») в честь отца одного из переселенцев Уильяма Пена. Свод законов этим людям заменяла Библия. Они верили в земное счастье, основанное на любви к Писанию. И хотя их попытка, как и попытки многих других энтузиастов, основать гражданское общежитие только на Слове Божием провалилась, эксперимент достоин уважения. До них подобным экспериментом был увлечен Оливер Кромвель, обязывавший членов английского парламента составлять речи на основании библейских текстов и считавший, что лучший свод законов это – Старый и Новый Завет. Квакеры продолжили на новом месте старые европейские эксперименты и доказали вновь их утопичность.
Городом «братской любви» – Филадельфией – назвали квакеры столицу своего штата. Всякий знакомый с Апокалипсисом, услышав название Филадельфии, должен вспомнить слова: И Ангелу Филадельфийской Церкви напиши… (Откр. 3, 7). Это предпоследний Ангел Апокалипсиса, к которому обращается Христос. Дальше только Ангел Церкви Лаодикийской. После него увещания заканчиваются и начинается драматургия апокалиптических видений.
В Америке текст Библии нужно знать хорошо. Там многие географические названия заимствованы из священной истории. Там боксер, поднимаясь в квадрат ринга, бормочет псалом, пританцовывая на рэперский манер. Там преуспевающий бизнесмен непременно назовет Божие благословение главной причиной финансового успеха. Плакаты, напоминающие о десяти заповедях, скульптуры, изображающие скрижали Завета, – такие же непременные культурные знаки, как в Италии фигурки Мадонны в специальных нишах. От Писания не убежишь даже слушая джаз. Половина классических текстов написана на библейские темы. Не стоит упускать это из виду. Как Китай не понятен без конфуцианства, так и Штаты не понятны без специальной теологической подготовки.
Белым людям все китайцы кажутся на одно лицо. Православным людям все протестанты кажутся однообразным месивом. На деле это не так. И нам придется разбираться в отличиях протестантских деноминаций не по причине любопытства, а по причине их активного вездесущия.
Квакеры, к примеру, не любили воевать и не хотели убивать индейцев. Поэтому их успехи были менее значительны, чем успехи пуритан. Разумеется, мы имеем в виду успехи в этом мире, поскольку в ином мире любая деятельность имеет другую оценку. Еще более веротерпимыми оказались баптисты. Один из них, Роджер Уильямс, считал, что вера индейцев угодна Богу и незачем слишком активно среди них миссионерствовать. Другой, Джон Элиот, был уверен, что индейцы – это рассеянные и потерявшиеся десять колен Израиля. Этот миссионер создавал лагеря, где учил могикан Закону Моисееву(!). Это, пожалуй, предтечи мормонов, считающих Америку новой землей Обетованной и вместо Библии предлагающих изучать Книгу Мормона. Кроме Уильямса и Элиота были еще сотни энтузиастов, которые изучали туземные языки, переводили Писание, шли в вигвамы с проповедью. Некоторых из них любили и слушали. С некоторых снимали скальп. Было это в те времена, когда на Руси только что завершила правление династия Рюриковичей. Так что корни американской нации поглубже будут, чем времена Авраама Линкольна и войны Севера и Юга.
Я устал рыться в закромах памяти и искать факты, подтверждающие мою теорию. Обладай я немецким складом ума, любая статья грозила бы превратиться в исчерпывающую диссертацию. Но есть другие подходы, кроме немецкого. Можно дать направление мысли, толчок, чтобы заинтересованный человек продолжил поиск и порадовался собственным открытиям. Последняя позиция мне ближе.
Но лишних знаний не бывает. Изучать можно все: и психологию рабства, и жизнь в индейских резервациях, и великую американскую литературу, и механизм работы Федеральной резервной системы. Но, повторяю, без знания основ религиозной жизни все это будет знанием исчезающим, как лопнувший мыльный пузырь. Тогда как знания в области религии дают почву всем остальным знаниям и объяснение многим не понятным дотоле явлениям. Простите за назойливость.
Протестантских проповедников американского разлива на просторах матушки Руси сегодня много. Они едут сюда так, как когда-то плыли в Америку их далекие предки. Это было, с одной стороны, бегством от безумия на родине, а с другой стороны, попыткой научить вере темных дикарей. Ныне все – так же. Мы в их глазах – дикари. Они же бегут оттуда, где никого не удивишь их заезженными шуточками с трибуны. Бегут, чтоб найти себе применение и, глядишь, обратить пару-тройку туземцев.
Нам же нужно понять, что Америка – это политическое и культурное явление планетарного масштаба, корни которого – в истории протестантизма. Тот, кто замечает доллар, но в упор не видит кафедру проповедника, слеп последней слепотой. С ним спорить не будем. Все равно он ничего не понимает.
Так же слеп тот, кто знает все о штатовских ракетах, но не знает, что пилоты этой страны перед вылетом молятся. Такой «знаток» проиграет Штатам войну, хотя те и молятся по-протестантски.
Плюсы и минусы этой страны замешаны на идеях реформации. Если не совершить духовную победу над этими идеями, придется попасть в рабство или в изрядную зависимость от этой специфически духовной страны. Последнее, кажется, и совершается в мире.
Вы спросите, как совершить эту самую духовную победу. Литургическими средствами. Поясняю.
Один православный священник построил храм напротив молитвенного дома, где проповедует «светило», типа Билли Грэма. Священника спрашивают: вы не боитесь, что ваши прихожане разбегутся? А он отвечает: пусть они боятся. Протестантизмом в Америке даже кошку не удивишь. Зато православная Литургия – это настоящее откровение. Серафим Роуз, в бытность Юджином, зашел как-то в православный храм и почувствовал себя дома. Это не счастливое исключение. Это – залог массовых обращений и возможного успеха православной миссии. Я в это верю.
На Запад нужно смотреть свободно. Без зависти, без злобы, без преклонения. Не нужно ни растворяться в нем, ни проклинать его. Так говорил умнейший Георгий Флоровский. Люди вообще нужны друг другу. Так вот, мы нужны Западу, а его опыт и нам не лишний, хотя бы – чтобы ошибок не повторять.
Посему не будем злобно ворчать на заокеанского монстра, а займемся-ка тщательным изучением истории мира, истории протестантизма и священной истории, чтобы ясно понимать суть происходящих процессов. У нас в сокровищнице православного опыта в сжатом виде есть ответы на все вопросы и вызовы. Ключ к ответам – взгляд на жизнь через призму Литургии. Именно этой сокровищницей надо научиться пользоваться, и ответы на вопросы давать не поверхностные, а по существу.
ДАМСКАЯ ИСТОРИЯ
Учеба, работа, карьера… Компьютер, машина, спортивный зал…
Подружки, поездки, гулянки, покупки… Вдруг в одно обычное утро, перед зеркалом превращая себя, запухшую со сна, в «очаровашку», она произвела в уме простое математическое вычисление. Она отняла от числа, обозначающего текущий год на кухонном календаре, число, обозначающее в паспорте дату ее рождения. Получилось тридцать и даже «с хвостиком», похожим на тот рудимент, который был нарисован когда-то в учебнике биологии. «Пора замуж, пора заводить ребенка», – подумала она, подставляя зеркалу правый и левый полуфас, беззвучно двигая тубами ради правильного наложения помады. По телевизору рассказывали о курсах валют, растворимый кофе дымился в чашке на краю стола. Рядом в пепельнице тлела тонкая дамская сигаретка. Она собиралась на работу, бегая между коридором и кухней, отпивая кофе, затягиваясь легким дымом, от которого может быть рак. «Замуж пора, пора заводить ребенка», – напевала она себе под нос. «У меня получится. Я сделаю это», – звучал второй куплет.
* * *
Через год с небольшим второй куплет уже не пелся, а первый грозил превратиться в комплекс, в кошмар, в идею-фикс. Для капризного ребенка неисполненное «хочу» является жестоким наказанием. Она чувствовала себя таким ребенком. Еще никогда беспомощность не переживалась ею так остро и безутешно.
Стали врагами безобидные прежде вещи: зеркало, дата рождения, голоса чужих детей на площадке, известие о том, что одна из подруг вышла замуж.
Мама звонила регулярно и спрашивала, как дела. Маме она отвечала, что все в порядке, и ненавидела ее в это самое время странной ненавистью. Это ведь мама прожужжала ей все уши разговорами о независимости, о самостоятельности, о женском достоинстве и о никудышности мужиков. Мама не сказала ей, что мужик без жены – это человек без ребра. В крайнем случае калека, но все же человек. А вот женщина без мужчины – это ребро без человека, бесполезный и беззащитный, в сущности, предмет. Его или ногами запинают, или псы сгрызут. Не сказала ей об этом мама. И другой никто не сказал.
* * *
О том, что отделившийся от человека нос может самостоятельно гулять по улицам, мы со времен Гоголя знаем и верим этому факту несомненно. А о том, что никому не нужные ребра, не нашедшие свое тело, свое сердце, которое нужно закрыть, свою кожу, в которую нужно одеться, тысячами ходят вокруг, мы как-то еще думать не привыкли.
* * *
Если человек умен, как пень, и счастлив, как потерянная собачонка, то действия его не будут отличаться глубиной и осмысленностью. И это человек! А ребро? Стоит ли удивляться, что у шарлатанов, снимающих «венок безбрачия», и у психологов, размазывающих по журналам свои статьи, словно манную кашу по тарелке, не будет проблем с работой?
* * *
Тучка на небе может быть предвестницей бури. Пятнышко на теле может быть предвестником тяжелого недуга. Шальная мысль, случайно залетевшая в голову, не привыкшую предоставлять мыслям ночлег, может стать началом тихого кошмара. Это случилось и с нашей героиней, и годы, тянувшиеся до сих пор медленно или шедшие мерным шагом, вдруг поскакали галопом. Она разлюбила свою квартирку, купленную с таким трудом. Она часто плакала, когда оставалась одна, и молчала на людях. Анекдоты и веселые истории стали ей не смешны. Бутылка вина все чаще стала появляться на столе во время нехитрого ужина.
Из всех слов, которые она слышала и читала в последнее время, ей запомнились только слова парикмахера, Ефима Львовича. Этот дамский мастер был чем-то похож на ее рано умершего отца. А может, ей только так казалось. Но она продолжала раз в месяц записываться к нему или перед «корпоративом», или просто для удовольствия.
– Деточка, вы – как моя старшая дочка, – говорил Ефим Львович, колдуя над ее волосами и глядя ей в лицо через зеркальное отражение. – У вас очень грустные глаза, и мне вас жалко. Понимаете, эта молодежь (я говорю только о своей дочке) думает, что всего может добиться сама. Кто их так сильно обманул? Вы читали басню о стрекозе и муравье? Читали, конечно. Я не хочу сказать ничего плохого, но жизнь ведь не только удовольствие. Вы согласны? Они пляшут, поют, получают несколько образований и ведут себя так, будто у них не одна жизнь впереди, а по крайней мере три. Я сейчас говорю только о своей дочери. Я ей говорю: «Марина (так ее зовут), тебе надо выйти замуж. Мы с мамой хотим внуков.
Тебе уже двадцать три года. Двадцать три! Девочка моя, цветок нужно рвать и нюхать, когда он цветет и пахнет, а не когда он в гербарии». Вы согласны? Куда там! Она говорит, что я отстал от жизни, что настоящих мужчин больше нет и так далее. Наконец, она говорит самую глупую вещь, от которой я прихожу в бешенство. Я не сделал больно? Простите. Так вот, она говорит: «Я сегда успею найти мужа, завести ребенка и застрять на кухне». Вы слышите? Дикость, не правда ли? «Всегда успею». И это «завести», как будто речь идет о кошке или рыбках! Я нервничаю ужасно. Я говорю жене: «Роза, ты слышишь? Наш ребенок сошел с ума». А ей говорю: «Эти вещи не делаются как попало и когда захочешь. Ты не начальница в этом вопросе. А Господь Бог имеет право показать дулю. Да, да. Ты скажешь: «Я хочу завести ребенка», – а Он скажет: «Вот тебе дуля, потому что детей даю Я, а не заводите вы». Как вам это нравится? Такие страсти египетские. Мы, кажется, закончили. Поверните головку влево. Вот так. Вы прекрасны. Как Юдифь. Поверьте мне, я знаю жизнь и видел женщин. Вы прекрасны, как Юдифь, и горе любому Олоферну.
* * *
Этот диалог остался у нее в памяти. Остались интонация, тембр голоса и две-три мысли, смешанные со звуком работающего фена и запахом лака.
Мы простимся с ней здесь, у дверей дамского парикмахерского салона. Как сложится ее дальнейшая жизнь, кто знает? Никто и ничто не обязывает нас следить за ней. Пусть хищный взгляд стороннего наблюдателя не холодит ей затылок. Тем более что таких, как она, – миллионы.
Мамы, подруги, телевизор и журнальные статьи. Проще сказать, шумящая эпоха. Твой общий шум силен, как шум водопада Виктория. В сравнении с ним голос парикмахера звучит как шепот. Да и клиентка вслушивается в этот шепот лишь тогда, когда сердце уже изорвано в клочья тоской и неудовлетворенностью.
Но все равно мы тебе желаем счастья. Тебе, одному из обманутых детей лживой эпохи. Человеку, у которого, казалось бы, есть все, а на самом деле нет ничего.
РЫБА
Если мужчина не любит футбол и рыбалку, то в семи случаях из десяти у него не будет темы для разговора со случайным знакомым – попутчиком, соседом по палате. Отбросьте разговоры о женщинах и политике, и – о ужас! – можно смело забывать родной язык. Все равно на нем не о чем говорить и не с кем. Остальную информацию, типа «который час?», «погода хороша, правда?», «туалет вон там», можно получить и передать с помощью жестикуляции и междометий. Жизнь так и хочет превратить тебя в молчальника, хотя на подвиг ты принципиально не способен. Какие-то умелые руки превращают действительность в плоский блин, тогда как жизнь, в принципе, больше похожа на слоеный пирог с разными начинками.
* * *
Правда ли, что бывают неинтересные люди? С точки зрения первых глав Бытия, нет. Существо, о котором сказано: Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему (Быт. 1,26), – по определению не может быть неинтересным. А что говорит повседневная жизнь? О, лучше не слушать, что она говорит, иначе цветы перестанут пахнуть и хлеб потеряет вкус.
* * *
Очевидно, надо копать на том месте, где стоишь. Пока люди не научились копать и бурить, по Аравийскому полуострову бродили нищие бедуины. Они не жаловались на судьбу, молились пять раз в день и не ведали, что можно жить иначе.
Теперь их не узнать. Пески и камни, на которых ничего не растет, были разрыты и многократно просверлены. Море маслянистой черной жидкости, над которой столетиями бродили бедуины и их верблюды, вышло наружу и преобразило и пустыню, и ее жителей. Тот, кто не согласен, что нужно копать, пусть едет в Саудовскую Аравию и отказывается от прежних мыслей.
Сокровища всегда в глубине. Если это справедливо по отношению к золоту и нефти, то должно быть справедливо и по отношению к человеку, ради которого создан мир и без которого Вселенная не имеет смысла.
* * *
Попробуем копать там, где я ничего не понимаю и немею, подобно рыбе. Начнем с рыбалки.
Рыбак должен уметь копать. Одно дело купить наживку, другое дело накопать червей самому. Опарыш, макуха, хлебный мякиш – это баловство, деликатесы для рыб. Человек сам приучился гортань баловать и рыб начал развращать. Люди должны есть хлеб, а рыба должна клевать на червя. Это – азбука и прописная истина. Вот он, бедняга, насажен на крючок, на него уже поплевали, и через пару секунд его агонизирующие движения под водой станут приманкой для вечно голодной рыбы. А пока умирающий червяк зовет на смерть ни о чем не думающую рыбу, человек на берегу (на мосту, в лодке) будет думать, глядя на поплавок. О чем он будет думать?
* * *
Знает ли он, загорелый человек средних лет, обжигающий губы окурком и напряженно смотрящий на воду, что он отдаленно похож на других людей, тоже однажды ловивших рыбу? Не в выходной день для развлечения, а в будни для прокорма семьи забрасывали они сети в море и услышали: Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков (Мф. 4,19).
По количеству людей, усеивающих с удочками в руках берега наших рек и озер, видно, что мы не так уж далеки от апостолов. Даже в слякотные зимы, когда лед тонок, чернеют замерзшие тела рыбаков на льду любого водоема. Это значит, что даже зимой Господь может звать нас на проповедь.
Нет, неспроста крещеные люди, никогда не читавшие Евангелие, в единственный выходной встают ни свет ни заря и идут на речки.
Есть в этом явлении тайна, и я готов смотреть на этих рыбаков так же внимательно, как они на свои поплавки.
А знали бы они, как однажды наполнились сети Петра (см.: Лк. 5, 5–7)! Как рыбы, упорно избегавшие сетей Петра всю ночь, по слову Иисуса Христа с радостью, наперегонки устремились, чтоб стать добычей. Каждой хотелось послужить Христу, исполнить Его слово, и лодка от множества рыб стала тонуть…
* * *
В ту эпоху, когда нынешние рыбаки учились в школе, Закон Божий не преподавался. Но зато в те годы была побеждена неграмотность, и теперь каждый может читать все, что захочет. Можно читать о том, как умножалась пища в руках у Спасителя. Умножались ячменные хлебы и опять-таки рыба.
Часть печеной рыбы и сотовый мед дали воскресшему Христу по Его просьбе и убедились, что это Он воскресший, а не призрак. И когда в третий раз явился Господь ученикам на озере Геннисаретском, то был на земле разложен огонь, а на нем – рыба и хлеб (см.: Ин. 21, 9). Само слово «рыба», сказанное по-гречески, стало аббревиатурой краткого Символа веры. Мы без труда расшифровываем, что значит ЦУМ, США, КГБ. А для христиан древности слово «ихфис» расшифровывалось как «Иисус Христос Божий Сын Спаситель». И Тертуллиан писал о Крещении: «Мы, рыбки, вслед за "рыбой" нашей Иисусом Христом, рождаемся в воде».
* * *
Фу-у! Можно вытереть пот с чела и отдышаться.
Воду нельзя копать, но в нее можно нырнуть. Мы, кажется, нырнули, и если в таком духе говорить о рыбалке со случайным собеседником, то я согласен не молчать, но оживленно развивать тему.
* * *
Одно меня продолжает смущать – футбол. Как ни кручусь вокруг этого явления, ни за что не могу зацепиться.
ЗАМЕТКИ О ЛИТЕРАТУРЕ
Литература рождается, высекается, как искра, от столкновения жизни и смерти. Например, когда жить незачем, но и умирать страшно. Или – жить хочется, а смерть – на расстоянии вытянутой руки. Этих сочетаний жизни и смерти может быть много. Как два умелых борца, жизнь и смерть сплетаются в жаркой схватке, и в быстроте меняющихся положений они похожи на неразделимое многорукое, двухголовое чудовище.
* * *
Могучая, сильная литература, литература, не утрачивающая силу и смысл в переводах, – это литература империй. Империя может позволить себе размышлять о душе и Боге, о суете и вечности, о пользе страданий и расслабляющей опасности комфорта. Более того, империя обязана об этом рассуждать.
Прочие народы, как правило, не вырываются из кольца собственных проблем и не способны выйти на всечеловеческий уровень. Эти малые литературы понятны только носителям их языка, а в переводах интересны лишь историкам и эрудитам. В них либо плач о своих страданиях, либо печальные песни об ушедшем героическом прошлом. Для действительности у них остаются сарказм, завистливое брюзжание, обиды, насмешки и прочая бессильная гниль, никуда не зовущая и отравляющая сердце.
* * *
Миру еще далеко до превращения в одно культурное пространство. Но яркие признаки этого неизбежного будущего уже хорошо видны. Дело не в том, что китайцы играют европейскую музыку или американцы ставят Чехова. Дело в том, что молодежь всех континентов конвульсивно движется под одни и те же ритмы. Всемирное братство будет достигнуто не как взятие вожделенной и казавшейся недосягаемой высоты, а как критическое понижение планки требований до того уровня, что и «курица перешагнет».
* * *
Литература будущего будет литературой одной всемирной империи, в которой человек будет задыхаться от смыслового голода. Как и в гниющем от пороков и роскоши Риме, господствующими жанрами будут авантюрный роман, сатира, комические пьесы о сегодняшнем дне, «ремейки» древних трагедий и, конечно, порнография.
Всеобщая грамотность человечества странным образом превратится в проклятие, а не в благословение. Дядя Гамлета убил своего брата и законного короля, влив ему яд в ухо. В наши уши (и глаза) тоже вливается разнообразный яд. Это делается через «трубочку» культурной коммуникации и под названием «духовная пища».
* * *
Литература способна легче и раньше добиваться того, над чем бьется политика. Например, с точки зрения сказок мы давно уже – члены Евросоюза. Карлсон, Пеппи, Русалочка, Дюймовочка, Красная Шапочка, Щелкунчик прописаны в нашей памяти, в детских снах, в музыке и кинематографии.
А ведь это – дети шведки Линдгрен, датчанина Андерсена, француза Перро, немца Гофмана. Эти и другие иностранные писатели давно уже стали «нашими», так же как святого Егория и святого Николу в древности наши предки считали русскими. Книги этих писателей влияют на нас, воспитывают целые поколения, и, с точки зрения детской книги, мы давно преодолели и стерли многие государственные границы.
* * *
Книга неотделима от автора. Но их связь не поверхностна. Она не выводится из фактов биографии, из «эмпирического» человека. Боящийся женщин, ежегодно теряющий по одному зубу, несчастный и одинокий человек – это эмпирическая оболочка автора «Снежной королевы». Круглолицый человек с веселыми глазами, любитель пива, как и большинство жителей Британских островов, «повседневный» Льюис так не похож на автора своих романов.
Вся литература – это протест против плоских трактовок человека, утверждение многоэтажное, глубины и неисследимости человеческого существа.
* * *
Чехов отстранен и наблюдателен. Толстой масштабен, огромен. Достоевский прозорлив, волшебен, раскален до последней степени. Этих трех читают, изучают, ставят на сцене больше всех прочих, писавших кириллицей.
Все эти трое причащались в детстве.
Пусть один тихо растерял веру и тихо умер. Пусть другой громко отказался от веры и рухнул, как большое дерево. Пусть третий притащил и продолжает тащить тысячи людей за шиворот ко Христу, чтобы, притащив, поставить перед Ним на колени. В творческих интуициях все эти трое – действуют как православные христиане.
* * *
Книга – городское явление. Книгу можно читать в селе, но издавать книгу можно только в городе. У нас долго не было городов. Сплошь – сельское население и сельская культура. То, что называли городом в XIX веке, сегодня бы уже так не назвали. Но стоило появиться культуре европейского образца, с университетами, периодической печатью, общественными движениями, как появилась и настоящая литература. То, что на Западе шлифовалось и огранивалось столетиями, у нас взорвалось всеми цветами радуги в десятилетия. Те же процессы параллельно произошли и в музыке, и в живописи, и в философии. Мы были скрыто, в потенции гениальны. Стоило только дать движению толчок и начало.
Римский-Корсаков, Мусоргский, Бородин, Соловьев, Розанов тоже причащались в детстве.
* * *
Смерть писателя – это когда писать не о чем. Смерть, возведенная в квадрат, – это когда писать есть о чем, но читать некому. От обеих смертей да сохранит нас Господь.
Проситель бьется головой в закрытые двери кабинета начальника. Осадное орудие методично лупит в стену осажденного города.
Писатель бьется головой о смысл жизни, обо все, что связано со смертью и возможностью жить снова и вечно. Если он об эту стену не бьется, то, возможно, он не писатель, а болван, научившийся грамоте по недоразумению или по причине всеохватной, как эпидемия, страсти к образованности.
ЗАГАДКИ
Для того чтобы сказать о человеке неложное слово, нужно знать внутренний мир этого человека. Намерение и мысль подлежат суду или похвале, но именно здесь мы абсолютно слепы. Согласно Гете, Мефистофель – «часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо». Лукавый, сам того не хотя, многих научил молиться, подстегнул к покаянию, к исканию Бога. Душераздирающая, поднимающая волосы на голове история Иова была бы невозможна, если бы не Божественное позволение на испытание праведника. И вечный враг добра, дух, ползающий в прахе, будет наказан за «хотения», за цели, а не за результаты.
* * *
И человек, надеемся, будет судим не столько за факты биографии, сколько за мечты, за стремления, за сокровенный в сердце жар. Иначе человечество не надо было бы и судить. Надо было бы лишь смести его, как сор на кухне, и выбросить вон, предварительно изъяв из сора несколько настоящих жемчужин. То, что по-настоящему в человеке интересно, так это «тайна сердца». Там – «черный ящик», требующий расшифровки.
«Суди меня за то, что я хотел, а не за то, что в результате получилось!» – может крикнуть всякий, кто пришел в ужас от прожитой жизни. Как за соломинку хватается утопающий, так хватается за мысль о благородстве помыслов человек, чья жизнь кажется бесполезной. И тут мне вспоминается Крылов.
В одной из его басен дружат человек и медведь. Их дружба столь нежна, что от уснувшего человека Мишка заботливо отгоняет мух. И надо ж так случиться, что одно из насекомых оказывается особенно докучливым, неотвязным. Эта муха, вопреки Мишкиным усилиям, норовит снова и снова сесть на нос или на лоб спящему человеку. Пришедши в гнев (и гнев, заметим, праведный), наш Мишка решается покончить с мухой навсегда. Он берет увесистый камень, дожидается момента, когда нахалка снова сядет на дружеское чело, и… Вряд ли нам интересно, жива ли муха. Важнее то, что человек погиб, погиб от братской руки и от добрых намерений. Такова медвежья услуга во всей ее красе. И мысль об этом заставляет меня осторожней относиться к благим порывам, к нашим мечтам о добре, которыми мы еще недавно надеялись оправдаться.
Если в человеческом словаре до сих пор есть место слову «благо», так это благодаря тому, что есть Бог, и «Благой» – Его Имя. Собственно, только Его, поскольку никто не благ, как только один Бог (Лк. 18, 19). Человек же делает кучу зла, стремясь к добру. А диавол желает только зла, но косвенно, под управлением Премудрости Божией, служит высшим целям.
Коль скоро человек намерен творить добро, как крыловский медведь, то безнаказанной его деятельность не останется. Боюсь, никакие благие цели не оправдают того, кто действует опрометчиво и без рассуждения. Отцы недаром называли рассуждение «царицей добродетелей». Можно взять копье и отправиться на защиту слабых или на битву за Гроб Господень. Но если ты перепутал столетия, то коня твоего назовут Росинантом, а сам ты станешь предметом жалостливых насмешек. Но самое главное – никого не спасешь, потому что не разобрался ни в себе, ни во времени.
Одним из способов самопознания является молитва. Это то состояние, в котором человек открывает душу, если только он, конечно, молится, а не надевает маску молящегося. Бог, желая человеку истинного, а не иллюзорного добра, не спешит исполнять наши прошения. Сколько обидных слов сказали люди по этому поводу в адрес Создателя! Сколько маловерных людей потеряли свою едва живую веру, когда их прошения не были исполнены! Между тем человеку полезно просить долго. Недаром сказано: «Долготерпите в молитвах». Длительность прошений испытывает степень желания. Нередко после усердной молитвы человек думает: «Надо ли мне это в действительности?» Молящийся дух ведь не только стучится в Небесные двери. Он еще и спускается в глубины сердца. Миновав поверхностные слои, те места, где живут привычные желания, человек сходит глубже, туда, где этих желаний может уже не оказаться. Там могут оказаться другие нужды и просьбы, более важные и не такие заметные на первый взгляд.
Жизнь была бы подобна кошмару, если бы человек тотчас получал от Бога все, о чем попросит. Прельстившись, например, симпатичным личиком и попросивши: «Дай, Господи, мне ее в жены», – можно было бы потом всю жизнь мучиться с никуда не годной супругой. Если бы Господь нас ненавидел, Он непременно исполнял бы каждое наше желание и потом потирал бы руки, глядя на страдания глупого просителя. К счастью, все не так. Но мы должны быть терпеливыми и внимательными; отрезать, отмерив семь раз; «познавать самого себя», по слову древнего философа, и вникать в себя и в учение (1 Тим. 4,16), по слову апостола Павла.
* * *
Что живет в человеке? Кто произойдет от моих чресл? Каковы будут плоды тех деревьев, которые мною посажены? Эти и подобные вопросы должны волновать человека. Ведь в поисках одного люди постоянно находят другое. Ищут философский камень – находят порох. Плывут в Индию – открывают Америку. Изобретают лекарства – получают биологическое оружие. Строят земной рай – на выходе получают концлагерь.
Это роковое расхождение между целями и результатами столь часто случается, что многие, боясь умножить зло, решались не делать ничего вообще. Достоевский в «Записках из подполья» развивал рассуждение о том, что самый активный человек – это, по необходимости, самый недалекий человек. А самый рассудительный и осторожный – соответственно, самый бездеятельный. Отметим эту мысль учтивым поклоном. В ней много правды. Весь Восток, неподвижно сидящий в тени и смотрящий вдаль безучастно, вместился в эту фразу. Суетливый, запыхавшийся Запад недаром с интересом и завистью присматривается к Востоку. Запад чувствует, что за бездвижностью есть глубокая мысль, а может, и вся мудрость.
* * *
Мудрости в неподвижном покое много, но не вся она там. Когда к Иову прибегали гонцы с вестями, одна другой невыносимее, то еще говорил предыдущий, как уже приходил другой. И мы, желая спастись от Суда бездействием, едва почувствуем себя нашедшими выход, как тут же будем ужалены другой мыслью.
В Евангелии есть притча, персонаж которой не хочет умножать полученные в залог деньги. Он боится Хозяина (Бога), зная, что Тот жнет, где не сеял, и собирает там, где не расточал (Мф. 25, 24). От страха человек скрывает деньги в земле и в день отчета возвращает их со словами: вот тебе твое (Мф. 25, 25). Не будем пересказывать Священный текст. Скажем только, что этот хитрец рассердил Хозяина.
Значит, отсидеться не получится, равно как не получится спрятаться, устраниться, ни во что не вмешиваться. Вот жизнь человеческая! За сознательно сделанное зло, за непредвиденные плоды благих порывов, за бегство от борьбы, за лень и за несвоевременный труд – за все придется отвечать. И покой не спасет, и активность грозит наказанием. Ты шумел, когда больше всего люди нуждались в молчании. Ты молчал, когда от одного слова зависела победа добра над злом. «Неужели, – подумал ты в отчаянии, – я был создан затем, чтобы быть кругом виноватым? Чтобы иметь только вопросы и никаких окончательных ответов? Чтоб низвергнуться в ад, унося в себе стыд, жгущий хуже всякого ада?»
* * *
Посреди этих мыслей, нападающих на душу с жестокостью войска, осаждающего город, был человеку голос. Тот самый голос, который когда-то в саду успокоил мятежную душу Августина. «Тоllе, legе». «Бери, читай». Человек открыл книгу и прочел: Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать (Рим. 11,32).
Не высокое небо Италии, но низкий крашеный потолок был над головой читавшего человека. Однако он смотрел в него так же, как когда-то смотрел в небеса уроженец Африки, приехавший на Апеннины в поисках знаний. Живой водой Писаний прохлаждает Господь воспаленные и запутавшиеся души. Человек опустил глаза в книгу и дочитал главу до конца:
Ибо всех заключил Господь в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!
Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?
Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?
Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь (Рим. 11, 32–36).
СО СВЯТЫМИ УПОКОЙ
Остались имена и даты на крестах
У тех, кто в землю лег и ожидает Чуда.
Какое имя будет на устах,
Когда я буду уходить отсюда?
Неизвестный автор
Любовь и слезы появляются в глазу, а западают в сердце», – примерно так можно перевести латинскую пословицу. Нужно видеть, чтобы любить, и пословица «Глаз не видит – сердце не болит» в этом отношении оправдана. Но это не главный вид любви. Куда дороже чувство, не зависящее напрямую от зрения.
С таким чувством связана вера. Мы не видели Христа телесными глазами, однако любим Его. Слово о Нем через слух вошло в наше сердце, и с тех пор наша жизнь самым серьезным образом изменилась. Глаза здесь ни при чем.
Это вполне относится к усопшим, к людям, которых мы не видим, но продолжаем любить. Для любящего человека умерший подобен уехавшему в далекую и длительную командировку. Ты не видишь его, но ведь сердце не обманешь. Оно чувствует, что любимый тобою жив. Оно зовет тебя молиться.
Мне всегда жутко думать о том, что миллионы людей, верующих во Христа, не молятся об усопших. Это протестанты. Они оправдывают свою позицию тем, что в Евангелии нет прямых повелений для такой молитвы.
Как будто Христос имел целью строго регламентировать нашу жизнь. Как будто Он принес нам не дух свободы, а новые законные требования, тысячу новых «можно» и «нельзя». Неужели Он Сам не сказал, что Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы (Лк. 20, 38)? А если так, то разве есть запрет на молитву о живых?
Граница между живущими здесь и ушедшими «туда» протестантам представляется непреодолимой, каменной стеной. Дескать, человек прожил свою жизнь, и теперь невозможно повлиять на его участь, бесполезно Богу о нем молиться.
На самом деле граница между нами и ими весьма прозрачна. Сквозь нее видно все, что делается по обе стороны, если духовное зрение обладает достаточной остротой. Неумирающее чувство любви к усопшим заставляет молиться Богу, Который и Сам есть Любовь, о милости к закончившему земную жизнь человеку.
В духовном мире, кроме Христа и Богоматери, нет целых людей. Там есть только людские души. Душа без тела – это не человек, но лишь душа человека. И тело без души – всего лишь тело человека. Смерть разрывает нас на части, и целыми мы вновь станем не раньше, чем начнется Страшный Суд. Еще никто не выслушал из уст Христовых окончательное слово. Никто не отослан в ад. Никто вполне не блаженствует. Только после воскресения тел вечность вступит в свои права, и одних людей обнимет огонь, а других встретит торжествующий голос ангельских хвалений.
До этого часа души предчувствуют будущее и предвкушают, одни – радость, другие – муку. Молитва в это время нужна как никогда.
В Апокалипсисе Христос назван, кроме прочего, имеющим ключ Давидов. Если Он затворит, то никто не отворит. И наоборот, отворенное Им никто не может затворить. Протестанты спешат затворить для усопших двери Божиего милосердия, хотя чаша долготерпения еще не полна, времена благодати продолжаются, и Сам Христос еще не сказал последнего слова о конкретном человеке.
Ладно бы речь шла о людях, не молящихся вообще. Их много таких, не могущих разлепить уста, чтобы сказать «Господи, помилуй». Но в случае с протестантами речь идет о людях верующих. Они читают Писание, призывают Отца, стараются исполнять волю Сына.
Исключить же из своих молитв братьев и сестер, умерших раньше нас, – все равно что выколоть себе глаз или отрезать руку. Тогда нужно перестать молиться о ком бы то ни было. Пусть каждый в полной мере отвечает за себя. Болеет человек – пусть болеет. Такова воля Божия, пусть страданием искупает грехи. Но ведь мы так не делаем. Мы научены носить тяготы друг друга и так исполнить закон Христов (см.: Тал. 6, 2). Мы научены вступаться друг за друга, и лучшим способом помочь, защитить, вмешаться всегда была молитва.
Церковь – это Тело. Живые и усопшие не видят один другого, как и волосы на голове не видят кожу на подошвах ног. Но все тело, от темени до пят, питается одной и той же кровью. Церковь – это Лоза. Не все ягоды прикасаются друг к другу, но все питаются одним и тем же соком. Усопшие христиане – члены того же Тела Христова. Лишать их молитвы – то же, что отбирать хлеб у детей. Они и беспомощны, как дети. Их глаза, во много раз превосходящие количество звезд, сияющих на небе, из духовного мира с мольбой и ожиданием смотрят на нас.
Конечно, почившие люди потеряли возможность деятельного изменения. Для них прошло время трудов. Но их души не лишились способности впитывать благодать, и для них еще не настало время воздаяния.
До чего ты красива, кроткая и простая, не любящая много говорить, знающая толк в вещах самых главных, Святая Церковь Православная. Благодаря тебе на Страшном Суде мы услышим признательность ото всех тех, за кого с любовью молились. Мы и сами по смерти надеемся утешаться молитвами тех, кто нас любит и верит в Бога.
Впрочем, главная наша надежда на Иисуса Христа – Праведника, на Его Крест и Воскресение. А все остальное – десерт на Его трапезе. Зато какой вкусный десерт, и до чего слепы те, кто не хочет есть сладкое из рук Великого Господина, приготовившего великий пир.
СТАРУШКА ЗАЖИЛАСЬ
Старушка, что называется, зажилась. До последнего у себя в селе вставала с петухами, возилась по дому и возле дома и только с наступлением холодов позволяла внукам забрать себя на зиму в город. К концу поста городская квартира уже мучила ее, хотелось на воздух, к земле, к своей хатке, которую перед Пасхой нужно было и проветрить, и убрать, и украсить. Но этой весной домой ее не отвезли. Ослабла бабушка. Ослабла вдруг сразу, как будто сила ушла из нее так, как уходит воздух из развязанного надувного шарика. Сначала она вставала и ходила по квартире, в основном до туалета и обратно. Затем и этот путь стал для нее непосильным. Маленькая и тихая, как больной ребенок, она лежала в отведенной для нее комнате. Внуки вставали рано и, попив чаю, уносились на работу и по делам. Правнук уходил в школу. Поэтому для старушки наняли сиделку, и та ухаживала за ней. В комнате бабушки было чисто и тепло. Ела она мало, меньше младенца, и ежедневным занятием ее было смотреть в окно напротив и читать по памяти молитвы.
Такой я и увидел ее, высохшей, с заострившимися чертами лица, лежащей на спине и смотрящей прямо перед собой. Меня пригласили ее причастить. Зная по опыту, что люди часто зовут священника к больному, когда тот уже ни есть, ни говорить не может, то есть не может ни исповедоваться, ни причаститься, я спросил перед приходом, может ли она исповедоваться.
«Она у нас очень набожная и сейчас только и делает, что молится», – отвечала внучка. В условленный день меня забрали из церкви и привезли к старушке.
По моей просьбе столик возле кровати застелили, на него поставили зажженную свечу и стакан, в котором на донышке была теплая вода – запить Причастие. Затем внучка с мужем и сиделкой вышли, и мы остались вдвоем.
«Вы слышите меня, бабушка?» – спросил я. В ответ она кивнула и губами сказала: «Чую».
Теперь нужно было задавать вопросы, спрашивать о грехах, обо всем том море всевозможных ошибок, которые сознательно и несознательно совершаются людьми и которые, как цепи на рабах, висят на людских душах. Я задал один вопрос, другой… Старушка ничего не ответила. Она продолжала смотреть прямо перед собой, только руки сложила ладонями вместе так, как их складывают на Западе, когда молятся. Это были руки, работавшие тяжело и всю жизнь. Я часто видел такие руки у стариков, перекрученные ревматизмом, худые, со вспухшими венами, и всегда мне хотелось их поцеловать. Историю XX века, с его коллективизацией, трудоднями, войнами, бедностью, молчаливым терпением, можно учить, не читая книг, только глядя на руки стариков, все это переживших.
Бабушка вдруг зашевелила губами, и я склонился к ней, стараясь расслышать хотя бы слово. «За молитвы Святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, помилуй мене». Старушка молилась, молилась так, как ее учили родители или парох, с теми особыми выражениями, которые встречаются в старых молитвенниках, изданных во времена Первой мировой. Она прочла Трисвятое, дошла до «Отче наш» и прочла Господню молитву отчетливо. Затем стала читать Символ веры. Я слушал. Там тоже попадались старые слова, сохранившиеся еще со времен Димитрия Ростовского. Вместо «нас ради» я услышал «нас диля человек и нашего диля спасения». Это было трогательно и красиво. Человек достиг заката земной жизни, готовился встретиться с Богом и уже не мог говорить, но все еще мог молиться. Человек молился, повторяя слова, со времен детства повторенные уже не одну тысячу раз. Какие грехи она совершила? Какие из них оплакала и исповедала? За какие понесла очистительные скорби, хороня родных, болея, тяжко трудясь? Вряд ли я мог уже это узнать. Но нельзя было не причастить эту сухонькую и беспомощную женщину, лежавшую перед моими глазами и молившуюся, сложив по-детски руки.
Не поворачивая головы и не меняя выражение лица, она приоткрыла рот, чтобы принять Святые Тайны. Затем покорно запила, два раза глотнув теплой воды из стакана, который я поднес к ее устам. Когда я стал читать «Ныне отпущаеши», старушка, словно закончив работу и собираясь отдыхать, закрыла глаза и опустила руки вдоль тела.
Уходя, я поговорил с внучкой о том, как поступать, «если что», и, отказавшись от чая, попросил отвезти меня в храм. Пока мы ехали по узким улицам перегруженного машинами города, мне хотелось думать о Марии Египетской, которая перед тем, как ее причастить, просила Зосиму прочесть молитву Господню и Символ веры.
* * *
Бабушка отошла на Светлой седмице. Мы с псаломщиком пели над ней Пасхальный канон, и казалось, что она вот-вот приоткроет уста и начнет шепотом повторять за нами: «Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечнаго начало, и играюще поем Виновнаго…»
На девятый день внучка с мужем и сыном была у нас в храме, и мы служили панихиду. Так же было и на сороковой. В сороковой день после молитвы я спросил у внучки, как их дела, как жизнь, как правнук отнесся к смерти старушки.
– Все хорошо, отче, – ответила она. – Только кажется, будто кто-то отнял у нас чтото важное. Бабця (она назвала ее по-местному) не могла нам уже ничем помочь. Да мы и не хотели от нее никакой помощи. Но за те пару месяцев, что она у нас доживала, так хорошо пошли все наши дела: и по бизнесу у меня, и у мужа на работе. А теперь как-то стало тяжелее, то тут проблемы, то там. Может, нам кто-то «поделал» какие-то пакости?
Мы поговорили с ней минут десять, и я попытался разубедить ее в чьем-то недоброжелательстве и возможной ворожбе.
– У вас дома, – сказал я ей, – несколько месяцев была смиренная и непрестанная молитва. А теперь молитва прекратилась. Хотите помощи – начинайте молиться сами, как молилась она.
На том мы тогда и расстались. Я дал себе слово не забыть тот случай и непременно рассказать о нем прихожанам. Рассказать о том, как полезен бывает кажущийся бесполезным человек, и о том, что «безболезненная, непостыдная, мирная кончина жизни» есть, и мы не зря так часто о ней молимся.
НОСТАЛЬГИЯ
Со второго этажа того маленького отеля, где мы остановились, открывались виды, очень похожие на пейзажи Ван Гога. Правда, за окном была не французская, а итальянская провинция. Но люди так же копошились по утрам между ровных рядов капусты, сельдерея и прочей зелени, а сверху им в затылок, а мне в глаза слепило безразличное яркое южное солнце.
«Господи Иисусе! Как я хочу домой!» – то и дело вырывалось у меня. Так плохо и тоскливо мне было только в детском садике и в армии на первых порах. Домой, к жене и детям, в нашу северную сырость и серость меня тянуло немилосердно. Мягкий климат и природная роскошь Апеннин умножали мою тоску многократно. Я понимал, что внешний рай при внутреннем одиночестве только увеличивает страдания. Того же мнения я и сейчас.
Я спустился вниз на гладкий булыжник мостовой и поспешил к местному бару. Там был телефон. «Io voglio telefonare», – обратился я к барменше, и она дала мне в обмен на несколько евро телефонную карточку. Кабинка была рядом.
Из такой же кабинки я по вечерам звонил из Киева во Львов, когда учился в семинарии. Трубки в переговорных пунктах пахли тогда чужим дыханием. Воздух в кабинках был вечно несвеж, и пластиковые стены были покрыты номерами чужих телефонов. Здесь было иначе. Чисто и аккуратно. Еще бы, сюда же не выстраивается ежедневно очередь из полсотни человек.
Здесь же не слышится разноголосица из всех языков земного шара. Здесь только я, говорящий по-русски, хочу дозвониться домой, потому что с мобильного при моем счете хватит только на пару эсэмэсок.
Но эта карточка, эти дополнительные наборы цифр! Я впопыхах нажал не на ту кнопку. Трубка отозвалась короткими гудками, и у меня в мозгах издевательски замелькали обрывки фраз из песни Высоцкого: «Стала телефонистка мадонной…» Хрип и удары по струнам. «А, вот уже ответили. Ну здравствуй, это я…»
Там, в песне, ему уже ответили. Здесь, в Италии, я еще не дозвонился. Смотрю внимательно в инструкцию, нажимаю кнопки. Ну-у-у! На другом конце света, на другом конце провода раздался голос жены, приглушенный расстоянием, кажущийся слабым, как у больного ребенка. Мелькнуло удивление – ведь обычно слышно так чисто, будто ты говоришь лицом к лицу. Уже через секунду накопленная тоска вырывается из меня, и я кричу в трубку, кричу, чтобы лучше было слышно, что я измучился в этой благословенной Италии, что я хочу домой, что я больше никуда не поеду, если вернусь живым и невредимым.
Время закончилось быстро. Когда я вышел из кабинки с видом двоечника, удаленного с урока, в баре стояла тишина. Местные деды, пившие за столиками у окон свой кофе, пристально смотрели в мою сторону. Дым их сигарет струйками поднимался вверх и там рассеивался лопастями вентилятора. Барменша с сочувствием матери смотрела на меня. Ее влажные глаза выражали жалость и зависть. Мол, вот ведь, любят люди и страдают на чужбине. Я кивнул ей, сказал «grazie» и пошел к выходу. Старики повернули лица к кофейным чашкам, опять стали затягиваться куревом и разговаривать.
Через час машина несла нас по узкой дороге, петлявшей в горах над морем. Деревушки, высоко забравшиеся к небу, одна другой краше, встречали нас по пути. Я ехал и думал, что понимаю Тарковского. Если бы я был кинорежиссером и меня выгнали из страны, мой фильм тоже назывался бы «Ностальгия».
ВАЛЕРА
Ты спрашиваешь, почему я грущу? А когда ты видел меня веселым?
Понимаешь, у меня умер друг. Я и не думал, что он мне так дорог. А вот позвонил ему, а детский голос отвечает: «Папа умер». Я, где стоял, там сел и заплакал. Валера умер! Не могу представить его бездвижным. Не могу представить гранитный памятник с его фотографией, на которой он улыбается.
Он был доктор. И в этом тоже есть какая-то доля издевательства. Он был хороший доктор, грамотный, внимательный, серьезный. Но доктора тоже умирают, а священники тоже грешат. Разве это не ужас? А ты все спрашиваешь, отчего я грущу.
Гепатит залез в его печень давно. Он рассказывал мне, что в болезнях много мистики. Вирусы ведут себя не просто как живые, а как живые и умные. Они приспосабливаются к лекарствам, изменяются, затаиваются. Они могут делать вид, что уже умерли, что побеждены, и человек успокаивается, начинает беспечно радоваться, нарушать режим… Потом болезнь вспыхивает вновь, но на этот раз очаги поражения глубже и опаснее, а старые лекарства уже не действуют. У Валеры был именно такой случай.
После первой опасной вспышки, когда специалисты говорили о двух-трех оставшихся годах, он прожил еще десять лет. В этот период мы и познакомились.
На его месте можно было по-христиански вымаливать у Бога или, как делают многие, по-язычески ждать от безликого космоса подачки в виде продления срока. Можно было истратить все деньги на новые лекарства. А можно, сколько Бог пошлет, жить полной и красивой жизнью, радуясь каждому дню и тем более каждому прожитому году. Они с женой сумели заново влюбиться друг в друга и были так взаимно нежны и внимательны, что многие, быть может, им завидовали.
Валера на пару лет поехал в Ливан, в миротворческий контингент. Заработанных денег плюс сбережений хватило, чтобы улучшить жилищные условия. Слишком долго они с женой и двумя детьми мыкались по коммуналкам и съемным квартирам. Когда мы освящали эту новую квартиру, Валера сказал: «Ну вот, за это уже сердце не болит». Последние несколько лет он часто повторял эту или подобную фразу. «Уже сердце спокойно». «За это я не переживаю». Он говорил так, когда старший сын стал работать и к тому же познакомился с хорошей девочкой. Когда жена научилась водить машину. Когда удалось реорганизовать терапевтическую службу в округе. Время шло и постепенно его убивало. Печень уже не могла хорошо очищать кровь. Но, запрограммированная на честное исполнение своей работы, она и пропускать ее, неочищенную, не могла. Началась внутренняя интоксикация. Он мог бы вести дневник и, как доктор, фиксировать постепенное угасание своего организма. Но он стремился реализовать себя, воплотить мечты, обеспечить семью. И он продолжал быть собранным и серьезным на работе, веселым среди друзей.
Ты спрашиваешь, почему я улыбаюсь? Знал бы ты, как он умирал. Это была оптимистическая трагедия. Когда его на пешеходном переходе внезапно сбила машина и все разрушительные процессы в организме резко усилились, и Валера, и его жена поняли, что он вышел на финишную прямую. Они стали готовиться к расставанию с мужеством самурая, делающего с утра прическу и готового к вечеру умереть. За сорок семь дней от аварии до смерти они прожили вместе еще одну жизнь.
В больнице, где его знали все и он знал каждую трещинку на стенах, отбоя не было от посетителей. Целый театр лиц прошел перед их глазами: робких, искренних, испуганных, участливых. Он говорил со всеми, даже консультировал больных и давал советы коллегам.
Только жену все время держал за руки и скучал по ней, даже когда она отлучалась на полчаса за минералкой или лекарством.
В тот самый важный день, который еще называют последним, к нему в очередной раз пришел священник. Валера недавно причащался, а сейчас уже был без памяти. Поэтому его соборовали. Все, что он сказал в тот день, – это фраза, обращенная утром к зареванной медсестре, менявшей капельницу. «Вы очень красивы сегодня», – сказал он ей. Потом он уже ничего не говорил и казался глубоко уснувшим. Но священник, совершавший Соборование, обладал зычным басом. Совершив Таинство, он громко произнес отпуст и этим, кажется, пробудил больного. Валера узнал священника: «Батюшка, благословите». «Бог благословит», – священник широко перекрестил Валеру и положил ладонь ему на голову. Валера слабо, но очень тепло улыбнулся и закрыл глаза.
Священник снял облачение, сложил его в чемоданчик и успел дойти до двери, когда Валерина душа покинула вначале тело, затем больничную палату, а затем и вообще эту печальную землю.
Я вспоминаю о Валере, думаю о его смерти и радуюсь. Но эта радость не мешает мне ронять слезу, когда я представляю себе гранитный могильный памятник с фотографией, на которой Валера улыбается. Ты спрашиваешь, как это может быть? Как могут уживаться вместе и улыбка и слезы? А по-моему, только та радость и есть настоящая, которая не мешает плакать. И только те слезы правильные, сквозь которые можно улыбнуться.
КРЕЩЕНИЕ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ
Было время, когда христиане отсрочивали Крещение. Одни, как Василий Великий, хотели, чтобы Таинство совершилось в Иордане. Другие боялись согрешить после Крещения и из-за этого полусвященного-полусуеверного страха в течение многих лет покидали Литургию после слов «Оглашенные, изыдите». Были и такие, как император Константин. Тот крестился на смертном одре. Милость совершенно особая – омыться от всех грехов перед самой смертью. Но спланировать заранее это невозможно.
Когда мы были еще совсем юными и совсем глупыми, но уже почитывали всякие книжки, мой друг Серега сказал однажды, что знает, как «обмануть христианского Бога». «Нужно просто креститься перед смертью», – сказал он и был почти прав, допустив ошибку только в одном слове. Креститься перед смертью – это значит не «обмануть» Бога, а получить от Него самый дорогой подарок. Такие подарки не раздаются направо и налево. Там, где это случилось, должна быть какая-то важная предыстория.
* * *
Их вывели из камеры ночью. Лязгнул замок, и солдат, грязно выругавшись, приказал выходить по одному. Они вышли, шесть священников и один диакон. Целую неделю им, обвиненным в антисоветской пропаганде, пришлось провести вместе.
То, что выйти из этой камеры придется только в одну сторону, знали все. Они уже отпели себя заранее и все время заключения старались много молиться, вспоминали грехи, исповедовались друг другу. Это были большей частью маститые, в летах протоиереи. Только диакон был молодой, недавно женившийся и рукоположенный. Его жена должна была вот-вот родить первенца.
В ту ночь их всех расстреляли во дворе тюрьмы, побросали тела на машину и повезли хоронить в одной из общих могил, вряд ли найденной и до сих пор.
В морозном русском небе безучастно светила луна. На дворе стоял год двадцать первый со времени Октябрьской революции и, значит, тысяча девятьсот тридцать восьмой от Рождества Христова.
* * *
«Священник работает в пожарной команде», – говорил мне назидательным тоном один опытный батюшка. «Надо крестить – крести, надо причастить – причасти. Спал – не спал, ел – не ел, никого не касается. Делай свое дело. Богу служи, и Бог воздаст».
А мы так и делали. День за днем бегали с требы на требу, с погребения на свадьбу, со свадьбы на крестины. К концу дня, когда в душе болело, в ногах гудело, а горло не разговаривало, матушка просила: «Поговори со мной», – а батюшка знаками показывал, что не способен к общению.
В один из таких дней к нам в церковную канцелярию пришла женщина и попросила окрестить ее умирающую соседку. Я должен был куда-то бежать, кажется, в школу на беседу с учениками. Но никого больше из духовенства на тот момент в храме не было, дело отлагательства не терпело, и получалось, что идти должен был я. Хорошо было лишь то, что дом, указанный в адресе, располагался неподалеку. Я взял крестильный набор и даже взял Запасные Дары, и мы пошли.
В доме было бедно и неухоженно. Хозяйка была одинока. Она лежала на расстеленном диване у стены, и по всему ее виду было понятно, что надолго она в этом мире не задержится. Я спросил, желает ли она креститься. Женщина хриплым голосом тихо сказала «да». Раз пришел, делай дело правильно. Я совершил Крещение не «по скору», а полным чином. Затем причастил новообращенную христианку, поздравил с прощением всех ее грехов и, наконец, побежал туда, где меня уже ждали.
* * *
Соседка пришла оформлять похороны уже на следующий день. Она была единственная, кто помогал одинокой женщине при жизни и кто мог взять на себя хлопоты, связанные с погребением. Она оказалась человеком верующим, и мы разговорились с ней, дескать, вот какая милость покойнице от Бога – перед самой смертью крестилась и причастилась! Не может быть, чтобы это было случайно. Я стал интересоваться, не знает ли соседка о каких-то добрых делах усопшей.
– Она была простой женщиной. Прожила тяжелую жизнь. Работала на заводе. Муж ее бросил, детей не было. Родни тоже никакой не было. Родом откуда-то из России, из глубинки. Молчаливая такая, угрюмая даже. Редко когда что-то расскажет. Вот знаю только, что отец у нее был диакон. Его расстреляли за веру в тридцатых годах. Она тогда еще не родилась. Это ей мать потом рассказывала. Они ведь, знаете, не говорили нигде, что отец – диакон, скрывали. Кому охота быть родственниками врага народа? Говорили, что нет отца, потом – что на фронте погиб. Да-а-а, жизнь такая, что говорить. Вы сами все понимаете. Вот, слава Богу, перед смертью хоть окрестили.
– А как отца ее звали? – спрашиваю.
– Она Ивановна. Значит, Иваном.
* * *
У нас такой закон был в соборе: ты перед смертью причастил, значит, ты и хоронишь. Было морозно, и первые комья земли, упавшие на гроб, били о деревянную крышку, как булыжники. Людей на кладбище было совсем мало. На последней молитве я помянул вслух и «убиенного диакона Иоанна».
Возвращались в город на том же автобусе-катафалке. Прислонившись к окну, я думал об отце-диаконе. Он теперь, после стольких лет, лицом к лицу увидит свою дочку, которую так и не увидел на земле. И на руках не носил, и в школу не водил, и косички не заплетал, зато вот вымолил теперь для нее Царство Небесное.
От этих мыслей было тепло и спокойно, и ехать хотелось долго, не останавливаясь.
УРОК
День обещал быть жарким. Солнце уже поднялось над черепичными и жестяными крышами, но замешкалось и на пару минут увязло в листве деревьев. Деревья не были выше крыш. Просто молодой человек, смотревший на солнце, сидел на лавочке и снизу вверх, жмурясь, подставлял лицо пучкам тонких и беспокойных лучей. Звали молодого человека Константин, он был студентом первого курса факультета классической филологии, не кончившим второй семестр и ушедшим в «академку». Было ему от роду лет двадцать.
Константин родился и вырос вдалеке от того старого города, на одной из лавочек которого он сидел и над которым сейчас поднималось июньское солнце. Молодой человек опустил голову и остановил взгляд на пляске, которую устроили на асфальте у его ног солнечные зайчики.
А дорожка песочная
от листвы разузорена,
Точно лапы паучные,
точно мех ягуаровый, –
пробормотал он про себя отрывок из Северянина, а затем вслух добавил:
– Надо было на русскую филологию поступать.
Ему действительно лучше было бы пойти на русскую филологию. Классическая была выбрана не по сердцу, а от головы. Пылкий юноша («философ в осьмнадцать лет» – сказал бы Пушкин) справедливо думал, что латынь будет ключом к будущему изучению мировой истории и культуры. Но одно дело читать в оригинале Тита Ливия, а другое – двигаться к этой цели, заучивая новые слова, склонять и спрягать и, что главное, видеть, как конечная цель, в силу сложности, не приближается, а удаляется. Тот, кто не ошибся в выборе, в этом случае напрягает силы. Ну а тот, кто ошибся, – опускает руки. Костя опустил руки и переключил внимание.
* * *
Переключаться было на что. Город, из которого он приехал, был сер и однообразен. Над ним редко летали птицы, может быть потому, что с высоты птичьего полета взору нечем было залюбоваться. Внизу угрюмо жили простые и хорошие люди, которые многого не знали и о лишнем не любили думать. Для них жизнь была не праздником, а тяжелым путем, который нужно пройти, разгребая препятствия. Константин уехал оттуда, когда окончил школу. Уехал без радости, наоборот – с комком в горле. Он любил и родителей, и друзей, и вообще все, что пахло детством и отрочеством. Но в родном городе не было университета, а в ближайших городах не было классической филологии, и восемнадцатилетнему отличнику, влюбленному в поэзию Серебряного века, пришлось собираться в далекий путь.
* * *
Новый город оказался целым откровением. Он был упрям, как женщина, и не хотел подстраиваться под современность. Его мощенные булыжником мостовые тосковали по цоканью копыт и грохоту карет. Их тоске вторила тихая грусть многовековых зданий. Если улицы с трудом терпели шуршание резиновых шин, то дома, как великаны, съевшие что-то неудобоваримое, страдали от поселившихся в них наших современников. Евроремонтам, обновившим внутренности квартир, дома снаружи мстили осыпающейся штукатуркой и трещинами в стенах. Дома помнили, как по их деревянным лестницам со скрипом медленно поднимались местные Шейлоки, чтобы, закрывшись на засов, всю ночь звенеть монетами в зловещих бликах сального огарка. Из их подворотен, согнувшись, чтобы не удариться о низкий косяк, хоть сейчас мог выйти, закутавшись в плащ, кто-нибудь похожий на Казанову. Но вместо всего этого в городе жили обычные люди, разогревающие завтраки в микроволновках, уверенные в своем величии, не замечающие красоты и ничего толком не знающие.
* * *
Константин полюбил этот город и почувствовал его затаенную тоску. Не раз и не два, пропуская пары, он бродил по узким улицам и с чувством сострадания вглядывался в каменные глаза кариатид, поддерживающих балконы, сатиров, криво ухмыляющихся всем проходившим мимо. Не раз и не два он с замиранием сердца входил в незнакомый дворик и застывал перед увиденным. Это мог быть помеченный голубями барельеф Архангела Михаила со злым сатаной под ногами. А могли быть натянутые через весь двор веревки с висящими на них, подобно морским флагам, простынями и довоенными женскими подштанниками. Это мог быть просто квадрат голубого неба, образованный сомкнутыми крышами, а Константин, как будто со дна колодца, смотрел на медленно проплывавшие вверху облака. Он мог стоять порою по пять и более минут, забывая про университет, вслушиваясь в биение сердца этого старого, но не желающего умирать города.
Тяжелый, низкий бас колокола на кафедральном соборе часто заставлял его вздрогнуть, и он, очнувшись, выходил из двора на улицу с чувством, что живет в веке восемнадцатом. Яркая реклама на ближайшем ресторанчике тогда удивляла его не меньше, чем часы «Ролекс» на руке перуанского индейца. Он глубоко вдыхал и, засунув руки в карманы, шел дальше. Шел медленным шагом безнадежно влюбленного человека.
Учиться в таком режиме было невозможно. Появились первые долги по зачетам, потом – проваленная сессия. Наконец – «академка» и вольные хлеба. Домой Константин об этом не сообщил. Решил не тревожить родителей. Из общежития его пока не гнали, книги в библиотеке давали по-прежнему. Нужно было устроиться на работу, чтобы не тянуть из родительского дома копейки, и расслабиться, отдавшись на волю теплых волн океана жизни.
В этом возрасте человек безрассуден, а жизнь к нему ласкова, и это (как сказал бы Бродский) – «щедрость волны океана к щепке».
* * *
Костя устроился на посудомойку в одном из маленьких кафе, которых в городе было больше, чем в лесу деревьев. Люди здесь бродили из одного кафе в другое, выкуривали десятки сигарет, тушили бычки о недоеденные пирожные, и было непонятно, работают ли они где-либо, а если нет – на какие деньги живут.
Подсобка его кафе выходила во двор, куда также выходили двери склада продуктового магазина. Не раз Константин помогал грузчикам носить ящики с консервами или колбасой. Это было нетрудно. Даже наоборот – приятно. Молодое тело скучало по мускульной усталости. Разгрузив товар, работяги наливали себе и ему по «сотке» и закусывали только что разгруженной колбасой. Сам себе в это время Костя казался пассажиром с «Титаника». Пассажиром, который вечером разносит публике шампанское на верхней палубе, а день проводит в машинном отделении с кочегарами.
«Чем живут эти люди?» – думал он, вглядываясь в серые лица мужиков, вслушиваясь в их однообразные матерные разговоры.
«Чем живут эти люди?» – повторял он вопрос уже в кафе, глядя на мужиков с руками без мозолей и на женщин с длинными ногтями.
Свою жизнь он продолжал ощущать как учебу, только более качественную, практическую.
* * *
Большинство людей учится, читая книги. Но есть и иные пути. Антоний Великий спрашивал у философов:
– Что раньше: ум или книги?
– Ум, – отвечали те, – ведь книги – из ума.
– Значит, – говорил Великий, – очистившему ум книги не нужны.
Этот второй способ – очищение ума – редок и тяжел. Говорить о нем может лишь имеющий опыт. Константину открылся третий путь – общение с людьми. «Каждый человек, – однажды подумал он, – живет жизнью драматической и таинственной. Будь она увековечена пером Шекспира, то быть бы ей известной и читаемой вовеки. Люди – это непрочитанные книги. Это покрытые пылью инструменты, которые зазвучат, лишь стоит их коснуться умелыми пальцами».
Эта мысль озарила его однажды под вечер, когда раковина была полна блюдец, а средство для мытья посуды закончилось. Он даже присвистнул от радости. Это же цель!
Завести разговор, познакомиться, неважно где – в поезде, в баре, на пляже. Аккуратно, как кончики пальцев в волшебное озеро, окунуть душу в чужую жизнь. Без бумаги, напрямую узнавать от людей самое важное, если, конечно, они – люди – согласятся пустить тебя не только в прихожую, но и в спальню, и в кладовую своего душевного дома.
Впивать слова чужого языка,
Угадывать великое в немногом…
– пробормотал он про себя из Брюсова и открыл кран горячей воды.
– Нет, все-таки надо было поступать на русскую филологию, – добавил он вслух.
* * *
Легче всего было начать со своих сверстников-студентов. Но у этих еще не было душевного дома со спальней и кладовой, с драгоценностями в сейфе и скелетом в шкафу (как сказали бы англичане). У них была пока лишь душевная общага, и чтобы найти в ней высший смысл, достаточно было всего лишь поговорить с комендантом.
«Говорить нужно со стариками, – думал Костя, – с теми, кто стоит на грани и уже чувствует вечность». Он уже потихоньку почитывал Библию. Читал бессистемно, с любого места, и понимал мало. Но некоторые вещи очерчивались в его сознании, как резцом по алмазу. Так запомнились, запали в душу чьи-то слова: «Мы – вчерашние. Пойди спроси у древних».
«Пойду спрошу, – подумал Костя. – Спрошу у тех, чье сердце было не раз изодрано изменами, потерями и расставаниями. У тех, чей хребет от времени согнулся. Спрошу у тех, кто в этом мире все уже видел и уж не ждет новостей».
Константин хотел спросить о том, как и для чего жить. Это необходимо узнать, чтобы не делать лишних движений, не тратить времени даром. И он начал спрашивать.
* * *
Первый опыт его шокировал. Люди, от которых уже, казалось, пахло землей, которые уже одной ногой шагнули за грань, ни о вечности, ни о смысле жизни не думали и говорить не любили. Они даже обижались, нервничали, как будто подозревая собеседника в желании поторопить их смерть. Самый первый из тех, к кому Костя обратился, на вопрос, что ему больше всего запомнилось из прожитого, стал долго рассказывать о пиве, которое варили в тридцатых, о товарище по имени, кажется, Юзек, который обыгрывал всех в бильярд, и о всякой подобной всячине. Разговор проходил на той самой лавочке, на которой мы познакомились с Константином. В двух шагах от этого места было кафе, где он работал.
Старик не удивился любознательности подсевшего к нему молодого человека. Он стал рассказывать о своей молодости, положив руки на палочку и упершись в них подбородком. Картины прошлого воскресали перед его выцветшими глазами, и видно было, что он любил себя тогдашнего и не хотел возвращаться мыслями назад в действительность.
А Косте хотелось плюнуть и уйти, хотелось матернуться или даже заплакать от обиды. Глупые старики, ничего не могущие сказать молодежи, были для него так же бессмысленны и гадки, как дети-развратники.
С тех пор он обжигался часто, постепенно прощаясь с самою мыслью завести умный разговор с незнакомым собеседником. Но на лавочку перед работой приходил регулярно. Он садился удобно, по молодежному, почти ложился, запрокинув голову и раскинув руки. Читал по памяти отрывки любимых стихов и наблюдал за солнцем. Когда оно выпутывалось из древесной листвы и в упор, без помех светило Косте в лицо, становилось ясно, что тяжелый шар земной совершил нужный поворот вокруг своей оси. На часах было десять, и пора на посудомойку.
* * *
– Подвиньтесь, пожалуйста.
Константин сел прямо и обернулся на голос. На него смотрела молодая женщина возрастом чуть старше его. В руках у нее было вязанье, а рядом стояла девочка лет пяти.
– Пожалуйста, – Константин убрал руку (в вольной позе он занимал пол-лавки). Если по уму, то нужно было бы вставать и идти на работу – кафе уже открылось. Но почему-то хотелось остаться.
– Это ваша дочка?
– Да, – женщина ответила, не отрываясь от вязанья, а девочка (прехорошенькая) стояла возле матери и внимательно изучала соседа по лавочке.
– А сколько ей лет?
– Скоро будет пять.
Поняв, что речь идет о ней, малышка прижалась к матери, но глаз от дяди не оторвала.
– Я люблю детей, – сказал Константин, чувствуя, что пауза затягивается. – У меня их будет много.
– Ну, много!.. – женщина улыбнулась. – Сначала жену найдите.
– Я… ищу.
– Разве? А я думала, загораете.
– Я память тренирую, – немного обиженно и по-детски буркнул Костя.
– Это как?
– Стихи наизусть читаю.
– И кого же?
– Северянина, например.
– А…
Женщина вдруг оторвалась от вязанья и продекламировала:
Он тем хорош, что он совсем не то,
Что думает о нем толпа пустая,
Стихов принципиально не читая,
Раз нет в них ананасов и авто…
– Вы знаете Северянина?!
– Знаю… – женщина опустила голову к вязанью, а девочка внимательно и тревожно посмотрела на мать.
– Бы что-то закончили? – спросил Костя.
Он вдруг почувствовал к этой женщине огромный интерес, в основном как студент, но чуть-чуть и как мужчина.
– Я училась, но не окончила, – ответила собеседница. – Замуж вышла. Вот мой диплом (она поцеловала дочку в лобик), а вот – моя кандидатская (показала на вязанье).
Тут Константин заметил, что животик у нее округлый, и если бы имел опыт, то понял бы, что месяц уже шестой, а то и седьмой.
Какая-то странная ревность к неизвестному мужу кольнула его в сердце. Константин вдруг почувствовал себя маленьким и несерьезным.
– А вы знаете, – прервала молчание женщина, – я и сейчас учусь. Вот мы с Полей (услышав свое имя, малышка посмотрела на мать и улыбнулась) смотрели недавно библейские гравюры какого-то немца.
– Шнорра?
– Кажется, нет.
– Карольсфельда?
– Вот. Его самого. И представляете? Поля меня спрашивает: «А почему у Адама и Евы – пупочек?» Я не понимаю вопроса. У всех, мол, пупочки. А она мне: «Нет. Их мама не рожала. Адам – из земли. Ева – из ребра. А пупочек – это от пуповинки». Представляете?!
Сильный крик оборвал их разговор.
– Ты долго будешь отдыхать, паразит? Уже пол-одиннадцатого!
Орал шеф-повар Костиного кафе. Константин вскочил на ноги, рванулся было бежать. Но потом остановился.
– Сейчас иду, – крикнул он шефу. – Извините, мне пора. Я должен идти.
– Идите-идите. Работа – это святое, – улыбнулась женщина и опустила глаза к вязанью.
– Вы мне очень помогли, – сказал Костя и побежал. Метров через десять он обернулся и крикнул:
– Вас мне Бог послал!
Женщина улыбнулась в ответ.
То, к чему он сейчас прикоснулся, еще требовалось осмыслить, осознать. Но однозначно это был чудесный урок. По сути, подарок.
Уже в дверях кафе он обернулся. Женщина вязала, а Поля прыгала вокруг лавки на одной ножке.
Константин улыбнулся и переступил порог.
* * *
Константина я знал лично. В тот старый город, где он жил не доучившись, я приехал в командировку. Что-то затянулось и не заладилось, пришлось остаться до понедельника, и в воскресенье нужно было где-то помолиться. Православный храм в городе был один. Я нашел его минут за десять до всенощной и залюбовался молодым человеком, сидящим за свечным ящиком. Он продавал свечи, писал имена в записки для службы, бойко выдавал сдачу и успевал каждому сказать одно или два нужных слова. Кому об исповеди, кому – о поминании усопших, кому – о чтении Евангелия.
После всенощной я еще раз подошел к нему и разговорился. Константин – а это был он, – хотя и выглядел уставшим, охотно поддержал разговор. Мы сидели у храма на скамейке и до темноты говорили о Литургии, о Святых Отцах, о прожитой жизни. В тот вечер он и рассказал мне кратко историю своих поисков и своего обращения. Когда стало совсем поздно, он предложил мне заночевать в церковном доме.
– У нас возле просфорни есть комната для гостей. А в просфорне работаю я и с субботы на воскресенье в ней ночую.
Я с радостью согласился.
– Увидимся завтра на Литургии, – сказал Константин и пожелал мне спокойной ночи.
На следующий день мы увиделись, но так и не поговорили. На службе было много людей. Константин уже не сидел за свечным ящиком, а прислуживал в алтаре, выходил со свечой на Входе и читал Апостол. Когда служба закончилась и, поцеловав крест, люди стали выходить из церкви, я увидел его. Он стоял на церковном дворе напротив пономарки и разговаривал с молодой женщиной. Левой рукой женщина легко покачивала коляску, в которой спал симпатичный богатырского вида мальчуган, а правой обнимала девочку лет шести. Они разговаривали о чем-то важном, и я не хотел им мешать.
С тех пор мы больше не виделись. Дела мои решились, и я уехал из старинного города, который, честно говоря, мне не очень понравился. Уже в поезде, отправляясь домой, мне захотелось записать историю молодого человека, что я и поспешил сделать. Конечно, что-то забылось, а что-то ускользнуло от внимания, но в целом история его мне показалась интересной, и не хотелось предать ее забвению. С тех пор прошло уже лет пятнадцать. И вот недавно, разгребая бумаги, я нашел свою рукопись. Она истрепалась и пожелтела, а первое предложение – «День обещал быть жарким» – было написано как будто куриной лапой: в это время поезд тронулся, и ручку сильно повело по бумаге.
Я вспомнил об этом и улыбнулся.
ПРАЗДНИК СВЕТЛОЙ ГРУСТИ
Новогодняя полночь всегда наполнена радостным шумом, звоном бокалов, добрыми пожеланиями. Но звучит в праздничном бое часов и нота грусти – о невозможном, об утраченном, о неотвратимом беге времени. Не потому ли с такой надеждой говорят люди о новом счастье, что «старому» всегда чего-то недостает?
Недавно прочел такую сентенцию: «Людям грубым подарена радость. Людям тонким подарена грусть».
Назвать себя человеком тонким не совсем прилично. Это все равно что рассказывать о своей гениальности. Но грусть мне действительно подарена. Я часто грущу, тихо и без надрыва, грущу, не впадая в уныние. В это время буйная радость кажется мне родной сестрой кощунства. Я наслаждаюсь грустью, и может, это вовсе не грусть, а что-то иное, и лишь бедный язык человеческий лепит свои ярлыки на совершенно разные понятия.
Грустить хорошо в Новый год. Он никакой не новый, потому что все старое и грязное тщательно перетаскивается из одного года в другой, и качество жизни не меняется автоматически. Но все равно это трогательное время, когда будущее кажется волшебным, а прошлое оформляется и приобретает законченный вид.
Советская власть проклевала дырку в голове рядового гражданина своими идеологическими праздниками и политинформациями.
Потому 8 Марта и Новый год так были близки уставшему от общественной деятельности человеку. Но 8 Марта я все же не люблю. Мимозы, шампанское и грубая лесть – вот и весь праздник. Куда лучше мороз, запах хвои, мандарины, бессонная ночь и глупое ожидание счастья.
Это ведь немножко похоже на смерть – состояние, когда прошлое уже закончилось, а будущее еще не началось. Так в фильме «Влюблен по собственному желанию» мужчина и женщина познали друг друга, а за окнами на электрическом табло зажглись четыре нуля. Ноль часов и ноль минут. Лучший образ для начала новой жизни трудно сыскать.
Смерть и жизнь. Умирание старого и зарождение нового. Это и есть Новый год. Философы (например, Хантингтон) считают, что все многообразие жизни, все вдумчивое, все благоговейное, все неспешное и нежное, что есть в культуре, вырастает из отношения к смерти. Новый год – это праздник, делающий взрослых детьми, заставляющий почти физически ощутить прожитые годы и безгрешно погрустить.
Кто-то скажет, что это праздник не церковный, глупый и бессмысленный. Так оно и есть. Но ведь и человек именно таков. Самый церковный человек ведь не на сто процентов церковен. Он продолжает состоять из слабостей и глупостей, и высшим проявлением последних была бы уверенность в том, что человек уже и умен, и силен. Не умен и не силен, я вас уверяю. Все еще взрослый ребенок, верящий в чудо и ждущий милости, – вот каков человек. И это прекрасно! Так пусть он не натягивает на лицо строгую маску, пусть не выбрасывает из жизни все невинное и сентиментальное. Пусть в простоте сердца ставит в доме елку и дышит несколько дней запахом хвои, пусть молится в полночь и освящает именем Божиим новый виток Земли вокруг Солнца.
Лично я не хочу быть сильным. Я хочу быть слабым, как ребенок, потому что таковых есть Царство Небесное. И уже не пугает меня то, что Новый год приходится на пост. Мне и без водки и мяса праздник хорош. И неестественность жизни, при которой Новый год опережает Рождество, меня уже не мучит. Я привык к смеси двух календарей. Открою бутылку вина, обниму жену, поцелую детей. Включу телевизор. Быстро устану от глупых шуток. Выключу телевизор. Буду глядеть в окно. Дай Бог, чтобы там медленно опускались с небес на землю снежинки. Гирлянды на елке будут мигать, и на душе будет сладко и тихо.
Чего вам еще от жизни надо? Может, вам войны надо или голода? Может, вы беженцем стать хотите? Может, давно не болели? Некоторые люди ведь столь грубы и духовно бесчувственны, что совершенно не могут и не умеют наслаждаться простыми радостями, пока серьезная беда в двери не постучит. А мне контрастов не нужно. Я и без беды буду радоваться. И радость моя будет странной, тихой и смешанной с грустью.
Хотя, может, это и не грусть вообще. Просто бедный человеческий язык клеит бирку с одним и тем же словом на совершенно разные состояния.
СЛУЧАЙ В БАКАЛЕЙНОЙ ЛАВКЕ
Эту историю я слышал давно от священника, которого уже нет в живых. Но верьте, «совесть в том порукой», я ничего не добавлю от себя к этой словесной картинке, кроме разве что рамки. Не прикалывать же картинку канцелярской кнопкой к дверному косяку. Пусть висит, как положено, в рамке.
* * *
Дело было в Польше между Первой и Второй мировыми войнами. Если конкретней – в Восточной Польше, той, что до операции «Висла» была плотно заселена украинцами. Еще бациллы социализма, национализма и атеизма не разложили народную душу. Еще в каждом селе была церковь, и через каждые сто километров езды в любом направлении можно было приехать к воротам монашеской обители.
В городках торговлю вели евреи. Даже сегодня (сам видел), когда с домов в западных городках сползают под действием дождя и снега поздние слои побелок и штукатурок, советских и самостийных, на стенах проявляются таинственные еврейские письмена. Это не каббалистические знаки. Это внешняя реклама и магазинные вывески, написанные на языке идиш при помощи букв, на которых Бог даровал людям «мицвот», т. е. заповеди. «Только у нас лучшие ткани», «Арон Верник и сыновья», «Самое вкусное масло» – все это было написано на польском и еврейском языках. Не берусь судить о качестве продуктов и мануфактуры, продававшихся в еврейских лавках, но краски, которыми были расписаны стены, намного лучше сегодняшних.
История, которую я хочу пересказать, напрямую касается двух этнорелигиозных групп довоенной Польши – украинцев и евреев. И тех и других в Польше было очень много. И тех и других поляки очень недолюбливали. Поверьте, я выразился крайне сдержанно.
Главный герой нашей истории, он же и первый ее рассказчик, был послушником в одном из православных монастырей. Это был крепкий молодой парень, ходивший в подряснике и скуфейке, однако не принимавший обетов и имевший право в любое время уйти из обители и жениться. Добавлю сразу, что это он со временем и сделал, так как я узнал его уже почтенным протоиереем и отцом семейства. Но в то время в его обязанности входило чтение псалмов на утрене и часов перед Литургией, а также помощь в хозяйственных делах одному из самых стареньких монахов обители. Подмести в келье, растопить печь, выбить напольный коврик да сбегать раз в неделю в соседскую лавочку за сахаром и чаем – вот и весь перечень обязанностей нашего одетого в подрясник юноши. Вы, наверно, уже догадались, что соседская лавочка принадлежала еврейскому семейству. Там были и чай, и сахар, а кроме чая и сахара еще мука, подсолнечное масло, глиняная посуда, скобяные товары, амбарные замки и еще куча всякой всячины. Там же можно было за умеренную плату наточить затупившиеся ножи и ножницы. Хозяином лавочки был старик, имени которого рассказчик нам не поведал. Забыл, должно быть. Но он не забыл, что старик был учтив с покупателями, учтив без всякого льстивого лицемерия, и с особым почтением относился к монахам.
Я и сам видел эту сознательную учтивость.
Когда не очень умный гид потащил меня в Иерусалиме к Стене Плача прямо в рясе и с крестом, то старые евреи смотрели на меня очень смиренно и спокойно. Я бы сказал, что смотрели они с пониманием, а некоторые даже… Боюсь зайти в таинственную область. Зато молодые выпучивали и без того выпученные глаза, гневно смотрели на крест и рясу, шумно втягивали сопли из носа в глотку и харкали мне под ноги. Если бы не вездесущие полицейские, несдобровать бы мне. С тех пор, когда читается в Церкви об убиении Стефана, выпученные глаза, сверкающие из-под широких шляп, оживают в моей памяти.
Итак, хозяин лавочки был стар, но у него был сын, и сын был молод. И не старый хозяин, а его молодой сын стоял за прилавком чаще всего. Сынка звали по-нашему Соломон, по-еврейски Шмуэль, сокращенно – Шмуль. Он был одним из тех людишек, которые способны жить только в двух режимах – загнанного под лавку труса или бессовестного наглеца. В ту пору Шмуль жил во втором режиме.
Этот по возрасту неумный, а по характеру нехороший человек где-то поверхностно ознакомился с Новым Заветом. Запомнил он из этой Книги только одну фразу. Ту, в которой говорится о подставлении левой щеки после удара в правую. Стоит заметить, что армия туповатых людей, знающих из Евангелия только эту фразу и на основании только этой фразы не верующих во имя Господа Иисуса, весьма велика. Шмуль завел себе правило, как только увидит нашего послушника в своей лавке, обращаться к нему с одним и тем же вопросом: «А правда, что вы должны после удара в одну щеку подставлять другую?» После этого следовал удар по лицу, не шибко сильный, но обидный. Послушник краснел, терпел, скрепя сердце покупал необходимое и пулей уносился в монастырь. Так продолжалось довольно долго. Виной тому провинциальная скука. Ведь где найти развлечение стоящему целыми днями у прилавка молодому человеку?
Зато для послушника походы за чаем и сахаром превратились в настоящую пытку. Накануне выходов за покупками он начинал уже заранее то краснеть, то бледнеть, то покрываться испариной. Как ни был стар его духовный отец, от его глаз страдания послушника не скрылись. Старец расспросил подробно юношу о его тревогах, и тот, расплакавшись, облегчил душу подробной исповедью. В тот вечер они беседовали долго. Что такое рассказывал старый монах молодому послушнику, мы не знаем. Однако следующего похода в лавку послушник ждал с большим трепетом, нежели впоследствии ждал свидания с будущей матушкой. (Так он сам говорил.)
* * *
В урочный день бодрым шагом шел наш герой в лавку, перешагивая лужи и разминая крепкий крестьянский кулак.
Шмуль, как вы уже догадались, был лишен оригинальности. Регулярно терроризируя своего покупателя, он не утруждал себя переделкой сценария. Перед тем как ударить, он задавал один и тот же вопрос: «А правда, что вы должны?..» и так далее. Но в этот раз представление было сорвано. «Ты читаешь Евангелие? – спросил послушник. – А я читаю Ветхий Завет. Там сказано: "Око за око и зуб за зуб"». С этими словами молодой человек, так и не ставший монахом, но ставший отцом семейства и протоиереем, крепко приложился своим крестьянским кулаком к нахальной физиономии Соломона. Чуда следовало ожидать. Палач превратился в жертву, и режим безнаказанной наглости сменился режимом полуобморочной трусости.
С тех пор Шмуль учтиво кланялся, издалека видя развевающийся на ветру подрясник. Он больше не вплетал религиозные мотивы в рабочие отношения и ограничивался классической формулой «деньги – товар – деньги-штрих».
* * *
К чему я это рассказываю? Может, кто-то подумает, что затем, чтобы долить масла в догорающие антисемитские костры. Не дождетесь. Я люблю Богородицу и не могу не любить народ, в котором Она родилась. Так для чего же? Почем мне знать! Разве знает кенарь в клетке или соловей в роще, в чем смысл его пения? Знает ли жаба, зачем она квакает? В одной Агаде, правда, говорится, что знает. Давид однажды помыслил, что больше и лучше всех хвалит Бога. Тогда лягушка заговорила и смирила царя. Она сказала, что больше, чем он, поет во славу Божию. Причем знает множество мелодий, и у каждой есть множество вариантов.
* * *
Но есть, конечно, есть в пересказанной мною истории смысл. Есть, как говорила Алисе королева, «мораль». Не все проблемы нужно решать духовно. Пусть духовные вопросы решаются духовно. Пусть душевные вопросы решаются душевно. Ну а мирские вопросы пусть решаются по-мирски. А то мы склонны всегда надеяться на явное чудо, вот и ставим свечки за негодяев вместо того, чтобы дать им по шее. Одна старенькая прихожанка, жившая одиноко, говорила при мне батюшке: «Батюшка, у меня кран течет, помолитесь». Он ей отвечал: «Сантехника зовите». Но она не понимала. Продолжала просить молитвы. Вот так, бедная, путала мирское с духовным.
Конечно, нужен и старец, чтобы подсказать, как поступать в тех или иных случаях. Ведь недаром он с послушником долго разговаривал.
Короче, евреи здесь ни при чем и послушники ни при чем, равно как и довоенная Польша. Все дело в рассудительности, которая есть высшая добродетель.
* * *
Будем считать, что это мое размышление и является рамкой для картинки, нарисованной рассказчиком и живым участником происшествия. Но согласитесь, не прикалывать же картинку канцелярской кнопкой к дверному косяку. Пусть висит в приличной рамке на стене среди фамильных портретов и натюрмортов, купленных на вернисаже.
ПЫЛЬ НА СОЛОМЕННЫХ ПОГОНАХ
Мировая война потому и названа мировой, что прямо или косвенно охватывает все континенты. Наш евразийский ум неплохо ориентируется в событиях, произошедших на европейском театре военных действий. То, что происходило в Африке, нам интересно в меньшей степени, а то, что случалось, скажем, в Океании или Меланезии, совсем не остается в памяти, поскольку прямо нас не касается.
Между тем в этих регионах Тихого океана происходили события чрезвычайно важные – если и не с точки зрения победы над Рейхом и его союзниками, то с точки зрения культурной и цивилизационной.
* * *
Меланезия. Не очень увлекаясь географией, я вряд ли заинтересовался бы этим районом Тихого океана, хотя время от времени приходилось слышать об островных государствах, составляющих его – Фиджи, Новой Гвинее, Соломоновых островах… Эти родинки на теле океана, населенные преимущественно чернокожим населением (отсюда общее название региона: на греческом означает Черные острова), стали во времена Второй мировой базами американских ВМС. Там размещалась техника и живая сила, туда было доставлено по морю и сброшено с воздуха огромное количество грузов. Тогда-то местные жители впервые увидели бутилированную воду, консервы, военную форму и прочие культурные атрибуты белого мира, о которых дотоле не подозревали. Новейший Робинзон, конечно, делился с новейшим Пятницей солдатским пайком, и вскоре туземцы открыли для себя не только вид новых предметов, но и их вкус.
Потом война закончилась. Улетели с островов «большие птицы», унося во чреве белых людей. Уплыли корабли, груженные техникой, дав последний гудок и оставив в воздухе запах дыма. Туземцы остались. Они помнили вкус шоколада и галет, кое-кто из них был одет в подаренный китель, кто-то пристрастился к курению «Lucky Strike», но не это главное. Главное – то, что они как один были уверены: белые люди – посланники богов или почивших предков. Подарки белых – это подарки духов. Белые владеют благами не по справедливости. По справедливости блага должны принадлежать островитянам. Появление белых с подарками можно повторить. Это появление следует вызвать при помощи культовых действий.
Вот нехитрый перечень идей, давших начало весьма оригинальному культу под названием «карго». Слово это переводится как «груз». Что же стали делать «несчастные люди-дикари»? Они стали вызывать транспортные суда и самолеты, копируя действия обслуживающего персонала причалов и взлетных полос. Кто из нас не видел, как некий человек машет флажками самолету, выруливающему на взлетную полосу? Вот эти-то действия и сочли за действия ритуальные, за некие обряды и таинства, жители Меланезии.
Дальше все было смешно и грустно одновременно. Аборигены стали делать из дерева, соломы и камыша максимально точные копии винтовок, раций, сигнальных флажков. С бутафорскими винтовками на плечах они ходили строем, имитируя смены караулов. В деревянные рации они отдавали команды. Из камыша строили подобие диспетчерских пунктов, где с умным видом глядели в самодельные карты и строили планы доставки грузов от духов на землю. Кое-где этот бред закончился быстро. Там, по всей видимости, люди были не то что бы умнее, но прагматичнее. Однако есть острова, где до сих пор с фанатичным упорством совершаются «разводы» и «вечерние поверки», где на построенных площадках ожидают вертолетов чернокожие люди с деревянными рациями в руках.
Вывод из этого явления очень прост. Перед нами люди, не имеющие малейшего понятия о подлинной сути происходящего и пытающиеся копировать чужую успешную деятельность одним лишь механическим повторением внешних приемов…
* * *
Смешно, нечего сказать. Однако – «над кем смеетесь? Над собою смеетесь». Повторять внешние приемы, не проникая в суть дела, – это врожденный недуг всего человечества.
Когда талантливейший Лев Толстой начал «двигаться умом» в гордых поисках истины, он стал одеваться в лапти и в рогожи и шел с мужиками на богомолье. Бил поклоны, как они, дул на пальцы, прежде чем перекреститься. Правда, при случае не отказывал себе в удовольствии сказать интеллигентному собеседнику: «Я – барин». Ну чем не культ карго? Оделся в мужика, чтобы мужицкую веру найти и тем сердце успокоить. Но с переменой одежды внутреннее содержание не меняется. Машет флажками папуас, а духи ящики с «пепси» не присылают.
Так мальчик Волька в известной советской экранизации «Хоттабыча» просит старика сделать телефон. Джинн телефон делает, только его поделка – лишь болванка, внешне похожая на таксофон, но соответствующего внутреннего устройства не имеющая и к сети не подключенная, и оттого – бесполезная. Вот тебе и культ карго. От него даже волшебник не застрахован, если волшебник в технике «ни бум-бум».
* * *
Вся наша игра в демократию – это культ карго. Мы верим в магию демократических процедур, не давая себе труда заглянуть за кулисы демократического театра. Мы верим в то, что избирательные процедуры сами собой обеспечивают изменение – не власти, нет, – жизни! – к лучшему. Хотя уже один лишь голый слух нам мог бы указать на тождество праха, «иже в урне погребальной», – и бюллетеня, «иже в урне избирательной».
Я не знаю, плакать мне или смеяться, когда звучат словосочетания типа «спикер парламента Киргизии». И дело не в киргизах. Мы сами недалеко от них ушли. Все эти «заплаты из небеленой ткани», пришитые к нашим не столько ветхим, сколько особого покроя ризам, способны со временем лишь сделать дыру еще хуже. Баловство с игрой по чужим правилам – лучший способ для негодяя делать все, что он хочет, заручившись формальной поддержкой народных масс.
С точки зрения духовной, отдавать приказы в соломенный «мегафон» и совершать формальные демократические процедуры – одно и то же. Дикарь остается дикарем, со всем своим мировоззрением, со своими «мухами» в голове, хоть назови его вице-канцлером, хоть возведи его в приват-доценты. Вся наша сегодняшняя действительность, вернее, все убожество ее, заключается в обезьянничании, в копировании внешних форм без приобщения к творчеству, эти формы породившему.
Иной демократ готов словесно громить оппонентов и бороться за идеалы демократии, но спать на соломе и жевать сухой хлеб, как тот патриций, – не готов. И сына родного за измену жене убить не готов – не только собственной рукой, но и чужой. Пить одну воду и укрываться тогцим плащом поборник идеалов Рима не захочет, хоть ты застрели его. Зато приобщиться к славе Рима – очень даже не прочь, для того и рвет глотку в словесной борьбе за демократические процедуры.
Все это – карго. Жалкое, смешное, уродливое карго. Ничего больше. Все демократы и либералы наши очень органично смотрелись бы в старых кителях с соломенными погонами. Который год они машут бамбуковыми флажками невидимому самолету, который вот-вот должен прилететь, неся на борту счастье. Но он так и не летит, а время уходит, рождая сомнение во всесилии парламентских пассов руками.
* * *
Кто-то, не приведи Бог, вообразит еще, что западная жизнь – это рай, а мы – дикари, вызывающие «дух благополучия» копированием западных механизмов. Нет, дорогие, нет. Люди Запада так же податливы на общечеловеческую глупость, как и люди остального мира. Они вертят мебель по учению фэн-шуй, они медитируют в обеденных перерывах, они совершают паломничества к индуистским и буддистским монастырям Востока. Они разочаровались в собственной цивилизации и ищут счастья в тех таинственных областях, где восходит солнце. Они тоже смешны, эти медитирующие клерки и бизнесмены, бормочущие мантру. Они тоже – служители культа карго, то есть люди, ищущие просветления и счастья путем механического повторения чужих обрядов, чужих форм культурной жизни.
А ведь есть еще псевдонаука, где опыты якобы производятся, и деньги из бюджета выделяются, а результата не будет вовеки.
Есть еще и игра в святость, где все посвященные в игру – якобы святые, но на самом деле лишь балуются подражанием, а Духа не стяжали и, судя по всему, не стяжут.
Есть тысячи подмен с тупым и смешным подражанием ранее сложившимся формам. Только вот не для всех это смешно. Многие слишком серьезно относятся к пустым и бесплодным оболочкам. Случись тебе над этим вслух посмеяться – глотку могут перегрызть.
А ведь это лишь культ карго, и только…
* * *
Учиться отличать ложь от истины обязан всякий христианин. Ложь рядится в одежды правды по принципу внешнего подражания. Тот, кто примет подделку за истину, согрешит, поскольку пророк Исайя объявляет: «Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом, тьму почитают светом, и свет – тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое – горьким!» (Ис. 5, 20). А вот как не перепутать бесхитростную правду с правдоподобной ложью – вопрос. Для всякого верующего человека есть реальная угроза: всю жизнь махать флажками на той полосе, куда никогда не прилетят самолеты. Есть опасность оказаться служителем культа карго при полной уверенности, что ты – христианин. Причем христианин православный.
Соломенные погоны истлели. Винтовку из хвороста объели мыши. «Взлетная полоса» заросла травой, потому что с нее никогда не поднимаются в воздух…
«Плюну-ка я на это бесполезное чудачество, – думает простой человек, – и займусь тем, что прокормит меня и семью мою».
ЧУДАКИ
Количество кошек в квартире у тети Жени не поддавалось исчислению. Стоило войти в дверь, как ты попадал в кошачий заповедник, кошачье царство, в котором рыжие, серые, черные, пятнистые животные сидели на кухонном и гостином столах, на подоконниках, на старом платяном шкафу. Животные были всюду, они потягивались, лежа на кровати, умывали мордочки, облизывали лапы, вальяжно прохаживались по квартире, выгибали спины и терлись в прихожей боками о твои ноги. Они везде оставляли свой запах, вернее – свою вонь и свою шерсть. Это становилось особенно заметным потом, когда ты выходил из этого мурлычущего зверинца на улицу и с ужасом видел, что кошачья шерсть покрывает твою одежду от нижнего края брюк до локтей и выше. На твоем месте любой аллергик вычихал бы внутренности и истек слезами. Но ты, по счастью, здоров, и тебе остается двумя пальцами – указательным и большим – снимать с себя клочки и отдельные волосы, сопровождая это занятие незлым поминанием как отдельных котов, так и всего кошачьего племени.
У человека, оказавшегося однажды в квартире тети Жени, возникало непреодолимое желание никогда больше не переступать ее порога. Но это была несбыточная мечта. Тетя Женя регулярно хотела причащаться, а отказывать в Таинстве – смертный грех. Во избежание этого смертного греха нужно было приходить к ней раз в месяц и оказываться под угрозой другого смертного греха, а именно – неблагоговейного отношения к Святыне.
Дароносицу негде было поставить – крутом кошачья шерсть. И сами усатые и мяукающие твари вели себя так по-свойски, что, того и гляди, могли в любую минуту прыгнуть или тебе на плечи, или на стол с зажженной свечой и стаканом теплой воды для запивки. Саму дароносицу приходилось держать в руках, не выпуская.
Кроме этих сложностей, после причастия тетя Женя хотела угостить дорогого гостя чаем и поговорить о жизни.
Она была блокадница, и этим многое объяснялось. В большой и опустевшей холодной петербургской квартире (мебель пошла на дрова) она когда-то сидела, обессилевшая от голода, вместе с такой же обессилевшей матерью. Не было сил выходить из дома, не было сил стоять в очереди за хлебом. Организм голодающего человека перестраивается на особый режим. Все органы тела каким-то им одним понятным способом отдают часть своей энергии нескольким самым важным органам: сердцу, печени, легким. Остальные переходят на полуспящий режим, чтобы не тратить силы. Первыми отказываются от энергозатрат мышцы лица, так называемые мимические мышцы. Нужда в их деятельности пропадает первой. Вся красочная палитра эмоциональных состояний, столь естественная для сытого и здорового человека, скрывается под саваном отрешенности. Ни иронии, ни гнева, ни широкой улыбки, ни поднятых в удивлении бровей, ни опущенных от обиды уголков рта. Ничего. Только потухший взгляд и бессильно отвисшая нижняя челюсть. Отсюда у голодающих тот апатичный, полуживотный вид, который ни с чем не перепутаешь.
Так они сидели в холодной и пустой квартире, ни о чем не разговаривая, почти не двигаясь с места, когда входная дверь стала содрогаться от ударов извне. Это был доведенный голодом до отчаяния сосед. Вооружившись топором, он решил добраться до двух изможденных и беззащитных людей – мамы и дочки, чтобы их мясом спастись от голодной смерти.
Они все поняли сразу, без слов. В голодающем городе приближение каннибала многие чувствуют кожей. А здесь – стук топора во входную дверь. Откуда-то взялись силы, и они, мать и дочь, стали стаскивать к дверям все, что осталось в квартире: чемоданы, кусок стола, остывшую печку-буржуйку. Баррикада была слаба, но и тот, кто ломился к ним снаружи, не был силен. По тому, как слабели удары его топора, было ясно – он на пределе. Дверь уже была прорублена в том месте, где расположен замок, когда удары смолкли. Скованные страхом и голодом, они просидели неподвижно на полу неизвестно сколько времени. Взгляд их был прикован к двери, за которой больше не раздавалось ни звука. Там, за прорубленной дверью и тощей баррикадой, лежал умерший от истощения сосед. Его лицо, более похожее на анатомический череп, обтянутый кожей, замерло в жутком оскале. Костлявая рука крепко сжимала топор.
* * *
После таких историй, понятное дело, не будешь ничему удивляться. Тетя Женя, каким-то образом оставшаяся в живых, не могла пройти мимо бездомных кошек. Ее надорванная страданием, травмированная душа жаждала кого-то кормить, греть, защищать, прижимать к себе. Семьи у нее не было.
Из всего страждущего мира живых существ она остановила свой сердобольный взгляд на мяукающих животных. Хотя могла остановить его и на мышах, и на крысах, и на голубях с по ломанными крыльями, и на бездомных псах. В этом случае тоже нечему было бы удивляться. Сколько таких чудаков бродило раньше по улицам старых городов! Именно старых. Потому что в новых городах народ был пришлый, свезенный для обживания пустых мест и на стройки века. А в старых городах продолжалась история.
Это была не только история культурного преемства и созидательного труда. Это была также и история бед, несправедливостей и страданий, отнимавших у одних людей жизнь, а у других – разум. Те, у кого осталась жизнь, но померк разум, одевались в одежды своей молодости, одежды, вышедшие из моды лет пятьдесят назад. Они разговаривали сами с собой, не обращали внимания на насмешки и ироничные взгляды, медленным шагом прохаживались по изменившимся улицам родных городов. Бьюсь об заклад, они видели эти улицы такими, какими они были раньше: без электрических фонарей, без пестро одетой и вечно спешащей толпы, без автомобильных пробок.
Я тоже видел этих выживших из ума стариков, этих местных юродивых, ездящих бесплатно в городском транспорте. Я, как большинство людей, побаивался их и подсмеивался над ними. Но были и другие чудаки. Внешне вполне респектабельные, занимавшие в обществе уважаемое положение. Никто и никогда, говоря о них, не покрутил бы указательным пальцем у виска, хотя все соглашались, что люди эти не без «сумасшедшинки».
Одного из них звали Марк Иванович. Отца его звали Иван Маркович и, судя по всему, этот Иван Маркович был сыном еще одного Марка Ивановича. Кто и когда первым начал эту игру, неизвестно.
Но, продлевая свой род во времени, мужчины этой фамилии играли в некий пинг-понг и называли детей мужского пола только чередуя два имени – Иван и Марк. Пинг (Марк Иванович) – понг (Иван Маркович). Пинг (опять Марк Иванович) – понг (опять Иван Маркович).
Тот Марк Иванович, которого я знал, имел двух сыновей. Первого звали, как и подобает, Иван (Иван Маркович), а второго – Марк (Марк Маркович). Оба были похожи на отца, и странно было думать, что дети их тоже будут обречены носить ту же комбинацию имен и отчеств, словно роду этому поставлена кем-то задача запутать время, сбить с толку всех архивариусов и работников паспортного стола, надавать неразрешимых задач знатокам генеалогии.
Марк Иванович, которого я знал, был доктор-терапевт. Роста и сложения он был богатырского. Голосом обладал зычным и за столом любил петь обрывки каких-то арий. Когда, придя в дом по вызову, он садился у постели больного и, взяв того за руку, уверенным, приглушенным басом начинал рассказывать об этапах скорейшего и неизбежного выздоровления, самые безнадежные больные начинали ощущать прилив сил.
Он тоже пережил голод, этот Марк Иванович, родившийся от Ивана Марковича и назвавший своих сыновей Марком и Иваном. По внешности он был полной противоположностью идеи голода, но голод сделал свое дело. Тогда, в 30-х годах на Уманщине, голод залез Марку Ивановичу под кожу и затаился навсегда. Этого, по виду, богатыря голод, а вернее, страх голода, превратил в подобие грызуна, который все тащит в норку и ничего – обратно.
Портфель доктора всегда был полон объедков. Доставая шприц или таблетки, он мог нечаянно захватить заплесневелый, весь в зеленоватом пушке, кусочек бутерброда. «О! это же можно съесть!» – говорил он и прятал бутерброд обратно в портфель. Больные брезговали брать извлекаемые из сего портфеля таблетки, но доктор улыбался так наивно и лучезарно, что они сдавались.
Из его дома никогда ничего не выбрасывалось. Мусор дети выносили по ночам, боясь, чтобы отец не остановил их и не заставил перебирать содержимое ведер. Это при том, что зарабатывал Марк Иванович прилично. Он всегда был при деньгах, но семья его жила в настоящей конуре, описание которой могло бы стать золотыми страницами реалистичной прозы XIX века, когда у читателя то и дело выжимали слезу сострадания к беднякам, живущим в трущобах. Придите на помощь, Диккенс и Достоевский. Приди на помощь, на худой конец, Короленко, описывавший детей подземелья. Придите и опишите вместо меня эту конуру, где на четырех квадратных метрах помещалась и кухня, и ванная, и кладовая. У моего пера нет чернил, и клавиатура залипает.
Но он не был нищ, нет. Он был смешон, забавен, но не нищ. В каждом селе должен быть свой чудак. В каждом квартале должен быть свой бесплатный клоун, и если его нет, значит, жизнь подходит к завершающей фазе.
Смешон был у Марка Ивановича его разваливающийся «Москвич», к которому для усиления эффекта, казалось, оставалось лишь вместо очистителей стекол приделать две зубных щетки. Смешон был и гараж, составленный из железных листов так, словно это римские воины выстроили «черепаху» и, закрывшись щитами, идут на штурм городских стен.
Он был забавен, когда рассуждал о новейших методах лечения гайморита; когда, подвыпив на дне рождения, пел арии из неизвестных опер; когда обтирался снегом на улице или бегал кроссы в свои без малого семьдесят. Забавным он перестал быть лишь когда стал разлазиться по швам и распадаться Союз. Марк Иванович как-то вдруг осунулся и постарел. Его старомодные и неизменные костюмы вдруг стали ему велики.
Вокруг шла суета вокруг каких-то купонов, талонов, вокруг обмена старых денег на новые. Люди покупали все, что можно было купить: от холодильников и машин до хозяйственного мыла и чеснокодавок. А Марк Иванович в этом не участвовал. Он ушел в себя, как зверь, уходящий от всех, чтобы умереть в одиночестве.
Он уже видел не раз на своем веку этот торговый ажиотаж, это превращение жизни в сплошной базар, эту спешную скупку всего и вся. Так бывает накануне или во время всех революций, оккупаций, коллективизаций. Так бывает накануне голода, который он больше не хотел переживать.
* * *
Когда он умер – замрите, облака, и умолкните, птицы, – на его личной, спрятанной от жены сберегательной книжке нашли счет с баснословной по тем временам суммой – то ли пятьдесят тысяч рублей, то ли что-то вроде этого. Все эти рубли в одночасье превратились в макулатуру. На них можно было купить квартиру или несколько новых машин. Теперь они существовали только в виде каллиграфической надписи, сделанной фиолетовыми чернилами на развороте сберегательной книжки. И каждая буковка этой надписи издевательски кривлялась тому, кто на нее смотрел.
Если вам нравится осуждать людей, осуждайте. Осуждайте и этого чудака, столь непрактично распорядившегося заработанными средствами в наш чрезвычайно практичный век. Но, осуждая, не забывайте, что душа его испытала нечто такое, что, слава Богу, не испытали вы. Это «нечто такое» называется голод, и люди, принимавшие в своем доме этого непрошеного гостя, навсегда становятся чудаками в глазах сытых и уверенных в своей правоте людей.
ПОХОРОННЫЕ РЕЧИ
Во времена упадка религиозности многие приходы выживают и трудятся в режиме похоронной команды. Похороны, панихиды, девятый день, сороковой день, родительские субботы…
Прочее – не часто, а это – основной труд.
Все это само по себе уже удивительно, как доказательство невозможности истребить религиозность в человеке. Очевидность смерти и страданий эту самую религиозность постоянно в человеке поддерживают. Так подтверждается максима В. В. Розанова, сказавшего, что «боль жизни всегда сильнее интереса к жизни, и поэтому религия всегда одолеет философию».
У самого не харизматичного, самого неспособного или ленивого к проповеди священника всегда под рукой погребальные стихиры Иоанна Дамаскина и великий псалом царя Давида. А значит, у него всегда должно быть, что сказать человеку. И сами люди у него всегда, пусть хоть в скромном количестве, будут, поскольку если не придут они сами, по любви к Богу, то принудит их прийти страх смерти или скорбь разлуки. И вот тут мы выскажем очень важную мысль: приведенные в храм страхом, болью или семейным долгом, эти люди придут затем опять, если прикоснется к их сердцу благодать. И, наоборот не придут в другой раз вовсе, если посещение храма не превратится для них во встречу со словом Истины, а останется отбыванием скорбного номера.
Нельзя ставить себе целью удивить, ошеломить, потрясти словом пришедших на погребение людей. Нужно лишь молиться искренно и проповедовать просто, одушевляя слова собственной верой. Вопреки атеистическому воспитанию и злобным установкам, подброшенным лукавым миром, сердца людские прочитают и усвоят бесхитростную правду, прозвучавшую в словах пастыря. Задача-минимум для пастыря – верить твердо, молиться в простоте и не лгать. Последнее означает не актерствовать и не стремиться к внешнему эффекту.
Сказанное можно пояснить на примере. Германн, главный герой пушкинской «Пиковой дамы», как известно, был причиной смерти старой графини. Он пришел к ней из-за жажды денег и власти, подобно как и Раскольников пришел к старухе-процентщице для проверки своей «идеи» и за деньгами на первое время. Раскольников бил топором по голове, а Германн всего лишь грозил пистолетом, да и то – незаряженным. Но итог был одинаков. Обе старые женщины умерли. Раскольников на похоронах процентщицы не был. А вот Германн в церковь на отпевание пошел.
Дадим слово «солнцу русской поэзии»: «Имея мало истинной веры [как и наши «захожане»], он [Германн] имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь, – и решился явиться на ее похороны, чтобы испросить у ней прощения»
Пропускаем намеренно детали прощания с покойной родственников и челяди. Идем ближе к интересующей нас теме. Отпевал графиню архиерей, и на погребении была сказана проповедь. Вонмем.
«Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине. "Ангел смерти обрел ее, – сказал оратор, – бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании Жениха полунощного". Служба совершилась с печальным приличием».
Надо ли напоминать читателю, что старуха-графиня по вредности характера и бесполезности на дела добрые мало чем отличалась от жертвы Раскольникова? И жила она, вовсе не готовясь к христианской кончине. Вместо полночного Жениха, в образе которого подразумевается Христос Господь, дождалась она Германна с пистолетом в руках. И это ночное посещение исходатайствовала ей ее беспутная молодость, проведенная в Париже, за карточным столом и за проеданием и проигрыванием имений, оставшихся в России.
Архиерей-проповедник, названный в тексте «оратором», ничего плохого делать не хотел и, быть может, не сделал. Хотя… Сделал – не сделал. Архиерей лгал. Этих общих, обтекаемых фраз, этой сладкой риторики от него, без сомнения, ждали, как и сегодня от нас ждут ладана, чтобы заглушить смрад, и лжи, чтоб успокоить совесть. Ждали благозвучия, восторженности, слезного умиления, но не истины. И проповеднику трудно, очень даже трудно не отвечать на специфический спрос соответствующими услугами. Хотя из служителей Бога Живого, в данном случае, проповедник рискует стать заложником своеобразных рыночных отношений, далеких от благодати.
Не знаешь покойника, или знаешь его с тех сторон, которые не поддаются похвале, – молчи о нем. Благовествуй воскресение мертвых, говори о Христе-Искупителе и о нашей неизбежной встрече с Ним. Говори о Четверодневном Лазаре и о дочери Иаира, о необходимости покаяния, о частом посещении кладбища, как того засеянного поля, которое в Последний день заколосится восставшими телами. Тем для надгробной проповеди – бездна. Сам чин погребения насыщен с избытком этими святыми мыслями. На каждой странице требника их больше, чем свечей на храмовом подсвечнике в праздничный день. Не умеешь говорить, стесняешься, поражаешься страхом неуверенности или сам скорбишь об усопшем, – молчи. Только молись с сердцем. Но не лги! Не разукрашивай речь поэтическими оборотами позапрошлого столетия, не делай ничего приторнослезливого, рассчитанного на одних лишь баб, готовых голосить по всякому случаю.
На Западной Украине, где православная славянская душа столетиями испытывала насильственное влияние польской культуры и латинского благочестия, со временем сложился такой фальшивый и чувственный способ проповеди на погребениях, что остается лишь жалеть об отсутствии здоровой критики на это нездоровое явление. Уши мои слышали то, о чем рука пишет. Там священник произносит речь от лица усопшего, в которой затрагивает столь чувствительные струны душ родственников, окружающих гроб, что редко обходится без обмороков. Да и похоронные речи без ручьев слез, громкого воя и хотя бы одного обморока у многих ксендзов Восточного обряда считаются «неудачными». Там вы услышите про скрип калитки, на которую родня выбежит по привычке, но это будет уже не «наш дорогой Иван». Услышите о том, как будут плакать посаженные руками усопшего деревья, как тропинка не захочет зарастать, помня шаги хозяина. И вся эта слезливая нечисть, произносимая только ради нервного эффекта, в девяноста случаях из ста не даст места слову о вере, о покаянии, о победе Христа над смертью.
Худшее, как известно, усваивается и наследуется легче. Эта ложь тоже умеет распространяться, но до времени умолчим о том.
По Авве Дорофею лгать можно словами и лгать можно жизнью. Словесная ложь хотя бы теоретически понятна, а вот ложь жизнью – дело более тонкое. Казаться, но не быть, надевать маски, изображать что-то, что должно наличествовать, но чего нет, вот – ложь жизнью. При этом невозможно не лгать и языком. Язык принужден будет скрывать истинную действительность и изображать вымышленную. Это хорошо по опыту известно неверным супругам обоего пола, продавцам залежалого товара, лицемерным радетелям о народном счастье и… нам, то есть церковным людям. Если некий наш брат – «душевный, не имеющий духа» (Иуд. 1, 19), хочет произвести духовное влияние на паству, то подхватывает его в это самое время лживая волна и несет в неведомые дали, без пользы для слушателей и с вредом для самого оратора.
Всему этому мы не одно уже столетие назад «от еретиков навыкохом». А время и совесть требуют честности и силы, простоты и ясности, мужества и нелицемерного сострадания.
Требует время. Проходит, убегает и требует.
ФРЕЙД ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ
За что я люблю Розанова
Самый умный человек России – это Пушкин. Так сказал император после личной беседы с поэтом, и я не советую с ним спорить. Не потому, что император всегда прав, а потому, что в этом случае он прав безоговорочно. Самый умный человек в России, повторяю за помазанником, – это Пушкин. Нужно изрядно поумнеть, чтобы с этой мыслью согласиться. Но самый интересный человек России – это Розанов. Об этом не высказывался никакой император. Это мое частное мнение.
В сяк человек мал. Мал он в качающейся люльке, и мал в некрашеном гробу. Но велик тот, кто помнит об этом и не позволяет своей фантазии буйствовать, мечтать о мнимом величии смертного человека. Велик тот, кто не бежал впереди паровоза, кто не мечтал поворачивать реки вспять или покорять холодный космос, но кто после простого, но сытного обеда обращал взор свой в красный угол, где горит перед образом лампада, и без притворства говорил: «Благодарю Тебя, Господи!»
Таков Василий Васильевич.
Живем мы по-разному, и живем в основном плохо. Мелко живем, искупая мечтой о будущей славе нынешнюю ничтожность. А проверяется «на вшивость» человек смертным часом. Это – важнее всего.
Кто мирно умер, тот красиво жил. Кто умер сознательно, преодолев страх, кто обращался в молитве лично к Победителю смерти, тот преодолел жизненную муть и двусмысленность. Такой человек красив.
Розанов умирал многажды причащенным и особорованным. Он умирал, накрытый пеленой от гроба аввы Сергия.
При жизни он столько всякого наболтал, столько слов выпустил в мир из-под пишущей руки. Судя по этим словам, он был с Христом в сложных отношениях. Но смерть, эта прекрасная незнакомка, расставляющая точки над «I», проявила в нем Христова угодника.
Жизнь прожитая проходила перед ним, когда он лежал с закрытыми глазами в ожидании ухода. Что он сказал о жизни и что понял в ней?
Сидя за нумизматикой, он ронял прозорливые фразы о русской душе, о ее бабьей глупости и склонности к вере в ласково нашептанную ложь. Он, как капли пота, ронял на бумагу капли умных слов о запутавшемся человеке и о беде, которая его ждет.
Что вы мучаетесь вопросом, что делать? Если на дворе лето, собирайте ягоды. Если зима – пейте с ними чай.
Девушки, вы вошли в мир вперед животом.
Пол связан с Богом больше, чем ум или совесть с Богом связаны.
Его критиковали, а он плевать хотел. Знай себе писал, что думал, вплоть до мнений противоположных. «Мысли всякие бывают», – говорил он после.
Что он вообще сказал? Ой, много.
Вы оскорблены несправедливостью мира? Это так трогательно. И вы, конечно, хотели бы этот мир переделать по более справедливому стандарту? Дорогой, неужели от вас утаилась негодность вашей собственной души? Неужели не ясно вам, что негодяи, собравшиеся переделывать мир к лучшему, превратят его в конце концов в подлинный ад? В процессе этого переустройства мелкие негодяи превратятся в очень даже крупных злодеев и породят, в свою очередь, новую поросль мелких негодяев, тоже мечтающих о переустройстве мира. Так будет длиться, пока мир не рухнет.
Небо черно и будущее ужасно, а человек – глупец, верящий в себя, а не в Бога и желающий опереться на пустоту.
А ведь все было рядом, под боком. Была семья с ее вечной смесью суеты и святости. Была Церковь, заливающая воскресный день колокольным звоном. И многодетные долгогривые священники встречались на улице не реже, чем городовые. Была возможность учиться, трудиться, набираться опыта. Были и грехи, но они были уравновешены благодатью, и стабильностью, и теплым бытом. Теперь это уйдет, а на место того, что было, придет великий по масштабам эксперимент, как над отдельной душой, так и над целым народом. Но Розанова Господь заберет раньше. Из милости.
Он не увидит эксперимента в его размахе. Но это и не надо. Пусть слепцы поражаются размерами ими же выкормленного дракона. Кто дракона не кормил, тому достаточно услышать треск раскалываемых изнутри яиц и ощутить при этом мистический ужас. Василий Васильевич все видел в зародыше и все понимал. Он боялся тогда, когда большинство веселилось. Потому и умер он не в лагере от истощения и не в подворотне от удара заточкой. Он умер, накрытый пеленой от гроба аввы Сергия. Умер многажды причащенным и особорованным.
Розанов много говорил и писал о сексе. То, что читалось тогда как вызов, как дерзость и эпатаж, сегодня читается как лекарство. Вот давно уже, еще до рождения нашего напитался воздух разговорами о делах таинственных, потных и соленых. Вот ни один журнал не обходится без рубрики «об этом». Весь мир, кажись, увяз в этой теме, как автомобиль на бездорожье. И невозможно сделать вид, что это никого не касается. Невозможно скрыться в дебри пуританства. Там, в этих дебрях, творится, если честно, то же самое, что на пляжах Ямайки при луне под действием избытка алкоголя. И нужно говорить об «этом», нужно вносить свет мысли и слова в эти сумерки сладких и убийственных тем.
Василий Васильевич говорил о сексе, как никто. Он говорил смело, как свободный, и с нежностью, как отец.
Ханжу распознаешь по розовым щечкам, бегающим глазкам и завышенным требованиям. Ханжа сладко поет о том, чего на дух не знает. Скопец, напротив, будет суров и даже жесток ко всем, кто с ним не согласен. Розанов же не ханжа и не скопец. Ханжам он кажется дерзким, а скопцам – развратным. Не то и не другое. Он просто зрит в корень. Иногда загибает лишнее под действием сердечного жара или будучи увлеченным стихией слова. Но это только в православной стране звучало как вызов. В содомо-гоморрской цивилизации это звучит, в большинстве случаев, как лекарство. Не для этой ли цивилизации он и писал?
Он – провинциал, понимающий самые глубокие и скрытые мировые процессы. После бани, надев свежее холщовое белье, он курит на веранде папироску, и взору его открыто столько, что будь у футуролога такая степень осведомленности, быть бы ему всемирно известным. Розанову же всемирная известность не грозит. Как и горячо любимый им Пушкин, Розанов обречен быть плохо расслышанным мыслителем, он обречен быть человеком, чей ум рожден в России и только для России.
Пушкин в переводе на французский звучит пошло. Розанов в переводе вообще не звучит. «Открывает рыба рот, но не слышно, что поет». Все, что интересует Запад, – свобода, литература, секс, деньги, смерть – интересует и Розанова. Но это так специфично его интересует, что Запад его не слышит. Не понимает. Ну и шут с ним, с Западом. Гораздо горше то, что свои люди Розанова не ценят и не понимают.
Не читают. Если же читают, то соблазняются, ворчат, морщат нос.
Я тоже морщу нос, психую, машу руками, натыкаясь на некоторые пассажи. Но потом возвращаюсь к его строчкам и вижу: частности не слишком важны. В целом – молодец. Живая душа. Снимаю шляпу. Упокой, Христе, его душу.
Самые важные вещи о судьбах мира можно высказать, находясь не на сотом этаже стодвадцатиэтажного небоскреба, а в деревянном срубе, вечером, при свете керосиновой лампы. Майские жуки бьются в стекла, ритм жизни задан тиканьем ходиков, на столе остывает медленно самовар. А человек пишет, обмакивая перо в чернильницу, и то, что он напишет, сохранит свою актуальность много лет после того, как кости его смешаются с землей до неразличимости. За это я и люблю Розанова.
Я люблю его за слова, сказанные перед смертью. Вернее, за тот диалог, что был между ним и его женой Варварой. «Я умираю?» – спросил Василий Васильевич. – Да, – ответила жена, – я тебя провожаю. А ты, – добавила она, – забери меня быстрее отсюда». Он и забрал ее через считаных несколько лет.
Проживите-ка жизнь свою так, чтобы быть способным сказать и услышать такие слова в последние свои минуты. Проживите-ка жизнь так, чтобы быть достойным перед смертью такое сказать и такое услышать.
Достоевский – это Ницше наоборот, «православный Ницше».
Розанов – это Фрейд наоборот, «православный Фрейд». Но не только. Он – певец семьи и маленького счастья, которое есть единственное счастье, а потому – единственно великое.
Он – певец простого быта, и смеяться над его приземленностью может только фраер, который не сидел в тюрьме, или не служил в армии, или не работал на стройке, и вообще ничего тяжелого в жизни не пережил.
Он певец рождающего лона, трубадур зачатий и поэт долгих поцелуев после двадцати лет совместно прожитой жизни. Осуждать его за эту поэзию невинной половой жизни в семье в наш век абортов, легального разврата и сексуальных перверсий может только или упомянутый выше розовощекий ханжа, или увешанный веригами скопец. И тот, и другой, заметим, от пакостей плоти не свободны. Очень даже не свободны.
Для меня Розанов – это Робин Гуд, который не может сразить стрелой всех злодеев мира, однако метко поражает тех из них, которые оказываются в поле его зрения. Его стрела – написанное слово. Значение многих из этих слов вырастает по мере удаления от эпохи, в которой они родились. Но человек, как раньше, так и сегодня, остается слабо восприимчив к словам этого уединенного философа.
Чтобы его понимать, нужно хоть чуть-чуть, хоть иногда радоваться тому, чему радовался он; делать то, что делал он. А радовался он детской пеленке с желтым и зеленым, хорошей книге, горячему чаю, умному человеку.
Делал же он то, что мог, и то, что умел. А именно: содранной кожей души прикасался к поверхности мира и, отдернувшись, говорил о том, что эта жизнь – еще не вся жизнь. Есть жизнь иная и лучшая, а эту – нужно дожить за послушание, без проклятий, с благодарностью.
НЕ СУДИ
Есть подкупающие простотой слова о том, как избежать строгого и неизбежного Суда Божьего. Знают их многие, в том числе и те, для кого чтение и слушание Евангелия не является главным занятием жизни. Вот эти слова: Не судите, да не судимы будете: ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить (Мф. 7, 1–2). Смысл второго слова равен смыслу первого, поскольку если ты отказался от строгости в отношении чужих грехов, то смеешь надеяться на милость к себе со стороны Бога.
Простота Евангелия не отменяет его глубины и сложности. Во-первых, мы не имеем права путать добро и зло, уравнивать их и по причине боязни впасть в осуждение отказаться от нравственных оценок. Без понимания, что такое хорошо и что такое плохо, жизнь человеческая вряд ли вообще возможна. Чтобы, по слову псалма, уклониться от зла и сотворить благо (см.: Пс. 33, 15), нужны и нравственная чуткость, и опыт, и способность к здравым суждениям. «Не суди» вовсе не должно означать: «Перестань думать» или «Перестань отличать добро от зла».
Человек, Который в высшей степени был чуток и непогрешим в вопросах греха и праведности, был человек Христос Иисус (1 Тим. 2, 5). В Его учении не было ласкательства, лицемерия, человекоугодничества.
Даже враги говорили о Нем: мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице (Мф. 22, 16). Христос, таким образом, более кого бы то ни было имел право строго относиться ко грешникам. Однако именно из Его уст раздавалось: и Я не осуждаю тебя (Ин. 8, 11), и удивительная молитва за распинателей была произнесена Им на Голгофском Кресте.
Научиться не осуждать можно только у Иисуса Христа. Если мы научимся этому, то на деле исполним Павлово повеление: в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе (Флп. 2, 5). В этих чувствованиях неминуемо должны соединиться сострадательная любовь ко грешащему человеку и мысленное неотождествление грешника с грехом. Человек – не изобретатель греха, а жертва. Грех обесчестил, обезобразил человека, но не истребил Божественного образа. Так смотрит на человека Христос. Если хотим не судить, придется этому взгляду научиться. Если ум не имеет навыка осуждающе реагировать на происходящее вокруг, значит, мысль о Боге от ума неотлучна.
Исполнение заповеди «не суди» не означает прекращения мыслительной деятельности.
Наоборот, это – пик мыслительной деятельности и умного труда. Поможет и память о своих грехах, глубокий вздох о которых всегда уместен. Поможет понимание того, что Знаток сердец человеческих и Царь мира – Господь – один только может произнести безошибочный приговор человеку. Он один знает, кто мог исправиться и не исправился, а кто не сделался лучше потому, что не мог. Он знает и коварство диавола, и слабость человека, и прилипчивую тяжесть обстоятельств, и еще много того, от чего зависит правильный суд и что сокрыто от глаз человеческих.
Редко говорится о том, что косвенным осуждением может явиться похвала. Вы можете восторженно хвалить знакомого доктора, священника, школьного учителя, а между строчек этой похвалы будет угадываться порицание в адрес других священников, докторов, учителей. Это может звучать: дескать, «вот этот – да, великий человек, а тот – так, мелочь». Это может и не звучать, но подразумеваться, и выходит, что заповедь о неосуждении усложняется и что даже в похвалах мы должны быть сдержанны и внимательны.
Неоценимым подспорьем для уменьшения грехов является сознательное бегство от сплетен. Стоит перестать вникать в дела, которые лично тебя не касаются, стоит пресечь праздное любопытство, как костер осуждения лишится большей части дров и начнет погасать.
У нас составился словесный портрет человека, которому по смерти Христос ничего осуждающего не скажет, но, указав на Райские врата, скажет: «Заходи». Это человек, напрочь лишенный праздного любопытства. Для слушания чужих тайн у него не было ушей, и для разговоров о чужих грехах его язык был не приспособлен. Свои грехи он помнил. Слова Давида: грех мой всегда предо мною (Пс. 50, 5) – для него не были просто словами. Когда на весы мыслей ложились грехи людей, на вторую чашу тут же опускалась память о милости Бога и Крови Нового Завета. Он поучался в законе Господнем день и ночь (см.: Пс. 1, 2), хотя ничто снаружи не выдавало в нем подвижника, и людям он казался лентяем, или никчемой, или ни рыбой ни мясом. Да он и был никчемным человеком, который не одевал нагих, не спал на полу, не преуспел в посте, не научился молиться огненно и чудотворно. Все его силы ушли на внутреннюю борьбу со своим неразумным сердцем, которое всю жизнь порывалось украсть у Бога царское достоинство, чтобы развешивать на всех свои ярлыки. Этого он сердцу не позволил. Насколько тяжело ему далась эта внутренняя работа, нам, любителям осуждения, сказать трудно. Но Христос, обещавший не судить того, кто не судил, просто и без Суда скажет этому человеку: «Заходи» – и укажет на жемчужные ворота в золотой стене.
ПРОСИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
Разнообразным бывает дыхание души – молитва. Нужно хвалить Бога. Необходимо каяться пред Ним. Но можно и просить у Него. Этим третьим видом молитвы чаще всего занимаются люди. Причина тому – множество забот, страхов и нужд, которыми окружен человек. Общая духовная скудость и помраченность ума – тоже тому причина.
Чтобы Бога хвалить, нужно забыть землю с ее делами, нужно быть бескорыстным и простым, а сердце иметь широкое и глубокое.
Чтобы каяться искренне, нужно иметь честность и мужество, нужно не любить себя и как можно чаще смотреть на Распятого Спасителя.
Для того чтобы просить, нужна лишь ощутимая нужда и слабая вера. Вот мы и просим удачи, здоровья, счастья, помощи…
При всей кажущейся простоте вопроса, просить правильно, просить того, что действительно необходимо, нужно еще научиться. Недаром сказано: Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений (Иак. 4, 3).
Приступая с просьбами к Богу, более всего нужно думать о том, чего именно просить. Исаак Сирин пишет: «Если кто попросит у царя немного навоза, то не только сам себя обесчестит маловажностью своей просьбы, как показавший великое неразумие, но и царю своею просьбой нанесет оскорбление».
Прошение наше, оказывается, может быть оскорбительным для Бога. Искать у Него нужно лишь того, что достойно Владыки неба и земли, того, что Сам Он считает необходимым для человека, наконец, того, чего никто, кроме Господа, дать не в силах.
Писание содержит множество как положительных, так и отрицательных примеров. Это для того, чтобы к человеку можно было обратиться словами Великого канона: праведным поревнуй, грешных же отвращайся (тропарь 9-й песни). Подобные двоякие примеры есть и для нашей темы. Добрую просьбу принес Богу Соломон, прося у Премудрого мудрости, за что был и услышан и облагодетельствован. Елисей просил Господа удвоить ему благодать, бывшую прежде на Илии, и эта просьба не была отвергнута. Очевидно, не для славы мирской и не для похвалы просил пророк умножения благодати, а для умножения славы Божией.
Напротив, раздражали Бога просьбами в пустыне евреи. Не насущного хлеба просили они, и так питаемые манной, но мяса и дынь, лука и чеснока. Господь желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них (Пс. 77, 30–31).
Чего мы просим у Бога, если речь идет не о прошениях просительной ектеньи, но о наших частных просьбах?
Просим ли мы мудрости или без всяких просьб считаем себя мудрыми? Если считаем, то выслушаем пророка, говорящего: Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою! (Ис. 5, 21).
Просим ли мы целомудрия или, подобно блаженному Августину, устами просим, а сердцем говорим: «Только не сейчас».
Отзывается ли наше сердце на чужую боль, и просим ли мы для других здоровья, мира, света и помощи с тем же жаром, с каким просим для себя? Если нет, то чего мы хотим выпросить у Бога, будучи столь чуждыми Духу Христову? Ведь в нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе (Флп. 2, 5).
Содержание наших просьб лучше всего проявляет состояние наших душ. Все болезни просятся наружу, и язык бывает предателем нечистого сердца даже тогда, когда уста шепчут молитвы.
Апостолы, обращаясь ко Христу, просили: умножь в нас веру (Лк. 17, 5) – или в иной раз: научи нас молиться (Лк. 11,1). Чем эти прошения плохи для нас?
Григорий Палама часто и усиленно молился Богу внутренне: «Просвети тьму мою», – и послан был к нему Иоанн Богослов со словом утешения. Эти примеры многочисленны, и все они поучительны.
Будучи существами, целиком от Бога зависимыми, мы обязаны обращаться к Нему с просьбами. Грешно у Бога ничего не просить.
Но чтобы просьбами не умножить свои грехи, следует помнить, что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды его (Мф. 6, 32–33). Ощущение своих духовных нужд, обращенность к будущей жизни и искание правды Божией являются залогом того, что все необходимое будет нам послано. Тот, Кто никогда не лжет, сказал о земных нуждах: это все приложится вам (Мф. 6,33).
Иногда нам кажется, что мы просим доброго. Но стоит усилить просьбы и умножить молитвы, как сердце отказывается далее просить и сама просьба кажется не такой важной. Это значит, что просьба жила на поверхности сердца, а мы молитвой сошли вглубь, туда, где прежняя нужда уже не ощущается. Заповедь апостола долготерпеть в молитве, таким образом, нужна не столько для того, чтобы умолить Господа, сколько для того, чтобы испытать и углубить свое сердце.
Из числа директоров, министров, предпринимателей многие, почти все, жалуются на нехватку денег. Мало кто жалуется на нехватку таланта, умений, честности, работоспособности.
Так и мы часто в молитве жалуемся на кого угодно, только не на себя. Просим и ищем тысячи второстепенных вещей вместо того, чтобы попросить единого на потребу. Можно и нам просить, как Елисей, благодати. Есть у нас и в вечерних молитвах Златоустово прошение: Господи, даруй мне благодать Твою, да прославлю Имя Твое святое. Можно и нужно просить мудрости, поскольку если у кого недостает мудрости (а покажите мне того, у кого «достает»), да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, – и дастся ему (Иак. 1, 5).
В математике сумма не меняется от перемены мест слагаемых. Но в жизни духовной все гораздо строже. В Десяти заповедях важно не только количество, но и порядок, поскольку из первой заповеди проистекают все остальные. В учении Христа о блаженствах нищета духовная стоит на первом месте не случайно, но закономерно. Она – фундамент для прочих добродетелей. Подобная строгость и иерархичность прослеживается везде.
Что касается наших просьб, обращенных ко Господу, то, чтобы не наполнять воздух бесполезными словами и не раздражать Владыку, нужно учиться нам просить у Бога великого и ценного. Только просить нужно с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой (Иак. 1, 6).
Часть IV. ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ
СТРАНА ЧУДЕС
Вторую ночь подряд Петрович спал вполглаза. С боку на бок не ворочался и курить не вставал, но просыпался часто. Лежал, глядя на огонек фонаря за окном, и думал. Потом забывался коротким сном, чтобы через час опять проснуться. Его, Павла Петровича Дронова, водителя с 30-летним стажем, мужика, разменявшего полтинник, вот уже вторую ночь подряд тревожили слова, услышанные на проповеди.
Дело было в июле, в день праздника святых Апостолов. Петрович, будучи двойным именинником (лично и по батюшке), решил пойти на службу. Во-первых, теща пристала: пойди да пойди. Во-вторых, храм в микрорайоне был Петропавловский. А в-третьих, – хватит, подумал Петрович, в гараже да во дворе с мужиками водкой баловаться, можно на именины разок и в церковь сходить. Эта неожиданная и благая мысль пришла Павлу Петровичу еще и потому, что именины были юбилейные. Дронову стукнуло пятьдесят. Но об этом он думать не хотел, а потому в число причин юбилейную дату помещать отказался.
* * *
В церкви, как всегда на праздник, народу было – не протолкнешься. Дронов стоял возле аналоя с иконой Петра и Павла, и ему, изрядно сдавленному богомольцами, часто передавали свечи с коротким «к празднику». Жара и многолюдство сделали свое дело. Петрович, толком не знавший службу и не умевший вникать в общую молитву, скоро устал и раскаялся в том, что именины праздновал по-новому, а не как обычно. Он бы и ушел давно, но до дверей было далеко, и иначе как с боем сквозь толпу прихожан было не пройти. Полегчало, когда запели «Верую». Петрович басил с народом те слова Символа, которые знал, и чувствовал при этом какую-то бодрящую и неизвестную радость, от которой хотелось то ли заплакать, то ли всех обнять. То же повторилось и на «Отче наш». А потом произошло то, что впоследствии отняло сон у 50-летнего водителя Павла Петровича Дронова, человека, сгибавшего пальцами гвоздь-сотку и сентиментальностью не отличавшегося.
* * *
Священник что-то сказал из алтаря и замолчал. Завеса закрылась. Вышел мальчик в длинной одежде и поставил перед закрытыми Вратами свечу. Народ как-то сразу засуетился, задвигался, зашушукал. Петрович подумал, что самое время из храма выйти, но услышал громкое: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа» – и решил остаться. Проповеди он слышал и раньше. Стараниями драгоценной тещи, маленькой старушки, одновременно и вредной, и набожной, Дронов переслушал в машине немало кассет. Великим постом, опять же по просьбе тещи, ходил он воскресными вечерами в храм слушать о страданиях Иисуса Христа. Но проповеди ему не нравились. Не нравился тон, торжественный и крикливый. Не нравились слова вроде «возлюбленные о Господе» или «дорогие мои». Павел Петрович дожил уже до тех лет, когда слова о любви больше раздражают, чем согревают.
То, что люди живут по привычке и без радости, то, что никто никого особо не любит, а батюшки исключением не являются, Петрович понимал давно и давно с этим смирился.
Но в этот раз слова священника зацепили Дронова. Священник был незнакомый – видно, пришел в гости на праздник. Видом – не святой, ростом выше среднего, крупный. Помоложе Петровича, но и не «деточка» («деточками» называла теща Петровича тех щуплых и безбородых молодых батюшек, которых так часто можно увидеть в наших строящихся или реставрирующихся храмах).
Священник начал говорить о Петре и Павле, но быстро сменил тему и продолжил уже о Христе. О том, что Христос жив и что Он во веки Тот же. О том, что Он ближе к нам, чем воздух, которым мы дышим, и одежда, которую мы носим. При слове об одежде Павел Петрович повел плечами, почувствовал, как прилипла к спине намокшая от пота рубашка, но вместо духоты ощутил на лице прохладное дуновение, почти дыхание.
Священник продолжал о том, что Христос послужил нам, отдал всего Себя, даже до излитая крови, и мы теперь тоже должны послужить Ему. «Но где я найду Тебя, Господи?» – громко произнес проповедник и остановился. Храм замер и, затаив дыхание, ждал ответа.
«Ты рядом, – громко продолжал проповедник. – Ты – в каждом ближнем моем. Если Ты в больнице, я моту укрыть Тебя одеялом и посидеть ночь у Твоего изголовья. Если Ты раздет, я моту отдать Тебе свой пиджак или свитер. Я моту защищать и лечить, кормить и утешать Тебя, потому что все, сделанное мною ближним, Ты отнесешь лично к Себе».
Павел Петрович слушал внимательно. Его голова была пуста, потому что ум, кажется, покинул ее и переместился сантиметров на тридцать ниже. Остановившись где-то в области груди, ум вместе с сердцем впитывал слова священника, как сухая земля впитывает воду. В конце проповеди батюшка назвал блаженными всех медсестер, милиционеров, пожарных, поваров – словом, всех тех, кто постоянно учит, лечит, кормит и спасает людей, то есть ежедневно служит Христу так, как он может служить.
Заканчивал священник уже не так связно и горячо. Один за другим заплакали на руках мамаш несколько младенцев. Народ опять заерзал и зашептал. Священник сказал «аминь» и как-то боком, неловко, вернулся в алтарь. Вскоре отодвинули завесу, и началось причащение. А Петрович вышел в образовавшийся проход и, перекрестившись на храм, пошел домой. Он не знал, да и не мог знать, что он был единственным человеком, проникшимся словами проповеди. Все остальные прихожане к вечеру забудут то, что слышали утром, и будут спать спокойно.
В тот праздничный день евангельский невод, брошенный незнакомым батюшкой в храме Петра и Павла, вытащил из глубины на берег только одну рыбу. Этой рыбой был отпраздновавший 50-летие Павел Петрович Дронов, таксист с 30-летним стажем, человек, не отличавшийся сентиментальностью.
* * *
Вторая ночь раздумий уже близилась к рассвету. «Не хирург, не офицер, не учитель», – думал про себя Петрович, перебирая в голове список профессий, основанных на человеколюбии.
– Я – таксист! – вдруг громко сказал, почти крикнул, Дронов и сел на кровать. От звука его голоса проснулась жена и, не открывая глаз, сонно затараторила:
– А? Что? Паша, что случилось?
– Ничего, спи.
Дронов пошел на кухню за сигаретами, закурил и вышел на балкон (курить в квартире категорически запрещала теща). Фонари уже погасли. Воздух становился серым, и первые машины уже то и дело пролетали мимо сонных девятиэтажек, шурша шинами и явно наслаждаясь пустотой дороги.
Дронов глубоко затягивался и медленно повторял одну фразу: «Я вожу Христа… я вожу Христа…»
Смысловое ударение он делал на втором слове: не «лечу», не «защищаю», а именно «вожу». Он начал представлять себе лица реальных и возможных пассажиров: спешащих на вокзал, не успевающих на работу, целующихся на заднем сиденье… Всех тех, кто от привычки к комфорту или от страха опоздать стоит на тротуаре и, вытянув правую руку, с надеждой смотрит на приближающуюся машину Дронова. Они часто сжимают кулак, а большой палец отставляют так, будто стоят не на тротуаре, а на трибуне амфитеатра и дарят жизнь раненому гладиатору.
Дронов не любил пассажиров. Он заметил, что в последнее время люди стали более наглыми и вместе с тем жадными. Он докурил и щелчком отбросил окурок далеко от балкона.
«Я вожу Христа», – еще раз твердо произнес Петрович и ощутил смысл произнесенной фразы. Теперь смысл падал на последнее слово, на Имя. Тысячи людей, которых он до сих пор возил, по сути являлись Одним Человеком. Только Дронов этого не знал, не думал об этом, а значит, прошлое не считается. Все эти лица способны составить огромный коллаж, они играли роль завесы, перегородки. Они отвлекали своим многообразием и прятали Того Одного Пассажира, с помощью Которого все можно было собрать воедино и осмыслить. Собственно, Сам Христос играл с Дроновым в прятки. Он ежедневно клал Петровичу в багажник чемоданы и авоськи, торговался за сдачу, просил поторопиться, называл неправильные адреса и терпеливо ждал того момента, когда Петрович наконец поймет, Кого же он возит.
* * *
Петрович понял. Он понял, что теперь нельзя возить иностранцев кругами по всему городу, чтоб содрать с них в пять раз больше денег. Нельзя задерживаться на вызове, проезжать мимо бедно одетых людей, заламывать непомерные цены. Нужно делать все правильно, потому что это все непосредственно касается Бога. При таком отношении к работе, образно говоря, Дронов мог бы за тридцать лет обеспечить место в Раю не только себе, но и своей «старушке» – 21-й «Волге», на которой намотал не одну сотню тысяч километров. Мог бы… Ему пятьдесят. В таком возрасте менять жизнь – дело нелегкое.
– И надо оно мне было – переться тогда в церковь? – спросил себя Петрович и пошел в ванную.
Спать уже было поздно, и он решил принять душ. Но горячей воды не было. Смысл жизни, недавно узнанный Дроновым, для работников котельной все еще был неизвестен. Им было пока невдомек, что горячая вода в трубах и батареях нужна для того, чтобы Христу было тепло и комфортно. Поэтому аварии случались регулярно, и при многочасовых перекурах трубы не ремонтировались неделями. Петрович умылся, пошел на кухню и поставил чайник на огонь. За окном уже рассвело. День обещал быть ясным. Этот, казалось, обычный рабочий день в своей многолетней шоферской биографии Петровичу предстояло впервые провести по-новому.
* * *
Самая простая мысль – возить людей бесплатно – оказалась невыполнимой. Во-первых, боясь подвоха, люди отказывались ехать даром. Они устраивали с Петровичем борцовские схватки, пытаясь засунуть ему деньги в карман, или просто, выходя, оставляли их на сиденье. Догонять пассажиров или объяснять им мотивы своего поведения было глупо. Даже супруге Петрович не рассказал о своих внутренних переменах. Он знал: громкие декларации о начале новой жизни заканчиваются поражением в тот же день. Сколько раз он, к примеру, докуривал свою «последнюю» сигарету, обещая бросить курить, но вечером того же дня или через день покупал очередную пачку. Нет, заявлять ни о чем не надо. Кстати, у жены возник бы резонный вопрос: как он будет содержать семью? Дети, конечно, взрослые и живут отдельно, но ведь и они с Татьяной не Ангелы: им есть надо. О том, что набожная теща в сердцах может проклясть его за такую странную перемену, Дронов в глубине души догадывался и думать об этом не хотел.
* * *
Был полдень первого дня новой жизни. Пять или шесть клиентов своим поведением уже внесли коррективы в планы Петровича. Он припарковал «старушку» возле станции метрополитена и вышел, чтобы выпить где-нибудь чашку кофе.
В большом городе трудно найти маленькое кафе. Петровича приютил салон игральных автоматов. Внутри был бар, и там варили кофе. Было накурено, дым висел слоями, как отрезы легкой белой ткани, поднятые ветром. Автоматы мигали и звенели, а возле них, втупившись оловянными глазами в вертящиеся барабаны, сидели люди. Они проигрывали зарплаты, пили пиво и мечтали обогатиться. Петрович подумал, что в другое время они могут быть его пассажирами, а значит, и теми, отношение к кому оправдает или осудит его на Страшном Суде. «Все, что сделали им, Мне сделали». Оговорок в законе не было.
Допив кофе, Дронов вышел на улицу. На светофоре собралась большая пробка. Какой-то старенький «форд» заглох посреди дороги. «Баба», – в сердцах сказал про себя Петрович. Как любой нормальный мужик, женщин за рулем он, мягко говоря, недолюбливал. Подойдя ближе, он увидел, что капот открыт и в нем, согнувшись, копошится молодой человек. Объезжая его, водилы высовывались в окна и говорили разные вещи из числа тех, что в кино перекрываются пикающим звуком. Парень не высовывал голову из капота, и было ясно, что он не чинит машину, а, имитируя ремонт, прячется от водительского гнева.
Петрович ясно понял, что должен помочь. Но вместе с этим ясным пониманием он ощутил, что помогать совсем не хочет. Изменение жизненных ценностей с комфортом и удовольствием, оказывается, было никак не связано. Петрович вдруг вспомнил одного коллегу-таксиста, который стал ходить к адвентистам. «Отвинтисты» – шутя называл их про себя Дронов. Этот коллега однажды часа два «впаривал» ему, Петровичу, одну простую мысль: с тех пор как он поверил, все проблемы ушли прочь. Курить бросил, матом не ругаюсь, жене верен. А главное – полный душевный комфорт. Петрович и тогда делил услышанное на два. Уж больно жаден был мужик и с приходом в адвентизм от жадности, по-видимому, никак не исцелился. Сейчас же он вспомнил коллегу из-за контраста: у того вера рождала комфорт, а у Дронова – проблемы. Может, они в разных Иисусов поверили?
Короче, Петрович был обязан помочь и вовсе не хотел этого делать.
* * *
– Чего там? – спросил Дронов у водителя «форда» таким тоном, будто сам был хозяином машины.
– Не знаю, – ответил парень. – Может, свечи, а может, еще что…
– Трос есть?
– Есть.
Водитель «форда» засуетился, достал из багажника трос и с благодарно сияющими глазами сказал:
– Мне только до моста. Дотянете? Сколько?
Павел Петрович не ответил. Он молча пошел к «старушке», завел двигатель и с трудом стал выруливать туда, откуда можно было взять «форд» на буксир. Минут через десять они уже ехали: счастливый водитель «форда» и насупленный Павел Петрович. Когда подъехали к месту, парень стал рассыпаться в благодарностях и совать Дронову в руки мятые денежные купюры. Сопротивляться не хотелось. Петрович деньги взял и, сопровождаемый фразами типа «Дай вам Бог здоровья», «Вы мне так помогли», повел «старушку» куда глаза глядят.
* * *
Дронов ехал медленно и думал. А думать было над чем. Во-первых, опыт угождения Христу оказался опытом насилия над собой. Об этом Петрович никогда не думал и нигде не читал. Учитывая то, что жизнь продолжается, перспектива вырисовывалась интересная. Это что же, так всю жизнь напрягаться?
Второе, когда Петрович цеплял трос и с болью в сердце тащил «форд», слушая, как напрягается и рычит его старенькая «Волга», о Христе он не думал. Пацан, «заглохший» на перекрестке, в это время у Дронова с Иисусом не ассоциировался. Можно было спросить себя: «Чего ради я вообще взялся помогать?» Но вместе с тем было ясно: не будь той проповеди и тех двух ночей с размышлениями – дулю с маком он бы стал помогать первому попавшемуся сопляку.
Наконец, было и третье. Была радость, вот только теперь начавшая согревать Петровичу сердце. Радость наполняла грудь теплом и даже мешала ехать. Обычно, когда Дронов радовался, он жал на газ и во все горло пел «Вот кто-то с горочки спустился». А эта радость как-то не совпадала ни с лихой ездой, ни с народной песней. Петрович взял вправо, остановился, выключил мотор. Он прислушался к себе и улыбнулся. Если бы кто-то в этот момент присмотрелся к нему, 50-летнему мужику, могущему согнуть в пальцах гвоздь-сотку, то этот кто-то подумал бы, что Петрович через наушники слушает какую-то очень важную и долгожданную новость. И оттого глаза его ничего не видят, хоть и широко раскрыты, а лицо блаженно улыбается.
* * *
Эх, город, город. Ты взметнулся в небо домами и строительными кранами, но совсем не знаешь об ином Небе, на котором об одном покаявшемся грешнике все Ангелы радуются. Ты подгреб к себе миллионы людей и смотришь на их суету, как на растревоженный муравейник. Но ты никогда не заметишь в этой толкотне одного остановившегося муравья, ошеломленного чувством вечности. Впрочем, какой с тебя спрос? Ведь и сами снующие муравьи этого остановившегося не замечают.
* * *
Петрович вышел из машины и осмотрелся. Он тормознул недалеко от маршрутной остановки. Рядом копошился продуктовый рынок, и на остановке стояло немало людей с сумками, полными только что купленной еды. Видно, маршрутки долго не было. Внимание Дронова привлекла одна старуха. Одежда на ней была тепла не по сезону, ее сумка была почти пуста, а сама она стояла согнувшись и опираясь на палку. Глаз не было видно. Их скрывали солнцезащитные очки, но было понятно: если их снять – на вас бы взглянули глаза человека, не знающего, зачем он живет, и уставшего от этой мысли.
* * *
Ольга Семеновна – так звали женщину – действительно не знала, зачем она живет. Всего неделю назад она похоронила единственного сына. Костя был трезв и переходил дорогу в положенном месте. А вот джип не только ехал на красный, но и, сбив человека, не остановился.
Невестка после развода жила отдельно и единственную внучку к Ольге Семеновне не пускала. Женщина стояла в ожидании автобуса, но в то же время ехать в пустую квартиру не хотела. Машина, остановившаяся рядом, звуком своих тормозов заставила Олыу Семеновну вздрогнуть.
– Садись, мать, подвезу.
Народ на остановке оживился. Молодые женщины и девушки, видя подъехавшую «Волгу», были готовы к любой ситуации, но только не к этой. Некоторые из них подумали, что шофер шутит, подтрунивает над бабкой, а на самом деле «кадрит» кого-то из молодых. Одна или две даже заулыбались и одновременно с вызовом и ожиданием уставились на Петровича.
Надо отметить, что Дронов и в свои пятьдесят был красив той мужеской красотой, которая женщинами не созерцается, а чувствуется на расстоянии. Он мог не рассыпаться в комплиментах, быть немногословным и спокойным. Женщины все равно замечали его и к нему тянулись. Но это были дела прошедшие.
А сейчас Петрович спрашивал не верящую своим ушам старую женщину, где она живет, и предлагал подвезти.
* * *
Ольга Семеновна читала в газетах и слышала по телевизору о разных маньяках и убийцах, со старушками на лавочке песочила на чем свет стоит наставшие злодейские времена, но Дронову она сказала адрес и с большим трудом, кряхтя и охая, залезла в такси. Машина тронулась, оставив позади людей: одни улыбались, другие пожимали плечами. По дороге старушка медленно рассказывала о своей беде, а Петрович по-шоферски прикидывал, как долго салон его «Волги» будет хранить смешанный запах лекарств, мочи и нафталина.
Когда приехали, Павел Петрович помог женщине выйти и зачем-то сунул ей в руку 20 долларов (заначка в правах на всякий случай). Потом, стыдясь собственной доброты и немного жалея об отданных деньгах, сел в машину, сдал назад и лихо выехал из двора. На этот раз ни тепла, ни радости не было. Была жалость к старому человеку, брезгливость от оставленного запаха и еще сложная смесь из разных чувств, в которых Петрович решил не разбираться. Он уже начал понимать, что попал в такую Страну чудес, где далеко не все поддается пониманию.
* * *
Зато радость была у Ольги Семеновны. Рассудок говорил ей, что это сон, но 20 долларов в кармане рассудку противоречили. И еще было тепло в груди и хотелось плакать. Хотелось поблагодарить, поцеловать руку, поклониться. И даже не шоферу (его старушка толком и не разглядела), а кому-то другому.
В тот вечер Ольга Семеновна не включила телевизор и не стала смотреть сериал. Она зажгла возле фотографии сына свечу и долго молча сидела на кухне. Ей было спокойно. Уже совсем поздно, часов в одиннадцать, позвонила невестка и сказала, что завтра приведет Катю – внучку.
МАЛЕНЬКИЙ ГОРОДОК НА ГРАНИЦЕ
Маленький городок на границе. Раньше границы не было, поскольку не было и страны. Была республика на краю огромного государства. Потом государство умерло, распалось на множество частей. В городке появились таможня и пограничный пост. Все здесь было обычно, тихо, даже как-то смиренно. Железная дорога, пара средних по классу гостиниц, кафе, магазин, церковь. В церкви служил отец Станислав. Служил долго. Уже перевенчал давно всех, кого когда-то крестил. Жизнь стирала его долго то в ручном, то в машинном режиме. Стирала и с порошком, и с хозяйственным мылом. Но он не поблек, не выцвел. Выцвел только подрясник, да на локтях протерся плащ.
Местные относились к нему так, как вообще относятся к местным достопримечательностям. Этакая смесь уважения и безразличия.
В Пизе любой проводит вас к Пизанской башне, но сам восхищаться не станет. Ну, башня. Ну, криво стоит. Вам интересно? Приезжайте, проводим, покажем, предложим сувениры на память.
К отцу Станиславу приезжали многие, и все в городке могли сопроводить пилигрима в маленький домик недалеко от ратуши. Проводить могли, но сами не заходили. Близость к чуду – мать безразличия.
* * *
Приезжавшие были из умников. Причем чаще – из столичных умников. Это были бородачи в вязаных свитерах, очкарики в плохо выглаженных рубашках, шальные богемные интеллектуалки с обгрызенными ногтями. У себя дома на кухне, в клубах табачного дыма, под чай с коньяком они спорили о превосходстве Исаака Сирина над Франциском Ассизским. Многие, вопреки начитанности, были некрещеными. Пойти в любую церковь к любому батюшке им казалось непозволительным. Поэтому, если разговор касался Крещения, звучало часто: «Езжай к отцу Станиславу». Затем назывался город и перечислялись удобные способы путешествия.
* * *
Отец Станислав всех принимал, хотя никого не ждал, и к приезжавшим относился сдержанно, без напускной радости. К ритуалу гостеприимства относился обед или ужин, в зависимости от времени визита. Потом долгие разговоры за полночь. Утром – служба. Вечером он провожал гостя на вокзал. Сразу никого не крестил. Только во второй или третий приезд. По дороге на поезд всегда останавливались в небольшом кафе для прощальной беседы. Это был своего рода экзамен. Они садились за столик у окна, и официантка без лишних просьб приносила чай, орешки, конфеты, два куска торта.
Разговоры бывали разные. Могли спорить на исторические темы, могли обсуждать толкования на Священные тексты, разбирали Богослужение, размышляли о смерти. Примерно через полчаса, когда чай уже остыл или был выпит, торт съеден, а от конфет остались обертки, отец Станислав начинал суетиться. Он счищал остатки с обоих блюдец в одно, собирал фантики, сдувал со стола крошки. Он пододвигал посуду к краю стола, чтобы официантке было легче убирать. Он делал это, не переставая слушать собеседника, и вовремя отпускал реплики по поводу Вселенских Соборов, влияния платонизма на богословие, важности Великого поста. Бывало, что увлеченный беседой гость говорил собирающему блюдца священнику: «Да бросьте, отче. Она сама уберет». Это и был главный момент в экзамене.
Расплатившись и выйдя на улицу, они медленно шли к красной черепичной крыше вокзала. Уже на перроне, под звук молоточков, которыми обходчики обстукивали колеса, священник говорил гостю: «Рано вам пока креститься. Вы людей не цените и не замечаете. Если покреститесь, будете фарисеем. А это плохо. Они Бога убили».
Затем следовало рукопожатие, и ошарашенный гость провожал взглядом удалявшегося священника. Тот шел медленно, немного сутулился и, кажется, чуть хромал.
Такие истории повторялись несколько раз. В конце восьмидесятых поток приезжавших заметно уменьшился. Отец Станислав об этом не переживал. Даже немножко радовался. Молиться за людей он не переставал, а лагерный опыт научил его навсегда той истине, что молитва за людей приносит больше плодов, чем устное наставление.
У БОГА НЕТ МЕРТВЫХ
Мудрость народная предупреждает не зарекаться от сумы и тюрьмы. Кто знает, как жизнь сложится завтра. Кто знает, с кем столкнешься лоб в лоб, глубоко задумавшись и повернув за угол. Я тоже знать не знал, что целых три месяца своей жизни мне придется прятаться в чужом и незнакомом городе, а чтобы чем-то жить, работать грузчиком в овощном магазине и там же спать, получая еще полставки сторожа. От кого и в каком городе я прятался – сегодня уже неважно. Важна одна черта моей тамошней жизни, о которой хочется рассказать.
Через два квартала от нашего магазина располагалось старое городское кладбище. На нем по недостатку места уже давно никого не хоронили. Сквозь могильные плиты проросли деревья, все кладбище утопало в зелени, и я ходил туда гулять в вечерние часы между закрытием магазина и наступлением темноты. Может быть, не в каждом городе мира найдется гражданин с фамилией Рабинович, но зато на большинстве кладбищ в нашей стране найдется еврейское поле. Шумный, неугомонный, упертый, пахнущий библейской древностью, красивый и отталкивающий одновременно, самый странный народ на земле разбрелся повсюду и везде оставил следы своего присутствия.
Та кладбищенская часть, где были похоронены евреи, находилась на самом краю, и туда я ходил чаще. Сначала меня привлекли надписи на могилах и портреты умерших.
Там были похоронены евреи, служившие в Красной армии. Те, которые поверили в революцию, повылезали на свет из всех щелей российской провинции и стали под Красное знамя. Кого-то из них убили на войне, кто-то до чего-то дослужился. На их могилах надписи были сделаны по-русски, а на фотографиях они были запечатлены в гимнастерках и портупеях. Эти мне нравились меньше всего. Больше нравились старики со странными, иногда смешными для нашего уха именами. Нравились их грустные глаза и длинные бороды. Нравилось, что жены их лежат рядом, и чувствовалось, что при жизни они были нежны какой-то другой нежностью, которая редка среди славян. Там, где надписи были сделаны на иврите, к простому любопытству добавлялся священный интерес, и я подолгу ходил среди могил Корфункеров и Зильберманов, Коганов и Кацев. Как-то не было скучно и было о чем думать, хотя нельзя было предположить, что я додумаюсь до чего-то особенного. Однако додумался.
В каптерке, где я ночевал, было Евангелие. Я открывал его временами на любом месте и читал. Читал, не все понимая, но с удовольствием. Когда чувствовал, что сыт и удовольствие закончилось, – закрывал. И вот однажды поразил меня рассказ о богаче и Лазаре.
Вы не смейтесь над тем, что сторож овощного магазина гуляет на кладбище и читает Евангелие. И Боже вас сохрани думать, что это неправда. Ведь я же не всегда был сторожем и сейчас им не являюсь. В тот период времени я скрывался, и было от кого. Значит, и дела у меня бывали поважнее, а образование и статус им соответствовали.
Так вот, в рассказе про Лазаря и богача меня тронула одна мысль, а именно: богач в аду переживает о братьях, оставшихся на земле. По опыту мне было известно, что когда в жизни человека наступает такой кошмар, который мы преждевременно называем адом, то можно перестать думать обо всех, даже самых близких. Тогда только воешь от душевной боли или дрожишь за шкуру. Богач, оказывается, был по-своему хорош. Он, даже попав в потустороннее пламя, сохранил в душе тревогу о родственниках. Трогательна была и просьба о том, чтобы Лазарь намочил перст в воде и прохладил ему язык. Удивило и то, что они за гробом друг друга узнали и что там могут быть длинные разговоры между святыми и грешными, между Авраамом и его потомками. С этими мыслями я и уснул в тот вечер, скрутившись в калачик, как я люблю, на вонючем одеяле синего цвета.
На следующий вечер я опять бродил среди христианских и еврейских могил, пробирался через ржавые и колючие ограды, раздвигал руками заросли папоротника и думал о своих проблемах. Мысль о том, что евреи, лежащие вот здесь, где я сейчас хожу, похожи на евангельского богача, а может быть, кто-то из них похож и на Лазаря, пришла ко мне тихо и незаметно. Как бы сама собой. Я даже не остановился, продолжил прогуливаться, но эта мысль вдруг раскрасила евангельский рассказ и даже посягнула на большее. Сильно верующим меня всегда назвать было трудно хотя бы потому, что в жизни этого не было видно. Но, наученный еще в институте Достоевским, я считал и считаю, что истина – Христос, а если истина – не Он, то лучше я буду со Христом, но без истины. То, что евреи в Иисуса Христа не поверили, казалось мне жуткой ошибкой и огромной трагедией. При этом никакой неприязни к этому народу у меня никогда не было.
И вот тут я подумал: ведь там, за гробом, все всех узнали. Увидели люди и Моисея, и Авраама. Увидели и Иисуса Христа, и только там поняли свою ошибку. Это ж, наверно, они теперь просят, чтобы омочил кто-то перст и прохладил им язык. Наверно, жалуются, что их неправильно научили, или они сами не хотели думать о важном, и вот так расплескали жизнь по горстям кто куда, а теперь мучаются… Мучаются, но о родственниках думать не перестают. Нас они, может, и терпеть не могут, но уж своих-то любить умеют. У нас дети поголовно то «тупицы», то «болваны», а у них «Ося всегда хороший мальчик». Так, по крайней мере, я тогда думал и решил следующее: пока жизнь моя непонятна, буду ходить сюда и читать мертвым евреям Евангелие.
С тех пор прошло уже достаточно лет, но я и по сей день удивляюсь тогдашней затее. Сегодня бы я этого уже не сделал. Или побоялся бы, или сам себя постыдился бы. Хотя теперь я знаю, что решил тогда правильно. Я много потом общался со священниками и читал разные книги. У Бога нет мертвых. Внимание души приковано к месту, где лежит тело, ведь там человек воскреснет. Чтение Евангелия – это один из высоких видов молитвы. И, несомненно, покойные переживают о живых и хотят, чтобы те не повторяли их ошибки.
На работе все было тихо и незаметно, а вот вокруг начало твориться разное всякое. Стало коротить проводку. В магазин повадились местные жулики-малолетки, и ночи перестали быть спокойными. Вдобавок у меня сильно разболелся желудок и я перестал есть. Зато из дома сообщали, что дела решаются и скоро можно будет вернуться. Те, кто искал меня, сами стали скрываться. Мысль о доме тепло согревала.
На кладбище я продолжал ходить и читал там преимущественно Евангелие от Иоанна. Там много таких мест, где Господь обращался к обступавшим его и теснившим иудеям. Он иногда ругал их, иногда учил, иногда грозил и обличал, но они так ничего толком и не понимали. Головы их были напичканы какими-то своими мыслями. А вот черно-белые лица с надгробий смотрели так, как будто понимали все, что я читал, и это меня одновременно и пугало, и радовало. Читал я вслух, но негромко. Находил удобное место, прочитывал главу, затем просил у покойников прощения за то, что потревожил, и отходил шагов на двадцать, на другое место.
Так продолжалось недели две. Я уже привык к ним, к тем, кого звали Шломо и Хацкель, к тем, на чьих могилах были написаны слова о скорби родных и выгравирован семисвечник. Как тут пришла новость о конце моих скитаний. Можно было пересчитать карманную мелочь и, даже не возвращаясь в каптерку, бежать на вокзал, чтобы электричками добираться домой. Так я и сделал. Напоследок пришел на кладбище, но уже ничего не читал (Евангелие было собственностью сторожки). Просто посидел под деревьями, но уже на христианской части. Было приятно смотреть на кресты, и было жалко, что они не стоят в той части кладбища…
* * *
Я забыл бы эту историю, как забыл сотни историй своей и чужих жизней. Но я вспомнил о ней, когда среди моих друзей все чаще стали появляться евреи. Они не решали со мной гешефты, не делали шахер-махер и не готовили гефильте-фиш. Они вообще не делали со мной ничего еврейского, но появлялись ниоткуда, говорили со мной о Боге, о Христе, о Суде и потом уходили. Некоторые стали моими друзьями, многие крестились, иных я даже не помню по имени, но за несколько лет их было много.
И вот тут в мои тяжелые мозги пришло ясное понимание того, что глаза с надгробий смотрели на меня с пониманием не зря.
Евреи все же умеют любить своих и переживать о них даже из ада.
ЗНАЮ – НЕ ЗНАЮ
Сколько в мире прекрасных слов! Забудем на время о Символе веры и о словах любовных признаний. Обратим внимание на чудесную фразу «не знаю». Бог видит, что я не вру, когда говорю о ее красоте. Она ничуть не менее красива, чем торжествующий крик «Эврика!»
От человека, который заявляет, что знает все, нужно бежать, как от прокаженного. Напротив, человек, смиренно говорящий: «Я этого не знаю», – приятен. Он даже красив в этот момент, независимо от черт лица, пола и возраста.
Один кричит, что даст ответы на все вопросы, и к нему бежит толпа людей, как правило, состоящая из тех, чьи вопросы несерьезны. Другой говорит, что нечто превосходит его понимание, – и с ним хочется общаться. Он знает главное – границы своего понимания.
Незнание спасает. Вот в аквариуме плавает рыбка. Она, по сути, находится в тюрьме, и за ней то и дело безразлично наблюдают. Если бы рыбка знала о своем унижении, она отказалась бы есть и через два дня всплыла бы брюхом кверху, мертвая от обиды и праздных взглядов. Вместо этого она плавает по одному и тому же маршруту, приближается к стеклу в ответ на стук ногтя, и по ней видно, что она – не человек. Осознанное страдание – не ее чаша.
Мы тоже немножко в тюрьме, и за нами тоже наблюдают. Причем не немножко. Но мы этого не знаем, не чувствуем, и оттого бываем счастливы и беззаботны.
Я, к примеру, не знаю, о чем думает сосед в маршрутном такси. Если бы мне это было известно, мог бы я спокойно ехать рядом? Вряд ли. Если бы мне были открыты изгибы и повороты судеб всех людей, с которыми я пересекался в жизни, разве мог бы я жить спокойно? Разве мы подавали бы друг другу руки, если бы все друг о друге знали? Вопрос риторический. Не подавали бы. Мы бы возненавидели друг друга, возгнушались бы своим соседством. Заповедь о любви предполагает некое божественное незнание о тайне человека и нежелание в эту тайну проникать. Вот почему любовь к грешнику, не гаснущая при виде его грехов, выше и чудеснее, чем воскрешение мертвых.
Наше незнание – такой же подарок от Бога, как и наши относительные знания и умения. Из этой светотени, из сложных сочетаний «знаю – не знаю» и составляется красота человеческого мира. Пусть нам твердят о том, что мир не черно-бел, что в нем есть много оттенков. Все-таки черно-белые фотографии рельефней и сочнее. Они лучше ловят момент и передают жизнь. Пестрые цвета – это лубок и почтовая открытка, отправленная к Рождеству без всякой веры в воплотившегося Бога. Черный и белый цвет с богатством оттенков – это правдивая и вовсе не однообразная жизнь. И одна из сторон сложной черно-белой правды – сложное сочетание «знаю – не знаю».
Знаю, к примеру, что умру, но не знаю – когда. Даже знать не хочу, чтобы этим поистине убийственным знанием не отравить радость новизны и свободу творческого поведения. Знаю, что грешен, но не знаю насколько, потому что не я себе судья и не за мною слово оправдания или осуждения. Я много знаю, и еще больше не знаю. Мое незнание радует меня ничуть не меньше, чем интеллектуальный экстаз, рожденный решенной задачей или новой понятой мыслью.
Отказываюсь от желания знать все. Хочу быть рыбой, счастливо плавающей в ничтожном, но достаточном пространстве аквариума. Хочу только быть молящейся рыбой. Хочу быть Гамлетом, познающим Вселенную из маленькой скорлупы, но не боящимся ночных кошмаров.
Не нужно гордости. Не нужно лишнего пафоса. Даже улетая в космос и возвращаясь, человек не должен говорить: «Я покорил космос». Ты, человек, просто засунул любопытный нос в новый мир, и тебя, дурака, там потерпели. Всегда пожимал я плечами, слыша из уст моряков или альпинистов речи о том, что они «покорили» море или горные вершины. Ты залез высоко и счастливо слез. Ты все еще жив, а вершина как стояла, так и стоит. Нет никаких гарантий, что ты залезешь на ту же высоту еще раз. Откуда пафос покорения?
Может быть, ты покорил себя, свой страх, свою лень? Но тогда это другой разговор. Это и есть путь. На этом пути победы славнее и необходимее. Мир внешний познается изнутри. Огромность внешнего мира блекнет перед глубиной внутреннего. И загадок там больше.
Саранча сожрала посевы пшеницы, но так и не познала пшеницу. Жадный ум захватчика опьянел от внешних успехов. Это не навсегда, я вас уверяю. Если ум не смирится и в звательном падеже не обратится к Богу – Господи! – все сильно изменится, не к радости гордого естествоиспытателя.
Может случиться, что человек захочет пить, но воды не будет. Вместо настоящей воды, журчащей, искрящейся, прохладной, останется только формула воды. Она никого не напоит, эта формула. Она только раздражит того, кто ее знает. Так раздражает химический состав хлеба, поданный на листе бумаги голодному вместо настоящей краюхи. Это бессилие и раздражение от ложных успехов – перспектива всякого гордого знания. Вода в тот день, день жажды и голода, будет только у рыбы. Или у того, кто чуть-чуть похож на рыбу – то есть доволен маленьким пространством и счастлив внутри него, не желая проглатывать жадным умом всю Вселенную.
ЛЕБЕДЬ, ИЛИ ВЕЧЕР СЕН-САНСА
Мишка был крепкий парень и не робкого десятка. Отжимания на кулаках, пробежки в любую погоду, спарринги и все такое. Но те двое, которым он попался «на зубок» поздно вечером у ларька с сигаретами, оказались крепче. Вот уже несколько лет прошло, как Мишка на кулаках не отжимается, по мешку не бьет и в парах не стоит. Вместо этого Мишка всем улыбается и через каждые секунд тридцать странно подергивает головой. Работает он, ввиду полной своей безопасности, в детском садике дворником.
Зато Григорий как занимался любимым делом, так и занимается. Хотя он и не здоровый вовсе, и его, как и всех в нашем городе, рано или поздно встречали вечером такие люди, после общения с которыми тоже можно начать всем улыбаться.
Гриша – представитель самой немужественной в глазах нашего нордического населения профессии. Гриша – скрипач. Ни разводной ключ, ни молот, ни тугая баранка старого грузовика мозолей на Гришиных руках не оставили. Весь спектр своих чувств он, в отличие от нормальных пацанов и мужиков, одним только матом выразить не способен. И в плечах он не широк, и смотрит на мир открытым взглядом, а не из-под неандертальских надбровных дуг. Даже плюнуть сквозь зубы у него получается только на метр, а не на три, как у любого нормального в нашем городе человека. И, тем не менее, какая-то сила в нем есть. А иначе как бы он до сих пор играл на своей скрипке, если даже такие парни, как Мишка, уже несколько лет всем улыбаются?
* * *
С какой-то репетиции в один из ветреных, холодных вечеров Гриша шел однажды домой. Шел, срезая углы и петляя по дворам, в которых шутки ради малолетками выбиты все лампочки у фонарей; шел по дворам, в которые заходят только знатоки маршрута, например, пьяные, возвращающиеся после получки домой в состоянии глубокого алкогольного обморока. Через такие дворы быстрым шагом петлял с репетиции домой и Гриша, подняв воротник плаща, мурлыча обрывки мелодий, мечтая о горячем чае с лимоном.
Сиплый густой баритон неожиданно отвлек Григория от уютных мыслей.
– Сюда иди.
Несколько окон без занавесок лили жидкий свет на мокрый лабиринт двора, на поломанную детскую площадку. Из полного мрака в относительную полутьму по направлению к нему выступили две фигуры.
– Деньги давай.
Когда бежать некуда, а драться бесполезно, просьбы, произнесенные сиплым голосом, нужно выполнять. Если, конечно, эти просьбы в принципе выполнимы. Если у человека есть принципы, соблюдая которые, ему скорее придется попрощаться с жизнью, чем исполнить неисполнимое. «Деньги – дело наживное, – так всегда говорила Григорию мама. – Нужно отдать – отдавай не жалея. Потом еще заработаешь». «Деньги – не принцип», – всегда думал Григорий. Он достал из кармана все бумажки и все копейки, которые там были.
– Это все?
– Да.
– А это что?
Рука обладателя сиплого баритона коснулась футляра за спиной.
– Скрипка.
– Ты че – скрипач?
– Да.
– А она дорогая? – спросил второй надтреснутым голосом.
– Я ее не отдам, – сказал Григорий, – да она вам и не нужна. Вы ее нигде не продадите.
– А сыграть сможешь?
– Смогу, конечно.
– Пойдем.
Они зашли в ближайший подъезд и поднялись на площадку между первым и вторым этажами. Граффити на тему половой жизни обитателей дома, окурки, выбитое стекло – все как везде. Григорий с минуту дышал на пальцы и тер ладони друг о друга, разглядывая попутно неожиданных слушателей. А те с насмешкой в хищном взгляде, в свою очередь, рассматривали этого Паганини, который снимал с щуплого плеча футляр и готовился играть.
– Нам чего-нибудь нашего, – сказал баритон.
– «Мурку», что ли? – спросил, осмелев, Григорий.
– Типа того.
– «Мурку» я не играю. Я играю серьезную музыку. Вот сейчас мы репетируем ораторию Сен-Санса.
– Слушай, Чиполлино, нам это… как тебе сказать? Нам непонятно будет, въезжаешь?
– Это вам так кажется. – Григорий уже изрядно осмелел и почувствовал себя не в лапах чудовища, а в диалоге с людьми. Он почувствовал, что больше непрошеных слушателей начинает владеть ситуацией. – Серьезная музыка понятна всем. Вы когда-нибудь лебедя видели?
– Ты что, издеваешься?
– Ну вот представьте себе лебедя. Представьте, как он плавает по тихому озеру и вода мягко расходится за ним едва заметным шлейфом. Закройте глаза и представьте. А я сыграю произведение, которое называется «Лебедь». Это тоже Сен-Санс, ораторию которого мы сейчас репетируем.
Два человека зажмурились, а третий, взяв несколько нот для пробы, начал играть. Нужен был фотоаппарат, чтобы заснять эту «встречу на Эльбе»! Это было похоже на столкновение двух цивилизаций. Одна цивилизация была сурова. Она выжила в снегах ледникового периода, вырастив на сердце и на всем кожном покрове грубую защитную броню. А вторая, наоборот, долго обрезывала и очищала сердце, делая его чутким и восприимчивым к любому прикосновению. Два представителя первой цивилизации стояли непривычно для себя самих – закрыв глаза, а представитель другой водил смычком по струнам и сам в это время был похож на струну, натянутую и звенящую. А между ними, в согревшемся от игры воздухе, царственно плыл по тихому озеру лебедь Сен-Санса. Он иногда окунал голову в воду, иногда прятал ее под крыло. Но он все время плыл, не останавливаясь, и озеру, казалось, не было конца.
Через несколько минут игры надтреснутый голос вскрикнул:
– Стой! Стой! Вот здесь теплее надо!
Григорий улыбнулся в ответ и стал играть «теплее», а кричавший, закрыв глаза, продолжил слушать. Он действительно понял эту музыку, и радость понимания грела его не меньше, чем звуки скрипки.
Дом резонировал. Звуки уходили вверх, усиливались, заставляли подрагивать не выбитые стекла. Музыка без стука заходила в дома, сначала раздражая непривычностью, а затем совершая умиротворяющее помазание. Люди открывали двери квартир, чтобы закричать «уйдите!» или «перестаньте!», но не кричали, а оставались у открытых дверей и слушали. После «Лебедя» из «Карнавала животных» Гриша сыграл еще Рондо Каприччиозо, и когда он заканчивал, из-под закрытых век баритона вытекла скупая и жгучая слеза, какими плачут люди, пережившие ледниковый период.
* * *
Они, конечно, отдали Григорию все его деньги, а может, и додали своих. Они проводили его домой, чтобы никто пальцем не тронул Паганини («сам знаешь, что у нас по вечерам случиться может»). Они бы и поблагодарили его на все лады, но слов в лексиконе было маловато, и большую часть своего восторга они, размахивая руками, выражали матюками и междометиями.
Все трое в ту ночь засыпали улыбаясь. Но это была не та улыбка, которой встречает незнакомых прохожих некогда крепкий парень Мишка.
Обычно бес стоит незримо между людьми, нашептывая помыслы, провоцируя вражду, подталкивая на злодеяния. А между этими тремя людьми в сей вечер тихо и неторопливо проплыл лебедь. Он проплыл, перед глазами одних открывая красивую и неизведанную жизнь, а в глазах другого подтверждая ту истину, что люди изначально хороши, и если плохи, то лишь потому, что сами не знают себя настоящих.
СИДЕТЬ СПОКОЙНО
Есть люди, готовые горы свернуть, лишь бы сделать мир лучше. Они часто обвиняют в равнодушии тех, кто не разделяет их жажды перемен. Но стоит полистать учебник истории, чтобы убедиться: стать в строй и пойти маршем недостаточно для всеобщего счастья человечества. Не будет лишним сперва понять, куда движется этот строй энтузиастов…
Кто-то сказал, что зло торжествует тогда, когда хорошие люди сидят сложа руки. Сказано, как отрезано. Попробуй не согласись. Согласился – и сразу, как миражи, встают перед глазами образы людей с горящими взорами и волевыми подбородками. Их много, этих людей, они идут так, словно накатывают людскими волнами на берег истории. Они смелы и полны благородных мыслей. Их цель – менять к лучшему несправедливую жизнь.
Осторожно подхожу к одному и спрашиваю: «Далеко собрались, товарищ?» – «Иду, – отвечает, – в общем порыве менять жизнь к лучшему. Хватит злу безнаказанно над человечеством издеваться». – «А что конкретно делать будете, товарищ?» – спрашиваю осторожно. – «Пока не знаю. Но делать же что-то надо. Нельзя же сидеть сложа руки».
Он уходит, уносимый морем подобных энтузиастов, поднимая пыль и этой же пылью дыша. А я остаюсь на месте и повторяю про себя им сказанные слова: «Что делать, не знаю, но надо же что-то делать»…
Добрые люди, хорошие люди, послушайте. Послушайте все вы, кто считает себя хорошим, а источник зла полагает где-то далеко от себя. Послушайте вы, не умеющие усидеть на месте, но толком не знающие, что делать. Не меня, конечно, слушайте. Что вам я? Исаию послушайте.
Я сказал им: ваша сила – сидеть спокойно (Ис. 30, 7). И еще: Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы; в тишине и уповании крепость ваша; но вы не хотели (Ис. 30,15).
Избыток энергии при моральном пафосе и вкупе с туманом в голове – для сатаны это словно «коктейль Молотова». Из правдолюбцев и холериков, из тех, у кого повышен градус требовательности к миру, а в голове куча мала обрывочных мыслей, да все чужих, – именно из этих персонажей можно лепить все что угодно. У кого сильна воля и ясны поставленные задачи, кто последователен и зол, тот слепит из этой массы безмозглых энтузиастов любую фигуру. Если, конечно, сами энтузиасты себя не перегрызут, споря о том, в какую сторону печатать революционный шаг.
Сидеть спокойно. Как это прекрасно. Думается, прежде чем заслужить у Господа похвалу (Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее), Мария уже любила сидеть на месте, размышляя. А Марфа, наверняка, любила носиться из угла в угол, да все с делами, да все с неотложными. Какие они были по жизни, такие, видно, они были и пред Господом. Одна – у ног со вниманием. Другая – с кастрюлями у очага. Таких больше. Таких «тьмы и тьмы».
Ну и бегали бы себе сами. Так нет, им хочется весь мир увлечь в водоворот своего холерического энтузиазма. Они уверены, что понимают все правильно. Они не допускают мысли, что их активность – это не благие порывы хорошего человека, а суетливая гадость с претензией.
Я лежал лет в восемь в больнице с аппендицитом. А рядом лежал такой же, как я, парнишка. Нас в одно время прооперировали. Есть нельзя, пить нельзя. Швы ноют. Переворачиваться с боку на бок больно. Нянечка губы смачивает водичкой каждые полчаса. Утром к нам пришли родители. К нему – бабушка. Он ноет: «Есть хочу». А доктор категорически запретил давать что-либо есть сутки или больше. Не помню. Помню – сказал: «Потеряете ребенка». Но что такое доктор, если ребенок просит есть? Бабушка бежит в булочную и возвращается с плетеной булкой. Внучек ест, а через пару часов его увозят в морг. Бабушка – убийца.
Она убийца по факту, но не по намерению. По намерению она – лучший друг голодного внука. Но факт сильнее намерения. Она – убийца. Причем убийца из-за своей человеколюбивой упертости, из-за априорной уверенности в своей правоте. «Я ж плохого не хочу. Я хорошего хочу». Объясни такой человеколюбивой дуре, что несвоевременная и неразумная любовь страшнее пистолета. Не объяснишь.
Была б она одна такая. Но таков весь род человеческий. Все уверены в своей правоте, все готовы глотку перегрызть, доказывая, что желают только добра. И все убивают друг друга, если не одним махом при помощи камня или ножа, то медленно, при помощи вражды, обид, сплетен, козней, осуждения. Какая-то банда человеколюбивых убийц, уверенных в кристальной честности собственных намерений. Классический злодей на таком фоне выглядит приличной фигурой. По крайней мере, фальши меньше, и все сначала понятно.
Зло торжествует не тогда, когда хорошие люди сидят тихо. Зло торжествует тогда, когда нравственные пигмеи вообразили, что они великаны. Когда эти ложные великаны закатали рукава и решились бороться со злом, которое, как им кажется, понятно и очевидно. Тогда зло, тонкое и ускользающее, хитрое и неуловимое, овладевает этими слепцами и творит из них свое орудие.
Им бы тихо посидеть, подумать. Так нет. Чувство собственной правоты в дорогу зовет. Остановитесь, прошу вас. Не я прошу. Пророки просят. Остановитесь на путях ваших… и рассмотрите, где путь добрый, и идите по нему (Иер. 6,16).
Ваша сила – сидеть спокойно.
ЧЕХОВ В СУПЕРМАРКЕТЕ
Невысокий, аккуратно, но старомодно одетый человек стоял в одном из столичных супермаркетов между полок с товарами. На нем был хороший костюм из английского сукна, белоснежным был накрахмаленный воротничок, а взгляд умных глаз из-под пенсне был озадаченным и несколько тревожным. Если бы остановиться и присмотреться к нему, то в душе ожили бы строчки, когда-то слышанные в детстве: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Правда, никто к нему особо не присматривался.
Это было то самое вечернее время, когда окончился рабочий день и множество народа, возвращаясь домой, заходит в супермаркеты за продуктами для ужина. Эти жители города привыкли ко всему. Их не удивишь ни крашеным «ирокезом» на голове молодого «неформала», ни японской татуировкой на худеньком плечике сопливой девчушки. Им ли удивляться, увидев человека средних лет, одетого в костюм XIX века? Может, это актер, зашедший в магазин в гриме и реквизите. Может, это какая-то очередная рекламная акция. Не все ли равно? Завтра опять на работу, вечер такой короткий, и очереди у касс длинны. А ведь надо успеть поужинать до тех пор, как начнется сериал или политическое шоу.
Но у него самого, у этого необычно одетого человека, в душе не было ни одной привычной мысли.
В душе был ураган, состоящий из удивления, любопытства, страха, горького разочарования и еще Бог знает чего. Все написанное им оживало в его памяти, словно прочитывалось вслух тихим голосом невидимого суфлера.
Астров. Те, которые будут жить через сто-двести лет после нас и для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом? Нянька, ведь не помянут!
Марина. Люди не помянут, зато Бог помянет.
Астров. Вот спасибо. Хорошо ты сказала. «Дядя Ваня»
«Люди не помянут, зато Бог помянет», – повторил он еще раз и с удивлением стал рассматривать ледяную горку с морепродуктами. Многое, почти все, в магазинах ему, в принципе, было известно. Сыры, колбасы, вина, хлеб. Все это было понятно. Непонятными были только изобилие товаров, множество сортов и непривычная упаковка. Да еще то, что покупали их не дворяне и не кухарки дворян, а обычные люди, составляющие теперь обычную человеческую массу.
Те ряды, где продавалась бытовая химия, порадовали его. Всю свою медицинскую практику Антон Павлович (а это был именно он) страдал от грязи и антисанитарии. «Человек не должен жить в грязи, – думал он всегда, – ни в грязи бытовой, ни в грязи нравственной». Его сердце разрывалось на части, когда он, будучи доктором, входил в крестьянские избы и видел на полу лежащих вповалку людей и телят, а вокруг – чад, вонь и беспросветная нищета. Эти люди, живущие спустя сто лет, были чисто и красиво одеты.
Чтобы понять их жизнь, ему было мало одного дня. Но только на день его отпустили. Впрочем, ничего, ничего. Ему бы ведь только насмотреться, напитаться впечатлениями, а там будет время все это осмыслить.
Больно поразили ряды сигарет и алкоголя, и память, как в школе, стала повторять ранее написанный текст.
Представьте еще, что мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд, мы стараемся сократить число наших потребностей до минимума. Мы закаляем себя, наших детей, чтобы они не боялись голода, холода и мы не дрожали бы постоянно за их здоровье, как дрожат Анна, Мавра и Пелагея. Представьте, что мы не лечимся, не держим аптек, табачных фабрик, винокуренных заводов, – сколько свободного времени у нас остается в конце концов! Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам.
«Дом с мезонином»
Люди, проходящие мимо и толкающие перед собой тележки с покупками, никак не походили на людей из осуществившейся мечты. Это не были красивые, как олимпийские боги, свободные и благородные существа, посвящающие досуг наукам и искусствам. У них были машины, но меньше трудиться и меньше бояться за жизнь они не стали. Их трудом стало теперь обслуживание машин. У них была теперь целая куча новых потребностей, рожденных развитием цивилизации, и, значит, рабство их усилилось. Они боялись голода и холода еще больше, потому что не добывали пищу и тепло сами. Все те же машины привозили еду в магазины, и по каким-то трубам приходили теперь в дома вода и тепло, и жизнь от этого стала не вольготнее, а, наоборот, уязвимее и неувереннее. «Число табачных фабрик и винокуренных заводов, должно быть, возросло до невероятности», – подумал Антон Павлович, и ему стало стыдно за все мечты, так простодушно переданные бумаге и так странно воплотившиеся в жизнь. Он видел сегодня в городе и аптеки, множество аптек, и понял, что люди стали болеть больше и сложнее. Он видел их бесцветные, затравленные глаза, и ему опять становилось стыдно за то, что он так незрело и по-детски рисовал себе будущее человечества. То и дело писатель хотел вздохнуть и спросить: «Отчего все так, Боже?» Но он вовремя вспоминал, что не ему в его нынешнем положении задавать такие вопросы, что в ответ на его земные неутоленные вздохи он и послан на землю; и тогда он сдерживал вздох, продолжая смотреть, замечать детали и думать.
«Поговорить бы с кем-то», – подумал он, хотя знал, что это не входит в условия договора. «Только на день и только в роли наблюдателя», – было сказано ему. «Да это и к лучшему», – успел подумать он, как тут же мысль его, с проворностью иглы, соскальзывающей на заезженную бороздку пластинки, соскользнула в написанное ранее.
Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже не глупый человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти. Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава Богу, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал: «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?»
«Ионыч»
«Почитать бы их газеты, узнать бы, есть ли у них паспорта и смертная казнь?» Но даже у отделившейся от тела души сила ума небезгранична. Он уже успел устать за день.
Писатель уже побывал сегодня в метро, поднимался на крышу одного из высотных зданий, откуда с замирающим сердцем долго смотрел на краны новостроек и на людской муравейник. Непременно надо было зайти в больницу, в операционную или хотя бы в приемный по кой. Надо было бы послушать, о чем говорят коллеги, какие у них проблемы, мечты, дерзания. Но вот он зашел в супермаркет и провел в нем непозволительно много времени. Темп жизни, постоянная спешка, давка в транспорте, сам этот транспорт, фантастический для человека, видевшего только паровоз и городских извозчиков, – все это к концу дня давило, мучило новизной и невообразимостью. И здесь, в помещении, под ярким искусственным светом, среди изобилия товаров Чехов уже не хотел спешить. Скоро должны прийти за ним те, светлые, двое, которые привели его посмотреть на осуществившееся будущее ранним сегодняшним утром. О, этот день дал ему столько пищи для ума, что до Страшного Суда должно хватить. Всю свою жизнь Антон Павлович трудился и боролся, страстно мечтал и тревожился о человеке. Многое из того, что он видел сегодня, мелькнуло перед ним, как воплотившаяся греза. Но в целом ему было больно. «Счастье так же далеко от этих людей, как далеко оно было от нас. И в то же время оно одинаково близко и к ним, и к нам», – подумал он и, сказав «нам», горько усмехнулся. «Нам? Нам теперь нужны их молитвы больше, чем им наши книги. Нужно, чтобы они не повторяли наших ошибок, не были так же ужасающе глухи и слепы ко всему, что нельзя положить в рот. Этого, кажется, я в них не заметил».
Медленно двигаясь среди товарных рядов, с любопытством поворачивая голову туда и сюда, он дошел до стеллажа с книгами. (В наших маркетах ведь торгуют книгами, не правда ли?) Там он остановился, глядя на людей, листающих толстые журналы или другую литературу. Он уже увидел тех двоих, пришедших за ним и стоящих у выхода, когда слух его среагировал на знакомый текст. Это были его слова, но произносил их не тайный суфлер внутри его сознания, как было раньше, а молодой мужчина, держащий в руках раскрытую книгу его, Чехова, пьес.
Мы будем трудиться для других и теперь, и в старости, не зная покоя, а когда наступит наш час, мы покорно умрем, и там за гробом мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и Бог сжалится над нами, и мы с тобою, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешние наши несчастья оглянемся с умилением, с улыбкой – и отдохнем.
«Дядя Ваня»
– Здорово, правда? – сказал мужчина своей спутнице и закрыл книгу.
– Ты хочешь это купить? – спросила она, глядя в сторону.
– Ну да.
– Для себя или для Пашки в школу?
– И для себя, и для Пашки.
– Ладно, бери и пошли. Домой пора.
Ему тоже было пора. Те двое сделали знак глазами, и их нельзя было не послушаться. Он пошел к Хранителям, благодарный Богу за отпущенный день, за эту странную экскурсию, а внутри у него звучало продолжение только что слышанного текста, продолжение, звучащее сейчас как нельзя кстати.
Мы услышим Ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ
О каких потерях плачут люди? Плачут о потерянной родине, об умерших родных, об украденных деньгах. Но разве все это можно сравнить с потерей Рая?
Богач, превратившийся в последнего нищего, – это бледная тень того изменения, которое произошло с нашими прародителями. С высоты легко упасть, но на высоту трудно подняться. И наши прародители, утратившие блаженство, стали так же жалки и беззащитны, как птенец, упавший из гнезда.
Они еще не знали, что это не последняя точка падения, что им придется падать еще, дальше, глубже, до самого ада. Их длинная жизнь, проведенная в ожидании спасения, подошла к концу, и они, отделившись душами от тел, сошли в мрачное и безрадостное место.
Шеол. Так называли евреи то царство теней, где души, потерявшие плоть, но сохранившие память и веру, ожидали Мессию. Там не было радости, песен, псалмов, но только тьма и долгое, тягостное ожидание. Лучшие из лучших тоже сходили туда. Моисей, с которым устами к устам разговаривал Бог, опустился во мрак. Самуил, Давид, Давидовы дети сходили туда же. Каждого вновь прибывшего встречали вопросом: «Он пришел? Ты видел? Ты дождался?»
– Нет, – отвечали один за одним нисходившие в ад и присоединялись к ждавшим.
Псалом 90-й заканчивается так: «Долготою дней исполню его и явлю ему спасение Мое». Эти слова исполнились на праведном Симеоне Богоприимце. Он увидел Спасителя, он не умер раньше, чем произошло Его благословенное Пришествие. И Симеон умер, как и было ему предсказано, с миром. Он, насыщенный днями, первый опустился в Шеол, чтобы сказать: «Я видел». Его руки помнили тепло Иисусова тела, его глаза смотрели на Сына Божия. Бог явил ему «спасение Свое». Об этом узнали узники ада, и ждать стало легче.
Но время в Шеоле тянулось не так, как на земле. Там, где нечем развлечься, где нет никаких утешений, ожидание – это настоящая пытка. Долгих тридцать лет прошло до тех пор, пока не спустилась в ад чистая душа Предтечи, омытая кровью мучения. Его слова были еще радостнее.
– Мессия проповедует. Он исцеляет и воскрешает. То, что пророки говорили о Нем, исполняется. Спасение близко.
– Его убьют, – сказал Исаия. – Мне было открыто, и я говорил о Нем, что Он – муж скорбей и изведавший болезни.
– И я в псалмах пел о том, что Ему пронзят руки и ноги и что о Его одежде будут метать жребий, – сказал Давид.
– И мы с Илией видели Его на Фаворской горе, – отозвался Моисей, – мы говорили с Ним о Его страданиях. Вы правы.
Голоса пророков раздавались громче и громче. Каждый из них что-то знал о Христе, каждому была открыта Духом Святым какая-то грань Его подвига. Родился в Вифлееме, Мать Его непорочна, Он въедет в Иерусалим на осле, Его предадут за ничтожную сумму денег. Шеол никогда не слышал такого оживления, как вдруг затворы адовы затрещали. Все пришло в движение, и раздался голос:
– Поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!
– Кто сей Царь славы? – спросили перепуганные адские стражники.
– Господь сил, Он – Царь славы, – раздался ответ (см.: Пс. 23, 7–10), и густая, вековая тьма озарилась ярчайшим светом. Господь, Совершивший победу, Грозный и Милующий одновременно, сошел в преисподнюю. Его схождение вспороло аду брюхо так, как нож кухарки вспарывает брюхо пойманной рыбе, и теперь все, кто ждал Его, – свободны. Но не толпой, а по порядку устремились праведники к Спасителю. Вначале они расступились, и Христос, внимательно всматриваясь вглубь, сказал слова, однажды уже звучавшие:
– Адам! Где ты?
– Я здесь, Царю мой и Боже мой, – сказал тот, кто в Раю говорил: «Я наг и скрылся». Праотец с праматерью смотрели на Христа с трепетом, в любую секунду готовые опустить глаза. Ведь это они – виновники всемирной трагедии.
Господь протянул им руки и, когда их ладони встретились, с силой повлек их наверх. Их и их детей ждал Рай. Уже не земной, но новый – небесный. И он уже не был пуст. Там уже был благоразумный разбойник, не отмычкой, но покаянием открывший себе двери в страну блаженства.
ЧТО ПОТОМ?
Что изменило для нас Воскресение Христово? Это величайшее событие взорвало всю жизнь человечества – и то, что после жизни. Мы получили надежду, смысл и радостный ответ на самые сложные вопросы.
Булгаков, известный многим по роману «Мастер и Маргарита», дружил с Ильфом, не менее известным благодаря «Двенадцати стульям». Однажды, когда Ильф был серьезно болен, Михаил Афанасьевич пришел развлечь и ободрить друга. Он много говорил, рассказывал истории, в частности, одну, случившуюся с ним в Грузии.
В каком-то министерстве с дикой аббревиатурой в названии Булгакову и его спутникам пообещали помощь с транспортом. Товарищ, обещавший содействие, попросил подождать его, а в это время к Булгакову подошел улыбающийся человек и спросил: «Как дела?» Булгаков говорит: «Нормально. Сейчас дадут машину, и поедем на вокзал». Товарищ, лучезарно улыбаясь, говорит: «А потом?» – «Потом до порта и – на пароход». Тот опять: «А потом?» Булгаков, начиная смущаться: «Потом опять на поезд». – «А потом?» – «Потом с пересадками – до Москвы». – «А потом?» Булгаков, совсем растерявшись: «Потом с утра – в редакцию, в театр, по делам, в общем». – «А потом?»
«Уж не знаю, чем бы все закончилось, – говорит Булгаков, – но подошел тот самый, обещавший содействие, товарищ и говорит: "Оставьте этого болвана. Он иностранец и по-нашему знает только две фразы"».
Булгаков засмеялся, ожидая такой же реакции от Ильфа. Но Ильф серьезно посмотрел на товарища и спросил: «А что потом, Миша?» Болезнь Ильфа была серьезной. Быть может, дыхание ангела смерти уже холодило ему затылок. Там, где легкомысленное сердце не замечало метафизики, для Ильфа уже звучали вечные вопросы. «Что потом?»
Милосердный Боже! Каким холодом веет от этого вопроса для тех, кто не верит в жизнь будущего века! Заставьте неверующего человека вслушаться сердцем в эти два слова – что потом? – и скрипач опустит смычок, водитель заглушит мотор, профессор захлопнет книгу. Переместите мысль о смерти с задворков сознания в центр, и в памяти оживут строчки Лермонтова: «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, такая пустая и глупая шутка».
Но что я слышу? Не все скрипачи опустили смычки. Кто-то продолжает играть струнный концерт Альбинони. Не все водители заглушили моторы. Кто-то, притормозив на секунду, бодро поехал дальше. Не все профессора покинули кафедры. Остались и те, кто окрепшим голосом продолжил чтение лекций.
Откуда у них эта сила и желание жить дальше, если два слова – что потом? – доведенные до сознания, должны были положить в гроб любой оптимизм и, словно двумя гвоздями, прибить над ним крышку?
О, уверяю вас, у них есть секрет. Не от бесчувствия и не от бессмыслия они продолжают привычный труд. Драма смерти внятна их сердцу более, чем многим другим. Но, остановившись на малое время, они произнесли волшебные слова и исцелились от страха. «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав», – вот что произнесли они, и, словно вурдалак при свете утренней зари, словно хандра при звоне колоколов, исчезла для них безмерная печаль и бессмыслица.
Христос воскрес, и апостолы, в день Распятия похожие на распуганных овец, лишившихся Пастыря, стали подобны львам. Царственным рыком бесстрашной проповеди они огласили Вселенную.
Христос воскрес, и мученики тысячами и десятками тысяч стали встречать смерть с улыбкой. Девушки спешили под меч радостнее, чем под венец, и дети опережали сильных мужчин в храбрости.
Христос воскрес, и реки премудрости потекли от уст святителей и проповедников, еще недавно живших во тьме греха и невежества, но омывшихся, но оправдавшихся, но освятившихся именем Иисуса Христа и Духом Бога нашего.
Пустыни заселились монахами, потому что Христос воскрес!
Погасли костры в демонских капищах, и сами капища превратились в храмы Божии, потому что Христос воскрес!
Женщина уравнялась с мужчиной, господин обнял слугу, личность стала важней, чем народ или государство, потому что Христос воскрес!
Сверху донизу разорвалась завеса в Храме. Благодать Божия, не желая быть частной собственностью одного народа, и притом – неблагодарного, сообщила себя всем, кто полюбил воплощенную Истину.
Сверху донизу треснули стены ада, и несметные души, как птицы, влетели в Небесное Царство, куда раньше всех вошел спасенный верой и очищенный страданием благоразумный разбойник.
И я, без всякой нитки оказавшийся в лабиринте, потерявший сам себя и чувствующий себя никому не нужным, вдруг узнаю, что и я не забыт. Мало того, любим и известен Ему по имени. Во вселенской пасхальной оратории несколько нот предназначены и для моего голоса.
Жить – это значит жить вечно! И нет никакого страха в словах «что потом?» Потом будет город, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Потом будет голос, говорящий: се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Потом узрят лице Его, и имя Его будет на челах их.
Вот что будет потом, и то, что будет это, так же несомненно, как то, что Бог – свят. Но не завтра это будет, и не наше дело – рассуждать о временах и сроках. Идти нужно по указанному пути. Песня дорожная у нас уже есть: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».
ЭДИТ
В центре парусного корабля возвышается мачта. А в центре европейского города возвышается шпиль собора. Соборный колокол пугает по воскресеньям птиц и мешает спать тем, кто не любит молиться. Вокруг собора, чаще всего – квадратом, расположена площадь. В зависимости от времени года она бывает то местом народных собраний с духовым оркестром и выступлением мэра, то местом оживленной торговли. Во все стороны от площади убегают узенькие улочки. Дома на них стоят столь близко, что солнечный луч бывает редким гостем на стенах первых этажей. Сыростью и древностью пахнет на этих улицах, если, конечно, хозяйка не вылила прямо перед вашим носом грязную мыльную воду или кухонную лохань с рыбьей чешуей. Сейчас такое случается редко, но раньше…
Та история, которую я хочу рассказать, случилась именно «раньше». Это было между двумя мировыми войнами, которые, по правде, стоило бы назвать бойнями. Жизнь была бедная, злая и неуверенная. Люди в те годы стали криво ухмыляться при слове «честность» или «благородство». Многие понятия испарились, всем не хватало денег, все не доверяли друг другу и на ночь крепко запирали двери. В городском храме службы шли регулярно, и люди ходили на них регулярно, но это была холодная регулярность. Точно так же и стрелки часов на башне ходят по кругу, оставаясь мертвыми.
Впрочем, было в этом городе несколько человек, которые по временам молились очень истово, со слезами и подолгу. Это были несколько «девочек» из заведения мадам Коко. Да, господа! В каждом европейском городе, наряду с парикмахерскими, кафе и ателье верхней одежды, непременно есть хотя бы один дом, войти в который можно по одной лестнице, а выйти – по другой. Это – дом свиданий, веселый дом, или публичный. Называйте как хотите. Если есть человеческое жилье, то могут быть и паразиты: грызуны, насекомые… Если есть цивилизация, то есть и одно из ее проявлений – древняя язва, неистребимое зло, проституция. Как-то окунувшиеся в разврат, кем-то обманутые, часто задавленные нуждой, женщины, живущие в таких домах, никогда не остаются без работы. Потому-то и не совпадают там зачастую вход и выход, что незачем, краснея, встречаться в дверях соседу с соседом или профессору со студентом.
Жизнь в этих домах начинается тогда, когда в обычных жилищах мамы рассказывают детям на ночь сказки. А когда те же дети просыпаются утром и мамы выливают за дверь в канаву содержимое их ночных горшков, в тех домах наступает мертвая тишина. Неестественная жизнь имеет свой неестественный график. Во всем доме только несколько человек с наступлением утра вели активный образ жизни. Это сама мадам Коко (никто не знал, когда она спит), уборщица и сторож, он же дворник и вышибала. Уборщица, мадам М, мыла полы, громко шлепая об пол мокрой тряпкой. Сторож, мужчина лет сорока, в прошлом цирковой акробат, молча курил в углу прихожей. Рядом с ним, беззаботно болтая не достающими до земли ножками, сидела его дочь. На вид ей было лет шесть. Это было щуплое, слабо развитое дитя, похожее на маленького воробышка. Звали ее грозно. Звали ее так же, как звали когда-то умную женщину, спасшую свой народ от врагов. Во многих галереях мира вы при желании увидите разной кистью и в разные времена написанные картины под названием «Юдифь с головой Олоферна». Девочку звали Юдифь, но на языке ее страны имя звучало несколько иначе – Эдит.
Картинной галереи в их городе не было. Но даже если бы и была, Эдит не смогла бы посмотреть на картины с изображением своей знаменитой тезки. Эдит была слепа. Ее глазки смотрели прямо перед собой, но ничего не видели.
Женщины в доме мадам Коко любили девочку страшно. Вся нерастраченная жажда семьи, материнства, вся жажда дарить, а не продавать любовь, изливалась на эту слепую девочку. Ее тискали, прижимали к груди, ее носили на руках, причесывали, ее баловали сладостями.
«Если бы можно было купить ей новые глазки, я не пожалела бы всех своих денег», – говорила подругам долговязая Элизабет. Ее собственная дочь жила в другом городе у бабушки.
«Мы бы все не пожалели», – вторили ей женщины. Их любовь к Эдит была неподдельной. В этом доме, где грех обжился лучше любой ласточки, забравшейся под крышу, маленькая Эдит, казалось, воплощала ту нормальную жизнь, где женщина вечером ложится в постель к мужу и просыпается утром.
Я уже говорил, что «воспитанницы» мадам Коко временами молились горячо и подолгу. Обычный человек вряд ли поймет, что такое молитва проститутки. Да лучше бы ему этого и не понимать. Но ведь Страшного Суда еще не было. И не мы, а Христос, Тот Самый, Который распялся за нас, будет этот Суд вершить. Эти женщины тоже любили Спасителя. Любили хотя бы за то, что Он не карает их немедленно, не испепеляет после очередного греха, но терпит и продолжает ждать. Вера жила в них на самом дне сердца, и они стыдились выпячивать ее наружу. Но иногда волны раскаяния начинали вздыматься, и дно души обнажалось. Тогда слезы лились рекой, и горькие вздохи нельзя было слушать без содрогания. Это бывало не часто и не у всех. Но это бывало, видит Бог, бывало.
В том городе, где человек зарабатывает на жизнь в ночном заведении, он вряд ли часто будет молиться в местном храме. Особенно если городок мал и все лица знакомы. Но неподалеку от этого городка был другой, кажется, Лизье, так его звали. В этом городе был монастырь, а в монастыре – мощи древней святой подвижницы. Святыня привлекала в обитель толпы паломников, среди которых было легко затеряться. Туда и ходили время от времени молиться и долговязая Элизабет, и курносая Жанна, и еще несколько их подруг по ремеслу и несчастью.
Есть, конечно, вещи, которые трудно забыть. Но чаще всего забывать легче, чем помнить. Никто уже не вспомнит, как и когда к необычным паломницам пришла мысль согласно и усиленно молиться Господу о даровании зрения маленькой Эдит. Но ведь не родились же эти женщины сразу проститутками. У них были обычные матери, и эти матери читали своим дочкам Евангелие. Даже если они были неграмотны, они пересказывали своим дочерям то, что слышали в церкви. Так или иначе, обещание Спасителя исполнить любую просьбу, которую двое или трое согласно принесут Отцу во имя Его, падшим женщинам было известно.
Солнце уже встало, но еще не начало печь, когда аккуратно и скромно одетые трое «воспитанниц» мадам Коко уходили из города в направлении ближайшей обители. Рядом с ними, смешно перебирая ногами и держась за руки взрослых, шла Эдит.
* * *
Существует одно старое и святое предание о некой блуднице, которая, возвращаясь домой после совершенного греха, увидела мать, рыдающую над только что умершим младенцем. Сострадание прожгло сердце падшей женщины. Невыносимую боль этой матери она почувствовала как свою и начала молиться. Она, конечно, знала, кто она; знала, как не любит Бог разврат сынов и дочерей человеческих. Но боль сострадания покрыла собою все, отмела стыд, прогнала сомнения, зажгла веру. Настойчивой была молитва и краткой…
Краткой, потому что после нескольких горячих просьб блудницы Господь ответил чудом, – Он оживил дитя. Дивны дела Твои, Господи!
Боже вас сохрани не верить в правду подобных историй. Это значило бы, что вы презираете грешников и не верите, что Бог может слушать их молитвы. А может быть, вы вообще не верите в силу Божию?
Лично я верю, верю и в то, что было очень давно, и в то, что было гораздо позже. А позже было вот что.
Три дня спустя по дороге из монастыря в город возвращались три женщины из дома мадам Коко. С ними, держась за руки взрослых, возвращалась маленькая Эдит. Она уже не смотрела прямо перед собой невидящими глазами. Она то и дело вертела головой в разные стороны и смотрела впервые на придорожные деревья, на птиц в небе, на прохожих, идущих навстречу. Девочка возвращалась зрячей. Она еще не привыкла к такой значительной перемене в своей жизни и удивленно снизу вверх заглядывала в лица своих старших попутчиц. А те отвечали ей полными любви взглядами. Глаза у всех троих были красными от слез, а лица сияли счастьем.
* * *
Если эта история не на сто процентов совпадает с действительностью, то неточности будут касаться лишь мелких деталей. По сути все сказанное – правда. И правда эта тем более очевидна, что девочка, прозревшая по молитвам падших женщин, известна всему миру. Помните, в начале рассказа мы сравнивали ее с маленьким воробышком? Именно с этим прозвищем ее знал впоследствии весь мир. Эдит Пиаф – ее сценическое имя. «Хрипящий воробей» – шутливо называли ее французы. «Пиаф» на парижском жаргоне как раз и означает «воробышек».
МАРГАРИТА
Гладкие большие камни уличной мостовой. Дорога, верблюжьими горбами идущая то вверх, то вниз. Низкорослые, белые, аккуратные здания вдоль улиц. И тишина.
Когда идешь по улице вверх, перед тобой голубое небо. Остановишься наверху отдышаться, обернешься назад – перед тобой вдали открывается море. Такого же цвета, как небо.
Здесь до боли красиво, и все это почему-то без толку. Местные привыкли. Их взгляд на море и небо безучастный, скользящий. Чтобы оценить по достоинству эту повисшую в воздухе жару, эту цветовую смесь терракотовых крыш, синего моря и белых стен, и треск цикад, и пыльную зелень олив, им надо покинуть родной дом, причем – надолго. Так, чтобы сны о родине потеснили все остальные сны, чтоб тоска тошнотой раз за разом подкатывала к горлу, чтобы пища чужбины была безвкусной. А иначе… Хоть в рай посади человека, он и там приживется, пообвыкнет. Будет с тоскливым видом высовываться из окна, чтоб покурить и поплевать сквозь зубы, будет думать «чем бы заняться?» или «где взять денег?»
Красота создана для туристов, то есть для шумных и праздных существ, тратящих специально накопленные деньги на покупку свежих впечатлений. У них горят глаза, они взвинченны и радостны, они фотографируются, шумят на незнакомых языках за столиками в тавернах. Их белая кожа впитывает местное солнце. Они высаживаются из автобусов, как облако саранчи, чтобы, съев глазами, ушами и кожей весь набор запланированных впечатлений, уехать туда, откуда явились, и уступить место следующему десанту. «Я там был», – скажет каждый из них, тыча в нос собеседнику фотоальбомы, поднося сувениры.
«Я там была». За то, чтобы произнести эти слова, наша героиня заплатила бы много. Очень много. «Была». Сладкое слово. Когда она сможет произнести его, ей тоже покажется раем и это море с выводком рыбацких лодок у берега, и горы, поросшие курчавым лесом, и вертящиеся лопасти ветряной электростанции. Сонное, ленивое царство, где среди детей нет рахитов, потому что солнца так же много, как воды в море.
Она хотела бы быть туристкой. Она хотела бы улететь домой на первом самолете, чтобы показывать подругам фотографии и говорить: «А вот это дом, где я жила».
Но нет. Не сейчас. Сейчас она идет из супермаркета с сумкой, полной бытовой химии. Хозяйка любит чистоту. Деспина – по-гречески «хозяйка». Деспина Зоя. Подумать только. В космос давно летают ракеты, а на земле у людей до сих пор есть хозяева и хозяйки, как будто мы в Древней Греции, а не в одной из стран Евросоюза. Дичь какая-то.
Так по-русски думала женщина, освещенная греческим солнцем, возвращаясь вверх по улице домой из супермаркета. Тот отрезок ее жизни, на котором мы с ней встречаемся, давно прошел. Она уже дома, на родине. Греция осталась лишь в ее снах и на редких фотографиях. Теперь она даже немножко скучает по тихому острову, на котором прожила два долгих года. Но мы видим ее не сейчас, а тогда. Мы «тогда» переносим в сегодня и видим женщину лет сорока, только что остановившуюся наверху улицы, чтобы отдышаться, и обернувшуюся лицом в сторону моря, такого же синего, как небо.
Ее зовут Маргарита. Так в паспорте. Ритой звала ее мать. Точно так же звали и подруги. Катапульта, которая забросила Маргариту, словно камень, за тридевять земель, называется долги.
Она не брала денег в долг на раскрутку бизнеса. Она брала деньги в долг, чтобы сына не посадили в тюрьму. Ей, потомственной адвентистке, с детства знающей, что такое грехи и что такое заповеди, было особенно тяжело от того, что сын ее связался с наркоманами, а она – внучка уважаемого пастора – была вынуждена выкупать его из беды и для этого брать в долг довольно большую сумму.
Так Маргарита оказалась в Греции, вдали от мужа (как он там?), от сына, продолжавшего, по слухам, бесчинствовать, вдали от общины, где о ней молились на каждом собрании.
Вера верой, а беда бедой. Рита плакала, как все; скучала, как все; сто раз порывалась уехать; боялась часто звонить домой, чтоб не рыдать в трубку и не услышать (не дай Бог) дурных новостей. Долг постепенно отрабатывался, хотя и не так быстро. Со временем порывы бросить все и уехать сменялись мыслями остаться подольше и побольше заработать. Она была простым человеком, то есть – тростью, ветром колеблемой.
Для туристов греческие острова были раем, для местных жителей – декорацией, а для Риты ее остров был местом добровольной ссылки, одинаково тоскливой, будь ты хоть в Сибири, хоть в Африке.
Она, конечно, утешалась Библией. И раздражалась хозяйкой. Деспина была стара, как сама история Древней Греции. Она была почти глуха, перемещалась по дому едва-едва и часто просыпалась ночью. Ела она мало и в туалет (слава Богу!) ходила не под себя. Но бывали дни, когда нужно ей было что-нибудь поминутно. То выжми ей сок. То включи телевизор, то выключи телевизор, то позвони сыну, чтоб на выходные приехал. И всякий раз, не важно, ночь на дворе или день, глухая хозяйка била палкой в стену и кричала «Ри-и-та».
Непременной обязанностью служанки было зажигать на ночь лампаду перед иконой Богоматери. Рита было воспротивилась. «Идол! Не буду! Не сотвори себе кумира!» Но для деспины Зои это было очень важно, и русская адвентистка смирилась.
«Я не грешу в душе. Я не изменяю Богу. Я просто… Я просто…», – думала Рита про себя, зажигая лампаду, и не могла подобрать точное имя тому действию, которое совершала каждый вечер.
Она уходила к себе, чтобы успокоиться за чтением Библии, и оставляла старуху сидеть в кресле напротив потемневшего на ночь окна. Деспина могла сидеть часами, глядя в одну точку, думая о чем-то. Временами она поднимала глаза к Богородице, крестилась сморщенной, как куриная лапка, рукой и вздыхала тихо: «О Панагия».
Греки ничего не знают о нас. Никто ничего о нас не знает. Никто вообще ничего не знает. Это мы читаем обо всех и всем интересуемся. Остальные плевали на мир, не попадающий в поле прямого обзора. Исключения есть, но их мало.
Кассирша в маркете, с которой Рита подружилась, спрашивала ее поначалу, есть ли у нас в домах телевизоры. Спим ли мы на простынях или на голом полу. Все это жутко возмущало Маргариту, и она лихорадочно перебирала в уме аргументы для доказательства нашего величия.
«Да мы первые в космос полетели! Да у нас дети про вашу Грецию знают больше, чем вы сами! Да у нас Пушкин…» Она никогда не гордилась дома ни Пушкиным, ни Гагариным, ни школьной программой. Было чувство, что Родина велика. Но не было знания – почему, и это тоже раздражало.
Кассирша улыбалась в ответ. Она не понимала ничего – ни причин Ритиного раздражения, ни того, почему такие умные люди пачками уезжают из дома на заработки. Этого, по правде, Рита тоже не понимала.
– У вас Церковь есть? – спросила однажды кассирша у Маргариты.
– Конечно, есть, – отвечала Рита. Но когда она на своем ломаном греческом языке начала рассказывать о своей общине, о Библии, о дедушке-пасторе, лицо кассирши скривилось в презрительную гримасу.
– Это не Церковь, не Экклесия, – сказала гречанка. – Настоящая Экклесия – вот, – и она показала рукой в сторону покатой черепичной крыши местного храма и перекрестилась.
Рита не стала спорить, хотя ей хотелось крикнуть на весь магазин, что греки – обычные идолопоклонники, что они не знают и не читают Библию и что вообще их местный священник подмигивает незнакомым женщинам. Что настоящая вера иная, иная. Но она сдержалась и, расплатившись, вышла. Она шла из магазина по улице вверх, и ей хотелось плакать. Плакать от одиночества, от обиды, от усталости.
В местном храме она бывала время от времени. Священник действительно игриво подмигнул ей, когда она, понуждаемая деспиной, пришла, чтобы подать записку с именами на поминальную службу. Это тоже входило в ее обязанности – приносить по воскресеньям из церкви просфору, относить деньги и записки с именами на службу.
Храм был мил. Именно мил, а не красив или величествен. Он был чужой для Маргариты, но все же, думала она, в нем тоже молятся Богу.
И еще распятие притягивало ее взор. Это было высокое, большое и очень красиво сделанное, красиво нарисованное распятие. Иисус на нем казался уснувшим. Красивым, уставшим и уснувшим. Он склонил голову на плечо и закрыл глаза. А в ногах и руках Его торчали гвозди, большие гвозди с квадратными шляпками. Однажды Маргарите вдруг захотелось подойти к Распятию, чтобы помолиться или даже… поцеловать ноги Иисуса. Но она сдержала себя. Ей нельзя. Так неправильно. Бог есть Дух, и поклоняться Ему надо в духе и истине. Бог не в рукотворенных храмах живет.
Она вышла тогда из храма почти бегом, словно уходила от искушения.
Мы ведь смотрим на нее «тогда». Мы отмотали, как пленку, несколько лет жизни, и словно в реальном времени смотрим со стороны на свою соотечественницу, оказавшуюся на заграничном курорте с целями, далекими от отдыха. А что сейчас?
А сейчас Маргарита Павловна сидит за столом и рассказывает мне о том, что было с ней в прошлом, кажущемся уже таким далеким. Мы дружим с ней. Она – прихожанка в храме хорошо знакомого мне священника.
Видели бы вы, какое распятие она подарила в храм этому священнику! Большое, красивое и живое!
Иисус на нем словно уснул. Только что, «преклонь главу, предаде дух». А все детали живы. Солнце и Луна со страхом смотрят на Господа, как живые. Голова Адама под Голгофой то ли скалится от страха, то ли улыбается. И если это улыбка, то от нее становится жутко. Кровь из ран уже не течет, но запеклась, и тоже – живая. И ты становишься живым, когда, постояв минуту-две у распятия, вдруг опустишься на колени и, коснувшись лбом пола, скажешь шепотом: «Прости меня».
– В Великом посту мне совсем было плохо. Тоска такая, что хоть вой. Я читала, молилась, но все равно тоска не отступала. Иногда смотрела в книгу и ничего не видела. Читала одно и то же по нескольку раз и не понимала ни одного слова. Да и времени не было читать. Работа. То одно, то другое.
Это как тюрьма. Ни одного нового лица. Те же стены, та же работа, один и тот же пейзаж. Горы, море, тишина. Я думала, что с ума сойду.
Тут деспина посылает меня в храм отнести деньги на службу. А мне так не хочется. Видеть никого не хочется, только бы легла в угол и плакала. Но делать нечего. Иду. Прихожу в храм. Людей среди дня почти нет, и распятие стоит посреди храма. Я дала деньги на службу и уже повернулась уходить. Потом что-то меня задержало. Думаю, посижу в храме немного одна. Не буду спешить. Села на скамью и смотрю на распятие. Потом… Не знаю, что со мной было. Вот не знаю. Меня будто сила какая-то подняла с места и подвела к Голгофе. Как я вдруг начала плакать! И молиться начала! Будто в груди что-то прорвалось, и слезы хлынули рекой. И молюсь Христу. И крещусь! Представляете? Сначала жаловалась Христу на жизнь, что скучаю, что плохо мне. Жалко себя было. Потом стала молиться за сына, за мужа. Потом вдруг почувствовала свои грехи, вспомнила, увидела, сколько их! Мы ведь себя чуть не за святых привыкли считать. А тут у меня будто глаза раскрылись. Я долго тогда в храме была. Не знаю сколько. Пришла домой, бабка моя кричит: «Где ты была?» – а я чувствую, что люблю ее. Мне так легко стало. Я таку-у-ую благодать получила, что вам сказать! И потом лампадку зажигала с радостью.
Она говорит, говорит, говорит. А я пью чай и слушаю, слушаю. Они так любят говорить, эти милейшие бывшие протестанты. У них везде «благодать», «откровение», «свидетельство». А мне вот хочется такое же распятие к себе в храм. Но просить не буду. Стыдно. Да и дорого это.
Уж сколько разных историй, всяких-всяких, слышали мои уши. Не пора ли записывать? Говори, говори, Маргарита Павловна. То, что ты говоришь, действительно, и откровение, и благодать, и свидетельство.
Она поднималась по улице вверх, неся в руках сумку, полную бытовой химии. Деспина Зоя любит чистоту. Мы знаем, что случится с ней через полгода, а она еще ничего не знает. Что ж, оставим ее при блаженном незнании. Ее – Маргариту, внучку уважаемого пастора, приехавшую в Грецию, чтобы заработать денег и отдать долги.
Вот она стоит с печальным лицом, среди треска цикад под синим небом, обернувшись, чтобы взглянуть на такое же синее море.
ВЕРА
Разум нужен для того, чтобы понять, что Бог есть. Чтобы Богу служить, разум нужно преодолеть, превзойти, оставить за спиной логику и войти в Сверхлогику.
Море стояло стенами справа и слева от идущих по дну людей. Верую.
Солнце стояло полдня на одном месте ради победы Израиля над врагами.
Верую.
Странная пища, как иней, по утрам покрывала землю вокруг шатров в течение сорока лет.
Верую.
И это только начало.
Бог Сам сошел на землю – не на вершину горы, не во внутреннее пространство храма. В утробу Девицы сошел Бог. Куст терновый горел, не сгорая, трое юношей невредимо стояли в бушующем пламени печи. И Девическая утроба осталась невредимой, нетронутой после Божественного чревоношения.
Верую.
Человеком стал Господь. Это невозможно, но это истинно! И унизить, и убить Себя позволил Господь. Это недомыслимо, но это так! И воскрес из мертвых Бог, ставший Человеком! Это невообразимо! Это абсурдно! И вместе с тем это – святая правда! Верую, ибо абсурдно. Именно в контексте можно понять слова Тертуллиана, ставшие поговоркой.
* * *
Самолет тяжелее воздуха. Но при помощи винта и крыла он летит. Летит многотонная птица, не имеющая перьев, и мы лишь по косности ума перестали этому удивляться.
Библия тяжелее воздуха. Если быть неосторожным, то она может упасть из рук или с края стола. Но то, что в ней, способно сделать человека крылатым и небесным существом.
Погружение в тайны текста зависит от любви к Автору текста. Каждая буковка – это листок. Все вместе – густой виноградник. Голос возлюбленного слышен, но лица Его не видно. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои – ночною влагою (Песн. 5, 2).
Не общение с Богом философов, но общение с Богом Авраама, Исаака и Иакова.
Любви от нас ждет и хочет Господь. Любовь – это мука и сладость, боль и недоумение. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презреньем (Песн. 8, 7).
* * *
Сверхлогичность неизбежно сталкивается с земным расчетом. Бухгалтер рано или поздно нападет на метафизика.
Евреи не признают Истинного Мессию. Способ Его Пришествия, слова Его и дела, добровольный позор Креста, смерть и Воскресение не вмещаются в сознание ветхого Израиля. И это притом, что сознание Израиля вскормлено чудесами и в принципе должно быть сверхлогичным.
Точно так же, как евреи отвергают Мессию, прочие народы отвергают мессианство самих евреев. Тот факт, что спасение от Иудеев (Ин. 4, 22), ущемляет национальную гордыню и не вмещается во внутреннюю тесноту «языков» так же, как и Сам Мессия ущемляет гордыню иудеев.
Благословен Господь, перепутавший мысли человеческие!
Одни гордятся великим избранничеством и убивают Избравшего.
Другие поклоняются отверженному Праведнику, но хулят землю, из которой Он вырос, землю, за пределами которой Он никогда бы не смог появиться.
Христос никогда бы не родился ни от китаянки, ни от египтянки, ни от славянки, но только от невинной Девы из рода Авраамова. Вся история мира до Пришествия Спасителя вмещается в имя «Богородица». Неужели крещеные люди способны с этим спорить? А если способны, то стоит ли удивляться, что богоизбранность родила богоубийство?
* * *
Национальная гордыня. Имя трижды проклятого идола. Из-за нее Израиль распял Начальника Жизни. Из-за нее вчерашние язычники ненавидят тех, кого Живущий во веки избрал первыми.
Как чудно то, что эти первые ослепли. Ведь если бы они не ослепли, если бы они поняли, приняли, полюбили, облобызали Спасителя, то они же не дали бы Ему стать нашим Богом. Из презрения ко всем чуждым Закона, из чувства собственничества, из той же национальной гордости они сказали бы: «Прочь! Это наш Господь, наш Мессия, родившийся от нашей Девы!» Они вряд ли позволили бы нам, как псам, лизать крошки, падающие с их благодатного стола!
Благословен Господь, пришедший ко всем, а не к одним иудеям! Он не согласился стать их «частной собственностью», но из-за этого не стал «частной собственностью» нашей. Он свободен! Свободен в любви и любит нас, слепцов, гордецов, глупцов и негодяев.
* * *
Благословлю Господа во всякое время (Пс. 33, 2). Благословлю Его, вставая утром и ложась вечером; благословлю, промахнувшись молотком по шляпке гвоздя; благословлю, ложась на операцию. Благословлю Господа в скудости и в изобилии, в юности и в старости для того, чтобы смочь, суметь благословить Его в минуту смерти. Вера, перешедшая в состояние всегдашнего хваления, вера, не боящаяся страдать, – вот она, вера апостольская, отеческая, православная, иже вселенную утверди (см.: 1 Пар. 16, 30).
* * *
Ты умен и веруешь? Это хорошо, но этого мало. Надо веровать и стать безумным, чтобы быть мудрым (1 Кор. 3, 18). Иначе мир своей бетонной логикой раздавит твою логичную веру, и твой дом рухнет, и разрушение его будет велико (см.: Лк. 6, 49).
ПЕРВОЕ ЧУДО
Имя Христа и Его образ неотделимы от совершенных Им чудес. Одно лишь то, что описано в Евангелии, поражает воображение. А ведь это лишь малая часть от целого, и если бы писать о том подробно, то… и самому миру не вместить бы написанных книг (Ин. 21, 25).
Спаситель проявляет Свою власть над стихиями и веществом, над миром духов, над болезнями и смертью. Умолкает ветер, умножается хлеб, отбегают демоны, отступают болезни, ослабляет хватку смерть. Но все эти чудеса похожи на военные действия. В тонущей лодке – страх, у слушающего поучения народа – голод, среди погребальной процессии – плач, среди больных – страдание и тающая надежда. Сама жизнь, само пребывание Безгрешного среди грешников и Здорового среди больных должны были восприниматься Им как страдание. Он пришел, говорит Льюис, на оккупированную врагом землю, и для Него, видящего тайну сердец человеческих, наш мир являл собою картину страшную.
Значит, чудеса только и возможны там, где есть боль и страх? Значит, кроме как исцелить или спасти от беды, нет больше способа проявить любовь, милость? Это было бы так, вернее, у нас был бы повод думать так, если бы не первое чудо.
Первое чудо происходит на свадьбе. Нет ни больных, ни плачущих. Нет никого, носящего траур, ведь иначе брак был бы невозможен.
Зато есть пение и танцы, поздравления и подарки. Есть и слезы, но это слезы радости, слезы матери, отца и подружек.
В своих существенных чертах брачная церемония и до сего дня мало в чем изменилась. Молодые обмениваются кольцами, пьют общую чашу вина, становятся на вышитое полотенце, выслушивают благословения, в которых то и дело звучат имена Авраама и Сарры, Исаака и Ревекки, Иосифа и Асенефы. В те, Иисусовы, времена все это уже было благословенной древностью.
Значит, на земле не все погрузилось во тьму. Значит, не все тело мира покрылось проказными пятнами, и на этом теле еще есть участки здоровой и чистой кожи. Эти здоровые части жизни связаны с браком. Кто хочет радоваться позволительной, чистой, безгрешной радостью, пусть ищет ее в благословенном супружестве и во всем, что с ним связано. Христос пришел на брак, чтобы показать Свое сочувствие не только нашей боли, но и нашему ликованию. Впрочем, не всякому. Если купец обманет покупателя либо уменьшенной гирей, либо льстивыми речами, то у купца будет радость, а Христос эту радость с ним разделить не согласится. Если на гладиаторском поединке часть толпы будет приветствовать победителя, а вторая часть – оплакивать проигравшего, то Христос вряд ли будет скорбеть со скорбящими и радоваться с радующимися.
Но свадьба – это другое дело. Это немного настоящего меда посреди горьких, как полынь, будней. Это образ любви Бога и человека, это жертвенность и самоотдача, это чудесное превращение двух жизней в одну. Образами супружеской тайны была насыщена речь Исаии, Осии, и еще совсем недавно Иоанн Креститель называл себя другом Жениха, подразумевая под Женихом Самого Спасителя.
Итак, Он был на браке, и ни один мертвый еще не воскрес по Его слову, ни один демон еще не оставил мучимого им человека. Время чудес еще не настало.
И тут, на празднике, не хватило вина. То ли бедны были брачующиеся, то ли гостей было слишком много, но чаши пирующих опустели. Пусть лучше бы не хватило хлеба. Ведь вино веселит сердце человека (Пс. 103, 15), и что за свадьба будет без веселья. Бедняки во множестве приходят на свадьбы. Они знают, что в этот день никто их не прогонит. Они помнят слова Писания: Дайте… вино огорченному душею; пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании (Притч. 31, 6–7). И вдруг такая новость – нет вина!
В это время ко Христу обращается Мать. Он еще не творил чудес, и Она еще не выступала в роли Заступницы. Но, видно, время пришло.
Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них. Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел час Мой (Ин. 2, 3–4).
Один из Отцов говорит, что это был тот диалог, который должен был прозвучать в Эдеме. Так должен был ответить Адам на предложение жены съесть от запрещенного древа. Что Мне и Тебе, Жено? Наше время еще не пришло. Христос исправляет ошибку праотца. Он – второй Адам и пришел исправить ошибки первого. Но тогда, в Раю, в словах жены был соблазн на грех, а здесь, в словах Матери, нет ни греха, ни корысти, лишь сострадание… А Христос, в ответ на Ее просьбу, здесь же, на свадьбе, начинает Свое служение, ознаменованное обилием чудес.
Первое чудо открывает характер последующих. В нем нет ни позы, ни жеста, ни эффектных фраз. Нет ничего, что так бросается в глаза, чего так часто ждут люди и на что они так падки. Ведь далеко не всякий из нас понимает разницу между чудом и фокусом, и уж совсем мало кто знает, зачем нужно совершать великие дела тихо и не напоказ.
Сосуды, служащие для ритуальных омовений, по слову Иисуса наполняются водой. Затем из них черпают и несут воду распорядителю пира. Тот пьет и тотчас зовет к себе жениха, чтобы отругать его. Оказывается, жених утаил хорошее вино и подал его только теперь, когда худшее уже было выпито. Вода в сосудах стала вином, и жених ни за что получает выговор, но веселье продолжается, никому нет особого дела до того, что Сын Божий начал творить чудеса. Так испокон веков мы, люди, привычно пользуемся непрестанными Божьими чудесами, не утруждая себя мыслями о Том, Кто их творит.
Все, наверно, были немножко выпившими, что для свадьбы естественно и в чем еще нет греха. Все, конечно, обрадовались новому питью, которое оказалось вкуснее первого. Гости пробовали новое вино, причмокивали от удовольствия и, хитро прищурившись, говорили: «Ай да жених! Такое чудное вино принес в конце застолья. Хитрец!»
Но ученики Христовы были трезвы. Они мало внимания уделяли еде и напиткам, но зато внимательно следили за Учителем. Чудо не ускользнуло от них, и уверовали в Него ученики Его (Ин. 2,11).
Моисей превращал воду Нила в кровь, чтобы ее не могли пить египтяне. Иисус превратил воду в вино, чтобы веселье на свадьбе не угасло. А затем, через три года, Он превратит вино в Кровь Свою, чтобы нам пить Ее во оставление грехов. Наконец-то пришел Тот, Кто больше Моисея. Пришел Тот, о Котором сам Моисей сказал: «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня; Его слушайте» (см.: Втор. 18,15).
Отныне чудеса польются с тем постоянством, с каким тепло и свет льются от солнца на землю.
И первое чудо – на свадьбе. Не среди прокаженных, не среди плачущих о покойнике. Это значит, что и в будущей жизни Христос не прекратит чудодействовать. Ему некого будет воскрешать, некого лечить, Он больше не будет изгонять из людей демонов. Но Он продолжит творить чудеса, чтобы радовать людей, чтобы райское веселье не заканчивалось.
Ведь и само Царство Небесное Христом описано в притчах как брачный чертог, как свадебное пиршество.
ПЛОТНИК
Пастухи, рыбаки, плотники… Давид пасет овец. Павел шьет палатки. Христос помогает Иосифу. Какие поступки родятся из этих мыслей? В какие дела превратятся эти яркие образы Писания? Пока не ясно, но думать об этом надо.
Христос был плотником.
Его руки держали инструменты, до Него и после находившиеся в руках миллионов тружеников. Топор, сверло, рубанок… Пот льется ручьями по лицу работающего с деревом человека. Пот лился, без сомнения, и по лицу Христа. Мышечная боль по утрам напоминала о вчерашней проделанной работе. И Христос, просыпаясь, чувствовал боль в плечах и спине, чувствовал, как не хотят сгибаться натруженные пальцы.
О чем Он думал, строгая доску, прилаживая друг к другу части будущего дверного косяка? Возможно, Он думал о будущем Древе, о Кресте. О том, как человек подобного ремесла на заказ подгонит друг к другу два бруса – вертикальный и горизонтальный. О том, что этой нехитрой и страшной конструкции предстоит стать Великим Жертвенником, а Жертвой будет Он Сам.
Возможно, в такие мгновенья Иисус останавливался и смотрел вдаль. А затем вновь возвращался к работе, зная, что на то Он и пришел, чтобы вознестись на Древо.
Эти мысли становились ярче, когда на теплые и свежие стружки капала кровь. Нельзя без порезов и царапин трудиться с железом и деревом. Рано или поздно нож или сверло сорвутся, скользнут по сучку, вопьются в тело. Человек перевяжет рану и продолжит трудиться. От заказа зависит, будет ли хлеб на столе. Сын Божий, через Которого все… начало быть (см.: Ин. 1, 3), живя среди людей, не ел хлеб даром. И крови Он не боялся. Она уже пролилась однажды, на восьмой день после Рождества, когда Иисуса обрезали по закону. Тогда впервые к Нему прикоснулось железо, потекла Кровь, и Он по-детски заплакал.
Обливаясь потом и временами ранясь до крови, Он думал о том поте и той Крови, которым еще предстояло пролиться.
* * *
Пастухи и плотники! Читая Библию, от вас некуда деться. Авель, Иаков, Давид – пастухи. Пастухам, а не священникам или старцам объявляют Ангелы о Рождестве Христовом. А мы – менеджеры, компьютерщики, шоферы, продавцы – мы даже не знаем, как пахнет состриженная баранья шерсть. Ни разу не сторожили стадо – ни днем, ни ночью. Не кормили животных с руки, не спали с новорожденным ягненком в обнимку. Не стоит удивляться тому, что вам, а не нам являются Ангелы. Великое приходит к простым. К сложным людям приходят лишь ночные кошмары и преждевременная старость.
* * *
И образ плотника не менее загадочен. Как червь, поедая различные книги, наугад открывая толстые фолианты и потрепанные брошюры, нашел я там, где не искал, пророческую похвалу древоделу.
«Тщательно и хорошо учись плотницким приемам; после того, как постигнешь искусство мер, станешь мастером. Необходимость для плотника – иметь острые орудия; как только выдается у него свободная минута, он принимается их точить… Так же поступают и солдаты. Им следует тщательно изучать это искусство». Это классический самурайский трактат «Книга пяти колец». Автор – легендарный Мусаси Миямото. Этот человек, воспитанный в схватках и искавший мудрости, сравнивал хорошего плотника с мудрецом, ставил его в пример воинам. XVII век, феодальная Япония, самурайский трактат… Плотник подобен Творцу. Он «обтесывает столбы и бревна теслом, ровняет полы и полки, делает прорези и ажурную резку; точно делает замеры, исполняет все точно-точно, до последней мелочи, и умело – таково искусство плотника».
Послушаем теперь, как Бог смиряет Иова и что Он ему говорит:
Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне: где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал по ней вервь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее… (Иов 38, 3–6).
Бог обращается к человеку как Строитель, Мастер. Он говорит о «мерах, верви, камнях, положенных в основание». Он построил мироздание, как человек, разбивший шатер для своего обширного семейства.
Стремиться к совершенству – значит стремиться быть похожим на Творца. Стремясь к мудрости, японцы избирали как пример для подражания искусство людей, строящих дома и изготовляющих предметы быта.
Неожиданная находка. Глубокое прозрение. Ведь и Христос, сотворивший все, был на земле плотником. Очевидно, Япония предчувствовала Христа еще до прибытия на ее землю первых миссионеров.
* * *
Мысль отдаляется от Японских островов и от вифлеемских пастбищ. Мысль переносится домой, в мое «сюда и сейчас».
ОТЕЦ ВАСИЛИЙ
Его палата находилась почти в конце коридора. Выход из лифта, поворот налево, двадцать шагов по свежевымытому линолеуму мимо столика дежурной медсестры, осторожный стук в дверь, и вот мы уже в палате. Кроме отца Василия, больных в палате больше нет. Есть только стойкий запах лекарств, какое-то питье на тумбочке и огромное окно во всю стену.
Мало того, что новая больница весьма высока и мы находимся на одном из последних ее этажей, она еще и построена на горе. Отсюда был бы виден весь город, вырасти она где-нибудь поближе к центру. А так, на окраине, из окон ее верхних этажей видны только новостройки «конца географии» да загородные поля.
Я помню вид из подобного окна в другой палате этой же самой больницы. Там за окном тогда было страшно много ворон. Они облепливали крыши домов напротив и голые ветки деревьев и какое-то время сидели молча. А потом вдруг, как по сигналу, с истошным карканьем поднимались в воздух, принимали вид большого, колышущегося живого ковра, и носились с полминуты в сыром осеннем воздухе, чтобы облепить затем другие крыши и другие деревья. Можно было подумать, что Хичкок за окнами командует вороньем на съемках своего знаменитого триллера. И это выглядело мистично, тем более что в палате лежал тогда человек с очень серьезным недугом, и будущее было в тумане, и мы оба – больной человек и я – молчали, следя за перемещениями в воздухе черного каркающего живого ковра.
А в тот день в палате у отца Василия ворон за окном не было. За окном вообще не было ничего, и само окно было черным, как огромный экран плазменного телевизора, потому что на часах уже было восемь вечера и был ноябрь. Нас было трое: двое пономарей храма, где служил отец Василий, и семинарист, приехавший домой на пару дней. «Благословите, отче», – сказали мы, окружив кровать.
«Бог благословит», – сказал священник, и было видно, что слова дались ему с трудом, что губы запеклись и прилипли к пожелтевшим зубам, что весь он высох и как бы уменьшился в размерах и что особой радости своим посещением мы священнику не доставили. Пока один выкладывал на тумбочку апельсины, другой рассказывал о новостях в храме, о том, что прихожане молятся о больном священнике, что на последней службе причастников было так много, что пришлось причащать из трех чаш. Отец Василий пытался улыбнуться, пытался придать лицу выражение заинтересованности. Но у него плохо получалось. А мы были слишком глупы и слишком «добродетельны», чтобы понять простую вещь: элементарное человеколюбие требует, чтобы мы немедленно ушли. Ушли и оставили человека наедине с болью, со стонами, рожденными болью, с мыслями о смерти, с молитвами, произносимыми шепотом. Но мы тогда исполняли заповедь «болен был, и посетили Меня», поэтому сидеть собирались долго, хоть это и мучило больного.
Когда новости были рассказаны, а молчание стало тягостным, я, словно дополняя меру благочестивого безумия, брякнул: «Вы, отче, здесь молитесь?»
Он повернул голову в мою сторону и посмотрел на меня таким же теплым взглядом, как смотрел мой дед, и сказал тихо: «Без молитвы, сынок, можно с ума сойти».
Эти слова стоят дорого. Очень дорого. Я часто перетряхиваю пыльный хлам воспоминаний и не могу похвалиться, что в архивной папке с надписью «Былое и думы» у меня много таких сокровищ.
И я любил отца Василия. Любил потому, что он был похож на покойного дедушку. Такой же высокий, смуглый, крепкий в кости. С открытой душой и красивым лицом. Любил потому, что молился он как-то особенно искренне. Настолько искренне, что даже попы (а попы редко хвалят попов, это уж мне поверьте) говорили о нем: «Он с Богом разговаривает». Правда, тут же рядом они не забывали вспомнить, что видели его как-то в Великую Пятницу пьяным и что бывает он временами груб и так далее. Все это произносилось «как бы» не в осуждение, а беспристрастной правды ради; и не со злобой, а с чувством объективности и со вздохом, мол, все мы грешные. Но образ отца Василия в моих глазах не мерк и не загрязнялся. Зато те, кто это говорил, в моих глазах становились ниже, словно слазили со стульчика на заднем плане групповой фотографии.
Ну и что, что его видели пьяным? Его и с сигаретой могли увидеть. Но дедушка мой тоже курил, а люблю я его от этого не меньше. Он курил по полторы – две пачки сигарет без фильтра, которые назывались «Аврора». Он курил их одну за одной и поминутно повторял краткую фразу, смысл которой я уразумел много лет спустя, после его смерти. «Господи Иисусе Христе, прости мою душу грешную», – говорил мой дедушка. Даже за однажды сказанные эти слова я простил бы ему все выкуренные сигареты, а он не однажды, а постоянно твердил их шепотом.
Отец Василий был самым лучшим священником, которого я знал. И обидный кошмар ситуации заключается в том, что я почти не знал его, вернее, знал очень мало. Он любил Почаев, потому что при Польше учился там в семинарии. Каждый год по нескольку раз он ездил туда помолиться. Однажды я бегал после службы в автобусную кассу ему за билетом, а билетов не было, и я вернулся взмыленный и ужасно расстроенный. Он тогда улыбнулся и сказал: «Ничего. Попрошу сына, он завезет».
Выходя после Литургии на улицу и видя нас, пономарей, заваривающих чай в пономарке, он спрашивал: «А что будет после ча-а-а-ю?» И сам же отвечал: «Воскресение мертвых».
Однажды на вечерней службе, когда была его череда служения, я читал шестопсалмие.
Потом вошел в алтарь, и он похвалил меня за то, что читал я громко и четко выговаривал слова. А потом разговорился, стал вспоминать монахов, которых знал, говорил, что они самые счастливые люди, если только по-настоящему монашествуют. А я, говорит, всю жизнь хотел и Богу, и жинке угодить. Вот умирать скоро, а и Богу не угодил, и жинка вечно недовольна.
Еще вспоминал, что один старый монах в Почаеве говорил ему после окончания семинарии: «Вот, Васенька, доброму тебя научили, плохому ты сам научишься».
Вот вроде бы и все, что я знаю. Этого мало, чтобы любить человека. Мало в том случае, если любишь «за что-то». А если не «за», а просто любишь, тогда – очень даже много. Да это и не все. Я помню, как он крикнул на людей во время проповеди. Они шушукались, а он треснул по аналою своей широкой ладонью и гаркнул: «Горе имеим сердца!»
И еще рассказывал, как на первом своем приходе в селе на похоронах стал слезливо завывать по обычаю местного духовенства. Стал говорить о том, что покойник жил с женой душа в душу, что в семье у них был мир, что у всех разрываются сердца от боли при мысли о прощании с ним и т. п. А потом, уже по дороге с кладбища, какая-то женщина старшего возраста сказала ему, что, дескать, нес он полную чушь, и всем было стыдно слушать, и первый, кто с облегчением после смерти покойника перекрестился, была его жена. И я, говорил отец Василий, с тех пор навсегда прекратил брехливые и слезливые проповеди рассказывать.
Точно! Подтверждаю и свидетельствую. Ни брехливых, ни слезливых проповедей он, в отличие от многих, не рассказывал!
Тех, кто непременно умрет, из больницы стараются выписать. Чтобы не увеличивать смертную статистику. Поэтому отец Василий умирал дома.
Я был у него еще раз, но уже один. Был недолго, потому что мучился укорами совести после того посещения в больнице. Я даже держал его за руку, а он, не стесняясь моим присутствием, шумно вздыхал и иногда охал. Потом я услышал: «Да сколько же еще, Господи. Или туда, или сюда». Потом опять раздался звук глубоких и нечастых вдохов и выдохов.
Путь «сюда» ему уже был заказан.
А через несколько дней он ушел «туда», в «путь всея земли», в неизвестную и грозную вечность, где ждет его Бог, Которому он так и не угодил; куда провожают его рыдания жены, которая всю жизнь была недовольна.
И мы хоронили его, как положено, и это были, кажется, первые похороны священника в моей жизни. Первые похороны священника были похоронами самого лучшего священника в моей жизни.
Я так много узнал тогда.
Он был облачен в полное облачение, которое, как выяснилось, нужно приготовить задолго до смерти. Ему закрыли лицо воздухом. Оказывается, потому, что священник лицом к лицу годами разговаривал с Богом, как Моисей. А Моисей, сходя с горы, закрывал лицо куском ткани, чтобы евреям не было больно смотреть на исходившее от него сияние.
И в руках у него был не только крест, но еще и Евангелие, которое он должен был всю жизнь проповедовать. И на самом погребении из Евангелия читалось много-много отрывков, перемежаемых молитвами и псалмами, а похороны были долгими, но ничуть не утомительными. И мы несли его на плечах вокруг храма под редкие удары колокола и пение Страстных ирмосов, таких протяжных, таких грустных и одновременно величественных. «Тебе, на водах повесившаго всю землю неодержимо, тварь, видяще на лобнем висима, ужасом многим содрогашеся…»
Я бы наверняка всплакнул, если бы не помогал нести гроб. Но гроб был тяжел, а идти нужно было в ногу, и плакать было невозможно.
Сколько лет прошло с тех пор? Да немногим меньше, чем количество лет, вообще прожитых мною к тому моменту. То есть я, без малого, прожил еще одну такую же жизнь с тех пор. С тех пор я видел очень много священников. И хоронил многих. Причем и обмывал, и облачал многих собственноручно. Это дико звучит, но я люблю молиться об усопших священниках, люблю ночью читать над усопшими иереями Евангелие. Они входили во Святое Святых. Они носили льняной ефод. Они совершали ходатайство о словесных овцах. Царство им всем Небесное. Но отец Василий до сих пор остается в моей душе как самый лучший священник. И это, как ни крути, хоть что-нибудь, но значит.
Я думаю даже, что малый объем моих знаний о нем – тоже благо. Ну, знал бы я больше, ну общался бы с ним дольше, что из этого? Увеличение фактических знаний само по себе ни к чему не приводит. И сами факты без интерпретации совершенно бесполезны. Они никогда и никому ничего не доказывают. Они просто лежат перед тобой, как куча камней, которую не объедешь, и каждый таскает из этой кучи то, что ему нравится.
Факты могут мешать, мозолить глаза, заслонять собою суть событий. Они могут пытаться переубедить душу, разуверить ее в том, что она угадала и почувствовала.
Что-то почувствовала моя душа в этом священнике, который чем-то был похож на моего покойного дедушку. И того, что я знаю о нем, мне вполне хватает, чтобы по временам говорить «Упокой, Господи, душу раба Твоего» с таким чувством, что молишься о родном человеке.
МАННА
Отцы наши ели манну в пустыне (Ин. 6, 31), – говорили Христу иудеи, требуя от Него подобного знамения. В пустыне за сорок лет Господь явил много чудес. Народ побеждал многочисленных врагов силою оружия (а ведь это были не воины, а пастухи, прошедшие через горнило многовекового рабства). Они пили воду из камня; их жалили змеи, от чьих укусов нужно было исцеляться, глядя на медное изваяние змеи. Было и много других событий, чудесных и уникальных, но именно о манне говорили Христу иудеи.
Вся шестая глава Евангелия от Иоанна посвящена теме Небесного хлеба. Этот хлеб, сшедший с небес, хлеб жизни, хлеб Божий есть Плоть и Кровь Иисуса Христа. Нужно вчитаться в текст этой главы и еще более вжиться в Церковь, которая есть Тело Христово, чтобы понять: вопрос о Таинстве Причащения – один из немногих, вбирающих в себя христианство целиком. Именно в связи с Евхаристией, как пророчество о Ней и как указание на Нее, может быть по-настоящему важна и интересна история с манной.
Само слово «манна» содержит в себе вопрос. Впервые увидев нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле, сыны Израилевы говорили друг другу: что это? Ибо не знали, что это (Исх. 16, 14–15). Вопрос «что это?» звучит примерно как «манна». Природа этой пищи неизвестна, и собственного имени у нее, по сути, нет. Это – чудо и неизглаголанная тайна, то есть тайна, не могущая вместиться в слове.
Именно такой тайной является и Причащение. Оно не скрывается и не утаивается от людей. Напротив, как и «та» манна, Святое Причастие преподается верующим. Но вот природа этого явления, по слову Амвросия Медиоланского, «Божественным прикровена кровом». Отцы Церкви, говоря о Причастии, отвечали на вопрос «что?», но страхом Божиим удерживались от рассуждений о том, «как?». «Духом Святым», – говорили они желающим узнать механизм преложения, и этого ответа должно быть довольно.
Ведь и меньшие чудеса ускользают от нашего пытливого разума. Превращение обычной пищи в нашу плоть и кровь тоже чудесно. Оно может быть описано с использованием множества биологических терминов, таких как «ферменты», «белки», «углеводы», но природа этого процесса сохранит как чудесные свойства, так и Божественное происхождение. При всей нынешней осведомленности о внутриутробной жизни плода честный и неглупый доктор и сегодня подпишется под словами Соломона: Как ты не знаешь… как образуются кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, Который делает все (Еккл. 11, 5).
Манна не падала с неба. Когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна (Чис. 11, 9). Роса не падает в виде дождя, но появляется при перепаде температур. Так и манна называется Небесной по причине Божественного происхождения, но не из-за видимого схождения с небес. Наши земные дары на Литургии – хлеб и вино – также не перемещаются в пространстве, но на них призывается Вседейственный и Всемогущий Дух Божий, осенением Которого совершается Таинство.
Книга «Исход» говорит, что вкус манны был подобен вкусу лепешки с медом. Медовый аромат мог напоминать о свойствах земли, в которую шли евреи. Ведь об этой земле сказано, что она «течет молоком и медом». То есть пища странствия вполне соответствует свойствам будущей жизни. Это вполне относится к Евхаристии. Радость и благодать, свойственные Литургии, – это некие крохи, падающие с «небесного стола». По вкусу этих крох можно составить представление о наслаждениях настоящего пиршества.
Книга же «Числа» говорит о вкусе лепешки с елеем. Вполне возможно, что манна меняла вкус, приспосабливаясь к каждому едоку. Ведь и другие свойства манны говорят о ее «живом» характере. Так, например, у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка (Исх. 16, 18). Манну собирали вдвое больше накануне субботы, тогда как собранная больше обычного в другой день червивела. Это был, в полной мере, хлеб насущный, о котором молятся христиане, то есть хлеб… на каждый день (Лк. 11, 3). Этим хлебом нельзя запастись, для него нет специальных амбаров. О нем нужно молиться каждый день, каждый раз заново.
Причастие таинственно врачует человеческое естество. Оно принимается, как было сказано Христом на Тайной Вечере, «во оставление грехов». Механизм, как всегда, нам непонятен, но плоды Причащения ощутимы. Стоит признаться, что мы не знаем себя до конца. Сами для себя мы являемся, быть может, самой большой загадкой. Не знаем мы и своей греховности. Часть совершенных грехов осознается как грех и помнится нами. Но это малая часть. Многое ускользает от сознания или забывается. Еще большим мраком покрыты внутренние, во глубине сердца сокрытые беззакония. Эти, возможно, не актуализированные через поступок, грехи составляют главную «порчу» человека и опасность для него. Христос в Причащении, как некогда в схождении во ад после смерти на Кресте, сходит в жуткую глубину человеческого сердца и совершает его (сердца) исцеление. Это – тончайшая работа искусного врача. Хирургия глаза в сравнении с нею покажется рубкой дров.
Больное грехами сердце исцеляется не вдруг, но постепенно, и необходимость в Небесном хлебе не отпадает после его однократного вкушения.
Путешествие по пустыне представляет собой величественную картину, во многих чертах схожую с жизнью верующего человека. Это длинный и опасный путь, как струна натянутый, между землей рабства и землей свободы. Первая – Египет – образ греховной жизни.
Вторая – Палестина, Земля Обетованная – образ спасения во Христе и вселения в вечные обители. Переход через Красное море – Крещение, питание манной – Причащение. Питание привязано к странствию. Манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли, и не было более манны у сынов Израилевых (Нав. 5, 12). Итак, израильтяне уже не ели необычную пищу, поселившись в Палестине. Только золотой сосуд, хранимый в Ковчеге Завета, имел в себе среди прочих святынь некоторое количество манны, взятой на память о прошлых чудесах. Видеть этот сосуд евреи не могли. Там, где он находился, во Святая святых, появляться мог только один человек – первосвященник, да и то лишь раз в году. А что же мы? Питаясь на земле благодатными дарами Христа, будем ли мы лишены их в вечности?
Писание говорит, что нет. В Откровении мы читаем, что побеждающему будет дана манна сокровенная (см.: Откр. 2,17), в противоположность, возможно, «той» манне, которая была явной для всех.
Человек и в Раю должен будет питаться, хотя и не так, как сейчас. Ничем не питаться означает быть самодостаточным и иметь жизнь в себе. Никто из сотворенных существ таким не является. Ангельский мир питается благодатью, или, как можно сказать после Григория Паламы, Божественными энергиями. Человек совмещает в себе свойства и Ангела, и животного. Как животному, ему сегодня нужна земная пища. Но как духовному существу, ему всегда была и будет нужна пища духовная, так как не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих (Мф. 4, 4). Нужда в духовной пище подтверждает духовное родство человека с ангельским миром. И о манне сказано: И одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек (Пс. 77, 24–25).
Святые Тайны Христовы являются истинным Ангельским хлебом, поскольку это хлеб одновременно и земной, и благодатный. Он двояко питает двусоставного человека, питает и его тело, и его душу.
Как планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца, так жизнь Церкви вращается вокруг Евхаристической Чаши. Эта пища дает нам возможность не умереть от специфического голода здесь, в пустыне временной жизни. Она же, эта пища, готовит нас к жизни будущей и еще на земле делает причастниками дара небесного… и сил будущего века (Евр. 6, 4–5).
Во все время странствования, как заповедь, должны звучать в сердцах христиан слова Спасителя: Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий (Ин. 6, 27).
ГРЕХИ И БОЛЕЗНИ
Прочная связь между болезнями и грехами прослеживается в Евангелии почти на каждой странице. Достаточно вспомнить слово, сказанное при Овчей купели: Не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже (Ин. 5, 14). Или исцеление расслабленного, которое Христос совершает не раньше, чем простив человеку грехи (см.: Лк. 5,23). Евангельская логика проста, как все, исходящее от Бога: будь мы безгрешны – мы были бы и бессмертны; будь мы бессмертны – мы бы и не болели.
Творец мира, одевшись в человеческую плоть, являл Свое доброе всемогущество, прощая грехи, исцеляя болезни, воскрешая мертвецов. Все эти три вида мессианской деятельности неразрывно связаны и равно необходимы, поскольку человечество именно грешно, болезненно и смертно.
Если бы Христос не делал хотя бы чего-то одного, стройность Его дел была бы под угрозой, Божественность Его посланничества была бы под сомнением. Если бы Он только исцелял, не воскрешая, смерть сохраняла бы свою молчаливую тиранию, и всякий умеющий думать отказался бы признать в исцелении истинное благо, раз смерть по-прежнему сильна. Еще хуже было бы, если бы Христос исцелял, ни слова не говоря о грехах. Он весьма польстил бы испорченному человечеству, которое и по сей день готово сказать: «Верните мне здоровье, но не спрашивайте меня о грехах». Христос не сделал этого. Его любовь не соскользнула к вседозволенности. Он научил нас на физическую боль и на нравственную грязь смотреть одновременно, одним взглядом охватывая то и другое.
Человека нельзя избавить от страданий, не изменив его при этом так, чтобы он стал бессмертным. А бессмертие возможно только для безгрешного существа. Потому и отогнал Господь согрешившего человека от древа жизни, чтобы не стал человек злом бессмертным. Как ни странно это звучит, но для грешника смерть – объективное благо. Бог не хочет увековечить человека в его оскверненной данности, но хочет прежде исправить и очистить его, а уж затем даровать бессмертие.
* * *
Теперь окунемся в действительность, покинув высоту умозрений. Мы болеем и будем болеть, пока рано или поздно не отдадим с последним выдохом душу в руки Создателя. Болея, мы бываем раздражительны, нетерпеливы и малодушны. Весь мир тогда сжимается для нас до размеров пульсирующего зуба, раскалывающейся головы, ноющей печени. И мы ищем избавления от страданий.
Как хорошо, что в регистратуре или в приемном покое нам не напоминают о связи между грехами и болезнями. Как хорошо, что из окошечка не высовывается лицо регистратора и не обращается к нам с хитрым прищуром: «Что, милый, допрыгался?» Наша медицина лечит болезни, не рассуждая об их нравственных первопричинах. И это хорошо. Хорошо, что доктор – обычный грешник, и ему в голову не приходит вгонять пациента в краску, устраивать исповедь или читать мораль. Духовные вопросы остры. Неумелое обращение с ними способно более навредить, чем помочь. Поэтому и хорошо, что логика поликлиники не совпадает с логикой Литургии и прочитанного Евангелия.
* * *
Эта шизофрения двойных стандартов грозит превратиться (а может, уже превратилась) в приобретенное уродство, в родимое пятно нашей жизни. Узнавая правду и не умея воплотить ее в жизнь, не умножаем ли мы тем самым и без того до краев налитую чашу внутренних страданий? Стоит ли узнавать правду, причем правду вечную, чтобы остаться при своей обычной лжи? Может, об этом сказано: кто умножает познания, умножает скорбь (Еккл. 1,18).
* * *
Я остаюсь при той мысли, что автономность медицины от Евангелия имеет свои плюсы. Но христианскую логику я сам должен внести в историю своей болезни и своего выздоровления. Пусть доктор говорит, что «еще поживем»; пусть сестра по дороге на операцию повторяет ободрительные «мантры». Я-то сам прекрасно знаю, что в выздоровлении и продолжении жизни смысл есть только тогда, когда есть намерение жить лучше и стать чище. Многое зависит от врачебного искусства и качественных лекарств. Но Хозяин жизни будет решать судьбу больного еще и с той точки зрения, захочет или не захочет больной сделать из болезни нравственные выводы. «Я буду жить?» – спрашивает пациент. «Жить-то будешь, но как и для чего? – спрашивает, как мне кажется, в ответ Хозяин жизни. Если как прежде или даже хуже, то зачем?»
* * *
Связь между болезнями и смертью кажется очевидной. Связь между грехами и смертью следует осознать по Евангелию и первым главам книги Бытия. Когда первые две связки станут понятны, останется выяснить теперь уже неизбежную связь между болезнями и грехами. Ну и наконец самое главное. Победителя этого триединого, сплетшегося до нерасторжимости змеиного клубка зовут – Господь Иисус Христос.
СМИРЕНИЕ
Когда мы говорим об Отце, то мысль неотлучна от величия и всемогущества. С того времени, как в мир пришел Сын, стало возможным говорить о смирении.
Если бы Он не был равен Отцу, то ни рождение в пещере, ни воспитание в доме плотника, ни самая смерть на Кресте, предваренная клеветой и предательством, не были бы достаточны для этого разговора. Говорить о добровольном, ни с чем не сравнимом смирении можно, только зная, Кто родился в Вифлееме, плотничал в Назарете, учил в синагогах и страдал на Голгофе.
Ему это все не было нужно. Он это делал для нас. Теперь на подвиг души Своей Он взирает с довольством (см.: Ис. 53,11), но что сказать нам о смирении Духа? Сын смирился, сделавшись явным и унизившись. Дух смиряется, оставаясь в тени, не показывая Дица, все совершая во имя воплотившегося Сына.
Внутри Божественной природы три Ипостаси упреждают Друг Друга в смирении. Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну (Ин. 5, 22). Сын ничего не делает для Себя и во имя Свое, но только во имя Отца. Дух действует во имя воплотившегося Сына, напоминая Его слова и дела, утешая верующих, взамен скрывшегося на время от взоров Искупителя. Каждый из Трех не ищет славы Себе, но возносит и прославляет Другого.
* * *
Хотя и сказал Христос, чтобы мы научились у Него смирению, так как Он кроток и смирен сердцем (Мф. 11, 29), заниматься этим по-настоящему мало кто хочет. При слове «смирение» никаких ассоциаций, как правило, не возникает или возникают ложные, связанные с унынием и комплексом неполноценности. И это значит, что нет у нас этой добродетели, не узнали мы цену ее, не полюбили, а полюбив, не взыскали и не присвоили после многих трудов. Оттого и мятутся души наши и нет в них мира, что найдет покой душе своей (см.: Мф. 11, 29) только научившийся у Господа Иисуса.
* * *
Заговорите при мужчинах о футболе, о машинах, о женщинах, о пиве, на худой конец. И оживятся глаза, и найдутся слова для развития темы, и родятся тут же идеи и предложения.
Заговорите при женщинах о чьих-то семейных тайнах, о тряпках, о чем-то блестящем, о любви… Эффект будет тот же.
Но попробуйте заговорить о смирении. Это прозвучит так же странно, как птичье пение. На вас посмотрят так, как если бы вы заговорили на непонятном языке. Это потому, что у нас совсем нет смирения и запах его нам не знаком. А между тем жизнь человечества должна строиться по образу отношений внутри Троицы, и догмат о Троице есть наша социальная программа.
* * *
Вместо смирения есть смиреннословие, то есть привычные обороты речи, якобы свидетельствующие о христианском сознании, или вздохи о том, что «я грешен», что «все мы грешные». Еще есть призыв к смирению тогда, когда неприятность нельзя устранить и остается только терпеть. Это правильно. Это «теплее». Но гораздо важнее говорить и думать о том смирении, при котором добровольно убегают от славы, не ищут ее, а получив, делятся ею с удовольствием и без зависти. Смирение Троицы – это прославление Другого взамен Себя. Это – радость о славе и об успехе Другого. У этого смирения в перспективе – вечность. А то терпение жизненных невзгод и неудач, которое мы привычно называем смирением, будет жить только на этой земле, где плачут и умирают. На земле живых будет другое смирение, Божественное.
МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
В Писании содержится множество указаний на Небесную природу Христа. На то, что Он, смиренно называвший Себя Сыном Человеческим, на самом деле есть Личность Божественная. Уже само имя Сына Человеческого говорит об этом. Каждый из нас может назвать себя этим именем. При этом мы не солжем и не ошибемся. Но мы себя не называем так, поскольку это и пафосно, и самоочевидно, и, что важнее всего, у нас для себя нет других имен. Христос именно так называет Себя потому, что это имя для Него не родное, а усвоенное. Он – Сын Божий, Его имя от века. Сын Человеческий – это имя Того, Кем Он изначально не был, но со временем, по причине любви к нам и послушания Отцу, стал. Это, кроме сказанного, еще и мессианское выражение из видения пророка Даниила. Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его – владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится (Дан. 7,13–14).
Говоря о том, что любящий сына или дочь, отца или мать более, чем Его (см.: Мф. 10, 37), что еще хочет сказать Иисус Христос, как не то, что Он есть Тот, Кого нужно любить всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим (Лк. 10, 27). То есть Он – Господь Бог.
Когда Петр в ответ на третий вопрос: любишь ли ты Меня? с печалью отвечает: Господи!
Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя (Ин. 21, 17), – разве в этом ответе мы не слышим исповедание Христа Богом? Ведь кто, кроме Бога, может знать все? Это не восклицание Фомы, произнесшего: Господь мой и Бог мой! (Ин. 20,28). Но для исследующих Писание и не довольствующихся тем, что находится на поверхности, эти внутренние открытия ценны не меньше, а может быть, и больше.
А насколько чудесен способ, каким Христос расплатился со сборщиками подати на храм (см.: Мф. 17, 24–27)?! Столь Божественно и вместе с тем столь просто, даже буднично, что сомнений не должно остаться. Тот, Кто изо рта первой вытащенной рыбы вынимает нужную сумму денег, не просто Бог истинный, но еще и Бог смиренный, Бог тихий, Бог, творящий чудеса кротко.
В «Легенде о Великом инквизиторе» Достоевский останавливается на искушении Христа в пустыне. Устами своего персонажа автор говорит о том, что даже если бы мы ничего больше, кроме этого короткого евангельского рассказа, не знали, и тогда было бы ясно как Божий день, что есть Бог и есть диавол. Предложенные вопросы не были человеческими. Их задавал грозный дух отрицания, человекоубийца, который все теми же тремя искушениями (других у него нет), как отмычками, вскрывал все (!) людские сердца. Его отмычки сломались на Христе. И ответы, которыми отвечал Постившийся в пустыне, тоже не были человеческими. Палач и знаток нашей падшей природы сделал три смертоносных выпада. И каждый раз его оружие находило пустоту, а не цель, умело отбитое более искусным воином. Очень спокойно, кротко, не выходя из себя, Христос дал понять врагу, что его власти пришел конец. Ни одного слова от Себя не сказал Сын Божий, но отвечал словами из Писания, из книги «Второзаконие». Эта краткая духовная схватка в пустыне при всей своей глубине описана столь коротко и безыскусно, что вывод очевиден: это не человеческий текст. Это – слово Божие.
Такова же и молитва Господня. Кратка и проста, но сколько драгоценного веса в этой кажущейся легкости! Она не цветиста и не поэтична, как псалмы. В ней нет метафор, нет слов, за значением которых нужно обращаться к словарям. И вместе с тем отцы назвали ее «сокращенным Евангелием». Смысл всей Библии нужно усвоить духовно, правильно, чтобы, молясь этой молитвой и говоря о Небе, об Имени, о Царстве, о Хлебе, подразумевать то, что надо, а не то, что кажется и так понятным.
Уже то, как родилась и как была подарена эта молитва, чудесно. Лука говорит, что Господь в одном месте молился (Лк. 11,1). Он молился часто, в храме и в пустынных местах, днем и среди ночной тишины. Это были не наши молитвы. В них не могло быть такой знакомой всем нам печали о совершенных грехах и просьб о помиловании. В них не было суетных просьб и корыстных прошений, которыми люди так часто оскорбляют слух Всевышнего. Это было что-то совершенно особое и благоуханное. И вот Он перестал, и тогда один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться (Лк. 11, 1). Господь дает ответ тут же, без размышлений и приготовлений. Его только что молившийся дух насыщен общением с Отцом, и от Своей полноты Он уделяет нам необходимую меру. Он произносит: когда молитесь, говорите (Лк. 11, 2), – и вслед за этими словами в воздухе звучит текст, который отныне будет звучать миллионы раз, на всех языках, на всех континентах. Поистине Ты прекраснее сынов человеческих; благодать излилась из уст Твоих (Пс. 44, 3).
В Царство Небесное ведет узкий путь и тесные ворота. В царство молитвы должен также приводить узкий путь. Господское повеление: молясь, не говорите лишнего (Мф. 6, 7) – об этом. Это не значит, что молитва Господня отменяет все роскошество псалмов, и славословий, и песнопений духовных (см.: Еф. 5,19), которыми столь богата Церковь. Не отменяет, но смысл молитвы осознается через внутренний мир всей Библии и через Евхаристию. Изучая Писание, участвуя в Литургии, усиливаясь исполнять заповеди, христианин делает свое сердце созвучным главной христианской молитве, и она постепенно вбирает в свою бездонную простоту всю жизнь человека.
* * *
Один богомолец, мужчина преклонных лет, на исповеди был спрошен священником, молится ли он. «Конечно. Я читаю "Отче наш"», – был ответ. «Но этого мало. Есть ведь еще много акафистов и канонов, есть псалмы», – продолжал священник. «А я, отче, прочел толкование Максима Исповедника на молитву Господню и понял, что в этой молитве скрыты все молитвы и весь закон Божий», – отвечал человек. Удивился священник и глубине ума, и простоте ответа и допустил старца к Святой Чаше. Не от лени и не от невежества читал пожилой христианин лишь одну молитву Господню. Уже количество перешло у него в качество, уже вернувшийся к себе ум и собранная в молитве душа не нуждались во многих словах. Для того чтобы излить перед Богом душу, ему уже хватало тех коротких слов, которые не нужно выдумывать, которые большинству известны наизусть.
* * *
Молитва Господня связана с книгой Бытия. И та и другая начинаются с «неба». Это не то небо, по которому летают самолеты и которое изучают метеорологи. Это небо духовное. «Гашамаим» первой книги Писания – это то небо, которое Элогим сотворил вначале. Это, согласно толкованиям отцов, Ангельский мир. Поэтому в книге Бытия далее сразу прекращается разговор о небе и продолжается о земле, которая безвидна и пуста (Быт. 1, 2). Поэтому становятся понятны слова о воле. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе (Мф. 6,10) означает, что на некотором небе волю Отца выполняют сознательно и разумно. Точно так же ее нужно исполнять и на земле. Этим небом, на котором творят волю Божию, является Ангельский мир.
Так же, оторвавшись от земных стереотипов, нужно мыслить и о «Царстве». Оно не приходит приметным образом, и, если сердце очищено от страстей, оно внутри нас есть (см.: Лк. 17, 21). Молясь о том, чтобы оно пришло, нельзя представлять ничего внешнего, могущего истлеть и исчезнуть. Это Царство не от мира сего. Воображению оно не подвластно.
* * *
Молитва Господня подобна скрижалям, тем каменным доскам, которые Моисей снес с вершины Синайской горы. Там были заповеди, и начертаны они были не как попало. Вначале шли заповеди, касающиеся Бога. Не знать иных «богов», благоговеть перед Именем Творца, не кланяться идолам и чтить особый день для того, чтобы размышлять о делах Божиих и не дать суете поглотить себя, – в этом смысл древнего, начального Богопочтения. На второй скрижали были написаны заповеди, регулирующие отношения между людьми. Повеление чтить родителей, запрет на убийство, блуд, воровство, клевету и зложелательство. Если бы народы, читающие Библию, усвоили эту «ветхозаветную» нравственность, криминально-уголовными кодексами можно было бы топить печи и большую часть судов можно было бы закрыть за ненадобностью. И не верующие в Бога люди не прочь жить в мире, где не льется кровь и не похищается чужое имущество.
Согласно логике скрижалей, моральная чистота человеческой жизни идет вслед за почитанием Бога. Сначала провозглашаются и требуют исполнения заповеди, поставляющие человека перед Лицом Творца, и только тогда человеческие отношения могут быть упорядочены и очищены.
Такова же внутренняя логика Господней молитвы. Есть Небесный Отец, наш долг – прославлять Его Имя, приближать Его Царство и творить Его волю. Все остальное приложится.
Вот уже несколько столетий мир, вырвавшийся из церковной ограды, пытается построить общество, где Бога вспоминать не будут, но будут наслаждаться плодами христианской нравственности. Честнее и последовательнее многих были коммунисты. «Бога нет, а человека нужно любить до самопожертвования», – сказали они, и эта идеология родила планетарный концлагерь. Те же интуиции у современных строителей «земного рая». Мир без молитвы и сознательного творения заповедей всегда превращается в мир разврата и людоедства.
* * *
Когда мы читаем эту великую молитву сами, мы можем не делать никаких приготовлений. Но когда мы собраны на молитву в храме, когда совершается принесение Бескровной Жертвы, то не сразу и не просто произносится нами «Отче наш». Прежде чем пропеть или прочесть молитву на Литургии, священник возглашает: И Сподоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно смети призывати Тебе, Небесного Бога Отца. Это значит, что Господня молитва литургична, что особый смысл она приобретает в Таинстве Тела и Крови Христовых.
Молитва о ежедневной пище понятна верующему человеку. Но молитва о Небесной пище даже для верующего временами представляет загадку. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную (Ин. 6, 27), – говорит нам Христос. Пища, дающая вечную жизнь, – это Причастие. Христианин, который не любит и не понимает Литургию, не ест и не пьет от Источника бессмертия, это воин, принявший присягу, а затем дезертировавший из армии.
Читая «Отче наш» и произнося прошение о хлебе, мы обязаны спрашивать себя: «Давно ли я причащался?», «Есть ли во мне стремление к Святыне?»
* * *
Христос дает человеку силу, но не отнимает и слабость. Чтобы не гордиться, человеку необходимо ощущать свою немощь. Если бы в нынешнем состоянии человек избавился от всех слабостей, он стал бы силен и горд, как демон, а жизнь превратилась бы в смертельную схватку титанов.
Ни о чем подобном не говорит молитва. Она говорит нам о том, что мы в неоплатном долгу перед Богом и что нам нельзя гордиться. Хороший врач из яда может сделать лекарство, и Христос извлекает пользу из нашей испорченности. «Если вы столь грешны пред Отцом, – говорит Он, – не злитесь и не обижайтесь друг на друга. Ваше взаимное незлобие и умение прощать заставят Отца так поступить с вашими грехами, как вы поступаете с грехами ближних. Он забудет, простит, совершенно изгладит их». Так мера нашего отношения к немощам ближних превращается в меру отношения Бога к нашим грехам.
Но даже если мы все простили, уроки смирения не оканчиваются. Вникай в себя и в учение (1 Тим. 4, 16), – говорит Павел Тимофею. Мы вникаем в учение Христово и в себя и что же видим? Наше сердце, наш внутренний Иерусалим разрушен Навуходоносором. Помыслы и страсти, как наглые грабители, входят в проломы стен и грабят город. Когда мы слышали о вере со стороны, но сами не работали на Господней ниве, нам казалось, что чем больше молится и трудится для Бога человек, тем больше самоутверждается он, тем выше поднимает глаза, тем смелее расправляет плечи.
Мы ошибались. Исполнение заповедей учит смирению. Глубокая внутренняя порча становится понятна и ощутима не сразу. Всецело зависящим от Бога чувствует себя человек; жаркое дыхание врага заставляет его сильнее взывать о защите и помощи.
* * *
В Символе веры о диаволе не говорится. Верить в него мы не обязаны. Но молитвенный труд открывает перед человеком не только бездну вверх, но и бездну вниз. У Бога есть враг. Если мы с Богом, то он и наш враг. Более того, не имея возможности вредить неприступному в Своей славе Творцу, враг вредит человеку, видя в нем образ Того, против Кого он восстал.
Голосом немощи оканчиваются прошения Господней молитвы. Просьбой не допустить до соблазна, до греха и падения; просьбой избавить от диавола, который ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить (1 Пет. 5, 8).
Это не молитва Самого Христа. Это молитва, Христом подаренная нам. Сам Он молится иначе. Он имеет право говорить «Отче Мой», поскольку Он – Единородный, Единственный Сын Божий. Он не боится диавола и искушений. Это диавол боится Его, поскольку знает, что в Нем ничего своего не имеет.
Но не словами о лукавом заканчивается молитва. Много было бы ему чести. Последними словами Христос учит исповедовать, что Бог может дать нам просимое. Ведь у Него и Царство, и сила, и слава.
После преславного Воскресения и Вознесения, после Сошествия Духа Святого и рождения Церкви мы добавляем к этим словам исповедание того, что Сын и Дух равно с Отцом обладают Царством, силой и славой. Так научил Церковь Дух, таково единое бытие Неразделимой Троицы.
* * *
Мир убыстряет свое движение, отнимает у человека время не только на продолжительные молитвы, но даже на неспешное раздумье. Благословенную краткость и священную тесноту подарил нам в молитве Господь Иисус Христос, чтобы, протиснувшись между малых слов, мы обрели подлинную свободу. И чем дольше живешь, чем больше читаешь и произносишь слова молитвы Господней, тем больше ощущаешь себя находящимся лишь в преддверии молитвы.
Мы не знаем – о чем просить и что говорить, – но Ты, Господи, уста наши отверзаешь, и уста наши повторяют сказанное Тобой.
СОВЕРШЕННО ДОСТОВЕРНАЯ ИСТОРИЯ
Совершенно достоверная история, имевшая место как-то вечером в одном из пригородов большого города, в окрестностях которого расположен международный аэропорт, имя которого сознательно умалчивается по вполне понятным для читателей причинам.
Те, кто живет вблизи железнодорожного вокзала, достойны сострадания. Их чайные ложечки, находясь в стаканах, то и дело дребезжат в такт идущему за окнами очередному поезду. Их дети первые месяцы после появления на свет периодически вздрагивают от гудков, свистков, лязга и скрежета, чтобы затем привыкнуть к этим звукам навсегда и уже никогда не вздрагивать. Жители этих кварталов себя самих всю жизнь ощущают то ли куда-то уезжающими, то ли откуда-то возвратившимися. И невозможно иначе себя ощущать, если воздух все время пахнет так, словно ты находишься вблизи ожидающего отправления поезда, да плюс привокзальный люд, да плюс специфическая неряшливость (если не сказать жестче).
То ли дело жители района, соседствующего с аэропортом. Ни тебе бомжей, ни тебе прочей привокзальной публики. Только машины плотным потоком стремятся из города в терминалы и обратно. Вместо железного лязга на стыках – благородные белые полосы в синем небе. Внутри – суетно, но порядочно, и кофе в баре за 50 гривен за чашку. Аэропорт – это чистота. Аэропорт – это технологический восторг и опрятность. Короче – цивилизация.
* * *
Как-то поздним осенним вечером в окно священника, жившего вблизи аэропорта, постучали. Пусть мы еще не живем так, как живут в элитных домах Манхэттена, но все же и у нас есть дверные звонки. Зачем стучать в стекло костяшками пальцев, словно мы не в XXI веке живем? Так думал священник, выглядывая в окно и, как водится при этом, глядя мимо того, кто стучал. Наконец их взгляды встретились. Тот, кто стучал, стоял в осенней тьме и хорошо видел хозяина. Он был довольно молод и хорошо одет, что не было заметно при взгляде из дома. А хозяин дома стоял внутри, одетый в майку с надписью «Динамо Киев». Он стоял в тепле, на кухонном свету по ту сторону стекла и, щурясь, смотрел на человека на улице. Окно открылось.
– Чего вам?
– Мне нужно срочно окрестить младенца.
– Что за срочность? Приходите завтра. Сегодня уже поздно.
– Завтра я не могу. Мне нужно улетать через три часа. Если можно – сегодня, сейчас. Я отблагодарю, только потом. При мне нет наличных. Через три дня я вернусь и обязательно отблагодарю. Пожалуйста. Это очень надо.
Священник – не ангел и ангелом быть не обязан. Он простой человек, облеченный непростой властью и особой силой, но все же – человек. У него есть дети и жена, а тот, кто знает, что такое «дети и жена», представляет себе, сколько сложных вещей прячется за этими краткими словами. Короче, священник нашел аргументы, чтобы отказать нежданному гостю. Их диалог закончился, и вскоре в окно еще одного священника в этом пригороде (а там их больше, чем один) постучали.
И в этом доме, по причине позднего времени, отсутствия предварительной записи, сложностей с восприемниками и прочими формальными неурядицами, проситель получил твердый, но вежливый отказ. Такие же отказы, приправленные просьбой прийти завтра, прослушать приготовительную беседу и проч., проситель услышал еще в нескольких домах (священников в пригороде больше, чем два). И все же – о, чудо! – нашелся иерей, изъявивший согласие окрестить дитя. Он был довольно молод и во время разговора что-то жевал (видно, встал из-за стола), но быстро понял, что разговоры неуместны, оделся, собрался и пошел на требу.
Вскоре в гостиничном номере аэропорта под радостные улыбки родителей был крещен и миропомазан по православному чину двухнедельный мальчонка милейшей внешности. Родители срочно крещенного первенца, по всему видать, не были бедными, но наличности действительно в карманах у них не было. Поэтому папа, рассыпаясь в благодарностях, обещал вскоре священника щедро отблагодарить. Тот щек не надувал и грустным от отсутствия лишней купюры не казался. Он (по всему было видно) хотел скорее вернуться домой и засесть за недоеденный ужин. Бог милостив, и вскоре его желание действительно исполнилось.
* * *
Самолеты продолжали регулярно чертить белые линии в синем небе, а если небо затягивалось облаками, самолеты проворно ныряли в них и после бесстрашно выныривали. Местные люди привычно работали на таможне, в билетных кассах, на парковках и за рулем маршруток, обслуживая нужды прилетающих и улетающих. И духовенство привычно обслуживало духовные нужды населения, жившего вблизи международного аэропорта. Только одно обстоятельство начало смущать привычное движение жизни. Молодой священник (тот, что согласился срочно крестить малыша) ни с того ни с сего вдруг переехал в новый дом в просторную квартиру. Мало того, он еще пересел и на новую машину. И все это произошло так внезапно, что маститое духовенство пожимало плечами: «Откуда такой успех? Кто его спонсор? Чем он заслужил такую милость?»
Вопросы свистели, «как пули у виска» в известной песне Рождественского из фильма про Штирлица. А ларчик просто открывался, и секрета в общем-то не было вовсе. Просто молодой попик не был болтлив, равно как и его молодая супруга.
Тот ночной гость действительно вскоре вернулся. Не через пару дней, правда, а позже. Но его и не ждали особо. «Вернется – не вернется, – думал батюшка, – какая разница? Дите крещено. Слава Богу». Но тот вернулся. И не с пустыми руками, а с ключами от новой квартиры. Это был один из тех людей, который мог бы многим людям купить квартиры, но, встречая в жизни чаще всего корысть и зависть, временами жалел даже рубля для нищего. Молодой священник по-доброму удивил его и обрадовал. Он просто потряс его простотой и безотказностью. Весь нерастраченный жар желания делать добро тот человек направил теперь на своего ночного благодетеля. И вот вскоре батюшка уже ночевал в новой квартире, а днем рулил в кабине хорошего автомобиля. Вокруг него, конечно, клубилось недоумение одних и зависть других. Вокруг него сплетались домыслы и выковыривались из носа догадки. Но тот, кто сумел отблагодарить достойного человека, умел и рты закрывать тем, кто открывает их не вовремя. А сильных людей у нас побаиваются. Короче, все было нормально.
* * *
В этой кратчайшей и достовернейшей истории столько морали, что в двух ведрах не унесешь. И формулировать выводы вслух как-то уж очень оскорбительно. Читатель и так все, наверное, понял. И даже больше понял, чем сам писатель в записанной им истории понял. Но кое-кто так ничего и не понял. Интересно, понял ли читатель, кто же это ничего не понял?
ОТВЕТЫ ГОСПОДА НА ВОПРОСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
В книге «О встрече» митрополит Антоний (Блум) говорит о том, что вся Евангельская история – это история встреч. Господь встречается с законниками, рыбаками, падшими женщинами, пылкими юношами. Со стороны людей эти встречи могут быть спланированными. Так, намеренно встречается со Христом ночью фарисей Никодим (см.: Ин. 3, 1–21). Большинство людей встречают Бога случайно. Это рыбаки на Тивериадском озере, похоронная процессия, выходящая из города Наина, и многие другие. Но со стороны Христа все эти встречи не случайны. В мире благодати для случая нет места. Он не только не царствует там. Он там отсутствует. Со времен грехопадения, со слов Бога: «Адам! Где ты?» – Господь не устает искать человека. Когда происходит встреча, начинается диалог.
Люди общаются при помощи слова. Евангельские встречи – это евангельские диалоги. Есть две говорящие и слушающие стороны. С одной – дети Адама, с другой – вочеловечившийся Сын Божий.
Слушая людские вопросы, Христос ведет Себя по-разному. Он может прямо отвечать на вопросы: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему (Ин. 9, 36–38). Так же прямо говорит о Себе Христос и женщине-самарянке (см.: Ин. 4, 26).
Нередко Христос отвечает вопросом на вопрос. Как достичь жизни вечной, спросил у Спасителя некий книжник, и Христос спросил его в ответ: в законе что написано? как читаешь? (Лк. 10, 26). И в храме Иерусалимском на вопрос старейшин, какою властью Он творит дела, Иисус отвечает вопросом: спрошу и Я вас об одном; если о том скажете Мне, то и Я вам скажу, какою властью это делаю (Мф. 21, 24). Очевидно, что правильный ответ является условием продолжения диалога. Если ответ неверен, то это значит, что внутренний мир собеседников извращен. Они спрашивают и испытывают, но понять ответ будут не в силах по причине окаменения сердца и омертвения совести.
Наконец, Христос может просто молчать и не открывать уст перед вопрошающим, как это было перед лицом Пилата. Итак, у нас есть три возможных варианта: Христос дает прямой ответ, Он отвечает вопросом на вопрос, и, наконец, Он молчит. Все эти варианты имеют отношение к нашей молитвенной жизни.
Мы молимся Христу как Богу. Мы открываем перед Ним сердце, славим Его Имя, просим, благодарим. Нередко молящуюся душу Господь тайно извещает о том, что молитва услышана и принята. Об этом состоянии говорил Давид: Возлюбил, яко услышит Господь глас моления моего (Пс. 114,1). Но бывают у молящихся и свои Гефсиманские ночи, периоды внутреннего мрака и молчания со стороны Бога.
Молящемуся человеку Господь может задавать вопросы. Ты спрашиваешь у Бога: почему? когда? за что? – а Он, со Своей стороны, говорит: «Спрошу тебя и Я». Эти вопросы могут касаться того, исполнил ли ты данные обеты, имеешь ли решимость менять свою жизнь, не носишь ли за душой камня злопамятства или ненависти к кому-то. Ведь нельзя забывать, что, согласно Евангелию, непременным условием слышания и исполнения просьбы является прощение тех, кто чем-то обидел нас, тех, кто является нашим должником. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши (Мк. 11, 25).
Вопрос Христа можно расслышать, если удалиться от шума и прислушаться к совести. И это чрезвычайно важно, поскольку можно всю жизнь прокрутиться в суете. Можно всю жизнь молиться из гущи этой суеты, но так и не войти в область правильного Богообщения, поскольку на каждую твою просьбу Христос будет задавать Свой вопрос, а ты ни одного из них так и не расслышал.
Духовная жизнь была бы непростительно легкой, а значит, и не имеющей цены, если бы каждый вздох и каждая просьба, обращенные к Богу, тут же получали ответ. Человек должен приготовиться к молчанию Небес. С мыслью о своем недостоинстве быть в поле зрения и внимания со стороны Бога молящийся человек должен терпением доказать верность Богу.
Наконец, будучи одаренным от Бога смыслом и совестью, человек должен вслушиваться в себя: не звучит ли в душе вопрос от Создателя? Не ждет ли Господь от человека чего-то такого, без исполнения чего все труды и старания окажутся напрасными?
Онуфрий Великий шестьдесят три года прожил в пустыне. Прожил, как птица, не распахивая землю, не сея, не собирая в житницы. Исполнил Евангельские повеления буквально. Даже если бы он один был такой, и тогда нельзя сказать, что слово Божие приятно слушать, но невозможно выполнить. Заблуждаешься, Лев Николаевич. Возможно.
Онуфрий был гол, как Адам, и молился, как Ангел. А мы? Что мы? У нас все иначе. Попробуйте раздеться и в голом виде прочитать хотя бы вечернее правило. Стыдно станет. Получится какая-то мелкая гадость и нелепость. То-то и оно.
А Онуфрия Бог одел по всему телу мягким, как пух, волосом. И пальма, росшая возле его жилища, двенадцать раз в году отягчалась плодами, как те деревья в грядущем Царстве, о которых сказано в Откровении (см.: Откр. 22, 2).
Не моту не склониться перед памятью этого человека. Хожу одетый и «собираю в житницы» (см.: Мф. 6, 26), но радуюсь о том, что я с Онуфрием в одной Церкви.
Иоанн Кронштадтский жил в миру, а служил так, будто только что спустился с неба. Вся жизнь – словно столб огня, рвущийся к Богу. Священников на Руси и было и есть множество, а Иоанн один. Пастырство оправдал, священство возвысил, перед всеми открыл зарытое сокровище. Сказку о попе и балде можно было написать только до Иоанна. Теперь нельзя. Лучшее покрыло худшее. Один Иоанн с Чашей в руках заслонил собой толпы ленивцев и фольклорно осмеянных персонажей. Ухватимся за его руку. Глядишь, оправдаемся.
Лука удивителен. Если заболею тяжко, хотел бы у него лечиться. Йодом крест на больном месте начертит, склонится к уху, скажет: «Молитесь Боту». И сам молиться станет. Затем, не прекращая молитвы, возьмет скальпель, сделает надрез, начнет операцию. Все четко, без суеты, строго и милостиво. А уста под врачебной маской шепчут: «Господи, помоги. Ты – доктор, я – Твое орудие».
И поднимаются, поднимаются с постели неисцелимые прежде больные. Морг ждал и не дождался. Скажет: «Благодарите Христа. Это Его милость». А вечером на службу. Читать молитвы, предстоять Богу и, обратившись к людям, говорить слово Истины. И за Луку благодарю Тебя, Господи.
Ксения. Теплое солнышко над холодной землей. Странница – «Ксения». Любила мужа и умерла для обычной жизни после его смерти. Молилась за любимого, просила, умоляла спасти, утешить, упокоить его душу. Потом всех полюбила и за всех молитвы стала приносить.
Походите полдня по кладбищу, почитайте псалмы у незнакомых могил. Поспите ночь на лавке. Ксения вот так сорок с лишним лет прожила. Тысячам помогла, многие сотни вымолила.
Ох, святые, святые! Все у вас болело, как у всех людей. Болели натруженные руки, болело милующее сердце. Вы победили. Дайте теперь у вашего огонька погреться. Дайте насмотреться на вас. Осанка у всех не гордая, взгляд прямой, одновременно и скорбный, и радостный. Каждый в отдельности красивее всех. К каждому на руки хочется забраться котенком и урчать довольно в безопасности.
Вот Иоанн Русский, плен, побои и унижение претерпевший. Вот Матрона, глазами слепая, а сердцем зрячая. Вот Георгий, стройный, сильный, красивый, на бесов ужас наводящий. А вот и он, самый любимый, всех других добрейший, но могущий и пощечину отвесить, – Угодник, Чудотворец Николай.
А где тот, который прославил Бога тем, чем грешит и стар и млад, – языком? Вот он, Златоустый Иоанн, измученный земной жизнью и радостный в Господе.
А где тот, кто совместил в своей жизни все мыслимые монашеские подвиги: и столпничество, и затвор, и старчество? Где преподобный Серафим? Вот он, радование наше. Вот он, тихий и светлый, ростом маленький и духом великий. Вот он, любимец Божией Матери.
Где Варвара, где «невеста Христова прекрасная»? Где она, познавшая Бога через наблюдение за прекрасным миром? Где она, за Сладчайшего Жениха своего истерзанная и изувеченная немилосердно? Вот и она, рядом с Екатериной. Обе статные, красивые не поземному. Глянешь и опустишь глаза.
Я ведь тоже крещен. А раз крещен, то значит, и прописан в Небесном Иерусалиме. Господь неба и земли мне, как и многим, определил в оном месте свой уголок, свою «жилплощадь», прописал меня в вечности. Попасть бы в место это!
Боже, пощади. Боже, не наказывай. Боже, не вспоминай грехов моих. Я, как Кукша, говорю: «Хоть с краечку, но в раечку». Только бы видеть и слышать вас всех, Аллилуйя Богу поющих.
Только бы. Если бы. Хоть чуть-чуть бы.
Подражайте мне, как я Христу (1 Кор. 4, 16), – сказал Павел. Кстати, где он? Где эти уста Христовы? Где этот пламенный в ревности богоносец? Вот он, чаша, полная благодати. Целую твои стопы.
Буду подражать и тебе, и всем, похожим на тебя. Не буду обезьяной. Буду учеником.
Во многом не успею, многое не получится. Но буду дергаться и стараться, буду усиливаться и стремиться, как безногий пловец на Параолимпийских играх. Есть и для таких атлетов награда.
Пусть склеятся протестанствующие уста. Бога вы, святые, мне не заслоните. Только лишний раз укажете и жизнью, и молитвенным положением рук на Святых Святейшее Слово. И укажете, и помолитесь. Даже если бы не молились, любил бы вас все равно.
Грешно таких, как вы, не любить.
Часть V. СОЛЬ ЗЕМЛИ
СВЯТОЙ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ
В декабре, когда снег, как правило, уже покрывает землю, мы празднуем день памяти Андрея Первозванного. Этот декабрьский снег определяет точку обзора, с которой интереснее всего смотреть на Апостола и его к нам приход.
Там, откуда пришел к нам Андрей, дети не играют в снежки, не катаются на санках и не лепят снежную бабу. Их зима – это наше лето. Нам легко и приятно путешествовать в те края. Но им отправляться в нашу сторону и холодно, и страшно. Тот Крым, в котором мы чаще всего греем свои кости, для жителей Римской империи был северной ссылкой, некой Сибирью в нашем понимании. Когда Климента или Златоуста ссылали на север, то это был север для них. Для нас это юг. Если же наш юг – это их север, то кто мы такие в их глазах, как не жители полуночной, холодной страны, гиперборейцы, медведи, дикари?
Зачем из солнечной Палестины, обутый не в теплые сапоги, но в легкие сандалии, приходил к нам на заре христианской эры родной брат апостола Петра? Зачем вообще путешествуют люди?
Купцов гонит в дорогу жажда прибыли и непоседливый характер. Домосед не станет купцом. Он, скорее, станет ремесленником. Нужно иметь характер азартный, непоседливый, нужно, чтобы вместе с кислородом в крови бегали пузырьки авантюризма. Только в этом случае человек купит товары, снарядит корабли, наймет охрану и отправится в путь. Так ли путешествовали апостолы? На всех известных языках скажем: нет, nein, nо. И не ошибемся.
Можно путешествовать, чтобы захватывать чужие города, уводить пленных, везти на телегах добычу. Этот вид путешествий, военный поход, тоже не апостольский.
Можно покидать родные края, спасая жизнь свою и своих домашних. С древних времен до сегодняшнего дня в мире живут миллионы беженцев, под свист стрел или под звук автоматных очередей, освещенные заревом пожаров, ушедших с насиженных мест в поисках безопасности. Этот вид перемещения в пространстве к апостолам тоже не имеет никакого отношения.
Есть, наконец, еще один вид путешествий, выдуманный греками. Это путешествия из любознательности, из желания повидать неизвестные земли, узнать что-то новое, научиться чему-то у жителей незнакомых стран. Сличаем с апостолами и находим полное несоответствие.
Не беглецы и не захватчики, не авантюристы, не торгаши и не бродячие философы, кто же они такие?
Феномен апостольской проповеди не вписывается ни в одну готовую схему. Он ни на что не похож, и его не с чем сравнивать. Как водный поток из источника, это явление проистекает из уникального факта Пятидесятницы. Человек, к которому прикоснулся огонь, не может неподвижно стоять на месте. Он реагирует, чувствует боль, его мышцы сокращаются. И человек, на которого в виде огненных языков сошел Утешитель, тоже не может оставаться на месте. Он не принадлежит себе. То, что дано ему, – не его собственность. Он должен послужить. И вот он идет, готовый дойти до края земли, и проповедует.
Человеческая жизнь коротка, и апостолам надо спешить. Тем более, что против них на точены лезвия мечей и копий, против них собрались на совет мудрецы и сильные земли. Апостолы идут на верную смерть, но не идти не могут. Огонь Пятидесятницы не гаснет.
Они идут в города, туда, где есть науки и ремесла, где множество людей собраны вместе и, значит, у Слова может быть множество последователей. Идти по селам и маленьким поселениям непрактично. Это также опасно (в селе, как и в городе, разъяренные язычники способны на убийство), но перспективной паствы там меньше, и нравы грубее, и привязанность к древним культам глубже. Апостолы идут в крупные торговые и культурные центры: Коринф, Солунь, Афины, Рим.
И здесь снова, как следопыт перед неизвестным следом, останавливается мысль. Зачем Андрей пришел на Киевские горы? Никаких городов, никакой цивилизации. Только непроходимые леса, малочисленные дикие племена и торговый путь, транзитом проходящий через огромные неосвоенные территории.
Может, он шел, не думая останавливаться? Может, неожиданно, безо всякого приготовления, сердце его вдруг учащенно забилось, и чуткая совесть расслышала слова Святого Духа о том, что здесь будет после? Как бы то ни было, приход к нам Андрея и его пророчество об этих местах удивительны вдвойне. Еще рыба не успела отметать икру, а он уже издали благословил ту, будущую молодую рыбку, которая должна будет появиться.
Славяне любят знак Креста, часто изображают его на себе, проявляя любовь к Тому, Кто потерпел за нас Распятие. Возможно, истоки этой любви длинной и незримой цепочкой связаны с тем Крестом, который Андрей водрузил на горах Киевских.
Так вот Ты какой, Сыне Божий, и вот каково обещанное Тобою излияние Святого Духа! Под Его действием Твои ученики дошли до тех стран, о которых слухом не слышали, и преподали им спасительную благодать. А в нашем случае преподали так, что она столетиями ждала своего часа. Не улетела, как облако, и не испортилась, как залежавшаяся пища. Но сияла, подобно солнцу, над головами здесь живущих людей и переливалась над ними радугой, пока не выпала крупной алмазной росой на сердце князя Владимира.
* * *
Снег хрустит под ногами, осыпается с дрогнувших веток, летит в лицо. Да… Далеко на север дошли твои, обутые в легкие сандалии, ноги, святой Андрей. Спасибо тебе за все.
АПОСТОЛ ПЕТР
Нам, людям, нельзя быть самоуверенными. Одно из наших основных качеств – немощь. Вместо «человека умелого», «человека разумного» наука могла бы нас назвать «человеком немощным». Даже те, от которых менее всего ожидаешь дрожи в коленях, по временам ослабевают и теряют самообладание. Яркий пример – апостол Петр. Волевой и смелый, горячий и порывистый, этот апостол вошел в историю не только исповеданием веры и проповедью Благой вести, но и отречением во дворе архиерея.
Кто-то не боится вступить врукопашную с двумя или тремя противниками, но каменеет от страха при звуке бормашины. Кому-то не страшны ни болезнь, ни бедность, но изгнание с родины может свести его в гроб. Другими словами, у нас есть всегда хотя бы одна болевая точка, и прикосновение к ней для нас нестерпимо. Победа над собой потому всегда была более славной, чем победа над тысячами внешних врагов.
Петр – пример человека, который, как Иаков, дерзает бороться с Ангелом, но может испугаться собачьего лая. Так, тезка его – Петр Первый – одолел и Софью, и Карла, но до смерти боялся тараканов. Эти «камни», – именно так переводится имя Петр, – не боялись ударов молота, но их могли пробить насквозь равномерно падающие капли воды.
Вода, кстати, и проявила это свойство души апостола. Увидев Христа, ходящего по морю, Петр захотел так же по воде прийти к Нему. Услышав из уст Господа «Иди!», он пошел, но… испугался волн и ветра. Акафист Сладчайшему Иисусу говорит о том, что внутри у Петра была в это время «буря помышлений сумнительных». Душа смутилась от наплыва разных помыслов, испугалась сама себя в этом новом, неожиданном состоянии, и в итоге Петр стал тонуть.
Нечто подобное было и во дворе архиерея. До этого Кифа бросался с мечом на воинов, пришедших в Гефсиманию. Он даже отсек ухо одному из пришедших. Но вот во дворе у костра, когда утихло волнение в крови, когда Невинный уже был связан и торжество зла становилось густым, как тучи, Петр испугался женщины. В известное время он был готов драться с мечом в руках против любого мужчины. Он не врал, говоря, что готов за Христом и в темницу, и на смерть идти. Вот только человек сам себя не знает, и храбрый Петр оказался трусом перед лицом служанки, приставшей к нему с вопросами.
Хочу ли я бросить тень на святого? Боже сохрани. Радуюсь ли я его немощи? Нет. Я оплакиваю в нем себя и тебя, потому что вижу в нем слепок со всего человечества.
Писание не по ошибке и не случайно открывает падения праведных. Лотово пьянство с последующим кровосмешением, Соломоново женонеистовство, Давидов блуд… Это не для того, чтобы грешники оправдывали себя чужими грехами. Это для того, чтобы на фоне самых лучших людей мира, которые, оказывается, тоже грешники, засиял Единый Безгрешный и мы могли на Литургии петь «Един Свят, Един Господь Иисус».
* * *
Свое согрешение Петр оплакивал всю жизнь. А вот оплакал ли я свои грехи? Научился ли у Петра покаянию? Ведь и мы, согрешая, отрекаемся от Господа. «Тебе Единому согрешил», – говорит Давид, потому что грех – это не нарушение одного из моральных правил. Грех – это деятельное отречение от Творца, отказ Ему служить.
У Арсения Тарковского есть стихотворение, в котором автор во сне переживает весь ужас отречения и просыпается встревоженным. Вот это стихотворение:
Просыпается тело,
Напрягается слух.
Ночь дошла до предела,
Крикнул третий петух.
Сел старик на кровати,
Заскрипела кровать.
Было так при Пилате,
Что теперь вспоминать?
И какая досада
Сердце точит с утра?
И на что это надо –
Горевать за Петра?
Кто всего мне дороже,
Всех желаннее мне?
В эту ночь – от кого же
Я отрекся во сне?
Крик идет петушиный
В первой утренней мгле
Через горы-долины
По широкой земле.
Что здесь удалось поэту? Удалось чужой грех почувствовать как свой, а может – найти себя самого в чьем-то опыте греха и последовавшего затем исправления. Евангелие ведь, кроме как о Господе, говорит не только о Петре, Иоанне, Каиафе, Иуде. Оно должно говорить и обо мне. Среди блудниц и прокаженных, мытарей и книжников где-то всегда есть мое место. Если его нет – Евангелие незачем читать ни дома, ни в храме. Тогда это всего лишь история о людях, встретивших Бога когда-то давно и где-то далеко. Тогда это не про меня, а значит, и не для меня. Но в том-то и раскрывается все волшебство жизни Бога среди людей, что, говоря с самарянкой у колодца, Он и со мной разговаривает. И когда Петр трижды повторяет «не знаю Человека», это тоже меня касается. Арсений Тарковский это почувствовал.
* * *
Не он один. Когда крещеный люд стопроцентно присутствовал на службах Страстной Седмицы, тогда множество сердец отвечали, вначале содроганием, а потом – слезами, на все события Великого Четверга и Великой Пятницы. Затем, когда благочестие ослабело, об этом стало возможно писать и размышлять как бы со стороны. Но и тогда честный разговор о святых событиях пронзал душу. Пронзает он ее и поныне.
«– Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, – сказал студент, протягивая к огню руки. – Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!
Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил:
– Небось, была на двенадцати Евангелиях?
– Была, – ответила Василиса.
– Если помнишь, во время тайной вечери Петр сказал Иисусу: "С Тобою я готов и в темницу, и на смерть". А Господь ему на это: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня». После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал Его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед… Он страстно, без памяти любил Иисуса, и теперь видел издали, как Его били…
Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента.
– Пришли к первосвященнику, – продолжал он, – Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: "И этот был с Иисусом", то есть, что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: "Я не знаю Его". Немного погодя опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: "И ты из них". Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: "Да не тебя ли сегодня я видел с Ним в саду?" Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые Он сказал ему на вечери… Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано: "И исшед вон, плакася горько". Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания…
Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль».
Это Чехов. Рассказ «Студент». Это произведение Антон Павлович считал лучшим из написанных им рассказов. Опять Петр, опять поющий петух и опять неудержимо текущие слезы из глаз у тех, кто все это почувствовал.
Чехов делает из произошедшего очень правильный нравственный вывод. Все, о чем говорили, это не о ком-то где-то, а о нас и для нас.
«Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, все происходившее в ту страшную ночь с Петром имеет к ней какое-то отношение…
Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему – к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра».
Конечно, Петр нам близок. Нам близко его исповедание веры, и им мы уповаем спастись. Нам близко все то, что Петр написал в посланиях и что рассказал устно, а за ним записал Марк. Но нам близко и падение Петра, его позор, его слабость. Это и наш позор, потому что мы не лучше Кифы. Мы хуже его, просто о наших грехах не известно всему миру, как известно об отречении Петра.
Если мы прикоснемся краешком своей души к душе апостола, мы сразу заплачем. Но слезы эти будут сладкими. Это будут слезы, хотя бы частичного, покаяния. Это будут слезы души, ощутившей самое главное. Кстати, об этом тоже есть у Чехова.
«И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.
А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что Правда и Красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле».
СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР
Если человеку повезло родиться в такой семье, где несколько поколений живут бок о бок, то, вероятнее всего, воспитывать его будет бабушка. Мать будет кормить грудью, отец хмурить брови, если ребенок сделает что-то не так. А вот рассказывать о том, откуда взялись луна и звезды, какие в древности жили герои, почему звери не умеют разговаривать и многое другое, будет бабушка. Бабушкина любовь – это инстинкт, помноженный на опыт, это грусть и нежность, рождающиеся от соприкосновения старости с новорожденной невинностью.
Если бы не пушкинская няня, мы вряд ли бы читали сказки Александра Сергеевича. И если бы не бабушка князя Владимира, он вряд ли бы крестился, а значит, и наша история потекла бы по совсем иному руслу. К своей обычной ласке Ольга добавляла крестное знамение. Она, глядя на внука, наверняка, шептала молитву, и это был первый посев, который со временем принес богатый урожай.
Церковная поэзия называет Ольгу «утренней звездой», появление которой на небосводе Отечества предваряло восход Ясного Солнышка – князя Владимира. Владимир вымолен бабушкой, точнее, ею был вымолен тот могучий поворот руля, который был сделан ее внуком. Удобнее всего сравнивать тот исторический поворот с изменением курса большого корабля.
Святой равноапостольный князь Владимир. Рис. XIX в.
«Вот паруса надулись, ветра полны. Громада движется и рассекает волны».
Святитель Николай Сербский (Велимирович) пишет, что огромная нива, распростершаяся от Дуная до Тихого океана, начала вспахиваться и засеваться Евангельским словом начиная с Крещения Владимирова. В сравнении с огромностью этой нивы и Римская империя, и Византия кажутся малыми островками.
Обескровленная религиозными войнами, разуверившаяся сама в себе и в Истине, Которую так долго и горячо исповедовала, Европа спасла себя в Америке. Белый человек с Библией в руках нашел за океаном новую родину и стал обживать ее, стремясь превратить в земной рай. Византия же спасла себя в Руси. Вернее, спасла не себя. Меч Магомета сокрушил ее могущество. Византия успела перепрятать сокровище, которым хвалилась и ради которого жила, – Православие. Она принесла его на Русь. «Для Православия Скифия значила столько же, сколько Америка для западного христианства, и даже больше», – пишет святитель Николай.
Русь приняла христианскую веру в готовом виде – как ограненный, отшлифованный алмаз в дорогой оправе византийского обряда. Достойно удивления, что это сокровище Господь вручил народу, не искушенному в земной премудрости и науках, народу без написанной истории и без самой азбуки. Другие трудились, а вы вошли в труд их (Ин. 4, 38), – эти слова Христа уместно применить и к новому христианскому народу – Руси.
Для труб евангельских на новой земле не было Иерихона. Разрушать было нечего, кроме деревянных истуканов. Ни пирамид, ни пагод, ни мраморных скульптур, ни философии, ни театра, ни высокой поэзии… ничего похожего на Рим и Грецию, на Египет и Вавилон с их пышным и соблазнительным язычеством. Все примитивно, все близко к природе. Но и сам грех необуздан, как разгулявшаяся стихия.
Когда Бог хочет воплотить Свои, направленные в вечность, планы, Он ищет на земле людей, способных Ему помочь. Его выбор не сиюминутен. Если бы люди вместо Бога делали этот выбор, они непременно бы ошиблись. Ведь люди, в отличие от Бога, не знают тайну человеческого сердца. Так и Самуил, глядя на внешность, ошибался, кого из сыновей Иессея помазывать в цари над Израилем (см.: 1 Цар. 16,6–12). В случае с Русью Господь тоже совершил выбор, невозможный с точки зрения простого человека. Он выбрал Владимира.
Любовь к земным сластям, пороки и суеверия покрывали Владимира с головы до ног. Но нутро его, как сердцевина в дереве, было здоровым. Ему предстояло преобразиться, из гусеницы стать бабочкой, и силой живого примера позвать за собой всех подвластных людей. Бог видел, что душа князя и мужественна, и не лжива. Он грешил, не зная истины, но, познав ее, был способен оставить грех.
Его, как и нас, в вопросах веры и религиозной самоидентификации окружали и звали к себе иудаизм, ислам, католичество и Православие. Свой выбор князь должен был осуществить, не имея достаточных знаний, как религиозных, так и исторических. Предстояло решать, руководствуясь природным умом, здравым смыслом государственного мужа и интуицией.
Бог особо печется о князьях и царях. Фараон при Аврааме и Навуходоносор при Данииле видят пророческие сны или же особо вразумляются Богом. Это потому, что судьбы мира и жизни миллионов людей зависят от их решений. Это в полной мере касается и Владимира, даже когда он еще был язычником и вместе со всем народом стоял на историческом перепутье.
Его аргументация отказов в принятии всех вер, кроме православной, может звучать наивно. Но это та ситуация, о которой римляне говорили: «Повод ничтожен – причина велика». Католики и мусульмане отвергнуты по причинам далеко не принципиальным. Только иудеям князь задает вопрос, являющийся одновременно веским контраргументом: «Если ваша вера самая лучшая, где ваша земля, где государство и почему Бог рассеял вас по миру?» Но, повторюсь, отвержение вер было совершено не на основании тех слов, которые были сказаны исламским, еврейским и западным миссионерам. Это было дело Промысла Божьего, в котором Владимир был лишь орудием.
Из единого на тот момент христианства (до Великой схизмы более полувека) князь избирает восточный вариант. Если службы латинян его не трогают, то византийская Литургия, напротив, заставляет Владимировых купцов забыть, где они – на небе или на земле. Светлый образ княгини Ольги появляется в сознании послов как нельзя кстати. Они, растроганные богослужением, говорят, что мудрейшая Ольга не избрала бы Православие, не будь оно самой лучшей верой. Проповедь греческого миссионера и икона Страшного Суда, образы которой он растолковал князю, довершают дело. Владимир решает креститься. С тех пор и мы, его поздние внуки, чтим иконы, не мыслим веру без благолепного богослужения и, конечно, любим бабушек, воспитавших нас.
В Крещении Владимиром Руси есть еще элемент, рождающий вопросы. Князь крестил народ волевым усилием, без предварительного оглашения. «Кто не придет на Днепр креститься, тот мне не друг», – сказал Владимир, и после этих слов трудно было найти человека, добровольно желающего стать врагом князю. У Лескова в повести «На краю света» один из главных героев говорит, что «Владимир поспешил, а греки слукавили». То есть что греки наспех окрестили народ, не уразумевший начала веры. В этих словах есть правда, и отворачиваться от нее не стоит. В память о тех временах осталось в нашем языке слово «куролесить». Оно означает «делать нечто непонятное», а родилось из греческого «Кирие елейсон», то есть – «Господи, помилуй». Службы долгое время совершались пришлым греческим духовенством на незнакомом для славян языке, и новокрещеный люд ходил в храмы, где греки «куролесили».
Но правда и то, что Русь полюбила новую веру. Прилепленное снаружи отлипнет через короткий срок, а вошедшее внутрь останется и углубится. Так углубился в русском народе посев Владимира, и в скором времени из недр новокрещеного народа рождаются богатыри духа – истинные монахи и подвижники. Та чудесная жизнь Палестины и Египта, глядя на которую в V, VI веках удивлялось Небо, повторилась на Киевских горах в веке XI. Затворники и молчальники, бессребреники и молитвенники, которых боялись бесы и слушались мертвые, не могли бы появиться, если бы не всецелая преданность русичей Христу и Евангелию. Достаточно на один день посетить Киево-Печерскую Лавру и бегло ознакомиться с ее историей, чтобы понять – Владимир не поспешил и не ошибся в выборе.
Да, правильный порядок действий предполагает научение и лишь после того – крещение. Русь же крестили, как крестят младенцев, – без сознательной и взрослой веры. Когда мы крестим малышей, мы реально и действенно соединяем их с Иисусом Христом. Дети этого не понимают, хотя Таинство совершается в полной мере. Далее следует учить ребенка и делать все, чтобы подаренная вера была усвоена и полюблена. Если взрослые не сделают этого, реальность рискует смешаться в такую кашу, о которой трудно будет вынести однозначное суждение. Если же крестить ребенка, а затем учить его вере и воцерковлять, то все становится на свои места и вопросы снимаются.
Итак, Русь была крещена, как ребенок, и требовала дальнейшего научения и возрастания в вере. При Ярославе появились школы и библиотеки, пришли грамотные люди из Болгарии со славянскими книгами, появилось духовенство из числа коренных жителей. Дело Владимира нашло органическое и основательное продолжение. Но вскоре пришли монголы, и высокий полет закончился. Книжная мудрость и живая проповедь из разряда естественной необходимости надолго переходят в разряд редкого исключения. Русь занимает место среди христианских народов, но место это особое. Русь, как бы в ожидании своего часа и своей миссии, затаивается на долгое время, оставляя другим историческую сутолоку и решения больших вопросов.
Сегодня нам, вооруженным знаниями и чувствующим ответственность перед Богом и будущим, следует потрудиться на уже засеянной ниве, войти в труд тех, кто жил и трудился до нас. По количеству крещений и обращений, по количеству восстановленных и заново построенных храмов и обителей наше время справедливо названо Святейшим Патриархом Алексием временем «второго Крещения Руси». Только нам, правнукам святого Владимира, следует сегодня поступать иначе. Нам мало строить храмы. Нужно и учить людей вере. В эпоху всеобщей грамотности безграмотность в вопросах веры приобретает особо страшные свойства. Владимир делал то, что Бог ему приказал; то, что почувствовало его сердце. Он не ошибся, но он ждет, что потомки продолжат его труд, так как музыкант хочет, чтобы его ноты были прочитаны, разучены и талантливо исполнены.
МИРЛИКИЙСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ
Так сложилось (не по случаю, а по Промыслу), что о самых любимых святых мы меньше всего знаем. Речь идет о Божьей Матери и о Святом Николае. Смирение не ищет показаться и прославиться. Смирению хорошо в тени, поэтому и «Благословенная между женами», и самый любимый на Руси Святой прожили так, что известных фактов их земной жизни очень немного. Тем ценнее та слава, которую они приобрели после ухода из этого мира. Трудно найти христианский город на карте мира, где Матерь Божия не проявила бы Свою Чудотворную любовь, исцеляя, защищая, вразумляя нуждающихся в помощи людей. Это касается и Мирликийского архиепископа.
Его помощь быстра и удивительна. Он и строг, и милостив одновременно. Из угла, где горит лампадка, он внимательно смотрит на простолюдина и на толстосума. В каждом храме есть его образ, и даже если мы больше никого из святых не знаем, то, увидев Николая, сразу чувствуем себя в храме, как дома. Одно чудо из тысяч мне хочется вспомнить и пересказать.
Этот случай описан у С. Нилуса в одной из его книг. Речь там шла о воре, который имел суеверную любовь к Угоднику и всякий раз, идя на воровство, ставил Святому свечку. Не смейтесь над этим вором, братья. Это только со стороны кажется, что глупость очевидна.
При взгляде изнутри зоркость теряется, и мы сами часто творим неизвестно что, не замечая нелепости своих поступков. Так вот, вор ставил Святому свечи и просил помощи в воровстве. Долго все сходило ему с рук, и эту удачу он приписывал помощи Николая. Как вдруг однажды этот по-особенному «набожный» вор был замечен людьми во время воровства. У простых людей разговоры недолгие. Грешника, пойманного на грехе, бьют, а то и убивают. Мужики погнались за несчастным. Смерть приблизилась к нему и стала дышать в затылок. Убегая от преследователей, он увидел за селом павшую лошадь. Труп давно лежал на земле, из лопнувшего брюха тек гной, черви ползали по телу животного, и воздух вокруг был отравлен запахом гнили. Но смертный страх страшнее любой брезгливости. Вор забрался в гниющее чрево и там, среди смрадных внутренностей, затаился. Преследователям даже в голову не могло прийти, что убегавший способен спрятаться в трупе. Походив вокруг и поругавшись всласть, они ушли домой. А наш «джентльмен удачи», погибая от смрада, разрывался между страхом возмездия и желанием вдохнуть свежего воздуха.
И вот ему, едва живому от страха и вони, является Николай. «Как тебе здесь?» – спрашивает Святитель. «Батюшка Николай, я едва жив от смрада!» – отвечает несчастный. На что Святой ему отвечает: «Вот так мне смердят твои свечи».
Комментарии кажутся излишними. Мораль – на поверхности. Молитва грешника смердит, а не благоухает. Нужно не только молиться, но и жизнь исправлять по мере сил. Так? Так. Но это выводы верхнего слоя. Есть здесь и более глубокий урок. И как говорил кто-то из литературных героев: «Так-то оно так, да не так».
Николай все же спас грешника! Молитва хоть и смердела, но до Святого доходила, и в нужное время Николай о грешнике вспомнил. Пусть моя свеча ныне смердит, пусть она еще долго будет смердеть (ведь не скоро запах выветривается), но я все равно ее буду ставить.
Молиться чисто и горячо, как свеча горит, в один год не выучишься. Молиться так, чтобы Боту это приятно было так, как нам ароматом кадила дышать, – это труд всей жизни. И радуюсь я, что Господь накажет, и Он же потом пожалеет. А святые в этом Богу подобны.
* * *
Или вот еще случай. Дело было в Киеве при немецкой оккупации. В одной семье умирает мать. Остаются трое детей мал мала меньше, а отец – на фронте. Дети кладут маму на стол. Что дальше делать – не знают. Родни никого, помочь некому. Знали дети, что по покойникам читать псалмы надо. Псалтири под руками нет, так они взяли акафист Николаю, стали рядышком у мамы в ногах и читают. «Радуйся, добродетелей великих вместилище. Радуйся, достойный Ангелов собеседниче. Радуйся, добрый человеков наставниче». Конечно, какая тут радость. Один страх и горе. Но читают они дальше и доходят до слов: «Радуйся, неповинных от уз разрешение; Радуйся, и мертвецев оживление»… И на этих словах – Свят! Свят! Свят! – мама открыла глаза и села. Пожалел Угодник. Приклонился на детские слезы.
* * *
Образ Николая созвучен и понятен нашей душе. Святой по себе книг не оставил. И народ наш больше верит делу сделанному, чем слову сказанному. Николай нищих любит, а у нас почти вся история – сплошная история нищеты, простоты и убожества. Когда итальянцы тело Святого украли и к себе увезли, появился праздник «летнего» Николая. Греки его до сих пор не признают, а предки наши этот праздник по-особому осмыслили.
* * *
Деды дедам сказывали, что сошли как-то с небес Николай да Касьян по земле походить, помочь, может, кому. Глядь, а в глубокой луже мужик с телегой завяз. «Пойдем, – говорит Николай Касьяну, – подсобим мужичку». А Касьян говорит: «Неохота ризы райские пачкать». Ну, Никола, делать нечего, сам в грязь полез и телегу вытолкал. Умилился Господь на такое человеколюбие и дал Николе два праздника в году – летом и зимой. А Касьяну – раз в четыре года – 29 февраля. Вот так.
* * *
В общем, с Писанием мы до сих пор плохо знакомы, невежества и грубости у нас тоже хватает. Даже поделиться можем. Но если увидит наш человек икону Николы Угодника, сразу три пальца щепоткой сложит и перекрестится. Скажет: «Радуйся, Николае, великий Чудотворче», – а Николай с Небес ответит: «И ты не горюй, раб Божий. Прославляй Господа Вседержителя и словом и делом».
* * *
Много святых на земле было, много еще будет. Но мы так к Чудотворцу привязаны, будто живем не в нашей полуночной стране, а в Малой Азии, и не в эпоху Интернета, а в IV веке, в эпоху Первого Вселенского Собора.
И это даже до слез замечательно.
СВЯТИТЕЛЬ СПИРИДОН
То, что святитель Спиридон не похож на остальных святителей, становится понятно даже после первого взгляда на его икону. Древние святители чаще всего изображаются с непокрытой головой. Таков Златоуст, таков Василий Великий и многие другие.
Святители поздних эпох кроме привычного архиерейского облачения имеют на голове митры. Митрами украшены Феодосий Черниговский, Тихон Задонский, Иоасаф Белгородский. Перечислять можно долго. А вот Спиридон, современник Николая Чудотворца, не простоволос, но и не в митре. У него на голове – пастушья шапочка из листьев финиковой пальмы. Долгие годы этот удивительный муж был пастухом, а когда воля Божия привела его на епископскую кафедру, чтобы пасти словесных овец Христовых, то образ жизни Спиридон не поменял. Крестьянская еда, воздержанность в быту, доходящая до бедности, пастушеская шапка – все это так не похоже на признаки святительского сана. Зато внутреннее богатство благодати, которое носил в себе Спиридон, заставляло современников вспоминать имена пророков Илии и Елисея.
* * *
IV век, век жизни святителя, был тем временем, когда успокоившаяся от внешних гонений Церковь стала терзаться внутренними болезнями. Ложные учения, ереси стали тревожить умы верующих людей. Эпоха требовала богословского подвига и защиты апостольской веры на отточенном языке философских понятий. Спиридон менее всего подходил для этого. Он был молитвенником, подвижником, праведником, но никак не книжником и не оратором. Однако святой пошел на Никейский Собор, созванный императором Константином по поводу учения александрийского пресвитера Ария.
* * *
Ересь Ария поколебала Вселенную. Этот священник дерзнул учить, что Христос не Бог, что Он не равен Отцу и было время, когда Сына Божия не было. Те, кто носил Христа в сердце, содрогнулись, услышав такие слова. Но те, кто еще не победил свою греховность и кто слишком доверяет своему разуму и логике, подхватили ариево кощунство. Таковых было много. Украшенные внешним знанием, кичливые и говорливые, эти философы страстно доказывали свои мнения. И Спиридон решил вступиться за Истину. Отцы Собора знали, что этот епископ в пастушеской шапке свят, но не искусен в слове. Они удерживали его, опасаясь поражения в диспутах. Но Спиридон совершил нечто неожиданное. Он взял в руки кирпич и, сотворив молитву, сжал его в руках. Слава Тебе, Христе Боже! В руках святого старца вспыхнул огонь, потекла вода и осталась глина. Кирпич, силою Божией, разложился на свои составные части.
«Смотри, философ, – с дерзновением сказал Спиридон защитнику арианства, – плинфа (кирпич) одна, но в ней – три: глина, огонь и вода. Так и Бог наш един, но три Лица в Нем: Отец, Слово и Дух». Против таких доводов должна была умолкнуть земная мудрость.
* * *
Это не единственное чудо Святителя, и мы не случайно упомянули ранее имена Илии и Елисея. Великие пророки Израиля всем сердцем служили Богу, и Бог совершал через них удивительные чудеса. Мертвые воскресали, прокаженные очищались, Иордан разделялся надвое, небо заключалось на годы и отказывалось проливать дождь. Казалось, что Свою власть над сотворенным миром Господь временами отдавал этим избранникам Божиим. Третья и Четвертая книги Царств подробно рассказывают о них.
Спиридон был подобен им. Киприоты-земледельцы были счастливы, имея такого архиерея, поскольку небо слушалось Святого. В случае засухи молитвы Спиридона приклоняли Бога на милость, и долгожданный дождь поил землю.
Подобно Елисею, который проверил наличие на себе духа Илии, разделив воды Иордана (см.: 4 Цар. 2, 14), и Святитель повелевал водной стихией. Он шел однажды в город, чтобы вступиться за несправедливо обвиненного знакомого, когда разлившийся ручей угрожал преградить ему дорогу. Святой запретил воде именем Божиим и продолжил путь.
Неоднократно смерть отдавала свою добычу, и по молитвам Святого воскресали мертвые.
Нужно заметить, что житие святителя Спиридона известно нам не полностью, но лишь в небольших фрагментах. Но даже то малое, что известно, поражает могуществом силы и славы Божией, действовавшей через этого человека.
* * *
Знакомство со святыми и со всем тем сверхъестественным, что было в их жизни, является пробным камнем для человеческого сердца. Очевидно, мы не можем повторить жизнь великих угодников. Но радость о том, что такие люди есть, и вера в то, что описанные чудеса действительны, говорят о том, что мы с ними одного духа. Пусть они, эти святые люди, полны как море, а мы – как наперсток, но и в нас и в них одна и та же живая вода. Если же человек скептичен к слышанному, то вряд ли в его сердце живет вера в Того, для Кого нет ничего невозможного.
Илия и Елисей – великие святые, но не их именем назывались израильтяне. Отец народа и одновременно отец всех верующих – Авраам. Это его непостижимая преданность Богу стала основой всей последующей Священной истории. Одной из главных черт, характеризующих Авраама, было милосердие и странноприимство. Когда мы говорим о Спиридоне, мы всегда вспоминаем праотца, поскольку любовью к нищим и странникам Святитель вполне ему уподобился.
Но любовь к людям выше чудес. Тот, кто может открывать нуждающимся вместе с сердцем и кошелек, и двери дома, тот – настоящий чудотворец. Больших чудес не надо. А если они и будут, то только при наличии главного чуда – человеколюбия.
Дом Спиридона Тримифунтского не закрывался для странников. Из его кладовой любой бедняк мог взять в долг любое количество пищи. Возвращал долг бедняк, когда мог. Никто не стоял рядом и не контролировал количество взятого и возвращенного.
Вместе с тем жестокие и корыстолюбивые люди встречались в лице Спиридона как бы с Самим Богом, страшным в Своей справедливости. Житие описывает несколько случаев, когда Святой посрамлял и наказывал купцов, не стыдившихся наживаться на чужой беде.
Бывает, что человеку нужен не столько Небесный Отец, сколько Небесный «Дедушка», снисходительный к ошибкам и позволяющий порезвиться. Так, современника Спиридона, Николая Чудотворца, с течением веков переодели в Деда Мороза и приспособили к разносу подарков. А ведь Николай не только тайком подарки раздавал. Временами он мог употребить к дерзким грешникам и власть, и силу. Так было при земной жизни. Так продолжается и сейчас, когда души праведных созерцают Христову славу.
Спиридон добр, как Николай, и как Николай – строг. Одно не бывает без другого. Умеющий любить правду умеет и ненавидеть ложь. Человек, неправедно гонимый, человек, чувствующий слабость и беззащитность, в лице Спиридона может найти сильного защитника и скорого помощника. Только пусть сам человек, просящий о помощи, не будет несправедлив к ближним, поскольку у святых Божиих нет лицеприятия.
* * *
Среди тех радостей, которые дарит человеку христианская вера, есть радость обретения чувства семьи. Верующий никогда не бывает одинок. Вокруг него всегда – облако свидетелей (Евр. 12, 1). Жившие в разные эпохи и в разных местах, люди, достигшие Небесного Иерусалима, составляют ныне церковь первенцев, написанных на небесах (Евр. 12, 23). С любовью наблюдают они за нами, всегда готовые в ответ на просьбу прийти на помощь.
Один из них – святитель Спиридон, радость киприотов, керкирская похвала, Вселенской Церкви драгоценное украшение.
ИОАСАФ БЕЛГОРОДСКИЙ
Я люблю наш язык, люблю ту плавную текучесть, когда согласные и гласные, мерно чередуясь, убаюкивают слух. Мо-ло-ко, го-ло-ва, до-ро-га… Можно лечь на эти «о-о-о» и «а-а-а», лечь, словно уставший пловец – на спину, и отдыхать. Чужой вторгается в жизнь не только вихрем непонятной энергии или непривычным разрезом хищных глаз. Чужак нарушает твой покой и распространяет вокруг себя тревогу непривычными звуками. Гортанные и отрывистые, как крики погонщика, или хлесткие, резкие, как щелчок бича, чужие звуки заставляют вобрать голову в плечи и сжать кулаки. В этой чужой звуковой стихии нельзя отдохнуть, и нужно внюхиваться в воздух, ожидая опасности.
Я почувствовал это впервые очень давно, классе в пятом, на уроке рисования. Наша учительница (умница!) выводила уроки за рамки программы, и мы не только перерисовывали стоящую у нее на столе вазу, но и слушали рассказы о жизни художников, о разных странах и их культурах. Это она привела нам примеры языков, в которых многие согласные идут подряд, и написала на доске всем известную фамилию: Мкртчян. Я хорошо знал, благодаря телевизору, милое и незлое лицо человека, носившего эту фамилию. Но лицо лицом, а звуки – звуками. Какой-то чужой ветер, то ли знойный из степи, то ли прохладный – с гор, шевельнул тогда мою детскую шевелюру при звуках «м-к-р-т-ч».
Но есть и другая филологическая крайность, есть другие слова, в которых многие гласные нанизываются друг на друга и, хотя создают трудности при произнесении, никого не пугают. И-о-анн, И-о-а-саф, И-о-в. Эти слова пришли к нам из еврейского, то есть из языка, где гласные звуки на письме не изображаются. Такой вот парадокс – обилие гласных в словах из языка, в котором гласные не пишутся.
* * *
Я могу теперь перевести дух. Нужное мне имя названо. Теперь можно его повторить: Иоа-саф – и затем повести речь о человеке, чья личность скрывается за этим именем. Так издали, и как-то боком, и вприпрыжку я подбирался к теме. А вы думали, как можно говорить о святых сегодня? Вот так просто: «Святой такой-то родился там-то, совершил то-то, память тогда-то»? Нет, господа. Этот номер не пройдет. Вернее, пройдет, но плодов не даст. Извольте подобраться к священной теме в обход, через карту звездного неба, через вопросы теоретической физики или через анализ архитектурных особенностей ансамбля Новгородского кремля. Иначе толстая кость и не менее толстая кожа обывательского лба не пропустят внутрь своего черепа вами поданную информацию. А уже через час новый поток информации смоет всякую память о том, что вы сказали, и, значит, святое зерно, посеянное при дороге, склюют птицы.
* * *
Иоасаф. Святой епископ Белгородский. На этом свете пожил немногим больше сорока девяти лет. При жизни был известен как человек одновременно строгий и милостивый. К безбожникам, к нерадивым попам – строг, к убогим, старым, кающимся – милостив. К себе самому строг и даже жесток до беспощадности. По смерти славен как чудотворец. Мощи нетленны и благодатны. Родился в день Рождества Богородицы и назван в честь отца Ее Иоакимом. Отсюда и продолжим чуть подробнее.
* * *
Как видим, имя его и до монашества было богато все теми же гласными: и-о-а. Еврейское имя, в скрытом виде содержащее неизреченное имя Божие, примет он потом и в постриге. Родившись в день Рождества Пречистой, нося в младенчестве имя Ее отца, будущий Святитель чудесным образом с раннего детства полюбил молитву и полюбил Царицу молитвы – Пресвятую Богородицу. Восемь лет было Иоакиму, когда отец его видел в видении Божию Матерь, говорящую с отроком и произнесшую: «Довлеет Мне молитва твоя». Это, между всем прочим, говорит о том, что святости нельзя научить, что есть в ней тайна, раз уже в восемь лет ребенок мог радовать своими молитвами Богородицу.
Поскольку мы не пишем подробный биографический очерк, промчимся, словно Гоголь в тройке, мимо юношеских лет, пострига, монашеского искуса первых лет, скорбей, смены обителей. Остановимся на том периоде, который дал владыке вторую часть имени – Белгородский. Последние шесть с небольшим лет Иоасаф был епископом этого города. Он встретил скудость, грубость, разруху и невежество. Говорят, местный юродивый Яков встретил владыку на подъезде к городу и «доложил ситуацию»: «Церкви бедные, паны вредные, а губернатор – казюля». Если предреволюционное время рисуется в нашем воображении красками свежими и яркими, то одно из двух: либо мы не знаем сути дела, либо Белгород к Святой Руси не принадлежал.
Любое житие великого отечественного Святителя вскрывает перед нами одинаковые язвы: духовенство бесправно и малограмотно, дворянство атеистично либо вольнодумно, народ беден и темен. С этим боролся Димитрий Ростовский. Против этого же восставал Тихон Задонский. Не иные проблемы пришлось решать и Иоасафу.
Духовенство нужно было перевоспитывать, употребляя власть, народ нужно было учить, подавая пример. Хуже всего было с помещиками и дворянами. Те могли пороть попов наравне с крепостными, могли и епископу съездить по уху кулаком, как это было со святым Тихоном. В Иоасафовой же пастве был такой барин, который недействующую церковь в своем имении разобрал на кирпич и сделал ограду для дома. До большевистских злодейств было еще полтора столетия, но дорога к ним уже была вымощена. В общем, сколько бед перетерпели чистые и пламенные души в ежедневной борьбе с вездесущей грязью, нам понять трудно. Если же захотим понять, то есть для этого специальная и подробная биографическая литература.
Хотя дело не в подробной информации. Святителю предстоит во все времена одна и та же задача. Во-первых, победить свои немощи, сораспяться Христу, умереть для мира. Затем, освятившись, он должен других освящать; ставши светом, других просвещать. Если первая часть задачи не решена, то вторая, в силу неумолимости духовных законов, решена быть не может. Если же человек совершает свой внутренний труд терпеливо и мужественно, если он по мере приближения к Богу начинает и других вслед за собой вести, то мир восстанет на такого человека всегда. Восстанет с клеветой, восстанет с кулаками, восстанет при феодализме, восстанет при демократии.
* * *
Святой Димитрий Ростовский, кстати, похож на Златоуста. Не только яркостью проповеди, но и широтою знаний, и пафосом, с которым он обличал «дела тьмы». Святой Тихон похож на Григория Богослова. И тот и другой – любители пустыни, молчания, одиночества. И тот и другой – любители слез, добровольной бедности, непрестанной молитвы. Это – образ страдальцев, которые плачут о Небесном Отечестве и не успокоятся, пока туда не переселятся.
А Иоасаф похож на Николая Чудотворца. Он не пишет так много, как Тихон. Он не говорит так много, как Димитрий. Но он входит в бедные хижины стопами Мирликийского святителя, он тайком раздает деньги и вещи, покупает дрова, сам рубит их, если в доме только старухи и дети. Тихон Задонский, чтобы вести жизнь тихую и молитвенную, оставил кафедру. Иоасаф, чтоб делать то же, на кафедре остался, но вел жизнь двойную. Днем – это облеченный высокой властью строгий и мудрый человек. Ночью – это странник, обходящий с пригоршнями милостыни бедные жилища или подвижник, не позволяющий глазам закрыться, проводящий всю ночь на молитве.
Тот, кто живет правильно, редко живет долго. Ресурс, который при любви к себе можно растянуть на десятилетия, святой тратит за годы, поскольку любит Бога и ближних. Особенно тяжко ему, если живет он не в пустыне, а среди многолюдства, вникая в ежедневные чужие беды, сострадая, ужасаясь, жертвуя собой. Иоасаф, как было сказано ранее, до полстолетия не дожил. 50 лет – это некий рубеж. Иисусу Христу, Предвечному Божьему Слову, Который во дни плоти Своей в глазах людей был молод, иудеи говорили: Тебе нет еще пятидесяти лет, – и Ты видел Авраама? (Ин. 8, 57). И Иоасафу не было пятидесяти лет, но в детстве он видел Богородицу, при жизни непрестанно очищал сердце, чтобы иметь возможность узреть Бога (см.: Мф. 5, 8), а теперь лицом к Лицу видит Господа, Воскресшего из мертвых.
* * *
Иоасаф, урожденный Горленко, сын бунчукового товарища Андрея Дмитриевича. Лет на земле прожил от рождения сорок девять. Свят несомненно. Почитаем всецерковно.
И в крещении, и в монашестве носил имена, нашему уху непривычные, И-о-а-ким и И-о-а-саф соответственно. Его же молитвами да помилует нас Христос в оный День Суда справедливого и страшного.
Аминь.
ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ
В непролазные дебри, в невозможную глушь пришел когда-то молодой человек в поисках Бога. Крест поставил, нехитрое жилье соорудил и стал молиться. Это было в далеком XIV веке. Крестившая нас Византия давно ждала конца света. Вспышки святости, древней, чудотворной, «как в житиях», стали редки. От наших же, недавно крещенных холодных краев, святости вовсе не ждали. А она засияла. Авво Сергие, моли Бога о нас.
Через мелочи многое познается. Если крошки собрать в ладонь, можно птенца с руки покормить. Если умело подобрать разноцветные камушки, можно сделать мозаику. Достаточно в мире икон Преподобного Сергия: мозаичных, шитых, писанных и словами, и красками. Не будем дерзать написать еще одну. Только вспомним те крупицы, что от других слышали. Возьмем в руки бриллиант, поднимем к свету. Пусть упадут на него и тысячу раз отразятся солнечные лучи. Пусть наши глаза порадуются.
Все младенцы мира живут в утробе жизнью матери. Что мать съест, тем и дитя питается. Затревожится мать, заволнуется и ребенок. Помолится мать, и ребенка благодать коснется. Еще ни одного слова ребенку не сказано, а воспитание уже началось. Уже обозначаются привычки будущие и формируется характер. Предки наши могли не знать многих умных слов, но лучше академиков понимали простые и необходимые вещи.
Мама будущего Сергия была набожна. В среду и пятницу строго постилась. И хотя от домашних обязанностей никто беременную женщину не освобождал, службу в храме старалась не пропускать. Ее настрой передался и сыну.
Однажды на Литургии из чрева беременной женщины раздался крик. В это время как раз стали читать Евангелие. Отродясь не было слышно, чтобы неродившийся младенец из утробы кричал. Да еще перед Евангелием. Как будто вместо дьякона говорил: «Вонмем»!
Мать перепугалась. Люди оглянулись, ища глазами озорника. Никого не увидели, и служба продолжилась.
Второй раз крик раздался на «Херувимской». Еще сильнее испугалась мать, и еще удивленнее и дольше оглядывались прихожане. Наконец, в алтаре иерей взял в руки Святой Хлеб и громко произнес: «Святая святым»! В третий раз раздался детский крик, как бы отвечая священнику, разумно участвуя в службе.
Вскоре родился мальчик. Назвали его Варфоломей. Священник объяснил прихожанам, что маленький Предтеча еще во чреве Елисаветы почувствовал близость Христа и взыграл… радостно (Лк. 1, 44) и что бывает в особых детях такая чувствительность к вещам Божественным. Прихожане слушали и про себя думали: что будет младенец сей? (Лк. 1, 66).
Дерзновение перед Богом, чудотворство часто объясняют как плод аскетизма: труда, самоумерщвления, непрестанных молитв. Это верно, но не до конца. Сергий, к примеру, не только смиренный труженик, добровольный бедняк и молитвенник. Сергий в высшей степени литургичен. Та самая Божественная литургия, на которую он так живо реагировал еще в материнском лоне, на протяжении всей жизни была для него пульсирующим церковным сердцем и источником благодати.
* * *
Обитель была бедна. Можно сказать, ужасающе бедна, потому что ни один нищий не покусился бы надеть на себя Сергиеву одежду, выбрось он ее за ворота обители. Монахи трудились своими руками и часто не имели самого необходимого. Потому и братия была немногочисленна. Игумен работал наравне со всеми. Однажды он собственными руками пристроил за день сени к келье одного из монахов. Платой за труд целого дня для игумена стала корзинка с плесневелыми корками хлеба.
Особым трудом, который Сергий делал сам и никому его не перепоручал, было печение просфор для Святой Литургии. Еще только вымешивая тесто, раскатывая его, растапливая печку, Преподобный уже начинал совершать Литургию. Это уже было начало проскомидии.
Бедность невольная – это мука и нелегкое испытание. Зато добровольная бедность – это свобода и легкость, это великое и мало кому известное сокровище. Быть может, одно обстоятельство, связанное с бедностью монастыря, печалило Сергия. Это – скудость ризницы. Чаш не было не только золотых или серебряных. Не было даже оловянной чаши, и использовать приходилось деревянную. Вместо восковой свечи в храме часто коптила лучина. Ризы были из самого простого полотна, чуть не из мешковины, без шитья, без красивых узоров. Но зато среди простоты и смирения рвалась к Богу жаркая, как огонь, молитва.
Однажды монахи видели, как на престол в храме, где служил игумен, сошли с Небес языки пламени. Пламя, как живое, двигалось по престолу, ничего не опаляя, и затем, собравшись в клубок, вошло в Потир. Этим Фаворским пламенем Преподобный и причастился.
Жизнь Сергия внутри Литургии, его переживание этой Службы служб и служение ее, быть может, составляют один из главных уроков его жизни. Один из главных потому, что строгому посту Аввы, его многолетней борьбе с демонами в лесной глуши, его терпению и многим другим подвигам мы подражать не сможем. А вот посещать Божественную службу в воскресные и праздничные дни, быть на ней внимательными, откликаться сердцем на чтение Евангелия и на другие священные моменты и можем, и должны.
Не в пустые места, а в Божьи храмы зовет нас сегодня за собой Преподобный. Да и сами дебри, где он жил, те, что были при нем непроходимыми, давно превратились в город, полный церквей, монашествующих и богомольцев.
СЕРАФИМ
Жарко. Очень. Еще мухи эти… Он мотнул головой, и несколько мух отлетели в стороны, но тут же сели опять, кто – на влажный нос, кто – на голову возле глаз.
– Был бы рядом ручей или речка… Стой! Что это пахнет так?
Он встал на задние лапы и с силой втянул в себя воздух. Мед так не пахнет и малина тоже. Это что-то вкуснее и необычнее. Медведь опустился на четыре лапы и пошел на запах, ломая ветки и раздвигая кусты.
На поляне был человек. Маленький и совсем не страшный. Таких людей можно не бояться. Ни топора, ни ружья в руках у него не было. Руки были немного подняты, и он с кем-то разговаривал, стоя на коленях. С кем – непонятно. На поляне больше никого не было.
– Иисусе, монахов радосте. Иисусе, пресвитеров сладосте. Иисусе, девственных целомудрие. Иисусе, грешников спасение.
Медведь, конечно, не понимал человеческой речи, но когда человек повторял одно и то же слово: Иисусе, – запах, гуще меда и слаще малины, волнами подплывал к его ноздрям. И не он один это чувствовал. Несколько птиц замерли на ветках и, любопытно склонивши набок голову, наблюдали за человеком. Казалось, что листья на деревьях перестали шуметь и муравьи в траве перестали суетиться. Человек молился, и природа затаив дыхание слушала его разговор с Создателем.
Сама природа молиться не может. У нее есть законы и инстинкты, но нет свободы. Есть чувства, но нет слова и разума. Природа ждет, когда начнут молиться люди, чтобы затем сладко замереть и прислушиваться.
Медведю вдруг так понравился этот маленький и нестрашный человек. Так вдруг захотелось подойти к нему и потереться мордой о его ноги. Захотелось поиграться, как тогда, в детстве, когда он с братьями возился и кувыркался весь день, а мать шлепала их лапой по загривку, но без злобы, а тоже – играючи.
Он заурчал и двинулся к человеку. Тот опустил руки и обернулся. Когда он посмотрел медведю в глаза, зверь опустил голову и пригнулся. Точь-в-точь как те львы, что ластились к Даниилу во рву, словно кошки.
Человек улыбнулся, встал с колен и медленно пошел в махонький домик, в котором, наверное, жил.
– Ну вот. Ушел.
Глаза у медведя стали грустными, но уже через минуту они засияли радостью. Человек вышел из домика и шел к нему. В руках у него было что-то похожее размером на камень, а цветом на кусок земли.
– На-ка, пожуй, косолапый.
Медведь взял губами осторожно с человеческой руки еду и проглотил ее в мгновенье. Вкусно. Но, может, это не сама еда такая вкусная. Может, она пропахла этим словом, которое человек повторял так часто. У него и руки пахли этим словом, и весь он был какой-то особый, сладкий, что ли.
– Ну иди, иди теперь.
Человек потрепал его за ухом и повернулся уходить.
«Моя бы воля, никуда бы отсюда не ушел», – подумал, вернее, почувствовал медведь. Но не послушаться маленького, вкусно пахнущего человека было невозможно. Он повернулся и, как ребенок, которого попросили выйти из комнаты взрослые, нехотя углубился в лес.
Он, конечно, еще придет сюда. И не раз. Разве можно не идти на такой запах? Разве можно не смотреть, пусть даже из чащи, не выходя на поляну, на такого человека? Как вы думаете, люди?
Медведь еще обязательно придет.
А вы?
ИОВ ПОЧАЕВСКИЙ
На самом нижнем уровне – на уровне чувств – смерть связана с запахом. Тяжелый и сладковато-удушливый – это, кажется, он заставляет всех находящихся в доме, где лежит покойник, разговаривать шепотом. И еще холод. Человеческая плоть, всегда встречающая тебя теплом при поцелуе или рукопожатии, по смерти обжигает безжизненной холодностью мрамора. Теплота и благоухание далеки от обычной смерти, как далек январь от августа. Теплота и благоухание это – имена молитвы. Молитва греет душу и благоухает, как кадильный дым. Если чье-то тело и после смерти остается теплым и благовонным, это значит, что душа, жившая в этом теле, продолжает молиться Богу, что и во дни земной жизни она так горячо стремилась ко Христу и так тесно с Ним соединилась, что даже плоть; ее тяжелая и грубая оболочка, пропиталась святостью и не хочет гнить после разлучения с душой.
Я говорю об Иове Почаевском.
О нем трудно сказать «он умер», легче – «его душа покинула тело три с половиной столетия назад – в 1651 году». А прожил он на земле 100 лет, 90 из которых был монахом! Такого игумена на Почаевской горе не было ни до, ни после Иова. Впрочем, что я говорю! Он и сейчас остается игуменом своего монастыря, и у него до сих пор можно брать благословение.
Через восемь лет после своего преставления Иов явился Киевскому митрополиту Дионисию и сказал, что Бог желает «прославить его кости».
Митрополит не обратил внимание на сказанное ни после первого, ни после второго видения. И только после третьего раза, когда Преподобный употребил угрозу, пришлось митрополиту собираться в путь и ехать в Почаевский монастырь.
Исцеления и чудеса начались сразу, как только могила праведника была разрыта и гроб извлечен из земли. И еще раздалось благоухание. Сильное и тонкое, чудное, нерукотворное.
Святое тело положили рядом с пещерой, в которой Иов проводил многие дни, упражняясь в непрестанной молитве. Осенний день памяти Преподобного совпадает с днем памяти Печерских отцов Дальних пещер. Подражая этим родоначальникам русского монашества, Почаевский игумен любил пещерное одиночество и умное предстояние перед Богом. Одно из песнопений службы Иову говорит: «Открой уста твои, пещера каменная, и скажи нам, как часто потоки слез Иова омочили тебя? Как его воздыхания стен твоих не расторгли? Как свет Божественный тебя не сожег? Как ангелы подвигам Иова удивлялись?»
Свет Божественный действительно озарял тесную пещеру. Это видел однажды один из учеников Иова. Это был тот же огонь, одетым в который стоял при служении Литургии Сергий Радонежский. Это был тот же свет, которым сияло лицо Серафима при беседе с Мотовиловым. Это был свет Фаворский, свет благодати, подаренной обновленному человечеству.
Интересно, что фамилия Иова была Зализо, т. е. «Железо». Своей твердостью, и постоянством в добре Преподобный оправдал свою фамилию. Думаю даже, если бы и вправду было у Иова железо вместо плоти и костей, то оно истерлось бы и искрошилось раньше 100-летнего возраста. Человек слаб, но его гибкая слабость может быть долговечнее твердости мертвого вещества.
От долгого стояния на молитве, от беспрестанных и многолетних трудов у Преподобного болели ноги. Вначале отекали, затем покрывались ранами. Со временем раны начинали гноиться и кровоточить. И вот теперь это тело, которое когда-то отставало от костей, которое прежде смерти было умерщвлено трудами, лежит рядом с местом своих подвигов и благоухает.
Его нетленную руку можно поцеловать. Она тепла, и если тебе будет страшно, то вовсе не от того, что ты прикасаешься к мертвому, а от того, что ты грешен, а Иов свят.
На иконах он держит свиток, на котором написан стих из 15-го псалма: Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление (Пс. 15,10).
Он очень силен, Иов Зализо. Это хорошо знают демоны. Когда игумен несколько раз в году покидает место своего покоя, когда он на плечах священнослужителей в праздники обносится на Крестном ходе вокруг своего монастыря, демонское полчище рыдает на многие километры вокруг. Но не только по этому факту мы можем судить о силе Иова. Он способен пробить брешь в самой неприступной крепости – в привычном бездуховном человеческом мировоззрении. На обычную жизнь с ее горестями и удовольствиями, на смысл жизни, на царствующую ныне смерть и на будущее всеобщее Воскресение человек после знакомства с Иовом начинает смотреть иначе.
Холод умирающей жизни и ее греховный смрад хоть ненадолго, но отступят. Захочется тоже ожить, потеплеть от молитвы и запахнуть святостью.
ЛЮБИМЫЙ БОЛЬНОЙ
Есть у Царя любимый больной, и я лечил его», – так отвечал отцу юный врач Пантолеон, объясняя свое долгое отсутствие дома. На самом деле юноша принял Крещение и провел несколько дней у своего духовного наставника Ермолая, занимаясь изучением догматов и молитвой. Этот юноша вскоре многочисленными исцелениями, совершенными во имя Иисуса Христа, прославит Бога. Затем Господь окажет юноше особую честь: не только в Него веровать, но и за Него страдать. Посреди переносимых страданий Сам Господь переименует своего раба, назвав его Пантелеймоном. С этим именем мы и знаем святого врача и великомученика.
«Есть у Царя любимый больной». Эти слова можно повторить, применяя их к каждому человеку. Господь совершенно нелицеприятен. Ему свойственно любить всех людей одинаково. Авраам, Павел, Давид отличаются от нас не степенью пристрастного к ним отношения со стороны Бога, но степенью своей отзывчивости на Господню любовь.
За всех вместе и за каждого в отдельности Христос умалился в Рождестве, унизился в Страдании и прославился в Воскресении.
Ранами Его мы исцелились (Ис. 53, 5), – говорит пророк Исаия. Исцелились потому, что без Христа, без этого Небесного Врача, смертельным недугом болеет человечество. Любимое создание – человек – тяжело и неисцельно страдает. «Есть у Царя любимый больной»…
Пантелеймон лечил его. А я?
Душа моя, которая дороже всех сокровищ мира, получает ли все необходимое для здоровья? Мой внутренний мир, который шире всего холодного космоса, согрет ли Евангелием? Земля моего сердца спит, заросшая бурьяном, или проснулась, взрезанная покаянным плугом?
«Любимого больного» нужно лечить. Царь беспокоится о его здоровье. У Царя больше нет забот, как только переживать об этом! Его Царство твердо и непоколебимо. Никто снаружи не угрожает ему, никто внутри больше не восстает против него.
И любящее сердце Царя страдает только оттого, что любимые им продолжают болеть.
Бог веселится, видя исправление человека, и вместе с Ним ангельский мир волнуется могучими волнами радости, «великой радости о едином грешнике кающемся».
Каждый подчиненный подстраивается под начальника. Секретарши одеваются по вкусу шефа, чиновники пишут отчеты и рапорты по форме, понятной руководству. Наш Владыка не хочет ничего внешнего. Внутреннее здоровье беспокоит Его, и надо нам заняться этим здоровьем. Исцеляться самому и способствовать выздоровлению ближних – единственный способ угодить Творцу неба и земли.
* * *
Исчезнувшего на несколько дней Пантолеона искал не только отец. Земной царь тоже искал его, поскольку юноша был придворным лекарем. На вопрос: «Где ты был?» – царь услышал такой ответ: «Мой Отец приобрел для меня имение в наследство, и я знакомился с этим приобретением». Говоря царю об отце, Святой имел в виду Бога. По слову Христа, Отец ваш благоволил дать вам Царство (Лк. 12, 32). Это будущее Царство Пантолеон изучал, знакомясь со Святым Писанием и постигая искусство молитвы. Только что омытый Крещением от грехов, напоенный благодатью, юноша опытно постигал, что «Царство Божие не есть пища и питие, но радость и мир в Духе Святом».
Знать о том, что будущий век реален, более того – реальнее нынешнего, обязан каждый христианин. Благодать учит человека не прилепляться к нынешнему миру, но стремиться к будущему.
Когда евреи приблизились к границе Земли Обетованной, этому земному прообразу Царства Небесного, Господь повелел Моисею выбрать по одному человеку из каждого колена. Эти двенадцать человек должны были высмотреть землю Ханаанскую (см.: Чис. 13, 3). Они пошли и вернулись, неся вдвоем на плечах одну (!) виноградную кисть. Даже если бы они не ходили так долго по пустыне, земля показалась бы им прекрасной. На контрасте же с землей сухой и безводной это был рай!
Подобное «высматривание земли» существует и в отношении будущей жизни. Как тогда, так и сейчас есть небольшое число избранных, которые видели Горний Иерусалим, наполнились силой будущего века, действенно источают ее другим. Таков, например, Серафим Саровский. Во времена Пантелеймона это были многочисленные мученики за Христа, само название которых на греческом языке – «мартирос» – означает «свидетель». Несомненно, Ермолай рассказывал своему духовному сыну не только о Сыне Божием, но и о торжествующем соборе и церкви первенцев, написанных на небесах… о духах праведников, достигших совершенства (см.: Евр. 12, 23).
Двое людей задавали Пантелеймону вопросы. Он не солгал обоим, хотя и ответил притчей, а не буквально. Если бы он просто сказал, что крестился и был в доме священника, нам нечему было бы научиться. А так, в двух коротких ответах – целая трапеза сокровенных сладостей.
* * *
Бог непрестанно думает о нас. Надо и нам чаще думать о Боге.
В Его доме обителей много (Ин. 14, 2). Надо нам готовиться к тому, чтобы в них поселиться. В общем, нужно «лечить больного, которого любит Царь» и «знакомиться с имением, которое подарил Отец».
Если задуматься, то все это очень похоже на совет Павла Тимофею: Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно (1 Тим. 4,16).
ИОАНН РУССКИЙ
Есть на Руси святой, к имени которого добавлено слово «грек». Это Максим, образованный монах, приехавший на Русь заниматься переводом Священных книг. Неласково поступила с ним новая Родина. Оклеветали, осудили и, по сути, сгноили в тюрьме. Максим все перетерпел, смирился и с молитвой на устах покинул скорбную землю. На стене темницы оставил надпись: «Благословен смиривший мя».
И есть в Греции святой, к имени которого добавлено слово «русский». Это – Иоанн Русский, исповедник. Греки не были к нему так суровы, как русские к Максиму. Когда Иоанн жил на земле, греки сами стонали под гнетом турок и насущный хлеб смачивали слезами.
Иоанн родился в Малороссии, там, где речь украинская ближе всего к себе самой, – на Полтавщине. Как солдат в войске царя Петра, Иоанн участвовал в Русско-Турецкой войне и оказался в плену. Насколько сладко крещеному человеку в турецкой неволе, любому из нас представить нетрудно. «Худшим народом из всех исповедующих ислам» называл турок Николай Сербский. И раньше были, и сейчас есть много благородных, милостивых, великодушных мусульман. Но те, в чьи руки попал Иоанн, были не таковы.
За отказ принять ислам Иоанна жестоко били, сожгли волосы на голове, морили голодом. С готовностью умереть, но от Христа не отказываться страдалец перетерпел все. Работать и жить его отправили на конюшню.
На чужой стороне солнце иначе светит. Самый вкусный хлеб жуется, как вата. Но вкусного хлеба у Иоанна не было. Были однообразные, медленно тянущиеся дни, тяжелый труд и повелительные окрики на непонятном языке. Хорошо, если у человека, попавшего в такую беду, есть вера и молитва. Иначе можно зачахнуть от печали, сойти с ума, сломаться и принять чужую веру. У нашего Иоанна было то, о чем говорит его тезка Иоанн Лествичник. «Сжатая вода поднимается вверх, а скорбящая душа возводит очи к Богу». Конюшню он орошал по ночам слезами и превращал ее молитвой в благоуханный храм. Животные полюбили его и с нежностью тянулись к нему бархатными губами, ластились, как когда-то в Раю – к Адаму.
Турецкое селение имело греческое название – Прокопион. И храм там был в честь великомученика Георгия. На паперти этого храма Иоанн провел множество ночей, стоя на коленях, по памяти читая молитвы из Всенощной службы. Насколько можно часто принимал пленник в этом храме Причастие.
Людям дано распознавать святость. Пусть не всегда, пусть не сразу, пусть не без ошибок, но сердца человеческие смягчаются, ощущая благодать. Если святой одет в шелк и бархат, святость затмит красоту его одежд. Если святой беден, святость сделает бедность незаметной. Турки почувствовали в своем рабе неземную силу и красоту. Они стали предлагать ему поменять место жительства на обычный дом, удобный и чистый. Иоанн отказался. Кто почувствовал пользу болезни, тот не хочет выздоравливать.
Однажды, когда хозяин, по закону своей веры, отправился в Мекку, в доме собрались гости. Все блюда были вкусны, но вкуснее всего был плов. Кто-то сказал: «Жаль, что хозяин не ест с нами этот чудесный плов». Кто-то с улыбкой ответил: «Скажи этому русскому, пусть отнесет». Смеясь, позвали с конюшни Иоанна, дали блюдо и велели отнести в Мекку. Взяв блюдо и поклонившись, Святой удалился. А вскоре вернулся с пустыми руками и сказал, что повеление исполнено. Веселью гостей не было предела. «Какой хитрый русский! Ай да Святой! Съел плов так быстро».
До чего же пришлось всем удивиться, когда хозяин вернулся из хаджа и с собою принес блюдо! Когда он увидел его в своем шатре, плов был горяч так, как будто только что был приготовлен.
Век земной Иоанна был недолог, и начинающаяся слава не успела его испортить. Не старше сорока лет он покинул землю. Перед смертью причастился.
Священник, боясь с Причастием идти в дом мусульман, прислал Святые Тайны внутри яблока. А через три года этому же священнику во сне явился Святой и сказал, что тело его Бог сохранил нетленным и желает Бог тело его открыть и прославить.
Люди всех вер и всех национальностей стали почитать Иоанна. «Святой человек, не лишай нас твоей милости», – молились они ему.
* * *
В 20-х годах прошлого столетия малоазийские греки воевали с турками. Эти события вошли в историю под именем Малоазийской катастрофы. Многие греки бежали и, убегая, уносили с собой святыни. Так тело Святого Иоанна попало в Грецию. В 1925 году оно нашло покой в селении Новый Прокопион. Это селение на острове Эвбея знают сегодня все греки.
* * *
Тело Иоанна сохранилось чудесно. Глядя на его мощи, трудно поверить, что прошло без малого триста лет со дня его преставления. Когда преклонишь колени у его гроба, сразу захочешь плакать спокойными и радостными слезами. А на улице возле храма, в небольшой часовне можно надеть на голову шапочку и на тело – пояс. Эти предметы освящены на мощах Святого. Шапочку – чтобы мысли просветлели, а пояс – чтобы плоть от страстей не бесилась.
И в это время ты очень точно понимаешь, что самое необходимое для человека – это светлость ума и победа над страстями.
ЖИЗНЬ И ПОДВИГ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
Из всех городов России Петербург – самый нерусский город. На политической карте мира только в Африке множество стран имеют границы, нарезанные под линейку. Это – наследие колониализма.
Так же, под линейку, построен Петербург. Москва обрастала пригородами так, как купчиха обрастает юбками, как луковица обрастает плотью. Столетиями органически растут города. Но не Петербург.
Распланированный под линейку, он возник в считаные годы, тогда как другие города наживали мясо на костях, обрастали слободами и пригородами на протяжении целых столетий. Построенный под прямым углом, утопивший под мрамором тысячи душ, давший фору Риму, Амстердаму и Венеции, вместе взятым, вырос он на гнилых болотах – и тут же ощетинился пушками против врагов и крестами против демонов.
Но молодой город уже через полстолетия подтвердил свою русскость своей святостью. Одной из первых и неофициальных его святых была женщина, ничем внешне не прославленная. Город был имперский, служивый, чиновничий. Сотни Акакиев Акакиевичей сновали туда-сюда с казенными бумагами. Нищета зябла на морозе и протягивала руки за милостыней. Было много церквей, но мало подвига Христа ради и мало милосердия.
Вдруг появляется женщина, раздавшая всем все и молящаяся обо всех так, как будто это ее родные дети… Бескорыстно вымаливать другим то, чего сам лишен, – это высшая степень любви.
Ксения Григорьевна очень любила своего мужа. Прожили в браке они недолго и детей не нажили. Внезапная смерть перевернула с ног на голову всю жизнь молодой вдовы. В браке ведь муж и жена сочетаются в одну плоть. И если одна половина раньше другой переступает грань жизни и смерти, то и вторая половина влечется за грань, хотя время ей еще не пришло. Тогда человек прежде смерти умирает.
Одни умирают для общественной жизни и спиваются. Другие умирают для греховной жизни и начинают подвиг ради Бога. Ксения хотела, чтобы муж ее был спасен для вечности. Лишившись временного семейного счастья, она хотела, чтобы в вечности она и он были вместе. Ради этого стоило потрудиться. И вот молодая вдова начинает безумствовать, по-славянски – юродствовать. Она отзывается только на имя своего мужа, одевается только в его одежды и во всем ведет себя как сошедшая с ума. Отныне и на полстолетия за личиной безумия она сохранит непрестанную молитву о своем муже.
Молящийся человек всегда от молитвы о ком-то одном переходит к молитве о многих. Сердце разгорается, расширяется в любви и охватывает собою путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, умирающих и много других состояний, в которых пребывают мятущиеся людские души. Большое начинается с малого. Стоит полюбить кого-то одного и невидимо пролить кровь в молитве об этом одном – как тут же откроются бездны, и перед мысленным взором окажутся тысячи скорбящих, трепещущих, унывающих, нуждающихся в молитве.
Ксения нашла это, хотя этого не искала. Она хотела вымолить для блаженной вечности душу любимого мужа – Андрея Федоровича. Но эта горячая молитва об одном человеке сделала ее молитвенницей обо всем мире. Так из маленького вырастает большое. Так люди находят то, чего не ждали.
Ксения Григорьевна не родила детей от Андрея Федоровича, которого любила. Не насладилась семейным счастьем, не увидела внуков. Однако она вымаливает людям решение многообразных житейских проблем: примирения с тещами и свекрухами, обретения места работы, размены жилплощади, избавления от бесплодия…
Обычно кто чего не имел – тот того не вымолит. Не воевавший не понимает пошедшего на войну. Не рожавшая не поймет многодетную. И так далее… А вот Ксения, хотевшая, но не имевшая мирского счастья, без всякой зависти вымаливает это самое счастье всем тем, кто обращается к ней.
Петербург – самый нерусский город. Спланированный под линейку, как нарезанная наподобие пирога Африка, он весь родился из ума, а не из жизни. Однако заселили его русские люди, и уже через полстолетия родились в нем русские святые.
Они преодолели и собственную греховность, и неестественность среды, в которой жили, и явили нам торжество Вселенского Православия на продутых всеми ветрами северных широтах никому до сих пор не известной местности под названием Санкт-Петербург…
СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
Есть вопросы, кажущиеся простыми. Ответы на такие вопросы почти всегда ошибочны. Например: «Зачем нужны священники?» – «Ну, батенька, это просто. Крестить, хоронить, молебны служить».
Ответ неверный. В первую и главную очередь священник нужен для того, чтобы служить Литургию. У многих возникнет вопрос: а что такое Литургия? Хорошо. Первый правильный ответ рождает следующие правильные вопросы.
* * *
В храме читают часы, в это время в алтаре священник стоит перед жертвенником и приготавливает хлеб и вино для Бескровной Жертвы. Берет большую просфору и, держа в правой руке копие, трижды осеняет просфору знаком креста. На каждом крестном знамении говорит: «В воспоминание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа».
Если бы не Литургия, мир давно бы забыл о первом Пришествии Спасителя, и никто бы не был готов ко второму.
Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему (2 Тим. 2, 8).
* * *
Священников на Руси были тысячи – монахи и бельцы, образованные и едва умевшие читать.
Одни стали персонажами сказок, другие вошли в святцы. Но никто из них не служил Литургию так, как служил ее отец Иван Сергиев, он же – праведный Иоанн Кронштадтский.
Этот человек, родившийся на холодном севере нашей страны, воспитанный бедными и набожными родителями, стал эталоном для всех священников до самого Судного дня.
По звуку камертона выстраиваются голоса поющих. Слушая Баха и Моцарта, можно понять, что такое музыка. Понять, кто такой священник, можно, глядя на Иоанна Кронштадтского. По камертону его литургических возгласов стоит настраивать разноголосицу многолюдного священнического хора.
У него многому можно поучиться. Вернее, нет в священнической жизни такой грани, которая в жизни отца Иоанна не засияла бы, подобно бриллианту. Он был милостив к бедным; непримирим и строг в отношении безбожия и различных умственных шатаний; он помогал начать новую жизнь тысячам людей, опустившимся на самое дно. Сказать, что он молился горячо, – значит ничего не сказать. Он молился чудотворно, и когда он разговаривал с Богом, то бытие Божие, присутствие Бога здесь и сейчас ощущались людьми как первая и главная реальность.
В те годы, когда отец Иоанн начал свое служение, Русская Церковь осваивала новый, а вернее – хорошо забытый старый, вид деятельности – миссионерство. Вектор действия был направлен на восток, туда, где на огромных просторах империи жили многочисленные некрещеные народы. Волна миссионерской активности даже выплеснулась за пределы страны: в соседней Японии трудился Николай Касаткин, впоследствии названный равноапостольным.
Иоанн Сергиев хотел послужить делу православной миссии и вначале серьезно думал о проповеди в далеких краях. Но… Внимательный взгляд вокруг открыл ему картину странную и жуткую. Ничуть не меньше, чем язычники, в просвещении Христовым светом нуждались крещеные люди. Среди богатых и образованных – разврат и вольнодумство. Среди простого народа – невежество, пьянство, озлобленность. Чтобы спасать из адовых челюстей бесценные души, не нужно никуда ехать.
Поле для борьбы открывается на каждом шагу, в каждом селе или городе.
Отца Иоанна можно назвать Всероссийским батюшкой, но все же он в первую очередь – Кронштадтский. Это в низкие двери кронштадтских лачуг входил он после службы, неся в руках пакеты с едой или лекарства. На улицах этого приморского военного городка озябший бедняк мог нежданно-негаданно получить в подарок от молодого священника пальто или сапоги. Там отец Иоанн причащал умирающих, крестил детей, служил молебны, и там он начал ежедневно совершать Божественную литургию.
Святые будут судить мир. Об этом говорит апостол Павел. Святые уже сегодня судят мир. Судят одним фактом своего существования. Людям было бы легче находить себе оправдание, если бы не было тех, кто преодолевает мирскую логику и живет Христовым умом. Люди, в сердцах которых нашел покой Иисус Христос, в исходном положении такие же, как и мы. Они из той же плоти и крови, они, буквально, тем же миром мазаны. Молились Тому же Богу, боролись с теми же страстями, читали ту же Книгу. Почему они светлы, как солнце, а мы нет – загадка. Может, святость подобна таланту, и сколько ни учи ребенка музыке, Моцартом ему не стать? Возможно. Отец Иоанн служил ту же Литургию, что мы, но нам не дано служить так, как он. Не дано. А может, не хотим?
Литература о кронштадтском батюшке огромна. Это и описание чудес, и различные воспоминания, и злобные прижизненные нападки либеральной печати (святых любят не все). Есть и его дневник – «Моя жизнь во Христе». Со всем этим не то что стоит, а надо ознакомиться. Но каждый раз от разговоров о Доме трудолюбия, о путешествиях по России с непрестанными службами и частыми исцелениями, о корзинах писем с просьбой помолиться нужно возвращаться к разговору о главном – о Литургии.
Между словом «Литургия» и жизнью отца Иоанна можно поставить знак равенства. Уже видя на горизонте грозовые тучи надвигающихся гонений, отец Иоанн показал всему миру, и особенно всему клиру, каким сокровищем мы обладаем и как им надо пользоваться.
«Иоанн» означает «Божия благодать». Это имя, ставшее у нас крестьянским и простонародным, носил Предтеча. Им был украшен любимый ученик Господа. Так же звали самого огненного и златословесного проповедника. В этом же ряду стоит и наш сородич – Иоанн Сергиев-Кронштадтский.
К святым обычно обращаются: «Моли Бога о нас…» К отцу Иоанну можно обращаться: «Научи нас понимать, любить и служить Божественную литургию».
ПОЩЕЧИНА ИОАННУ КРОНШТАДТСКОМУ
В те годы, когда протоиерей Иоанн Ильич Сергиев был уже всенародно известен, а в кронштадтский Андреевский собор к нему на Литургию ежедневно уже съезжались тысячи людей со всей России, произошел один вопиющий случай. Во время службы на амвон поднялся некий студент и прикурил от лампады на иконостасе. Отец Иоанн в это время уже вышел с чашей для причащения. Он в недоумении посмотрел на молодого человека и с гневом спросил: «Что ты делаешь?» В ответ молодой человек не покраснел, не застыдился и не вышел поспешно из храма. Он подошел к отцу Иоанну и резко, наотмашь ударил его по лицу рукой. От удара отец Иоанн сильно качнулся. Евхаристические Дары расплескались из чаши на пол, и потом пришлось вынимать несколько плит из амвона, чтобы утопить их в Балтийском море. До революции оставалось совсем недолго.
* * *
Студент тогда, к сожалению, ушел из храма на своих ногах и не был разодран на части возмущенными людьми, собравшимися для молитвы, чего он был, несомненно, достоин. Говорю это с полной ответственностью за каждое слово, ничуть не сгущая красок: если бы народ действовал в подобных случаях более жестко и адекватно, наглость шакалов уменьшалась бы на глазах. Говорю это также и с точки зрения последующей истории, которая для нас уже является прошедшей, а тогда лишь предчувствовалась и неясно различалась. Недалеко были уже времена неслыханного поругания веры, но прежде, нежели душить попов епитрахилью или «причащать» раскаленным оловом, нужно было кому-то начать с дерзкого глумления над Церковью, таинствами и служителями.
Древний Змей выползал из-под земли, и его отравленное дыхание рисовало многим миражи близкого всемирного счастья. Во имя будущего нужно было прощаться с прошлым. Кощунство – одна их форм подобного прощания. Достоевский в «Дневнике писателя» описывает случай, когда простой мужик на спор вынес за щекой из храма Причастие, чтобы выстрелить в Святые Дары из ружья (!). Было дело, Есенин выплюнул (!) Святое Причастие, в чем бахвалился перед Блоком. Вроде бы в том же замечен был в гимназические годы будущий любимец Ленина – Бухарин. Многие, имже несть числа, срывали затем с себя нательные кресты с радостью, и если бы можно было, то согласились бы смыть с себя и крещение какой-нибудь жертвенной кровью, как это хотел сделать Юлиан Отступник. Нужно понять, что в канун революции большие массы народа натуральным образом бесновались, дав место в своем сердце врагу. И у одних это беснование было облачено в гражданский пафос, а у других – в оправдательные речи для этого пафоса. Диавол был закономерно неблагодарен со временем и к тем, и к другим, пожрав с костями и строителей «нового мира», и разрушителей «старого», и любителей придумывать одобрительные аргументы для тех и других.
Но кем был в своих собственных глазах упомянутый студент? Хулиганом? Кощунником? Нет, что вы! В своих глазах он был героем и выразителем социального протеста. Какие-то поверхностные брошюры помогли ему сформировать жалкое мировоззрение. «Вы мне ответите за инквизицию, за Джордано Бруно и за гибель цивилизации ацтеков», – возможно, бормотал он, вынашивая планы, как отомстить Церкви. Должен же что-то гневное бормотать про себя глупый человек в свои прыщавые годы, когда бес уже вселился в него и тащит на свои дела. Ведь и сегодня, в период всеобщей грамотности, люди бормочут подобную ахинею.
Студент, вероятно, крепко веровал, но не в Воскресение Христово, а в торжество прогресса и в гуманизм. Ради одной веры он оскорблял другую, всюду заметную, но сердцем не усвоенную. Он оскорблял эту веру, стремясь приблизить ее конец.
Тогда он ушел из храма на своих ногах, и, что было с ним после, мы доподлинно не знаем. Но мы хорошо знаем, что было в общих чертах с этими многочисленными «бледными юношами со взором горящим». Тот, кто вошел в храм с целью ударить священника, вряд ли проживет затем всю жизнь в «благочестии и чистоте». Его неизбежно окрылит сошедшая с рук безбожная выходка, и в глазах многих он станет смельчаком, презирающим ветхие устои. Что запретит ему бросать бомбы в жандармов, или строчить антиправительственные листовки по ночам, или точить топор, как новый Раскольников? Что запретит ему окунуться в вихрь борьбы с самодержавием, ища то ли счастья для миллионов, то ли большей, хотя и минутной, славы себе? И если он дожил до Февраля, то со слезами радости и с визгом, свойственным всем взвинченным натурам, он приветствовал отречение императора. Потом был Октябрь, и если он не был среди большевиков Троцкого – Ленина, то мог оказаться среди тоже радикальных и любивших пострелять эсеров.
Кто убил его, оставшегося в живых тогда, в Андреевском соборе? Ведь наверняка кто-то убил его в том сумасшедшем XX столетии, когда самые невинные люди редко удостаивались смерти в собственной постели? Да кто угодно. Пуля белых в гражданскую. Пуля красного палача в застенках «красного террора». Та же пуля того же палача, только позже, когда «социализм уже был построен». А может – голод и цинга на стройке века или нож уркагана – на той же стройке. А может, он сам залез в петлю, видя, как не похоже то, за что он боролся, на то, что подобные ему бесноватые люди (не без его участия) построили. В этом случае он сэкономил для Родины пулю, хотя никто за это спасибо ему не сказал.
Но перенесемся на время опять в Андреевский собор Кронштадта. Еще не было бунта на Императорском флоте. Еще не было мятежа, для подавления которого Тухачевский сотоварищи побегут по льду в атаку при поддержке артиллерии. Гумилев еще не расстрелян. Еще на троне – последние Романовы, а в храме чудотворно служит Всероссийский пастырь Иоанн Ильич Сергиев. Вот какой-то мерзавец поднимается на амвон и прикуривает от лампады над местной иконой папиросу…
Завтра почтеннейшая публика, хихикая, прочтет об этом событии заметку в свежих номерах либеральной прессы.


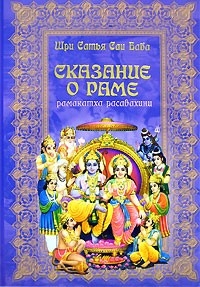
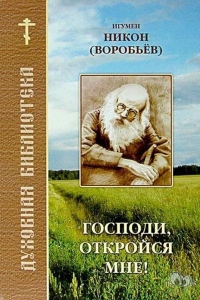



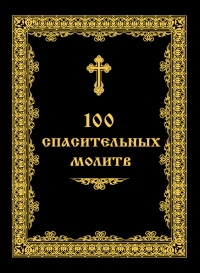


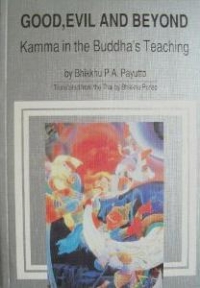


Комментарии к книге «"Возвращение в Рай" и другие рассказы», Андрей Юрьевич Ткачев
Всего 0 комментариев