Счастье каждый волен понимать по-своему. Для одних это — поесть-попить-развлечься, для других — найти супруга и построить дом, забраться на вершину горы или пьедестала. Но среди нас живут такие, для кого поиск Счастья начинается в детстве и не заканчивается никогда. Этим странным людям тесно в земных границах. Они идут по пути восхождения к совершенству. Он только начинается здесь и уходит в беспредельную вечность — этот таинственный и неутолимый поиск Счастья.
Герои этой книги живут среди нас. Оглянитесь — и вы увидите их. У каждого из них уникальный неповторимый путь, но цель одна — высшее, бесконечное и блаженное Счастье.
Александр Петров ИСКАТЕЛИ СЧАСТЬЯ роман
Предвкушение
Это был один из тех чудных дней, когда радость пронизывает тебя насквозь, а воздух наполняется радужным светом, в котором иногда слышится тихая музыка, зовущая вдаль.
Так случается в детстве, когда просыпаешься в первый день летних каникул. И вдруг понимаешь: сегодня вовсе не нужно идти в душную школу. Ты улыбаешься солнцу за окном и думаешь: идти с другом на ближний пляж, но дикий и неухоженный, — или на дальний, но чистый, с музыкой и вышкой для прыжков в воду. А можно еще собраться на рыбалку в затон и наловить ведро карасей. Или, скажем, убежать в парк — полетать на качелях до белых облаков. Или пригласить в кино самую красивую, таинственную девочку, от одного взгляда которой сердце проваливается в глубокую синеву неба, а тебе хочется только одного: бесконечно долго смотреть на неё и любоваться каждым движением тонких пальчиков, каждым взмахом пушистых ресниц. …Или вот еще, можно взять из холодильника стакан с клубникой, посыпанной сахарным песком, расстелить на балконе одеяло и полежать с интересной книгой, подставив солнцу спину. Но детство ушло, и такое сейчас приходит ой как редко, почти никогда, потому и ценится особенно.
Это был день, когда вчерашние беды растаяли в прошлом, а сегодня ты чувствуешь себя необычайно легко. И тебе кажется, что будущее — это одно только счастье.
Это был день, когда со мной произошло самое большое открытие в моей жизни: смерти нет, а жизнь бесконечна! Открылось это не путём сложных размышлений, но каким-то дивным озарением: я увидел вечность, и она меня поразила невиданной красотой. Я обнаружил там всё, о чем мечтает каждый человек, о чем вдохновенно пишут поэты, чего желают друг другу в день праздника, о чем поют в самых задушевных песнях, о чем шепчут ночью далекие огромные звезды. И этого «всё» там бесконечно много. И это «всё» так прекрасно, как не бывает в нашей обычной жизни. Потому что это — совершенное счастье и бескрайняя любовь.
Я сидел на скрипучем стуле в душной комнате, видел свои руки, ноги, трогал лицо, волосы, уши, ощущал голод. А сердце по-прежнему оставалось там, в беспредельных сияющих красотах вечности, и совсем не хотелось ему возвращаться на землю. Рассудок пытался как-то всё это объяснить, подобрать слова… Я же отмахивался от его навязчивой работы и боялся только одного: растерять то ощущение безумного счастья, которое коснулось и опьянило. Мне было хорошо. Правда же, очень хорошо.
В тот день я ходил по земле, смотрел на небо, на зеркало озерной воды, наблюдал за полетом птиц, ползанием жучков, прыганием лягушек. В лесу трогал деревья, разглядывал цветы, бережно касался ягод, грибов, травы. Жадно вдыхал сладкие запахи лета и слушал пение птиц, шелест листвы, шепот короткого дождя. И всюду, во всём, на всём — на каждой малой былинке и великой огромности просторов и далей — видел отблеск того бескрайнего блаженства, которое незримо продолжало существовать и во мне, и в бесконечной вечности, и на земле. Казалось, вся огромная вселенная была окутана светящимся облаком великой любви.
В тот день я не подрос ни на миллиметр, не обогатился ни на копейку, не стал сильней или умней. Только в сердце моем произошел такой переворот, от которого вся последующая жизнь изменилась полностью и бесповоротно.
1. ПОСЕВ
Бегство семейства из града блаженного
Мне посчастливилось родиться в красивом городе на большой реке. Летом уезжал я из города всегда с сожалением, а возвращался каждый раз с необъяснимой радостью.
Там было уютно и хорошо, на моей улице, среди добротных каменных домов с гранитными цоколями, утопающих в густой зелени пирамидальных тополей, каштанов и акаций. В каждом дворе красовались цветочные клумбы, шикарные палисадники и каждый день наводили чистоту. Солнце сияло там почти непрестанно, поэтому, почитав однажды Александра Грина, я стал называть мой город Зурбаганом. Нигде больше, ни в одном городе вселенной не довелось мне столько смеяться и пролить столько горючих слез. Больше нигде не увижу таких ярких звезд, просторной и ласковой речной воды и огромных белых кораблей.
Нигде летние вечера не будут такими теплыми и ароматными, а бабушки такими добрыми и тихими. Они уютно сидели на лавочках у подъездов и следили за порядком, чтобы ни дай Бог кого не обидели, особенно маленьких. Там окна домов с обеда до ночи открывались нараспашку и оттуда лились головокружительные запахи горячих пирогов, жареного лука и домашней колбасы, а так же тягучие задушевные песни. Там свадьбы и поминки справляли прямо во дворе. Выносили столы, застилали клеенкой и выставляли салаты, солености, колбасу, сковороды с шипящим мясом, бутылки домашнего вина, конфеты для детей, которые крутились тут же, подбегая к пирующим родителям.
И больше никогда не пожмет мне руку друг детства, и не обнимет за плечо, и не станет на душе так тепло. И не поцелует мою ободранную в драке щеку самая красивая в мире девочка так благодарно, робко, ласково и неумело — потому что первый поцелуй бывает только раз.
Моих родителей направили в этот город, в мой солнечный Зурбаган, по комсомольской путевке после войны. Тогда среди дымящихся руин стояли только двенадцать уцелевших домов. Можно сказать, что возрождала мою малую родину вся страна. И надо сказать, получилось у нее это неплохо. Главными объектами внимания строителей были, конечно, гидроэлектростанция и крупные заводы, которые обеспечивали сталью восстающую из руин страну. Но и жилые дома, и парки, и любое здание там строили прочно и красиво, будто на века, на удивление потомкам.
Собрать на прощанье друзей не получилось. Еще вчера я прожил обычный день, и вдруг сегодня средь ясного неба, ударил гром, мебель срочно за пару часов погрузили в контейнер и увезли. Оставшиеся вещи упаковали в ящики и отправили вдаль «малой скоростью». Я только и успел, что обойти друзей и поставить их перед фактом: уезжаю куда-то очень далеко. Они мне как-то неумело сочувствовали, вздыхали, хлопали по плечу и еще раз вздыхали, когда я уходил, на этот раз наверное, с облегчением.
Потом зашел к Ирэн — так она себя называла. Мы с этой девочкой дружили с первого класса, поэтому я называл ее «другиней». Ирэн отличалась от остальных девочек моего окружения стальной волей, решительностью, и жуткой энергией. Она лучше мальчишек лазала по деревьям, ловила рыбу, дралась и училась. Лет в тринадцать из голенастой девочки-подростка превратилась в красивую стройную девушку и выглядела старше нас. Но взрослая красота не отдалила ее от меня. Мы до последнего дня запоем читали друг другу стихи во время прогулки, на перемене или по телефону. Мои детские стихи и рассказы она, в отличие от меня, аккуратно записывала в роскошный сафьяновый альбом и требовала моей подписи и даты публикации под каждым из них. Туда же, в альбом, она вклеивала наши фотографии, вырезки из журналов, рисовала орнамент цветными карандашами и фломастерами, привезенными папой из Франции.
В прощальный вечер Ирэн смотрела на меня как всегда в упор. Ее огромные карие глаза сияли, как черные агаты, волнистые каштановые волосы взлетали от каждого взмаха длинных рук, шелковое бирюзовое платье трепетало на ветру. Я ею любовался, и не пытался это скрывать. Она сказала, что когда-нибудь станет богатой, будет жить в шикарном двухэтажном особняке на берегу моря. Тогда она меня найдет и обязательно подарит мне белый «Кадиллак», длинный, с крыльями, сверкающим бампером, обитый изнутри алой кожей. Я сяду за руль, она рядом — оба в белых одеждах — и поедем туда, где сверкает сине-белыми фасадами, зеркальными витринами — город нашей мечты. А напоследок она сказала, что у нее никогда больше не будет такого верного друга — и убежала. Я смотрел ей вслед и ошеломленно думал, как это жестоко — вот так взять и вырвать человека с корнем из счастливого детства. Отнять любимый солнечный Зурбаган, друзей детства, первых девочек и всё-всё, что было хорошего.
Прощание с Первой любовью получилось еще более скомканным. Её родители каждую минуту выглядывали в открытое окно и звали дочь ужинать. Девочка с трудом подняла на меня дивные серо-голубые глазки, покраснела, пролепетала о письмах и протянула мне тонкую белую ручку. Такое с нами происходило впервые, опыта прощания у нас не было, поэтому всё получалось неправильно, без должного пафоса. «Прощай, моя любовь, прощай на веки!» — звучало в моей всклокоченной голове. Я впервые чувствовал себя больным проказой, изгнанным из города медленно умирать среди бродячих псов.
Однако, покидать родину, друзей, первую любовь мне очень не хотелось, поэтому заранее невзлюбил город, куда мы переезжали.
В застенках
Выросший в центре крупного роскошного города, с трудом я привыкал к пустому двору и панельной пятиэтажке на окраине чужого грязного городка. Здесь всюду пахло тошнотворным дымом от горящего торфа, которым строители отогревали мерзлый грунт. И еще — вездесущим перегаром, веявшим от людей. Пили здесь почти с самого детства. В каждом доме вместо графина с водой на видном месте стояла трехлитровая банка с мутной брагой. Не раз доводилось видеть пьяных детей.
Соседями со мной по парте побывали последовательно: тихая сухопарая второгодница Эля с тиком лица, лысый Вова с хроническим насморком, Вася с больными ушами, из которых неприятно пахло. Я относился к ним, скорей с жалостью, помогал с уроками, на диктантах и контрольных, только говорить с ними было не о чем. Да они и не стремились к общению. Однажды Вася попросил зайти к нему в гости, помочь с алгеброй. В прихожей увидел я резиновые сапоги и спросил:
— У тебя папа электриком работает?
— Нет, водителем.
— А сапоги резиновые зачем?
— Как это? — удивился тот. — По грязи ходить. Вот снег растает, узнаешь.
После решения задачек по алгебре, его мама пригласила нас за кухонный стол. Она удивилась и слегка обиделась на меня за то, что я отказался пить мутную брагу. За столом мне пришлось подслушать странный диалог:
— Васька, ты за своими морскими свиньями будешь убирать?
— Буду, — кивал Вася, хлюпая кислыми щами с выменем вместо мяса.
— Дак, убери, а то свинячьи «ховны» уже по всей «фатере» раскиданы.
Дома я пытался узнать у мамы, насколько неучтиво отказываться в гостях от бражки, а так же значение слов «ховны» и «фатера». Она только прыскала в ладошку и просила больше к ним в гости не ходить. А к кому тогда ходить? В конце нашей потешной беседы я сообщил маме о необходимости купить мне резиновые сапоги, чтобы не утонуть в грязи. От этого ее чувство юмора сразу иссякло.
Морозная снежная зима и затяжная весна приучили меня к одиночеству. Удивительно быстро привык я к окружающему серому унынию. Грязь и вездесущий смрад, повальное пьянство и грубость — все меньше раздражали. «Ко всему привыкает человек, и Герасим привык к городу», — бурчал я под нос из Тургенева, все больше удивляясь своему душевному отупению.
В апреле в моем Зурбагане, мальчишки обычно открывали купальный сезон. Там, далеко за лесами и полями, мои друзья прыгали с вышки в прохладную воду, получали первые солнечные ожоги. Там деревья одевались в нежную пахучую листву, распускались цветы и по голубому небу медленно плавали белые облака и горячее солнце. А здесь трещали морозы, а люди ходили в туннелях высоченных сугробов. Отец возмущался: «В апреле земля преет, а тут стужа, как на Северном полюсе!»
Когда, наконец, растаял снег, а до лета было, как до Луны верхом на черепахе, от нечего делать ходил я пешком до центра города. Над головой висело серое небо, под ногами хлюпала грязь, мимо шли чужие люди, проплывали безликие коробки домов, пустыри, а душу заполняла до краев устойчивая мутная пустота. В голове звучала песня Хампердинка:
Lonely table just for one,
In a bright and crowded room.
While the music has begun,
I drink to memories in the gloom.
Иногда я оглядывался и, если рядом никого не обнаруживал, пел баском во весь голос: «Ло-о-оунли тэ-э-эйбл дж-а-аст фор уан…» И мне казалось, что это я сижу за столиком для одного в комнате, набитой людьми, слушаю музыку и глушу воспоминания, бередящие душу. Странно, мне было вполне комфортно шлепать в резиновых сапогах по грязи и упиваться одиночеством.
Когда мне удавалось выйти из уютного внутреннего мирка и оглянуться окрест, удивляла вот эта вездесущая серость. У здешних людей напрочь отсутствовала потребность украшать окружающее пространство, созидая вокруг себя красоту. …Разбивать клумбы, сажать цветы, деревья, декоративные кусты; красить бордюрные камни белым, выстилать цветными плитками дорожки, раскрашивать фасады сочными красками… Их вполне устраивал вот этот барачный стиль, грязь, хаос, вонь. На память приходили где-то читаные слова: «Гражданин начальник, эти люди работать не будут. Эти люди солнце называют балдой».
Пройдясь по центру города, непременно оседал на лавку в оазисе номенклатурной красоты в виде голубых елей и огромной клумбы перед зданием Совета Министров. Безмысленно глазел на памятник вождю с подозрительно раскосыми глазами на скуластом лице, который выпростанной правой рукой указывал направление к всенародному счастью. Я прослеживал директивную траекторию, и мой пытливый взор упирался в общественный туалет. Что ж, у каждого свое представление о счастье…
Несколько раз доводилось видеть тут странных персонажей, будто на машине времени переместившихся из далекого прошлого. Представьте себе человека в овечьем зипуне, в лаптях с онучами и деревянным крючковатым посохом. За плечами — торба из потемневшей бересты. Как правило от него метров за десять разило… скажем, непередаваемым духом средневековой дикости. Я вспоминал кафе, куда мы ходили в детстве пить молочные коктейли с пирожными, аромат ванили и свежесмолотого кофе, витавший среди столиков и колонн. Веселую официантку Валю в белом накрахмаленном переднике, которая подносила напитки со сластями и всегда радовалась нашему приходу. Настоящий цветной телевизор. Музыкальный автомат с пластинками Джанни Моранди, Робертино Лоретти, Ларисы Мондрус и Эдуарда Хиля. Мы одевались туда как на праздник, в белые рубашки с галстучками или даже бабочками, девочки — в светлые платья, белые колготы, на головах банты — и чувствовали себя почти взрослыми. …А этот человек в зипуне позапрошлого века, может, ни разу и ванны-то не видел… Как же по-разному живут люди в нашей огромной стране!..
Здесь на центральной площади, всегда заглядывал в книжный магазин, покупал очередной детектив Богомила Райнова про болгарского разведчика Эмиля Боева. Девушки-продавщицы меня узнавали и протягивали то «Господин Никто», то «Нет ничего лучше плохой погоды», а то «Инспектор и ночь». Райнов писал от первого лица в настоящем времени, этот прием давал полное погружение в мир главного героя, делая читателя соучастником событий. Ты ловил себя на мысли, что даже думать начинаешь как герой. Эмиль Боев в меру благороден, ироничен, у него приятный юмор. Родину любит и защищает без пафоса, профессионально и даже изящно. Но самое главное для меня — он одинок среди врагов и это не мешает ему спасать Родину от продажных шпионов-перебежчиков.
Открывал наобум книжку и читал вслух:
(Боев час назад освобожден из греческой тюрьмы) «Заведение утопает в розовом полумраке. Из угла, где играет оркестр, доносятся протяжные стоны блюза. В молочно-матовом сиянии дансинга движутся силуэты танцующих пар. Я сижу за маленьким столиком и… вижу лицо седоволосого, очертания которого расплываются и дрожат, словно отраженные в ручье. Головокружение вызвано… переменой, наступившей столь внезапно, что я ощутил её как зуботычину. Превратности судьбы, сказал бы полковник».
Или вот ещё:
« — Вы очаровательная женщина, Мери! Рослая, дородная, настоящая женщина!
— Правда? — вспыхивает скорбящая и снова откидывается на спинку дивана. — А тут всё живое на здешних выдр кидается…
— Вешалки для модного белья, — бросаю я с презрением. — Извращённость…»
Это болгары так о парижанках?..
Или вот эта песенка, которую они пели в дождливом Амстердаме:
А мы люди другой породы!
Нет ничего лучше плохой погоды!
От души благодарил девушку-продавщицу. Пока она пробивала чек, неустанно улыбаясь, шепотом напевал песенку «Би Джииз»: «To love somebody, To love somebody…», она подхватывала: «…The way I love you» — мы понимали друг друга. Вздыхал, опускал книгу в карман и в предвкушении приятного вечернего чтения с улыбкой выходил из магазина.
Затем по трущобам, мимо двухэтажных бараков с неистребимым запахом керосина и частных домишек с черными заборами спускался к реке. Здесь швартовались белые теплоходы из дальних стран и городов. Эти белые гиганты с золотыми поручнями и синими надписями по бортам казались пришельцами из другой жизни. Я наблюдал, как по палубе гуляют веселые, красиво одетые люди, играет музыка, и мне казалось, что этот праздник у счастливых пассажиров никогда не кончается. Но, странное дело, ни разу не пришло на ум поставить себя на их место или как-то стремиться в их среду.
Возвращался домой на троллейбусе и плелся пешком домой. В конце нашей улицы, сразу у кромки леса находился морг мединститута. Если обойти здание и заглянуть в окна, можно было увидеть, как студенты потрошат желтые безропотные трупы. Здесь шныряли толстые крысы и бродячие собаки устраивали ночные концерты под луной. Проходя мимо этого мрачного здания, мне представлялось, как однажды и меня привезут сюда, и такие же пьяненькие студенты будут препарировать мое холодное тело. Интересно, удастся ли мне понаблюдать за этим процессом? И каким образом: изнутри или снаружи тела? Вот будет страху, если изнутри! А если снаружи, в отдалении, неужто это будет так уж проще — тело-то, как ни крути, моё, родное, столько лет ношенное!.. Отойдя подальше от морга, я тряс головой, чтобы отогнать малоприятные мысли. Но удавалось это не всегда.
Летом предстояло мне узнать, почему этот город называют Северным Парижем: вовсе не из-за красоты улиц, а за «свободную любовь». Мне доводилось проходить мимо таких «свободных» парочек в лесу, что стоял рядом с нашим домом. Отстраненно скользил по ним праздным взглядом и с чувством легкой брезгливости проходил мимо, как в зоопарке мимо клетки с обезьянами.
Впрочем, первое лето принесло немало открытий. Переписка с друзьями детства прекратилась. На практике узнал я, что такое «с глаз долой — из сердца вон». Всего за полгода испарились «верная дружба на всю жизнь» и первая «любовь до гроба». Последнее письмо пришло от «другини» Ирэн — шутливо-грустное, в котором сквозило отчуждение и жалость ко мне. Она сообщала о скором переезде в Горький, куда направляют ее отца «на повышение».
На вакантном месте ушедших друзей детства стали появляться новые, из числа аборигенов. Поначалу ко мне долго и весьма недружелюбно присматривались в школе. Я же, поглощенный ностальгией и перепадами настроения переходного возраста, не очень-то стремился дружить с ними, чувствуя себя чужим. Учителя в нашей школе казались слабыми, многие даже по-русски говорили неправильно. Наш классный руководитель то смущался в моем присутствии, то багровея кричал в ответ на мои шутки: «Не заострите, пожалуйста!» Местные взрослые к детям почему-то обращались на «вы», а между собой на «ты».
В девятом классе среди учителей появилась замечательная пара. Молодые, красивые и загорелые, только вернулись из Индии. Представились Еленой и Аркадием, объяснив нам, что по отчеству называть их необязательно — это «недемократично». Елена вела русскую литературу и очень увлекательно рассказывала об Онегине и Ганди, Чацком и Артуре Миллере. Аркадий стал учителем пения. Не стесняясь курил сигары, от него приятно пахло дорогим одеколоном и виски. Носил на уроки английские книги и журналы. Разучивал с нами песни «Биттлз», Хампердинка, Тома Джонса и громко пел их красивым баритоном под аккордеон. Его музыкальные истории завораживали: «Хрупкая девушка, едва касаясь половиц легкими ножками, светлой тенью скользила по комнате, и только расстроенный рояль отвечал на каждое её движение слабым эхом забытых мелодий. Они были так одиноки в этом грубом мире: девушка и рояль».
Однажды Елена пригласила меня к себе в гости. Поила английским кофе «Strong Tiger», крепким, словно коньяк. Угощала французскими конфетами. Показывала стерео-фильм о Белом доме — жилище президента США. Заглянул муж Аркадий, извинился, что занят телефонной беседой с английским другом-профессором. Потом она читала свои стихи, играла на пианино. От нее сладко пахло французскими духами. Курила она тонкие сигареты с ментолом и очень удивилась, когда я от них отказался: «Вы, Юрий, уже взрослый юноша и вполне могли бы себе позволить маленькие удовольствия». Зажигала ароматические свечи… С ней было здорово и необычно!
Летом по окончании мною девятого класса они снова уехали, на этот раз в Вашингтон. «Разведчики! — констатировал отец. — Иначе, кто бы им позволил так свободно себя вести» — и сунул мне для ознакомления книгу Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» — «Сравни. Из той же породы! По всей Европе разъезжал беспрепятственно. Сталинский агент».
Потом во втором полугодии девятого класса появился Лешка. Огляделся, спихнул золотушного Васю на заднюю парту, а сам по-хозяйски расположился на моей, третьей у окна. И сразу объявил, что его папа замминистра, поэтому он берет меня под свое покровительство. Я почему-то сразу вспомнил, как мой отец вернулся с приема в местном министерстве и долго смеялся: «У меня кабинет и зарплата больше, чем у этого кукольного министра! Смех да и только!» Отец тогда по приказу партии и правительства «поднимал» какое-то управление из руин, в которые его повергли пьянство и воровство местного начальства.
Да, да, помнится, меня это удивило: странный неказистый городок нежданно оказался столицей! Республиканским центром с собственным правительством, министрами и культурной элитой. Здесь книжные магазины и библиотеки таили на стеллажах книги, которые в европейских городах страны днем с огнем не найти. Спортом увлекались все. Зимой освещенные лыжные трассы не пустовали почти круглосуточно. По выходным и вечерами выходили на лыжню целыми семьями, от бабушек до внуков. Спортивные залы, клубы и стадионы переполняли желающие тренироваться.
Учебой я себя не очень-то отягощал. Но при этом отметки в табеле преобладали более «отличные», чем «хорошие». Мне постоянно казалось, что учителя слишком переоценивают мои знания, да и меня самого. Вот и на олимпиады по физике, математике и литературе выдвигали регулярно, а команда нашей школы занимала там призовые места. Дисциплину мою тоже вряд ли можно было назвать образцовой. И болтал на уроках, и книжки под партой читал, и раз даже окно камнем разбил — но всё мне сходило с рук. И вместо вызова на педсовет или двойки по поведению самое серьезное порицание, что получал — это неодобрительное покачивание учительской головы.
Практически один рисовал я классную стенгазету, а позже еще и общешкольную. Почему бы и нет?.. По привычке занимался легкой атлетикой, носился на велосипеде летом и на лыжах зимой. Запоем читал книги. Наверное, все это как-то притягивало ко мне Лешку и его друзей. Меня стали приглашать на вечеринки, в театр, на пляж. Появились новые друзья и подруги.
Там, на пляже меня снова посетило удивление. Местные парни по причине всеобщего увлечения спортом выглядели вполне прилично: мускулистые, по большей части коренастые. Среди них встречалась какая-то весьма интересная порода — светловолосые, высокие, стройные ребята. Их лица напоминали английские: тонкий нос, высокий лоб, светлые волосы и серо-голубые глаза. А вот девочки меня очень разочаровали… Их ноги были двух типов: Х-образные или О-образные. Раньше мне как-то не приходилось этого замечать, а тут обратил внимание — и загрустил. После обнаружения этого всеобщего уродства, все остальное в девичьем облике меня переставало интересовать. Я как-то спросил маму:
— Это что, у всех девушек такие ноги?
— Нет, мой взрослеющий сын, слава Богу, не у всех.
Потом посмотрела на меня и грустно сказала:
— Жаль, что твое взросление происходит в этом городе. Знаешь, папа ведь хочет, чтобы ты здесь поступал в институт. Ему легче будет тебя тут устроить.
— Нет, мам, после десятого я поеду поступать в Нижний. Не думаю, что у меня будут с этим трудности. Мне здесь… душно. Тесно.
— Понимаю… Ладно, посмотрим. Ты только учись получше. Тебе нужна медаль. Тогда поступишь.
— Насчет этого не волнуйся.
— Ну да, девочки тебя волнуют, наверняка, больше, чем учеба, — улыбнулась она.
— Одно другому не мешает, — успокоил я маму, — они существуют в параллельных плоскостях, которые, как известно не пересекаются.
— Дай-то Бог.
Вообще-то опасения мамы были вполне оправданны. Как ревниво заметила моя «другиня» Ирэн: «Душа у тебя вместительная, как чемодан эмигранта» — это по поводу того, что я способен любить не только одну девушку (Ирэн, в данном случае), но многих и многих людей разного пола и возраста. Одновременно.
Горький привкус свободы
Именно у Лешки впервые оглушил меня зарубежный рок. Виниловые пластинки с песнями «Биттлз» и «Роуллинг стоунз» свободно крутились в комнатах моих новых друзей, детей номенклатурных работников. Почему-то у них в обязательном порядке дома стояли стерео-проигрыватели «Вега-101» в паре с магнитофоном «Романтика». Из двух стерео-колонок, гремела необычная объемная музыка, перетекая справа налево и обратно. Иногда казалось, что ты находишься среди музыкантов и различаешь, где кто сидит и на чем играет.
Мы с легкой дрожью в руках разглядывали вырезки из иностранных журналов с фотографиями рок-знаменитостей. О, как же они отличались от нашего унылого окружения! Насколько притягивала их раскованность, длинные волосы, небрежные жесты, роскошные автомобили, яркие экстравагантные одежды. Казалось, что они живут полнокровной жизнью, которая для нас была недоступна, как звезды на небе.
Пожалуй, в моей серой действительности появились неожиданно яркие вкрапления.
В первый раз я почувствовал себя «свободным человеком», когда Лешка протянул мне шкалик с коньяком и зажженную сигарету, а я согласился и взял. Это случилось в лесу, куда мы часто ходили на прогулку. После нескольких отчаянных глотков рот обожгло, желудок стал угрожающе сжиматься и подпрыгивать, череп сдавило, голова слегка закружилась. Глубокая затяжка намного усилила отвратительные ощущения. Лешка смотрел на меня в упор и криво усмехался. С большим трудом удалось мне подавить тошноту и рвоту. Я глубоко дышал и, чтобы не потерять ориентацию, смотрел по сторонам, устремляя внимание на окружающие деревья.
— Ну как, выжил? — спросил он, когда мы пришли к нему домой.
— Как видишь, — протянул я, утопая в кресле. Чувствовал себя отвратительно.
Видимо, Лешка принял у меня экзамен на испорченность, потому что стал со мной более раскованным и дружественным. Он подошел к музыкальному центру, порыскал по полкам с дисками и кассетами и поставил запись. Из стерео-колонок раздалась музыка «Би Джииз». Это был тот самый альбом, который они записали вместе с Лондонским симфоническим оркестром. Лешка поднял палец:
— Послушай вот это! Обрати внимание, он город Массачусетс называет «дайлинг» — так обычно обращаются к любимой девушке.
Тошнота у меня прошла, и наступило полное расслабление с легким приятным головокружением. Солист пел нормальным мужским голосом, а не фальцетом, как позже. Бархатный баритон пел о том, что он вернулся в любимый город, как в свой родной дом. Мягко лилась плавная музыка, слышались гитары, скрипки, виолончель и мелодичный перезвон колокольчика с тонкой вибрацией на средних частотах. Певец объяснялся в любви к своему городу. Передо мной же проплывали картины моего родного города. В отличие от певца, я точно знал, что в свой советский Массачусетс не вернусь никогда. От этого в моей душе стало и сладко, и горько, и… спокойно. Нет, так нет! В конце концов, у меня был мой персональный «дайлинг Массачусетс», мне там было очень хорошо, и никто его у меня не сумеет отнять! Я его люблю и буду любить и вспоминать всю жизнь. А у этих ребят и того нет.
Кстати, позже я узнал, что Алексей ошибался. В тексте песни была строчка «And the lights all went out in Massachusetts». И вот эти слова — «вент аут ин» — звучали, как «дайлинг». Удивительно, но наше восприятие песни было порой глубже, чем у авторов. Во всяком случае, в моей памяти так и осталось это почти родное «дайлинг Массачусетс», и эти слова напоминали моё собственное отношение к моему солнечному Зурбагану.
Еще позже ко мне придет выстраданная уверенность в том, что песни лучше вообще не переводить с языка оригинала. Ну, знаешь о чем в ней поётся, различаешь какие-то слова — и будет с тебя. Во-первых, вас почти всегда ждет разочарование, а во-вторых, наши любители рока воспринимают западные песни на более высоком уровне. То ли душевности у нас побольше, то ли их песни нам доставались труднее, поэтому и любили их больше… В песне существует мистическая красота, глубина переживаний, наивная искренность — это передается музыкой, ритмом, вибрациями голоса, инструментов. Там, в душе песни, есть подводные струи, которые тебя увлекают и уносят в мир твоей мечты, твоих стремлений. Нет, не стоит нам уподобляться западному способу восприятия, у нас своя мера, отнюдь не хуже. Не помню, чтобы у нас под битловскую «Девушку»(«Girl») кто-то истерически визжал, как на зарубежных концертах. Зато много раз видел, как под нее думают, мечтают, плачут.
Через неделю после «экзамена» в лесу Лешка протянул мне билет на концерт югославской рок-группы «Монтенегро». Сквозь милицейское оцепление и толпу фанатов мы с трудом пробились в концертный зал. В буфете перед нами оказался невысокий брюнет с длинными волосами в шутовском наряде. Лешка толкнул меня в бок и шепнул: «Это один из них!» и сунул парню билет для автографа. Тот сгреб со стойки бутылки пива и на ломаном русском попросил Лешку помочь донести вязанку копченой колбасы. Вернулся Лешка радостным, помахивая автографом и куском сервелата. От него пахло пивом. Видимо, угостили зарубежные исполнители.
Первый живой концерт рок-музыки меня потряс. От начальных аккордов гитары мне заложило уши, как от взрыва. Казалось, музыка проникала под кожу и мощно сотрясала внутренности. Вокруг творилось что-то невообразимое! Все кричали, размахивали руками, свистели. На сцене сверкали молнии, вспыхивали красные, синие, оранжевые огни, прыгали патлатые музыканты в трико и ботфортах. Из десятка динамиков на публику неслась звуковая лавина. Я испытывал щенячий восторг, смешанный с животным страхом. Моя психика сопротивлялась, как легкие первой сигарете. Но я преодолел какой-то невидимый внутренний барьер и отдался на волю мощного течения.
После концерта мы вышли в теплую летнюю ночь и направились к остановке троллейбуса. Лешка что-то возбужденно кричал, но у меня в ушах стоял свист, я почти ничего не слышал. На остановке скопилась приличная толпа, и мы решили пройтись пешком. Улица смутно напоминала что-то очень приятное и знакомое. Двухэтажные дома утопали в зелени садовых деревьев, цветы красовались и сладко пахли, всюду чистота и уют. Да! Такие улицы были в городе моего детства рядом с центральным пляжем. Там селилось начальство. Видимо, и здесь проживали большие люди, потому что уж больно хорошо устроились. Я же просто шагал по чистой уютной улочке, вдыхал аромат цветов и ощущал в груди и на языке сладкую горечь ностальгии.
Внезапно в толпе, шагающей перед нами, мелькнуло знакомое лицо.
— Смотри: Зоя! Давай догоним, — крикнул Леша. Я кивнул.
Зоя появилась в нашем классе недавно. Ее отца, полковника инженерных войск, перевели сюда из Иркутска. У Зои были необычно для этих мест прямые ноги, да и вообще она внешне напоминала мне Ирэн: черные глаза, смуглая кожа, изящная фигурка, красивые платья. Только в отличие от «другини» детства, Зоя была удивительно тихой и замкнутой. С первого дня ее появления в классе мы с Лешкой соперничали за право ухаживать за ней, только девушка держалась от нас подальше. Видимо, ей стало известно о нашем реноме хулиганов-искусителей, которое мы создавали всеми средствами.
Особенно это удавалось Леше по причине наличия у него белого костюма, которым он пользовался в самых черных целях. О, что это был за костюм! Не просто там «пинжак со штанами» фабрики «Большевичка», а фирменный, из закрытого номенклатурного магазина. Финский! Легкий, как пух. Шелковая ткань с вискозой, если взглянуть на свет, казалась полупрозрачной. Не костюм, а симфония!
У меня же не то что белого, но и вообще костюма не имелось. Так что мне приходилось производить должный эффект обычными средствами: разговоры, улыбки, многозначительные взгляды — это действовало не хуже.
Зою сопровождал красивый белокурый парень. Это нас с Лешей, признаться, расстроило. Но девушка с кавалером были возбуждены так же как и мы, поэтому приняли нас в свою компанию гостеприимно. А парень по имени Святослав даже обрадовался тому, что появились мужчины, с которыми можно поделиться впечатлениями: «Ну что с девчонки взять? Разве они понимают настоящую рок-музыку?» Пока Слава с Лешкой наперебой обсуждали концерт, мы с Зоей немного отстали, и мне удалось узнать, что ее провожатый приходится ей братом-близнецом.
— Странно, вы почти не похожи: ты смуглая, а он блондин, — удивился я.
— Так бывает, — пояснила девушка, — близнецы или очень похожи, или разные, как позитив и негатив. В нашем случае, негатив — это я.
— Что ты, — воскликнул я, — негатив — это нечто негативное, а ты… такая красивая.
— Правда? — Смущенно улыбнулась Зоя. — Если честно, я так не считаю.
— У тебя даже ноги стройные! — выпалил я самый веский аргумент.
— Ты хочешь меня обидеть? — Почему-то надулась она.
— Что ты, Зоя, нет! Как можно. Просто, наверное, я не умею делать комплименты.
— Тогда ладно, прощаю. — Она подняла на меня свои огромные глаза цвета спелой вишни. О, сколько нерастраченной нежности прочел я в этом взгляде! Как сдавило сердце от накатившей теплой волны!
Мы поговорили еще о чем-то, и я решил: теперь-то уж точно могу за ней поухаживать. Ан нет, приглашение погулять завтра вечером, девушка не приняла, сославшись на занятость.
Настали мучительные дни. Это напоминало болезнь! Всюду, где бы я ни находился, передо мной стояли вишневые глаза девушки Зои. Ее гибкие руки с длинными тонкими пальцами тянулись ко мне, я пытался их поймать, но они ускользали. Тонкая фигурка то приближалась и обдавала жаром, то вдруг удалялась и таяла в лиловом тумане. Со мной такое происходило впервые. Наверное потому, что я превращался в мужчину, и моё новое существо требовало в общении с девочками нечто иного, чем раньше. Зоя притягивала меня властно, как магнит железку. Сладость неясных желаний сменялась горечью потери. В моем воображении она была одновременно белоснежной лилией, черной лебедью, ядовитым плющом и неуловимой феей из красивой сказки.
«Колизей»
Между моим и Лешкиным домом находился странный район. В народе он прозывался «Колизеем». Единственный объект социально-культурного назначения в том краю, отдаленно напоминавший Римский Колизей, был стадион. Полуразрушенные его трибуны размещались полукругом с трех сторон. Соревнования там проходили редко, зато местными бандами использовался почти круглосуточно. Место это почти никогда не посещалось милицией, о нем ходила дурная слава. Даже днем проходить мимо было жутковато.
Однажды мы засиделись у Лешки допоздна, и его мать заставила сына проводить меня до дому. Лешка ворчливо оделся и повел меня не на остановку троллейбуса, а мимо «Колизея». Освещение здесь всегда отсутствовало, потому что лампы фонарей беспощадно разбивались под вопли: «темнота — друг молодежи!» Чтобы не утонуть в грязевых лужах, Лешка освещал наш опасный путь фонариком. Мы внимательно смотрели под ноги, старательно обходили грязь…
Вдруг от темноты отделилась «группа товарищей» и молча нас окружила. Луч фонарика метнулся по фигурам в телогрейках и по лицам людей. Мне они показались монстрами, вышедшими из ада. К нам вразвалочку подошел высокий парень с уродливым бугристым лицом и дохнул густым перегаром: «Закурить есть?» Мне приблизительно было известно, что за этим последует. Поэтому я мысленно решал вопрос: дать стрекача или вступить в неравную схватку? …И вдруг:
— Фофан, ты что не узнал меня? — спросил Леша, осветив себе лицо.
— Лешка, что ли? — хрипло отозвался тот. — А это кто?
— Мой друг Юрка. Новенький. Недавно переехал из другого города.
— А чего же он не проставился, если новенький? Ты чего, малый, порядков не знаешь?
— Ну не успел еще. Проставится, не волнуйся.
— Даю три дня, — сурово прохрипел Фофан, глядя мне в глаза. — Три бомбы «Солнцедара» или ящик пива. Понял?
Молча «группа товарищей» расступилась и пропустила нас. Молча дошли мы до подъезда.
— У тебя деньги есть? — спросил Леша.
— Откуда? — ответил я сокрушенно.
— Давай что-нибудь загоним, — сказал Леша. — Книги можно или пласты.
— У меня из пластов только «Кругозор». Ты же знаешь… А книги продавать родители не позволят.
— Объясни им. Жить-то хочется.
— Ладно. Посмотрим.
— Пока.
— Давай.
К родителям обращаться я не стал. Решил посоветоваться с учителем физкультуры Димычем. Мужиком он выглядел бывалым, в шрамах и наколках. К тому же он меня уважал и часто выдвигал на городские соревнования.
После уроков я зашел в спортзал и объяснил ему свою ситуацию. Димыч спокойно выслушал, похлопал меня по плечу и сказал:
— Значит так. Ты, Юра, парень крепкий, спортивный. Тебе проставляться стыдно, понимаешь? Ты должен драться, а то они тебя за шестерку держать станут. Так и будешь всю жизнь им бутылки таскать. Это Лешка им свой. Они в один детсад бегали. И отец у него при власти. А тебе нужно себя поставить, заставить уважать.
— Да они там всегда бандами шастают. Что я могу с пятью-семью уродами сделать?
— Значит так. Биться будешь с одним. Понял! Я пойду с тобой и прослежу, чтобы все было по закону. А сейчас я тебя кое-чему научу.
Димыч распустил секцию легкоатлетов и повел меня в свой кабинет. Здесь у него висел боксерский мешок. Он достал из шкафа две пары жестких перчаток по 14 унций, и началась тренировка. Думаю, если бы кто-нибудь из школьного начальства узнал, чему он меня учил, Димычу пришлось бы искать другое место работы. Он обучал не боксу, а драке, жестокой и беспощадной. Эти три дня тренировок дали мне самое главное — уверенность в своих силах и бесстрашие. Самое необходимое, чему я научился — это входить в состояние боевой ярости.
Вечером, через три дня после той роковой встречи с Фофаном, я в жестких туристических ботинках с металлическими накладками на мысу, телогрейке с чужого плеча и с пустыми руками пошел на битву. Димыч обещал находиться в укрытии и появиться на поле боя в случае нарушения законов честной драки. По мере приближения к «Колизею», я делал всё, чтобы мой животный страх переплавился в боевую ярость. Делал всё, как учил меня Димыч.
— Не вижу бутылок с вином, — прохрипел из темноты Фофан.
— Я драться буду, — услышал будто со стороны свой голос, ставший чужим, — только один-на-один, по-честному.
— Фартовый, значит, — прошипел Фофан. — Тогда ладно. Жирный, сделай этого фраера.
Я стоял на месте, куда едва достигал рассеянный свет ближайшего фонаря. К тому же из облаков вышла полная луна. Ко мне из-под трибуны вышел парень, который на миг показался мне огромным. Тут я вспомнил слова Димыча, что не стоит бояться крупных соперников — их мышцы более скованы, они флегматичны и малоподвижны. Самые опасные — это поджарые шустрики.
Пока Жирный стоял напротив и нудно сквернословил, я следил за его руками. Как я и ожидал, он неуклюже шагнул ко мне — и в мою голову полетел его кулак. Я уклонился вправо и левой рукой нанес ему встречный удар в живот, затем сразу правой скользящий удар в висок. Моя левая нога сама собой встретила его лицо снизу, а правая заехала в ягодицу. Мой соперник рухнул на четвереньки в грязь. Ко мне из темноты выскочил разъяренный Фофан, но я успел шагнуть к нему на встречу и нанес быстрые удары в нос и горло. Он замер, задыхаясь, подняв лицо к небу. Из-под носа по губам и подбородку лилась черная в свете луны струйка крови.
Из темноты выскочили еще трое и окружили меня. Я ждал появления Димыча, ждал подлого удара сзади и последующего избиения ногами. Вертелся волчком, подпрыгивал то к одному, то к другому, но они трусливо отступали. Сердце бешено колотилось, страх полностью улетучился. В груди клокотала одна лишь ярость и абсолютная готовность ко всему!
— Стоять! — прохрипел Фофан, вернувший себе возможность говорить. — Юрка, ты чего, гад, меня ударил?
— Прости, но я ждал твоего удара, и просто упредил его.
— А-а-а! Вона как! — кивнул Фофан, вытирая кровь рукавом телогрейки. — Правильно сделал. А то бы я тебя точно треснул.
— А как же наш уговор «один-на-один»?
— Да иди ты со своим уговором! Мне выпить хочется, а ты без бутылки пришел. Понял?! Жирный, ты очнулся? — обратился он к толстяку. Тот вяло поднимался и отряхивал грязь. — Добей гада!
— Лучше не стоит, — сказал я. — Не видишь, он в нокдауне.
Жирный чуть наклонился и с разгиба направил кулак в сторону моего лица. Я чуть уклонился, но удар достался моему левому плечу. Там что-то хрустнуло. И тут ярость взорвалась во мне, кровь закипела, и я набросился на Жирного, нанося удары слева и справа. Тот снова рухнул. Я склонился над ним и продолжал наносить удары. Ничего не соображал, ничего не боялся. Лишь бил и бил, безжалостно и тупо. Вдруг мне в плечо вцепилась крепкая рука и отшвырнула прочь от поверженного противника. Я уже собрался нанести удар тому, кто меня одернул, но резко остановился. Мне в лицо весело улыбался Димыч.
— Да, Юрик, не думал, что мне придется эту шпану от тебя спасать. Если бы я тебя не остановил, ты бы один их всех завалил. Остынь. Бой закончен. Ты победил. — Потом он оглянулся на Фофана и его дружков: — Что же это вы, бакланы дешевые, законы нарушаете? Ведь если бы я не вмешался, тут сейчас уже пара трупов лежала. Вы что не видите, что парень спортивный, непьющий, некурящий. Да вы против него — шелупонь недоразвитая. Ладно, Фофан, остынь и ты. Вот тебе винище, — протянул он пакет, — давай выпьем на мировую.
Мы сидели на трибуне и испепеляли друг друга взглядами: Фофан и я. Если бы не Димыч, кто-нибудь из нас точно лежал бы мертвым. После распития первой бутылки вонючего портвейна, Фофан смягчился.
— Ладно, Юрка, не бойся, — захрипел он, хлопнув меня по больному плечу. — Ходи теперь тут спокойно. Я тебя не трону. Но если ты соберешь свою банду, то знай: война продолжится.
— Да не буду я банды собирать, — успокоил я его. — Мне не надо.
— Ой, врешь, — закачал головой Фофан. — Ты меня молодого напоминаешь. Я тоже сюда из другого района переехал. Меня тоже проставляться заставили. Только настоящему мужику это стрёмно. Я тоже бился. Как ты.
— Да нет, — сказал я, — точно не буду бригаду собирать. Обещаю.
Уходили мы с Колизея вместе с Димычем. Он пьяно хлопал меня по плечу и поздравлял с победой. Я вежливо поблагодарил его, вернул телогрейку и свернул к своему дому.
В ту ночь я не спал. Видимо, кипящая кровь не спешила остывать. Сидел в темной комнате у раскрытого окна и любовался звездным небом. На душе стояла нежданная тревога. Вместо услаждения победой я снова и снова вспоминал свою бешеную ярость. Это почему-то меня сильно тревожило. Я почувствовал, что начинал бояться самого себя.
А если бы меня сегодня убили? Эта шпана разбежалась, а я бы остался валяться в грязи до утра, пока меня кто-нибудь не обнаружит. Потом повезли бы в морг, выпотрошили, потом нарядили, оплакали, упаковали в ящик да и зарыли в землю. И всё? И всё…
Нет, это какой-то абсурд! Это что же получается: честно жил, трудился, детей хороших воспитал — и в землю? Воровал, убивал, насиловал — и туда же? Нет, не может быть. Как там говорил киногерой Черкасова: «Всё остается людям»? Допустим. Мой дед оставил отцу. Отец тоже что-то делает и оставляет мне. А кто спросил меня: нужно ли мне это? Они там, значит, костьми ложились, а я им говорю: отстаньте, предки, заберите с собой в землю свои труды. Я как-нибудь и сам проживу.
Вон, в моём Зурбагане после войны двенадцать домов осталось. Выходит, остальные тысячи зданий зря строили? Ведь потомкам они не достались. Значит, целые поколения — миллионы людей — прожили свою жизнь, потели, мучились, воевали — и всё напрасно? Чушь какая-то… Если бы так было на самом деле, большинство людей еще в юности кончало бы жизнь самоубийством. Ан нет, живут для чего-то. Значит, есть какая-то причина, кроме этого «всё», что якобы «остаётся людям». Ой, дурят красные нашего брата! Чую нутром: всюду ложь! Как там в детективах учат: ищи, кому это выгодно. Так кому? Уж точно не простым трудящимся. Не нам. И не мне.
Лавровый жернов
Следующее утро принесло головную боль от бессонницы и… славу! У входа в школу меня встретила толпа возбужденных поклонников. Меня хлопали по больному плечу и на все лады повторяли: «Молодец! Герой! Самого Фофана побил!» Пожимая руки, улыбаясь ликующему народу, краем глаза увидел в толпе Жирного. Он исподлобья смотрел на меня заплывшими злющими глазками, и этот взгляд ничего хорошего мне не предвещал.
Уроки пролетели почти мгновенно. Единственное приятное событие ждало меня по окончании последнего урока биологии. Ко мне подошла Зоя и попросила проводить её до дому. Оказывается, есть у всенародной славы и свои положительные моменты! Мы вышли под руку и не спеша добрели до угла здания школы.
Не успел я свернуть за угол, меня резко повернула невидимая рука — успел разглядеть лишь разбитое лицо Жирного и медленно летящий в меня кулак. Дальше — провал и продолжительный выход из нокаута. Время в таких ситуациях несколько замедляется. Сначала ко мне вернулось осязание: я почувствовал сквозь рубашку холод бетонной стены. Потом расслышал задорную перекличку стрижей. Затем сквозь оранжевую пелену проступило смуглое лицо и вишневые глаза с длинными часто хлопающими ресницами. Потом ощутил на своей щеке прохладную девичью ладонь.
— Знаешь, Заинька, — медленно протянул я чужим голосом, — я готов каждый день получать по морде лица, только бы видеть тебя вот так близко.
— Дурачок, — ласково прошептала она. — Он же мог тебя искалечить.
— Имеет право, — рассудительно кивнул я удивительно легкой головой, — я его вчера публично унизил.
— Синяки и шишки на его лице — твоих рук дело? — полушепотом спросила она, промокая мой лоб маленьким надушенным платочком.
— Увы, да. Так что мне еще предстоит у него прощения просить.
— Не надо. Снова подерётесь. Он уже с тобой расквитался: у тебя под глазом синяк будет.
— Ерунда, — сказал я вставая с корточек, — Шрамы и ссадины — украшение мужчин.
— И фонарь под глазом? — улыбнулась Зоя.
— Это тем более! — уверенно кивнул я. — Кажется, на сегодня с драками покончено. Соперник трусливо удрал после нанесения подлого удара. А я обязан доставить тебя домой в целости и сохранности. Пойдем?
— Идем, охранник, — певуче протянула девушка, легким касаньем руки обнимая мое предплечье.
Я был счастлив! Меня избили на глазах самой красивой девушки школы, района… да что там — вселенной! А я шагал, как по воздуху, и в сердце невидимые трембиты с литаврами исполняли победный гимн. Зоя легко ступала рядом, часто поглядывая на меня, нежно улыбаясь. Мы говорили о какой-то сущей ерунде, а наши сердца в унисон неустанно твердили: люблю, люблю!
Зоя пригласила зайти к ней в гости. Мое сердце сильно сжалось, потом мягко заныло и рухнуло куда-то в область пяток. Дома обедал ее брат Стас, который очень мне обрадовался. Он стал увлеченно вспоминать концерт рок-музыки, но вдруг осекся:
— Стой. Что у тебя с лицом?
— Пустяки, — улыбнулся я, — бандитский кулак.
— Стасик, Юра меня защищал, — сказала Зоя. — У него может быть сотрясение мозга.
— Не может, — возмутился я, — чтобы чему-то сотрясаться, нужно это иметь.
— Ну не шути так, — оборвала меня Зоя, превращаясь в строгую медсестру. — Ты, Стасик, давай беги по своим делам, а я займусь раненым. — Потом повернулась ко мне и скомандовала: — Так, сначала ты, Юра, выпьешь крепкого чаю. Потом на глаз компресс положу. Кажется, еще медные пятаки хорошо…
Стоит ли говорить, что я с готовностью согласился на этот медицинский эксперимент. За мной ухаживала самая лучшая девушка. А я лежал на диване, чувствуя как моего лица касаются ее легкие пальцы, вдыхал молочный ветерок её дыхания и блаженствовал. Если и есть счастье, то вот оно! Рядом и вокруг, как теплое оранжевое облако, из которого она появилась после нокаута.
На моём глазу лежал марлевый компресс, я улыбался, как Деточкин после премьеры «Гамлета». И вдруг, ни с того ни с сего, вспомнил один разговор с Лешкой. Он тогда закрыл дверь своей комнаты, как-то криво улыбнулся и протянул мне пачку фотографий с не вполне одетыми девицами.
— Это я их фотографировал, — гордо сообщил он, ожидая похвалы.
— Какая грязь! — прохрипел я, чувствуя приближение приступа тошноты.
— Ничего подобного. Очень даже чистые девочки. Все из приличных семей. Хочешь вот с этой сегодня познакомлю. У нее вечеринка будет. Есть возможность стать настоящим мужчиной. Она уже опытная.
— Нет!
— Зря.
— Отстань.
— Как хочешь.
…Резко привстал я на диване и потряс головой, отгоняя гнусные воспоминания. Зоя присела рядом и положила руку на плечо:
— Что с тобой? Тебе плохо?
— Нет, Зоинька, всё хорошо.
Долго смотрел на девушку. Она смутилась. Рядом с ней я испытывал неописуемое блаженство. Мне всё нравилось в ней: глаза, ресницы, пухлые губы, легкий румянец, проступающий на смуглых щеках, каштановые волосы, заплетенные в косу, легкие руки, чуть покатые плечи, упругая фигурка… Даже вот эти округлые колени, которые она прикрывала руками. Даже этот свежий молочный запах её дыхания. Даже белые шерстяные носки, в которых она ходила по дому. Всё! Буквально всё в этой девушке мне нравилось и вызывало восторг. В моем сознании те, раздетые девицы с фотографий, и Зоя никак не соединялись. Конечно, я помнил её в спортзале на уроках физкультуры и гаденькие шутки, которые отпускал Лешка по поводу еелые шерстяные носки, в котроых она ходила по дому. коенкиеки с легким румсянцем, проступающим сквозь смуглость фигурки, обтянутой физкультурным трико. Но разврат и Зоя воедино никак не соединялись.
— Зоя, можно с тобой поговорить на одну очень щекотливую тему?
— Попробуй, — выдохнула она, еще больше смущаясь.
— Мы взрослеем, — начал я медленно, осторожно подбирая слова. — Мои друзья уже попробовали на вкус запретный плод. Вокруг меня постоянно звучат разговоры на эту тему. А мне все это противно. Понимаешь?
— Да, Юра. Мне это знакомо. Может поэтому я почти всегда одна.
— Скажи честно, как другу. Ведь ты, наверное, тоже чувствуешь эти взрослые желания?
— Да, конечно, — кивнула она, не поднимая глаз. — Я ведь живой человек.
— И как ты с этим справляешься?
— Я сказала, что я тоже живой человек. Но я не животное, понимаешь?
— Да, конечно.
— Значит, нужно научиться эти… желания как-то обуздывать. Наверное, этому нужно учиться, как учатся ходить, говорить, готовить обед. Просто научиться… для того, чтобы не потерять человеческий облик. Чтобы будущему супругу в глаза смотреть было не стыдно.
— Спасибо, Зоя. Тебе, наверное, непросто было говорить об этом?
— Ну, в общем, да. — Она подняла глаза и положила руку мне на предплечье. — Но с тобой это не так трудно, как с другими. Ты умеешь понять девушку. Я тебе доверяю. Полностью.
— Спасибо, — кивнул я, едва сдерживая подступившую к сердцу волну теплой нежности.
— Ну что, дорогой гость, — вспорхнула она, легко вставая с дивана, — не пора ли мне тебя накормить? А то ведь на чае долго не протянешь. Вставай, Юрик, пойдем в столовую.
Мы зашли в ванную, помыли руки под струей воды, побрызгались по-детски, вытерли руки одним полотенцем. В просторной кухне-столовой сел за круглый стол, а хозяюшка засуетилась между холодильником и плитой.
— А я сидел за своим одиноким столом, — комментировал вслух происходящее, — и любовался девушкой. И всё-то в ней было так ладно: и эти плавные движения рук, изящные наклоны гибкого стана, и редкие, но такие теплые, взгляды её чарующих персидских очей.
Зоя молча продолжала разогревать котлеты с гречневой кашей, выкладывала в фарфоровый салатник маринованные огурцы с квашеной капустой.
— Я любовался этой девушкой-совершенством и представлял себе её в роли своей законной жены.
Зоя шаловливо глянула из-за плеча и полушепотом произнесла в пространство:
— Продолжай…
— … И никак не мог представить! — закончил я импровизацию. В меня полетело полотенце, я автоматически увернулся, поймал и протянул хозяюшке. — А вот бросаться разными предметами в горячо любимого гражданина — политически безграмотно и идеологически неверно.
Она подлетела ко мне, подбоченилась и готова была сказать что-то дерзкое. Не успела. Я поднялся и крепко обнял ее за плечи. Она дернулась, тихонько заскулила и обмякла. Я гладил ее поникшую головку, длинную теплую шею и шептал на ушко:
— Она чувствовала себя пленницей, попавшей в тиски его мощных объятий. Это её поначалу ошеломило. Но потом… Потом она обмякла и, не зная почему, сама обхватила тонкими руками его мощную широкую спину.
— Не дождешься! — взвизгнула она. — Немедленно отпусти!
— Пожалуйста. — Поднял я руки к потолку. Она чуть отстранилась и продолжала стоять, в упор глядя на меня.
— Не делай так больше, — прошептала она смущенно, — пожалуйста. Я ведь тоже живой человек…
— Прости. И я живой. Пока еще.
— Садись, а то котлеты сгорят.
— Да не волнуйся. Если ты даже землю из цветочного горшка мне в тарелку положишь, я все равно слопаю с аппетитом. «Из рук твоих и яд приемлю!»
— А ты можешь быть опасным. — Нахмурилась она.
— Иллюзия. — Замотал я головой, уплетая котлету. — Рядом с тобой, я как теленок на привязи. Скорей, ты для меня представляешь опасность.
— Это какую же?
— Не какую, а чем. Вот этим. — Обвел я вилкой ее изящный силуэт. — Мне всё это очень нравится и притягивает внимание. Так что ведите себя, милая барышня, поскромней. Пожалуйста.
— Сейчас снова полотенцем получишь. — Улыбнулась она.
— Так вот для чего ты меня сюда вероломно заманила? Чтобы продолжить избиение! Всё вам неймётся! Так и мечтаете сжить со свету белого.
— Да, такого сживешь. Где сядешь, там и слезешь.
— Ну, это не совсем так. Особо опасны в этом вопросе друзья. Ты им спину подставляешь, а они так и норовят в тебя полотенцем или еще чем запустить. «Вот так с шутками и прибаутками народ встречает долгожданный праздник».
Потом Зоя читала мне «Барьер» Павла Вежинова и смотрела на меня так, будто слышала мои мысли. А я в это время летал со странной девушкой Доротеей над ночным городом:
« — Встань, Антоний! — тихо произнесла она. — И не бойся, я не причиню тебе зла.
Я покорно встал.
— Дай мне руку!
Я протянул ей руку. Ее пальцы показались мне неожиданно теплыми и сильными.
— А теперь, Антоний, взгляни на небо. Ты должен привыкнуть к нему… Скоро, Антоний, ты почувствуешь удивительную легкость. Словно ты стал вдруг воздушным… Молчи… Ответь мне только, чувствуешь ли это, да или нет?
— Да! — сказал я немного погодя.
— Вот мы и взлетели, Антоний!.. Расслабься… Не делай резких движений. И главное, не думай ни о чем!.. Вот и все — будь счастлив!
Голос ее звучал необычайно звонко и мелодично. Я даже не почувствовал, как мы отделились от террасы. Мы летели в вышине, под нами дрожали огни города. Они были нам видны, как с самолета, идущего на посадку. Мы словно плыли среди безбрежного моря огней. И все-таки это было непохоже на полет самолета, мы не летели, мы парили, как птицы с надежными, крепкими крыльями. Я ощущал и свое тело, и воздух, омывавший меня, словно вода.
— Тебе не страшно, Антоний? — спросила она. — Да или нет?
— Нет, нисколько!
— Хочешь, поднимемся выше?
— Да!.. Да!..
Мы летели к звездам, которые становились все крупнее и ярче. Ураганный ветер бил мне в лицо, лоб мой застыл, ноздри расширились. Я не был в этот миг ни бесчувственным, ни бесплотным, ее рука, ставшая, как мне показалось, еще сильнее, еще горячее, крепко сжимала мою. Потом ураган стих, хотя воздух сделался почти пронизывающе холодным. Мы снова парили в вышине, но теперь я видел одни звезды, резавшие мне глаза своими алмазными гранями.
— Доротея, где же земля?
— Под нами! — ответила она. — Не бойся, мы летим на спине.
— Ты летала когда-нибудь прежде, Доротея?
— Много раз, Антоний.
— Сколько?
— Не знаю. Но это не так просто… Мы не можем взлететь, как птицы, когда захотим.
Голос ее постепенно слабел. Видно, она была права: нам нельзя было разговаривать. Наверно, это отнимало у нее силы. Мы спускались все ниже и ниже, я уже ясно различал дороги со скользящими по ним огоньками машин. Потом начал различать улицы и площади, даже отдельные здания с их неоновыми коронами. Я ощущал, как ее рука постепенно остывает в моей, как дрожат ее пальцы.
Я почти не заметил, как мы коснулись теплого бетона террасы. Мы не приземлились, а опустились на нее, точно птицы.»
— Чем?.. — начал я и поперхнулся. За окном темнело и я спешил узнать, что дальше. — Так чем же это закончилось?
— Неужели не ясно? — прошептала Зоя. — Она умрет, а он будет страдать.
— Почему именно так! Это неправильно.
— Это жизнь… Слушай.
« — Совершено страшное преступление, — ответил он. — Доротею убили. Спросишь, как? Ее сбросили из окна верхнего этажа или с высокой террасы — такой, как ваша, например. Тело ее изуродовано, кости перебиты, прости, что я тебе об этом напоминаю…
У меня потемнело в глазах, хотя я и ожидал, что он скажет нечто подобное. Но я быстро взял себя в руки и спросил:
— Почему ты считаешь, что ее сбросили, а не она выбросилась?
— Потому что там, где нашли труп, нет никакого строения. Очевидно, ее перенесли после… А кто мог это сделать, кроме убийцы?
Он рассуждал, конечно, вполне логично. … Естественно!.. Что еще можно подумать? Неужели нормальный человек мог допустить, что она просто упала с неба?»
— И что дальше?
— Ничего. Просто он испугался и не захотел летать.
«Я вернулся домой. Я чувствовал себя не столько несчастным, сколько безмерно опустошенным. Зачем я не сказал ему правды? Он, конечно, не поверил бы. Решил бы, что я сошел с ума! Ну и что из этого? Разве правда не превыше всего? Какая бы она ни была! Если я погубил ее своим ничтожеством или слабостью, то какое оправдание мог придумать мой злосчастный рассудок?
Я старался утешить себя надеждой, что не виновен в ее смерти. Разве я думал, что случится несчастье? А что, если она нарочно сложила крылья? Но какой смысл обвинять себя или оправдываться? Нет силы в мире, способной вернуть к жизни единственное человеческое существо, которому было дано летать.
Поздно вечером я с тяжелым сердцем поднялся на террасу. Я не посмел взглянуть на небо, на невзрачные звезды, слабо мигавшие у меня над головой. Они никогда не будут моими. У меня нет крыльев взлететь к ним. И нет сил. Доктор Юрукова сразу же угадала, я никогда не перешагну барьера. И не поднимусь выше этой нагретой солнцем голой бетонной площадки, на которую время от времени садятся одинокие голуби.»
— А ты, — спросила Зоя, опустив глаза, — ты смог бы летать?
— Если с тобой, то конечно!
Прощались мы долго. Стояли в прихожей и не знали, что делать. Я боялся прикоснуться к ней, она тоже. Наконец, она глубоко вздохнула, потянулась ко мне и едва коснулась губами уголка моего рта.
— Зоинька, я сейчас умру, — прошептал я, пытаясь унять дрожь в голосе.
— Не надо, — едва слышно выдохнула она. — Живи. У тебя это хорошо получается.
Я вышел из квартиры. Сбежал по ступеням. Вылетел из подъезда и, не помня себя, не чувствуя ног, воспарил… в самое небо.
В тот вечер и в ту ночь я не думал о смерти. В ту ночь я очень любил и ценил жизнь!
Последний год детства
Майские дни и ночи наполнились нежданной тревогой. Сладкой и тягучей, как мёд. Острой, будто кинжал в сердце. Нежной, как улыбка возлюбленной и легкое касание девичьих пальцев. Всюду, где бы я ни находился, всей кожей чувствовал, где сейчас находится Зоя. Мы обменивались долгими взглядами, вздыхали и посылали друг другу записки, полные туманных намеков и многоточий. Это было мучительно и сладко. Мы ходили по краю пропасти. Мы боялись друг друга. Казалось, одно неосторожное касание наших рук — между нами проскочит молния и убьет нас. В моей горячей голове непрестанно пульсировали ее слова «я ведь живая» и еще Лешкины «брюнетки — они темпераментные!»… И вдруг меня пронзала острая жалость к девушке, а потом эта жалость медленно переползала на меня. Мы стали будто рабами в кандалах. И мне это вовсе не нравилось.
Может быть поэтому, так освежающе веяло от наступающего лета. Что-то подсказывало, что там наступит избавление от моей неясной сердечной боли. Как всегда, летом наша семья обычно путешествовала. Сначала мы съездили на море. На пляже я подружился с парнем примерно моих лет. Потом — с сестрами-близнецами из Грузии, юными красавицами Дианой и Этери. Их так сурово опекали родители, что беспокоиться мне по поводу «приступов страсти» не приходилось. Например, в кинотеатр на французский фильм «Искатели приключений» мы пошли «всей честной компанией» с родителями. Ох, что же творилось рядом с кинотеатром! Очереди за билетами занимались до восхода солнца. Билеты с рук стоили не меньше, чем банкет в центральном ресторане Сочи. Отец, чтобы достать билеты, заходил в горком партии. Я его ждал на тридцатиградусной жаре не меньше часа. Он вышел оттуда чуть пьяным, потным и радостным.
Вечером встретились с пляжными грузинскими друзьями — мужчины в белых рубашках при галстуках, женщины в шелковых вечерних платьях. Купили мороженого и толпой зашли в душный зал. От «моей дамы» — смешливой Этери — по-взрослому веяло духами «Красная Москва». Этот запах потом всегда будет напоминать мне этот дивный фильм, полный приключений в тропических морях. И этих французских красавчиков — обаятельного Алена Делона, мужественного Лино Вентуру и загадочную Джоанну Шимкус. Много позже мне расскажут, что на самом деле духи «Красная Москва» назывались «Любимый букет императрицы», и были изготовлены обрусевшим французским парфюмером Августом Мишелем для нашей русской царицы в 1913-м году к трехсотлетию Дома Романовых. Для меня же этот аромат останется на всю жизнь запахом трагической любви и веселой черноглазой Этери, каждый шаг которой охранял суровый отец. Правильно делал.
Потом еще мы съездили на родину отца, в уральскую деревню. Там с утра до вечера собирали грибы, которые мама сушила, мариновала и в посылках отправляла с почты домой. Вечерами ходили с отцом и двоюродными братьями на деревенские посиделки. Там водили хороводы, танцевали шейк с местными румяными невестами. Странно, в этой, казалось бы, глуши не наблюдалось затхлости провинциальных городов. Здесь жили своей трудовой очень естественной жизнью, всюду окружала природная красота. О, как духмяно пахли земляничные поляны и сосновый бор! Какие яркие звезды сверкали на черном небе. Какой радостью светились деревенские молодые лица! Впрочем, не обольщайтесь, что ухаживания за местными красавицами пройдут для вас тихо-мирно. Мне пришлось поучаствовать в кулачном бою с деревенским Отелло. Впрочем, я его понимал: приехал, понимаешь, городской пижон в «чухасах», кружит девкам головы, отвлекает от штатных женихов. Но вот что понравилось — после обмена дежурными ударами, спустя пять минут, мы стали друзьями, обнимаясь загорелыми ручищами, подшучивая друг над другом, вполне беззлобно.
Потом, вернувшись домой, полтора месяца ходил, как на каторгу, на школьный факультатив. Десятый класс вообще запомнился необычной напряженностью. Мы все как-то сгруппировались, сосредоточились на выпускных и вступительных экзаменах. По рукам ходили затрепанные экзаменационные билеты. Наше положение усложнялось тем, что мы «попали» на эксперимент. Новые школьные учебники писали жутко заумные дядьки — академики, профессора… Чтобы понять, что они хотели до нас донести, текст нужно было перечитывать по нескольку раз. Даже учителя возмущались и относились к нашей новоявленной тупости снисходительно.
Лешка однажды принес в школу красивую толстую книжку с цветными иллюстрациями. Это был американский учебник по физике, переведенный на русский язык. Предназначался он для спецшкол с углубленным изучением физики. Я выпросил его на пару недель, предложив взамен книгу «Америка слева и справа» Бориса Стрельникова. Лешка согласился. Читал я этот американский учебник и диву давался! Оказывается, можно и трудные вещи изложить легко и доступно. Но и это не всё! Я читал его с интересом, как детектив. До глубокой ночи, до ломоты в глазах! Вот она гениальность — в простоте и живом интересе!
Каждый день мы с Лешкой обменивались впечатлениями: он о путешествиях наших журналистов по Америке, а я — про законы физики, изложенные американцами. Подобно Левше, повторявшему перед смертью: «Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят!» — Леша с гримасой боли на лице твердил: «Для американцев джинсы — это рабочая одежда, их даже заключенные носят!», или: «А в Америке стыки канализации не суриком, а свинцом заливают». Почти каждая такая беседа заканчивалась антисоветскими высказываниями. Хорошо, что не слышали нас родители. А то бы нам досталось. Только молодые дерзкие мозги не желали принимать вездесущую серую тупость советской действительности. Нам казалось, что из Америки, с Запада, «из-за бугра» придет избавление от нашего рабства.
Всего несколько раз довелось мне пообщаться с Зоей, провожая девушку домой. Наши отношения утратили мучительную чувственность. Яркие летние впечатления несколько успокоили нас. Мы просто дружили — и нам обоим это принесло облегчение. Да и заботы о будущей взрослой жизни всё настойчивей вторгались в уходящее детство. Даже в наших с Зоей беседах темы эти встали на первый план. Что с нами будет дальше? Какая она — взрослая жизнь?
И вообще, вопросы лезли мне в голову непрерывно. Кто я? Зачем? Кто вы, люди? Где вы? Почему почти всегда вокруг меня эти бетонные стены? Почему нас все время что-то разъединяет? И что это? Наша скука, пустота? Врожденное одиночество? Или это чья-то продуманная программа по нашему порабощению, по принципу «разделяй и властвуй»? Нас разделяют, мы становимся каждый сам по себе. И сами по себе загибаемся каждый в своем пыльном углу. А если сказать этому «нет»?
А не пойти ли мне в народ — туда, где он ходит, дышит, живет? Я встал и пошел. Мои глаза внимательно всматривались в лица людей, в их глаза. Желая только добра, истины, ответов на свои вопросы, подходил к пьяненькому рабочему, домохозяйке с курицей и картошкой, к чиновнику с портфелем, к студенту с учебниками. Но они почему-то шарахались от меня или, подобно улитке, прятали глаза внутрь своей раковины привычного одиночества. И только один-единственный мужчина, примерно четырех лет, честно и прямо ответил на мои вопросы. По его мнению, единение людей возможно лишь под созидательными конструктивными лозунгами добра и мира. Притом, верно и обратное: разъединение людей происходит вследствие разрушительных движений души, как-то: зависть, жадность и гордость, несущие нам только зло. Я поблагодарил соискателя истины, подарил ему барбариску и продолжил свой нелегкий путь.
Через дорогу во дворе, где проживали лысый Вова и бывший сосед по парте Вася, я обнаружил искомое многолюдье. Да, половина ребят из нашей школы высыпала во двор. Они играли в волейбол, футбол, сидели на бетонных блоках и что-то обсуждали. Невероятно! У меня под боком пульсирует жизнь, а я на своем отшибе, в лесном углу, томлюсь в одиночестве в поисках мучительных истин.
Подошел к группе людей, среди которых сидели Вова, Вася и другие одноклассники, по рукам которых небрежно ходила бутылка вина. Я уже заготовил круг вопросов, которые так волновали меня, но, не успев открыть рот, осёкся. Они обсуждали изнасилование нашей одноклассницы Риты. Эта девочка сидела на задней парте и всегда улыбалась. Если бы ни её приземистость, она походила бы на римскую патрицианку, в моем представлении: длинный тонкий нос, миндалевидные черные глаза, румянец на смуглых щеках и полные губы с резкими очертаниями. Так вот, оказывается, Рита во время прогулки по лесу набрела на банду Фофана, которая злоупотребляла спиртным на лоне природы. Ну а что было дальше… в какой-то степени мне было известно. Риту положили в больницу на реабилитацию, а банду Фофана взяли под стражу. За групповое изнасилование им «светило» от 5 до 12 лет лишения свободы. В зоне их ожидает мало приятного — насильников малолеток там не жалуют.
Так завершился мой «выход в народ». У меня появилось еще больше вопросов и еще больше тем для размышлений. Так вот по какой причине я поставлен в условия сурового уединения! Размышлять лучше всего в одиночестве. Да. Похоже на то…
Как ни странно, выпускные экзамены мы с Лешкой и Зоей сдали успешно. Наши родители очень постарались, чтобы выпускной бал запомнился на всю жизнь. Лешка даже уговорил отца пригласить на вечер самую популярную группу города, которая неофициально называлась «Огнеупорные кирпичи». Шампанское лилось рекой, в туалете желающим разливали водку и портвейн. К середине выпускного бала почти все были пьяны от спиртного и громыхающей музыки. Мы с Зоей успели покружиться в романтическом вальсе, потом решили «тряхнуть стариной» под ритмичную «Шизгару» («Venus»). На сцену выскочила девушка с черными волосами, как у солистки «Shocking Blue» цыганочки Маришки Вереш, и, залихватски двигая костлявым тазом, нагло-испуганно заголосила:
A Goddess on a mountain top
Was burning like a silver flame.
The summit of Beauty in love
And Venus was her name.
— Ты моя богиня на вершине горы! — переводил я песню Зое на свой лад, — Ты сияешь, как серебряное пламя. Ты самая красивая и любимая! А имя твоё — Зоя!
She's got it,
Yeah, baby, she's got it.
Well, I'm your Venus, I'm your fire
At your desire.
«Шизгара! — орали мы с Зоей что было сил, — эх, бэби, шизгара! Вэлл, а ю венус, а ю файя, эд ё-дыса-ё»!
Потом выходили на улицу, жадно вдыхали свежий ночной воздух, удивляясь прозрачной голубизне белой ночи. Потом всей гурьбой вышли встречать восход солнца и по проспекту пошли в центр города. Там на центральной площади таких как мы выпускников толпились уже тысячи. Потом по трущобам спустились к реке. Там жгли костры, снова пили вино, размахивая пиджаками, сияя белизной рубашек и платьев, танцевали под магнитофон. То в кустах, то прямо на бетоне набережной вспыхивали драки, сплетались в объятьях пары, слышались грязные ругательства. Но в ту ночь ничего не могло испортить нам настроения. Мы знали, что это последние мгновения нашего детства. Мы прощались друг с другом и проживали последние часы детства, как умели. Плакали и смеялись, дрались и обнимались. А впереди… О том, что будет дальше, мы даже не догадывались.
Испытание на выживаемость
Несмотря на уговоры отца остаться и поступить в местный университет, я уехал в Горький, который принято было называть по-старому — Нижний Новгород. Или просто Нижний. Вступительные экзамены сдавал я довольно легко. Думал, что здесь мне аукнется школьная избалованность и учительское всепрощение. Знал, что в моих знаниях имеется немало пробелов. Но оказалось, нас не плохо «натаскали» в школе, и конкурс в шесть человек на место не стал помехой моего успешного поступления.
В общежитии «абитура», как нас называли, расселилась достаточно удобно. Но после зачисления в студенты нам объявили, что первокурсники обязаны найти себе жилье в частном секторе. Для этой цели в деканате имелась книга с адресами. Я выписал несколько адресов в тетрадку и пошел «по людям».
Некоторые углы и комнаты были уже заняты. Ради любопытства я осматривал жилищные условия и все больше впадал в уныние. Трущобы городского дна — единственное определение, которое находилось в моем лексиконе для характеристики того, что я видел. «Удобства во дворе, мыться в районной бане или в тазике, готовить нельзя — ходите в столовку, пятнадцать рубликов в месяц», — поясняла опухшая от пьянства домохозяйка, с трудом проглатывая привычные матерные слова. Те, кому посчастливилось занять угол, глуповато смеялись, демонстрируя тем самым неувядающий оптимизм и презрение к бытовым мелочам.
На второй день поисков жилья я безуспешно обошел еще пять адресов. Вечером шагал мимо кирпичных и панельных домов с тысячами горящих окон и впервые в жизни чувствовал себя никому не нужным, одиноким и бездомным. Люди, шагающие мимо и живущие в этих домах, казались мне счастливчиками. Я им завидовал и упивался своей никчемностью. В голове постоянно звучала песня Биттлз "Yesterday" («Вчера»):
Yesterday, all my troubles seemed so far away
(Вчера все мои проблемы казались такими далекими)
Now it look as though they're here to stay
(А теперь кажется, что они останутся навсегда)
Oh, I believe in yesterday
(Да, я верю во вчерашний день)
…
Now I need a place to hide away)
(А сегодня мне нужно место, чтобы укрыться
Oh, I believe in yesterday.
(Да, я верю во вчерашний день.)
О, жестокий мир! О, мое ничтожество! Неужели придется с позором возвращаться домой? Ни за что!
Наконец, на третий день беготни удача улыбнулась мне щербатой улыбкой пожилой полной женщины. Она жила в просторной комнате, разгороженной на три части. Мне она указала на угол с раскладушкой у окна. Я так обрадовался, что готов был расцеловать ее в пухлые щеки. Тетя Оля не производила впечатления пьяницы, в комнате было довольно чисто, мирно посапывал кот, на подоконниках стояли цветы, под окнами смеялись девушки, на кухне судачили стройные женщины. Как я узнал позже, этот дом принадлежал театру оперы и балета. А наша хозяйка работала там до пенсии кассиром. Кроме тети Оли там жил еще один студент консерватории — будущий дирижер. Я согласился. Вышел из двухэтажного дома, оглядел сквер напротив, трамвайную остановку, столовую, кинотеатр — и впервые за последнюю неделю почувствовал себя устроенным. Теперь не стыдно и домой за вещами съездить.
Сойдя с междугороднего автобуса, я совсем другими глазами смотрел на «Северный Париж». Во всяком случае, здесь хоть и стояли кое-где бараки, но их готовили под снос. И уж точно лично я к ним никакого отношения не имел. А в Нижнем мне чуть было не пришлось поселиться в настоящем бараке, на реальном городском дне. И еще почитал это за «праздник, который всегда с тобой».
Позвонил друзьям. Оказалось, почти все разъехались. Лешка — в Москву, Зоя — в Минск, куда направили ее отца. Остальные готовились в армию и гуляли напропалую. На одну такую вечеринку затащили и меня. Главным заводилой там был Вова-лысый. Он впервые снял кепку и представил на всеобщее обозрение голую, будто лакированную лысину. Весь вечер он пьяными колючими глазками смотрел на меня, видимо, соображая, как бы спровоцировать меня на драку. У него ничего не получалось: я прощался со школьными товарищами и девочками. Мы говорили напоследок, наперебой вспоминая потешные эпизоды нашей школьной жизни. На какое-то время Вова пропал, и я было успокоился. Но, кажется, зря…
Поздней ночью я вышел из гостей и отправился домой. На моем пути вырос черный силуэт — это оказался Фофан. Он пьяно качался и дышал мне в лицо перегаром и гнилью:
— Что, Юрка, где твой защитник? Где Димыч? Кто сегодня тебя спасёт?
— А что, нужно спасать? — спросил я, оглядываясь. В черных кустах кто-то невидимый шевелился и перешептывался. — Тебя что, выпустили на волю?
— Братва своих выкупает, — пояснил он самодовольно, — понял?
— Как не понять, — кивнул я. — Что, будешь драться?
— А как же! — усмехнулся Фофан. — Или ты думаешь, я забыл, как ты мне нос разбил?
Сзади!.. Именно так — подло, вероломно — ударили меня по голове, и я отключился. Я не чувствовал ударов, которые сыпались на меня градом. Только раз увидел над собой склонённое лицо Фофана и пнул его каблуком в нос — и всё. …Сколько пролежал я в кустах той черной ночью? Не знаю. Как-то поднялся, добрел до дому, открыл дверь, разделся и рухнул в свою постель. Утром пришлось давать показания родителям. Они хотели тащить меня в милицию, чтобы завести уголовное дело, я умолял оставить это занятие и забыть. В ванной из зеркала на меня глянула опухшая образина в синяках и царапинах. Я отлежался четыре дня, привел себя в порядок и уехал в Нижний. Ни жить в Северном Париже, ни возвращаться туда желания не наблюдалось.
В первых числах сентября нас повезли в дальний колхоз на уборку картошки. Здесь, на просторных полях, поближе познакомился с однокурсниками. В паре со мной работал мрачный мужик по имени Олег. Он был старше меня, отслужил в армии, поэтому поглядывал в мою сторону с легким презрением и бурчал под нос что-то невнятное. Потом на ближайшей пьянке неожиданно подошел ко мне. В это время я развивал нашему старосте Петру свою философскую точку зрения на жизнь и слегка коснулся темы цинизма.
Олега это почему-то затронуло за живое. Он стал защищать учение циников, уверяя, что они нащупали верную мысль о ничтожестве человека, что казалось ему очевидным. Тут подскочил к нам комсомольский вожак Виктор и в нескольких словах изложил взгляд марксизма-ленинизма по этому вопросу. Там было что-то про повороты рек, освоение космоса, миллионы тонн стали и зерна. Олег глубоко вздохнул, глянул на комсомольца как на психически больного и предложил мне «прогуляться».
Той ночью, в беседах о смысле жизни с «мрачным старым мужиком» я обрел настоящего друга. Отныне, ползая по борозде и механически кидая картофелины в корзину, мы общались. Однажды, например, Олег рассказал, что его отец много лет выписывал журнал «Изобретатель и рационализатор».
— «ИР» — это самый антисоветский легальный журнал в СССР! — гремел он жутким шепотом чуть не на всё поле. — Вот послушай. Только сначала оглянись и посмотри на коллег по уборке картошки. А теперь представь, сколько миллионов рабов сейчас вот так же как мы ползает по полям. А в это время стоят станки, пустеют научные лаборатории, ВУЗы, воинские части. Какой урон народному хозяйству! И это каждый год! А почему? На западе все это убирается комбайнами. Ты думаешь, у нас не могут их придумать? Так вычитал я в каком-то старом номере «ИР», что еще в шестидесятых на «Ростсельмаше» двумя мужиками был изобретен лучший в мире картофелеуборочный комбайн. Они своими руками из металлолома собрали комбайн и опробовали его. Так вот слушай: у самого лучшего на тот момент канадского комбайна было 15% боя, работал он только на легких сухих грунтах и стоил в десятки раз дороже нашего. А наш: 2% боя и работал на любых, даже влажных глинистых грунтах. И убирал наш агрегат наряду с картошкой еще и помидоры, морковь и вообще половину того, что выползает из земли.
— И где он? — Оглянулся я окрест. — Что-то не вижу.
— И не увидишь! После удачных испытаний лучший в мире супер-комбайн был разобран и уничтожен, а документация и сами изобретатели — арестованы. Им еще по пяти лет зоны припаяли за использование государственных материалов в личных целях.
— Значит, есть все же враги народа, — пробурчал я.
— Да. Только они не в народе. Они-то как раз у власти. И ничему живому и новому не дают появиться на свет белый.
— Ты только не горячись, брат, — сказал я, — мы с тобой еще разберемся с этим. Думаю, мы найдем ответы на все вопросы. Ты только не ори. Всё будет хорошо. В конце концов, поработать на свежем воздухе на благо народа — не так уж и плохо.
— Интересная точка зрения, — сказал Олег и долго смотрел на меня. — Знаешь, Юрка, мне нравится твое отношение к жизни. Ты умеешь находить позитив даже в хаосе.
— Мне что-то подсказывает, — протянул я, рассматривая аляповатый сросшийся клубень, — что не хаос, а какой-то разумный порядок управляет жизнью. Мне еще трудно об этом говорить. Всё на уровне подсознания. Только почему-то уверен в этом и всё.
— Ну, что ж, брат, это уже не так уж и мало, — пробурчал он под нос. — Я, пожалуй, буду почаще к тебе прислушиваться.
— Милости просим в наши дебри, — кивнул я.
Еще мы развивали новое учение, которое должно было лечь в основу Всемирного общественно-политического движения «Искатели счастья». Почему-то многие принципы и приёмы борьбы мы решили позаимствовать у коммунистов. Например, «мы наш, мы новый мир построим», «экспроприация экспроприаторов» («грабь награбленное») и так далее. Последний призыв Олег предложил реализовать прямо здесь, на поле. Он мне объяснил, что в сельпо видел объявление о закупке картофеля у частных лиц. Договорился с продавщицей Катькой принять у него «товар» ночью и заплатить сразу. Потом провел переговоры с руководителем и преподом Бобом и получил от него «добро» («он уже пропил все деньги, так что ему это кстати»). А еще он договорился с водителем самосвала насчет сверхурочных ночных часов.
Две ближайшие ночи мы с Олегом грузили мешки с картофелем в самосвал и отвозили в магазин. Экспроприация принесла нам немалую прибыль и уважение преподавательского состава. Олег объяснил, что теперь у нас есть первичный капитал для некоторых затратных мероприятий. Как только вернемся в город, приступим к их реализации.
Наш комсомолец со старостой каким-то образом прознали о нашем бизнесе и тоже решили попробовать заработать. Но, видимо, их цели оказались настолько низменными, что повязали конкурентов на первой же ходке: у ворот магазина их ожидал председатель колхоза с милиционером. Чего им стоило уговорить начальство не сажать их в тюрьму — этого никто не узнает. Только с той ночи стали они тише воды и ниже травы. И работали по-ударному.
— Только высокая общественно-политическая цель может оправдать сомнительные коммунистические средства, — подвел итог ночным событиям Олег.
— Слушай, а если бы нас повязали? — спросил я.
— По этому поводу нам с тобой беспокоиться не стоит, — сказал Олег. — На территории нашей губернии мы с тобой в полной безопасности. Мой отец — большая партийная шишка.
— Так почему же ты ползаешь вместе со всеми по земле? Мог бы в Сочи загорать.
— Теоретически мог бы, — кивнул он большой головой. — Но практические шаги по поиску всенародного счастья не позволяют мне идти блатным, проторенным путём. По этой же причине я и в армии побывал.
— Ну и каково жить под одной крышей с партийным бонзой?
— Знаешь, Юрка, что мне батя сказал в день моего совершеннолетия, — сказал Олег, переходя на шепот, — когда мы с ним впервые серьёзно нашлёпались?
— Ну и?..
— Он сказал: «Ленин — жулик и сволочь!» Я ему: «Бать, а ты не того? Не перегибаешь?» — «Нет, — сказал он, — скорей, недогибаю!» — и дал мне почитать кое-что из закрытой информации для служебного пользования. О том, кто оплачивал революцию и для каких целей. Вот так я и стал циником. В широком смысле этого слова.
Разговор этот происходил на нарах в бараке под плеск коньяка и бутерброды с тушенкой. Вокруг комсомольцы пробовали плодово-ягодное «за рупь-тридцать» и резались в «дурака». Нас увезли из нашего села в соседний поселок подальше от чего-то очень страшного, что называлось «престольный праздник». Руководство пояснило, что на это мероприятие съезжается молодежь, сбежавшая в города, напивается и устраивает драки. Нас оттуда эвакуировали и приказали культурно отдыхать. Чем мы и занимались второй день подряд. Мы размякли и со стороны смахивали на римских патрициев на пиру, обсуждающих философию Сократа под крики павлинов и бэк-вокал сладкоголосых рабынь.
Но тут наш культурный отдых прервал вопль препода Боба: «Хватайте колья! Деревенские на нас стенка-на-стенку лезут!» Мы набросили телогрейки, выскочили наружу и стали выламывать штакетник из новенького забора. Кровь, подогретая плодово-ягодным и четырьмя звездочками из-под прилавка сельпо, закипела и требовала самых активных действий. Вооруженный штакетным оружием отряд бойцов в сотню буйных голов выбежал на центральную площадь населенного пункта под вопли командира Боба и встал в центре огромной лужи. Нам противостояла преступная группировка из трех пьяненьких мужичков неопределенного возраста с граблями в неверных руках. Видимо, селяне возвращались с сельхозработ и несколько громче обычного обсуждали виды на урожай.
Увидев сотню малотрезвых мужиков с дубинами в руках, аборигены предпочли немедленно скрыться, оставив нас без видимых врагов. Боб не смутился и предложил сходить на танцы и навести порядок еще и там, «раз уж мы так хорошо размялись». Но и в клубе нас ожидало разочарование: на три танцовщицы внушительного возраста и комплекции тут сидело четверо мужичков и в полудреме слушали затёртую магнитофонную запись чего-то заграничного. Видимо, воины призывного возраста перебрались в наше прежнее село для участия в боевых действиях под кодовым названием «престольный праздник». Олег подошел к самому трезвому танцору и протянул червонец:
— На все — и быстро!
— Ого! Если своего, то это на десять штук. Пойдем, поможешь донести.
Мы свернули за угол, и через минуту из мрачного дома мужичок вынес корзину с бутылками, закупоренными газетными кляпами. Оставив боевой отряд слушать заграничную музыку и дегустировать местный напиток, мы с Олегом вернулись в наш барак к четырем звездочкам и говяжьей тушенке.
— Надо будет с Бобиком провести душеспасительную беседу, — вздохнул Олег. — Кажется, он близок к белой горячке. А он еще пригодится: нам ему экзамены по сопромату сдавать.
Вернувшись в место постоянной дислокации, мы обнаружили в селе следы необузданного погрома. Заборы по главной улице лежали в грязи, кое-где чернели пепелища от сожженных стогов сена, сараев и туалетов, всюду мусор, битые бутылки и… лужи с содержимым желудка. Но местные жители, казалось, нимало не огорчались. Например, бригадир возбужденно рассказывал:
— Уж молодежь сурьёзно погудела! Да-а-а!.. И всё у нас было не хуже чем у людей. А как же: престол ить!
— Дедуля, — спросил Олег, — какой же престольный праздник, когда престол разрушен и церковь ваша используется под склад зерна?
— А какой, какой!.. — Чесал дед щетину на бордовой щеке. — Знамо дело, Сергий Радонежский. А церковка сломата — это ж значит так по грехам надоть. А наше дело праздник справить, чтоб молодежь не забывала. У нас тута каждый второй мужик — Серега. А как же: престол ить!
— Видел бы вас преподобный Сергий! — проворчал Олег. Потом повернулся ко мне и сказал: — Мы с тобой, Юрка, пожалуй съездим к нему в гости. А?
— А это куда? — спросил я, проявляя полное невежество по этому вопросу.
— Это в Загорск, в Троице-Сергиеву лавру, — вздохнул он. — Обязательно съездим!
Проклятые вопросы
Наконец, картошку мы собрали. Под чутким руководством Олега бригадир закрыл нам хорошие наряды, и мы в правлении получили немалую зарплату. Всю последнюю неделю стояла теплая пора бабьего лета. Мы с утра и в обеденный перерыв собирали грибы, сушили их в русской печи. Так что каждый с собой увез объемные пакеты сушеных боровиков.
На следующий день после нашего приезда в Нижний погода резко сменилась, и замела метель. Из-за картошки нам пришлось наверстывать отставание в программе. Начались суровые дни учебы с авралами.
Но странное дело: несмотря на беготню по институту, сидения в библиотеке, лекции, коллоквиумы и лабораторные — у нас всегда находилось время на личные дела. Иной раз приходилось даже сокращать сон до двух-трех часов в сутки, но как, скажите на милость, пропустить вечеринку с новыми музыкальными записями? Или как не попробовать достать билеты на гастроли нашумевшей скандальной рок-группы?
Например, приезжает в Нижний шоу-группа «Интеграл». Уже за две недели по институту, по компаниям студентов и прочих интеллигентов прокатывается волна билетного ажиотажа. Часто в таких делах помогал отец Олега. Но даже у него не всегда получалось достать билеты и контрамарки. Тогда мы с Олегом «импровизировали». Встречались на площади Горького у кафе и, как тореадоры, шли на корриду, где нас ждал разъяренный бык — толпа фанатов. Мы были готовы ко всему: драке, приводу в милицию, к преодолению любой преграды и ограды и, наконец, уговорам любой женщины-кассира или мужчины-администратора.
И вот мы идем по центральной улице, в народе называемой «Сверловка». До кремлевского концертного зала еще не менее полутора километров. А к нам уже тянутся сотни рук: «У вас нет лишнего билетика?» Иногда Олег вытаскивает из толпы за протянутую руку ее красивую хозяйку и предлагает идти вместе. Отказа в таких случаях никогда не звучало. Перед входом в Кремль толпа сгущалась, и Олег ледоколом прокладывал нам путь со словами: «Пропустите с билетами!» или «Дорогу, граждане, — у нас спецпропуск!»
Уже в самых дверях в концертный зал он обращался сначала к милиции, потом к контролеру на входе — и те нас пропускали. И вот мы уже сидим в буфете и «подогреваемся». Сидя в креслах, иногда на ступенях, стоя в проходе или на задних рядах галерки — неважно! — мы наконец-то видим и слышим то, к чему так стремились. Объявляется начало концерта, и еще при закрытом занавесе раздаются оглушающие аккорды гитары и барабанный бой! Расходится занавес, ты видишь трех волосатых парней с гитарами, обнаженного по пояс ударника, окруженного барабанами и тарелками. Но что это? Целых две полновесных ударных установки по краям сцены — это невиданно! Они играют ритмичную перекличку. Клавишник с трех сторон обставлен синтезаторами. В центре — солист с необычным, особым тембром голоса. Сзади качаются на длинных ногах в сверкающих платьях девушки из бэк-вокала. По сцене, по залу мечутся яркие огни и фантастические звуки…
Всё! Исчезает вселенная, космос, тают звезды, уплывает из-под ног земля. Тебя уносит в неведомый мир, где царствуют ритмичные звуки, носится кругами крик солиста и сверкают и переливаются все цвета радуги. Это шок! Это праздник! Это ожившая сказка о великом счастье!..
И всё бы хорошо, но… Каждый раз после такого отрыва обязательно приходило похмелье. Где-то глубоко в груди поселялся безжизненный хаос, растерянность, холодный мрак. Насколько высоко поднимал нас восторг, настолько же тоскливо и тяжко становилось на следующее утро, будто рухнул на дно. Это касалось и вина, и рок-музыки, и свиданий с девушками. Почему? — пульсировало болью в голове и отдавалось в сердце — почему на смену удовольствию всегда приходит расплата за него? Каждый раз от головной боли и тяготы в душе я малодушно откладывал ответ на свои «проклятые» вопросы на потом. То ли потому, что не был готов на них ответить, то ли потому, что эти пьяные восторги по молодости приносили хоть не надолго, но какую-то радость.
Не сразу и не с первого захода, но все же мы справились с зачетами. И, наконец, — сессия! Как ни странно, сдача экзаменов показалась нам чуть ли не курортом. На подготовку к экзамену нам давали четыре дня. Первые два мы отдыхали, и только к вечеру предпоследнего дня садились за конспекты и учебники.
Эти свободные дни оказались для меня очень кстати: у меня в тумбочке лежала книга Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» и требовала прочтения. Наконец, я добрался до неё и, открыв первую страницу, уже с первых глав почувствовал неутолимую жажду: это когда пить хочешь всё сильней, а вместо воды получаешь сладенький сахарный сироп, от которого жажда лишь нарастает. Я вспомнил, как в школе запоем читал «Преступление и наказание» и страстно желал стать Раскольниковым, но не убийцей, а молодым человеком, любимым и любящим верующую и страдающую блудницу. И читать вместе с ними, как свою книгу, про своего, личного, любимого Бога — Библию, где блудники и разбойники вперед праведников идут в Царство Небесное.
Помню, как детектив, не отрываясь, за сутки прочел «Униженные и оскорбленные» и долго еще жил той Достоевской средой, где страдания так сладки, а умирать в молодости так легко — потому что там всюду и со всеми, как воздух и вода, с самого детства — Бог, Господь, Спаситель, и Пресвятая Богородица. И вдруг эта ненасытная неутолимая жажда «Карамазовых»! Меня не интересовали семейные дрязги — их я пролистывал. Зато описание монашеской жизни притягивали внимание. Но вдруг я понял, что меня раздражали и Алеша, который ходил в иноческом подряснике просто так, и выходил-входил в монастырь по своему настроению, и полусумасшедший «старец», который давал советы приходящим не по вдохновению от Бога, а от своего опыта, как психоаналитик. Не принимал я старца, который советовал целовать землю, искать восторгов в конце-концов «протух»… И всё казалось каким-то надуманным и ненастоящим… Это так удивило и расстроило: писатель жил в православной стране с тысячелетними православными корнями, а сам так и не прирос, не понял монашества, старчества, силы молитвы и живого общения человека с Богом. Там у него люди сами решают свои проблемы, вроде бы и нет Бога, Его всеведения и всемогущества. И не странно, что эту книгу не приняли монахи Оптиной пустыни, которая вдохновила писателя. А Серафим Роуз писал статьи против харизматической «ереси старца Зосимы». В моей же душе наблюдалась неразбериха.
Затем Олег дал мне почитать ксерокопию запрещенной книги «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Мне показалось, что ничего более интересного в жизни я еще не читал. Безусловно, Михаил Афанасьевич писал гениально! В моем сознании оживали вполне зримые пейзажи, события и образы. Впрочем, даже не образы — живые люди… и нелюди, включившиеся в реальную борьбу добра со злом. Под конец прочтения книги я абсолютно верил в существование сатаны.
Вот только образ Иешуа мне никак не нравился. В моем представлении Христос должен быть не подобострастным добрячком, а живым воплощением Бога! То есть мощным, нечеловечески умным и при этом по-отечески мудро-снисходительным к непутевым детям. Как сказал Олег, Булгаков был сыном преподавателя Киевской духовной академии. Заподозрить его в незнании Библии было бы глупостью. Что могло стать причиной столь уродливого образа Христа? Потеря веры? Страх перед гонениями? Богоборчество? Бунт личности писателя против Бога, месть за те беды, которые накрыли Россию с приходом коммунистов к власти? Я томился этим, мучился, задавал эти вопросы Олегу, но даже он не смог ответить на них.
— Всё! — резанул он по воздуху ладонью, — пора ехать в Загорск и купить там Библию. Надо читать первоисточник, а не литературную версию. И еще, знаешь, что я подумал? Нужно найти священника и поговорить с ним о вере. Чует мое сердце, что именно там мы найдем ответы на самые главные вопросы.
— Отлично, едем! — согласился я.
Каникулы
Чем более страшный и могущественный начальник, тем более притягательна и обаятельна его секретарша. В приемной нашего декана по фамилии и по сути Ежов сидела очаровательная девушка Нина и, как положено в таких случаях, источала обаяние и свежесть. Не смотря на свою молодость, Нина для студентов была «мать родная».
Например, однажды она протянула мне на подпись какую-то ведомость, а у меня не оказалось при себе авторучки; Нина сказала, что для студента этот предмет — как пистолет для армейского офицера. С тех пор и доныне авторучка всегда при мне. Так же она узнала, что я мыкаюсь по чужим углам, и «по секрету» посоветовала мне сдать кровь, стать участником художественной самодеятельности и учиться без троек — тогда мои шансы на получение места в общежитии и повышенной стипендии резко повысятся. Я прислушался к ее совету и небезуспешно.
А в конце сессии Нина — этот ангел! — изящным движением руки остановила меня в коридоре и посоветовала обратиться в профком за бесплатной путевкой. Мы с Олегом помчались в кабинет профсоюзных боссов и получили две последние путевки в Прибалтику. Вот так: ни за что и «за просто так»!
И в то время, как все нормальные студенты «обмывали» окончание сессии мутным дешевым вином, мы тряслись в поезде, следующем до города Таллин. Тряслись в прямом смысле слова. Ночью мне снился сон, будто я лежу не на верхней полке купе, а в комнате, по которой тараном наносят ритмичные удары агрессоры, осаждающие нашу крепость. От каждого удара стены содрогались, на голову сыпалась штукатурка, а плита потолочного перекрытия трескалась, угрожая рухнуть и раздавить. В ужасе просыпался и с облегчением обнаруживал себя в комфортном купе фирменного поезда, мирно доставляющего туристов в экзотические прибалтийские страны.
Экзотика началась для нас уже в вагоне-ресторане, куда мы с Олегом и еще с одним нашим сокурсником Лёвой зашли поужинать. Все столики там были заняты, а у буфета стояла очередь. Самым страшным для нас оказалось то, что все эти люди были хорошо одеты и говорили не по-нашему! Олег обратился с вопросом к тощему парню в строгом костюме-тройке. Он тряхнул длинными сальными волосами, пролепетал что-то на иностранном языке и со смехом отвернулся. Олег, не привыкший к такому отношению к своей персоне, скрипнул зубами, побледнел и еще раз похлопал по плечу невежу:
— Молодой человек! — рявкнул Олег. — Я к вам обращаюсь. — Тот повернулся и, напоровшись на испепеляющий взгляд моего друга, приоткрыл рот. — Вас разве не учили в детстве, что по правилам этикета положено отвечать на заданный старшим вопрос, и по возможности, на понятном ему языке, то есть на общегосударственном, русском. Итак, я повторяю свой вопрос: не смогли бы вы передать мне меню, которое лежит под вашим локтем?
— Да, конечно. Простите. Пожалуйста, — с испугу затараторил тот на чисто русском языке и трясущейся рукой подал «старшему» книжку меню.
— Уже лучше. Благодарю вас, — бросил Олег, углубившись в изучение главы «Напитки». — Да-а-а. Чую нас ожидает не легкая прогулка, а тяжелый воспитательный процесс в диковатой среде провинциального народа.
В Таллине нас поселили в средневековой гостинице «Три сестры», что в самом центре города недалеко от Ратушной площади. Бросив сумки в номере, мы, не смотря на возражения гида, вышли в город и «без сопровождения взрослых» стали бродить по узким мощеным улочкам. В «Мюнди-баре» наблюдали за виртуозной работой бармена в ослепительно-белом смокинге. Познакомились с молодым парнем по имени Гинтарас, который в одиночестве потягивал ликер из крохотной рюмочки и умирал от скуки. Пригласили его в нашу компанию, и дальше до глубокой ночи исследовали город с ним вместе.
Гинтарас уберег нас от штрафа во время перехода улицы. Там не было ни одной машины, мы было ринулись перейти дорогу на красный цвет светофора, но резидент решительно остановил нас. Чуть позже мы его поблагодарили: за колонной универмага прятался милиционер, который собирал штрафы с нарушителей и набирал за смену крупную сумму в несколько тысяч рублей. Так что наш коллектив сэкономил целых четыре рубля, с которыми решили решительно расстаться где-нибудь в теплом злачном месте.
Погода той зимой в Прибалтике стояла морозная, мы продрогли на ледяном ветру и решили согреться в ресторане гостиницы «Виру». Узнав, что на двадцать первом этаже имеется гриль-бар, мы поднялись на самую верхотуру и устроились за столиком у огромного окна. Не смотря на неурочное время — ни обед, ни ужин — нас окружали шумные компании финнов, немцев, эстонцев и, конечно же, наших русских соотечественников. В общем, засиделись мы там до ночи. Что-то около десяти вечера в бар вошла парочка из нашей группы — Саша и Маша — и рассказали, что в нашей гостинице «Три сестры» случился пожар, поэтому нашу группу переселили сюда, на 17-й этаж. Вещи наши уже там. Нас это известие вовсе не расстроило.
Мы познакомили Сашу и Машу с Гинтарасом и пригласили за наш стол, тем более что свободных мест видно не было. Эти ребята нам понравились. Они почти постоянно держали друг друга за руки, обменивались нежными взглядами. Лёва, открыв рот, неотрывно глядел на Машу. Я его понимал: девушка притягивала взгляд румяной свежестью и кроткой загадочной улыбкой. Однако правила приличия вынудили меня наступить под столом на ногу Лёвы, вернув его из страны розовых миражей в суровый социум. Лёва пришел в себя и, опустив глаза, покраснел. Вся эта идиллия была столь красива и невинна, что не могла продолжаться долго.
Но вот наши немецкие соседи что-то громко сказали, глядя на нас, хором заржали. Саша встал, поправил единственный в нашей компании галстук, застегнул верхнюю пуговицу пиджака, подошел к оратору и произнес по-немецки длинную тираду. Лично я уловил только слово «трауриг» — нечто похоронное. Когда Саша отошел от них и занял свое место за нашим столом, немцы подозвали официанта, расплатились и поспешно ушли. После них осталась батарея пустых бутылок из-под водки «Кристалл».
— Что ты им сказал? — спросил Олег.
— Эти неофашисты обозвали нас нехорошими словами. Я сказал, что они нас весьма огорчили, и если они немедленно не уйдут, то у них появится шанс провести эту ночь в сточной канаве с тяжкими телесными повреждениями.
— Саша — офицер ВДВ, — пояснила Маша, прижимаясь к его плечу головкой в светлых кудряшках. — У него есть награды. Но самая красивая награда — это его седая бровь. — Она бережно погладила его белую бровь.
— Как ты думаешь, Александр, почему они нас ненавидят? — спросил я.
— Думаю, это комплекс неполноценности побежденного.
— А мне кажется, это результат зомбирования, — предположил Лёва. — Знаешь, как им там средства массовой информации мозги против нас компостируют?
— А может быть еще из-за веры, — сказал Олег. — Они-то у себя православную веру огнем и мечом в средние века выжгли. А мы все еще живы. Им на беду.
— Да где она у нас, — возмутился Лёва, — православная вера? Мы же атеисты, безбожники.
— Ну, это не совсем так. Вера у нас есть, просто по большей части она скрыта. А наше поколение к православию вернется. Вот увидите.
— Откуда тебе известно? — спросил Саша.
— Из наблюдений, — туманно объяснил Олег. — Слушаю пульсацию невысказанных мыслей.
— А хорошо было бы, — задумчиво улыбнулся Саша. — Мне приходилось видеть смерть. Знаете, гораздо легче умирать, когда веришь в рай после смерти.
— Сашенька, — взмолилась Маша, — не надо об этом.
— Ну сама подумай, Машутка, как хорошо было бы встретиться после смерти в раю.
В тот день и в ту ночь мы непрестанно говорили. О чем? О судьбе, о роке, об истории, о смысле жизни, о смерти и посмертии. Иной раз Олег спрашивал, о чем говорят окружающие нас прибалты.
— О водке, жареном мясе, сексе и автомобилях, о собачках и аквариумных рыбках, — докладывал Гинтарас.
— И это всё, что их интересует? — удивился Олег.
— Увы, — смущенно кивнул резидент.
— Ты хороший парень, Гинтарас, поехали к нам, — предложил сердобольный Олег. — А то ведь зачахнешь тут…
На обратном пути мы сошли в Москве. Олег позвонил своему двоюродному брату и получил от него приглашение. Через полчаса мы сидели за круглым столом в огромной комнате коммунальной квартиры в одном из таганских переулков. Кузен Олега оказался пожилым полковником и преподавателем академии. Мы называли его Иваном Трофимовичем. Хлебали мы суп, а хозяин рассказывал, как писал диссертацию о Красной Армии. Рецензенты нашли в тексте недостаток упоминаний о товарище Сталине, о его руководящей роли в деле строительства армии. Пока Иван Трофимович шпиговал текст научной работы именем вождя, партия решила изменить свой курс и единогласно осудила культ личности. Рецензенты предложили молодому ученому изъять все упоминания о Сталине и особо подчеркнуть роль товарища Хрущева в деле становления армии.
Без малого шесть лет многострадальная научная работа томилась на полках разных комиссий. И наверное, так бы и не обогатила историческую науку еще одним бриллиантом мысли, если бы не… преферанс.
Иван Трофимович вступил в подпольный клуб любителей преферанса. Проиграв там за пару лет огромные деньги, он добился благосклонного отношения к себе одного очень высокопоставленного генерала, который одним звонком продвинул диссертацию в первые ряды длинной очереди соискателей. Так Иван Трофимович «остепенился», получил звание доцента, но по-прежнему посещает клуб и оставляет там почти все заработанные деньги. Это, конечно, объясняло удивительную пустоту и голые обшарпанные стены жилища уважаемого ученого.
После ночевки на почти голом паркете, скрипевшем от каждого нашего вздоха, после завтрака мы с Олегом оказались на Ярославском вокзале. Сели на мягкие сидения в зале ожидания и добирали недополученные часы ночного сна.
Вдруг Олег вздрогнул и тряхнул меня за плечо:
— Слышишь? Объявили посадку на электричку в Загорск. Поехали!
— Давай за билетами, а я куплю пирожков на обед.
Пока Олег убеждал очередь пропустить его вперед без очереди, я купил десяток пирожков с картошкой и две бутылки крем-соды. Отойдя от буфета, остановился рядом с бабушкой. Она сидела на чемодане и смотрела мне прямо в глаза. Я протянул ей два пирожка и рубль денег. Старушка кивнула и сказала полушепотом:
— Спаси тебя Господи, сынок. Ангела-хранителя тебе в дорогу.
Такие слова мне довелось услышать впервые. По мере приближения электрички к Загорску мы ощущали нарастающее волнение. Сошли с поезда и молча, по улочке частных домов вышли на площадь перед Лаврой. Вместе с нами внутрь крепостных стен входили четверо парней примерно нашего возраста. Они трижды перекрестились и сделали поклоны, касаясь рукой земли. Мы с Олегом поступили так же, впервые в жизни. Не спеша обошли закрытые храмы и, наконец-то нашли церковный магазин. Олег подошел к прилавку и что-то прошептал бородачу в черном сатиновом халате. Тот кивнул, взял протянутые деньги и из-под прилавка извлек сверток. Олег взял его и потащил меня к выходу.
— Библию купил. Теперь давай попробуем поговорить с монахами.
Мимо нас проходили трое монахов в развевающейся черной одежде. Мы ринулись к ним, но один из них остановил нас рукой и сказал:
— Простите, братья, мы опаздываем на лекции.
И тут к нам подошел неприметный мужчина в темно-сером пальто и негромко сказал:
— Ну-ка, быстро по домам! И без вопросов.
Мы вышли за ворота Лавры и нерешительно остановились перед автобусом с табличкой «Интурист». У закрытой передней двери стоял бородатый мужик и улыбался нам:
— Что, братья во Христе, и вас топтуны выгнали?
— Ну, да…
— А я вот тут по указанию партии и правительства группу японских товарищей сопровождаю. Экску-у-урсия. Представляете, подъезжаем к Сергиеву Посаду… Кстати, этот город называется именно так. А Загорском его прозвали в честь какого-то коммуниста. Подъезжаем сюда, а у них счетчики Гейгера как запищат! У них после Хиросимы у каждого в кармане такой счетчик вроде авторучки. Японцы испугались, головами закрутили, загалдели. Тут же рядом склад нейтронных боеголовок. Я им говорю: ребята, спокойно! Как прошли внутрь крепостных стен, ступили на святую монастырскую землю, — так все счетчики разом и замолкли. «Что такое?» — спрашивают. Я им: «Это благодать Божия! Она любую заразу уничтожает. Они эти слова в блокноты записали и стали учить наизусть. Всё ходили по Лавре и повторяли: «палакатать посия».
Мы с Олегом жадно впитывали необычное, боясь пропустить хоть слово. Мужик, почувствовал в нас благодарных слушателей, сверкнул глазами и продолжил:
— Это что! Вот послушайте, пока мои самураи не вернулись. Они сувениры покупают, увеличивая наши золото-валютные запасы. Так вот местному начальству пришло указание сверху — вернуть монастырские земли и скот Лавре. Ну, сами понимаете, председатель колхоза отрезал самые плохие земли и передал самый дохлый скот. А у монахов на этих бросовых землях урожай, как на Кубани! А коровки поправились и молока стали давать, как элитные швейцарские! Приезжали сюда деятели из сельхозакадемии, пытались под чудо Божие научную базу подвести. Наврали в своих отчетах с три короба, а когда им монахи про благодать сказали, так они только руками замахали: «Религиозная пропаганда! Мракобесие! Прекратите!» Это что же получается, японцы ближе к Богу, чем наши русские ученые? Да какой ты русский, если Бога променял на деньги и почести? Не зря Федор Михайлович говорил, что нет ничего более гнусного, чем русский человек без веры в Бога. Ну, ладно, братья, вон мои самураи бегут. Прощайте! При случае помяните в своих молитвах раба Божия Петра. Ангела-хранителя вам в дорогу!
На обратном пути из Сергиева Посада в Москву мы осторожно обсуждали свой марш-бросок в Лавру. Олег открывал портфель и гладил внутри Библию. Видно, она согревала его. А я рассказал, как однажды в Северном Париже нас — победителей школьной олимпиады — наградили поездкой в Ульяновск, родину Ленина.
Погода в день выезда резко испортилась, повалил мокрый снег. Наш автобус ехал ровно. Внутри теплого сухого салона было уютно. Мы смотрели за окно, где кружила метель и пели комсомольские песни: «А Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди!»
Вдруг автобус на подъеме в горку остановился, забуксовал колесами в снежном месиве и… стал сползать задом вниз. Там, за окном, по бокам дороги зиял овраг, глубиной метров семь. Нас тащило в эту пропасть. И шофер запаниковал, открыл двери и стал ругаться матом. Комсомольцы кричали, плакали, вскакивали с мест, толкались в проходе — но выпрыгнуть из автобуса боялись: с одной стороны под горку ехали машины, а с другой разверзлась пропасть, которая от страха казалась бездонной.
Я же сидел у окна, смотрел на людей, бьющихся в истерике, и удивлялся собственному безразличию. Мне было все равно, погибнем мы или выживем. Мне почему-то вспомнилась набережная Евпатории и наше с родителями посещение действующей церкви. Мама протянула мне монету в двадцать копеек, и я положил ее в ручку старушки. Та улыбнулась мне и сказала:
— Спаси тебя Господь, мальчик. Ох, и любит тебя Бог!
В те секунды всеобщей паники я чувствовал: меня любит Некто могучий и добрый и Он меня спасет из этой беды.
И тут наш автобус остановил свое скольжение в пропасть, его развернуло — и вот мы едем вниз со скользкой горы как нам и положено: лобовым стеклом вперед. Внизу, на ровной площадке автобус остановился, и многие выскочили наружу в ближайшие кусты. Водитель рассматривал вмятину на корпусе и громко пояснял, что вот сюда уперся бетонный столбик и развернул машину. Потом пальцем показывал на маленький белый столбик, одиноко торчащий на краю дороги. Я сидел и молча радовался нашему спасению. В голове прозвучало: «Слава Богу», и тогда я понял: Бог меня любит.
— Значит, не пустил тебя Господь поклониться главному безбожнику, — подытожил Олег мой рассказ.
Театральная жизнь
Олег проживал недалеко от меня. Часто заглядывал ко мне «в угол», раскланивался с хозяйкой, выслушивал анекдот от соседа-дирижера. Иногда у нас звонил общий телефон, и бывший солист театра раскатистым басом звал кого-нибудь из жильцов:
— Изольда, девочка, тебя к телефону какой-то тайный меценат!
За чем следовали быстрые шаги по коридору и ответ бывшей меццо-сопрано:
— Боричка, это не меценат, а четвертый муж, самый красивый!
— Изуля, но мы-то с тобой знаем, что самый красивый мужчина в твоей жизни был я.
Олег с интересом относился ко всему, что происходило в нашем доме, но особенно любил заглянуть на кухню и переброситься парой комплиментов с балеринами. Мне они напоминали увядающих девочек-подростков. Казалось, им так и не удалось повзрослеть. Абсолютно все заботы этих пожизненных травести сосредоточились на потребностях тела. Довольно часто в их среде вспыхивали дикие сцены ревности, гремели скандалы с битьем посуды.
Однажды и ко мне подошел такой «Отелло» и стал угрожать. За полчаса до этого я помог его хрупкой жене перенести тяжелый бак с бельем с газовой плиты в ванную. Выслушав до конца обвинительную речь ревнивца, я посмотрел ему в глаза и вкрадчивым голосом произнес расхожую фразу жителей Колизея: «Еще раз попадешься мне на глаза — ноги повыдергиваю!» Эта дежурная фраза в Северном Париже обычно никого не задевала. Подобные выражения звучали там постоянно, и почти никогда до дела не доходило. А тут!.. «Отелло» как-то сразу весь затрясся, побледнел, вздернул востренький подбородок и быстрым шагом покинул сцену… простите — коридор. С тех пор он меня избегал и ввиду моего приближения моментально скрывался за кулисами… простите — дверью комнаты. А его хрупкая женушка наоборот, искала со мною встреч и всегда находила возможность продемонстрировать моему взору свои мускулистые нижние конечности в самом выгодном ракурсе.
Как-то раз Олег затащил меня в гости к басовитому Боричке. Но уже через полчаса Олег вспомнил о срочном деле, и мы с ним вышли на улицу.
— Не представляю, как можно этим жить? — Пожал он плечами.
— Да ладно тебе, — вздохнул я, — обычные люди, только не сумели повзрослеть. В детстве научились играть, так и остановиться не могут. Они же как дети!
— Знаешь, — сказал Олег, — а я ведь помню этого Борю в роли Мефистофеля. Я тогда совсем юным был, впечатлительным. Ох, как он меня потряс! …И Мефистофель и спектакль… Как это было мощно! А теперь — сплетни, пошлость, шутки ниже пояса. Тьфу.
— Да полноте. Лучше посмотри на эту красоту. — Повел я рукой в сторону Стрелки.
Там, над местом слияния двух великих рек — Волги и Оки — горел в полнеба закат цвета раскаленной стали. По золотистой поверхности воды плыли белые теплоходы, рыжие баржи, сновали катера и яхты. Асфальт набережной под нашими ногами, стены Кремля чуть дальше, панорама междуречья, заливные луга поймы до самого далёкого горизонта — всё утопало в золотисто-розовой дымке.
— Как я люблю всё это! — воскликнул Олег. — Смотри: какое величие, какой простор! А ты знаешь, Юра, что сказал Теодор Драйзер о Нижнем в 1927-м году? Вот, что он сказал: «…Нижний Новгород, по-моему, — один из наиболее привлекательных и интересных городов, какие я видел в России. Он мне нравится, потому что он имеет Волгу, потому что он не такой плоский как Москва или Ленинград, потому что в нем тот же живописный тип русских построек, — и при всех этих чисто русских привлекательных чертах в нем, мне кажется, вполне современная, шумнодеятельная, живая атмосфера американского города». Не зря же в 1924-м году Советское правительство поднимало вопрос о перенесении в Нижний Новгород столицы, подальше от границ, подальше от Запада и поближе к сердцу России.
Я молчал. Мне тоже всё это нравилось, только восторгов насчет Нижнего разделить не мог: мне приходилось видеть не только центральную часть города, но и неказистые дома и домишки, унылые рабочие районы с непросыхающими жителями, даже побывал «на городском дне». Поэтому мое отношение к Нижнему было спокойным: да, есть очень красивые места, но и уродства немало.
Не дождавшись от меня воплей восторга и бурных оваций, Олег кашлянул и тихо запел:
Однажды вечером я шел к реке,
Бумажный голубь был в моей руке,
Зачем, почему тогда не думал я,
Что это молодость моя…
— Слушай, Юрка! — Схватил он меня за плечо. — А ведь молодость в самом деле уходит. И вечер этот уходит в Лету. А давай встряхнемся! Идем на веранду Речного вокзала, оттуда Волга-матушка видна как на ладони.
Олег постоянно крутил головой, высматривая знакомых. Я же любовался последними всполохами заката.
— Кого я вижу! — воскликнул Олег. — Это шикарная женщина! Да что там — это человек!
— Что-то не помню, чтобы это слово ты применял к женщине, — пробурчал я, разглядывая роскошный четырехпалубный теплоход, который швартовался у первого причала. Обычно такие суда, собранные в Германии, предназначались для плавучих санаториев Четвертого Управления Минздрава, и на них отдыхали члены правительства.
— Это исключение, которое подчеркивает правило. Представляешь, Юр, иду как-то по Сверловке и тщательно разглядываю дорогу под ногами. Смотрю — навстречу идет девушка. Я ей говорю: «Сегодня я не в форме, поэтому давайте не будем ничего говорить. Я вам потом всё объясню. Только напишите ваши телефон и имя». Она написали и протянули бумажку. Утром позвонил, и мы встретились. Она — само очарование! Красива, умна, обаятельна! Но неприступна. И это самое интересное! …Так, рядом с ней какой-то суровый дядя. Пошел, поздороваюсь.
— Давай, — сказал я, неотрывно разглядывая золотистый речной пейзаж.
Минут через десять рядом со мной раздался приглушенный смех, на мое плечо опустилась горячая рука. Я чувствовал её тепло сквозь шерсть пиджака и нейлон рубашки. Нехотя оторвался от созерцания панорамы за окном и поднял глаза на обладателя руки. Сначала увидел стройную фигуру, стянутую шикарным платьем, длинную шею и, наконец, улыбающееся лицо. О, эти огромные блестящие глаза кофейного цвета, этот румянец на смуглых щеках! Мне ли забыть это лицо, когда я часами любовался им, наблюдая таинственную его переменчивость!
Да!.. Передо мной стояла «другиня» детства Ирэн! Она хлопнула меня по плечу, обняла и чмокнула в щеку.
— Юрка! Юрочка! Каким ты стал!
— Ирэнушка, девочка моя, да ты стала еще красивей. Просто дух захватывает!
— Что же ты отпустил меня? Я ведь была влюблена в тебя по самые средние уши!
— Ну, ты сказала! Да я рядом с такой красавицей чувствовал себя юнцом безусым, как жеребенок перед элитной лошадкой.
— Брось ты, Юрочка! Я смотрела на тебя, как на богатыря. Ты для меня всегда был идеалом мужчины. Ничего-то ты в женщинах не понимаешь.
— Ну а ты как здесь? Освоилась?
— Да, я тут уже своя в доску. Пойдем, с женихом познакомлю. Оценишь. Если не понравится, — брошу. Чес-слово!
И вот мы с Олегом внедрились в их компанию. Олег весело щебетал с симпатичной девушкой. Я молчал. Пока Ирэн меня представляла, — меня буровили цепкие глаза Виктора — жениха Ирины. Олег хлопнул в ладоши и сказал:
— Отгадайте, кто это? — Он посмотрел на окружающих исподлобья и стал водить зрачками слева направо и обратно, как радар.
— Витюша! — вскрикнула соседка Олега. — Вылитый Витя-чекист.
Рассекреченный контрразведчик едва заметно скрипнул зубами, но лицом почти не изменился. Этот мужик напоминал мне белого волка. Белого — потому что блондин, волка — потому что в его облике сквозила скрытая свирепость.
— Ну как он тебе? — спросила Ирэн.
— Ты хочешь услышать сладкую ложь или горькую правду? — прошептал я.
— Понятно!.. — протянула она. — И почему?
— Волчара, — выдохнул я. — Такому глотку перегрызть, как мне стакан кефира выпить.
— Как раз это мне нравится больше всего, — призналась она.
— Вот и читай вам после этого стихи, — пробурчал я. — Ну, тогда… вперед в ЗАГС.
— Сейчас не получится. Он женат.
— Сочувствую. А как у тебя всё остальное?
— Нормально. Учусь на заочном. Работаю в Кремле. Ты заходи при случае. Я сижу в секретариате филармонии. Там весело. Знаменитости разные косяками шастают. Ты знаешь, Юра, я очень рада, что тебя встретила. Я ведь, кажется, до сих пор к тебе… не равнодушна.
— И я…
— Да и это… Приятно, что где-то рядом находится хороший человек. Из нашего детства. Понимаешь?
— Конечно. Только… Пожалуйста, не прижимайся ко мне, а то у меня возникают к тебе чувства отнюдь не детские. Пощади.
— Ладно. — Отодвинулась она. — Так нормально? А ты что, все еще в мальчиках ходишь?
— Надеюсь это состояние продлить до самой свадьбы.
— Реликт! — Вспыхнула она. Потом нахмурилась и тихо произнесла: — Кажется, я завидую твоей избраннице. Ты как всегда — лучший.
— Знаешь, Ириш, когда между нами исчезает этот животный барьер, ты становишься для меня очень близким человеком. Думаю, что дружба всё же выше влюбленности.
— Ага, — сказала она баском, — Это как вместо спирта — земляничное мороженое.
Палач
Лёва, который ездил с нами в Прибалтику, жил на Ковалихе в частном секторе. Иногда я к нему заезжал в гости. Его хозяйка тетя Лиза работала кондуктором трамвая, а её дочь Валя — в канцелярском отделе универмага. Этим объяснялся постоянный избыток у Лёвы дефицитных общих тетрадей и ватмана. Он иногда делился с сокурсниками дефицитом по цене ниже государственной.
В тот вечер я заехал к нему еще и для того, чтобы разобраться с интегралами, в которых математически одаренный Лёва купался будто в собственном пруду — весело и шумно. В доме как всегда шумело застолье. Дело в том, что Валя пребывала в возрасте невесты, поэтому смотрины с чередой женихов здесь практически никогда не прекращались.
Мы с Лёвой посидели пару часов над тетрадками с интегралами, и у меня в голове началось легкое кружение. Интегралы извивались перед моим затуманенным взором, как черви и шипели по-змеиному: «Ну что тебе не понятно? Интеграл е-икс на дэ-икс равен е-икс. Тупица!» Я предложил прогуляться. Но тут в дверь нашей комнаты энергично постучала кондуктор тетя Лиза и громко пригласила нас за стол. Причем, меня потащила за руку, видимо, в качестве очередного соискателя руки ее дочери.
За столом кроме матери с дочкой сидел коренастый парень с бордовым лицом и мокрыми волосами. Валя сидела рядом и, подперев щеку, изо всех сил изображала внимание к словам соискателя. Наше с Лёвой появление прервало речь оратора. Нам положили котлет, винегрета, соленых грибов. Я как всегда принялся рассказывать веселую историю. Валя сверкала в мою сторону покрасневшими глазами, а я неотрывно смотрел на висячую бородавку на ее носу.
Парень с бордовым лицом по имени Вова погрустнел. Наконец, исчерпав запас красноречия, я приступил к жадному поглощению закуски. Соискатель воспрянул духом и продолжил свой рассказ. Я был настолько голоден, что набросился на котлеты с винегретом и сквозь урчание в животе и клацанье собственных зубов схватывал лишь отрывки его рассказа: «…получил штатное оружие…», «…веду заключенного в комнату исполнения приговора…», «…заключенный затрясся и намочил штаны…», «… я протянул руку и выстрелил в затылок…».
Последняя фраза остановила мощное движение моей нижней челюсти, и я застыл. Вова смотрел на меня, на Валю, тетю Лизу и в полной тишине упивался всеобщим ступором. Я с трудом проглотил недожеваную котлету, запил томатным соком и задумался. Значит, сижу я за одним столом с палачом? Только этого не хватало.
Рассказчик, видимо, как всякий слабый человек, нуждался в самоутверждении. И, судя по всему, единственное неординарное, что случилось в его жизни, был расстрел заключенных. И, стало быть, именно этим Вова усиленно влюбляет в себя несчастную девушку с бородавкой на носу, неказистую, но добрую и ищущую натуру.
Невеста вскочила и суетливо затрусила в сени, где в прохладе томились эмалированные ведра с соленостями. Я под шумок вышел вослед и, прикрыв за собой дверь, спросил девушку:
— Валюш, ты поняла, что он палач?
— А что такого?
— Тебе не страшно? Он же рукой, которой расстреливал людей, будет тебя обнимать.
— Ну и пусть, — буркнула она, опустив глаза. — Зато он меня любит. Ты-то вон мне в любви не объясняешься, а Вова уже…
— Заяц-зайчиха, палач-палачиха, — мстительно скаламбурил я. — Ладно, валяй. Тебе жить.
Тетя Лиза энергично ворвалась в сени и потащила меня с Лёвой на улицу. «Я провожу ребят, а потом на смену до утра! А вы культурно отдыхайте!» — бросила она дочери и соискателю. И вытолкала нас из дому.
— Юрка! — Хлопнула она меня по плечу. — Ты чего Вальке жизнь портишь? Не видишь, у них всё срастается!
— Так ведь палач!.. — вздохнул я.
— Ну и ладно. Нам-то что. Лишь бы человек был хороший. Ты не встревай, ладно?
— Да ладно. Не буду.
— Пойдемте, я вас на трамвае бесплатно прокачу.
— Пойдем.
Мы сели в чешский вагон трамвая на мягкие сиденья и затихли. От тепла и сытости я скоро задремал и мне приснился сон.
Завершив работу, палач сдал инструмент каптерщику, переоделся в повседневный костюм и вышел на улицу. Солнечный свет полоснул по глазам и на миг ослепил. Зажмурившись, он подумал: не забыть купить батон на ужин. Вчера после сериала он «накрутил» котлет из парной телятины, сварил гречневую кашу, поставил бутылку пива в холодильник — только хлеба не хватало. Он поморгал, привык к свету и не спеша отправился домой.
В голове звучала давно забытая песня: «Рабочий день закончен, можно отдохнуть. В тени бульваров вволю воздуха глотнуть. На перекрестке шумных улиц, у витрин, я как и прежде, как и прежде всё один…» Сердце слегка кольнуло. Люди, как узнавали о его профессии, почему-то начинали сторониться. Хоть, если трезво рассудить, чем она хуже любой другой? Кому-то надо и человеческий мусор убирать, раз государство так решило. А он «человек государев».
Вспомнился нынешний приговоренный. Странный парень! В последние минуты обычно или впадают в истерику, или в ступор. Сегодняшний был спокойным, даже улыбался, чуть грустно. Он сказал: «Давай покончим с этим поскорей. Что-то я так устал». Другие цепляются за каждую секунду жизни. Иной раз пальцы не расцепишь… А этот последнюю рюмку водки пить отказался, сигарету не взял. Священнику, правда, исповедался как-то очень проникновенно. И так преспокойно отдал себя в руки палачу. Пожалуй, это даже уважение вызывает. Даже выстрел в его бритый затылок прозвучал как-то особенно мягко.
Вдруг он остановился и замер. Перед ним на асфальте лежала роза. Еще бы шаг, и он раздавил бы ее ботинком. О, как она была прекрасна! Белый полураспущенный бутон с нежными лепестками, темно-зеленые листья дивной формы и длинный изящный стебель. Палач наклонился, осторожно, чтобы не уколоться, поднял цветок. Стебель надломился посредине и упал, покачиваясь на тонкой матово-зеленой кожице. Вот почему тебя выбросили! И вдруг его захлестнула такая острая жалость! Он сидел на корточках и беззвучно плакал. Жалко было себя, эту сломанную розу, молодого еще приговоренного. Он оплакивал свою загубленную молодость, одиночество, сломанную красоту и всеобщую обреченность.
Палач достал носовой платок, высморкался, промокнул глаза. Его взгляд нечаянно упал на вывеску: «Хлеб». В животе что-то натянулось и громко заурчало. Он вспомнил о батоне, о вкусном ужине, отбросил розу и поспешил в магазин.
Лёва растолкал меня, и мы вышли прямо у моего театрального дома.
— Ты меня переночевать к себе пустишь? — спросил он. Друг смотрел на меня умными, грустными глазами бездомного гения.
— Конечно, Лёва.
Я пригласил соседа-дирижера в мой закуток и на чертежной доске, укрытой ватманом, разложили мы скромный студенческий ужин на троих с ливерной колбасой и жареными макаронами с луком. Говорили о палаче Вове, несчастной Вале и, как всегда в таких случаях, повторяли знаменитые слова Ильича: «Мы пойдем другим путем!»
Девушка
Видел я её и раньше, но не замечал. Она долгое время оставалась частью толпы. И вдруг она прошла мимо — и на меня повеяло свежим ветром. Оглянулся — и разглядел в её силуэте дивный цветок. Вот так, со спины, она показалась цветком на ветру, стебель которого изгибался, листья трепетали, а лепестки сияли.
Всю лекцию поглядывал на неё, разгадывая тайну. Что-то в ней обнаружилось такое притягательное… Она встречалась, сидела и разговаривала с разными людьми. Она одевалась в разные одежды, и свет падал на нее и освещал по-разному. Но что-то оставалось неизменным и манило, притягивало к ней внимание.
Девушка носила в себе радость. Она просвечивала сквозь одежду и волосы, она сквозила в каждом движении тела и наклоне головы. На кого бы она не смотрела, взгляд ее всегда был направлен внутрь. Она жила глубоко внутри себя, там, на глубине, происходили сокровенные события. Но она излучала радость. И я её ощущал.
Нечто вроде этого я видел лишь на портретах гениальных художников или у детей. И вдруг обнаружил в человеке из толпы, и она проявилась, как алмаз в толще кимберлитовой глины.
Я остерегался подойти к ней и заговорить. Казалось, от сближения тайна может улетучиться, рассыпаться в прах и стать чем-то обыденным. Опыт разочарований ставил барьер между мной и таинственной девушкой. Но я знал, что сближение неминуемо — так сильно меня влекло к ней. Выжидал как охотник удобного момента для выстрела, как больной выздоровления, как пленник освобождения.
И вдруг произошло нечто очень сильное! После долгой непогоды вышло солнце, и душистым теплом разлилась по улицам весна. Я сидел у распахнутого окна, вдыхал терпкий тополиный запах и слушал Битловскую «Girl». В те минуты песня золотистым облаком окутала меня, стала переливаться светящимися лучами, и один из лучей проник в сердце и зажег там тёплый огонёк.
Is there anybody going to listen to my story
(Вот послушайте, кто-нибудь мою историю)
All about the girl who came to stay?
(Про девушку, с которой хочется остаться навеки)
She's the kind of girl you want so much,
it makes you sorry,
(Она из тех девушек, которые безумно притягивают к себе,
и от этого страдаешь,)
Still you don't regret a single day.
(Но всё равно ты ни дня не жалеешь об этом.)
Ah, girl, girl, girl.
(Ах, девушка, девушка, девушка.)
…Плач ребенка заставляет проснуться усталую мать, плач над телом умершего трогает самых черствых людей, плач влюбленного заставляет таять снег и проливает весенние ручьи на всю планету. В этой песне звучала мелодия плача — тихого, задумчивого, очищающего и живого. Это он вздохами, всхлипами и протяжным стоном простенькую песню поднимал до высот шедевра. Там, в светлых струях плача, таилась загадка её популярности. Потому что это всегда искренне и понятно, это близко любому и каждому.
В груди ровно горел огонёк. Счастье заполнило меня до краёв и требовало выплеснуться наружу. Этим хотелось поделиться с тем, кто сможет понять и разделить невесомость парящего полёта. Вспомнилась девушка с радостью внутри, её имя Дина — и барьер между нами рухнул. Я встал и пошел к ней на встречу.
Вышел на улицу, купил шоколадку. В деканате у Ниночки обменял её на домашний телефон Дины и без колебаний позвонил. Ответила она и сразу согласилась встретиться. Всё произошло так стремительно, что не успел я ни усомниться, ни удивиться. Через полчаса мы встретились ни площади Горького и сели за столик кафе. Мне хотелось рассказать ей так много!
Над нами стояла женщина в белом переднике и говорила о столичном салате, солянке, антрекоте и мороженом. Ей отвечали наши голоса. Потом они еще озвучивали что-то на тему погоды, экологии, зачетов, экзаменов, практики…
Меж тем… меж нами ж вот, что происходило.
— Не хочется думать, что мне может не хватить денег расплатиться.
— Не хочется и не думай. Я же понимаю, что пирую со студентом, поэтому прихватила с собой кошелек. Давай об этом не будем.
— Хорошо, не будем. А ты, Дина, не только добрая, но и предусмотрительная.
— Мы ведь друзья, не так ли? А о друзьях нужно заботиться.
— Конечно. И очень хочется, чтобы это была высокая дружба. Ты понимаешь?
— Понимаю, Юра.
— Сегодня замечательный день. Давно не чувствовал такого душевного подъема.
— Замечательный. Я тоже…
— Ты не слышала сегодня песню Биттлз «Девушка»? Она несколько часов летала по нашей улице. Я распахнул окно, и она на волне теплого света залетела в комнату.
— И сегодня, и каждый день в последнее время слышу эту прекрасную песню.
— Ты знаешь ее перевод?
— Так, в общих чертах. Но ведь и без перевода можно понять, что там живет боль и радость.
— Мне слышится в песне плач. Сердце откликается на эти стоны и всхлипы.
— Да, пожалуй, плач и я там слышу. Мне эта песня представляется теплой струёй воды, омывающей заплаканное лицо влюбленного. Скажи, Юра, почему любовь всегда несет в себе печаль? Почему? Ведь это самое светлое и высокое чувство человека?
— Наверное потому, что в эту чистую реку мы входим нечистыми и замутняем прозрачность. Мы хотим слиться с чистотой, но не можем по причине собственной грязи.
— Да, наверное, — грустно улыбнулась она. Но потом подняла глаза, сверкнули две молнии и она подняла бокал сухого вина, к которому лишь едва прикасалась губами. — Юра, пусть будет так. Пусть вместе с ней приходит грусть и даже боль. Пусть будут плач и смех сквозь слезы. Все равно это самое лучшее, что есть в нашей жизни. Поэтому, давай поднимем эти бокалы с игристым вином за любовь!
— Давай!
— Знаешь, Юрик, я так разволновалась, что у меня появился волчий аппетит. Давай поедим?
— Давай! Я тоже чувствую голод.
— Скажи, ты ведь что-то хочешь спросить? Сегодня можно всё! Спрашивай, что хочешь.
— Да, хочу. Понимаешь, Дина, если бы это случилось сейчас, когда пришла такая теплая и душистая весна, я бы не удивился. Но я это заметил гораздо раньше, когда было серое небо и лил холодный дождь. Весной каждое живое существо улыбается и распахивает душу всему хорошему. Но меня удивило то, что ты носишь в себе какую-то очень сильную радость. Ты будто светишься вся изнутри. Что это?
— Не что, а кто. — Улыбнулась она загадочно. — У этой моей радости есть имя. Хочешь его услышать?
— Да, если можно.
— Владимир.
— Кто же этот счастливый избранник? — спросил я, чувствуя резкий укол ревности.
— Мой будущий сынок. — Снова улыбнулась она рассеянно.
— Но я не вижу на безымянном пальце правой руки обручального кольца! Будущий отец знает о Владимире?
— Нет, пока не знает.
— Он бросил тебя?
— Мы часто встречаемся. Я ему пока ничего не говорила.
— Боишься? Хочешь я с ним поговорю. Я не минуты не сомневаюсь, что он разделит с тобой радость. Ведь на тебя даже смотреть приятно — ты светишься от счастья!
— Правда? — Вспыхнула она. — Не волнуйся. Скажу, когда настанет время. Спасибо тебе, Юра за участие. Мне это очень приятно. Только, понимаешь, я уже счастлива. Моя жизнь стала такой глубокой и нужной. Если он захочет, пусть присоединится. А если он воспримет нас с сыночком как обузу, — что ж, пусть будет свободным. Лишь бы ему было хорошо. А я в любом случае останусь довольной. Ты не представляешь, каково это — носить под сердцем ребеночка. Там будто зарождается новая вселенная. Это так здорово!
Мы в тот вечер много разговаривали, потом ходили. На Верхне-Волжской набережной, куда высыпали толпы людей, мы дышали свежим воздухом, смотрели на сверкающую воду, на далекие и широкие просторы. Нас обтекала праздная толпа, иногда мне доставались толчки, но Дина своим соседством обогревала меня. Я пытался ее глазами смотреть на мир. Пробовал почувствовать расширяющуюся внутри вселенную…
Раньше я думал, что девушка — это цветок, это сама жизнь, это высший пик женственности. Видимо, я ошибался. Самое лучшее, что может случиться в жизни женщины — это материнство.
Повелительница умов
Погожее субботнее утро. Мы с Олегом решили сдать бутылки. Собрали их в сумки, рюкзак и вышли «на охоту» Среди панельных домов, сзади стеклянного магазина, в зарослях сиреневых кустов затерялся сарай. На фасаде желтела надпись охрой:
Пункт приёма стеклотары
9 — 18
Ниже — зарешеченная витрина с образцами посуды и ценниками. Правее — приёмное окно с широким подоконником.
Мы с Олегом заняли очередь, присели на свободный ящик и погрузились в созерцание под чай из термоса с бутербродами. Олег жил в этом академическом районе почти всю жизнь и знал в лицо едва ли не каждого. Иногда он наклонялся к моему уху и пояснял, кто здесь кем работает.
Подошел преподаватель философии, спросил:
— А кто крайний? — И с облегчением опустил на траву огромные сумки, снял с плеч брезентовый рюкзак. — Кто сегодня ведет приём? — деликатно поинтересовался он.
— Лёля, — вздохнул впередистоящий кандидат наук.
— Это не очень хорошо, — сказал преподаватель философии.
— В конце концов, каждый индивидуум самовыражается по-своему, — сказал замдиректора завода «Спецтехника»
— Это кто там выражается?! — рявкнула из окна Лёля. — Здесь только я могу на вас выражаться. Следующий!
Первый очередник, начальник отдела НИИ «Вакуум», бросился поспешно выставлять бутылки из английской кожаной сумки на подоконник.
— С наклейками не берем. — Отставила три бутылки приемщица.
— Сейчас, Лёлечка, я мигом. — Начальник отдела НИИ поднял из-под ног осколок зеленого стекла и принялся соскребать им наклейку.
Приемщица переставила бутылки с подоконника в ящик, пересчитала и протянула деньги.
— Следующий!
— Лёлечка, а как же эти три? Я быстро!
— Следующий, я сказала! — крикнула Лёля, и начальника отдела НИИ оттеснили в сторону. Тот пересчитал деньги и чуть не заплакал:
— Тут не хватает двух рублей. Мне же даже на бутылку водки не хватит.
— Уберите отсюда этого счетовода, а то закроюсь, — прогудела начальница.
— Слушайте, уважаемый, — заволновалась очередь, — шли бы вы домой, не мешайте народу.
— Нет! — взвизгнул по-бабьи начальник отдела НИИ, вытирая лоб мятым носовым платком. — Это принципиально! Меня обсчитали, меня обворовали у вас на глазах!
Плечистый аспирант Политеха выхватил из его рук носовой платок и затолкал хулигану в рот. Схватил за плечи и вытолкал бузотера из очереди.
— Правильно! Так его, диссидента, — одобрила очередь.
— А ты что тут мне наставил? Совсем уже крыша слетела? — закричала Лёля, — С плечиками не берем!
— А за полцены, Лёлечка, — ласково спросил артист драмтеатра.
— Тары нету! Не видишь, всё под завязку!
— А вон там, в уголочке есть ящик под «плечики». — Показал он внутрь приемной.
— Ты что совсем с ума съехал? Это ж Борькино кресло. Он на нём сидит. Так. Следующий!
— Да что же это, товарищи! — Профессионально воздел руки актер. — Обсчитала меня да еще и бутылки брать не хочет! Это возмутительно! Я в горком жаловаться буду.
— Ах, так! — Сузила глазки Лёля и смачно по слогам произнесла: — Пе-ре-рыв!
Окно закрылось. Очередь исподлобья посмотрела на артиста. Плечистый аспирант угрожающе заиграл жирными бицепсами. Актер попятился, отбежал подальше и визгливо крикнул:
— Она вас тоже обворует!
— В конце концов, каждый самовыражается, как может, — ответил за всех преподаватель философии.
Олег задумчиво отложил бутерброд и полушепотом сказал:
— Как сказал Эрнст Теодор Амадей Гофман: «На земле глупость — подлинная повелительница умов. А рассудок её ленивый наместник, и ему нет дела до того, что творится за пределами королевства…»
В молчании прошли полчаса. Очередь с надеждой смотрела на закрытое фанерной дверкой приёмное окно. Сладко пахло сиренью, птицы весело щебетали. Откуда-то издалека доносилась песня про синее море и белые чайки. А солидные мужи напряженно стояли, не отрывая глаз от заветного окна.
В метре от нашего ящика лежала смятая купюра в пять рублей. Олег посмотрел на неё и сказал:
— Не хочешь подобрать?
— Нет, — ответил я, внутренне борясь с искушением: деньги-то немалые. — Знаешь, у меня в детстве были два случая, которые отбили желание что-либо подбирать.
— Расскажи.
— Мне тогда было лет десять. Гулял как-то с приятелем и рядом с мусорной урной нашел пятьдесят рублей пятерками. Я их поднял, ошалело разглядывал, а Валерик вцепился мне в руку и требовал их истратить на конфеты и пирожные, удочки и кино, а еще!.. а еще… А я отнес их в милицию и сдал под какую-то расписку, которую они мне не выдали, а «подкололи в дело». Потом вышел из милиции, постоял на крыльце и вернулся. Мне было неясно, что дальше-то делать. Я вернулся в отделение и нерешительно остановился перед дверью — за ней милиционеры смеялись надо мной и делили деньги. Досталось мне и от родителей. Через пару недель в снегу нахожу золотые часы и снова несу в милицию, но уже в другое отделение. Там встречает меня уборщица, строгая такая. «Нету никого тута», — говорит. Золотые часы жгли мне руку. Я отдал часы бабушке. Она обещала, что передаст, «кому следывает». И буквально вытолкала меня за дверь. Я уже догадался, что она присвоит часы, но мне было все равно. Родителям на этот раз ничего не сказал. Но на душе было нехорошо. С тех пор ничего с земли не поднимаю. Хоть, соблазн есть, не скрою, и внутреннюю борьбу, конечно, чувствую.
В это время подбежал актер и спросил, не видели мы пятерку, которую он от волнения выронил. Олег молча показал на смятую бумажку на земле. Тот схватил её и, не поблагодарив, убежал.
…Наконец, дверца со скрипом медленно отворилась, из окна по пояс высунулась приёмщица в белом. О, этот таинственный белый цвет — даже в пыли и пятнах всегда остается светлым и жизнерадостным! Видимо, в перерыв Лёля крепко выпила и обильно закусила, поэтому выглядела вполне счастливой. Ее розовое бугристое лицо с густо накрашенными блестящими глазками, с крупными скулами, щеками и золотыми зубами, в которых перекатывался окурок «Салема» — всё это сияющее великолепие излучало триумф.
Несомненно, сейчас настал миг, ради которого она крейсерской грудью пробивала путь к этому хлебному месту. Здесь власть ее была безгранична. Сейчас научные работники, начальники, творческая интеллигенция, населяющие окрестные дома, стояли перед ней, как голые призывники перед генералом в орденах и лампасах. Лёлины руки владели реальными деньгами, которыми она царственно одаривала полунищих людишек в обмен на «стекло», собираемое тайком у магазинов и в скверах… Частенько извлекались бутылки из мусорных баков и заплеванных урн. Да что там!.. Иной раз приходилось отбивать вожделенную бутылку у старушек, бичей и… таких же малоимущих коллег.
Лёля медленно обвела пронзительным взглядом почтенное собрание и с почти материнской нежность произнесла:
— Ну что, ботаники, при-ши-пи-лись?..
В абсолютной тишине весело пели сумасшедшие птицы, томно благоухала сирень, сияло золотое солнце. И жизнь!.. Эта дивная, чудная жизнь — продолжалась!..
Полёт в Калифорнию
Дома Олег посадил меня в кресло и поставил кассету на магнитофон. На коробке фломастером было написано: «EAGLES. Hotel California».
— Оказывается, слово Калифорния пишется через «Cи», — удивился я открытию.
— Да, так же как и слово «коррект» — правильно. Так что «всё правильно» — «all correct» — грамотно зашифровать не «ОК», как это делают американцы, а «AC» — Эй Си.
После шипящей паузы, грянули гитары. То, что я услышал, надолго стало любимой песней. Вокруг меня кружились ритмичные звуки, пели гитары, чуть хрипловатый высокий голос произнес «Отель Калифорния». …И меня унесло на океанские пляжи, где я вместе с хиппи валялся на теплом песке и под гитарные перезвоны любовался роскошными закатами. Там царили миролюбие, цветы и любовь. Туда от богатых родителей, свихнувшихся на деньгах и славе, сбегали молодые пацифисты, отращивали волосы, попрошайничали, сочиняли психоделические песни и воззвания против войны и частной собственности. «Там некогда бывал и я» — мысленно, конечно. И туда снова попал сейчас, пока звучали рыдающие струны гитар и высокий голос рассказывал мне о далекой Калифорнии.
— Это песня прощания с движением хиппи, — сказал Олег. — Группа «Иглз Эйр».
— У тебя есть перевод этой песни?
— Нет, но есть текст. Давай съездим к моей кузине Тоне, она нам переведет.
Олег поговорил по телефону, и мы выскочили на улицу. Чувствуя нарастающее волнение, мы взяли такси, перелетели над Окой по Канавинскому мосту, выехали на Стрелку и остановились сразу за зданием Нижегородской ярмарки. Там быстрым шагом пронеслись мимо памятника Ленину и чуть не бегом поднялись на третий этаж панельного дома. Нам открыла дверь миловидная брюнетка лет тридцати и вежливо пригласила в дом.
— Вы так быстро, — напевно произнесла она, — я даже не успела ничего приготовить. Есть только торт со вчерашнего дня рождения.
— Чьего?
— Моего, конечно, — улыбнулась хозяйка. — А ты, братец, опять забыл?
— Ну, прости мерзавца. Я сейчас всё исправлю. Ты вот пока переведи эту песню, а мы сгоняем в магазин.
— Ладно, переведу. Олежек, купи, пожалуйста, майонезу. Я салатик приготовлю.
— Хорошо, хорошо, а ты, пожалуйста, переведи поскорей!
В гастрономе было удручающе пусто.
— Ну, мечтательница! — возмущался Олег. — Ну, принцесса на горошине! Живет в мире поэтических иллюзий и знать не хочет, что в реальной жизни творится. Майонез ей подавай! Да когда он у нас продавался? Так. Соображаем. Ага. Вот. Идём творческим путем.
В ресторане «Антей» купили на вынос цыпленка-табака, столичный салат и марочного вина. Рядом с Московским вокзалом у бабушки — нарциссы. На это ухнул весь наш утренний стеклянный заработок. С тем и вернулись.
Тоня протянула нам листок с переводом песни и удалилась на кухню «выложить блюда на приличную посуду». Мы склонили головы к тетрадному листочку, исписанному ровным округлым почерком.
Иглз "Отель Калифорния"
На темном и пустынном шоссе,
Холодный ветер трепал мои волосы.
Теплый запах колитас поднимался от земли,
Как вдруг впереди я увидел мерцающий свет.
Голова уже клонилась от усталости, а глаза закрывались
Нужно было остановиться и переночевать.
Она стояла в дверях.
Я услышал, как звонит служебный колокольчик,
И подумал: «это должно быть рай, или может быть ад».
Потом она зажгла свечу, чтобы осветить мне дорогу.
Дальше по коридору я слышал голоса
Мне показалось, что я услышал:
Добро пожаловать в отель Калифорния.
Такое приятное местечко,
Такое приятное личико.
В отеле Калифорния мест еще много.
Остановиться можно в любое время года.
Она «повернута» на Тиффани, и ездит на Мерседесе.
У нее масса красивых мальчиков, которых она зовет друзьями.
Они танцуют на площадке, ощущая сладкий запах летнего пота.
Некоторые танцуют, чтобы вспомнить, кто-то чтобы забыть.
Я позвал метрдотеля:
«Пожалуйста, принесите мне вина».
Он сказал «У нас его не было с 1969».
А знакомые голоса все звали издалека,
Будили в полночь,
Чтобы услышать, о чем они говорят.
Добро пожаловать в отель Калифорния.
Такое приятное местечко,
Такое приятное личико.
Они «дают жару» в отеле Калифорния.
Приятный сюрприз — но позаботьтесь об алиби.
Зеркала на потолке,
Розовое шампанское на льду.
И она сказала «Мы все здесь добровольные пленники».
А в хозяйских апартаментах
Они собрались на празднество и вонзают свои стальные ножи,
Но никак не могут убить зверя.
Последнее, что я помню…
Я бежал к двери,
Мне надо было найти выход
К месту, откуда я пришел.
«Расслабься, — сказал ночной портье, —
Мы работаем только на прием
Ты можешь выписаться в любое время
Но уехать не сможешь никогда».
— Так я и знал, — вздохнул Олег. — Раз Калифорния, то обязательно наркотики и безысходность. Нет, ихние глубоко чуждые нам песни лучше не переводить: обязательно жди разочарования.
— Не горячись, Олег, — возразил я, — мне смысл песни кажется весьма глубоким. И там есть, над чем поразмышлять. А уж, когда всё это звучит под гитары — просто блеск! Увидишь, эта песня войдет в анналы истории человечества.
— Мальчики, — раздался мелодичный голос. — За стол!
За нашими спинами обнаружился накрытый стол. Мы сели и подняли тосты за очаровательную хозяйку. Мы поздравляли ее с днем рождения и говорили ей комплименты. Наконец, мы с Олегом в меру своих сил выправили ситуацию.
А Тоня в благодарность поставила свою любимую пластинку Вертинского.
Ваши пальцы пахнут ладаном
(Вере Холодной)
И когда Весенней Вестницей
Вы пойдете в синий край,
Сам Господь по белой лестнице
Поведет Вас в светлый рай.
Тихо шепчет дьякон седенький,
За поклоном бьет поклон
И метет бородкой реденькой
Вековую пыль с икон.
Ваши пальцы пахнут ладаном,
А в ресницах спит печаль.
Ничего теперь не надо нам,
Никого теперь не жаль.
Мне нравились его необычные песни. Немного странно и даже страшновато было слушать, как свободно звучат здесь слова об уходе в рай. Я видел старого дьякона и ощущал запах ладана и вековой пыли икон.
За кулисами
Кто-то злобно шипел: "Молодой, да удаленький!
Вот кто за нос умеет водить".
И тогда Вы сказали: "Послушайте, маленький,
Можно мне Вас тихонько любить?"
Вот окончен концерт…
Помню степь белоснежную,
На вокзале Ваш мягкий поклон.
В этот вечер Вы были особенно нежною,
Как лампадка у старых икон…
— Хорошо, — крякнул я после окончания песни. — Чудесно.
— Как мило. — Погладила меня Тоня по затылку. — «Послушайте, маленький, можно мне Вас тихонько любить?»
— Отчего же, мон шер ами!.. Могу ли я вам отказать? — заурчал я. — «В этот вечер вы были особенно нежною…»
— А Олежке, — вздохнула она трагично, — Вертинский не нравится.
— Заунывный, картавый клоун, — подтвердил Олег.
— Это он меня так задирает, — пояснила Тоня. — Но я-то знаю, как Олежек меня любит. Вот, посмотрите, Юрочка, какие он мне спинки у кровати сделал. — Тоня показала на металлическую кровать с укороченными решетчатыми спинками.
— Всего-то пару раз ножовкой по металлу шмыганул, — сказал Олег.
— А как красиво получилось!
— Да, Тоня, пока не забыл! Я тебе свежий номер «Панорамы» принес. Сейчас, только кое-что Юрке покажу.
Это был польский журнал. Распространялся по подписке. Каждый год Олегу приходилось умолять отца, чтобы тот подписался на этот с его точки зрения пустой журнальчик из разряда «желтой прессы». Там еще на обратной стороне обложки помещались фотографии красавиц в бикини.
Пока Олег доставал журнал, я на время отлучился в гости к Вере Холодной в притоны Сан-Франциско.
Лиловый негр
(Вере Холодной)
В последний раз я видел Вас так близко.
В пролеты улиц Вас умчал авто.
И снится мне — в притонах Сан-Франциско
Лиловый негр Вам подает манто.
Олег пролистал журнал и ткнул пальцем в статью «Ансамбль из реторты»:
— Смотри, здесь пишется о том, как немец, сидя в музыкальной студии, — один! — с помощью синтезаторов записал целый альбом, который имел бешеный успех. А потом подобрал группу вокалистов-танцоров и сейчас объезжает с ними весь мир. Называется эта группа «Бони М». Запомни. Наша задача найти альбом этой группы и пополнить им нашу коллекцию.
Потом мы пили чай с лимонным тортом, выходили на балкон. Там я глубоко вдыхал свежий воздух с реки, а сам таял как воск от огонька свечи, слушая завораживающую песню, долетевшую из прошлого.
Маленький креольчик
(Вере Холодной)
Ах, где же Вы, мой маленький креольчик,
Мой смуглый принц с Антильских островов,
Мой маленький китайский колокольчик,
Капризный, как дитя, как песенка без слов?
— Знаешь, Юра, почему Ленин на этом памятнике стоит спиной к рабочему району Сормово и лицом — к интеллигентской Нижегородской части?
— Почему? — спросил я, с трудом отрываясь от плачущих интонаций Вертинского. Каждая песня невидимо подхватывала меня и кружила в своем водовороте. У каждой имелся свой вкус воды, температура и запах. Но обязательно подхватывала и уносила в кружение теплых струй…
— …А Ильич сказал так: «За товахищей хабочих я не волнуюсь. А вот за этой пахшивой интеллигенцией — глаз да глаз нужен!» Видишь, развевающийся флаг за его широкими плечами? Если посмотреть спереди, то похоже, будто вождь схватил за горло гуся, как Паниковский, а птица в ужасе пытается вырваться, размахивая крыльями. Поэтому в народе этой скульптурный шедевр называют «Ленин с гусём».
Пес Дуглас
Мы придем на Вашу панихиду,
Ваш супруг нам сухо скажет: «Жаль…»
И, покорно проглотив обиду,
Мы с собакой затаим печаль.
Вы не бойтесь. Пес не будет плакать,
А тихонечко ошейником звеня,
Он пойдет за Вашим гробом в слякоть
Не за мной, а впереди меня!
И его маленький креольчик и пес Дуглас и лиловый негр, подающий манто в притонах Сан-Франциско — всё это общество потихоньку становилось мне родным.
Потом Олег сказал, что ему надоели похоронные стоны. Я убеждал его не обижать собачку. А хозяйка просилась на прогулку.
Мы повезли ее на такси в центр той самой интеллигентской части города, которая так раздражала Ленина с гусём. Вышли на «Сверловку» и направились в сторону площади Минина. Тоня шла между нами и в голос читала «Мцыри» Лермонтова.
— О-о-о, это надолго, — протянул Олег. — Тоня знает его почти всего наизусть.
Прохожие оглядывались на нас, улыбались, шептались. Я наблюдал за их реакцией, а Олег, подняв глаза кверху, изучал карту звездного неба и тихонько подвывал чтице. Наконец, Олег поднял руки и возопил:
— А давайте пойдем к фонтану!
— Давайте, давайте, — согласились мы.
— Ты знаешь, Юра, — сказал Олег, когда мы сели на скамейку и залюбовались игрой летящих струй, — ему уже больше ста пятидесяти лет. Представь себе, полтора века здесь назначают свидания галантные кавалеры милым барышням.
— А может и мне?.. — сказал я, не подумав. В это время мой взгляд изучал хрупкую фигурку девушки в алом платье. Она одиноко стояла у гранитного бордюра, подставив прозрачную ладонь под ниспадающую струю воды.
— …И немедленно! — Вскочил Олег, шепнул что-то девушке в алом на ушко, взял под руку, без видимого сопротивления подвел ее и усадил на скамью рядом со мной.
— Юрий, — протянул я руку ошеломленно.
— Юлия, — улыбнулась она и, промокнув ладошку платком, пожала мне руку.
Так мы с ней познакомились. Юлией, Юлечкой, маленькой женщиной, девочкой-мечтой.
Что такое весна
Что такое весна, когда тебе восемнадцать? Это сладость таинственного томления — и горечь реальной потери. Это непрестанная влюбленность, которая затопляет тебя, подобно тому, как солнце заливает улицы. Это, наконец, распахнутые пространства твоей собственной жизни, бесконечной, как вечность. Это когда ты идешь по улице в обтягивающих потертых джинсах и белом батнике, длинные волосы развеваются, грудь наполнена свежим воздухом, в душе звучит музыка и всё кругом тебя искрится радужным светом. И ты идешь на свидание с прекрасной девушкой.
Только что сдан на «отлично» экзамен по высшей математике. Меня приняли в программу художественной самодеятельности на подозрительную роль чтеца. В кармане похрустывала купюра в пять рублей, а впереди — целый вечер с любимой девушкой.
Мы встретились в здании центрального почтамта. Юля сегодня надела легкое белое платье. Она старательно заполняла бланк, сидя за столом; а я занял очередь и от нечего делать разглядывал почтовые марки. Наконец, она подлетела и прошептала мне на ухо:
— Я поймала себя на том, что постоянно любуюсь твоей стройной фигурой.
Это прозвучало ошеломительно. Никогда ни одна девушка не говорила мне такого. Сам я всегда считал себя обыкновенным и неказистым. А тут!
— Ты это серьезно? — спросил я на всякий случай.
— Вполне. — Улыбнулась она. — А еще ты пластичен и в меру умён.
— Может, еще скажешь, что я богат? А заодно намекнешь, куда идти, чтобы богатство получить?
— И куда потратить?.. — подхватила она.
— Ну, с этим я и сам как-нибудь разберусь.
— А вот и нет. Ты наверняка накупишь какой-нибудь ерунды. А я бы помогла тебе приобрести что-то очень и очень полезное. Например, особняк в Каннах на берегу Средиземного моря. Белоснежную яхту. Или спортивную машину, похожую на расплющенную ракету.
— Я готов.
— Тогда слушай, — прошептала она громко, на весь почтамт. — Ты действительно богат! Несметно! Как ни кто! Крез упал бы в обморок при виде твоего богатства. Гарольд Хант подавился бы собственным галстуком-бабочкой от зависти.
— Где, где оно — моё богатство?
— Вот тут. — Похлопала она меня по левой части груди, где предполагалось наличие сердца.
— Ну, я так не играю, — протянул я, изображая разочарование и внутренне трепеща от счастья.
— Дурачок. — Улыбнулась Юля и прижалась ко мне. — Милый, любимый дурачок. Ты богаче всяких там мертвых Крезов и старых-престарых Гарольдов Хантов. У тебя есть самая лучшая девушка на земле. Ты любим и ты любишь. Да ты купаешься в богатстве!
— Ну, если, конечно, фигурально!
— Не фигурально. А на-ту-раль-но!
На девушку упал из окна косой луч солнца и, казалось, наполнил её светом. И без того невесомая фигурка потеряла материальность и будто бы чуть воспарила над полом. Юлия говорила почти детским, тоненьким голоском. Прямые, светло-русые волосы летали, как им вздумается. Невероятно белая кожа с голубыми прожилками вен, розовые подвижные губы, крупные желтоватые зубы и вот эти смеющиеся глаза, то цвета осенней воды, то перламутрово-серые. Пахла она свежим огурцом. (Это когда его разрежешь, посолишь и потрешь половинки друг об дружку, а потом поднесешь ко рту и вдохнешь запах.) И всё это, как небо, как радуга, как весна… ну, не могло принадлежать никому и никогда!
— Ты сумасшедшая! — осенило меня.
— Нет, что ты! Хотя… Да нет же, нет! — Заметались её глаза. — Ну ладно. Да! — созналась она.
Наконец, она протянула в окно свой измятый бланк и обратно получила целый веер червонцев.
— Всё, всё. Молчу, — кивнул я, проглатывая комок в горле. — Надеюсь, ты когда-нибудь объяснишь мне, откуда это и от кого.
— Очень даже может быть, — улыбнулась она, укладывая деньги в крохотную сумочку.
В тот вечер мы непрестанно говорили, забыв напрочь обо всём человечестве. Мы пили допьяна этот сладчайший нектар под названием любовь.
Завершился вечер на окраине города, в поселке с частными домами Дубёнки. Юля заскочила в избушку, через минуту выбежала с двумя полушубками в руках:
— Ну всё! — выдохнула она. — Родителей успокоила, теперь можно и в лес прогуляться. А эти шубы, чтобы не продрогнуть. Не знаю как ты, а мы тут все мерзнем по вечерам.
Добрели мы до края улочки и нырнули в дыру в дощатом заборе. Там загадочно темнел густой лес.
— Это ботанический сад сельхозинститута. Сам понимаешь, мы совершаем преступление и рискуем провести ночь в отделении милиции. Так что тихо!
Мы сидели на овечьей шкуре и покрывались ею же. Вокруг шептал, поскрипывал и вздыхал живой лес. Аромат цветов и травы смешивался с запахом овчины. Над нами в черном небе сверкали огромные звезды. Мы сидели, взявшись за руки. Юля читала стихи Ахматовой про сероглазого короля. Она училась на историко-филологическом факультете и играла в Народном театре. Она любила историю и литературу, сцену и шампанское, мороженое и меня. …И, кажется, еще кого-то, кто ей посылал деньги, и о ком я ничего не хотел знать. Я сидел, почти не дыша, остерегаясь разрушить неверным движением очарование этого счастливого мгновения. О, как пронзительно ощущал я хрупкость всего происходящего! Мне хотелось плакать и смеяться, радоваться и горевать. Я был счастлив и потерян — абсолютно нищ и безумно, несказанно богат!
Потом мы долго прощались. А когда белое платье растаяло в темноте ночи, я быстрым шагом понесся к шоссе. Я не замечал горящих окон в домах, не слышал музыки магнитофонов и шума телевизоров, пугливых парочек на скамейках, шумных пьяных компаний, лающих собак. Не разбирал дороги. И только звезды летели за мною вслед, и только сердце грохотало на всю огромную вселенную. «…Зачем, почему тогда не думал я, что это молодость моя…»
А потом был смотр художественной самодеятельности. Впервые в жизни я поднялся на сцену и, дрожа от волнения всем телом, в скрещении ослепительных прожекторов читал нараспев чужим голосом «Хиппи» Роберта Рождественского:
Мы — хиппи‚ не путайте с «хэппи»‚
Не путайте с нищими‚ денег не суйте.
Не спят полицейские кепи
В заботах о нашем рассудке.
Ничьи мы‚ не ваши‚ не наши‚
Ничьи мы, как мокрые ветры.
Причёски по виду монашьи‚
Но мы не монахи. Хотите — проверьте.
Пять долгих протяжных ударов сердца длилась гулкая пауза. Я чувствовал, как по моей щеке сползает к подбородку капля влаги. И наконец — шквал рукоплесканий! И наконец — мой глубокий поклон, проход по сцене за кулисы и хлопки по спине и плечам: «Молодец, Юрка! Здорово!»
Потом вечером, сдав последний экзамен, мы собрали рюкзаки и вышли на последнюю перед отъездом в стройотряд прогулку по городу. Капал дождь. В воздухе разливались запахи цветов и мокрого асфальта. Мы с Олегом и Лёвой сидели под навесом в кафе «Нижегородское» на площади Горького и молча смотрели, как мокрые прохожие бегут, семенят, уезжают на такси и в автобусах от дождя в домашнее тепло. Лёва меня спросил, как же это мне удалось сдать сессию на одни пятерки? Я встал, растопырил ноги и руки, изображая «Знак качества» и в который раз ответил: «Слушай, сам не знаю как получилось!»
Солдаты труда
Сергач встретил нас довольно приветливо. Тихий симпатичный городок на берегу реки. Нас поселили в красном уголке «Сельхозтехники», потом подвели к огромной яме, которая по-научному называлась котлован:
— Вот здесь вам предстоит построить цокольную часть административного здания, — сказал суровый прораб-якут. — С вами будут работать крановщик и монтажник.
— И сколько за всё-про-всё? — раздался голос Олега.
— Эти вопросы мы решим по ходу дела.
— Ясно. — Кивнул понуро Олег. — А железнодорожная станция в вашем городе есть?
— Есть. А зачем вам? — Сверкнул прораб узкими черными глазами.
— На разгрузке вагонов деньги зарабатывать, — пояснил Олег. — Насколько я понимаю, нам тут нечего ждать кроме жалких копеек. А мы сюда зарабатывать приехали.
— Ребята, насчет заработка не волнуйтесь, — сказал командир Володя, бегая глазами. — У меня есть договоренность с главным инженером, что мы на этом объекте заработаем не меньше трехсот на нос. Так что будем работать.
— Ты мне на досуге смету покажешь? — спросил Олег командира.
— Обязательно. А ты там чего-нибудь поймешь?
— Не пойму, так спрошу,— буркнул Олег. — Я не стеснительный.
С первого же дня началась героическая работа. Лопатами расчищали бетонные ростверки. Земля здесь была глинистая, прилипала к лопате. Пот по нашим лицам катил градом, спины и плечи ныли, но мы же бойцы стройотряда — считай солдаты! — с терпеливым сопением упорно делали свое дело.
Как и на картошке, местные кадры в лице крановщика и монтажника смотрели на нас свысока и большую часть рабочего времени болтали и загорали. У меня появилась проблема с настроением. Уже к концу второго рабочего дня бойцы стали роптать на рабские условия труда. Олег так же постоянно ворчал, и все это давило на психику. Я, как и все понимал, что за эту рабскую работу мы получим копейки. Мышцы всего тела болели, как и у всех. Но что-то мне подсказывало, что так нужно, это нам полезно и требовалось лишь найти во всем этом хорошее и опереться на него.
К концу первой недели мне удалось обнаружить, что мышцы болеть перестали, и тело налилось приятной в ощущениях силой. Наши девушки-повара научились готовить котлами и перестали кормить нас пригорелой кашей. А молочная рисовая каша казалась таким кулинарным изыском, что я готов был съесть две-три порции. Да и девушки повеселели и стали проявлять к нам женское внимание: улыбки, шутки, массаж спины, ремонт порванной одежды — эти мелочи поднимали настроение.
По вечерам, когда оставались силы, мы ходили купаться на реку. И если зачастую туда мы еле плелись, то обратно возвращались бодрыми и веселыми. Прохладная чистая вода, казалось, очищала не только тело, но смывала грязь даже с души.
На День железнодорожника мы не работали. Всем отрядом вышли на берег реки и устроили праздничный пикник и предались молодецким утехам: играли в футбол и волейбол. А еще боролись. Мне достался парень раза в полтора тяжелей и объемней меня. Ну, подумал, победы мне не видать как собственных ушей. Но тут наша повариха Люба звонко крикнула: «Юрик, мы с тобой!», во мне что-то взорвалось, откуда-то появились силы, и я плавно повалил своего тяжеловеса и положил его на обе лопатки. Мы оба удивились: он поражению, я — нежданной победе.
После совместных молодецких утех Олег предложил сходить в «Зеленый театр», чтобы «вспомнить, какой век на дворе и вкусить от благ цивилизации». С нами увязался Вадим, похожий на Джима Моррисона. Он прихватил в стройотряд саксофон, без которого не мог жить. Мы втроем заняли места поближе к эстраде. Вдруг грянули барабаны, взвыла электрогитара, и на сцену высыпал цыганский табор. Мы встрепенулись и повернулись лицом к зрелищу. Всеобщее внимание привлекала юная цыганочка дивной красоты. Казалось, в её теле напрочь отсутствовали кости — она извивалась, как змея, пела звонким голосом и улыбалась так, будто рассыпала окрест белые молнии.
Когда цыганский номер завершился, и на сцену вышла грузная усатая певица с какой-то заунывной песней, мы встали и вышли прочь. Черная летняя ночь окутала нас влажным теплом. Каждый думал и говорил только о той юной цыганке. Её черные блестящие глаза, её белоснежные зубки, гибкая талия и развевающиеся юбки с кудрями — метались передо мной, как счастливое видение, как сказочный сон.
Когда начались дожди, монтаж бетонных фундаментных блоков остановили. Мы поначалу-то, конечно, обрадовались нежданному выходному. И даже всем отрядом спели песню — лучшую песню «всех времен и народов» об осадках:
Налетели вдруг дожди,
Наскандалили,
Говорят, они следов
Не оставили,
Но дошла в садах сирень
До кипения
И осталась ты во мне
Вся весенняя,
Весенняя, весенняя.
Но потом загрустили: она-то его все же оставила, а у нас, почти у каждого, там, на «большой земле» осталась своя такая «весенняя», и не известно, как она там… и с кем…
От нечего делать, исключительно «чтобы как-то развеяться», мы с Олегом пошли на железнодорожную станцию и подрядились разгружать вагоны с досками. Старый, замученный производством бригадир заключил с нами договор, из которого следовало, что мы за разгрузку каждого вагона получаем наличными шестьдесят рублей. Сначала мы попробовали таскать доски вручную, а потом Олег отпросился «пройтись по станции и поискать творческих путей решения задачи». Вернулся он не один, а с автопогрузчиком. С его помощью мы за пару часов разгрузили десять вагонов, Олег расплатился с механизатором из собственного кармана, и мы получили на четверых от бригадира целых шестьсот рублей. Олег раздал нам по сотне на нос, а остальные положил себе в карман. Бригадир принял от Олега литровый подарок, пожал нам руки и предложил заглядывать почаще.
Заработав без особых усилий крупные деньги, мы снова отправились в «Зеленый театр». Нервно ерзая на жестких сидениях, мы ждали выхода очаровательной цыганки. И дождались. После окончания феерического номера мы следом за цыганами ворвались в служебную комнату за кулисы, чтобы выразить свой восторг. Не сговариваясь, встали перед девушкой на колено и протянули ей по пятерке. Девушка ослепила нас сверканием глаз и зубов, без стеснения собрала деньги и сунула их за обрез декольте. В тот же миг откуда-то выскочил молодой цыган с серьгой в ухе и застыл перед нами с ножом в руке. Таким тонким намеком нам дали понять, что аудиенция подошла к концу, и нам пора удалиться. Возвращаясь домой, каждый из нас уверял, что именно на него — и только на него — смотрела очаровательная цыганка, а нож горячего ревнивца был направлен именно в его сердце, полное восторга!
Не известно, цыганский Отелло или кто другой был тому виной, но той ночью местный парень был найден мертвым с колото-резаной раной живота. Утром, направляясь на почту, мы видели на асфальте огромную лужу свернувшейся бурой крови, а также слышали мертвую тишину вокруг и протяжный набат собственных сердец. Не знали, каким образом на это реагировать, и просто подавленно молчали.
На почте Олег получил денежный перевод от заботливого отца, а я — письмо «до востребования» от моей далекой, но такой дорогой и желанной Юлии. Несколько дней носил письмо в левом кармане ковбойки и снова и снова перечитывал: «Город опустел без тебя. Ни солнышко, ни цветы меня не радуют. Я считаю минуты до встречи с тобой — их больше пятидесяти тысяч! Приезжай скорей, мой стройный, пластичный и в меру умный герой. Мне очень, очень одиноко без тебя».
После заката Вадим доставал из футляра серебряный саксофон, мы выходили в черную теплую ночь и слушали пронзительно-грустные мелодии. Они откуда-то издалека приносили нам шепот губ возлюбленной, протяжный крик тропической птицы, детский лепет, рыдания седого негра… «Горечь, горечь, вечный привкус на губах твоих, о, страсть!»
После завершения монтажа цоколя, расшивки швов и засыпки котлована Олег подошел к командиру и потребовал финансовый отчет. Полдня, вечер и половину ночи они сидели в командирской бытовке и рычали друг на друга. Мы с Вадимом и с якутом сидели под окнами и ждали. Олег вышел с деньгами в руках, протянул мне триста рублей и сказал: «Всё. Завтра уезжаем домой. Больше здесь делать нечего».
Утром после завтрака мы с Олегом и Вадимом обнялись с бойцами, бросили прощальный взор на бетонный цоколь здания сельхозтехники. На вокзале сели в новенькую «Волгу» с шашками по борту и отбыли в Нижний. Молодой водитель гнал машину по гладкому шоссе на предельной скорости. За окнами мелькали деревья, дома, сонные люди и коровы. На душе было радостно, как у заключенных, вышедших на волю.
2. ИДИ И СМОТРИ
Исход лета
Центральная улица Нижнего Новгорода, называемая народом, «Сверловка» удивила. Обычно ведь как? Идешь по ней, идешь, и обязательно начинают мелькать красивые женские лица. Но летом, увы, такого не наблюдалось. Понятно, девушки разъехались кто на юг, кто на дачу, кто домой в деревню.
Может быть поэтому так здорово было увидеть красавицу Юлию. Я ждал её у входа в Народный театр. Она мне запрещала ходить на спектакли с её участием, поэтому мне приходилось ждать её выхода не на сцену, а на улицу. А вот и она… На бледном лице усталая горькая улыбка, вокруг глаз страдальческие тени. Она сдержанно обняла меня, и мы пошли по опустевшей улице.
— У тебя что-то случилось? — спросил я.
— Да так, — кивнула она, — обычные бытовые дела.
— Слушай, Джульетта, мы с Олегом собираемся на пару недель съездить на море. Может, и ты с нами?
— Нет, не могу.
— Ну, хоть на три дня!..
Она глубоко задумалась. Устало, с видимым усилием ступала, как больная, и что-то про себя размышляла.
— А ты знаешь. — Вспыхнула девушка озорным взглядом. — На три дня, пожалуй, смогу. А, давай!
Следующим утром наша тройка во главе с коренным Олегом вылетела рейсом Горький-Адлер в сторону Черного моря. Решили первые три дня, пока с нами будет Юля, провести в Сочи. У санатория имени Ворошилова наше такси свернуло в гору и мы поднялись чуть не к подножию телевизионной вышки. Здесь на Бытхе, у Олега в собственной квартире жила тетка. Когда мы поднимались от асфальтовой дороги к искомой пятиэтажке по лестнице, нам навстречу спускалась женщина. Олег ее остановил и сказал:
— Дорогая товарищ сочинка! Я вижу, какое доброе у вас лицо. Такой человек не сможет отказать усталым жителям севера, приехавшим в ваши благодатные края…
— Есть однокомнатная квартира с видом на море, — буркнула она. — Семь рублей в день.
— Берём! Ведите.
Мы чуть спустились обратно вниз и зашли во второй подъезд пятиэтажки, ближайшей к «тетушкиному» дому. Главную достопримечательность этой квартиры составляла просторная лоджия с двуспальной кроватью. Мы сели втроем и замолкли: отсюда открывался роскошный вид на море. Половину пространства занимало голубое небо в белых облаках, а половину — блистательное манящее ласковое море!
Получив трехдневный задаток, хозяйка выдала нам комплект ключей, и мы пошли к тетушке Олега в соседний дом. Нас встретила полная веселая женщина и сразу подвела к распахнутому окну. Там было еще больше неба и еще больше моря! Чтобы уж совсем тетя Галя нас полюбила, мы сбегали в магазинчик, купили вина «Прибрежного» и «Докторской» колбасы. Ординарное вино, которое местные называли «Брежневское» удивило своим приятным вкусом. А к колбасе тетя Галя предложила аджику собственного приготовления.
На стене висела фотография тети Гали. На ней счастливо улыбалась белокурая девушка в военной форме с медалями на рельефной груди. Кому? Чему? Победе, наверное, и будущему мирному счастью, которое обязательно должно было наступить после кроваво-огненного ада, через который довелось им пройти. Переводил я взгляд на нынешнюю пожилую женщину. Она работала поваром в санатории. Летом уставала до изнеможения. Одежду на ней хоть выжимай от пота. В позапрошлом году она похоронила отца, а перед этим два года «сидела» с ним, наблюдая, как рак безжалостно пожирает его; как стокилограммовый богатырь превращается в тридцатикилограммовый скелет, обтянутый серой кожей. Следом за отцом уходил ее муж, милиционер — он умирал несколько месяцев от цирроза печени. Из гроба, который несли по летней жаре на кладбище на руках, текла черная жидкость. После всего этого добрая и веселая тетка стала выпивать, потом пить, потом спиваться… Мы обжигались аджикой, гасили пламя во рту прохладным вином, говорили о пустяках и неотрывно смотрели то на тетку, то на сверкающее море за распахнутым окном.
В углу на тонких ножках стоял цветной телевизор. Иногда мы бросали взгляды на экран: там шел фильм «Вам и не снилось» о любви современных Ромео и Джульетты. Вдруг полилась песня Рыбникова на стихи Тагора «Последняя поэма». Мы затихли.
…Знаю когда-нибудь
С дальнего берега, с дальнего прошлого
Ветер весенний ночной
Принесет тебе вздох от меня.
Ты погляди, ты погляди, ты погляди,
Не осталось ли что-нибудь после меня.
В полночь забвенья на поздней окраине
Жизни твоей ты погляди без отчаянья,
Ты погляди без отчаянья.
Вспыхнет ли, примет ли облик безвестного
Образа будто случайного
Это не сон, это не сон —
Это вся правда моя, это истина.
Смерть побеждающий вечный закон —
Это любовь моя.
Каждый думал о своём. Необычные слова вызвали целый шквал воспоминаний о бывшем, а может, будущем и унесли… унесли нас куда-то очень далеко. Заметив нечто непонятное и даже таинственное, происходящее за столом, тетя Галя поняла, что теперь можно и решила открыть нам свою страшную тайну, которую открыла ей соседка Полина Степановна, регулярно читавшая журналы «Знания-сила» и «Здоровье».
— А знаете вы, — прошептала она, заговорщицки оглядывая нас вытаращенными глазами, — что в кино всё не по-настоящему. — Выждав полуминутную паузу, чтобы мы успели оправиться от шока, тетка продолжила: — Там нанимают актёров, и они всё играют. Это, — она ткнула пальцем в экран, — неправда!
— Вот гады! — возмутился Олег, густо намазывая бутерброд огненной аджикой. — Ни стыда, ни совести!
Актриса Народного театра Юля, сама будучи причастной к великому всенародному обману, съежилась, ожидая как минимум подзатыльника. Довольная произведенным эффектом тетка откинулась на спинку стула и налила себе внеочередную порцию «Брежневского». Мы, пораженные страшным открытием, так и не нашли слов, чтобы высказать, что творилось у нас на душе… Поэтому решили пройтись по городу. Пока мы спускались к раскаленной солнцем автобусной остановке, пока, истекая потом, ждали рыжий «Икарус» с гармошкой, то один, то другой невольно напевал: «Смерть побеждающий вечный закон — это любовь моя».
В тот день мы купались на многолюдном центральном пляже. Отведали люля-кебаб в шашлычной на Морвокзале, наблюдая, как швартуется огромный шведский корабль «Викинг стар». Гуляли в праздной толпе по набережной, Платановой аллее, парку «Ривьера». На душе так же сияло и сверкало, как на море!
Когда с мороженым в руках присели отдохнуть на теплый парапет набережной, наши глаза бездумно смотрели, как одноногий мужчина, сняв протез, заходит в море. Потом о чем-то говорили, а потом услышали крик: «Человек тонет!» На поверхности воды у самого волнореза качалась в волнах спина инвалида. Когда спасатели с добровольцами вытащили его на берег, было поздно — мужчина не дышал. Посиневшее тело несчастного поспешно увезли на машине «скорой помощи». Вместе с народом погоревали и двинулись дальше.
От концертного зала «Фестивальный» доносились звуки музыки. Подойдя поближе, мы увидели на террасе солярия танцующие пары и расслышали песню — это Алла Пугачева исполняла песню на стихи Мандельштама:
Ленинград. Ленинград,
Я еще не хочу умирать!..
Юля отказалась танцевать под эту песню, и мы пошли дальше.
Уже в темноте вернулись на Бытху, где, усталые, разошлись по квартирам.
На лоджии мы с Юлией сидели на кровати и уплетали персики, хлюпая и обливаясь соком. Перед нами в вышине сверкали звезды, чуть ниже — серебрилась лунная дорожка и мерцали огни кораблей, светились окна санатория «Магнолия», пансионата «Светлана», гостиницы «Жемчужина».
Внизу, в розовых кустах самозабвенно скрежетали сверчки. Откуда-то доносились запахи жареной камбалы, морских водорослей, кизилового варенья и душистых цветов. За асбестовой перегородкой на соседней лоджии послышался разговор:
— Поставь эту французскую песню «Я люблю».
— Может, лучше не надо?..
— С какой это стати?
— Ну, это… Валентина от нее плачет.
— Да брось ты! Еще не хватало обращать внимание на женские слезы. Ставь, я сказал!
В динамиках затрещало. Видимо, пластинка была старой, заезженной, может быть даже из тех, что записывались на «ребрах» — рентгеновских снимках. Будто издалека, сквозь треск и шипение донеслась музыка, потом высокий мужской голос запел нечто щемящее:
Я люблю, я люблю, я люблю!..
Нужных слов я найти не могу.
Я люблю, я люблю…
Досада в углах твоих губ.
Я люблю… я люблю!
Твои пальцы играют мотив…
Не люблю, не люблю —
Ждут, надо идти.
Но я люблю, я люблю, я люблю…
У него ни долгов, ни детей.
Я люблю, я люблю…
И красивей он и умней,
Но я люблю, я люблю…
Сильные руки и брови вразлёт.
Я люблю, я люблю!
Молод, но это пройдёт.
Припев:
Проходит жизнь, проходит жизнь,
Как ветерок по полю ржи.
Проходит явь, проходит сон,
любовь проходит.
Проходит жизнь, и всё прошло,
и жизнь прошла
И ничего нет впереди…
Лишь пустота, лишь пустота
И я прошу: не уходи!
Мы с Юлей сидели тихо, как лазутчики в засаде. Там, за стеной, невидимая девушка Валя горько заплакала.
— Я ж говорил тебе…
— Да ладно… Пусть поплачет. Это полезно. Но какая песня! Мороз по коже.
— Это да. Пойдем, продолжим заседание ученого совета…
Соседи ушли с лоджии, их голоса удалились. Вернулась тишина. И в этой тишине:
— Как хорошо-то здесь с тобой, — прошептала Юля. И вдруг согнулась, положила голову на мое колено и жалобно заплакала.
— Что случилось? — спросил я. В груди все сжалось.
— Он там болеет. Живет на таблетках. А я с молодым красивым парнем сижу на кровати и любуюсь морем. «И красивей он и умней… Сильные руки и брови вразлёт… Молод… — она вздохнула. — …Но это пройдёт…»
— Кто он? — спросил я, чувствуя спазм в горле.
— Гениальный актер. Старый, одинокий и больной. Он любит меня. У него больше ничего нет в жизни: только сцена и я, понимаешь?
— Понимаю. У меня и сцены-то нет. Только ты.
— Ты, Юрочка, здоров и молод, у тебя все впереди. А у него что? Одни болезни и зависть коллег по сцене. Ты знаешь, как в театре умеют уничтожать талантливых актеров?
— Представляю себе, — вздохнул я. — Слышала песню Вертинского?
Вы стояли в театре, в углу, за кулисами,
А за Вами, словами звеня,
Парикмахер, суфлер и актеры с актрисами
Потихоньку ругали меня.
Кто-то злобно шипел: "Молодой, да удаленький!
Вот кто за нос умеет водить".
И тогда Вы сказали: "Послушайте, маленький,
Можно мне Вас тихонько любить?"
— Вот-вот! «Злобно шипят» — это похоже. Что мне делать, Юра? Как мне всё это пережить?
— Знаешь, Джульетта, — сказал я, представляя себе несчастного старого актера. — Если еще и женщины не будут нас жалеть, то мир превратится в огромный психдом. Ты люби его, ты жалей его, успокаивай. А обо мне не думай. Ты же сама говоришь, я молодой и сильный — все выдержу, все стерплю.
— Юрочка, ты не понимаешь: я вас обоих люблю. Его за страдания и талант, а тебя… как девушка парня. Вы оба мне дороги.
— Ты с ним живешь?
— Почему ты спрашиваешь? Хочешь меня обидеть?
— Ни в коем случае. Просто я свою женщину никогда и ни с кем делить не стану. Поэтому, если вы с ним живете, как муж и жена, то я не имею права к тебе прикасаться как мужчина. Вот такой я деспот.
— Понимаю, — вздохнула она. — Счастливая будет твоя жена. Но ты меня не бросишь? Мне очень нужна твоя крепкая рука.
— Не брошу. Я сейчас в душ и спать. А ты выбирай любую кровать: эту на лоджии или вторую в комнате. Спокойной ночи.
В ванной я встал под струю горячей воды. Они летели и лились, шуршали и тихо стекали — струи горячей воды и мои горькие слезы. Потом лежал я с открытыми глазами и думал, почему со мной всё так неправильно? Почему девушки, в которых я влюбляюсь, обязательно уходят от меня? Там, на лоджии, завернувшись в байковое одеяло, сидела Юлия и неотрывно глядела в черноту южной ночи. Веселая, красивая девочка, маленькая женщина, любимая и совершенно одинокая. За что нам всё это? Почему?
На следующее утро мы провожали Юлю в аэропорт.
Всю дорогу в Адлер и во время стояния в очередях на регистрацию и ожидая вылета самолета в моей памяти всплывал стих Есенина, каждая строчка которого резала сердце бритвой:
Любимая!
Меня вы не любили….
Простите мне…
Я знаю: вы не та —
Живете вы
С серьезным, умным мужем;
Что не нужна вам наша маета,
И сам я вам
Ни капельки не нужен. …
Когда её самолет взмыл в синее небо, мы принялись вздыхать. Но, что делать, надо продолжать «процесс отдыха». Вернулись в Сочи на автобусе, сошли на Платановой аллее. Постояли в очереди за персиками. Весы у продавца были так наклонены, что удивительно, как фрукты не соскальзывали с тарелок. Все видели, что он обвешивает, но тупо выслушивали его развеселые шутки-прибаутки и стояли на тридцатиградусной жаре и ждали получения своего «кило персиков». Дождались и мы, помыли замшевые плоды в питьевом фонтанчике и на ходу съели их, обливаясь сладким соком.
Обойдя по Черноморскому проспекту гостиницу «Жемчужина», пристроились в очередь к пивным автоматам, отпускающих чешское пиво. В ряду автоматов была прореха, внутри которой устроился смотритель, меняющий деньги. Он развалился под навесом в шезлонге, прикладывался к бутылке «Саперави», отщипывал черные виноградины от огромной грозди и слушал заунывную турецкую музыку, льющуюся из японской магнитолы «Sony». Всем своим видом он демонстрировал народу, что такое настоящее счастье отдельно взятого человека. Напротив стояла маленькая голая девочка и, открыв ротик, во все глаза рассматривала кайфующего дядю. Пиво оказалось теплым и сильно разбавленным, отчего в животе наступило брожение, а на душе — смута.
Потом в сувенирной лавке мы купили стетсоны — ковбойские шляпы, футболки с улыбающимися «битлами» и модные холщовые сумки с рекламой «Мальборо». Там еще были брелки с Мэрилин Монро, Демисом Руссосом, разноцветные бейсболки и… самодовольная физиономия грузина с небрежно торчащей из кармана рубашки толстой пачкой мятых червонцев.
— Хозяин, а виски «Джонни Уокер» достать можешь? — спросил Олег.
— Давай червонец в задаток и приходи через два часа, — невозмутимо ответил советский бизнесмен. — Достану, дарагой.
— А джинсовый костюм-тройку с жилеткой фирмы «Lee» — этот как?
— Давай две сотни аванса и приходи завтра утром. Будет тебе тройка, дарагой.
— Слушай, а ОБХСС тебя не трогает?
— Моя милиция меня бережет! — Блеснул продавец белоснежной улыбкой на прокопченном лице. — Очень нэжно бережет, дарагой.
«Советской власти на Кавказе отродясь не водилось», — пробурчал Олег, когда мы отошли от островка частного предпринимательства. Потом на набережной в шашлычной с полчаса ожидали порции шашлыка, захлебывались слюной от ароматного дымка и лениво разглядывали загорающих и плавающих отдыхающих. Этот провокационный запах кавказских специй, нагоняющий жуткий аппетит, преследовал нас повсюду, казалось, весь Сочи, всё Черноморское побережье насквозь пропахли шафраном, базиликом, душистым перцем, кари… Шашлык нам подали обугленный и резиновый, который мы так и не смогли угрызть. Заказали люля-кебаб — очень кушать хотелось. Бараньи котлетки оказались пережаренные, пересолённые и отдавали тухлятиной. Тогда Олег и сказал вот это:
— Знаешь, в этом отдыхе в Сочи есть что-то пижонское и, я бы даже сказал, порочное. Давай поедем в Дюрсо — там самое место для таких, как мы, нищих интеллигентов, искателей счастья.
На следующий день, ближе к вечеру, мы сошли с рейсового «Икаруса» на берегу моря, уставленного палатками. Олег повел меня мимо этого палаточного лагеря в сторону частных домов. Там уже во втором доме нам предложили свободную веранду с двумя кроватями. Над головами на проволочных рамах густо зеленели широкие листья винограда с тяжелыми гроздьями сизых душистых ягод. В саду кроме летней кухни с дровяной печью стояли фруктовые деревья, в огороде краснели помидоры и возлежали огромные кабачки. И тишина.
Здесь мы прожили счастливые две недели. Купались в море до синих губ, ловили ставриду, загорали до пузырей. А по вечерам сидели у костра со студентами и преподавателями со всей страны, жарили рыбу в углях, пекли картошку и пели романтические песни про часовых Арбата, огни Маяковки, гостиницу, маленького гнома и — конечно — про горы, лучше которых могут быть только… горы. За всё время мы с Олегом — он на это обратил особое внимание — не услышали ни единого слова мата.
Примерно раз в три дня мы ездили в центр поселка через перевал — подобрать книг для чтения и покататься на ялике по озеру. Даже в Геленжик и Новороссийск съездили, правда долго там находиться не могли — уж больно много там было машин и заводов. Зато из Новороссийска привезли ящик «Пепси-колы». Там американцы построили первый в СССР завод, выпускавший этот символ американского образа жизни. В центре города, на Морвокзале или на бульваре можно было купить чуждый буржуазный напиток у симпатичных старательно улыбающихся девушек в фирменных кепи и мини-юбках. Они доставали стеклянные бутылочки из ярко-синего холодильника, но «в одни руки» выдавали не больше двух штук. Желаешь купить больше — в любом магазине, но теплую и без улыбки, а чаще с патриотическим презрением упитанных тёток-продавщиц: «Вам «Пись-пись-колу»? И охота!..» Местные жители разбавляли «Пепси» водкой в пропорции один-к-одному и получали модный коктейль «Южные ночи».
Итак, однажды мы надели белые рубашки, взяли прочитанные книги и встали в очередь на автобус. Первым подошел ПАЗик со второго отделения, взял на борт половину пассажиров из очереди и уехал. Мы стояли с народом, млели от жары и с завистью поглядывали на резвящихся в прохладной воде купальщиков. Наконец, к нам подошел знакомый профессор из Воронежа и предложил занять два свободных места в его стареньком «москвиче». Мы не без колебаний сели в душный салон автомобиля, пропахший потом и бензином и тронулись в путь.
В поселковой библиотеке взяли трагедии Шекспира и роман Сомерсета Моема. В шашлычной съели по порции шашлыка и пошли на лодочную стоянку. Взяли ялик и поплыли на самый центр озера. Разделись, забросили нехитрую снасть — лески с крючком и грузилом, и погрузились в тишину. Поверхность озера казалась зеркалом, в котором отражались сине-черные горы, белые облака и ленивые чайки. Я читал «Гамлета», а Олег следил за поклевкой.
Наконец, мы дочитали трагедию, поймали десяток карасей с ладонь и решили сойти на берег. Здесь нас ожидала еще одна охота — на раков. Для этой цели прихватили фонарик. Разрезали карася, разбросали кусочки мяса вдоль берега и по первым сумеркам ходили по колено в воде, светили фонарем и вытаскивали из воды серо-зеленых кусачих раков. Когда с богатой добычей подходили к автобусной остановке, мы обнаружили, что многие женщины в поселке ходят в черных платках. Спросили о причине траура у людей на стоянке.
Оказалось, тот рейсовый «Икарус», который мы ждали, пришел в десять утра и забрал всех желающих из Дюрсо — не вписался в поворот и упал в пропасть. Падал он на заднюю часть корпуса — именно там обычно мы с Олегом устраивались у окна. Половина пассажиров погибла, остальные — с тяжелыми переломами и увечьями попали в больницу. У меня по спине пробежали волны холода, Олег тоже побледнел. Если бы не профессор со своим «москвичом», мы попали бы в эту мясорубку.
— Тебе не кажется, что смерть как-то уж слишком близко ходит рядом с нами, — сказал Олег, с трудом разжимая посиневшие губы. — Может, нам домой пора?
— Похоже на то, — кивнул я.
— Знаешь, Юра, кажется, я впервые в жизни с огромным удовольствием буду собирать картошку на родных российских просторах.
— Аналогично.
Вам взлёт!
В первый день учебного года в деканате меня ожидала радостная новость. Объявила её наша всеобщая любовь и «мать родная» — очаровательная секретарша Ниночка. Она даже встала, вышла из-за стола и, улыбаясь, как Софи Лорен, торжественно провозгласила: за отличные успехи в учебе, донорстве и художественной самодеятельности меня наградили почетным местом в общежитии. А еще — тут девушка даже подпрыгнула — еще: повышенной стипендией в пятьдесят пять целковых!
Я направился в бухгалтерию, получил стипендию за три месяца, потом сбегал в гастроном и купил торт «Киевский» (за три рубля семьдесят копеек, самый дорогой и красивый, с хрустящей прослойкой безе и мармеладными розами) и вручил этот шедевр кулинарии Ниночке. Она хлопала в ладошки и радовалась так, будто это не меня, а лично её осчастливили и осыпали бесценными дарами.
Общежитие!.. О, сколько раз я проходил мимо этого здания с архитектурными «излишествами» с трепетом в сердце! Каким волнением наполнялась грудь, когда я, навещая друзей, входил под его священный кров! Это сооружение в стиле барачного барокко пятидесятых годов двадцатого века представлялось мне то королевским замком, то коммуной хиппи, то студенческим раем с суровым цербером-вахтером у тяжелых дубовых врат.
И вот, наконец, я энергичной походкой вхожу в общежитие на законном основании. Комната на шесть человек на втором этаже — бывшая рекреация, отгороженная фанерной перегородкой от коридора, — мне показалась чем-то средним между местом на сочинском пляже под тентом на топчане и камерой в Бутырке. Там сидели мужики в майках, закусывали деревенским салом и курили «Север» с «Примой». Следом за мной зашли еще двое, и нас стало шестеро — комплект. И вот мы уже сидим вместе за столом и медленно, но верно становимся друзьями.
Да, я не ошибся: общежитие именно то место вселенной, где домашние мальчики становятся мужчинами, где разнородные отдельно взятые человеки воссоединяются в мощную общину студенческого братства. Там ты не умрешь с голоду и от одиночества, там каждому найдется друг, и не один. Там даже самому тупоумному объяснят, что такое эпюр Монжа, дифференциал и предел текучести. Там даже глухие играют на гитарах, а безголосые поют баллады «Биттлз», слагают стихи пятистопным ямбом и учатся грамотно ухаживать за дамой. Там девушки легко меняют байковые халаты на белые джинсы в обтяжку, холодных самодовольных красавчиков — на прыщеватых, но крайне душевных юношей с радужной перспективой в скромном взоре ясных глаз. Там нет неинтересных, нелюбимых и бесталанных. Это полигон для выращивания будущих гениев! …Ну, в крайнем случае, — скромных руководителей производства.
Первые недели после картошки представляли собой учебный аврал. Наконец, здоровье и настроение упало ниже уровня земли — и мы решили изменить свою непутевую жизнь в правильную сторону. Мы решили развеяться, поправить материальное положение и взялись за работу. Утром аккуратно посещали лекции и занятия, днем аврально делали домашние задания, а вечером надевали телогрейки и рабочей походкой вразвалку топали на ближайший завод. Там нас ждал свой лобби — старшекурсник, который и раздавал наряды.
По несчастью ближайшее промышленное предприятие оказалось винзаводом. Самое престижное место работы находилось в разливочном цехе и на складе готовой продукции. Но туда попадали в основном старшекурсники. Нам чаще всего доставались погрузо-разгрузочные работы на железной дороге или на заводском наружном холодном складе. И за этот спорт на свежем воздухе с премиальным вином мы еще получали за укороченную смену в пять часов целых семь рублей с полтиной! Ну, не счастье ли это!
Как-то еще в детстве мама приучила меня к двум особым дням недели: рыбному и молочному. Считалось, что эти «разгрузочные» дни благоприятно сказываются на здоровье и душевном состоянии. Так же по привычке, я соблюдал эти дни и в своей студенческой жизни. Молочным днем я встречался с Юлей, а в рыбный день — с Олегом.
Как это случалось и раньше, мои отношения с красивой девушкой плавно перешли из состояния горячей влюбленности в спокойную дружбу. Между мной и девушкой маячила мрачная тень её «благодетеля». Я ей сочувствовал, она это принимала и выражала мне сердечную благодарность. Иногда девушка позволяла себе эмоциональный всплеск, горячо прижималась ко мне, но я восстанавливал безопасную дистанцию и возвращал взаимоотношениям дружескую высоту. Может быть поэтому, а может по какой-то другой неизвестной мне причине, только мы с Юлей медленно, но неуклонно отдалялись друг от друга.
Олег же, в отличие от меня переживал свежий роман. Однажды ночью он завалился ко мне в общежитие. Как он прошел мимо вахтера, до сих пор остается загадкой. Но он не только прошел и пронес в нашу комнату целую сумку с провизией, а меня вытащил из-за стола и увёл к себе домой. Там Олег рассказал жуткую историю своей трагической любви.
Оказывается, он вместе с московским другом отца, подполковником КГБ, «пошел на дело». Особист затащил его на воровскую малину в качестве знатока игры в тысячу. Это такой, упрощенный вариант преферанса для заключенных и студентов технических вузов. Олег сидел за карточным столом и в паре с подполковником играл в тысячу за государственный счет по-крупному. К концу вечера воры проиграли все наличные деньги и предложили сыграть ва-банк на девушку. Когда девушка вошла в прокуренную комнату, уставленную антикварной мебелью, и встала под свет люстры венецианского хрусталя, Олег понял, что умрет, но отыграет эту красавицу. Отыграл. Потом последовала драка на ножах, потом бегство на «волге» с форсированным двигателем по ночному городу от бандитского «мерседеса». Закончилось всё ко всеобщему удовольствию без жертв. И даже с благодарностью от руководства КГБ. Но самый важный боевой трофей получил Олег — девушку необычайной красоты.
Как-то в рыбный день и я удостоился чести быть представленным роковой красавице. Когда мы с Олегом подошли к ресторану «Нижегородский» и вошли в просторный зал, я был готов к тому, что увижу нечто сверх-диковинное. Но не увидел ничего: девушки за столом не было.
— А ты как думал! — Улыбнулся Олег, поправляя прибор трясущимися от волнения руками. — Воспитанная девушка никогда не приходит вовремя. У нас с тобой еще целых семь минут, чтобы успокоиться и морально приготовиться к встрече с дивом!
Столик был заказан заранее, поэтому ждать официанта нам не пришлось. Олег предпринял все возможное, чтобы унять вибрацию конечностей. На сцене в это время волосатый парень хрипел песню Smokie "What Can I Do" в вольном переводе на русский:
От рождения грех
С моим именем слит,
Не избавиться мне,
Во мне демон сидит.
Слышу песня звучит,
Но поющего нет —
Это в память стучит
Призрак жизни моей.
От грехов изнутри
Поворотом ключа
Мою душу запри —
Дай сначала начать.
Что делать мне?!
Что делать мне?!
Нечего сказать, но это было…
Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет
Что делать мне?!
Молодой волосатый солист в потёртой джинсовой тройке, мокрый от напряжения и надсадного хрипа, уступил место лысоватому пожилому саксофонисту в белом фраке. Под «Серенаду серебряной долины» я пытался разобраться с впечатлениями от песни «Смоуки» и проанализировать таинственное предчувствие, посетившее меня. Олег еще забрасывал в рот остатки салата и комментировал музыкальное сопровождение, как я увидел её. У меня не было сомнения, что эта девушка — именно та, из-за которой Олег сломя голову пошел ва-банк, на воровской нож и бегство от бандитской погони. Ради такой девушки любой пошёл бы на всё!
Она двигалась плавной невесомой походкой. Нежная белозубая улыбка сияла на ангельском лице. Одета она была с первого взгляда скромно и со вкусом, и только приглядевшись, можно было понять, что это бежевое платье привезено из Парижа и стоит безумные деньги. Но что тряпки! Что деньги и всё на них покупаемое! Я видел живое совершенство, и оно благосклонно кивнуло мне очаровательной головкой. Мы с Олегом стояли на вытяжку. Я находился в эстетическом шоке и не мог произнести ни слова.
— Анжелика, — пропела она. Она на самом деле будто пела чудным неземным голосом. Видя наш ступор, девушка изящно махнула ручкой и снова пропела: — Мальчики, садитесь, пожалуйста. Уже можно.
К нам подскочил официант и встал по стойке смирно. Я ждал, что Олег оттолкнет наглеца. Явно трактирщик появился здесь только из-за неё, чтобы хоть как-то к ней приблизиться и хоть что-то для неё сделать, чтобы она обратила внимание и на его персону. Но Олег молча смотрел на девушку и, казалось, ничего больше на свете не замечал. Потом мы о чем-то говорили. Лика достала из сумочки и показала мне фотографии, где они с Олегом бегали по острову и жарили шашлыки. Там Олег всюду счастливо улыбался, а Лика… что бы она ни делала, с какого ракурса бы её не фотографировали — девушка всюду выглядела великолепно.
В шумном зале ресторана
Средь веселья и обмана —
Пристань загулявшего поэта —
Возле столика напротив
Ты сидишь вполоборота,
Вся в лучах ночного света!
Так само случилось вдруг,
Что слова сорвались с губ —
Закружило голову хмельную! —
«Ах, какая женщина,
Какая женщина!
Мне б такую!..»
Под конец этого замечательного вечера Лика сумела полностью развеять мой шок и стала другом. Я искренно радовался за Олега, хоть и предполагал, что неприятностей с ней придется хлебнуть немало.
Следом за гордой птичкой
«Веселие Руси в питии еси», — любил говаривать Олег. Мне же эти слова казались чем-то вроде подмены. Или измены… Мне представилась возможность убедиться в том лично, пропустив одно событие через сердце.
Это случилось в тяжелые дни зачетной сессии, когда волей-неволей приходилось сдавать все «хвосты», чтобы получить вожделенный зачет. Мало того, что учебная нагрузка была максимальная, а здоровье в связи с морозами и длительным стрессом помаленьку начинало сдавать. А тут еще это несчастье.
Уж не знаю почему, но наблюдая за Анжеликой, я постоянно ощущал безотчетную жалость к ней. Подспудно ожидал от неё неприятностей, и судя по степени её красоты, немалые. Поэтому когда однажды ночью к нам в комнату ворвался Олег и перебудил всё население, я уже заранее знал: сейчас он скажет что-то о Лике, и это вряд ли будет приятным.
— Анжелику украли, — сообщил он, присев на край моей кровати, не обращая внимания на ворчание сокамерников.
— Постой, что значит украли? — задал я идиотский вопрос, тряся головой, просыпаясь. — Она же не вещь какая, чтобы её вот так взять и унести.
— Она уже три дня не приходит и не звонит. Она мне оставила ключи от своей квартиры. Я там был. Её нет. Ни записки, ни вещей, ни-че-го.
— Ну и что? — Хлопнул его по плечу. — Может, решила девушка съездить домой к маме на родную Смоленщину.
— Если бы! — захрипел Олег, оглядываясь. — Мне с полчаса назад звонили бандиты, у которых я её отбил. Я проверил телефон через милицию. Звонили из Сочи, из номера гостиницы «Жемчужина». Пахан тот заявил, что, мол, попользовался и будет с меня. Сказал, что если я с моим кагэбэшником буду её искать, то они ей горло перережут, но нам не отдадут. Представляешь, раскрыли моего контрразведчика!
— Слушай, Олег, друг мой! А, может, это и к лучшему? Ну, не наша эта птичка! Не из нашей стаи. Чужая. Понимаешь?
— Да пошел ты! — Вскочил он. Но я положил руку ему на плечо и усадил обратно.
— Олег, а давай мы ее забудем, а тебе нормальную девушку найдем, добрую, ясноглазую, скромную. А не воровскую. Да ведь жить с такими как Лика — это как на пороховой бочке сидеть и ждать, когда рванет. Причем, рванет-то обязательно, вопрос только — когда? Ты меня понимаешь, друг?
— Ты всё сказал? — Олег снова встал. Лицо его окаменело. Он казался неживым.
— По большей части…
— Пойду, — прогудел он чужим голосом и вышел из комнаты.
«Теперь и он пропадет», — почему-то подумал я и пошел закрывать за ним дверь.
Так и вышло. Олег рухнул на дно отчаяния. Иногда я видел его на лекциях. Тех самых, когда в больших аудиториях собирается весь поток. Он ходил и сидел с каменным белым лицом, никого не замечая.
Потом наступили мрачные дни. Как сорвавшись с цепи, все начали пить и гулять. Что с нами случилось?.. Будто всех накрыла невидимая мутная волна. Новогодние праздники стали апофеозом безумия. Творили что-то невообразимое.
Ломились среди ночи в соседнее женское общежитие. Вахтер вызвал милицию. Нас увезли в отделение и бросили вначале в обезьянник, потом в КПЗ на голый дощатый пол. Потом бравые блюстители порядка вызвали нас на собеседование и предложили скинуться по рублику и встретить Новый год. Потом перед рассветом нас освободили, пообещав не сообщать в институт. Сообщили!.. Ниночка изъяла грозную бумагу из почты и подарила нам на память, чтобы «мы прекратили безобразничать».
После освобождения из застенков мы снова пили — «За свободу!».
… В ту ночь я провалился в черную дыру и долго летел в бездонную пропасть. Жестко упал плашмя, но как ни странно не разбился. Лежал на мокром холодном камне и дрожал от холода и страха. Всей спиной и затылком я чувствовал чей-то испепеляющий злобный взгляд, но повернуться и посмотреть на того, кто надо мной стоял, не было сил. Вдруг меня схватили за плечи чьи-то цепкие ручищи и стали трясти. Это продолжалось мучительно долго. Вдруг все вокруг озарилось синими молниями, раздался гром. Нет, это был не гром, как во время грозы, а голос — страшный и беспощадный: «Этот, что ли, хочет от нас вырваться? Ха-ха-ха! Да бросьте вы! Он наш! Вы посмотрите на него — с ног до головы черный!»
Я еще больше испугался и что было сил заорал: «Господи, помоги!» — и тьма в миг рассеялась, и я проснулся весь мокрый на своей скрипучей кровати в прокуренной комнате общежития.
В ушах все еще стоял грохочущий злобный бас. Потом его сменил более мягкий и даже вкрадчивый голос: «И когда вся стая полетела зимовать на юг, одна маленькая, но гордая птичка сказала: «Лично я полечу прямо на солнце». Она стала подниматься все выше и выше, но очень скоро опалила свои крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья».
«Приснится же такая муть!» — только и смог произнести, тряся тяжелой головой. Но страх снова рухнуть на дно той черной пропасти надолго впечатался в мою память.
Самоубийца в открытом космосе
Жили вроде бы весело, но иногда и у нас появлялось желание оторваться от земной суеты и взлететь ввысь. Не последнюю роль в таких событиях играл «Космос» — кафе на «Сверловке». Оно официально закрывалось в девять вечера, но там подолгу еще горел притушенный свет и звучала музыка. Это нелегальное состояние точки общепита называлось «Открытый космос». Во всяком случае, мы с Олегом, бывало, уходили оттуда и под утро. Кафе находилось в географическом центре академической части Нижегородского района, поэтому сюда стекались студенты и преподаватели со всех ВУЗов города.
Хозяйкой там за стойкой бара возвышалась монументальная Тамара, которую за глаза называли «Валентиной Терешковой». Ассистировала ей уборщица баба Ганя, которую иногда прозывали «Руслановой» — за веселые частушки и бойкий нрав.
Баба Ганя за небольшие комиссионные подрабатывала еще и официанткой, поэтому всегда находилась в гуще народных масс и знала всё обо всех. У нее можно было получить консультацию по любому вопросу. Например, как вытащить из КПЗ друга-студента, попавшего туда за драку в нетрезвом виде? Или, скажем, где достать джинсы «Вранглер» по цене не выше ста рублей? Или, к примеру, с кем разделить одиночество долгой зимней ночи? Иногда баба Ганя слишком увлекалась разговором с каким-нибудь душевным студентом. Тогда в «Космосе» раздавался звук, подобный рокоту взлетающего ракетоносителя — Тамара звала подчиненную. В таком случае баба Ганя полушепотом пела, как бы извиняясь: «Звезды Млечного пути запели страдания!» — и вприпрыжку неслась к стойке.
…Девушка сидела напротив и говорила. Еще она выпивала, закусывала, курила и смотрела по сторонам. Я пил весьма неплохой кофе, молча слушал её, но не верил ни единому слову. Она меня тихо ненавидела, как, впрочем, и всех окружающих. Мой друг так и не пришел. Это с ним случалось все чаще. Олег продолжал методичное самоуничтожение вполне сознательно. В душе моей чернел открытый космос. Вот уже с неделю, ближе к ночи во мне открывалась зияющая пустота, требующая заполнения. Это примерно, как голод, только не в желудке, а где-то в области сердца. С этим нужно было что-то делать и я «куда-то девался». Например, бесцельно бродил по центральным улицам до обледенения и согревался потом «космическим» кофе.
Вдруг она сказала:
— А я решила покончить с собой. — Она спокойно смотрела в мои зрачки и ожидала реакции. Я разглядывал ее переносицу и недоверчиво молчал. — Первая попытка не удалась. Вот, смотри. — Она закатала рукав. На запястье левой руки краснел свежий шрам от пореза.
— Это убедительно, — кивнул я. — А причина?
— Он был самым красивым и умным мужчиной в мире. Я смотрела на него, как на бога. А он меня прогнал и ушел к моей подруге.
— Более-менее ясно. Ну что ж, если ты так решила, значит, тебе все равно?
— Что все равно?
— То, что будет между этим твоим решением и последней минутой жизни?
— В общем, да… — Она опустила глаза и задумалась.
— Тогда давай сделаем напоследок что-нибудь полезное.
— Например?
— Это мы придумаем. А если не придумаем, то само случится.
— Хорошо. Давай. — Она впервые взглянула на меня без презрения.
Мы встали и вышли в ночь. Навстречу нам шагали редкие прохожие. Смеялись пьяные компании, одинокие путники понуро плелись, опустив лица. По дороге безучастно пролетали автомобили, такси и частные извозчики медленно катили, высматривая потенциальных клиентов. На лилово-сером небе поблескивали тусклые звезды. Пахло дешевыми духами, сигаретным дымом и пригорелым мясом.
— Сейчас что-то будет, — сказал я, чувствуя мелкую вибрацию в солнечном сплетении. — Обязательно что-нибудь произойдет.
— Посмотрим, — хрипло отозвалась девушка.
Мы обогнули площадь Горького и свернули в переулок. Слева от нас тянулась пустынная дорога, справа — частные дома с заборами. Вибрация ожидания нарастала. Мы превратились в пару чутких ушей, прослушивающих окружающее пространство слева и справа, сзади и спереди, снизу и сверху. Но пока ничего не слышали, кроме собственных шагов и приглушенного шума телевизоров за маленькими окнами.
Мы были готовы ко всему. Мы искали и ждали чего-то, что обязано было произойти. И все-таки, когда к нам из подворотни бросилась женщина и закричала, — мы с девушкой вздрогнули.
— Ребята, помогите! Он умирает.
— Кто? Куда идти? — спросил я, схватив ее за плечо, будто опасался потерять.
— Сюда, за угол. — Женщина вывернулась из моего захвата, сама вцепилась в мой рукав и потянула к ветхому мещанскому особнячку. На лестнице, у самой двери, она обернулась и, выпучив глаза, попятилась: — Простите меня, я ужас как боюсь смерти и покойников. Дальше вы, ребята, сами идите. Умоляю, помогите ему! — И почти мгновенно исчезла в темноте.
Мы нерешительно потоптались на скрипучем крыльце. Звонка здесь не было, в дверь, обитую ветхим дерматином, стучать бесполезно. Я резко вдохнул, медленно выдохнул и, схватив девушку за холодную руку, вошел в дом. Из комнаты в сени через полуоткрытую дверь лился мягкий розовый свет. В комнате, освещенной лампочкой под красным кисейным абажуром, пахло лекарствами. В углу на кровати с никелированными спинками полулежал старик.
Бывают же красивые пожилые люди! Сквозь глубокие морщины, пепельную седину и ржавые пигментные пятна желтоватой кожи проступала красота. Он показал на стулья и жестом пригласил подсесть поближе к нему.
— Вы простите ради Бога мою соседку, — сказал он полушепотом. — Хоть и готовился я к этому событию половину жизни, а все равно чувствую внезапность. Такая долгожданная неожиданность. Как вас зовут, молодые люди?
— Юрий.
— Надя.
— А мое имя Василий, отчество Павлович. Мне, ребята, нужна ваша помощь. Не беспокойтесь, у меня есть возможность неплохо вам заплатить за вашу услугу. Так что в накладе не останетесь.
— А что нужно делать? — спросил я.
— Вот адрес священника. — Протянул он листок бумаги. — Возьмите такси и привезите его ко мне. А вот деньги на такси. Когда привезете отца Феодора, такси не отпускайте. Дайте таксисту деньги и просите подождать часа два.
Надежда осталась с умирающим. Я дошел быстрым шагом до площади, поймал такси и съездил за священником. Проживал он в обычном панельном доме на Кузнечихе. Одет был так же обычно, в костюм и плащ. Только бородка и глаза выдавали его профессию. Хоть я его и разбудил, собрался он быстро, подхватил портфель, и мы спустились на лифте вниз. Сели в машину и доехали до стариковского домика.
Когда мы вошли в дом и снимали верхнюю одежду, из комнаты доносились голоса старика и Нади — они говорили о кладбище и памятнике. Девушка все аккуратно записывала в блокнот. Священник попросил нас перейти на кухню: умирающий должен в последний раз исповедать свои грехи за всю жизнь.
На кухне Надя поставила чайник.
— Слушай, Юра, он мне дает кучу денег, чтобы я устроила похороны и установила надгробье с крестом. И еще он тебе деньги даст. Вот дедуля! Я от него в восторге! А еще он мне сказал, что торопиться мне туда не стоит. Ну, ты понимаешь — куда… Нужно успеть в земной жизни сделать много добрых дел. Нужно помогать людям. Слушала его и поняла, что я истеричка, эгоистка и полная дура. Когда мы с тобой получим деньги, я не буду тратить их на шмотки и разную ерунду. Я очень хорошо подумаю, на какие добрые дела их потратить. Понимаешь?
— Понимаю, Надюш. Кажется, умирающий старик заразил тебя желанием жить.
— Да! Именно. Он тут рассказал о своей жизни. И мне моя показалась каким-то полным бредом. Василий Павлович сказал, что у меня есть возможность жить по-хорошему. Да еще и денег дает, чтобы я изменилась. Вот какой человек! А?
Вошел отец Феодор и сказал:
— Замечательный человек! Как он исповедовался! Я такого покаяния перед смертью ни разу не слышал. Пойдемте, ребята, к нему. Теперь можно.
Мы вошли в комнату. Здесь горели свечи и пахло медом и хвойным ладаном. Старик лежал на высоких подушках и устало улыбался. Мы подсели к нему. Он смотрел с любовью, как отец на детей. Что-то очень значительное происходило в этой комнате. Я не мог обозначить этого словами, только чувствовал нечто вроде торжественного волнения.
— Наденька, Юра, — сказал он тихо. Придите в Церковь. Полюбите ее — это дорога в рай. В лоне Церкви, с Христом в сердце — не страшно умирать. Я верю, что Бог простил меня и после смерти по Своей милости даст мне упокоение в раю. Детки, я прожил большую жизнь, и много в ней было разных событий. Но сейчас, перед смертью, понимаешь, что жил я только тогда, когда служил Богу: стоял в церкви на литургии, исповедовался, причащался, раздавал милостыню, утешал больных и обиженных, бескорыстно помогал людям. Всё остальное — не важно и ничего не стоит. Поверьте умирающему старику: жизнь только там, где Христос.
Он замолк, прикрыл глаза. Священник держал его сухонькую руку и сосредоточенно молился. Мы с Надей молча во все глаза смотрели на них. Через несколько минут отец Феодор глубоко вздохнул, положил руку Василия Павловича ему на грудь и спокойно сказал:
— Преставился раб Божий Василий. Царствие ему Небесное.
После отпевания священник сел в такси и уехал домой. Мы с Надей остались с покойником одни. Пожалуй, впервые в жизни я не боялся мертвеца. Смерть верующего человека не принесла с собой обычные в таких случаях страх и тоску. Мы с Надей понимали, что человек этот не умер, не погиб, а перешел в иной мир, гораздо лучший земного.
Надежда поблагодарила меня за этот вечер, за эту ночь, за то, что я не дал ей наложить на себя руки. Она по просьбе покойного будет заниматься похоронами и до поминок сорокового дня останется жить здесь, в доме покойного.
— Желание покончить жизнь самоубийством исчезло? — спросил я девушку.
— Теперь у меня, Юра, одно желание — умереть так же красиво, как Василий Павлович и встретиться с ним в раю.
Вальпургиева ночь
В канун майских праздников установилась солнечная погода. После зимних морозов и длинных черных вечеров душа и тело требовали солнца и тепла. Еще дня за три до майских Максим и Виктор стали звать нас на пикник в район Теплого озера.
Ребята эти жили в районе под названием Сортировка. С тех пор, как знаменитый район Канавино утратил дурную славу самого бандитского района Нижнего Новгорода и превратился в обычный торгово-развлекательный центр, Сортировка переняла криминальную эстафету. Эти двое сортировских мачо носили железные вставные зубы и тяжелые подбородки. Лица их покрывало множество шрамов. Кулаки их всегда были сжаты и по-боксерски чуть согнуты в запястьях, выражая тем самым постоянную готовность вступить в кулачный бой и дать самый решительный отпор. Виктор — тот казался букой, ходил всегда один, потому что его боялись. Макс, напротив, был общительным, обладал сильным высоким голосом, виртуозно владел гитарой и был вторым солистом в институтской рок-группе «Кипарис».
Так как девушек в нашей группе было маловато, мы с Лёвой пригласили «японок». Как-то в начале учебного года мы обнаружили их поселение в дебрях общежития. Вообще-то девушки приехали из Якутии, но мы их так называли, а они не были против. Они казались нам еще сильно молодыми и, с нашей точки зрения, нуждались в мудром руководстве опытных студентов, прошедших естественный отбор выживанием в трущобах городского дна, двух сессиях и стройотряде.
Еще девушки привлекали нас тем, что у них всегда имелось, что покушать. Часто мы с Лёвой приходили к ним голодными среди ночи, и они безропотно доставали из-под кровати посылочный ящик с черной икрой. Поначалу мы долго учились употреблять икру так, чтобы не причинить ущерба здоровью. Дело в том, что икра была то ли прессованная, то ли подвяленная. Она напоминала черный соленый пластилин и приставала к зубам.
Среди «японок» выделялась Маша, с виду лет тринадцати с нежным белым личиком и светло русыми волосами. Глаза, впрочем, как и у всех якуток, у нее были черные, раскосые и бесстрастные. Наверное, чтобы её принимали всерьез, она объявила себя потомственной ведьмой, поэтому мы её уважали и держались на дистанции. Остальные девушки просто были веселыми и общительными, без всяких там комплексов и претензий. Вот и на майские согласились поехать на пикник сразу и без кокетства.
Еще я пригласил с нами Олега, чтобы после затяжного стресса парень получил хоть какие-то положительные эмоции.
Ехали мы туда на электричке. Как вышли из вагона и спустились под горку, — перед нами открылась дивная картина. Среди просторного березняка в высоких травах белело небольшое озеро, над которым стоял парной туман. Вода в озере была на самом деле невероятно теплой, градусов двадцать пять. Причину такой необычной температуры объяснил Макс: сюда стекала отработанная вода соседней ТЭЦ. Но вода была чистой, не зря же тут постоянно плескалась рыба. Кроме нас там уже веселились две небольшие компании с палатками и удочками.
Мы тоже поставили три палатки: две для мужчин, одну для девушек. До самой ночи мы купались, загорали и ловили рыбу. А с наступлением сумерек разложили на траве ужин. Тут нам «потомственная ведьма» Маша и объявила, что эта ночь издавна называется Вальпургиевой, когда ведьмы слетаются на священную гору для шабаша. В среде комсомольцев стало происходить либеральное брожение. Кто-то защищал День солидарности трудящихся всего прогрессивного мира, а некоторые малосознательные граждане изъявили порочное желание отметить языческий шабаш нечистой силы.
Мы с Олегом и Максом, призванные соблюдать порядок во вверенном нам коллективе, предложили либералам-уклонистам накрыть для себя отдельный стол и кушать пикник в стороне от честных тружеников. После этого объявления Макс высвободил из брезентового чехла гитару, громко брякнул по струнам и запел звонким голосом на всю округу что-то сильно импортное на заграничном языке. Разумеется, все девушки сразу забыли о ведьмах и окружили певца. Уж не знаю, то ли сказывался профессионализм, то ли ему от природы досталась луженая глотка, только пел он почти без перерыва до глубокой ночи.
В это время вокруг сгущались мрачные тучи черной мистики. Народ сильно злоупотребил вина, стал кричать, танцевать и купаться в озере. Мы с Олегом почти не пили, с аппетитом кушали печеную свежую рыбу и развлекали двух интеллигентных девушек, которые смущенно отворачивались от белеющих в ночи тел. Макс услаждал публику вокалом. Поэтому печальными глазами наблюдали мы падение моральных устоев общества. Тут еще и соседи ругаться пришли. Четверо пьяных парней с дубинами в руках встали перед нами и потребовали, чтобы мы немедленно затихли. Мы им, оказывается, мешали культурно отдыхать. Макс поднялся, аккуратно прислонил гитару к березе и нырнул в палатку. Оттуда вышел с пистолетом «ТТ» в руках и вместе с Виктором они подошли к визитерам. Те не унимались. Прогремел выстрел в воздух — и парней с дубинами как ветром сдуло.
Но тут Маша, видимо решив восстановить уважение к своей полудетской персоне, объявила, что она устроит спиритический сеанс столовращения. Достала кусок ватмана с написанными кругообразно тушью алфавитом и цифрами. Сверху положила перевернутое чайное блюдце. Маша с Кирой наложили на блюдце пальцы и Маша попросила что-нибудь спросить у духов. Кто-то предложил назвать день рождения бабушки. Девушки поводили блюдцем, касаясь краем цифр, и объявили дату. Она оказалась правильной. Посыпались вопросы, на которые девушки отвечали так же конкретно и точно.
Мне стало не по себе. По холодной тоске в груди я реально ощущал присутствие нечистой силы и подсознательно её остерегался. У меня были еще сильны воспоминания о падении на дно адской пропасти. Олег вдруг перекрестился, протянул руку к ватману и решительно порвал его. На него набросились любители оккультизма, но он даже не взглянул в их сторону.
— Хватит ерундой заниматься! — рявкнул он. — Всё! Банкет закончился. Всем спать.
После бессонной ночи отсыпались до обеда. Потом позагорали, поели печеной рыбки и ближе к вечеру мы с Олегом поехали на вокзал.
Зачем? А чтобы съездить в Москву и слегка проветриться. Вот такая фантазия взбрела нам в голову.
Подключение
В кассе остались билеты только на полуночный экспресс и только верхние полки купе. Мы имели возможность купить предлагаемые билеты, но не имели желания. Посовещались с товарищем и приняли решение ехать десятичасовым поездом на третьей полке. До подачи поезда оставалось полтора часа, и мы решили провести их с пользой.
Для начала в буфете купили шоколадку для проводницы. Потом зашли в универмаг в отдел бытовой радиотехники. В этом таинственном месте мы наблюдали за появлением новинок проигрывающих устройств. Олег тщательно изучал и сравнивал технические характеристики «Эстонии», «Мелодии» и «Юпитера». Я с трепетом притрагивался к адаптерам, стереоколонкам, ручкам настройки, вычисляя в уме, как накопить и на чем сэкономить, чтобы набрать сумму, указанную в ценниках.
В это время у прилавка стояла странная пара молодых людей: длинноволосый лет под тридцать и домашний мальчик лет пятнадцати. Мальчик слушал и кивал, а длинноволосый горячо шептал, постоянно облизывая толстые красные губы. До нас долетали только обрывки: «у аппаратуры высшего класса давление иглы на винил не превышает двух грамм, дунешь — и адаптер улетел», «штаны нужно носить «Вранглер» и «Лэвис», причем обязательно потертые», «бриться — лезвиями «Шик», они долговечные, хватает на месяц», «нейлон — лажа, я тебе достану фирменный джинсовый батник и лапшу».
— Слышишь, Юра, как фарцовщик подрастающее поколение подключает?
— Подключает? К чему?
— К своей системе потребления. Не правда ли, похоже на общение паука и мухи? Жестокий паук заманивает несчастную муху, потом закручивает в паутину, чтобы медленно и с наслаждением пить кровь.
Следующей торговой точкой, которую мы регулярно посещали, был отдел грампластинок. На полках ничего приличного там не бывало. Но можно всегда пошушукаться с продавцом, или с крутящимися тут же темными личностями. Нас отводили в сторону и протягивали тетрадные листочки. Если там писалось «Дорз — 6» или «Ти Рекс — 5», то читать нужно было: диск группы «Дорз» продается за шестьдесят рублей, а «Ти Рекс» — за пятьдесят. Конечно покупать винил за такие деньги с рук было равнозначно самоубийству, поэтому мы лишь приценивались, чтобы узнать, какие диски ходят по рукам.
Пока мы шушукались, у нас за спиной снова послышалось: «сейчас особо продвинутые слушают джаз-рок, это такие группы, как «Чикаго» и «Кровь, пот и слезы»», «если нужно что-то для компании с девочками, то лучше «Биттлз» или «Бони М»». Тот же длинноволосый с бордовыми губами натаскивал «мажорчика» с печатью скрытого порока на милом личике и наличием папиных денег.
На поезд мы, как всегда, чуть не опоздали. У Олега это было в привычке. Он таким образом «держал марку» и «щекотал нервы». Когда мы через подземный переход выбежали на третий путь, поезд уже набирал скорость. Мы запрыгнули в открытую дверь последнего вагона и сунули проводнице шоколадку в комплекте с тремя рублями. Пока она шипела, что в случае появления ревизора она нас не видела и нас не знает, мы резво забрались на третью полку пустого купе и там затаились. Проехав Дзержинск, мы спустились на вторые полки и спокойно заснули.
Утром проснулись в Москве. Сонные и помятые, но довольные, вышли на залитый солнцем перрон Ярославского вокзала и для начала решили привести себя в порядок. Вокзальный туалет был набит битком. Кто брился, кто умывался, кто стоял в очередь к кабинкам и писсуарам. Тут же сновали вездесущие темные личности и что-то продавали. Мы побрились, умылись, причесались и даже вспрыснулись «Шипром» из автомата.
— Куда нам с тобой в первую очередь? — спросил Олег.
— На Беговую за штанами.
— Верно.
И мы спустились в метро. На Беговой вышли и для начала прошлись по подземному переходу. Там толпились фарцовщики, но атмосфера была напряженной: не ровён час, нагрянет ОБХСС с облавой. Олег потащил меня наверх к стеклянному фасаду комиссионного магазина.
Здесь он подошел к знакомому фарцовщику по имени Рафаэль, одетого в затёртый до дыр джинсовый комбинезон, и шепнул ему что-то на ухо. Тот, облизнул пухлые губы, кокетливо кивнул и быстрым шагом, покачивая бедрами, направился в сторону ближайшего жилого дома. Мы за ним. Там он позвонил в квартиру на втором этаже, дверь открылась. Из темноты прихожей выглянуло существо в балахоне неопределенного пола, увидев Рафаэля, отступило, и мы вошли в порочное логово фарцовщиков. Всюду стояли картонные коробки с джинсами, свитерами «лапша», рубашками «батник». Олег выбрал чуть потертые «Вранглер» и «Лэвис», мы померили и сторговались на ста двадцати. Еще мы купили по лапше и по паре ботинок на платформе. А еще Олег купил солнцезащитные очки каплеобразной формы под антисоветским названием «Макнамара». Всё это нам упаковали в фирменные полиэтиленовые пакеты «Мальборо», мы сунули покупки в дорожные сумки и вышли на улицу. Дело сделано. На пару лет мы одеты.
Дальше наш путь лежал на «Калпроспект» — Новый Арбат или Калининский проспект. Там у магазина «Мелодия» Олег спрашивал диск «Бони М», но над ним только потешались. Наконец, один невидный мужичок лет сорока утвердительно кивнул и повел нас в переулки. Снова мы вошли в квартиру и оказались в логове фарцовщика-меломана. Хозяин потребовал купить диск «Бони М» в комплекте с польским диском «Это рок-н-ролл». Мы согласились. Дальше он повел себя неординарно. Получив деньги и вручив диски, посадил нас в кресла и поставил свой диск «Бони М» на музыкальный центр «Панасоник», и мы погрузились в музыкальный шторм.
Да, такого качества и такой необычной музыки мы еще не слышали. Это был прорыв в иное измерение, новое музыкальное течение. Мощные ритмы раскачивали нас на огромных океанских волнах, вокал казался необычайно отточенным и богатым по звуковой палитре, звуки вихрем кружились вокруг, заполняя каждую клетку тела, врываясь в тебя, как затяжной взрыв. Выходили мы от этого меломана-фарцовщика чуть подавленные. Особенно после того, как он по секрету озвучил цену музыкального центра — шесть тысяч рублей.
Пообедав, мы решили сходить в комиссионку радиоаппаратуры на Садовом кольце у площади Восстания. Там на прилавках стояли музыкальные системы по страшным ценам: от полутора до сорока тысяч рублей. Это если, к примеру, зарабатывать, как академик по тысяче рублей и все деньги откладывать на такой вот муз-центр, то придется копить три с лишним года! Немыслимо! Но если это здесь стоит, значит, есть люди, которые могут себе позволить и такое. И явно это не простые труженики, даже пусть осыпанные почестями и наградами. Ой, как в этой Москве пахнет нехорошо — шальными деньгами и престижем!
Обратно решили ехать по-прежнему на третьей полке. Только на этот раз пришли к поезду необычно рано и могли спокойно выбрать вагон и степенно договориться с проводницей. Когда мы забросили вещи на третью полку и вышли подышать на платформу, я увидел нечто потрясающее.
В десяти шагах от меня Юля стояла в обнимку с мужчиной в шляпе и с поднятым воротником плаща. Они сжали друг друга в объятиях и, закрыв глаза, медленно раскачивались. Вот объявили об отправлении поезда, проводницы стали загонять пассажиров в вагон. Старик оторвал Юлю от себя — и я узнал его. Он снимался в кино, его фотографии висели в кинотеатрах и театральных фойе, он был знаменит. Я вспомнил слова Юли о том, как его травят в театре, и понял, какая это ложь. Да этот актер считался мэтром, имел государственные награды и был недосягаемой величиной для простых смертных. Он был вне театрально-киношных дрязг и находился выше этого уровня. Видимо, пожилой ловелас использовал этот расхожий приёмчик под названием «давить на жалость» для обольщения наивной девочки. Я обязан сказать ей об этом! Предупредить!
Убедившись, что купе, как всегда будет полупустым и никто не посягает на наши места, я обрисовал Олегу свою ситуацию и прошел в соседний вагон. Юля стояла в проходе и смотрела в окно. Я подошел и поздоровался. Она стояла, словно каменная статуя, и ни на что не реагировала. Тогда я положил руку ей на худенькое плечо и легонько встряхнул.
— Привет, Джульетта.
— А, это ты, — произнесла она чужим голосом. — Тоже ездил в Москву?
— А я узнал твоего старичка.
— Не смей так говорить! — Она гневно сверкнула глазами. — Ты и мизинца его не стоишь.
— А я и не собираюсь ни с кем ценой меряться. Я же покинул рынок, где торгуют невестами и женихами. Помнишь?
— Да. Ты что-то говорил. Не важно.
— Послушай меня, пожалуйста. Ты сейчас похожа на зомби. Это не любовь, понимаешь! Это страсть, болезнь, сумасшествие. Это пройдет, и ты останешься у разбитого корыта. Мне жалко тебя, Юлия!
— Уйди. Прошу тебя. Не могу тебя видеть.
— Вот видишь, ты меня уже ненавидишь. А любящее сердце не может любить и ненавидеть одновременно. Если человек любит, то любит всех! Ладно, я уйду. Как хочешь. Только помни, я остаюсь твоим другом. И ты всегда можешь прийти ко мне, если надо будет с кем-то поделиться.
— Уходи!
— Прощай.
В нашем купе Олег в очках «Макнамара» на носу беседовал с крепким пожилым мужчиной. Они разыгрывали какую-то очень знакомую мизансцену. Где-то я уже видел нечто подобное. А! «Семнадцать мгновений весны», сцена в поезде с участием немецкого генерала и Штирлица. «У меня есть коньяк, хотите выпить?» — «У меня тоже есть коньяк». — «Зато у вас, вероятно, нет салями». — «У меня есть салями». — «Значит, мы с вами хлебаем из одной тарелки».
— А вот и наш Ромео, — сказал Олег седому мужчине, кивая в мою сторону. — Минуту назад его Джульетта дала ему полную отставку, предпочтя юного и подающего надежды пожилому, но заслуженному человеку при кормушке.
— Так было всегда, — прохрипел седой. — И так будет всегда. Женщины выбирают сильных.
— А я утверждаю, что это работает система подключения, — упрямо настаивал Олег. — Выбирают тех, кто посочней и послаще, зомбируют их и высасывают кровушку. Только мы с Юркой никогда в эту систему не попадем. Гарантирую!
— Ой, не пугайте девушку широкими плечами, — хрипел седой. — Сам вон, поди, не в пластмассовых очках за рупь-сорок из районного универмага сидишь, а в фирменных, целковых за пятьдесят. Пройдете по костям, возматереете и так же станете пить кровь белых братьев.
— Не дождётесь! — гаркнул Олег. Потом долго смотрел на меня, седовласого и, перед тем, как упасть головой на стол, произнёс нечто эпохальное, что станет впоследствии афоризмом: — «Макнамара» — это вещь!
Позови меня в даль светлую
По приезде в Нижний на перроне Московского вокзала Олег спросил:
— Что-то я совсем из времени выпал. Не помнишь, какое у нас расписание занятий?
— Еще два дня и зачет, — ответил я, вытягивая шею в поисках бедной Джульетты. Впрочем, безуспешно.
— Тогда сегодня отдыхаем. Только надо бы как-нибудь красиво. А то от Вальпургиевой ночи и притонов столицы такой осадок мутный остался, будто мы в аду побывали.
Дома у Олега нас ожидало застолье. Старые коммунисты третий день праздновали Первомай. Отец Олега энергично пожал мою руку. Сурово оглядел сына и молча ткнул пальцем в глубокую носогубную складку, сын послушно чмокнул его в щеку и приобнял. На бравурное приветствие Олега: «Салют старым коммунистам, верным детям Ильича!» последовало саркастическое ворчание ветеранов.
— Как думаешь, эту негативную реакцию на Ильича, можно считать предвестием грядущих перемен? — пробурчал Олег, закрыв дверь своей комнаты. Он поставил на свой «Арктур-004» диск «Бони М», откупорил бутылку чешского ликера «Бехеровка» с изысканным привкусом резинового клея и плеснул в крохотные рюмки. — Прими желудочных капель из аптеки пана Яна Бехера и одевайся во всё фирменное, пойдем, выйдем в свет.
Под песню «Реки Вавилона» я стал наряжаться в бело-голубые джинсы «Лэвис», синюю лапшу; на ярко-красные носки натягивал фиолетовые ботинки на платформе, которые обещали протираться бордовыми залысинами. Ну что сказать?.. В зеркале я увидел «дивной красоты молодого мужчину в самом расцвете сил», с ног до головы «упакованного в фирму». В таком наряде не стыдно было появиться в самом престижном месте любой столицы мира. Мне так казалось.
В это время Олег изучал в газете раздел «В кинотеатрах города».
— Во! То, что нам нужно! «Позови меня в даль светлую». Замечательный фильм по рассказам Шукшина!
Он оглядел меня с ног до головы и вдруг зашипел, тыча пальцем в ботинки:
— Ты с ума сошел! У них вид неприлично новый. Немедленно пройдись по поверхности наждачной бумагой. У меня где-то в столе «нулёвка» валялась.
Дверь открылась, и зашли двое бордовых лицами ветеранов партии. Один из них протянул свою рюмку к «Бехеровке», другой — подставил седую голову под стерео-наушники, прозванные в народе «лопухи», и заорал во всю глотку: «Ух ты! Какая музыка! Объёмная!». Олег на минуту отнял «лопухи» и бдительно сигнализировал престарелому меломану:
— Имей ввиду, дядь Леша, эта музыка — не иначе, как идеологическая диверсия! Ты поосторожней! А то заявят на тебя! В соответствующие органы. Друзья-собутыльники.
— Эти могут! — солидно кивнул дядя Леша. — Этим палец в пасть не клади — всю руку по самую подмышку отхватят.
— Давай я специально для тебя, дядь Леш, «Май течет рекой нарядной» поставлю. Конспихация, батенька, и еще хаз конспихация!
— Поставь, Олежек. И чтобы обязательно «…по широкой мостовой!» и погромче! Какая смена растет, Пашка, — обратился он к любителю «Бехеровки», смахивая нечаянную слезу с морщинистой щеки. — Какая у нас политически грамотная молодежь! Есть кому знамя из наших ослабших рук подхватить! И понести в светлые коммунистические дали!
…Смотреть с Олегом кино — занятие не для слабонервных. Он каждую вторую фразу обмусоливал и смаковал, как любитель пива дефицитную воблу. На нас оглядывались, нас просили вести себя тише и даже угрожали сообщить «куда следует», только унять киномана никому не удавалось.
— Нет, я не могу: «маслице на хлеб»! Это он про сивушные масла! И гроб для себя строгает, чтобы в спину сучок не вонзился. Смотри, что Любшин из себя вытворяет! А ты помнишь его в кино «Щит и меч»? Какой он там умница, красавец, в немецкой форме! А тут — алкаш-алкашом. Слышь: «Ох, как в нос шибает!»
Вышли мы из кинотеатра повторного фильма, прошлись по Пушкинскому садику и направились на площадь Горького. Обсуждение фильма продолжалось и здесь, поэтому мы чуть не сбили с ног Ирэн. Она прогуливалась в обществе худенькой брюнетки и держала за руку очаровательную светловолосую девочку лет пяти: «Моя племянница Даша, а это сестра из Вильнюса — Кристина». Обе молодые женщины были одеты в красные короткие «платья-распашонки». Дашенька — в розовом комбинезончике. Олег пригласил дам прогуляться. Они согласились.
Как-то так получилось, что Дашутка оказалась на моих плечах. Я за две копейки взвешивал на её всех весах, которые попадались на нашем пути. Причем, вес её постоянно увеличивался с 19 до 22 килограмм. «Дядь Юр, видишь, как быстро я расту!» — хлопала девочка в ладошки. Еще я учил её английским словам. И где-то на подходе к Кремлю талантливый ребенок уже выучил слов двадцать и самые главные фразы: «Ай лав ю», «Хау мач из ит?» и «Ю а крэйзи».
Мы прошли территорию Кремля насквозь и вышли через проём в крепостной стене к дорожке над Зеленским съездом. Перед нами справа внизу шумела Маяковка, над крышами домов виднелась Волга, разлившаяся в ту весну до самого горизонта. У женщин оказался с собой фотоаппарат со слайдовской немецкой пленкой ORWO. Мы кормили сизых воркующих голубей, звонко смеялись, по очереди подбрасывали «до самого синего неба» визжащую от страха и счастья Дашеньку — и всё это непрестанно фотографировали.
Олег стал пересказывать Кристине фильм про светлые дали и даже порывался сводить её в кино непременно сейчас:
— Как можно продолжать спокойно жить, если ты не видела этот шедевр! — вопил он на всю округу. — Знаешь, что там Ульянов говорит? Что в русской тройке-птице сидит жулик! Тройка-птица — это образ Руси, а там в коляске — вор! Представляешь!
— А мы вчера там же смотрели «Осень», — сказала Кристина. — Его называют первым секс-фильмом в СССР. Там герои всю дорогу лежат в постели и пьют пиво.
— Кому что!.. — вздохнул Олег.
А Ирэн в тот день была удивительно тихой и чуть грустной. Она прижалась ко мне плечом, достала из сумочки журнал «Юность» и открыла повесть Анатолия Тоболяка «История одной любви». Поискала нужное место, прошептала: «Так они познакомились» и прочла вслух:
«Из дневника Кротова»
«25 июня 1972 года, в полдень, на оживленном перекрестке Москвы произошло столкновение. В сводках ГАИ оно не значится. Один пешеход, развив недозволенную скорость, налетел на другого пешехода. Яблоки посыпались из авоськи и запрыгали по мостовой, как радужные мячи. Девушка закусила губу. Молодой человек кинулся собирать плоды райского сада. Когда он разогнулся, она уже уходила. Ее плечи были возмущенно расправлены, лопатки под платьем сошлись, как тиски. Черная негритянская нога с силой поддала одно из яблок. Оно запрыгало на середину улицы.
Вся ее фигура источала гнев и презрение. Гнев и презрение. Девушка с облегченной авоськой шагала, не оглядываясь. Я сунул несколько яблок за пазуху, одно обтер и надкусил.
Она вошла в метро…
… Прежде чем шагнуть с движущейся ступеньки, она оглянулась. Как дикая птица, почувствовала взгляд охотника из-за куста. «Хвост» обнаружен. Преследование потеряло тайну.
Теперь мы поднимались. Я плыл на десять ступенек ниже. Ее ноги, как два ослепительных черных луча, били в глаза. Затем ее поглотила телефонная будка. Я прислонился к пустому лотку из-под мороженого. Яблоко в моей руке взлетало.
Итак, телефонный разговор.
Румяным яблоком я выбил по стеклу будки три точки, три тире, три точки. Сигнал SOS. В ответ гневный взгляд карих глаз. Шевелящиеся губы… Розовая мочка уха, прижатая трубкой…
Я выкинул вверх три пальца — символ автоматного лимита.
Дверца будки распахнулась. Мы стоили лицом к лицу. Я превратился во фруктовое дерево.
— Ваши яблоки,— сказал я и посыпался плодами в ее авоську.
Красный свет — неприязнь, испуг. Желтый — раздумье, колебание. Зеленый — доверие.
Три раза мигнул светофор в ее глазах. И вот уже я держу авоську, как победный трофей преследования. Почему смолк город? Куда пропали прохожие? Их нет; мы — два космонавта под одним шлемом в безвоздушном пространстве».
— А это очерк главного героя, — сказала Ирэн тихо и серьезно. Так она говорила, когда прикасалась к чьему-нибудь таланту. — Он привез его в редакцию из командировки на пастбище. Представляешь, ему лишь семнадцать! Чуть больше, чем тебе, когда ты мне читал свои стихи и рассказы. Послушай, Юра:
«И двинулся аргиш! Вскинули олени головы с раскидистыми ветвями, переступили тонкими под коленом и широкими у копыта ногами, пробуя твердость земли, закатили выпуклые, со слезой глаза, задрожали всей кожей — и пошли… Первые дни авалаканчика, шаткого и податливого на малый порыв ветра, первые дни жизни длинноногого уродца с круглым взором, отражающим весеннее величие земли, протекают в полнейшей беззаботности. Мать кормит его молоком, а человек-пастух следит за его сердцебиением. И уже в эту пору косой надрез на ухе новорожденного определяет его судьбу. Быть ему домашним зверем и служить ему человеку!
Окрепнут его ноги, пойдут в рост бугорки на темени, прикрытые пока светлой шерсткой, заживет порез на ухе. Но уже нельзя ему надеяться на даровое молоко матери. Летом будет он кружить вместе со своими собратьями в мучительном хороводе, подгоняемый оводами и мошкарой, осенью познает сладость первого гриба, зимой обдерет рога в тесных просветах между лиственницами и проверит силу копыт, разбивающих пласты снега вплоть до ягеля… Всем наделила его природа. Только крыльев ему не дано, чтобы летать в небесах на птичий лад».
Она закрыла журнал и опустила его на колени. Перед нами простирались зовущие светлые дали. Занимался голубовато-золотистый закат. Стояла тишина. Даже трамваи прекратили звенящий бег по рельсам. Даже голуби притихли и расселись по траве.
— Это, как полёт в небо! — говорила она взволнованно. — Это как пощечина всем нам, ползающим по земле. Это… счастье быть таким возмутительно талантливым.
— Дай почитать, — сказал я. — Очпрошу.
— Возьми, конечно. Это я для тебя взяла из библиотеки. Мне этот Кротов моего друга детства Юрочку напомнил.
— Поду-у-у-умаешь, — пропела Дашенька, ковыряя ботиночком траву на газоне, — я тоже дядю Юру «ай лав ю»! — Потом повернулась ко мне и, склонив голову к плечику, улыбнулась: — А когда я вырасту и стану большой, ты будешь со мной в стогу сена кувыркаться?
— Почему в стогу сена? — спросил я девочку, слегка ошеломленный.
— А потому что, когда в кино любовь показывают, дядя с тетей в стогу кувыркаются и смеются. Я тоже так хочу.
— Обязательно, Дашенька, — сказал я как можно серьезней под ехидное прысканье взрослых, — разве я смогу отказать такой очаровательной принцессе, как ты?
— Договорились! А можно я опять к тебе на шею сяду?
— Можно, конечно!
Девочка шустро заняла свое место на моем загривке. Я обхватил её тонкие ножки одной рукой, другой взял под руку Ирэн и мягко спросил:
— Что с тобой?
— Меня Виктор бросил…
— Ну, и ничего! Ты у нас самая красивая и умная. У тебя нежное сердце. Этот бледномордый волчара и мизинца твоего не стоит.
— Правда?
— Конечно, другиня! Ты самая лучшая девушка Нижнего Новгорода и прилегающих окрестностей. Вот этих. Посмотри! — Я показал рукой на обширный разлив Волги до самого горизонта и расплавленное золото высокого неба. — И ты…Представляешь, от Олега я такое о женщине слышал впервые: ты че-ло-век! Как утверждал великий Горький, — ты звучишь гордо!
— Спасибо, Юрочка, — вздохнула она, благодарно пожимая мое предплечье. — Знаешь что, приходите ко мне завтра часикам к пяти. Я вас с Олегом отблагодарю за сегодняшний день.
Однако, темнело. Не смотря на ропот Кристины и причитания Дашеньки, мы отправили их домой спать. Сами же решили съездить в кинотеатр Минина на одноименную улицу, что у Верхневолжской набережной. Там уже который месяц постоянно шли фильмы Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» и «Этот безумный, безумный, безумный мир». Мы неоднократно слышали восторженные отзывы о них. Нам достались билеты на последний сеанс — на «Обыкновенный фашизм». Уже само начало фильма сразу ввело нас в состояние наивысшей концентрации внимания: улыбающиеся дети, обнимающиеся влюбленные — всё так мирно, тихо… И вдруг — горы полускелетов, трупов в концлагере. За кадром знаменитый баритон Ромма, добрый, мудрый в мирных сценах — и жесткий, саркастический во время демонстрации фашистского безумия, лжи, показухи, звериной жестокости.
Обе серии — три с половиной часа — мы пребывали в напряжении. У меня в голове роились тысячи мыслей и ассоциаций, требующих осмысления, я их запоминал, чтобы потом обязательно обсудить, может с Олегом, или с кем-нибудь еще, только обязательно проанализировать и обсудить. Нас уже приучили, что при нашей советской власти авторы сильных фильмов, книг, статей, живописных полотен вынуждены прибегать к приему иносказания, скрывая истинные идеи за ширмой сказки, легенды, бичевания легальных, общепризнанных преступлений… У меня не оставалось сомнения, что автор клеймит не только фашизм, но и любую тоталитарную власть, которая держится на страхе, насилии и зомбировании масс, которая эксплуатирует самые низменные человеческие страсти: гордость, властолюбие, зависть, жестокость и страх.
После сеанса мы вышли в прохладную ночь и свернули на набережную. Там, под откосом мирно плыли по Волге огни кораблей, в фиолетовом небе сверкали звезды и огни самолетов. После трехчасового напряжения приятно было смотреть на эту мирную картину. Но тут Олег тряхнул головой и сказал:
— Да, друзья мои, вы правы! Автор нам показывал наш мир в разрезе. Там всё: фашизм, коммунизм, сионизм, масонство… А знаете, что фашизм — порождение масонства. Гитлер, будучи сам членом масонской ложи именно по масонским каналам получал деньги, власть и указание, кого уничтожать и в каком количестве. Строго по спискам: этих отпустить за океан, этих — в газовые камеры. Эти, которые несут идеи всемирного господства — наши, а те, кто ассимилировались, разжирели и утонули в болоте мещанства — чужие, мусор… Масоны всегда действовали по обе стороны баррикад. Нужно заработать сверхприбыли на вооружении, грабеже народов — используют одну сторону, нужно свернуть войну и перейти к мирной жизни для реализации награбленного и приумножения в бизнесе — используют противную сторону, по другую сторону линии фронта. Абсолютно уверен, что и автор этого фильма работал на одну и сторон этой всемирной партии, где на доске вместо деревянных фигур целые народы. И всем — заметьте — правит идея! Отсюда вывод, коллеги, — наша задача обрести самую главную идею в нашей жизни. Такую! — чтобы и умереть за неё было не страшно.
— Короче, «отчизне посвятим души прекрасные порывы», — усмехнулась Ирэн.
— Раньше, милая барышня, народ наш умирал «за веру, царя и отечество», — нимало не смущаясь иронией оппонента, сказал Олег. — Царя вышеуказанные силы расстреляли, отечество отняли и запретили даже упоминать это слово. Что осталось русскому народу? Только то, что уже не отнять — вера! Вот за это и пойдем на вражеские штыки.
— Ладно тебе, Олежка, убавь пафос. Ты не на трибуне. И не забудьте, я вас завтра к себе к пяти пригласила.
Идеалы и серость
…Серость!.. Она, как сырая плесень, проникает повсюду. Для неё, кажется, нет преград. Серость не производят, просто она появляется, когда удушают всё живое, солнечное, радостное. Сначала — в себе самом, потом — в ближайшем окружении, а если силы есть, то и дальше — до самых до окраин. Это очень удобно, если в себе самом всё живое успешно выжег злом. Смотрит такой в себя, на себя, а сердце, разум, личина — всё в плесени. А он уже за пультом управления. Перед ним экраны мониторов, рычаги, кнопки. Видит — живое на экране шевельнулось, рука тянется к рыжей кнопке, как у Геббельса к пистолету, — уничтожить! На другом экране — какой-то вызывающе молодой, разумный, ясноглазый — да неважно, что он там говорит. А просто за то, что живой еще — запретить! Будет продолжать трепыхаться, не послушает — приказ на уничтожение!
Когда живое затоптано, эта вездесущая сырая плесень проникает в одежду, в поэзию, в музыку, в книги, в поведение людей, в их мозг, а потом и в сердце. Ты видишь пепельные лица, ниже — мышиные одежды, слушаешь пустые слова, унылую музыку, прославляющие её величество смерть. Стоп! Как там писал романтик-Пешков, пока еще не стал Великим Горьким? «Лучше тридцать лет питаться свежим мясом, чем триста лет мертвечиной». Скажем смерти нет! Хотите — убейте меня молодым, но я не стану клевать вашу мертвечину!
Примерно, об этом говорили мы с Олегом, когда вечером шагали к Ирэн в дом на набережной. Видимо, отец моей другини сделал неплохую карьеру, если окна их просторной квартиры выходили на Волгу. Родители её отъехали на дачу. Впереди намечался вечер психоделической музыки. В большой комнате на низком журнальном столе стояли блюда с салатами и канапе — всё дело изящных рук Ирэнушки. Вокруг на матрасах, накрытых пледами, валялись подушки. На стене висел большой белый экран. Напротив него — слайдоскоп. Ирэн оделась в нежно-голубые джинсы и белую свободную рубашку, распустила каштановые кудри по плечам. Смотрела весело и ласково. Олег, напротив, был мрачно-усталым, улыбался через силу. Но улыбался…
Сначала мы, обнявшись, как три товарища, вышли на балкон и лицезрели просторные дали, залитые большой водой. Честно сказать, я бы так и простоял там до утра, если бы другиня не напомнила о программе вечера. Потом по-восточному возлегли на ложах и правой рукой вкушали яства и питие. В это время хозяюшка показывала слайды майских праздников, где фигурировали и мы с Олегом. То ли потому, что фотографировали без подготовки, то ли день был такой светлый, только мы там выглядели радостными, счастливыми. В этих картинках, вспыхивающих на экране, жило столько воздуха, простора, улыбок, шуток, радостного детского смеха, голубиного воркования. И Дашенька в розовом комбинезончике, и девушки в красных платьях, и мы с Олегом в новой потёртой «фирме»… А над нами — высокое синее небо, а под нами — зелёная трава, и бегущие трамваи, голубые крыши и церкви Маяковки. А перед нами — сверкающие воды великой реки, а еще дальше, в сизой дымке — зовущие светлые дали. «Зачем, почему тогда не думал я?..»
А потом… Потом хозяйка включила магнитофон «Akai» с огромными бобинами, вздрогнули мембраны больших динамиков, на миг всё стихло — и раздались первые аккорды фантастической музыки. «Пинк флойд»!
Shine on you crazy diamond Сияй, Безумный Алмаз
Remember when you were young, Помнишь, ты был юн,
you shone like the sun. и сиял, как солнце.
Shine on you crazy diamond. Так сияй же и впредь, Безумный Алмаз.
Now there's a look in your eyes, Теперь выражение твоих глаз изменилось:
Like black holes in the sky. Они стали похожи на черные дыры.
Shine on you crazy diamond. Так сияй же и впредь, Безумный Алмаз.
You were caught in the cross fire of Ты попал под перекрестный огонь
Childhood and stardom, На пути от детства к всемирной славе.
Blown on the steel breeze. Стальной бриз подхватил тебя с земли.
Come on you target for faraway laughter, Так давай же, дерзай, объект давних насмешек,
Come on you stranger, you legend, Дерзай, чужак, легенда,
You martyr, and shine! Мученик — и сияй!
You reached for the secret too soon, you Ты слишком рано пожелал узнать тайну,
cried for the moon. ты строил воздушные замки.
Shine on you crazy diamond. Так сияй же, Безумный Алмаз.
Threatened by shadows at night, and Тебе грозили ночные тени,
exposed in the light. и слепил свет.
Shine on you crazy diamond. Так сияй же и впредь, Безумный Алмаз.
Well you wore out your welcome with Ты действовал наобум и стал
random precision, нежеланным гостем,
Rode on the steel breeze. Ты оседлал стальной бриз.
Come on you raver, you seer of visions, Так давай же, дерзай, неистовый, провидец,
Come on you painter, художник,
You piper, you prisoner, and shine! Волынщик, пленник — и сияй!
Звучали неторопливые гитарные раскаты, синтезатор издавал немыслимые богатейшие звуки, тарелки почти шёпотом обозначали ритм. Музыкальный ветер то струился ручейком, то затихал, нашёптывая сказку, а то взрывался ураганом, чтобы снова внезапно стихнуть и погрузить слушателя в парящий покой. То из одной, то из другой колонки раздавались голоса солистов. Нас вопрошали, утешали, убеждали; звали в необычный мир, сотканный из тонких светящихся нитей нашей мечты. Наш космический корабль грузно отрывался от земли, набирал скорость, впечатывая наши тела в мягкие кресла. Потом кабину сотрясали отстрелы первых ступеней ракеты-носителя, потом нас вынесло в ультрафиолетовые бездны космоса. И вот мы уже летим среди звездных скоплений, а в окне иллюминатора меняются картины — одна другой роскошней.
Ирэн расстаралась! Музыка уносила нас прочь от обыденности в величественные космические просторы. А на экране менялись фотографии звездного неба, сюрреалистические картины, горные, океанические и пустынные пейзажи… И было нам тогда очень хорошо. Ведь это «…это молодость моя!»
«На десерт» Ирэн включила кинопроектор и сказала:
— Эту ленту подарил мне Витюша-чекист. Это копия фильма про Вудстокский рок-фестиваль с закрытого обкомовского показа.
Нам было известно, что в августе 1969 года в штате Нью-Йорк на какой-то ферме проходил этот фестиваль, в котором выступали знаменитые американские группы. Там собралась полумиллионная толпа, приехавшая со всей Америки, в основном, хиппи, пацифисты и любители рок-музыки.
Фильм начался с показа красивых холмистых полей, по которым ездили на тракторах и конях длинноволосые парни с девушками. Плотники строили деревянный настил для музыкантов, монтажники ставили вышки, натягивали брезентовый полог, кто-то городил сетчатый забор, который потом затопчут. По дорогам к Вудстоку двигались тысячи автомобилей, мотоциклы, трактора с тележками, наполненными детьми. Седой индус рассказывал, что ему дома не поверят, если он скажет, что в деловой Америке могут собраться на рок-фестиваль сотни тысяч молодых людей. Приезжающая молодежь ставит палатки, рассаживаются на одеялах, кормят детей, играют с собаками. По радио звучит объявление: «Нам передали, что коричневая кислота, которую здесь продают, очень низкого качества. Вы, конечно, свободные люди и сами можете выбирать. Но имейте в виду, что у нас есть врачи. Если кто отравится, можете обращаться к ним».
Со сцены звучат слова: «Америка должна помочь миру духовно!» А вот и образец американской духовности: показывают занятия йогой. Парень говорит: «Йоге уже шесть тысяч лет. Это энергия кундалини, она струится по позвоночнику — от нее крышу сносит сильней, чем от наркоты!»
Начинает концерт негр, одежда которого промокает от пота. Потом Джоан Баэз передает привет от мужа, сидящего в тюрьме за отказ воевать во Вьетнаме и хлопает себя по выпуклому животу: «У нас все в порядке!» Прыгают по сцене сумасшедшие «Sha Na Na», красиво выступают виртуозные «The Who». Кантри Джо Макдональд поливает руганью вьетнамскую войну и всех собравшихся. Ему подпевает вся огромная толпа: «Родители, отдайте своих детей во Вьетнам. Мы скоро все умрем!». Молодой Джо Кокер в бакенбардах хрипит и дергает руками. С восторгом встречают замечательных и неповторимых «Creedence Clearwater Revival». Потом Пол Баттерфилд под дождем остается один с гитарой в руках на сцене с выключенным электричеством.
Кто прячется от дождя под пленку, кто раздевается догола и прыгает, скандируя «нет дождю», а кто катается по жидкой грязи, как по катку. Дождь проходит. На сцене музыканты передают друг другу самокрутку и кричат в микрофон: «марихуана!», так же поступает и публика. Голые дети играют в ногах пап и мам, курящих самокрутки. На сцене поют песню о двух килограммах дури.
В очередях к телефонам-автоматам стоят молодые ребята, звонят домой, сообщают, что здесь всё спокойно, они живы-здоровы. По радио объявляют, что у Чика рожает жена. Кто-то моется в реке с мылом, парни бреются — голые с одетыми вперемежку. Стоят в очередь к переносным туалетам. Разные люди высказывают свои впечатления:
— Полный бардак! Нет еды, нет бензина. Всюду толпы наркоманов.
— Не бойтесь полиции и военных. Они нас охраняют. С вертолетов бросают одежду и цветы.
— Мы местные фермеры, собираем еду и одежду для ребят. Хорошие ребята!
— Это зона любви! Они все счастливы!
— Да что такое! Они там все спят на земле. Это же пятнадцатилетние дети, а уже обкурены марихуаной.
— Я им привез воды. Отличные ребята. Воспитанные, вежливые. Нет воровства. Нет драк.
— Они хорошие ребята. Америка должна гордиться ими.
— Странно это слышать от легавого.
— Да я не легавый, я охраняю территорию.
Гениальный Карлос Сантана с мушкетерской бородкой будто сроднился с гитарой, извлекает из нее немыслимые звуки. За его спиной потные негры дубасят по тамбуринам и рвут струны бас-гитары. Мальчик-ударник лет пятнадцати с лицом отличника трещит на барабанах и тарелках. Народ встал, свистит и хлопает. Девушка в очках, закрыв глаза, двигает головой в такт музыке.
— Ребята, мы, наверное, в раю!
— Пройдите через лес. Там на ферме раздают еду. Там походные кухни.
Золотарь моет туалеты, развешивает рулоны туалетной бумаги и говорит:
— У меня один сын где-то здесь, а другой на войне летает на вертолете.
Хозяин фермы, на которой проходит фестиваль:
— Нигде еще не собиралось столько народу сразу! Пусть здесь будет только веселье и музыка! Да хранит вас Господь!
Затем негр из «Sly and the Family Stone» размахивает в темноте белыми крыльями рукавов. Виртуозы из «Blood, Sweat & Tears» играют сложнейшую композицию джаз-рока. Странная Дженис Джоплин хриплым высоким голосом интересуется всё ли у них есть: вода, одежда, и поет нечто истерическое, на пределе голосовых возможностей.
Гениальный Джими Хендрикс в красной повязке на лбу небрежно касается длинными черными пальцами струн белой гитары, и она поёт, стонет и плачет. Вот он играет одной правой рукой, бегая пальцами с грязными ногтями по грифу — и с неба будто срывается громовой раскат и мечется над толпой звуковой шторм. В его аккорды вплетается мелодия американского гимна. Он то спокоен, то сжимается в клубок, то подключает к игре и тело, и лицо, поднимая глаза в небо. В мочках его ушей сверкают большие бриллианты.
Наконец, толпа редеет, расходится, остаются горы мусора, который собирают в мешки, сваливают в кучи и сжигают странные волосатые личности.
Скоро погибнут от наркотиков Джимми Хендрикс, Дженис Джоплин и многие другие. Хиппи — кто умрут, кто попадут в психдом, кто повзрослеют и превратятся в холеных яппи. Генералы, развязавшие войну во Вьетнаме, фестиваль «не заметят». А идеалы хиппи «любовь, цветы и мир» — они до сих пор сверкают миражами и рождают новые и новые проблемы. Так может, они бессмысленны?..
Давай русское!
За праздники народ сильно приустал. Учеба не шла, не было ни сил, ни денег. Мы сидели за столом, хлебали чай и слушали монотонное чтение конспекта. Читал Лёва, как самый бодрый и ответственный. Наконец, у нас наступил «предел восприятия», и мы решили для разгрузки послушать музыку. И тут Лёва сказал нечто, запавшее мне в память. Пожалуй, эти слова открыли новую главу в книге моей жизни. Итак, он сказал:
— Давайте послушаем наше, русское! — И побежал к соседям за магнитофонными записями.
Дело в том, что я привык, что «наше русское» — это то, что поют ряженые под старину тетки с неприличными румянами на толстых мордах. Или, вроде того, чем пичкают по радио и телевизору из репертуара «официально-протокольного». Мое сознание противилось этой подделке, похожей на мёртвый музейный экспонат в пыли и плесени. Но тут произошло следующее: Лёва поставил бобину на магнитофон, и из динамиков потрепанного «Маяка» зазвучала музыка, полная жизни! Там чувствовалась профессиональная обработка мелодий, богатая оркестровка. Там пели красивыми сильными голосами, и пели по-русски!
Говорят, что любовь забывается
И калитка от меня закрывается.
Говорят, что ходил всё напрасно я,
Говорят, что мы с тобой люди разные.
Налетели вдруг дожди, наскандалили.
Говорят, они следов не оставили.
Но дошла в садах сирень до кипения.
И осталась ты во мне вся весенняя.
На нас будто пахнуло свежим весенним ветром! Истерзанный революционными праздниками народ очнулся и стал упорно подниматься из руин внутренней разрухи. «Еще и еще!», — требовали засиявшие глаза измученного народа.
Ты проснешься на рассвете,
Мы с тобою вместе встретим
День рождения зари.
Как прекрасен этот мир, посмотри!
Как прекрасен этот мир! …
Мы полностью были согласны с мнением товарища оратора! …То есть, певца. Или автора песни… Не важно! Но нам очень, очень нужно было, чтобы мир, в котором нам довелось жить, выглядел прекрасно. «Еще давай!», — кричали мы. Лёва повернулся ко мне и сказал:
— А сейчас, Юрка, будут слова, которые я от тебя уже слышал.
Милая моя, скрытная,
Кто тебе дал из грешности
Эти глаза магнитные
И руки нежнее нежности?
Если из них, любимая,
Будет петля устроена,
Сделай же так, чтоб жизнь моя
Была бы её удостоена.
В этом месте Лёва поднял палец к потолку, привлекая моё внимание:
— Вот, сейчас!
Сердце моё не спеша сдави
Так, чтоб слабея силою,
Видел глаза я долго твои
И губы твои, любимая!
Глядя в очи остылые,
Смейся, смейся, не бойся…
Пусть все подумают, милая,
Что мы оба смеёмся.
— Точно! — воскликнул я. — Это же стихи Федорова!
— И еще кое-что услышишь, — пообещал Лёва, мотнув головой.
Рабочий день окончен, можно отдохнуть,
В тени бульваров вволю воздуха глотнуть.
На перекрестке шумных улиц, у витрин
Я как и прежде, как и прежде все один
Ведь у меня одна она, она одна,
Ни незнакомка, ни девчонка, ни жена
Как в сновиденьях — будто есть, и будто нет,
Одна на этот весь огромный белый свет.
…Джоконда Мона Лиза
В ночных туманах этих —
Одна Джоконда на целом свете!
— Вот это да! Первая строчка про рабочий день мне знакома. Может, краем уха и песню эту слышал?
— Тайна эта за семью печатями. А сейчас, товарищи, будет песня, которую можно считать гимном студенчества. Я предлагаю её выучить и петь в торжественных случаях.
Во французской стороне,
На чужой планете
Предстоит учиться мне
В университете.
До чего тоскую я —
Не сказать словами.
Плачьте, милые друзья
…Ну, так будьте же, всегда
Живы и здоровы!
Верю, день придет, когда
Свидимся мы снова.
— А теперь предлагаю вернуться из французской стороны в нашу родную. Исполняется рок-композиция под названием «Ненаглядная сторона»!
Тихо дрожит вода,
Ивы глядятся в пруд.
Так каждый раз спешу сюда,
Словно меня здесь ждут.
Дарят простор поля,
Дарят покой леса.
Как ты смогла, скажи, земля,
В сердце вместиться вся?
Сколько у тебя таких, как я,
Сыновей родных и дочерей!
Но хватает всем, земля моя,
Любви твоей, души твоей.
Есть! Слава Богу, и у нас есть талантливые авторы настоящих песен. Самое удивительное — это как им удалось пробиться сквозь нашу совковую серую тупость. Но, получилось! Значит, еще будут и другие песни, не менее хорошие.
Нагадала мне цыганка
Утро ослепило ярким солнечным светом. Звенели птицы. На лицах прохожих вспыхивали улыбки, слышался детский смех и веселое тявканье собак. Я шел… Нет, бежал! Спешил сломя голову вперед — туда, где буйствовала весна, где бурлила толпа и ждал меня друг. На площади Лядова у дороги, ведущей к автовокзалу, толпились цыгане. От них отделилась молодая женщина в ярких одеждах и встала передо мной лицом к лицу.
— Давай, молодой, погадаю! — сверкнула она черными глазами. — Положи на ручку рублик, чтобы мне всё правильно тебе сказать. Не бойся цыганам деньги давать — они к тебе сторицей вернутся.
Как-то сам собой, помимо желания, рубль из кармана моих брюк перекочевал на смуглую ладонь. Она схватила мою руку, глянула на рисунок ладони и строго взглянула мне в глаза.
— О-о-ой, парень! Жизнь у тебя будет веселой, но короткой. Видишь! — Она провела пальцем по моей ладони. — Вот это линия жизни. Она обрывается на самой середине. Так что в тридцать три года ты или помрешь, или изменишься так, что сам себя не узнаешь. Это будешь уже не ты, а как бы другой человек. Но это, если сможешь измениться. Так что, студент, спеши жить-веселиться! Жизнь коротка. — И вдруг исчезла.
Я повертел головой. Но ни в толпе цыган, ни где-нибудь рядом моей гадалки не нашел. Взглянул на свою ладонь. На самом деле, линия, по которой водила пальцем женщина, обрывалась на середине. Чушь! С чего это я должен верить в эту ерунду!
В тот миг я, наконец-то, увидел Олега. Он махал мне рукой и тыкал пальцем в сторону автобуса, который подползал к остановке. Мы ринулись к распахнутым дверям и последними вскочили на подножку. Дверь за нами со скрипом закрылась. Первые несколько минут мы боролись за жизнь — изо всех сил уперлись руками в металлическое полотно двери, чтобы нас не раздавили. Наконец, на ближайшей остановке вышла добрая треть пассажиров, мы заняли сиденье у окна, Олег уткнулся в газету, а я задумался.
Ну, допустим, это случится. И пусть мне суждено жить тридцать три года, как Христу. Во-первых, это когда еще будет. А во-вторых, не известно, каким буду я в этом возрасте и какая у меня будет жизнь. Может, будет война, или я тяжело заболею — и тогда смерть будет желанной. Бывает же такое. Каким я буду в тридцать три? Мне люди старше двадцати кажутся стариками. А после тридцати там уже и живот вырастает, и седина, и морщины, болезни разные: радикулит, печень, сердце, маразм…
«Следующая остановка — «Завод «Орбита». Кто спрашивал, как доехать до кладбища, приготовьтесь на выход», — пропела скрипучим баском кондуктор. Мы выскочили из автобуса и по щебеночной дороге зашагали в сторону металлической ограды, утопающей в тени высоких деревьев и густого кустарника. Олег глянул на меня умными глазами и бросил:
— У тебя здесь кто-нибудь лежит?
— Да. Дед с бабкой.
— Найдешь сам-то? А то я своих давно не навещал. Сейчас пойду в контору, чтобы мне подсказали, где их искать. Кладбище старое, перенаселенное. Легко заблудиться.
— Тогда и я с тобой, — сказал я.
По асфальтовой дорожке мы шли под густой сенью старых деревьев, мимо мусорных куч, мимо циклопических гранитных памятников и простеньких оград из уголка и арматурных прутьев. Густо пахло увядшими цветами и свежей краской. Изредка навстречу попадались притихшие посетители и пьяненькие служители в черных сатиновых халатах.
— Простите, а сколько вам лет? — неожиданно спросил я проходящего мимо мужчину.
— Недавно тридцать два исполнилось, — улыбнулся тот в ответ, видимо, ожидая предложения выпить. — А что?
Я пристально рассмотрел его. Крепкий еще, сильные жилистые руки, мужественные морщины вокруг глаз и от носа к подбородку, седоватые виски, легкая пружинистая походка. На немой вопрос Олега я рассказал ему о пророчестве цыганки. Он покачал головой и печально улыбнулся.
— Правду сказала цыганка или наврала — это не так важно. Видишь ли, помнить о смерти, думать о ней, надо каждому. Нам от нее никуда не деться. Многие боятся этой темы и, как страус в случае опасности, прячут голову в песок. Но человек разумный обязан четко осознавать, что умирать придется обязательно. И ответ за свою жизнь так же придется держать. …Как бы нам это не было страшно. Так что лучше заранее подготовиться к переселению в город мертвых. — Показал он на могилы вокруг.
В конторке седой начальник, похожий на полковника в отставке, спросил фамилии наших родственников и, полистав затрепанную книгу, выписал на листочки бумаги номера участков и могил и молча протянул нам. Нам со спутником пришлось расстаться.
Мои дед с бабушкой лежали в аккуратной могиле с приличной металлической оградой, внутри которой белели мраморные плиты с крестами и эмалевыми фотографиями. Прутья ограды вросли в толстую морщинистую кору старой липы. Под ее роскошной кроной жила густая тень, которая шевелилась, как живое существо. Я повыдергивал траву, погладил рукой прохладный мрамор обелисков, всмотрелся в лица предков. Присел на скамью и понял, что не знаю, что мне делать дальше. Что вообще в таких случаях делают?
— Эй, дружище, ты как? — раздался из-за густого орешника баритон Олега.
— Нормально, — ответил я. — Да ты заходи, место есть.
— Да, у тебя тут уютно. Не то, что на моей могиле. У меня там полный хаос. Придется заняться благоустройством. Батюшки, какая роскошь! — Показал он на металлический ящик под скамейкой. — Знаешь, Юра, я всё думаю о твоей гадалке. Мне кажется, она не просто так появилась в твоей жизни. Прими это, как предостережение. И готовься круто изменить свою жизнь.
— Куда и как изменить? — спросил я недоуменно.
— А вот ты и разберись. Значит, пришло время подумать об этом.
— Я тут пока тебя не было, не знал что мне делать. В голове сумбур. Просто тупо смотрел вокруг и всё. Я ничего не знаю об этом! — Обвел рукой окружающие могилы.
— Ничего, брат, узнаешь. Говорят, с умершими нужно говорить как с живыми. Они слышат и всё видят, чем мы тут занимаемся.
— Как это видят и слышат? Они уже сгнили там под землей.
— Это, Юра, только телесная оболочка сгнила. А душа-то живет. Она и после смерти тела продолжает жить. Ты думаешь, почему я тут сегодня оказался и тебя за компанию позвал? Снятся мне мои покойники. Каждую ночь снятся. И просят, даже требуют, чтобы я сюда пришел и поговорил с ними. Да так это явно происходит, будто они живы и рядом стоят. И ты тоже сюда ходи. Ты заметил, как тут хорошо и спокойно?
Посидев еще с полчаса, мы встали, прикрыли калитку и побрели по дорожке в сторону выхода. Мой взгляд непрестанно скользил по надписям и фотографиям на памятниках. Здесь лежали не только старики, но и совсем молодые, и даже юные, и совсем дети. Вдруг меня заинтересовал один памятник у самой дороги. На светло-бежевом полированном камне виднелась цветная фотография красивой девочки в пышных белых бантах. Под ней — бронзовые буквы: «Лена Зеленова, 1965-1974», а чуть ниже корявые буквы, процарапанные чем-то острым: «Лена, я тибя люблю!» Мне представилось, как мальчик, оглядываясь, царапает гвоздем эти слова и рукавом смахивает слезы с грязной щеки. Девочка на фотографии улыбалась. Такая красивая! Полная жизни…
Когда за нашими спинами осталась кладбищенская ограда, мы вышли на солнечную улицу. Здесь ползали туда-сюда троллейбусы, звенели трамваи, улыбались люди и смеялись дети, из открытого окна доносилась песня про Арлекино… И мне вдруг так захотелось жить! В общем, в тот день мы с Олегом несколько покуролесили и расстались за полночь.
У меня есть мечта
Олег, пользуясь доступом своего отца к закрытой информации, часто подбрасывал мне сенсации. Однажды он оглянулся, предупредил, что за такие документы дают от десяти лет и протянул мне листок. Переступая через животный страх в бушующем сердце, взял его «как ежа, как бритву обоюдоострую, как гремучую в двадцать жал змею двухметроворостую» и прочел вот это:
Открытое письмо Ф.Ф. Раскольникова Сталину (17 августа 1939 г.)
Я правду о тебе порасскажу такую,
что хуже всякой лжи.
Сталин, вы объявили меня «вне закона». Со своей стороны, отвечаю полной взаимностью: возвращаю вам входной билет в построенное вами «царство социализма» и порываю с вашим режимом.
Ваш «социализм», при торжестве которого его строителям нашлось место лишь за тюремной решеткой, так же далек от истинного социализма, как произвол вашей личной диктатуры не имеет ничего общего с диктатурой пролетариата.
Что сделали вы с конституцией, Сталин?
Испугавшись свободы выборов, как «прыжка в неизвестность», угрожавшего вашей личной власти, вы растоптали конституцию, как клочок бумаги, выборы превратили в жалкий фарс голосования за одну-единственную кандидатуру, а сессии Верховного Совета наполнили акафистами и овациями в честь самого себя. Постепенно заменив диктатуру пролетариата режимом вашей личной диктатуры, вы открыли новый этап, который войдет в историю нашей революции под именем «эпохи террора».
Никто в Советском Союзе не чувствует себя в безопасности. Никто, ложась спать, не знает, удастся ли ему избежать ночного ареста. Никому нет пощады. Правый и виноватый, герой Октября и враг революции, старый большевик и беспартийный, колхозный крестьянин и полпред, народный комиссар и рабочий, интеллигент и Маршал Советского Союза — все в равной мере подвержены ударам вашего бича, все кружатся в дьявольской кровавой карусели. …
Бесконечен список ваших преступлений! Бесконечен свиток имен ваших жертв! Нет возможности все перечислить. Рано или поздно советский народ посадит вас на скамью подсудимых, как предателя социализма и революции, главного вредителя, подлинного врага народа, организатора голода и судебных подлогов».
Я только пожал плечами и произнес первое, что пришло в голову:
— Как пауки в банке. Друг друга сожрали. Одно совершенно правильно — эта власть не народа, а партийной кучки.
— А ты знаешь, — сказал Олег, — что в ООН наш политический строй приравнивается к фашизму?
— Примерно, так и есть. Правда, сейчас мы с тобой имеем возможность это обсуждать. И не только мы. В каждой кухне рассказывают политические анекдоты — и ничего.
— Ну да, шушукаются с кукишем в кармане.
— И все-таки, думаю, сейчас можно жить… и нужно жить. Просто брезгливо не лезть в политические дебри, честно работать и растить детей в любви. Самое главное — идти к истине. Хоть по маленькому шажку в день.
Как-то в аудитории ко мне на колени из конспекта выпал листок, исписанный почерком Олега. Вспомнилось, как он, потрясая им перед моим лицом, возмущался: «Да ведь красные поддерживают Лютера Кинга! Они его считают прогрессивным деятелем. А самую знаменитую его речь ты нигде не прочтешь полностью. А почему? Там о вере в Бога — вот почему! Вот эта речь. Я ее у отца на столе обнаружил и себе на память выписал».
Я расправил листок бумаги и внимательно прочел:
«На ступенях мемориала Линкольна в разгар борьбы за равноправие и справедливость, 28 августа 1963 года, Кинг произнес 250.000-ной аудитории свою знаменитую речь, в которой выразил веру в братство всех людей:
«У меня есть мечта, что в один прекрасный день нация поднимется и поймет… что все люди созданы равными… Я мечтаю о том дне, когда… явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие… В этом наша надежда и наша вера. С этой верой мы сможем проложить себе дорогу с горы отчаяния на скалу надежды. Эта вера поможет нам работать вместе, молиться вместе, отстаивать свободу вместе, зная, что наступит день нашего освобождения. Но по дороге к праведному месту мы не должны совершать неправедные дела…»
Прочитав текст, я вернул листок в общую тетрадь и задумался. Мне всегда казалось, что в мечте есть что-то детское, наивное. Слово «мечтатель» считалось в моем окружении оскорбительным. Но именно мечта негритянского лидера провела через застенки, побои, покушения к главной цели жизни — освобождению негров от сегрегации. Значит, мечта способна создавать нечто великое!
А у меня есть ли мечта? Конечно есть! Может быть, не такая могучая, как у доктора Кинга, но есть. Может, я еще не способен её так четко и ясно сформулировать… Так надо попробовать. Я прислушался к голосу преподавателя, понял, что ничего нового не услышу, открыл тетрадь в середине и стал писать.
«У меня есть мечта!
Еще в детстве я возненавидел ложь. Чуть позже узнал, что зло существует повсюду, и даже внутри меня самого. Мое сердце сжимается, когда я вижу издевательства сильного над слабым. Не могу спокойно смотреть, как смерть сначала медленно убивает, а потом забирает в свою черную бездну и навечно хоронит самое прекрасное существо на земле — человека! Я ненавижу мрак и ненависть, трусость и лицемерие — и никогда не смогу полюбить это.
Да, у меня есть мечта!
Мне удалось узнать, что за любовь часто принимают страстное влечение или восторг перед физической красотой, но это не так. Я уверен, что любовь способна разглядеть и во внешнем уродстве красоту — душевную. Уверен, что любовь способна царить и править миром, как управляет она в семьях, где родители любят друг друга и своих детей, а дети любят родителей, братья — сестер, молодые — стариков.
Я мечтаю о таком обществе, где любовь будет самой главной созидающей силой. Где зло обречено и побеждено. Где люди, сбросив маски уродства, обратят друг к другу свои настоящие лица — прекрасные, добрые, искренние.
Я мечтаю о таком времени, когда не будет ночи и холода, а останется лишь весна и непрестанный свет. Когда запахи смертельного тления исчезнут, и всюду будут разливаться ароматы цветения и плодородия.
Я мечтаю о таком времени, когда ложь и неведение пропадет, а истина откроется всем. Верю, что истина прекрасна и несёт в себе только свет.
Я верю, что есть Бог. Не раз Он меня спасал от гибели и продолжал мою жизнь. Я Бога не видел, как видел Его Адам в раю. Но Адам согрешил и был изгнан из рая. Он жил больше 900 лет, а мы — всего-то 70-80. Значит, мы еще хуже Адама, еще более уродливы и слабы, еще более грешны и виноваты перед Богом. Вот почему Бог не является нам лично, а скрывает Свое лицо от человека. Мы не достойны видеть Бога! Но это не значит, что Бог забыл нас. Если присмотреться к нашей жизни, мы обязательно увидим, как Бог управляет человеком, как ведет его по жизни и помогает ему делать добро. Ведь мы по сути только и делаем всю жизнь, что выбираем между добром и злом, истиной и ложью, светом и тьмой.
Я мечтаю о встрече с Богом. Не знаю, как это произойдет и когда, но почему-то уверен, что это обязательно случится. Потому что Он меня ведет, а я иду к Нему. Точно знаю, что миг нашей встречи станет самым счастливым временем моей жизни.
Да, у меня есть мечта. И я всеми силами буду идти к ней навстречу».
Романтики, в яму!
…И грянуло лето! Солнечное тепло залило город. Усталость от изнурительной сессии вылетела из головы сразу после сдачи последнего экзамена. Нам некогда было почивать на лаврах: впереди трудовое лето. Наученные горьким опытом первого стройотряда, мы решили поехать куда-нибудь подальше от провинциальной областной серости. Куда?
— Сейчас все порядочные люди ездят на БАМ, — сказал Олег. — Почему бы и нам не поехать в тайгу в район вечной мерзлоты. А? Ты — за романтикой, а мы — за деньгами.
— Да как туда попасть-то? — спросил я со вздохом. — У нашего института туда путевок нет. Я узнавал.
— Как говорят наши переводчики американских фильмов: «Положись на меня, дружище! Я возьму эту проблему на себя».
— Попробуй…
— Уже попробовал. Смотри. — Олег достал из внутреннего кармана пиджака две путевки с круглой фиолетовой печатью штаба ССО. — Едем?
— Ну ты и фокусник! Что за вопрос! Конечно!
— А ты знаешь, когда вылет?
— Когда?
— Завтра утром. Беги, собирайся.
И я побежал. Только не вещи паковать, а к зубному. Видимо на нервной почве, на последнем экзамене у меня разболелся зуб. Когда преподаватель с улыбкой ставил в зачетку «отлично» — как дёрнет! Ну, я и побежал к зубному. Он рассверлил зуб и поставил мышьяк. Велел прийти послезавтра. Я же явился раньше времени и попросил срочно запломбировать зуб. Когда стоматолог убрал мышьяк и сунул иглу в канал, я вскрикнул от боли.
— Нерв еще живой. Приходи завтра.
— Не могу, завтра утром улетаю на БАМ.
— Ну тогда терпи, бамовец.
Я извивался в кресле, как уж. Орал и покрывался потом. Мужик в белом, с улыбочкой доктора Менгеле вкручивал тонкий штопор в зубной канал и по частям выдирал оттуда живой розовый нерв. Наконец, экзекуция закончилась, и я, покачиваясь от боли и головокружения, вышел из клиники и побрел на остановку трамвая.
В комнате общежития меня ожидало застолье: соседи отмечали завершение сессии и разъезд по стройотрядам. Я присел к распахнутому окну подышать. Боль потихоньку отступала. Будто утекала куда-то вниз, сквозь пятки, в землю. К нам в комнату зашел и подсел ко мне на кровать библиотекарь дядя Коля. Он постоянно носил подмышкой уникальные книги, знал всех читателей поименно и любил захаживать «на огонек».
— Что, Юрик, на БАМ собрался? Вот тебе журнал на дорожку. Там удивительная повесть «Чукоча». Тебе понравится. Почитаешь. Вернешься. Посидим. Помолчим. Потом все расскажешь.
Я поблагодарил старика, сунул журнал в рюкзак, на меня навалилась тяжелая усталость, и я уснул. Проснулся на рассвете. Вспомнил, что сегодня улетать, подскочил на кровати и побежал в санузел. Там отдраил зубы, полюбовавшись новой сверкающей пломбой, побрился и — посвежевший — вернулся в комнату надевать рюкзак.
В восемь утра я уже сидел на площади Свободы в центре округлого газона на рюкзаке в обнимку с мрачным помятым Олегом и свежей улыбающейся Ирэн. Откуда-то из соседних домов долетала песня Аллы Пугачевой: «Лето, ах лето, лето красное, будь со мной» — кто-то, видимо, или рано проснулся или не ложился вовсе. Ирэн говорила, что согласно плану гастролей в июле в Нижний приедет какая-то очень продвинутая группа. Она обязательно перезнакомится со всеми солистами и обязательно познакомит нас с Олегом. Потом в неё просто обязательно влюбится какой-нибудь волосатый гитарист. «Ну, посмотрите на меня, мальчики, разве можно не влюбиться в такую красотку!» …И увезет её в дальние страны в большой белый особняк с пальмой и бассейном во дворе.
А в это время командир отряда Митрич нас пересчитывал и переспрашивал. По словам Ирэн мощной шевелюрой до плеч и белой бородой он походил на короля Людовика Четырнадцатого. А еще он попросил нас проверить, не забыл ли кто из бойцов захватить с собой по три кило картошки и лука. Разумеется, мы забыли. Пришлось подниматься и тащиться в овощной отдел гастронома. Пока мы набивали рюкзаки овощами, со стороны площади раздались гудки автобуса-экспресса до аэропорта: это звали нас с Олегом. Там уже все собрались и заняли места в автобусе. Ирэн попрощалась с нами и села в одну из машин такси. В путь!
В полете нас укачало, не только нас с Олегом, но и остальных троих коллег, усиленно прощавшихся с альма-матерью до самой осени. Командир Митрич сурово заявил, что с подъемом на борт лайнера он объявляет сухой закон. Я вздохнул с облегчением: наконец-то. А еще он порылся в сумке, достал оттуда нечто мятое цвета хаки и протянул нам:
— Нате вот, переоденьтесь, а то похожи не на бойцов союзного стройотряда, а, прошу прощения, на каких-то помятых провинциальных студентов.
Что есть то есть… Мы со вздохом развернули свертки цвета хаки. Это была парадная форма бойцов ССО. В кармашках лежали яркие шевроны. Нам их предстояло еще пришивать. Спешно, на руках, но аккуратно. Словом, началась трудовая жизнь.
В дороге мы таскали на себе рюкзаки, ящики с бензопилами, пересаживались из одного самолета в другой. Перепутали время и место, напрочь забыв географию. Где-то между Читой и Якутском глядел я в окно иллюминатора на леса и реки под крыльями нашего Ил-18 и мучительно думал. Чтобы оправдать такой дальний марш-бросок нужна очень веская причина. Какова она? Строить БАМ? Наверное, эта дорога имеет важное стратегическое значение. Только я-то какое имею к этому отношение? Заработки? Не думаю, что пара-тройка лишних сотен рублей могла бы заставить меня лететь на противоположную сторону земли. Так что? Подвиги комсомольской юности, о которых принято рассказывать детям и внукам? Ничего я тогда не понял…
Наконец, на пределе усталости на пыльном раздолбленном автобусе добрались до поселка Нерюнгри, забрели в брусчатое рабочее общежитие, рухнули на нары и проспали десять часов подряд.
Наутро Митрич повел нас на окраину поселка, завел в тайгу и показал размеченную дощатой обноской поляну:
— На месте этих колышков мы должны вырыть ямы метр на метр, глубиной — полтора. Потом ставим в них бревенчатые сваи, засыпаем и поверху связываем брусчатым ростверком. Таких объектов у нас шесть. Берите инструмент и копайте!
— Понятно, — проворчал Олег. — Работка для каторжников и будущих руководителей производства.
— А как вы думаете, из инфантильных студентиков получаются директора? — взвизгнул фальцетом командир. — Пока не понюхаешь робы, пропитанной собственным потом, не сумеешь оценить созидательный труд граждан, которыми ты обязан руководить и вести их в необозримые светлые высоты коммунизма. Повторить? Не надо. За работу! Обед в час дня.
Копали мы с рассвета до заката. Лом, кирка, лопата — оказались бесполезными. Мы выковыривали плоские камни из вечного льда молотком, зубилом и кованой скобой. Снизу знобил мороз, сверху жарило горячее солнце. Со всех сторон атаковали эскадрильи комаров, мошкары и гнуса. Раз в час мы прерывались на пятиминутный отдых. По окончании пятой минуты раздавался пиратский вопль Митрича: «Романтики! В яму!» Надо отдать должное командиру — он вкалывал наравне с нами, а после заката еще и сидел в углу барака за нарядами и процентовками. Он вызывал у нас уважение еще и тем, что по всей коже имел глубокие рубцы — последствие укусов какой-то гнусной мошки, с которой познакомился на берегу Ледовитого океана. После её укуса кожа гниёт, от чего остаются «на память» отвратительные глубокие рубцы. Митрич представлял собой тип «вечного студента», учился седьмой год и каждое лето выезжал в Сибирь. Ходили слухи, что он поставил себе цель заработать миллион рублей, и, видимо, осталось копить ему совсем немного.
После ужина мы ложились на нары, унимая ноющую боль в спинах. Кто-то писал письма, кто-то читал, кто-то разговаривал с соседом. По рукам ходили книги. Самые интересные, за которыми выстроилась очередь, были «Особый район Китая» Владимирова и «Пятьдесят лет в строю» графа Игнатьева. Я пустил по рукам свой журнал с повестью Филимонова «Чукоча» и пьесой Арбузова «Жестокие игры».
Перед текстом повести имелось предисловие, в котором говорилось: «Владимир Филимонов — авантюрист с доброй жилкой. В молодости нашёл за Полярным кругом красивейший изумруд, который оставил себе на память. Но приятели эту тайну доложили милиции. Человека посадили в Бутырку, где ему быстро перебили нос и сломали челюсть. А Филимонов в ответ за два присеста написал повесть «Чукоча» — про собаку, которую предал человек». Мне там понравилась фраза: «В то лето я хорошо расходился и без труда проходил 50-70 километров в день, по болотам и таёжной чащобе».
В пьесе Арбузова нашел песню, которую стал напевать во время работы:
Я мало ел и много думал,
Ты много ел и мало думал,
А в результате — как же так? —
Ты умница, а я дурак.
Пока до меня дошла очередь на прочтение мемуаров «красного» графа Игнатьева, мне казалось, что я знаю содержание романа почти наизусть — так живо обсуждалась книга населением барака. Мне заранее стало известно, что после революции царского атташе Советы не признали. Он перевел миллион царских червонцев на свой личный счет и оберегал их от попыток жуликов присвоить. Сам жил в пригороде Парижа и зарабатывал выращиванием шампиньонов в подвале своего домика, продавая их в рестораны. Честно сказать я вовсе не сочувствовал графу: деньги он передал коммунистам, и вряд ли они пошли на что-нибудь полезное. Лучше бы нищим русским эмигрантам раздал… Но вот, когда очередь дошла и до меня, нашел-таки то, что другие проглядели. Оказывается, наш военный атташе в Париже граф Игнатьев стоял у истоков «Ситроен».
«После размещения во Франции заказов на полевые гранаты у меня еще долго оставался на руках невыполненным полученный из России заказ на шрапнели. В конце концов Бакэ указал мне на какого-то Ситроена:
— Это не то банкир, не то торговец, но во всяком случае не промышленник. Говорят к тому же, что отец его — выходец из вашей Одессы. Его настоящая фамилия Цитрон.
На следующий день в мой кабинет вкатился быстрым, энергичным шагом маленький человек лет сорока в безупречной черной визитке, с маленькой ленточкой Почетного легиона в петлице.
— Андрэ Ситроен! — назвал себя вошедший. — Меня прислал к вам генерал Бакэ, — начал Ситроен. — Вот это, — он обвел пальцем громадный светло-розовый прямоугольник, — это законтрактованная мною земля. Я и предлагаю построить на ней большой завод. Дайте мне ваше задание, и через шесть дней я представлю детально разработанный как технический, так и финансовый проекты.
Я передал Ситроену документацию.
Заказ был выполнен с минимальным опозданием и без единого процента брака.
Через несколько дней после заключения перемирия в Компьенском лесу Ситроен, неожиданно мне позвонил по телефону и просил заехать к нему на завод.
— В течение скольких лет, по вашему мнению, не будет войны? — задал он мне вопрос.
— В течение по крайней мере десяти лет, — ответил я.
— А что бы вы сказали, если бы я предпринял поход против вот этого господина? — И он указал на противоположный берег Сены, где дымились трубы мощного автомобильного завода Рено в Бийянкуре.
— Конкуренция тяжела, — ответил я, — но если выпускать машины по более низкой цене, то рынок для них, по-моему, уже создан самой войной.
Так рассуждали мы с Ситроеном и оставили открытым только один вопрос: создавать ли пятисильные машины или остановиться на слабейших из появившихся в ту пору типах десятисильных американских «фордов».
— Я решение принял, — заявил Ситроен. — Приглашаю вас приехать через неделю на наш завод.
Как по мановению волшебного жезла, опустел завод. Рабочая площадка была, как и до постройки завода, готова к установке нового оборудования. Ситроен, постепенно открывая цех за цехом, развертывая и механизируя производство, занял через два-три года второе после Рено место во французской автомобильной промышленности.»
Близость нашего городка с Китайской границей подогрела интерес к книге «Особый район Китая», где описывалась молодость «великого кормчего» Мао Дзэ-дуна. И там мне удалось найти кое-что странное:
«Мао Цзэ-дун пригласил Южина: обучал Игоря Васильевича игре в мацзян. За игрой тот заметил: «Товарищ Мао Цзэ-дун, раньше в Особом районе строго наказывали крестьян, тайно производящих опиум, а теперь этим легально занимаются войска и учреждения во главе с коммунистами».
Мао Цзэ-дун не удостоил его ответом. Разъяснения дал Дэн Фа: «Прежде Особый район вывозил на внешний рынок соль и соду. Мы снаряжали в гоминьдановские провинции караваны вьюков соли и привозили назад тощую сумку денег. И всего единственную! Теперь отправляем жалкую сумку опиума, а назад пригоняем караван с вьюками денег. На эти средства покупаем у гоминьдановцев оружие и будем лупить им тот же Гоминьдан!»
Или вот еще про кулинарные привычки великого кормчего:
«Мао Цзэ-дун поглощал перец и, потягиваясь в шезлонге, выпытывал у меня: «Сталин — революционер? А любит красный перец?.. Настоящий революционер обязательно ест красный перец…» Он отхлебнул из кружки и заметил: «Александр Македонский наверняка обожал красный перец. Он великий человек и революционер в своем деле. И Сталин, конечно, ест перец. Ешь перец и ты, Сун Пин. Давай, если ты революционер…»
Мао Цзэ-дун, не морщась, закладывал в рот стручок за стручком, сдабривая их глотками ханжи. Надо отдать должное: пьет он изрядно и не теряет контроля над собой.»
А вот и движущая сила китайской революции:
«По собственному признанию Мао Цзэ-дуна, одной из любимых книг его молодости была «Великие герои мира». Он в восхищении перед знаменитыми завоевателями, царями и всеми, кто сумел утвердиться на вершине «человеческой пирамиды»…»
Чем более отупляла нас работа, тем больше тянулись мы к книгам. Обсуждали чуть не каждый занятный абзац. От частного переходили к всеобщему. Порой казалось, что не землекопы, сидя на нарах, развлекаются на досуге, а дипломаты заседают на сессии ООН.
На танцах я познакомился с замечательной девушкой Лидой. Она всё делала очень красиво и старательно: работала, одевалась, кушала, танцевала и, конечно, читала. Именно эта девушка «открыла» для меня Владимира Солоухина. Как-то она принесла мне в столовую, которая вечером превращалась в клуб, книгу, обернутую в ватман. Я открыл наобум и прочел отрывок из «Славянской тетради», посвященный каверме:
«Конечно, все организовал Станислав. Он накануне рассказывал мне, что когда люди в Родопах собираются в одно место на праздник, то зажигается несколько сот костров. Людей собираются тысячи и десятки тысяч, но не на каждого же свой костер. И вот тогда начинаются «каверме». Иногда готовят одновременно четыреста каверме, можете вы себе представить?
Я не мог себе ничего представить, потому что не знал, что такое каверме, а Станислав отказался объяснять и рассказывать: рассказать будто бы невозможно, как хорошее стихотворение. Надо знать самому. Однако я понял все же, что дело связано с бараниной.
Ну что мне было сказать? В горах Тянь-Шаня, в киргизских кочевых юртах, усевшись вместе с аксакалами в тесный кружок вокруг казана, мы наслаждались бишбармаком. Как раз перед поездкой в Болгарию я путешествовал по Дагестану, будучи в гостях у Расула Гамзатова. Молодые отварные барашки (особенно те части, где ребра) будут сниться мне и на смертном ложе. Вдоль и поперек я проехал Грузию. Шашлык по-карски, шашлык на ребрышке, шашлык-бастурма — все это нам доподлинно известно. И ткемали к шашлыку, и сочная, зеленая гора цицматы, и кинзы, и молодой барбарис, и главное — парок, когда разрежешь напополам зарумянившийся кусок мяса. …»
Я увлекся, невольно стал читать вслух. Вокруг нас за столом сидели и пили чай десятка два бойцов. После пригорелой рисовой каши и пустого чая у нас громко заурчало в животах. В меня полетел тапок, потом алюминиевая ложка. Уклонившись от снарядов, я упрямо продолжал:
«…Можно ли было меня удивить теперь рассказами про баранину, если бы даже она и называлась «каверме»? В первое время мы смотрели, как это делает старик родопец. Если бы все закончилось за полчаса, нам не пришлось бы узнать тонкостей его искусства. Старик взмок, беспрерывно вращая кол, а бока овцы не начали даже и румяниться. Мне стало совестно стоять над работающим стариком, и я занял его место.
Пообедали мы давно. Может быть, поэтому способ приготовления каверме показался мне несколько замедленным. Надо сказать и то, что мы крутили овцу около огня беспрерывно четыре часа двадцать минут. Снаружи образовалась ровная, темно-коричневая, как потом выяснилось, хрустящая, прямо-таки ломающаяся корочка.
Теперь я должен признаться, что до каверме я не знал, что такое баранина и что такое вкусное мясо вообще. А ведь это самый первобытный способ приготовления. Сочная, как апельсин, впитавшая в себя ароматы родопских трав и сохранившая их в себе во время готовки баранина производила впечатление самого тонкого, самого изысканного блюда.
Когда мы кончили трапезу, костер догорал. Над Родопами взошла луна. Шум реки сделался явственнее. Заглушая его, болгары пели протяжные родопские песни, дошедшие из тьмы веков.»
— Книгу даю тебе с одним условием, — строго сказала Лида, сверкнув карими глазами. — Никому ее не передавать. У нас за ней целая очередь. Так что читай быстрей и послезавтра вернешь лично мне в руки.
В том сборнике были повести «Черные доски», «Славянская тетрадь» и «Письма из Русского музея». Владимир Алексеевич писал о тысячах разрушенных церквей, разграбленных иконах и ценностях. Писал смело, жестко, без оглядки на цензуру.
«С начала тридцатых годов началась реконструкция Москвы. Но еще Владимир Ильич Ленин в беседе с архитектором Жолтовским дал твердое указание (можно найти в соответствующих документах), чтобы при реконструкции Москвы не трогать архитектурных памятников.
Да и не везде была реконструкция. Лучше всего об этом говорит то, что на месте большинства замечательных, удивительных по красоте и бесценных по историческому значению древних памятников архитектуры теперь незастроенное, пустое место. Я хочу злоупотребить вашим терпением и назвать хотя бы некоторые из них.
Перед входом в ГУМ со стороны Никольской улицы (улица 25 Октября) вы замечали, вероятно, никчемную пустую площадку, на которой располагаются обычно продавцы мороженого. Здесь стоял Казанский собор, построенный в 1630 году.
Наверно, вы знаете стоянку автомобилей там, где Столешников переулок выходит на Петровку. На этом месте стояла церковь Рождества в Столешниках XVII века.
На Арбатской площади со стороны метро, где теперь совершенно пустое место, поднималась красивая церковь XVI века.
Напротив Военторга украшала Воздвиженку (проспект Калинина) церковь в стиле южнорусской деревянной архитектуры, построенная в 1709 —1728 годах.
Кстати, в этой церкви венчался великий русский сатирик Салтыков-Щедрин. На Гоголевском бульваре, где сейчас дешевенькие фанерные палатки, возвышалась церковь Покрова на Грязях, построенная в 1699 году.
Я продолжу перечень, но более схематично.
Церковь XVI века на углу улицы Кирова и площади Дзержинского. Сломана. Теперь пустое место.
Церковь Фрола и Лавра (1651—1657 годы) на улице Кирова, наискосок от почтамта. Сломана. Пустое, захламленное место.
Церковь XVII—XVIII веков на углу улицы Кирова и улицы Мархлевского. Сломана. Пустое место. Фанерные палатки.
Церковь 1699 года, в которой крестили Лермонтова. У Красных ворот. Сломана. Сквер.
Церковь XVI века — угол Кузнецкого моста и улицы Дзержинского. Сломана. Стоянка автомобилей.
Церковь с шатровой колокольней 1659 года на Арбате против Староконюшенного переулка. Сломана. Пустое место. Трава.
Шатровая колокольня 1685 года на улице Герцена. Сломана. Скверик.
Церковь 1696 года на Покровке. Сломана. Сквер.
Церковь 1688 года на улице Куйбышева. Сломана. Сквер.
Памятников архитектуры в Москве уничтожено более четырехсот, так что я слишком утомил бы вас, если бы взялся за полное доскональное перечисление.
Жалко и Сухареву башню, построенную в XVII веке. Проблему объезда ее автомобилями можно было решить по-другому, пожертвовав хотя бы угловыми домами на Колхозной площади (универмаг, хозяйственный магазин, книжный магазин). Жалко и Красные и Триумфальные ворота.
Может быть, вы знаете, что многие уничтоженные памятники были незадолго перед этим (за два, за три года) тщательно и любовно отреставрированы? А, знаете ли, что площадь Пушкина украшал древний Страстной монастырь? Сломали. Открылся черно-серый унылый фасад. Этим ли фасадом должны мы гордиться как достопримечательностью Москвы? От его ли созерцания увлажнятся глаза какого-нибудь нового Кнута Гамсуна? Никого не удивишь и сквером и кинотеатром "Россия" на месте Страстного монастыря. Сорок лет строилось на народные деньги (сбор пожертвований) грандиозное архитектурное сооружение — храм Христа Спасителя. Он строился как памятник знаменитому московскому пожару, как памятник непокоренности московской перед сильным врагом, как памятник победы над Наполеоном. Великий русский художник Василий Суриков расписывал его стены и своды. Это было самое высокое и самое величественное здание в Москве. Его было видно с любого конца города. Здание не древнее, но оно организовывало наряду с ансамблем Кремля архитектурный центр нашей столицы. Сломали… Построили плавательный бассейн. Таких бассейнов в одном Будапеште, я думаю, не меньше пятидесяти штук, притом, что не испорчен ни один архитектурный памятник.
Кроме того, разрушая старину, всегда обрываем корни.»
Кто ему позволил? Каким образом вышла такая книга на запретную тему? Как ее пропустил КГБ?
Я спросил об этом Олега. Он сказал, что Солоухин служил в Кремлевском полку. Когда в 1945-м приехал Черчилль, сняли документальный фильм, как он всматривался в лица кремлевских курсантов. Так вот, смотрел он так пристально на юного Володю Солоухина — высокого плечистого блондина с синими глазами. Сталину английский премьер выразил свой восторг русским воином. После этого Сталин вызвал Володю и спросил, чем его отблагодарить? Володя тогда уже посещал литературные курсы с участием знаменитых поэтов и писателей. Писал свои стихи. Начинающий поэт попросил издать книгу его стихов. Сталин дал указание издать. И после этого Солоухин стал «неприкасаемым». Его книги регулярно выходили в свет и мгновенно раскупались. Он не скрывал своих монархических взглядов, носил перстень с изображением царя Николая Александровича, упрямо по-владимирски «окал». Даже всемогущие начитанные интеллигенты из КГБ в генеральских погонах, отвечающие за работу с интеллигенцией, искали его дружбы и напрашивались к нему в собутыльники.
Так мы жили на вечной мерзлоте, согреваясь работой, общением и чтением. После завершения земляных работ, на наши ростверки приходили монтажники. Они за три-четыре дня монтировали из щитов барак. Следом привозили веселых отделочниц, которые раскрашивали стены в яркие цвета. Потом эти радужные бараки заселяли аборигены. Мы принимали участие в оцеплении и видели их сумасшедшие глаза и слышали крики: «А ты перезимуй тут в палатке при шестидесяти градусах мороза с ветром!» Но удовлетворение мы получали: приятно было чувствовать себя благодетелями. Только чтобы поселить в теплые финские дома этих героев БАМа — за этим стоило лететь на другую сторону земли.
«Акадэм»
Как и обещала нам Ирэн во время проводов на БАМ, летом она успела познакомиться с администратором знаменитой рок-группы Алексом. И не только познакомиться, но и выскочить за него замуж. Всё это другиня сообщила нам с Олегом, когда мы в форменных куртках, с сине-красными надписями «БАМ-Нерюнгри» сидели в открытом кафе на Верхневолжской набережной и грызли шашлык из говядины. А еще она сказала лично мне, что Алекс недавно получил сообщение из Инюрколлегии о том, что американская бабушка оставила ему наследство, которое он может получить только переехав на постоянное жительство в Лос-Анжелес. Дело в том, что наследство состоит из автозаправочной станции, магазина и ресторанчика — и всем этим нужно владеть и управлять. Так что, заключила Ирэн, мечта её скоро осуществится.
— Помнишь, Юрик, что я тебе обещала: «Когда-нибудь я стану богатой, буду жить в шикарном двухэтажном особняке на берегу моря. И обязательно подарю тебе белый «Кадиллак», длинный, с крыльями, сверкающим бампером, обитый изнутри алой кожей. Ты сядешь за руль, я рядом — оба в белых одеждах — и поедем туда, где сверкает сине-белыми фасадами, зеркальными витринами — город нашей мечты».
— …Теперь я тебя потеряю уже навсегда, — невпопад буркнул я. — Что-то мне подсказывает, что никогда я не поеду в Америку.
— Ах, так! — фыркнула она. — Тогда я тебе машину посылкой на дом пришлю.
В тот вечер другиня Ирэн шумела, размахивая руками, разбила о кирпичную стену швейцарские часы с хрустальным стеклом. Мы с Олегом не осуждали её, не ругали, мы за ней ухаживали, как за шаловливой маленькой девочкой. Мне казалось, я был уверен, что её больше не увижу, и от этого на душе было тяжко. Я любил эту взбалмошную девчонку и уже второй раз терял её навсегда.
В декабре, перед самой сессией, я сильно простудился и свалился с гриппом. Неделю был погружен в липкое марево, исходил потом, горячим как кровь. В небытии устало наблюдал кривляния черных существ, горел в огне, коченел от мороза и с надеждой смотрел в сторону горизонта, где тонкой золотистой полоской вспыхивал восход невидимого солнца.
Когда мне удалось вернуться из плена болезни в темные земные дни, сессия подходила к концу. В деканате Ниночка со вздохом подшила мою справку в папку личного дела и отпустила в академический отпуск — «акадэм». За компанию со мной взял акадэм и Олег. Родители мои тогда переехали во Владимир, где отцу поручили реанимировать очередное коматозное управление. Ну а я устроился на ближайшее предприятие, где в качестве разнорабочего влился в рабочий коллектив.
С первого трудового дня ко мне прилипло прозвище «студент», которое звучало, как издевательство. Наверное из уважения к моему будущему образованию, меня «бросали» на уборку мусора, снега и стружки, командировали на стройку, где подавал кирпич и раствор, в «дикой бригаде» сваривал стеллажи, с плотниками сбивал упаковочные ящики, с малярами красил вонючей эмалью болотного цвета какие-то детали. С завистью наблюдал, как выходят из своих чистеньких цехов-комнат рабочая элита — лекальщики. Они после принятия душа переодевались в дорогие костюмы, белые сорочки с галстуками и разъезжались на сверкающих «Волгах» и «Жигулях» по паркам и ресторанам.
Но вот солнце залило первым летним теплом землю, трава покрыла зеленым ковром серые поля, листвой оделись деревья. Птицы с рассвета до заката весело верещали, будто звали меня в дикую природу. Мне ничего не оставалось, как подчиниться призыву жизни, уволиться с работы и отдаться свободному полету.
С рюкзаком за спиной отправился бродить я по России. Босиком ступал по траве, пил родниковую воду, отдыхал под небом в стогу сена, спал под звездами, обгорал под жарким солнцем и умывался дождем. Птицы пели мне свои радостные песни, крестьяне кормили хлебом, хулиганы избивали до крови, воры очищали карманы, милиционеры подозрительно изучали паспорт, впивались в кожу слепни и комары, пьяницы делились водкой, мальчишки — печеной картошкой из костра. Я разгружал вагоны с цементом, копал жирную землю на огородах, собирал ведрами грибы и пригоршнями ягоды.
Земля открывала мне свои тайные красоты. Я видел, как сливаются на горизонте вода с небом, реки успокаиваются в морях, горы уносятся вершинами в фиолетовый космос и чернеют бездной пропасти; как наливаются зеленым соком бескрайние поля, как светятся березняки и чернеют ельники, как на глазах трескается от жары земля солончаков и медленно течет песок безводных пустынь.
С молчаливыми монахами-строителями стоял на всенощном бдении в полуразрушенном монастыре, работал с ними на расчистке завалов, вкушал на трапезе под сонную молитву дивно вкусную кашу с морковью, слушал мощный благовест на колокольне, с которой была видна далекая синяя даль.
Кричал от страха на волка, подбирал брошенную им овцу и жарил ее на вертеле. С риском для жизни доставал дикий мед, дергал карасей из прудов и вываживал огромных сомов и щук в плавнях. Уплывал на мотоботах с моряками за горизонт и блевал в шторм от качки. Носился на полудиких лошадях по степи. И пел заунывные песни в бродяжных шатрах цыган и хиппи.
Вернулся во Владимир усталым и спокойным. Рассказывал родителям о своих путешествиях, а они мне — о моем детстве. Однажды отец предложил съездить в Суздаль. Там обошли экспозиции «Ризоположенский монастырь», «Архиерейские палаты». У входа в туристический ресторанчик «Погребок» стоял огромный «Бьюик» с посольским флажком на капоте. Мы с отцом зашли пообедать, сели на скамью за дубовый стол и заказали жаркое в горшочках по-боярски и медовуху. Рассказал я отцу, чем живой монастырь отличается от этого музейного экспоната. Он вежливо слушал и, нахмурив брови, смущенно ковырял вилкой грибы с мясом в горячем горшке.
Потом отец стал рассказывать мне о моем детстве. Несколько странно было это слышать от человека, лишенного сантиментов. Он улыбался и говорил о том, как я ненавидел ложь, как горько плакал в три года, когда под гримом Деда Мороза узнал соседа Валеру. Как однажды убежал из дома, когда услышал невинную ложь об аисте и младенцах в капусте, и как родители до темноты искали меня и нашли на вокзале, где я упрашивал проводника посадить меня на поезд «до самого синего моря». Как мне самому однажды пришлось соврать и скрыть тройку по арифметике, чтобы сходить на фильм «Морозко», и как мучительно стыдился первой лжи. Впрочем, далеко не последней…
Мы вышли из «Погребка» и оглянулись. На улице прошел дождик, а под «Бьюиком» оставался сухой прямоугольник. Сели в рейсовый «ПАЗик» с голубой полосой и поехали обратно во Владимир. Я прислонился головой к окну и под монотонный шум двигателя погрузился в сытую дрему. …И попал я в волшебную страну моего детства. Там, в солнечных просторах, под бездонно высоким небом, я купался в любви родителей и друзей, горевал и смеялся, думал и мечтал.
Вспомнилось, как однажды проснулся я среди ночи. Мне тогда было лет пять-шесть. На цыпочках в темноте прошел в прихожую, сотрясаясь от страха, тихонько открыл входную дверь. Спустился по прохладным ступеням, навалился плечом на подъездную дверь и вышел в темную летнюю ночь. Я стоял в центре двора, подняв голову к черному небу и рассматривал звезды. Босые ступни стояли на мягком песке. Всей кожей своего обнаженного тела я ощущал парное тепло, поднимающееся от земли. Вдруг чуть качнулась листва на деревьях, я вздрогнул, и на меня пахнул прохладный ветерок, принесший откуда-то издалека запах цветов. Надо мной сверкали яркие звезды. Никогда я еще не видел, чтобы они были так близко — лишь руку протяни и можно коснуться ковша Большой Медведицы, взять его за ручку и выплеснуть из него серебристую звездную пыль.
Я стоял в ночи маленький, беззащитный, босой, в одних сатиновых черных трусах и впервые в жизни не чувствовал враждебности окружающей меня темноты. Огромная вселенная ласкала меня теплыми ладонями, как мать. Она будто нашептывала мне колыбельную, как бабушка. По моим щекам текли слезы, а в груди поднималась волна радости. В тот миг я почувствовал себя живым и любимым, нужным людям и этой могучей и ласковой природе, которая меня обнимала уютной темнотой, покрывала звездной крышей, нежно касалась моей кожи теплыми ароматами дальних ветров. Я шмыгнул носом, оглянулся и побежал домой.
Наутро проснулся с улыбкой на помятом заспанном лице. Мне так понравился тот сон, в котором я стоял среди ночи и плакал от счастья! Я пытался его вспомнить как можно подробней, чтобы снова и снова всем существом ощутить вселенскую нежность ко мне, такому маленькому и беззащитному. Сон продолжал во мне жить и мерцал из темноты незримым светом. И этот невидимый свет ночи казался мне гораздо ярче того утреннего света, который лился из окна.
Наконец, я тряхнул головой и спрыгнул с кровати. Отыскал шлепанцы и прежде чем сунуть в них пальцы ног, вдруг замер: мои ступни были в пыли, между пальцев ног остался песок. Пыль и песок обнаружил и на простыне, когда откинул одеяло. Значит, это был не сон! Я на самом деле выходил ночью во двор и стоял под звездами. Никому тогда я об этом не рассказал. Боялся, что родители меня отругают, а друзья засмеют и назовут лунатиком. Та ночь и мое ночное приключение стали первой моей тайной. И вот только сейчас, спустя многие годы, пришло время разгадать её.
Я не любил грозовые тучи и ложь, тоску школьных мероприятий и подлость врагов, программу «Время» и военные фильмы с кровью и слезами вдов, стояние в углу и ожоги крапивы, хромых животных и трупики птиц, хвастовство мордастеньких отличниц и тупость двоечников, пощечины с подзатыльниками, двойки в дневнике и исправленные красными чернилами ошибки, ссоры родителей и отцовские неприятности на работе, праздничные застолья с пьяными мужиками и переодетых женщин с подрисованными усами, второе сентября и похоронный марш.
Я любил улыбки родителей и друзей, весенние ручьи и летние вечера, снег под солнцем и золотые листья осени, утреннее море и белые цветы акаций, пельмени и абрикосовое варенье, салат «Оливье» и ситро, кафе «Молочное» и официантку Валю, малину и персики, ванильное мороженое в вазочке на берегу моря у маяка, колесо обозрения в парке, зачитанные книги и исцарапанные диафильмы, швартовку корабля и шторм при солнце, раздольный вид с горы и полет птиц в синем небе, сказку на ночь и запах кофе по утрам, радугу после дождя и первый гром, щемящий в горле дым горящих осенних листьев и звон коньков на катке, бабушку Варю с орехами в кармане и ноги колесом дяди Гены из нашего подъезда и его маленького приемного сынишку, первые дни каникул и запах железной дороги.
Всё это проплывало передо мной, переплеталось лентой Мебиуса, восходило ввысь и падало вниз, снова появлялось и чего-то от меня ожидало, и куда-то звало.
Из череды дней блеснул один… Мы с моим другом Сашкой сидели после футбола на скамейке у нашего подъезда и лениво разговаривали, обсуждая впечатления уходящего дня. Еще мы планировали, как утром пойдем на рыбалку, и обсуждали, где бы накопать червей. Вдруг Саша встрепенулся, повернулся ко мне и спросил:
— Как ты думаешь, а счастье есть?
— А как же, — кивнул я, — обязательно.
— Думаешь, мы его найдем? — перешел он на шепот.
— Найдем, — тоже почему-то шепотом сказал я. — Иначе зачем тогда жить?
— Точно! — вскрикнул Саша, потом оглянулся вокруг и с улыбкой сказал: — Эх, здорово!
Настоящий читатель
Как-то раз Олег познакомил меня с замечательным человеком. Называли его по-разному. Наряду с обычными Роман Евгеньевич и гражданин Боленов случались так же «князь Оболенский», «мэтр» и «док». Сам он объяснил, что с бегством предков из Питера из фамилии исчезла начальная буква фамилии «О», а потом в тридцатые годы репрессий завершающее подозрительное «-ский» сменило окончательное «-ов». Так Оболенский превратился в Боленова. В том, что Роман Евгеньевич князь, никто не сомневался. Стоило взглянуть на его лицо и руки. Примерно отсюда же происходило «мэтр». Ну а «док» — совсем просто: он имел докторскую научную степень и служил профессором в университете.
В тот вечер мы прогуливались по скверу и обсуждали книгу Овчинникова «Корни дуба». Мужчина, сидевший на лавочке между портфелем и стопкой книг, когда мы проходили мимо, негромко проворчал:
— Насколько я понимаю, молодые люди столь многословно восхищаются заклятыми врагами России?
— Юра, познакомься, — сказал Олег, — этот господин — князь Оболенский Роман Евгеньевич, доктор наук, профессор и самый начитанный человек Поволжья.
После крепкого рукопожатия, по дороге в кафе «Театральное», князь изложил краткую историю военно-политического противостояния Великобритании и России. Слегка коснулся тайных причин Октябрьской революции, судеб Российских духовенства и аристократии… Потом, сидя в богемном кафе в ожидании фирменных пельменей в омлете, по просьбе Олега Роман Евгеньевич рассказал о своем отношении к искусству чтения.
— О, да, голубчики, это на самом деле искусство, которое может изменить жизнь. Скажу откровенно, мне книги спасли жизнь.
— Сразу представляется летящая пуля, застрявшая в толстой книге, которую вы прижали к сердцу, — сказал я.
— А что! — Улыбнулся князь. — Эта метафора не далека от истины. На самом деле, книги философского и исторического содержания привели меня в религию: к Библии, потом житиям святых, а уж следом, естественно, появились в моей жизни молитвослов и псалтирь. И, собственно, молитва на протяжении множества лет оберегает меня от зла.
— А это как-нибудь связано с вашим искусством чтения? — спросил я.
— Конечно, Юра, самым непосредственным образом, — кивнул мэтр. — Мне представляется, ты желаешь узнать об этом «важнейшем из искусств»?
— Да. И как можно подробней.
— Не смею препятствовать столь высокому стремлению души, — улыбнулся князь. Провел по лицу ладонью, блеснув гранатовым перстнем, вздрогнул крыльями тонкого с горбинкой носа, вздохнул и полушепотом начал:
— Сначала необходимо пройти довольно обременительный период обзора. Тут приходится читать книги из разнообразных областей знаний: от исторических и философских до бульварной беллетристики. На этом этапе существует риск или напрочь разочароваться в книгах, или попасть под воздействие страсти всеядности. Первое приходит по причине обнаружения огромных нагромождений лжи и пошлости. Второе — это вроде наркомании, в которой наркотиком является гордость всезнайства. В «приличном обществе» это малопривлекательное словосочетание заменяют фразой «энциклопедические знания». Но, как сказал Высоцкий: «Нам туда не надо!» Для нас важно то, что на этом этапе у читателя воспитывается внутреннее чутьё. Нечто вроде камертона, который помогает отличить фальшь от чистого звука.
— И сколько же нужно лет, чтобы он появился и заработал?
— Это индивидуально! — пробасил мэтр. — Могу дать один полезный совет, который поможет сильно сократить время. Почти у каждого крупного читателя есть свой список книг, который он рекомендует ученикам. Могу для вас, молодые люди, составить свой.
— Да! Пожалуйста! Обязательно! Спасибо!
— Не стоит благодарности. Сделаю это для вас с радостью. Теперь самое главное. Попрошу вашего внимания. В случае обнаружения полезной книги, необходимо отыскать в ней самое ценное и максимально погрузиться в эту глубину. Существует в психологии такое понятие «эмпатия» — это прием самоидентификации с изучаемым человеком или даже предметом. Во время такого глубокого погружения искусный читатель переселяется душой и разумом в главного героя повествования, говорит его словами, думает как он, сидит на его стуле, ходит по его полям-лесам, дышит его воздухом и испытывает те же ощущения, что и сам герой.
— А вам не кажется, что это опасно? Ведь если у героя, к примеру, поражена психика, то и самому читателю можно сойти с ума. Или герой заражен какой-нибудь маниакальной идеей, например, мирового господства. Можно ведь и её принять и заразиться.
— А для чего у нас с вами был первый этап? — воскликнул князь. — Не для того ли, чтобы отсечь всё вредное и опасное? Нет, господа, глубокое погружение, эмпатия, возможны только в тех случаях, когда внутренний камертон свидетельствует о «чистоте звука». Иными словами, когда совесть — голос Бога в душе человека — позволяет принять необходимые идеи, как Богом данные, как истинные!
— Тогда, Роман Евгеньевич, позвольте довериться вашему опыту и использовать ваш камертон в качестве эталонного.
— Ну, насчет «эталонного» я бы не стал утверждать… Хотя… В случае такого доверия с вашей стороны, я обязуюсь подготовить для вас не только перечень полезных книг, но и сопроводить его своими комментариями, которые будут основываться на моем немалом опыте. Во всяком случае, я постараюсь оградить вас от множества ошибок и потери времени. Это поможет вам с наименьшими потерями выйти на прямую дорогу. И, поверьте, друзья мои, на этой прямой дороге вам предстоит еще немало работы над собой. Но она уже будет плодотворной и в высшей степени интересной!
Вверх по лестнице, ведущей вниз
Мало-помалу сладкое вино из одуванчиков стало кружить мне голову.
Мне нравилось оставаться чистым, когда друзья предавались грязи разврата. Нравилось оставаться трезвым, когда все вокруг пьянствуют. Нравилось быть отличником и получать повышенную стипендию, когда остальные едва тянули на тройки, а многие жили вообще без стипендии, годами предаваясь нищете и страху быть отчисленным из института. Нравилось быть донором и носить на лацкане эмалевую капельку крови, а так же получать дипломы на конкурсах студенческой самодеятельности.
Но даже такой золотистый напиток, как вино из одуванчиков славы и успеха, может отравить и стать причиной страшного похмелья.
Когда из своего Лос-Анжелеса позвонила другиня Ирэн и сказала, что ей там нравится, что она обрела вторую родину, я скрипучим голосом заметил, что Родина как и мать может быть только одна. Она сказала, что муж обещал к концу года подарить ей белый «Кадиллак». Я попросил не высылать мне его посылкой за ненадобностью. Подруга детства, видимо, была несколько пьяна, о чем я тоже не преминул высказать свои соображения. Я говорил о возможности спиться, допиться до зеленых крокодильчиков. Знал, что говорю не то, знал, что обижаю человека, которому и так несладко, но договорил обидные слова до конца…полько одна.а как и мать не можвонила другиня Ирэн и сказала, что обрела вторую родину, я буркнул, что родина как и мать не мож
В день моего двадцатилетия друзья постарались угодить мне. Они выпросили разрешение у начальства и накрыли стол в читальном зале общежития. Приглашены были только самые близкие, но и их оказалось больше тридцати. Кроме простых студентов за столом сидели староста нашей группы и курса, секретарь комитета комсомола, сын ректора Леша и сын секретаря горкома партии — мой друг Олег. Правила балом секретарь декана — «мать родная» Ниночка.
Единственный из начальства, который не удостоился приглашения — председатель профкома общежития Вова, он же глава санитарной комиссии. Видимо, из чувства мести он назначил внеплановую проверку общежития и заявился в самый разгар нашего веселья, когда музыка грохотала на всю мощь огромных концертных динамиков, дым стоял коромыслом и все общались между собой исключительно криком. Дверь санитарной комиссии открыла раскрасневшаяся Ниночка и, не долго думая, впустила Вову внутрь. Тот заглянул, увидел круг приглашенных, тряхнул сальными редкими волосами, покраснел от переживания, закусил посиневшую губу и стал суетливо выпроваживать членов комиссии, с любопытством потянувшихся к нам на огонек. Ниночка закрыла за ними дверь и ударила в ладоши: «Алей оп! Всем гулять и смеяться как дети!»
Утром я проснулся от жажды и с ужасом обнаружил рядом с собой спящую женщину. От этой чужой женщины несло перегаром, и я с трудом переживал тошноту, и еще чувство омерзения от своего нынешнего статуса развратника. Когда она проснулась, в ее опухшем лице узнал я самую доступную женщину общежития — «переходящее знамя свободной любви» Алису.
Когда человек теряет невинность, в нем ломается какой-то мощный стержень. Он невидим, но ощущается в системе отношений «можно-нельзя». Так вот, когда он сломан, то уже всё можно, и человек катится по наклонной без тормозов под названием «нельзя». По ночам ко мне из моего прошлого приходили две девушки. Зоя, снова и снова учила меня сохранять целомудрие, чтобы не стыдно было супругу в глаза смотреть. Следом за ней являлась Юля, которую я отверг, узнав, что она живет со стариком-актером, — Юля молча смотрела мне в глаза и сочувственно вздыхала.
Так, в муках совести и на грани отчаяния стали тянуться мои последние годы студенчества. Иногда в приступе тоски я бросался к Олегу, но и он мало чем утешал: «Одно могу сказать, друг, — дальше будет еще хуже!» Или, например, протягивал мне «До третьих петухов» Шукшина и вздыхал:
— Ознакомься.
Я открывал книгу и читал:
«А были — ворота и высокий забор. На воротах написано: "Чертям вход воспрещен".
В воротах стоял большой стражник с пикой в руках и зорко поглядывал кругом. Кругом же творился некий вялый бедлам — пауза такая после бурного шабаша. Кто из чертей, засунув руки в карманы узеньких брюк, легонько бил копытцами ленивую чечетку, кто листал журналы с картинками, кто тасовал карты… Один жонглировал черепами. Однако стражник спокойно смотрел на нее — почему-то не волновался. Он даже снисходительно улыбался в усы.
— Ша, братцы, — сказал Изящный черт. — Есть предложение. Я не очень уверен, — сказал Изящный черт. — Но… А?
— Это надо проверить, — заговорили и другие. — Это не лишено смысла. Маэстро, что нужно? — спросил он своего помощника.
— Анкетные данные стражника, — сказал тот. — Где родился, кто родители…
— Картотека, — кратко сказал Изящный. Два черта побежали куда-то. Прибежали с данными. Один доложил:
— Из Сибири. Родители — крестьяне.
— Приступайте, — сказал Изящный.
Маэстро и с ним шестеро чертей — три мужского пола и три женского — сели неподалеку с инструментами и стали сыгрываться. Вот они сыгрались… Маэстро кивнул головой, и шестеро грянули:
По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.
Ах, как они пели! Как они, собаки, пели! Стражник прислонил копье к воротам и, замерев, слушал песню. Глаза его наполнились слезами, он как-то даже ошалел. Может быть, даже перестал понимать, где он и зачем.
Бродяга Байкал переехал, —
Навстречу родимая мать.
Ой, здравствуй, ой, здравствуй, родная,
Здоров ли отец мой и брат?
Стражник подошел к поющим, сел, склонил голову на руки и стал покачиваться взад-вперед.
— М-мх… — сказал он.
А в пустые ворота пошли черти. »
— Нет, Олег, извини. Но такие мазохистские вещицы душу не греют, а наоборот. Ты мне что-нибудь светлое дай!
— Когда будет, тогда и дам.
Однажды зимой мне стало особенно тошно. Я вышел погулять, и ноги сами привели меня в аптеку. Там, добавив трешку к цене, купил упаковку люминала, и в голове стала крутиться история самоубийства Мэрилин Монро. Брел я переулками в сторону «Сверловки» и думал, что это должно быть вовсе и не страшно, совсем не больно — забросить пригоршню таблеток в рот, запить каким-нибудь лимонадом и тихо-мирно уснуть навсегда. В тот миг не думал я о муках ада и огне геенны, о которых был осведомлен. Мое сознание было целиком пленено идеей тихого засыпания. Мне остро хотелось покоя любой ценой. Я брел по пустому ночному переулку и полушепотом читал стих Пушкина:
Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.
Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды —
И чей-нибудь уж близок час.
…
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.
Внезапно я оказался в кафе «Космос», взял у Терешковой порцию ветчины с зеленым горошком, чашку кофе и присел за угловой столик у окна. Ко мне подбежала бабушка Ганя. Я пригласил старушку подсесть за свой столик. Выложил люминал и рассказал о Мэрилин. Баба Ганя внимательно выслушала меня, а потом стала рассказывать свою историю. Как она во время войны узнала, что такое голод, как вышла замуж за офицера, а он потерял пистолет, как всем домом искали его и на третий день нашли, но страху натерпелись на всю жизнь. Как поселился у них в коммуналке стукач, который пил, пил, а потом утром нашли его повешенным на кухне. А потом баба Ганя… решительно смяла пачку люминала и сунула к себе в карман, а мне посоветовала идти домой и радоваться жизни. На прощанье сказала, что недавно заглядывала в кафе «моя Юля» и спрашивала обо мне. Очень хорошая девочка, и тебя любит, заключила старуха…
Выйдя из кафе, я взял такси и поехал на край города в поселок Дубёнки. Юли дома не оказалось, но мама пригласила в гости, напоила меня чаем с малиновым вареньем и была со мной очень добра. В этот вечер, когда я ходил по краю бездны, две пожилые женщины согрели меня. Из глубины души вскипала огромная благодарность к ним и слезы блудного сына, которые по гордости наружу не выпускал. Прежде чем уехать из Дубёнков, я разыскал «нашу» дырку в заборе Ботанического сада, пролез внутрь. Испугал парочку, стоявшую там, извинился. Нашел «наше» с Юлей место, где мы сидели, завернувшись в овчинные тулупы, постоял немного, разглядывая черный лес и темно-серое небо без единой звездочки. Машина с горящим зеленым огоньком меня все еще ожидала. Я сел в такси и вернулся домой. Живым.
Крик птицы
Нашими любимыми кинотеатрами были тогда не центральные, а крохотные кинозалы повторного фильма. Именно там смотрели мы фильмы, которые властями считались, мягко говоря, спорными. Там увидели мы фильм «Андрей Рублев». Работа над фильмом началась еще при Хрущеве, известном сумасброде и гонителе Церкви. Консультантами были Савелий Ямщиков и его учитель, Николай Сычёв, представитель дореволюционной школы профессуры, историк искусства, ученик Репина, отсидевший за защиту старины в ГУЛАГе четверть века; его ученик Леонид Творогов, хранитель древностей; преподаватель и реставратор Евгения Кристи. Удивителен тот факт, что два столичных мажора — Андрей Тарковский и Андрей Кончаловский — написали сценарий о восьмистах страницах, а Тарковский снял этот «возмутительный» фильм, во время работы над которым съемочная группа стала верующими людьми. Продолжением чуда был выход картины после восьми лет «лежания на полке» и то, что мы его смотрим.
Когда зрители выходили с фильмов Феллини, мне это было понятно, хоть я из вежливости досиживал до конца. Но когда увидел уходящих ворчунов с «Андрея Рублева», мне они казались грызунами, бегущими с корабля. За моей спиной в зале смеялись над предательством русским князем Владимира на разграбления татарам. Цинично хихикали над этим: «Что же ты, мы же русские!» — «Я покажу тебе, сволочь Владимирская» — и нож в живот соотечественнику… И это, и весь мрак и ужас, но и диалоги иконописцев о грехе, о милости Божией — всё это раскаленным мечом проходило через моё сердце. Я смеялся вместе с маленькой княжной, брызгающейся молоком, и радовался словам Андрея Рублева из Апостола: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. не радуется неправде, а сорадуется истине. все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится»(1Кор. 13, 4-8). Несколько дней ходил я под впечатлением фильма. Передо мной неслись бешеные захватчики, извивались в адском огне лица предателей, горели иконы в разрушенном соборе Владимира и тихо сыпал снег на тела убитых, звучал колокол, отлитый мальчиком под болтовню латинян, а над всем этим, как итог всего и вся — образ Святой Троицы, где в полном согласии и единстве восседают за жертвенным столом три божественных Ангела неземной красоты.
Каждый раз после таких потрясений я открывал Библию и жадно вчитывался в дивные слова, взрывающие все ценности окружающего мира страстей, греха, зла, смерти… Но хоть и принимал я умом божественные откровения, хоть радовался каждому слову, — живой Бог каждый раз уходил от меня, скрываясь за сумрачной пеленой моих страстей. И снова, как брошенное дитя, искал я Отца моего и со слезами шел, бежал и полз туда, где во мраке светило Его жилище…
…А потом в Нижний приехали белорусские «Песняры». Их афишами, казалось, был обклеен весь город. Не смотря на то, что они давали по два концерта в день в огромном дворце спорта, билеты в кассах отсутствовали. Разумеется, Олег с помощью отца достал билеты, и мы попали на концерт.
Места у нас были не в партере, что устроили на ледовом поле, а на трибунах, но видимость была хорошая, а уж звук просто потрясающий. Наконец, на сцену вышли музыканты в белых костюмах. Мощный, с огромным лбом и усищами Владимир Мулявин в белом камзоле до пят и хрупкий Анатолий Кашепаров в белых брюках и полосатой национальной тужурке стояли впереди у микрофонов. Сначала нас «разогрели» знаменитыми «Вологда» и «Александрина», потом, конечно, исполнили «Белоруссия» и «Косил Ясь конюшину». Но мы-то знали, что на живых концертах они всегда исполняют нечто необычное, что не пускают на телевидение и не услышишь на пластинках.
И вот, наконец, объявили песню «Скажи про любовь». Мы заерзали и приготовились к музыкальному пиру. Высокие сильные голоса Мулявина и Толика будто переплелись. Они не прыгали по сцене, стояли почти неподвижно. Никакого внешнего эффекта, всё сосредоточилось на словах и музыке песни.
Я вижу солнце в твоих глазах,
В каплях дождя я слышу сердца стук,
Только в них бы я мечтал услышать вновь
Что значу больше для тебя, чем друг.
Ты приходишь вдруг, словно летний бриз,
Согреваешь теплом и, как злой каприз,
Исчезаешь вновь и вновь.
Скажи про любовь.
А дальше началось нечто! Мулявин с Толиком вышли вперед под яркие лучи света и по очереди выкрикивали слово «любовь», оно стало сгустком невидимой энергии, который метался между ними, по сцене, по огромному залу с десятками тысяч людей. Это слово стучалось в наши сердца, било в грудь, оглушало мощным звуком и ослепляло вспышками красного света. Потом пролилось гитарное соло минут на десять. Гитара то рыдала, то звенела, то тихо плакала. Потом на сцене в полной темноте остался один ударник, на которого направили мощный луч прожектора. Он ритмично сотрясал воздух, стены и пол под нашими ногами до полного изнеможения.
Скажи про любовь немного слов,
Слышать я вновь готов
Тихий шёпот твоих нежных фраз, призрачных снов,
Разрывая пелену, у тебя одной в плену.
Перед нами сидело много девушек и даже весьма зрелых дам. Я невольно наблюдал за их реакцией. Они вытянули шеи, подались всем телом к сцене, на лицах — восторг и желание упасть к ногам музыкантов, стать ковровой дорожкой для их триумфального шествия. Я и сам испытывал нечто подобное. В тот миг белорусские песняры стали для меня сверхчеловеками, взлетевшими на недосягаемую высоту. После завершающего аккорда последовали взрыв оваций, крики отечественного «бис» и западный свист. Это безумие продолжалось бы до ночи, если бы Мулявин не поднял руку и не объявил следующую песню.
Я впервые услышал это название — «Крик птицы». Но женщины перед нами и Олег рядом захлопали в ладоши и разом стихли в ожидании очередного шедевра.
Из-за ревности неустанной,
Из-за ревности злой и глухой,
Я мог превратить тебя в камень
Своею волшебной рукой.
Я мог превратить тебя в дерево,
Я мог превратить тебя в зарево,
Но я превратил тебя в птицу,
Навеки расставшись с тобой.
Промчались печальные годы,
И однажды ко мне на рассвете
Вернулись друзья с охоты
И бросили птицу на стол.
Не здешнюю птицу и странную,
С глубокой кровавою раною,
С глазами такими знакомыми
И с перебитым крылом.
Вот, наконец, и вместе мы,
Так что я так грустно пою.
Над убитой крылатой невестою
Я на коленях стою.
Ты была сиреной,
Я пел, твои песни, звеня,
Тебя не хотел простить я,
А кто же простит меня.
Снова пауза. Мертвая тишина. И — оглушительный рёв публики, грянувший со всех сторон сразу. Олег ударил меня по плечу, сказал «уходим», и мы стали пробиваться к выходу.
На проспекте Гагарина нас окутала тишина. Даже редкие ночные машины и загулявшие компании не смогли нарушить ту звенящую тишь, которая обступила нас, обняла и понесла по волнам воспоминаний. Мы шли медленным шагом и молчали. Но это была не скука без мыслей, — казалось, нас переполняли события прошлого, которые проходили перед нами, как вся жизнь проходит перед мысленным взором умирающего.
Слова песни вспыхивали световыми и звуковыми всполохами, в душе происходила какая-то мощная работа. «Из-за ревности неустанной, из-за ревности злой и глухой…» — звучало в голове, и тут же передо мной появлялась Юлия, которая вдруг превращалась в птицу. «Я бы простил измену, если бы не любил», — оглушали меня слова, которые пронзали страхом и отторгались сознанием. Нет, именно любовь, если она настоящая, и дает силы прощать всё, что угодно, и даже такое черное горе, как измену любимой!
«Говорят, что летать ты устала, что хочешь стать снова прежней, и хочешь вернуться ко мне. Вернуться ко мне русокосою, вернуться ко мне синеокою», — обещал мне кто-то невидимый. А если это случится, прощу ли? Смогу ли я принять ту, которую отверг? А если нет? Что тогда? Смерть моей любимой, превращенной колдовством в птицу? «Вот, наконец, и вместе мы, так что я так грустно пою. Над убитой крылатой невестою я на коленях стою». И потом, как пожизненный приговор: «Тебя не хотел простить я. А кто же простит меня?» Что толкает нас на поступки, обижающие самых дорогих людей? Конечно, самолюбие — любовь к себе до ненависти к другим. Наш убийственный эгоизм!
В груди что-то шевельнулось, будто моя душа превратилась в птицу и забила крыльями о железные прутья клетки, в которую я посадил её. Ей стало тесно в неволе! Она хотела вырваться на свободу и взлететь высоко, высоко — в самое небо. Птица-душа металась, она стонала и плакала.
Душа моя кричала! Как смертельно раненная, окровавленная птица. Она кричала на всю вселенную. … А я чувствовал свою полную беспомощность, и от этого приходила боль, та самая «зубная боль в сердце, которая лечится девятиграммовой свинцовой пломбой».
Как помочь душе моей сломать жесткие прутья клетки?
Как дать ей желанную свободу?
3. ИЗ БЕЗДНЫ В НЕБЕСА
Моя дорога
Мне представляется, что жизнь человека — это движение по дороге. Справа — подножие высокой горы, на вершине которой прекрасный сад. Слева — глубокая грязная сточная канава, которая чем дальше, тем больше углубляется, превращаясь в бездонную пропасть. Мы бредем вверх по этой дороге, ведущей на вершину горы с садом. Роскошный сад, пронизанный лучами света, привлекает нас, зовет насладиться своей красотой, но он далеко и высоко, и до него брести еще столько дней и ночей. А канава слева близко — только шаг сделай в сторону. Каждый из нас тащит на спине мешок собственных приобретений, да еще и то, что родители с предками в наследство оставили. От усталости голова туманится миражами, неверными видениями, которые мы принимаем за истину. …И вот уже дно канавы представляется нам выстланным пуховой периной, на которой так хочется растянуться и забыться сладким сном.
Родители нас воспитывают кнутом и пряником. Бог всю жизнь показывает человеку, как хорошо с Ним и как плохо без Него. Наверное, это суть нашего земного пути. Каждый знает это, но сладкие миражи туманят голову и влекут поддаться обману. Каждый из нас рано или поздно поддается лживым миражам и падает в яму, марается грязью с головы до ног. Кто-то поднимается и взбирается на дорогу, чтобы продолжить свой путь, а кто-то остается барахтаться в зловонной жиже, уговаривая себя, будто это приятней трудного восхождения с тяжелой ношей за спиной.
Кто-то из оступившихся со временем трезвеет и возвращается на дорогу, но есть такие, кто остается там навсегда, бубня под нос: «тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман» — вот так, истина для них становится низкой и презренной, а обман возвышенным. Что ж, Бог даровал человеку свободу выбора и до конца земного пути уважает и охраняет этот дар, позволяя Своим детям свободно выбирать между Ним и врагом человеческим, светом и тьмой, истиной и ложью, блаженством и мучениями, Спасителем и палачом.
Мне также пришлось оступиться на своём пути. И не раз. И я бубнил себе под нос про «низкие истины», оправдывая падение и убеждая себя в том, что грязь — это красиво, а зловоние — изысканный аромат. И я стыдливо отводил взор от зовущего света на горе, там где цветущий сад; и опускал глаза вниз, как свинья, подрывающая корни дуба, который кормит её. Но мне, наверное, здорово повезло, потому что в мешке за моей спиной находились не только одни неизжитые страсти моих предков, но и выстраданный опыт их прародительского Богообщения — золото молитвы, бриллианты милостыни, жемчуга прощения… Это не обесценивается и не теряется в мутной реке времени, это — принадлежит вечности. Им, родителям и прародителям, и мне, их потомку. А чем еще можно объяснить то чудо воскрешения, которое поднимало меня из грязи, отряхивало и возвращало на твердый камень дороги, по которой следует идти во что бы то ни стало.
Мир чтения
Господин-мэтр-князь Боленов-Оболенский выполнил свое обещание, и я стал обладателем списка книг, которые мне необходимо прочесть. Вообще-то, великий читатель даже перевыполнил обещание… Дело в том, что в списке имелось много таких книг, достать которые не представлялось возможным по причине их запрета официальной цензурой или ввиду их редкости. Так князь предоставил мне возможность пользоваться его книжным архивом, правда, со многими оговорками. Например, я не имел права передавать книги в чьи-либо руки, даже честного и проверенного человека.
На первый взгляд многие книги попали в список вроде бы случайно и смотрелись там белыми воронами. Но это только на первый взгляд. После прочтения большей части книг, я разглядел ту дорогу, по которой меня вели.
Вот, например, книга Даниила Гранина «Эта странная жизнь» про академика Любищева и его систему уплотнения времени. Казалось бы, что тут может быть интересного лично для меня? Вот, что я выписал для себя из книги:
«Никто, даже близкие Александра Александровича Любищева, не подозревали величины наследия, оставленного им. При жизни он опубликовал около семидесяти научных работ. Среди них классические работы по дисперсионному анализу, по таксономии, то есть по теории систематики, по энтомологии — работы, широко переведенные за границей. Всего же им написано двенадцать с половиной тысяч страниц машинописного текста: с точки зрения даже профессионального писателя, цифра колоссальная.
Я не собираюсь популярно пересказывать его идеи, измерять его заслуги. Мне интересно иное: каким образом он, наш современник, успел так много сделать, так много надумать? Способ его работы представлял открытие, оно существовало независимо от остальных его работ и исследований. По виду это была чисто технологическая методика, ни на что не претендующая, — так она возникла, но в течение десятков лет она обрела нравственную силу. Она стала как бы каркасом жизни Любищева. Не только наивысшая производительность, но и наивысшая жизнедеятельность.
Времени нет и у школьников, и у студентов, и у стариков. Время куда-то исчезает, его становится все меньше. Часы перестали быть роскошью, но времени от этого не прибавилось. Время распределяется почти так же, как и две тысячи лет назад, при том же Сенеке: "Большая часть нашей жизни уходит на ошибки и дурные поступки; значительная часть протекает в бездействии, и почти всегда вся жизнь в том, что мы делаем не то, что надо".
Как бы там ни было, с 1916 года по 1972-и, по день смерти, пятьдесят шесть лет подряд, Александр Александрович Любищев аккуратно записывал расход времени. Он не прерывал своей летописи ни разу, даже смерть сына не помешала ему сделать отметку в этом нескончаемом отчете.
Он стремится использовать каждую минуту, любые так называемые "отбросы времени": поездки в трамваях, в поездах, заседания, очереди… Утилизация "отбросов времени" у него продумана до мелочей. При поездках — чтение малоформатных книг и изучение языков. Английский язык он, например, усвоил главным образом в "отбросах времени".
Надо было изыскивать все новые ресурсы времени. Практически, как убедился Любищев, лично он в состоянии заниматься работой не больше семи-восьми часов.
Цитирую я здесь, как можно видеть, разные выборочные места, связанные с характером Любищева и с уровнем культуры его среды.
Они могли спорить о Данте, читая его в подлиннике, наизусть. Они приводили по памяти фразы из Тита Ливия, Сенеки, Платона. Классическое образование? Но так же они знали и Гюго, и Гете, я уже не говорю о русской литературе. Может показаться, что это — письмо литературоведа, да притом специалиста. В архиве Любищева есть статьи о Лескове, Гоголе, Достоевском, "Драмах революции" Ромена Роллана.
Уровень культуры этих людей по своему размаху, глубине сродни итальянцам времен Возрождения, французским энциклопедистам. Ученый тогда выступал как мыслитель. Ученый умел соблюдать гармонию между своей наукой и общей культурой.
Скромная система учета времени стала Системой жизни. Согласно этой системе получалось, что у Любищева имелось вдвое больше времени. Откуда же он его брал? Вот в чем состояла загадка.
Подвига не было, но было больше, чем подвиг — была хорошо прожитая жизнь. Странность ее, загадка, тайна в том, что всю ее необычайность он считал для себя естественной. Может, это и была естественная жизнь Разума? Может, самое трудное — достигнуть этой естественности, когда живешь каждой секундой и каждая секунда имеет смысл. То, что он получал от науки, было больше, чем он давал ей, и это было для него естественно, а для нас тоже странно, потому что, казалось бы, он все, что мог, отдавал науке.»
Однако, по окончании чтения и конспектирования, я понял, что обязан уплотнить и свою жизнь. Мне вдруг представилась огромная гора выброшенного в утиль моего собственного времени, времени моей жизни. И я стал собирать «отбросы времени». Читал книги в транспорте, конспектировал их на лекциях, на пляже, в столовых и кафе.
Но вряд ли только для этого поставил в свой список Настоящий читатель эту книгу. И она была «в теме»! Я снова перечитал свои записи — и вдруг понял. Этот человек на самом деле многое успел — гораздо больше обыкновенного человека и даже больше необыкновенного ученого. Одно лишь выпало из его поля зрения — и это главное. Образно говоря, он ползал вместе со своими червями и насекомыми по земле. А путь к Истине, к Богу он так и не нашел. Да и не искал… Следовательно, и гениальная система, и тысячи листов научных трудов — словом вся жизнь этого человека прошла зря. Он не стал человеком — челом, устремленным в Вечность. Тогда в этом подсказка для меня: я не имею права прожить такую плотную, насыщенную информацией жизнь, ведущую в ад.
Кроме списка и самих книг князь чуть позже вручил мне еще один интереснейший документ — дневник Читателя. Наряду с выписками из текста книги, там имелись комментарии, которые иной раз превышали по объему цитаты и распространялись весьма далеко. Одна тема особо интересовала князя — поиск иной реальности. Я выписал для себя разрозненные тексты на эту тему и получил нечто очень увлекательное.
«Начинается это в раннем детстве, когда ребенку читают сказки. Он легко воспринимает иной мир, где человек способен летать, где какие-то добрые волшебные силы помогают герою победить зло. Ребенок по причине своей чистоты еще помнит явление ангелов и тот бесконечно прекрасный мир, в который он вызван из небытия и откуда послан на землю жить в человеческом теле. Потом на смену сказкам приходят юношеские мечты о совершенном мире, где добро всегда побеждает зло, а любовь превозмогает ненависть.
Конечно же реальная жизнь каждый день доказывает человеку обратное: вокруг зло бесчинствует, нагло заявляет о себе, соблазны окружают человека, и он попадает в эти дьявольские сети, запутывается в них. Зримый окружающий мир торжества зла вступает в сознании человека в конфликт с его мечтами и миром детской сказки. Но человек подсознательно сопротивляется злу и желает вернуть себе ту реальность, где добро побеждает. Но, увы, чистота потеряна, разум человека осквернен грехом, поэтому на пути поиска истины всегда его ожидают соблазнительная ложь и собственные заблуждения.
Следует только взглянуть на те определения, которыми пользуется человек в этом поиске, чтобы понять как мечется его рассудок по лабиринтам лжи. Вот они: астрал, четвертое измерение, параллельные миры, космос, иная реальность, расширение сознания, освобождение, раскрепощение, мир мечты, реальность сна, фантастика и так далее. Куда ведут эти пути? Какие инструменты человек использует для перехода в иную реальность? Алкоголь, наркотики, гипноз, искусство. Есть еще один путь — построение рая на земле. Если посмотреть историю хождения этими путями, в конце каждого без труда обнаружим гибель души.
Значит ли это, что иной реальности не существует? Нет. Совесть наша, подсознательная память, религиозные откровения, наконец, свидетельствуют о том, что она есть и она прекрасна. Почему же на пути к ней нагромождено столько лжи, и откуда она? Дело в том, что кроме ангелов Божиих существуют еще и падшие ангелы тьмы. Их задача состоит в том, чтобы соблазнить как можно больше людей, чтобы после смерти тела, заявить на душу человека своё право: мы его соблазнили, он нам подчинился, он наш, в ад его!
Человеку свойственно отвергать зло и тот мир, в котором зло побеждает. Для него естественно желать иной реальности, которая в миллион раз обширней и прекрасней окружающего мира, ограниченного серостью, болью и смертью. Для человека нормально желать вечной весны, красоты, любви, света, радости! Что же стоит между нами и раем? Ничего кроме гордости. Это она, подлая, отвергает даже саму мысль о том, что мы все глубоко уродливы и нуждаемся в лечении. «Как это я уродлив! — кричит в нас гордыня, — Посмотрите, какой я умный, красивый, талантливый! С какой стати мне лечиться, если я здоров и чувствую себя прекрасно!»
Величайшие святые были полны Божией силы и могущества — эти дары они получили Свыше за свои подвиги поста, молитвы, смирения. Они повелевали стихиями, передвигали горы, останавливали солнце, ходили по воде, переносились в пространстве, видели будущее, воскрешали мертвых! Но послушайте, как они о себе говорили: «где сатана, там и я буду после смерти», «я великий грешник и недостоин рая, но — геенны огненной и страшных мук», «я прах и пепел». И годами, десятилетиями — непрестанные слезные рыдания о прощении грехов и помиловании! Чтобы вылечить болезнь, нужно её в себе обнаружить и смиренно обратиться за врачебной помощью к Божественному Врачу. А те, кто стыдится признать себя больным и бежит прочь от Врача и Его Больницы-Церкви, — те так и погибают от смертельной болезни, имя которой гордость.
Итак, иная реальность существует и она прекрасна! Так прекрасна, что мы даже и представить себе не можем. Как не может представить себе муравей, что кроме его мизерного мирка есть огромная земля, космос, звезды. Ему не дано видеть и знать этого. Но человек — не муравей, он любимое дитя Бога. И любовь эту великую Бог засвидетельствовал Собственными мучениями на Кресте.
Иная реальность есть, и достичь ее может каждый человек. Нужно лишь отречься от гордости и полюбить смирение. Смирение — вот ключ, открывающий человеку райские врата».
Настоящий читатель пласт за пластом открывал мне эту новую реальность. Для начала он предложил мне создать некий мир чтения. Разумеется, он существует лишь в нашем разуме. Читая книгу, мы углубляемся в мир, созданный писателем, мы общаемся с его героями. Разговариваем с ними, подсказываем, противоречим, соглашаемся, смеемся над ними и плачем над их бедами. Эти книжные герои становятся нам ближе и реальнее многих окружающих людей, которые не желают нас понять. Читая книгу, я заглядывал в дневник Читателя, интересовался его выписками и комментариями. И князь Оболенский открывал мне дверь в иной мир, и мы с ним ходили по улицам городов, по пескам пустыни, по дебрям лесов. Там участвовали в исторических битвах, разговаривали с великими людьми, становились очевидцами замечательных событий.
Мы спорили с Сократом, Платоном и Аристотелем, чуть не подрались с Вольтером, Руссо и Ницше. Слушали Божественную псалтирь царя Давида. Ходили по строящимся стенам храма в Иерусалиме и видели труды Соломона и его мудрый суд. В пещере пророка Илии слушали разговор избранника с Богом, видели слезы Илии о народе и его «один я остался у Тебя» — и ответ свыше: «Я сохранил Себе семь тысяч человек, не поклонившихся Ваалу». Сидели у ног Иисуса Христа и слушали Его Нагорную проповедь, понимая как высоко поднимает человека любовь над законом. Потом отдыхали в гостеприимном доме Лазаря, и кроткие сестры его Мария и Марфа подносили нам печеные рыбу и хлебы, только что сорванные виноград и смоквы. Вместе с Иоанном Богословом в каменной пещере острова Патмос видели откровения о Страшном Суде и новой земле, и новом небе.
Потом отдыхали в лесной избушке Серафима Саровского и слушали его простые слова, полные света и радости. Перемещались в пустыню и вместе с Антонием Великим шли по горячему песку к Павлу Фивейскому и слушали их беседу. Мерзли на Севастийском озере с сорока мучениками и откапывали в Константинополе из сугроба окоченевшее тело блаженного Андрея, видели его воскрешение и слушали его рассказ о похождении по загробному миру. Стояли у изголовья умирающего Серафима Вырицкого и запоминали его последние пророчества о третьей мировой войне, воцарении антихриста в Иерусалиме и коронации Царя в Москве, плакали вместе с ним о последнем предательстве Царя народом, зверствах антихриста и — наконец — долгожданном Втором пришествии Спасителя.
Но даже самое интересное чтение когда-нибудь кончается. Следом за последней страницей закрывалась книга, а заодно и дверь в мир нашего чтения. Я возвращался в суетный мир земной жизни, где совсем другие законы руководили мной и моим сознанием. Оставалась тонкая ностальгическая печаль и желание вернуться обратно в мир иной, такой дивной реальности.
Да не нужно мне туда!
Среди студентов бытовала поговорка: «Лучше иметь синий диплом и красное лицо, чем наоборот». Как-то, листая зачетку, я подсчитал, что если на защите диплома получу «отлично», то у меня будет ровно 75% отличных и 25% хороших отметок — а это красный диплом и будущая надбавка к зарплате. Я уже представлял, как открою внукам рубиновый диплом, разверну вкладыш и скажу: «Вот, детки, как надо учиться!»
Но на самой защите, во время представления декан сказал, что у меня столько-то отличных, столько-то хороших и, скривившись от презрения, проскрипел: «И одна тройка!» Я сказал, что это ошибка и ни одной тройки у меня нет! Декан смутился и пролепетал, чтобы я после защиты зашел в деканат и разобрался. Защитился я на «отлично». Это не стало неожиданностью: в дипломной работе мы с научным руководителем использовали его открытие, которое он еще не опубликовал, таким образом сделав ему рекламу, а мне — лучший диплом на курсе. Зайдя в секретариат деканата, я не обнаружил там Ниночки, и понял, почему в моем перечне экзаменационных отметок появилась злополучная тройка — по ошибке новенькой секретарши. Но синий диплом был у меня на руках! И поменять его на красный декан так и не захотел. Уж не знаю почему, но этот ученый муж невзлюбил меня с первого курса. И если бы не покровительство Ниночки, вряд ли закончил бы я институт… Ну и ладно! В конце концов, «синий диплом и красное от румянца лицо» предпочтительней.
Но и этим не завершились мои злоключения. Случился еще один казус, который только спустя несколько лет я расценю, как большую удачу.
Заранее изучив список заявок на выпускников, выбрал я себе теплое местечко старшего инженера в Горьковском НИИ. По списку был я десятым, мест в Горьком было сорок семь. Так что я не волновался. Я уже стоял перед дубовой дверью и ждал вызова, когда ко мне подошел мрачный и решительный Олег. Услышав свою фамилию, я вошел в зал. Следом за мной тяжелой походкой топал закадычный друг.
— Вы куда, молодой человек? — спросила его какая-то женщина «из покупателей». — Здесь принимают по одному.
— Мы будем работать вместе, — решительно заявил Олег, набычившись.
К женщине наклонилась соседка и, видимо, объяснила ей, кто такой Олег и почему у него особый социальный статус. Я присел на стул в торце длинного стола, Олег навис надо мной, стоя у меня за спиной, вцепившись пальцами в спинку. В ближайшем списке с бланком того самого НИИ я увидел свою фамилию, протянул руку и молча ткнул пальцем в неё. Женщина внимательно посмотрела на меня, потом на мрачного Олега и презрительно отвернулась.
В этот момент декан брезгливо закончил представление моей сомнительной персоны. Наступила гнетущая тишина. Наконец, с места встал лысоватый мужчина в бесформенном сером костюме.
— А не желают ли молодые люди поработать в Москве?
— Да не нужно мне туда! — вспылил я, все еще надеясь поймать ускользающий взор соседки со списком вожделенного НИИ. Но женщина отстраненно смотрела на лысого «покупателя», а на меня внимания упорно не обращала. Тут меня в бок ткнул Олег и прошептал: «Юрка, нужно брать». Ладно, думаю, будь что будет, и спросил: — А что там, в Москве?
— Ну, не совсем в столице… Скорей, в зеленой зоне, в сорока километрах. Но это всего полчаса на электричке. А я представляю весьма уважаемое Общество Слепых. По сути, это всемирная организация с возможностью роста и заграничных командировок.
— Всё! Берем, — решительно сказал Олег, хлопнув меня по плечу. — Пишите нас обоих. — Потом наклонился и прошептал мне на ухо: — Нижний от нас никуда не денется. Если не понравится, вернемся и устроимся здесь.
Когда мы вышли из актового зала, следом за нами выскочил лысый «покупатель». Он влез между нами, обнял за плечи и под завистливые вздохи пока еще безработных выпускников, повел по лестнице вниз.
— А почему молодые люди не радуются выпавшей удаче? — спросил он вкрадчиво.
— Мы еще до конца не оценили свалившееся на нас счастье, — проворчал Олег.
— Тогда пойдем ко мне, я вам кое-что объясню. Я остановился в гостинице «Москва». Как вам это место?
— Не фонтан, но сойдет, — кивнул Олег, и мы выйдя из института, сели в первое же такси, которое притормозило под рукой «покупателя».
А через несколько недель мы уже сидели за обшарпанными столами энерго-механического отдела учебно-производственного предприятия Общества Слепых. Напротив сидел бывший «покупатель» — главный инженер УПП Павел Михайлович и, помешивая ложкой в пол-литровой чашке с чаем, доходчиво объяснял нам с Олегом наши обязанности.
— Энерго-механический — это такой отдел, который несет ответственность за все производство. Нет такой области, которую вам не пришлось бы освоить. Технология, ремонт техники и помещений, снабжение даже и, конечно, психология трудового коллектива — вот ваше поле деятельности. При этом нужно иметь в виду, что вы работаете с инвалидами по зрению, — а это люди с чувствительной психикой. Есть у нас тут несколько ветеранов, которые могут и тростью по спине огреть, ежели разозлить. Так что — вежливость и терпение, молодые люди. Представьте себе, что и культурной жизнью вам тоже придется заниматься. У нас по традиции очень активные ребята в красном уголке. Таких замечательных людей к нам приглашают — закачаетесь! На десерт имею честь объявить, что я выбил для вас персональные надбавки к зарплате. А еще вы, как молодые специалисты, уже поставлены в очередь на получение жилья в первой десятке. Так что работайте, ребята, с огоньком, и все у вас будет в наилучшем виде.
Первые полгода мы работали с таким удовольствием, будто не на работу ходили, а на затянувшийся карнавал. Трудящиеся во главе с руководством относились к нам удивительно доброжелательно. Никогда не отказывали в помощи, подсказывали что нужно, предостерегали от ошибок, зазывали на чай. Олег занимался ремонтом станков и конвейера, а на меня взвалили ответственность за развитие производства. Мне приходилось ездить в Москву, на Старую площадь — там располагалось Центральное Правление ВОС. Составлял заявки на оборудование, на капремонт и выбивал деньги, оборудование и материалы.
Жили мы с Олегом — каждый в отдельной комнате общежития. Здание общежития с колоннами, балконами, роскошным залом столовой строили пленные немцы весьма добротно. Там обнаружилась хорошая библиотека с книгами конца девятнадцатого и начала двадцатого века. На нашем «начальственном» этаже проживали инженерно-технические работники, по большей части молодые и неженатые. Они сразу приняли нас в свой коллектив и помогли устроиться с бытом.
Тогда-то, видимо от сильных напряжений на работе, я оказался в больнице по поводу язвы желудка. В моей душе перемешались страх, понимание необходимости круто изменить жизнь, чтобы не умереть во цвете лет, — и при том осознание невозможности этого. Куда бы я ни смотрел, видел только одно: крохотную язву, истекающую кровью, грозящую прожечь стенку моего желудка насквозь и заразить кровь кислотой с желчью, хлынувшими в полость живота — а это, как мне объяснили, минут пять и — смерть. Мне выписали столько лекарств, что я принимал их горстями и уже через несколько дней покрылся розовыми пупырьями, верхняя губа и нос раздулись. Живот, ноги, руки — всё чесалось. В больничных кулуарах медсестры наряду с моей фамилией стали поминать пугающие слова «анафилактический шок» и «возможность летального исхода». На утреннем обходе врач отменил таблетки, заменив их облепиховым маслом, а в качестве моральной компенсации и в санитарных целях отпустил домой помыться.
В общежитии при моем появлении весело загалдели баритоны соседей, зазвенело стекло, зашкворчала яичница с колбасой. Вернулся в больницу поздно вечером, обошел палаты, заглянул к сестрам — чтобы непременно всем объявить о том, что жизнь прекрасна и удивительна. Наутро меня разбудила старшая сестра и предложила два варианта развития дальнейших событий:
1.Она докладывает главврачу о нарушении мной больничного режима, после чего следует выдворение меня вон, и:
2. Я обещаю, что «больше не буду» и становлюсь паинькой.
Смотрел я на эту пожилую женщину, высохшую от переживаний за больных, и мне столько хотелось её сказать:
1. Что живу я общаге и вынужден подчиняться тамошним законам, главный из которых — пить по каждому поводу,
2. У меня страшно болит голова,
3. Во рту пересохло, меня тошнит,
4. На душе тоска и малодушие, поэтому сейчас я соглашусь на всё, что угодно.
5. Конечно, я согласен, что шляться ночью по женскому отделению и приставать к больным — это нехорошо, но вчера мне так не казалось ввиду пульсации счастья и жизнелюбия в душе,
6. Я согласен на всё, только бы от меня отстали и дали выспаться.
Но, увы, все перечисленные переживания бродили у меня где-то глубоко внутри, а наружу из пересохшей гортани вышли только вот эти слова: «Ребята, давайте жить дружно».
Старшая сестра глубоко и с видимым отвращением вдохнула тяжелый воздух нашей маленькой палаты на двоих, выдохнула с хрипловатым шумом и, грохнув дверью, вышла. И тут мне ум взошла мысль, которая меня пронзила: а ведь эта рано постаревшая женщина носила в сердце любовь ко мне отнюдь не материнскую. И тут уже пришла моя очередь вздыхать, выдыхать и хлопать дверью. В тот раз меня из больницы не выгнали. Зато в качестве наказания мне устроили промывание желудка пятью литрами воды через резиновый зонд. Самое страшное, что это проделывала со мной самая красивая медсестра в белых колготках, с дивными карими очами. И еще меня заставили написать плакат социалистических обязательств, план эвакуации при пожаре и разрисовать печатными буквами больничные ёмкости: «Кухня», «Гастро-отделение», «Морг».
К чему, спрашивается, такое длинное и глубокое погружение в недра гастроэнтерологии? Может для того, чтобы вернуть в наш обиход эти прекрасные слова и обратиться с их помощью ко всему прогрессивному человечеству: «Ребята, давайте жить дружно!» Ведь нас так мало, и нам так нелегко! Так «давайте восклицать, друг другом восхищаться, высокопарных слов не надо опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты — ведь это всё любви счастливые моменты». И мы учились этому. Непрестанно.
Городок наш был на удивление уютным и зеленым. Рядом с нашим домом имелись озеро, сосновый лесопарк, магазины и два ресторана. До электрички доходили за десять минут. Но особенно хорошо стало тут летом. После работы мы гуляли в парке, купались в озере, ездили развеяться в Москву. Начиная с первого посещения танцплощадки в парке у нас с Олегом появились подружки. С ними проводили мы вечера, ходили в кино, ездили на природу.
Честно говоря, мне с моей подружкой Светой повезло. Она была весьма стройной и симпатичной, к тому же безобидной и жизнерадостной. Работала маляром, зарабатывала раза в два больше меня, поэтому часто выручала деньгами, никогда не спрашивая о возврате. Я с помощью своих связей приодел её в приличную одежду, в парикмахерском салоне на Новом Арбате мы ей подобрали такую стрижку, что девушка стала «стильной штучкой».
Ко всему прочему, она училась в техникуме, тянулась к знаниям и буквально впитывала все, что я ей рассказывал. Вот, например, как-то прогуливаясь по арбатским книжным развалам, открыл я Боленовский список книг, которых мне не удалось прочесть, и спросил у старого «книжного червя», есть ли в продаже Гайто Газданов? Тот сказал, что недавно вышла его серия, но разошлась буквально за пару часов. Но если нужно… И если будет хороший стимул — он пошуршал щепотью, будто пересчитывая купюры — то, завтра же всё будет! Я дал старику задаток, а назавтра стал обладателем двух покетбуков загадочного антисоветчика. Уже в метро, а потом в электричке я самозабвенно читал «Призрак Александра Вольфа» и вслух зачитывал Светику:
— «Из всех моих воспоминаний, из всего бесконечного количества ощущений моей жизни самым тягостным было воспоминание о единственном убийстве, которое я совершил. С той минуты, что оно произошло, я не помню дня, когда бы я не испытывал сожаления об этом.»
— Дашь почитать-то? — жалобно просила «стильная штучка», ерзая рядом в приступе ревности.
— Слушай, Света! «Это было летом, на юге России; шли четвертые сутки непрерывного и беспорядочного движения войск, сопровождавшегося стрельбой и перемещающимися боями. Я совершенно потерял представление о времени, не спал перед этим две с половиной ночи. Стоял сильный зной, в воздухе колебался слабеющий запах дыма. Мне смертельно хотелось спать, мне казалось тогда, что самое большое счастье, какое только может быть, это остановиться, лечь на выжженную траву и мгновенно заснуть, забыв обо всем решительно. Но именно этого нельзя было делать, и я продолжал идти сквозь горячую и сонную муть, изредка глотая слюну и протирая время от времени воспаленные бессонницей и зноем глаза.»
— Дальше, дальше-то что было?
— «И вот на одном из поворотов дороги, моя лошадь тяжело и мгновенно упала на всем скаку. Я упал вместе с ней в мягкое и темное — потому что мои глаза были закрыты — пространство, но успел высвободить ногу из стремени и почти не пострадал при падении. Пуля попала ей в правое ухо и пробила голову. Поднявшись на ноги, я обернулся и увидел, что не очень далеко за мной тяжелым и медленным, как мне показалось, карьером ехал всадник на огромном белом коне.»
— Как он красиво пишет о страшном! — горячо шептала девушка.
— «Потом я увидел, как всадник бросил поводья и вскинул к плечу винтовку, которую до тех пор держал наперевес. В эту секунду я выстрелил. Он дернулся в седле, сполз с него и медленно упал на землю. Наконец я приблизился к нему вплотную. Это был человек лет двадцати двух — двадцати трех; шапка его отлетела в сторону, белокурая его голова, склоненная набок, лежала на пыльной дороге. Он был довольно красив. Я наклонился над ним и увидел, что он умирает; пузыри розовой пены вскакивали и лопались на его губах. Он открыл свои мутные глаза, ничего не произнес и опять закрыл их. Я стоял над ним и смотрел в его лицо, продолжая держать немеющими пальцами ненужный мне теперь револьвер.»
— Убил все-таки!
— Вряд ли. Тогда бы и книги не было. Отстань. Не мешай читать.
Света надулась, посопела с минуту, а потом достала вязанье и стала тихонько напевать песенку Юрия Антонова. Я читал взахлеб. Давненько не получал такого удовольствия.
«В те времена, когда это происходило, мне было шестнадцать лет — и, таким образом, это убийство было началом моей самостоятельной жизни, и я даже не уверен в том, что оно не наложило невольного отпечатка на все, что мне было суждено узнать и увидеть потом. Во всяком случае, обстоятельства, сопровождавшие его и все, что было с ним связано, — все возникло передо мной с особенной отчетливостью через много лет в Париже. Это случилось потому, что мне попал в руки сборник рассказов одного английского автора, имени которого я до сих пор никогда не слышал. Сборник назывался "Я приду завтра" — "I'll Come To-morrow", — по первому рассказу. Их всего было три: "Я приду завтра", "Золотые рыбки" и "Приключение в степи", "The Adventure in the Steppe".
…«Но меня поразил третий рассказ: "Приключение в степи". Эпиграфом к нему стояла строка из Эдгара По: "Beneath me lay my corpse with the arrow in my temple" <"Подо мною лежит мой труп со стрелой в виске"(анг.)>. Этого одного было достаточно, чтобы привлечь мое внимание. Я сделал нечеловеческое усилие, чтобы открыть глаза и увидеть, наконец, мою смерть. Мне столько раз снилось ее страшное, железное лицо, что я не мог бы ошибиться, я узнал бы всегда эти черты, знакомые мне до мельчайших подробностей. Но теперь я с удивлением увидел над собой юношеское и бледное, совершенно мне неизвестное лицо с далекими и сонными, как мне показалось, глазами. Это был мальчик, наверное, четырнадцати или пятнадцати лет, с обыкновенной и некрасивой физиономией, которая не выражала ничего, кроме явной усталости. Он простоял так несколько секунд, потом положил свой револьвер в кобуру и отошел. Когда я снова открыл глаза и в последнем усилии повернул голову, я увидел его верхом на моем жеребце. Потом я опять лишился чувств и пришел в себя только много дней спустя, в госпитале. Револьверная пуля пробила мне грудь на полсантиметра выше сердца. Мой апокалиптический конь не успел довезти меня до самой смерти.»
И вот они встречаются в Париже: невольный убийца и жертва — чудом выживший человек по имени Александр Вольф. Но для чего! Оказывается, чтобы замкнулся круг и личный апокалипсис человека был доведен до логического конца:
«…я увидел Елену Николаевну, стоявшую у окна, и вполоборота к ней силуэт мужчины, который так же, как и я, держал револьвер. Не поднимая руки, почти не целясь, на таком расстоянии нельзя было промахнуться, — я выстрелил в него два раза подряд. Он повернулся на месте, потом выпрямился и тяжело рухнул на пол. …
Он лежал теперь во всю длину своего тела, разбросав руки; голова его была почти у ее ног. Я сделал шаг вперед, наклонился над ним, и вдруг мне показалось, что время заклубилось и исчезло, унося в этом непостижимо стремительном движении долгие годы моей жизни.
С серого ковра, покрывавшего пол этой комнаты, на меня смотрели мертвые глаза Александра Вольфа.»
Я закончил читать за минуту до нашей остановки и погрузился в размышления. Молчал я, когда мы шли по асфальтовой дорожке среди сосен к нашему общежитию. Света шла рядом и не пыталась разговаривать. Я испытывал к ней благодарность и высоко ценил умение женщин молчать. На прощанье протянул ей книгу, она её схватила и, счастливая, побежала домой. Следующим вечером она призналась, что читала всю ночь и опоздала на работу. Мы обсуждали эту книгу неделю. Потом были другие…
Как-то мы со Светой зашли в гости к её напарнице маляру Вале. Нам открыл дверь её жених Сергей, в голубой майке и синих трусах с соленым огурцом на вилке: они ужинали. Сама Валя, толстая, с потухшими глазами, выглядевшая лет на сорок, встретила нас в тоскливом байковом коричневом халате и в бигудях. Она грызла капустную кочерыжку, чавкала и чесалась. Сергей обрадовался нам и затащил за стол. Он часто наливал водку и сам её в одиночестве пил, мы пригубили для приличия, потому что собирались в театр. Дамы говорили о своём, решая кто в какую смену выходит. Сергей плотоядно поглядывал на Свету в бежевых вельветовых брючках и французском батнике и нудно объяснял мне:
— Есть девушки для гулянки, а есть для жизни. Твоя Светка — она для флирта, а моя Валька — она для жизни, понимаешь!
— А о чем вы перед нашим приходом разговаривали? — спросил я небрежно.
— Так это… — смутился Сергей. — Ни о чём. Так, телевизор смотрели.
— А о чем обычно разговариваете? Какие темы обсуждаете?
— Ну ты даешь, — почесал тот затылок. — Ну там, что завтра в гастрономе купить. Или еще к кому в гости…
Наконец, Света закончила переговоры с «девушкой для жизни» и мы вышли на улицу и поспешили на электричку до Москвы. Мы торопились в Театр Сатиры на спектакль с участием Миронова и Папанова. В электричке я еще раз посмотрел на свою подружку и серьезно сказал:
— Светик, если ты хоть в чем-то станешь похожей на эту Валю, я тебя самолично аннигилирую, чтобы и микрочастиц не осталось. Поняла?
В ответ раздался заливистый смех. Света была жизнерадостной девочкой и очень доброй. А еще она очень хотела замуж, за меня.
— Жалко мне Серегу. Сопьется он с этой двадцатилетней старухой.
— Да брось ты, Юрочка, знаешь какой он донжуанщик? Это он так, поужинать к ней бесплатно ходит. У него для души есть такая подружка — закачаешься! А ты мне второго «газданчика» дашь почитать? Ну этого, который «Ночные дороги»? Что там вкусненького?
Я открывал книгу и смачно зачитывал подчеркнутые места:
«…в силу нелепой случайности мне пришлось стать шофером такси. Все или почти все, что было прекрасного в мире, стало для меня точно наглухо закрыто — и я остался один, с упорным желанием не быть все же захлестнутым той бесконечной и безотрадной человеческой мерзостью, в ежедневном соприкосновении с которой состояла моя работа. Она была почти сплошной, в ней редко было место чему-нибудь положительному, и никакая гражданская война не могла сравниться по своей отвратительности и отсутствию чего-нибудь хорошего с этим мирным, в конце концов, существованием.» …
… «У нее на глазах стояли слезы, она дрожала от холода. Потом она обратилась ко мне с предложением последовать за ней, мне стало ее жаль, я отрицательно покачал головой.
— У меня не было ни одного клиента сегодня, — сказала она, — я замерзла, я не могла даже выпить кофе.
На углу светилось одинокое кафе. Я предложил ей заплатить за то, что она выпьет и съест.
— И ты ничего от меня не потребуешь?
Я поспешил сказать, что нет, я решительно ничего не потребую от нее.
— Я начинаю верить, что ты действительно русский, — сказала она.»
— Понимаешь теперь, почему наши эмигранты говорили: «Франция была бы прекрасна, если бы там не было французов»? Им непонятно, как это можно за свои деньги накормить голодного!.. Это для французов — нонсенс.
— Дай, дай, дай, пожалуйста! — вспыхивала Света и получала замечательную книгу. Так мы сосуществовали: я ей книги, она мне — жизнерадостность и доброту.
Позже мне стали докладывать друзья-завистники, что Света делится жизнелюбием не только со мной, но и с бригадиром, звеньевым, мастером и прорабом, с которыми по несколько раз в смену уединяется в бытовке. На вопрос почему такая неразборчивость, девушка округляла выразительные глаза, хихикала и махала ручкой: что меня убудет, что ли. Пришлось мне с ней расстаться.
Но в Москву мы с Олегом всегда ездили без девушек, в чисто мужской компании.
Однажды после спектакля в «Ленкоме», мы ужинали в новоарбатском «Лабиринте». Олег познакомился с девушкой Аллой из УпДК — Управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИДе. После первого танца он сообщил, что девушка работает в Американском посольстве, владеет двумя языками и наверняка имеет звание офицера спецслужб. А еще он сказал, что Алла напоминает ему Анжелику, она из того же типа «нежных турчанок», которые всегда уносили его во светлые дали. Мне же ничего не оставалось, как пригласить на танец подругу Аллы по имени Женя. В отличие от хорошо воспитанной и кроткой Аллы, роковая красавица Женя была себе на уме и с первой минуты стала заявлять о своем превосходстве. Я терпел ради друга.
Потом Олег поехал провожать Аллу в Медведки, а мы с Евгенией оказались на вокзале. Женя сказала, что ей проехать всего пару остановок до Измайлова, и она выйдет прямо рядом со своим домом. Девушка хоть и держалась, хоть изо всех сил пыталась выглядеть трезвой, но вместо своей электрички села во Владимирскую. Я не стал ей препятствовать. Во-первых, бесполезно — она слышала только себя, любимую, а во-вторых, почему бы девушке и не посетить одну из жемчужин Золотого Кольца России, подумал я. Сам я с максимальным попаданием в цель сел в свой электропоезд и без особых приключений добрался до дома.
Только спустя несколько месяцев мне довелось узнать, что в лице Евгении я приобрел врага. Это случилось на свадьбе Олега и Аллы. В одном из ресторанов гостиницы «Россия» был накрыт длинный стол. Мы с Олегом, невестой Аллой и свидетельницей Евгенией только что сошли с бронированного лимузина «ЗИЛ-114» и расселись за столом. Кроме нас там оказалась компания работников УпДК. Произнес свой свидетельский тост, в котором я выразил соболезнование по поводу лишения друга холостяцкого статуса. Почувствовал себя свободным и пригласил на танец американку цвета кофе с молоком с прической Анжелы Дэвис.
Вдруг передо мной выросла роковая красотка Женя. Она зашипела, чтобы я немедленно прекратил безобразие, и в качестве аргумента откуда-то из-за спины выудила начальника в сером костюме с протокольной физиономией штатного стукача. Ну а тот мне объяснил, что если я «не прекращу приставать к этой американской шпионке», они вынуждены будут в полном составе удалиться со свадьбы. Скатертью дорожка, сказал я. В тот миг чаяния афроамериканского пролетариата были для меня гораздо важней, чем реноме наших стукачей. Но тут на выручку дипломатическому корпусу подоспел Олег и попросил меня угомониться. Пришлось подчиниться, чтобы не испортить свадьбу другу. Так Женя отомстила мне за свою познавательную поездку в жемчужину Золотого Кольца.
Сальватор Дали и снабжение
После кончины начальника управления в Центральном аппарате ВОС произошли кадровые перемещения. Вакантным оставалось лишь место начальника отдела оборудования. До меня доходили слухи, что за это место ведут лютую битву несколько директоров УПП с тем, чтобы посадить туда «своего человека». Завершилась вся эта эпопея тем, что на это место посадили… меня.
Сидим как-то после тяжелой трудовой вахты с начальником ЭМО Валерием, обсуждаем день прошедший и строим планы на день грядущий. Вдруг — звонок красного директорского телефона без диска. Начальник встает по стойке смирно, прокашливается и с трепетом берет трубку. С придыханием отвечает: «Здесь. Непременно! Немедленно! Уже бежит!», затем поворачивается ко мне: «К директору! Быстро!»
Вхожу к директору. Тот отхлебывает из своей безразмерной чашки коричневую жидкость, хрипло кашляет, указывает подбородком на место моего приземления и говорит:
— С завтрашнего дня ты работаешь начальником отдела оборудования ЦП ВОС. Я пробил это место для своего человека. Ты у нас самый знающий в области новой техники и меньше всего загружен работой.
Я попытался противоречить, но был осажен начальственной рукой.
— Слушай внимательно. Твоя задача продержаться пару месяцев, пока тебя не сожрут с потрохами местные чинуши. За это время я хочу, чтобы ты полностью укомплектовал оборудованием мое предприятие. Потом вернешься. Обещаю тебе если не повышение в должности, то повышение зарплаты из директорского фонда. Так что не проиграешь ни в чем. Всё, ступай и без победы не возвращайся.
Со следующего дня я переселился на Старую площадь. «Местные чинуши» меня встретили настороженно, но уважительно. В первый же день я взял в руки штатное расписание и вызывал каждого подчиненного. Я задавал лишь один вопрос: «Как вы мне можете обосновать необходимость вашего личного участия в работе отдела?» Почти никто не смог ответить то ли от страха быть уволенным, то ли от слухов о моей дружбе с руководством ЦП, которые я не отрицал. Во всяком случае тот факт, что к покойному начальнику управления я входил без уведомления, как к другу — был общеизвестным. Так же здесь были наслышаны, что я ходил с письмом к мэру и получил от него то, что хотел: разрешительную резолюцию. Попробовал бы он мне отказать — за моей спиной маячила мрачная тень слепого ветерана войны с огромной палкой, которой он лупил по спине любого, без разбору чинов и регалий.
Прихватив с собой молодого специалиста Эдика, я нагрянул в Главснаб. Там на уровне заместителя начальника был обласкан кокетливой дамой, которой однажды подарил картину Дали, кажется «Леду». Она тогда работала в ЦП и меня запомнила. Поэтому выставила Эдичку за дверь, и мы поговорили с ней вполне по-дружески. Даже слишком по-дружески. Во всяком случае, мою заявку она взяла и обещала ее «отработать» за пару дней. Еще она попросила меня написать копию «Будуара» того же Дали. Я пообещал вручить картину на следующий день после получения фондов в полном объеме. Назвав меня «милым мальчиком», дама схватила мою заявку в одну руку, и телефонную трубку в другую.
За неделю мне удалось получить все необходимые фонды. «За всё-про-всё» я отдал копию Дали 50х70 см на холсте маслом и ужин с шурпой и мантами в ресторане «Узбекистан». Потом я разослал испуганных сотрудников по заводам на реализацию фондов, оставив лишь самую забитую Люсю в качестве секретарши.
Как только на складе появлялись нужные мне барабаны, прессы, станки с ЧПУ и прочий дефицит, как на следующий день всё это по срочным нарядам с красной полосой отправлялось в родное УПП. Директор через неделю позвонил и сказал, что он, конечно меня благодарит… Но после хриплого вздоха предположил, что я и месяца там не протяну: слишком явно лоббирую родную фирму. На что я ответил, что задание его выполню, а там как получится. Он вздохнул и пообещал самую крупную премию за историю УПП. Возражать я не стал.
На следующий день меня вызвал к себе заместитель начальника Центрального Правления и дал нагоняй за то, что я неравномерно распределяю фонды ЦП. Я заранее подготовил справку, которая показывала обратное.
— Просто я выбил дополнительные целевые фонды в Главснабе под разрешение исполкома на строительство очистных сооружений, — потупив очи, пояснил я.
— Как тебе удалось? — Вскочил тот с кресла.
— Используя шедевры Сальватора Дали, обед в «Узбекистане» ценой в сорок четыре рубля и личное знакомство с начальством Главснаба.
— Так ты того… — Смутился начальник. — Напиши заявку на материальную помощь, если так. Мы компенсируем.
— Как прикажете, — скромно ответил я.
Кажется первый раунд мне удалось у чинуш выиграть. Интересно, кто это меня пытался подставить? Уж не Эдик ли? Видимо, его ожидание под дверью начальственной дамы вызвал в молодом сотруднике приступ зависти и желание отомстить.
Откуда, спрашивается, у меня появились картины великого сюрреалиста Дали?
Однажды послали меня в местную командировку в ЦП на Старую площадь. Побегав по отделам и раздав письма, я решил слегка побаловать себя прогулкой по центру. После обеда в «Шоколаднице», гуляя по Столешникову переулку, зашел в букинистический магазин. Пройдясь по первому этажу, где пылились поэзия восемнадцатого века вперемешку с трудами Сталина и труды по литейному делу девятнадцатого века с беллетристкой двадцатого, по деревянной лестнице поднялся на второй этаж. Там на стеллажах тихо стояли роскошные глянцевые альбомы очень зарубежных стран. Среди них сразу привлёк внимание французский альбом Сальватора Дали. Я взял его в руки, слегка пролистал, увидел иллюстрации «Атомной Леды», «Святой Христос мой на кресте», «Предчувствие гражданской войны»…
Дыхание перехватило, сразу ощутил тонкую вибрацию пальцев и понял, что эту книгу я должен купить во что бы то ни стало. Стоила она 250 рублей — примерно полторы моей зарплаты. Я спросил продавщицу, а что если я верну книгу, сколько потеряю? Она сказала — 20% комиссионных. Я подсчитал — 50 рублей. Сразу решил купить в ЦУМе десяток цветных слайдовских пленок, сфотографировать иллюстрации и продать каждую за 7-10 рублей. Тогда бы книга окупилась, а у меня остались от нее пару коробок со слайдами бесценных картин. Так я и поступил.
Культурная жизнь нашего УПП держалась на высоте. Я без труда нашел несколько человек, пожелавших купить слайды картин великого Дали. Выпросил в кассе взаимопомощи 250 рублей и купил альбом. Неделю по вечерам аккуратнейшим образом, чтобы не помять ни единого листочка, я фотографировал книгу. Проявил в фотомастерской, получил слайды и раздал народу. Вернул книгу в «Букинистический», получил в кассе 200 рублей и вместе с прибылью от продажи слайдов вернул в кассу взаимной помощи. Потом взял франко-русский словарь и перевел подписи под иллюстрациями, которые заранее аккуратно выписал на листок. Распечатал и в виде бесплатного приложения раздал обладателям слайдов. Потом еще устроил в красном уголке показ слайдов под музыку «Пинк флойд». Работники культуры и сотрудники УПП — зрячие и слабовидящие — с восторгом прослушали мою лекцию про Дали и были очень довольны.
Но и это не всё. Как-то раз на Петровке зашел я в салон живописи. Там увидел грунтованные холсты по очень низкой цене, наборы масляной краски, растворители и кисти. В то время был какой-то разнобой цен, и тут оставался оазис прежних, еще советских цен. За сущие копейки накупил кучу художественных принадлежностей и на такси отвез домой. Там поставил холст к стене, направил на него слайдоскоп и карандашом набросал контуры картины «Голова Венеры». На следующий день занялся малярной работой: смешал краски, разбавил их смесью оливкового масла со скипидаром и разукрасил холст, подбирая цвета под те, что на слайде. Через день еще раз. Получилось ровней и сочней. Потом кое-где сажей газовой дал тень, кое-где желтой охрой прибавил света — и вот моя копия засияла, заиграла. Еще несколько раз прошёлся по картине, приближая свою цветовую гамму к той, что светила на экране слайдоскопа. Потом купил литую кооперативную раму под бронзу, одел ею холст и залюбовался. Гости, разглядывая картину, доставали кошельки и предлагали немалые суммы, я же поначалу отказывался менять «высокое искусство» на презренный металл, но потом… потом согласился.
С этого началось мое увлечение копиистикой. Мои картины раскупались по цене 70— 150 рублей. Заказывали мне их сотрудники и соседи, друзья и их знакомые. О Сальваторе Дали тогда мало кто знал, и его сюрреалистические картины были в диковинку. Многих они поражали, очаровывали… Это сочетание виртуозной техники с сочными красками и тщательной прописью деталей — делали фантастические сюжеты из сновидений вполне зримыми и поэтому реальными. Не помню, чтобы кто-то прошел мимо картины Дали безучастным зевакой. Все останавливались, засматривались, открыв рты. Да что говорить, если наш суровый директор купил у меня копию «Тайной вечери» Дали и повесил взамен портрета Ленина в своем кабинете. По его стопам пошли все замы и так же делали мне щедрые заказы. Использовал я их и в качестве взятки чиновникам. Так, Общество слепых стало самым крупным заказчиком моих копий картин Дали.
Путешествие в страну мажоров
Однажды в конце мая в обеденный перерыв стояли мы с сотрудниками у входа в Контору, подставив лица солнышку. Я стоял дальше всех, может поэтому именно ко мне подошел этот юноша. Он стоял в метре от меня, смотрел в упор и молчал. Я невольно рассматривал его. Лицо красивое, высокий, стройный, спортивный, взгляд прямой, в карих глазах едва уловимая «сумасшедшинка». Это чуть позже он объяснил мне, почему тогда стоял и молчал. Просто волновался и боялся ляпнуть что-нибудь не так.
— Сейчас перерыв закончится. Давай, начинай говорить.
— Мне работа нужна.
— Звучит, как в фильме из-за рубежа, где свирепствует безработица.
— Я дипломник МАДИ, а работаю с финнами на реконструкции «Метрополя». Мне нужен нормальный график с девяти до шести, а не ежедневный аврал без выходных.
— В оборудовании разбираешься?
— Как любой технарь. Что нужно, пойму, если не пойму, — спрошу.
— Ладно, пойдем со мной. Есть у меня вакансия на сто семьдесят. Устроит?
— Я на своем аврале сто пятьдесят получаю. Конечно устроит.
Так появился у меня новый сотрудник Денис. Быстро вошел в курс дела. Работал он безукоризненно. Жил недалеко, в доме рядом с Елисеевским гастрономом. Родители его развелись, каждый жил с новой семьей. А Денису с сестрой оставили две комнаты в коммуналке. К тому же собеседником Денис был интересным. И жил не как все. Занимался каратэ, мало ел, мало спал, учился на пятерки, работал с удовольствием, часто улыбался, был вежливым, ухаживал за девушкой и не стеснялся признаться, что любит ее и хочет от нее детей.
Однажды мы с ним засиделись в его гостеприимном доме. Вдруг он встал и сказал:
— Пойдем в гости к мажорам! Увидишь, с кем я общаюсь.
Мы взяли в Елисеевском коробку конфет и пошли в дом, на первом этаже которого располагалось кафе «Лира». Прошли мимо бдительной охраны, предъявив удостоверения личности режимного ЦП ВОС, и поднялись на четвертый этаж. Там в гостиной четырехкомнатной квартиры за длинным столом сидели молодые люди лет около двадцати и скучали. Они были хорошо одеты, лица их имели правильную форму, но какая-то смертная тоска печатью присутствовала на них, искажая, отталкивая взгляд. Магнитофон крутил одну и ту же модную песню Status Quo «In the army now», осоловелая молодежь отхлебывала из высоких стаканов спиртное и вяло подвывала: «О-о-о-у-у-о-о! Ёр ин зэ арми… Нау!» Денис разговаривал о дипломе с девушкой из своей группы, я заскучал и, чтобы не заснуть, неожиданно вскочил:
— Господа! Прошу внимания! — Магнитофон выключили. Наступила тишина. — Исполняется гениальное стихотворение Бродского. В этих краях впервые…
И слегка грассируя, нараспев, то усиливая звук, то стихая, стал читать:
Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озирал полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
надевал на себя что сызнова входит в моду,
сеял рожь, покрывал черной толью гумна
и не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.
Раздались жидкие хлопки, в основном, девушек. Парни стали смотреть на меня косо. Еще немного и меня отсюда погонят, подумал я. Потом я попросил гитару и на четырех септаккордах спел «Ольховую сережку». …А потом меня похлопали по плечу и попросили «выйти поговорить». Я шел по длинному коридору на кухню и радовался предстоящей драке: хоть какое-то развлечение. На кухне наглый паренек встал напротив и, глядя прямо в глаза, сказал:
— А не пошли бы вы, господин хороший, в другое место.
— Меня зовут Юрий Александрович. Называй меня, сынок, по имени-отчеству. Не стесняйся.
На кухню ворвался Денис, положил руку наглому парню на плечо и обратился ко мне:
— Саныч, а не врезать ли ему по глупой башке? — Потом пареньку: — Ты на кого прыгаешь, Яшка? Я за этого человека тебе челюсть раскрошу.
— Не стоит, Денис, — сказал я. — Если понадобится, я не только этого шибздика, но и всю компашку один в горизонталку отправлю. Они все то ли обкуренные, то ли пропитые насквозь.
— Ладно, парни! — Поднял руку наглый Яша. — Давайте по-мужски.
— Давай, — сказал я, испытывая к нему невольное уважение. Во всяком случае, он не испугался.
— Юрий Александрович, я не спорю, вы интересный человек и сразу затмили весь мужской контингент. Но вы понимаете, что девушки все поделены, и нам не нужен конкурент в вашем лице. Вы здесь чужой.
— А знаешь, Денис, мне этот паренёк нравится. Он хотя бы честен и прямолинеен. Хорошо. Я оставлю вас в покое. Тоните дальше в своей трясине.
— Юра, — сказал Денис, — я с тобой! Мне здесь тоже тошно.
— До свидания, Яша, — протянул я руку пареньку. — От души желаю тебе найти силы и выбраться из этого болота.
— До свидания, Юрий Александрович, — серьезно ответил Яша, крепко пожимая мою ладонь. И после паузы: — Я попробую.
Мы с Денисом вышли на Тверской бульвар, присели на грязную лавку, как принято на изголовье, оглядели Пушкинскую площадь, поток машин, несущийся по улице Горького. И тут наше внимание привлекла очередь в кафе «Лира». Чем знаменито это заведение? О нём в своей песне поёт Андрей Макаревич:
У дверей заведенья народа скопленье, топтанье и пар.
Но народа скопленье не имеет значенья: за дверями швейцар.
Неприступен и важен, стоит он на страже боевым кораблем,
Ничего он не знает и меня пропускает лишь в погоне за длинным рублем.
А еще в этом кафе сыночки партийных активистов празднуют день рождения Гитлера. Об этом знает не только «золотая молодежь» улицы Горького и прилегающих окрестностей, но и руководство города и милиция. Во всяком случае мне в девятом отделении милиции знакомый лейтенант говорил об этом. Но ничто не мешает московским фашистам собираться и при закрытых дверях кафе «Лира» отмечать день рождения человека, по приказу которого убивали наших отцов. Не отцов этих мажоров — те всегда в теплых местах при кормушке, а наших — которые защищали Родину.
Мы проверили содержимое карманов, убедились в своей платежеспособности и решительно двинулись под козырек с неоновой надписью «Лира». Молодой милиционер, стоявший у самых дверей, на наши красные удостоверения с гербом отреагировал уважительным кивком и приоткрыл стеклянную дверь, впуская внутрь. Мы вошли в прокуренное фойе и сразу поднялись по лестнице на второй этаж. Именно там собирались мажоры. Именно там заняли свободные места и мы. Денис всё ругал своё окружение, взглянув на них моими глазами. Я же наблюдал за тем, что творилось вокруг.
А я сегодня один, я человек-невидимка, я сажусь в уголок.
И сижу словно в ложе, и очень похоже что сейчас будет третий звонок.
И мое отчужденье назовем наблюденьем.
Всё было именно так, как описывал Андрей Макаревич: пьяные мажоры, продажные женщины, товарищи с востока. Только милиция не раздражалась и никого не уводила: они просто подходили с разгоряченным спиртным гостям, вежливо что-то шептали, те им совали в карман деньги, и «блюстители порядка» удалялись.
Мы посидели, поели-попили, станцевали с только что вошедшими девушками, постоянно кого-то высматривающими за твоей спиной, и сильно загрустили. Помните, как заканчивается песня Андрея?
А я все верю, что где-то божьей искрою света займется костер.
Только нет интереса, и бездарную пьесу продолжает тянуть режиссер.
Только крашеный свет, только дым сигарет у дверей в туалет. Меня нет.
Я за тысячу лет. Я давно дал обет никогда не являться в такой ситуации.
И мы ушли оттуда. Вернулись в комнату Дениса и продолжили прерванный уходом из дому разговор. Из соседней комнаты, постучавшись, пришла сестра Дениса — Наташа. При своей необычайной красоте, стройности фигуры, отлично сидящим на ней «фирменным» одеждам, привезенным из заграницы — Наташа была удивительно кроткой девушкой. Она работала стюардессой на международных линиях. Она любила брата, ухаживала за ним, как мать. А когда он приводил в дом гостей, всегда следила за тем, чтобы на столе имелась закуска, чистые тарелки, скатерть и салфетки. Она почти ничего не говорила, двигалась бесшумно и, убедившись в порядке за столом, удалялась в свою комнату. В этом доме жила любовь, здесь было хорошо.
Не счастье, так несчастье
После того, как мне удалось укомплектовать техникой своё УПП, необходимость работать в ЦП вроде бы отпала. Я стал подумывать о возвращении на родное подмосковное предприятие. Но, видимо, об этом подозревал не только я… За неделю я получил два приглашения. Первым ко мне подошел главный инженер московского УПП и предложил место начальника ЭМО у себя. При этом он пообещал в течение года вручить мне ключи от московской квартиры. Я пообещал подумать. Следом за ним меня вызвал к себе начальник управления нашей конторы и так же пообещал квартиру в столице за то, что я останусь на своем рабочем месте и продолжу успешное выбивание фондов из Мосглавснаба. Я пообещал обдумать предложение и ему ответить.
Потом позвонил в свое родное УПП и рассказал директору о том, что мой трехлетний срок в качестве молодого специалиста подходит к концу, значит, и возможность внеочередного получения жилья так же. По этой причине мне стоит поторопиться с решением жилищного вопроса. А так же рассказал о двух полученных предложениях. Директор сначала возмутился тем, что его ценного кадра пытаются переманить, и заверил меня в том, что у него тоже есть возможность прописать меня в московское общежитие и в течение года выбить для меня квартиру. Потом он поговорил с начальником моего управления, «раскрыл свои карты» относительно моей персоны, и они решили, что оба начнут работу по вручению мне ключей от квартиры, а уж потом меня «поделят» между собой, договорятся…
Вообще-то Олег уже привык к моему отсутствию на родном подмосковном УПП. Он стал начальником ЭМО и очень радовался тому, что у него реальное полезное дело. На работе уже знали о высоком положении его папы и, чтобы удержать молодого специалиста, выбили ему комнату в коммуналке и персональную надбавку к зарплате. Но Олег, кажется, был бы доволен и без этих благ. Работу свою он любил.
Я тоже через несколько месяцев стал обладателем квартиры в московском спальном районе со славным олимпийским прошлым. А работал уже и на свое подмосковное УПП, и на центральное правление, получая приличную персональную надбавку к окладу. Но именно в это время и начались перестроечные события в стране, которые её развалили. Этот развал мы почувствовали, когда стали рваться связи и договора с заводами-поставщиками. Когда танки и бронемашины заполнили Старую площадь и сотрясали стены нашего здания во время потешного бунта под названием ГКЧП. В конце концов, когда опустели полки магазинов и выстроились очереди на отоваривание продуктовых карточек.
Вот когда я оценил в полной мере мое везение в день институтского распределения. Вот уж в самом деле, это был тот случай, когда не счастье, так несчастье ведет нас к успеху. Нас с Олегом практически не затронул дефицит продуктов в магазинах. Во-первых, ВОС своих сотрудников снабжал продуктовыми заказами, а во-вторых, у нас были «свой» мясник в магазине и «своя» директорша столовой, которые получили от меня в подарок портреты своих любимых дочек в стиле Дали. Также слепые сотрудники наших контор снабжали нас билетами на поезда и самолеты. Без очереди.
Я уж не говорю о нашей культурной программе. В учреждениях ВОС имелись ребята, которые приглашали к себе знаменитостей. И те почитали за честь приехать и бесплатно выступить перед инвалидами и нами, пока еще зрячими. Мы слушали песни Муромова и Талькова с братом-телохранителем, юмористические выступления Ширвиндта с Державиным и Константина Райкина. Наверное, на всю жизнь запомнились слова Кости Райкина: «Посмотрели бы вы сейчас на себя моими глазами! Как сияют ваши лица добрым светом. Как вы все красивы! А знаете, друзья, что наша встреча продолжается уже два часа?» Мы глянули на часы и удивились — нам показалось, что прошло минут двадцать, не больше.
После обеспечения меня квартирой, начальство меня, наконец, «поделило». Я вернулся на родное УПП, но иногда продолжал ездить по руинам снабженческих фирм и баз, помогая доставать нужные механизмы для отдела оборудования ЦП ВОС.
В те времена стали появляться кооперативы. Мы с Олегом решили попробовать себя в этом деле. Сначала поработали в кооперативе Валеры, бывшего начальника ЭМО. Потом учредили свою фирму, где я стал директором. Решили развивать сразу три направления: компьютеры, торговое посредничество и строительство. Директора нашего УПП мы, как честные люди, поставили в известность. Он сказал, что не против, если это не помешает основной работе.
Эпоха перемен
В это время по стране шествовала странная парочка — Перестройка с Гласностью.
В толстых журналах появились ранее запрещенные книги. Из рук в руки передавались книги Солженицына, «Память» Чивилихина, «Десионизация» Емельянова, антимасонская эпопея Григория Климова, роман Пастеpнака "Доктоp Живаго", статья Нуйкина "Идеалы или интересы", роман Гpоссмана "Жизнь и судьба", пьеса Шатpова "Дальше… дальше… дальше", «Челюсти» Бенчли, «Плаха» Айтматова, «Белые одежды» Дудинцева, «Зубр» Гранина, «И ад следовал за ним» Юрия Любимова…
Мы стояли в длинной очереди в «Октябрь» на фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние». И я никак не мог соединить в себе «дорогу к храму» с местью мертвецу, тело которого выкапывают и устраивают надругательство. Наше понимание христианства уродливо, нам всем нужно учиться верить заново, думал я, уходя из душного кинотеатра.
Началась борьба с пьянством. Нас вызвал начальник и объявил, что теперь пить можно только дома и при закрытых дверях. А если кто из начальников позволит устроить пьянку в отделе или у него будет выявлен выпивший сотрудник, то начальник заплатит штраф в размере своего оклада жалования. Этого испугались! Пить на работе прекратили, зато занялись спортом и голоданием по книгам Поля Брега. Питались в диетической столовой на Пушкинской улице, и удивительно как быстро, приучили себя к бессолевой диете и голоданию по понедельникам. По утрам стали бегать трусцой, бросали курить. Погода прояснилась и дожди лили только ночами. Лето продолжалось до глубокой осени. Виноград продавался ящиками по копеечной цене. Сократился травматизм и больничные, удлинилась жизнь граждан, государство потеряло на продаже водки 30 миллиардов рублей, но получило в два раза больше на счета Сбербанка — народ прекращал пропивать деньги и стал копить на мебель, дачи и автомобили.
Как члена комитета комсомола управления меня снабжали дефицитными билетами. Например, мне удалось несколько раз сходить на «Молодую Москву» в здание Политехнического музея и посмотреть на знаменитых актеров, музыкантов, писателей и деятелей науки. Но, пожалуй, самое интересное, что нам с Олегом довелось посетить — это «Рок-панорама-86». Происходило это «мероприятие» в Центральном Доме туриста в мае 1986 года. Фестиваль организовали Гагаринский райком комсомола и инициативная группа рок-музыкантов. Выступала там в составе группы «Браво» смешная Жанна Агузарова в красном галстуке. Девушка, не смотря на внешность ведьмочки, имела сильный чистый голос и сорвала неплохие аплодисменты. Выбрасывал руку, указывая на сантехника на крыше Гарик Сукачев, потный, в драповом пальто, выкрикивая что есть сил слова песни «Сантехник на крыше». А в это время рядом со мной ёрзал инструктор райкома комсомола и ворчал: «Ну вот, дали им свободу, теперь всё можно, даже нацистские жесты!»
Но самым необычным стало выступление группы «Ария», которая играла наш, доморощенный «тяжелый металл». Мы сидели во втором ряду напротив трех огромных колонок, из которых на нас грянул звуковой набат из протяжных грозовых раскатов. Со сцены полился вонючий дым. Симпатичные ребята из приличных семей, выскочив на сцену в цветных трико, скорчили страшненькие рожицы, забирались на колонки и с грохотом прыгали на деревянный настил сцены. Олег пытался что-то сказать мне после концерта, но я оглох. В ушах пару часов стоял свист, и мы с ним общались жестами.
Потом пошло-поехало: Чернобыль, приход во власть Ельцина, вывод войск из Афганистана, освобождение академика Сахарова, принятие законов о легализации частного предпринимательства и кооперативов, празднование Тысячелетия крещения Руси, события в Карабахе и Степанакерте, пролилась кровь в Грузии, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии, Прибалтике, Молдавии, Азербайджане, «парад суверенитетов» союзных республик, упразднение СЭВ и Варшавского договора, Беловежское соглашение о развале СССР, либерализация цен, ГКЧП…
Народ пьянел от свободы и потихоньку дичал, облака закрыли солнце, люди кочевали от митингов к очередям, но появились ночные магазины, где круглые сутки продавали всё, что хочешь с наценкой.
Появились видео-салоны. Там смотрели мы культовые фильмы, которые скрывали от народа и смотрели на закрытых показах прежние властители. Почему-то ужастики вроде «Пятница, 13-е», «Восставшие из ада» в клюквенном сиропе или «Крестный отец» с ватой под губами — вызывали у меня лишь гомерический хохот. С благодарностью вспоминал сообщение Сочинской тети Гали о том, что в кино всё не на самом деле, а только актерская игра. Но вот мультфильмы «Том и Джерри» повергали в тоску — если детей пичкать этими веселыми, но агрессивными приключениями, вряд ли они вырастут добрыми людьми.
Мы в 1990-м не успели из отпуска на «Десант в гнездо гласности» в Лужники, где «высадились» Ozzy, Scorpions, Bon Jovi, Skid Row, Cinderella, Motley Crue, Gorky park. Мы пропустили шоу Уотерса на обломках Берлинской стены, в котором приняли участие «Пинк флойд», Брайн Адамс, Синди Лаупер, Шинед О’Коннор, “Scorpions”, Берлинский филармонический оркестр, Хор берлинского радио, и даже Военный оркестр Советской Армии. Посмотрели мы это супер-шоу ночью по телевизору.
Но уж после победы над ГКЧП в 1991-м не попасть на «Монстров рока» мы не посмели.
Приехали мы в Тушино после полудня во время «разогрева» публики малоизвестными тогда группами «Pantera» и «The Black Crowes». Толпа народа численностью около миллиона человек почти до краев заполнила летное поле и напоминала бурлящее море, разбитое на сектора цепями милиции и солдат в касках. От нас до сцены было метров триста, но перед нами стояли две стены метров десять высотой: одна телевизионная, показывающая солистов крупным планом, вторая — из черных динамиков. Сила звука была такой, что даже бывалые любители рок-музыки иногда закрывали уши, а некоторые девушки даже падали в обморок. Разгорячилась не только молодежь, но и охрана. Тут и там вспыхивали драки, мелькали резиновые дубинки, выезжали на поле милицейские машины и даже БТР, над нашими головами барражировали вертолеты.
У нас «на галёрке», нравы были посвободней. Милиции поблизости не было, поэтому жгли костры, танцевали, пили водку, обнажали торсы и махали майками, как солисты на сцене. В основном, ребята вокруг нас вели себя хоть шумно и энергично, хоть и были мокрыми от пота, но держали себя в рамках. А вот чуть дальше, метрах в пятидесяти, обосновались полные уроды. Они ревели матом, корчили страшные рожи, бросали бутылки и горящие поленья из костра вперед, где плотной массой качались волны из голов. Среди нас появлялись раненные с окровавленными головами, их уводили под руки — кого к машинам «скорой помощи», кого домой.
После столь профессионального «разогрева», казалось, нас уже ничем не удивить. Но, как на сцену выбежала четверка «Метаllica», как с первыми громовыми аккордами на сцене взорвался фейерверк — это всех ошеломило. От взрыва я почувствовал удар звуковой волны по голове и груди, уши заложило. Впрочем, гитары Джеймса Хэтфилда и Кирка Хэммета ревели ненамного слабей взрыва на сцене. Скорей, все дальнейшее выступление можно было бы сравнить с одним затяжным взрывом. После первой контузии с большим трудом узнал, что же такое поют волосатые парни в черном — это оказалась знаменитая песня.
«Enter Sandman» «Песочный человек»
Say your prayers little one Ты молись, сынок, молись
Don't forget, my son За людей всей земли,
To include everyone Только не молчи, малыш,
Tuck you in, warm within Грех по ветру развей,
Keep you free from sin Вот уже стучится в дверь
Till the sandman he comes Твой песочный человек.
Sleep with one eye open Спи в полглаза, милый,
Gripping your pillow tight Тихо в подушку рыдай.
Exit light Свет, прощай,
Enter night Здравствуй, ночь.
Take my hand Руку дай,
Off to never never land Мы с тобой уходим прочь.
Когда вышли на сцену «AC/DC», над полем сгустилась ночная тьма. Тем ярче светилась сцена, тем эффектнее взрывались фейерверком десяток пушек. Сила звука, казалось, достигла предела выносливости. Когда Ангус Янг в школьном костюме с шортами небрежно перебирал пальцами по грифу, все подняли головы к небу, ожидая увидеть грозу, но гром этот грянул из стены динамиков. Вокал Брайана Джонсона в черной кепке напомнил мне звучание «Назарета» — вибрирующий хриплый визг на высоких нотах. Как не лучше к этому оглушающему артобстрелу подходила и первая песенка:
«Thunderstruck» «Громом пораженный»
Thunder, thunder, thunder, Гром! Гром!
I was caught Я попался в ловушку
in the middle of a railroad track Посреди железнодорожных путей.
I looked round Я оглянулся
and I knew there was no turning back и понял, что назад дороги нет.
my mind raced and I thought what could I do Я лихорадочно думал, что делать
and I knew И я знал,
there was no help, no help from you! Что от тебя помощи ждать бесполезно!
… Закончился концерт около десяти вечера. Мы с Олегом вместе с горячей толпой выходили с летного поля по коридору, ограниченному рядами конной милиции. Рядом подпрыгивал парень лет четырнадцати в одних шортах и босиком. Он кричал нам, что приехал из Питера, своих давно потерял и остался без обратных билетов и денег. А вообще-то их сюда приехало немало — в два поезда едва поместились. Куда идти, он пока не знает, но попробует найти друзей. Причем, казалось, что эти мелочи его только забавляют. Олег протянул беззаботному мальчугану какие-то деньги и свою рубашку, оставшись в куртке на голое тело. Мальчуган небрежно принял подарок и без долгих прощаний растворился в толпе. Оказалось, станцию метро «Тушинская» закрыли, мы поблуждали по ночному городу, взяли такси и разъехались по домам. Дня три я плохо слышал, голос хрипел, болело все тело, но впечатления от концерта еще несколько месяцев будоражили сознание. Все же это был шок.
Взаимное воспитание
Если женщины думают, что мужчина в счастливом браке будет вести себя, как пай-мальчик, смею заверить, они сильно ошибаются. Должно пройти немало времени, прежде чем бывший холостяк сменит свои старые, многолетние привычки на свежие, семейные. Никто и ничто не могло воспрепятствовать нашим встречам с Олегом, которые чаще всего случались в дни получки. Обычно это происходило «на нейтральной территории»: в теплое время года на природе, а в холода — в общежитии холостяков. И хорошо, если мы укладывались в один вечер, а то ведь случалось, что вечера не хватало, и мы от двух до четырех вечеров проводили вместе.
Жена моего друга иногда теряла терпение и выражала сдержанное негодование. Несколько дней молчала, выслушивая заунывные объяснения мужа и «прости, дорогая, я больше так не буду». Потом оттаивала, и в дом возвращался мир. Потом наступал день получки, и всё повторялось. Поэтому Алла нащупала более действенный метод, свидетелем которого пришлось стать как-то и мне.
К вечеру второго дня наших с Олегом посиделок я вызвался проводить сильно уставшего друга до дому в Медведках. После длинного звонка дверь открыла невозмутимая Алла, вежливо поздоровалась со мной, визуально определила степень вменяемости супруга, молча выставила на лестничную площадку чемодан Олега и тихо закрыла входную дверь. В народе этот приём называется «выставить мужа за дверь». Мы с другом минут пять туповато пялились на оранжевый предмет багажа, потом Олег глубоко вздохнул, поднял его и понес к лифту. Заночевал он у меня.
Утром Олег напомнил о наступлении выходных, и предложил съездить за грибами. На Курском вокзале сели в первую же уходящую электричку. Молча смотрели по сторонам. Промелькнули бетонные башни окраины, поплыли дачные поселки, пятиэтажки пригородов, дорожные развязки, перелески, поля… Вдруг Олег показал на сосны за окном и предложил выйти здесь. Сошли мы на незнакомой платформе, спустились по лестнице и сразу вошли в прохладу леса. Узкая асфальтовая дорожка через полчаса привела нас к распахнутым воротам санатория. Вошли внутрь и огляделись. Фасад главного корпуса был обставлен строительными лесами, под забором стояли поддоны с красным кирпичом, растворомешалка, высились горы песка и штабеля мешков с цементом. Из будки вынырнул огромный дог и, позванивая цепью, с ворчанием подошел к нам. Заглянул в наши помятые лица, понюхал воздух, зашел сзади и деловито хватанул за филейную часть сначала Олега, а потом и меня. Мы запоздало вскрикнули и побежали ко входу в корпус. Там нас встретил заспанный сторож и поинтересовался:
— Укусил?
— Ага! Обоих, — пожаловались мы, потирая больные места. Двойной слой толстой джинсовой материи не позволил собачим клыкам достать до мяса. Но, судя по боли, синяки все равно останутся.
— Молодец! — зевая, констатировал сторож. — Не зря суп мясной животное хлебает. Да вы проходите. Мы сейчас завтрак сообразим. — Оглянулся на пса и гаркнул: — Терминатор, место!
В главном корпусе среди строительного беспорядка сторожка выглядела оазисом уюта и покоя. Три застланные кровати, круглый старинный стол под скатертью, шифоньер, полки с книгами, шторы на окнах. А самое главное — устоявшийся запах мясного супа, предназначенного как для сторожа, так и для собаки. У нас заурчало в желудках. Мы не завтракали. Старик поставил чайник, нарезал хлеб, достал из холодильника колбасу, сыр и ставриду холодного копчения. Мы помыли руки и сели за стол. Старик сначала предложил оплатить угощение, и только, получив запрошенную сумму, принялся резать продукты и наливать в тарелки суп.
Мы позавтракали, получили приглашение «заглядывать на огонек» и продолжили путь. Грибов в лесу не оказалось. Мы вышли в поле и побрели вдоль ручья. На нашем пути попадались деревеньки с покосившимися избами. За черными заборами ковырялись в земле старушки. Они приветствовали нас, звали в гости, просили привезти из города сахарку и жить сколько вздумается. Ну, а если колбаски или сыру — то хоть навечно поселяйся.
Зашли в смешанный лес, там побродили, но бесполезно — благородных грибов не было, только вялые сыроежки и сочные мухоморы. В лесу Олег рассказал, что причиной знакомства с Аллой стал… международный шпионский скандал. Дело в том, что, работая в американском посольстве, Алла понравилась одному морскому пехотинцу, который состоял в охране. Жизнь у этих бравых ребят была незавидная: они почти не выходили за пределы посольства. Исключение составляла получасовая утренняя пробежка. Парень тот, ежедневно встречал стройную красавицу Аллу в белоснежном переднике с опущенными дивными глазами и вспоминал рассказы русской бабушки о необычайной красоте, кротости и верности русских женщин. Как говорится, бабушки плохому не научат… Влюбился морпех в Аллочку насмерть, предлагал ей руку и сердце, любовь до гроба и огромный дом в штате Виржиния. Когда об их отношениях доложили «кому следует», Аллу вызвал начальник и вместо разноса предложил ей принять предложения американского Ромео со всеми вытекающими брачными последствиями. Нашей разведке нужны были свои люди во вражеской среде.
Алла пообещала подумать, а сама стала молить Бога, чтобы Он устроил так, чтобы и работы не потерять, и шпионкой не стать. К тому же Алла имела несчастье любить свою страну, родителей, брата с сестрой, и не представляла себе жизни без них, в далекой чужой стране. Ее молитвы были услышаны. Это она поняла, когда через две недели после разговора с полковником разведки, всех советских сотрудников американского посольства собрали на Пречистенке в здании УпДК. Им объявили о том, что правительство СССР выслало из страны американских работников советского посольства в США за гнусный шпионаж, на что американское правительство вероломно ответило отказом от советских сотрудников в их осином гнезде — американском посольстве, где наши герои осуществляли свою разведывательную деятельность на благо мира. Так прервался роман морпеха с девушкой Аллой, которая с радостью ответила на ухаживания нашего, родного, русского парня. «Пойду сейчас, на прощанье товарища Пашкина убью», — закончил рассказчик, цитатой из любимого романа А.Платонова «Котлован». Слушая рассказ Олега, я чувствовал, то его уколы ревности, то восторг перед Аллой, то чувство превосходства над американцем.
Вышли из лесной тени в поле, а тут солнце поднялось в зенит, и наступила настоящая теплынь. Мы набрели на пруд, искупались. Прилегли позагорать на травку. Разбудили нас коровы, которые пришли сюда на водопой. Пришлось уступить место жаждущим и продолжить путь.
Пошли наугад и скоро вышли к кладбищу. На противоположной его окраине стояла небольшая кирпичная церковка. Мы толкнули дверь, она подалась, и мы вошли внутрь. Храм был пуст. Мы осмелели и подошли к самому иконостасу. Олег порывисто встал на колени и начал класть земные поклоны. Я стоял рядом и в упор разглядывал лик Иисуса Христа прямо перед собой. «Господи, помилуй!» — повторял я снова и снова. Ничего более в голову не приходило. Но и после такой туповатой молитвы на душе полегчало. Перед выходом из церкви я оглянулся, встретился взглядом со Спасителем и мысленно произнес: «Помоги мне найти Тебя! Пожалуйста…»
За кладбищем, через перелесок мы обнаружили шоссе. Олег поднял руку. Несколько машин пронеслись мимо, зато следующие две притормозили одна за другой. Олег выбрал «Мерседес», и мы с ветерком понеслись в город. Вышли на Покровке и спустились в подвал.
Здесь некогда располагалась студия художников. В последнее время — иконописная мастерская. Впрочем, толкались тут люди разные. Олег, например, дружил с реставратором храмов, по имени Вольф — бородатым немцем, фанатиком своего дела. Олег уже пару раз выезжал с ним на раскопки фундаментов разрушенных церквей. Они там копали, рисовали эскизы, разыскивали в архивах документацию, имеющую отношение к церквям. Олег привозил из таких командировок старинные иконы, складни, церковную утварь.
Кроме того сюда съезжались православные мужики, обменивались новостями, обсуждали прочитанные писания святых отцов, богословствовали, несколько выпивали. С некоторых пор у меня появилась собственная градация братьев по вере: монахи, мученики, воины, фарисеи, хулиганы и блудные сыны. Сам я себя причислял то к одной группе товарищей, то к другой, тяготея в основном к последнему варианту.
В тот злополучный день мне пришлось общаться с явно выраженным хулиганом по имени Никита. Тело и голос его обладали нетипичной для столичного интеллигента мощью. Познакомились мы раньше, но разговорились впервые. Вольф с Олегом уже сели на УАЗик и срочно выехали «в натуру». Все остальные бородачи потихоньку разошлись, а мы с Никитой всё обсуждали письма игумена Никона Воробьева и его теорию о невозможности жить в современном мире по писаниям древних святых отцов. Вышли последними, тщательно захлопнув разбитую дверь времен Гиляровского. Двигаясь строевым шагом, мой собеседник развил такую непростую тему, что её хватило на три улицы, которые мы последовательно прошли, никак не в силах расстаться. Наконец, он остановился как вкопанный, указал могучей десницей на странное здание, видимо культового назначения, и прогремел раскатистым басом:
— И что ты скажешь по этому поводу?
— Одно скажу: это не храм Божий, — сказал я, убедившись в отсутствии креста. — Это что-то диаметрально противоположное.
— …И будешь прав! — рявкнул собеседник, испугав одинокого прохожего. — Это гнездо сатаны в сердце Третьего Рима!
Перепуганный гражданин, несколько раз оглянувшись на нас, засеменил прочь и свернул за угол дома. Никита что-то гремел насчет «слащавой политкорректности» и невозможности нахождения в центре святого града какого-то языческого капища. А в это время из-за угла дома, где скрылся пугливый дядечка, бесшумно выехала патрульная машина и остановилась точно рядом с нами. Последовала традиционная проверка документов и приглашение проехать в отделение. Там нас с Никитой разъединили и развели по разным кабинетам.
Как только дверь за моей спиной закрылась, я почувствовал удар сзади по затылку и отключился. Через какое-то время очнулся в камере. Судя по черноте, зияющей в окне, стояла ночь. Тело болело с головы до пят. Во рту ощутил распухший язык и железистый привкус крови. Опираясь на стену, встал на ватные ноги, голова кружилась, тошнота волнами подкатывала к горлу. Постучал кулаком в окошко в двери. Снаружи приглушенно зазвенели ключи, дверь открылась. В камеру вошли двое румяных мужиков в расстегнутых на груди кителях.
— Очнулся? Готов к продолжению?
— Только один вопрос, — прохрипел я. — За что?
— За оскорбление чести и достоинства мирных граждан.
— Что-то не припомню, чтобы мы кого-то оскорбляли.
— Ничего. Ты у нас сейчас всё вспомнишь. Даже то, чего не было.
И снова на меня посыпались бессистемные удары резиновой дубиной по всему телу. Последнее, что промелькнуло в голове перед потерей сознания — это злобный взгляд испуганного прохожего и мой собственный крик палачам: «Псы продажные!»
Наутро после «задержания» нас отпустили. Разумеется, никакого дела на нас не завели. Просто избили и всё. Как только мы свернули за угол, Никита несколько минут «выпускал пар», замысловато ругаясь.
— Давай поговорим, как братья во Христе, — сказал я, дождавшись паузы. — Ты вообще-то в Бога веришь?
— А ты сомневаешься? — буркнул тот.
— Если эти продажные костоломы из нас не сумели вышибить веру, то вывод мы обязаны сделать в соответствии со святоотеческим учением. Итак, почему Господь попустил это наше избиение?
— Ну?..
— «Всякому падению предшествует приступ гордости». Так?
— Вроде, — почесал Никита шишку на затылке. Кстати, лица наши почти не пострадали. Всё тело покрывали синяки, но на лицах — ничего. Профессионалы!..
— Значит, виноваты не оскорбленный в своих духовных заблуждениях человечек и не нанятые им продажные псы демократии, а мы и только мы! Нечего было поносить чужую святыню. Пусть эти люди в заблуждении, пусть мы сто раз правы. Но осуждать никого мы не имеем право. Вот какой вывод я предлагаю сделать.
— Вывод правильный! — загремел он снова, искоса зыркнув на меня. — Только я буду не я, если этих христопродавцев не накажу.
— …Чтобы снова получить урок смирения? Только в следующий раз посерьезней?
— Пусть. Готов ответить по всей строгости закона. Любую епитимию понесу. Но только эти вчерашние деревенские пацаны должны узнать, что не всё в нашей стране можно купить за деньги. Я их еще в храм на покаяние приволоку! Они у меня вспомнят, как бабушка их вере отцов учила. Они у меня всё вспомнят! «Даже то, чего не было»… Я их так тряхну, что у них вся генетическая память мигом всплывет из глубин подсознания.
— А я, брат, доволен, что получил этот урок. Честно! И за мужичка того испуганного, и за этих «вчерашних деревенских пацанов» всю жизнь молиться буду. У меня теперь на всю жизнь отпадет желание осуждать и вешать ярлыки на нос. А отмщение и суд целиком отдам Господу Богу. «Мне отмщение и Аз воздам!»
— Каждому своё.
— А знаешь, что эта надпись висела над входом в Бухенвальд?
— А еще знаю, что это принцип справедливости римского права, высказанный Цицероном.
— Рим со своим правом и справедливостью пал. А нам еще стоять до Второго пришествия. А выстоять мы можем только с Божией помощью. А Господь помогает смиренным, а гордых наказывает.
Дальше мы пошли молча, размышляя каждый о своём. До самого метро. А потом разошлись каждый в свою сторону.
Зависть и свобода
Иисуса Христа предали из зависти — даже солдафон Понтий Пилат это понял. С тех пор, как мы с Олегом стали «кооператорами», нам нередко приходилось испытывать на себе действие этой убийственной страсти.
Дело в том, что дела нашего бизнеса шли не так уж и плохо. Во-первых, Олега нашел его давний друг, полковник спецслужб Михаил Иванович, которому он однажды помогал проникнуть в воровскую среду Нижнего. Полковника отправили на пенсию, и он стал консультантом по безопасности, то есть, иными словами, предоставлял предпринимателям «крышу». В те времена в офисы новых частных предприятий обязательно приходил бритоголовый качёк в кожаной куртке и предлагал свои услуги по охране за 30% от получаемой прибыли. Отказаться от таких услуг находили смелость далеко не все. Приходил один такой и к нам. Он дал на рассмотрение своего предложения три дня и напоследок предупредил, что отказа не примет.
Вот тут и появился Михаил Иванович. Он сам встретился с братвой на уровне вора в законе. Там сказал, что мы с Олегом находимся под его защитой, и если что с нами случится, он «эту дешевую бандитскую шайку лично завалит». С сотрудниками КГБ, даже если они в отставке, бандиты не связывались. Так мы обрели весьма солидное покровительство. К тому же полковник зарабатывал неплохие деньги и размещал прибыль, как положено по науке — в «разных корзинах». Разузнав о нашем бизнесе, он предложил нам свои деньги в качестве оборотных средств.
К тому времени в нашей фирме уже работали две бригады строителей, шустрый торговый посредник со связями, но самую большую надежду мы возлагали на компьютеры: чувствовали, что за ними будущее. Михаил Иванович предоставил нам своего сына Ивана, и тот закупал компьютеры заграницей и возил их на наш склад. Мы их довольно успешно продавали, как частным лицам, так и предприятиям. Часто новенькие «машины», как их называл Иван, стояли без дела на столах начальства: учиться работать на них не хватало ума и времени, зато наличие «современной техники» придавало имиджу владельца высокий статус.
Как-то мы продали моему знакомому главному инженеру московского УПП три компьютера. Видимо, он созвонился с моим подмосковным директором и похвастался, что и ему новое перестроечное веяние не чуждо. Вызвал меня мой директор, долго спрашивал о работе. Убедившись, что поручения выполняются, он стал интересоваться моим компьютерным бизнесом. Я рассказал ему вкратце о схеме поставки «машин», рекламе и сбыте. Директор внимательно слушал, кивая головой. А потом… Потом он, вперив в мою переносицу тяжелый начальственный взор, спросил:
— Так сколько же ты зарабатываешь?
— В прошлый месяц получилось пятнадцать тысяч рублей, — сказал я честно.
— Сколько? — Вскочил директор из-за стола и забегал по кабинету. — А ты знаешь, сколько я зарабатываю? Полторы тысячи! А он, мальчишка, пятнадцать тысяч!
После этого разговора на следующий день я закончил свои дела по УПП и с обеда уехал на заключение договора о поставке компьютеров с одной солидной фирмой. На подобные мероприятия положено было являться лично директору в дорогом французском костюме на черном «мерседесе» и в сопровождении телохранителя. Что я и сделал.
На следующий день утром вызывает меня к себе начальник отдела кадров УПП и требует написать отчет о работе, сделанной в послеобеденное время. Как честный человек, я описал всё, чем занимался, с припиской «в связи с устной договоренностью с директором УПП о моем свободном графике работы». Через полчаса вызвал меня к себе директор, швырнул на стол мой отчет и спросил:
— Что это?
— Правда, — ответил я, ожидая неприятности, — и ничего, кроме правды.
— Сколько тебе нужно дней для передачи своих дел и увольнения?
— Думаю, дня хватит, — со вздохом ответил я
— Тогда передавай дела заместителю и увольняйся.
— Слушаюсь.
Вместе со мной с предприятия уволился и Олег. Теперь у нас стало больше времени заниматься бизнесом и личными делами. Олег на купленном участке земли под Бронницами строил дом и поселковый храм-часовню. Я иногда помогал ему, иногда читал церковную литературу, ездил в паломнические поездки по святым местам.
И всё вроде бы у нас было неплохо, только не чувствовал я удовлетворения от моей жизни. Моя вера жила в мозгу и спускаться в сердце не спешила. И это меня тяготило.
Вместе с тем, не раз приходилось убеждаться мне в том, что Бог хранит меня. Например, однажды довелось мне ехать на электричке после дня рождения поздно ночью. Несколько ночей перед этим я почти не спал, поэтому в теплом вагоне меня разморило, и я уснул. Одет тогда я был неплохо в одежду из европейского магазина, через плечо носил солидную кожаную сумку, титановые часы за запястье отливали благородным темным мерцанием.
…Очнулся я от сильной встряски вагона, оглянулся — вокруг никого, за окном мрак. Сумки, часов — нет, из денег — одна мелочь. Обчистили!.. Сколько не всматривался в окно, как не пытался определить, куда меня занесло, так и не понял. Открыл дверь, вышел в железнодорожном тупике на незнакомой станции без огней, огляделся. Кругом никого. Страх и холод пробирали меня до костей. Я спустился с платформы и зашагал в черную ночь. Спотыкаясь в темноте и чавкая грязью, прошел через болотистый перелесок, спереди блеснул фонарь. Я пошел на свет.
Зашел в неказистое здание железнодорожной станции. Там кутили странные люди в рабочей одежде. Они сдвинули все лавки, на одной из них расставили бутылки с колбасой и хлебом и, видимо, в ожидании ближайшего поезда, «культурно проводили досуг». Это были строители одного из подмосковных управлений, которые возвращались с получки домой. Я к ним подсел, рассказал, что ехал со дня рождения, меня обворовали, для достоверности вывернул карманы и попросил у них «политического убежища». Они уважительно выслушали и мне его предоставили. Более того, купили билет и предложили «согреться, чем Бог послал».
Уже рассвело, когда, наконец, подошла электричка. Меня не только посадили в вагон, но в сопровождающие дали молодого паренька и строго наказали ему доставить меня до самого дома в целости и сохранности. А через день этот мальчик привез мне мои сумку и часы. Оказывается, строители сами вычислили воришек и нагрянули к ним на дом. Там они мои вещи и нашли. Я отблагодарил этих добрых людей. Но, заглянув в сумку, я понял причину её возвращения к хозяину — там в одном из карманов лежала иконка Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость».
Моя любимая
Сегодня я снова ходил на встречу с тобой. Там, на многолюдных улицах, ты улыбалась мне счастливой улыбкой, смеялась так звонко и беззаботно. Мое бедное сердце сжималось от сладкой боли, которая разливалась по всему телу, по всей душе.
Знаешь, любимая, ты не должна бояться меня обидеть или оскорбить. Говори мне все, что хочешь; все, что придет на ум. Я не обижусь. Ты не сможешь меня опечалить. То, что исходит от тебя, всегда будет нравиться мне, независимо от смысла и содержания. Ты научила меня великому искусству: слышать молчание между твоих слов, читать между строк твои письма и видеть сердцем невидимое глазом. Самое главное, что ты мне даешь, нельзя ощутить телесными органами чувств. О, это настолько тонко, что и душа иной раз беспомощно умолкает. Быть может, только дух, мой таинственный сокровенный помощник, способен в полной мере оценить это и помогает мне правильно относиться к тебе. Мне кажется, что моё чувство к тебе пронизано этим сияющим духом любви.
Поэтому, будь со мной такой, какая ты есть на самом деле — светлой, доброй, веселой и… беззаботной. Ты не бойся, если нужно, я возьму на себя все твои скорби, всю боль, которую тебе дано понести в этой жизни. Я всегда буду твоим щитом и мечом. А ты… любимая, ты просто живи как хочешь, дыши полной грудью, смотри прямо вперед и говори, и молчи, и смейся и плачь, если нужно. Я разделю твою радость и вытру твои слезы.
Тебе не стоит заботиться о своей внешности. Я знаю, для женщины это так важно. Но мне все равно, как ты выглядишь сегодня. Мне известно, как ты умеешь со вкусом подбирать себе одежду. И, конечно, иной раз ты выглядишь так, что дух захватывает. Но, поверь, и в поношенном халате, и в телогрейке, и в старом пальто ты не меньше дорога мне, чем в роскошном вечернем платье. Знаешь, пожалуй, будь усталой, раздражительной, злой даже… Я пойму и не отвернусь. У женщин гораздо больше, чем у мужчин для этого поводов, вполне простительных, учитывая женскую хрупкость и столь приятную слабость.
Пусть на твоей губе выскочит герпес, пусть прыщи покроют твой лоб или щеки, пусть тушь с ресниц потечет или размажется помада — неважно! Ты и в таком виде будешь мне бесконечно мила и дорога. Может, даже больше, чем в сверкании праздничной красоты. Я готов платком вытирать подтеки туши на твоем лице, мазки помады; лечить мазью герпес на твоей губе и протирать тоником прыщи. Лишь бы ты стояла рядом, и сквозь одежду, кожу, кости и мышцы я чувствовал, как бьется твое сердце, лишь бы изредка наши глаза встречались, а твое дыханье долетало до моей щеки. И не надо тревожиться о свежести дыхания или запахов тела. Все твои запахи я приму и буду вдыхать с удовольствием, как тончайший аромат, потому что это твоё, потому что от тебя.
И не стоит тебе, как всем, бояться старости! Наша любовь с годами, как вино, будет становиться только крепче и слаще. Не волнуйся за свою фигуру. Полнота придется тебе к лицу. Округлость тела добавит тебе женственности. Ты не растолстеешь — нет! — раздобреешь, то есть станешь добрей и мягче. Пусть седина тронет твои волосы — они станут от этого лучше и засияют той немыслимой красотой, в которой блеснет благородное серебро или роскошная платина. Не скрывай морщин — позволь им непрестанно дорисовывать твой портрет тончайшими мазками, доводя его до мудрого совершенства гениального шедевра.
Ты не должна бояться рожать детей. Пусть от беременности опухнет лицо и отекут ноги. Ты не станешь для меня менее красивой, наоборот. Я буду терпеливо переносить твои капризы и перепады настроения. Мы купим тебе красивое просторное платье и мягкую обувь. Тебе будут уступать место в транспорте и в очередях. Ты увидишь, с каким уважением к тебе станут относиться все, даже бывшие недоброжелатели, потому что рожать — это святое. А когда у нас появится ребенок, я обещаю, что по ночам я буду вставать, когда он заплачет. Сам сменю пеленки, дам соску и успокою колыбельной. Я вас с дитём окружу заботой и любовью. Ты у меня станешь самой счастливой мамой с самым желанным ребенком на руках.
Обещаю всегда любить твоих родителей и всех твоих родственников. Ведь они вырастили тебя и с младенчества окружили своей любовью. Я даже не стану ревновать тебя к твоим бывшим возлюбленным. Ты сможешь рассказать мне всё, что вы пережили и почему расстались. Мы-то с тобой никогда не расстанемся. …Впрочем, если случится такое, и ты полюбишь другого, я не буду стоять на вашем пути. Только знай, любимая, у меня никогда не будет другой женщины, кроме тебя. Если ты оставишь меня, я молча уйду и до последнего дыхания буду ждать твоего возвращения. А когда ты вернешься, ты не услышишь от меня ни слова упрека. Я просто протяну к тебе руки и скажу: «Здравствуй, любимая! Я так соскучился по тебе!» А ты… просто на своём опыте поймешь, что никто и никогда не сможет любить тебя так, как я.
Знаешь, любимая, мы всё выдержим и переживем. Нет ничего, что могло бы умалить и разрушить это великое и святое, чистое и освежающее, нежное и могучее, застенчивое и гремящее на всю вселенную — нашу любовь.
…Любимая, где же ты?
…Почему до сих пор я не встретил тебя?
Восхождение на крест
Случилось это в одно из паломничеств, которые я иногда затевал, пытаясь узнать о вере как можно больше. Нас там было не так уж и мало. Моя довольно унылая потрепанная личина вряд ли чем-то выделяла меня из толпы сограждан. Но тощий монах, проходя мимо, вдруг остановился, поклонился мне и, взяв за руку, сказал:
— Пойдем со мной, брат.
Этот неожиданный поклон, обращение «брат», ветхий его подрясник — всё это мне так легло на душу, что не задумываясь пошел за ним следом. Мы спустились по крутой лестнице в подклеть храма и сели за пустой пыльный стол. Я смущенно впервые поднял на него глаза. Монах смотрел на меня кротко, с едва заметной улыбкой. Из-под шапочки выбивались небрежно спутанные волосы и, стянутые на затылке черным шнурком, стекали за шиворот на спину; открытая взору половина лба удивляла чистотой и высотой, борода небрежно путалась и низ её лежал на сложенных на столе жилистых руках…
Но глаза!.. Как это они могли совместить мудрость старца и безыскусную ясность младенца? Но взгляд!.. Вы когда-нибудь видели, как из глаз струится свет? …Вы когда-нибудь чувствовали, как этот невидимый свет окутывает и увлекает вас куда-то ввысь, в неведомые миры, где так хорошо, как на земле не бывает даже в мечтах?
Мне захотелось рассказать отцу Марку всю свою жизнь, о несчастьях и мечтах, о поисках истины и тупиках, о поиске живого личного Бога, обо всём… Но что-то мне подсказывало бессмысленность этого движения души. Так на тебя смотрит человек, который знает о тебе гораздо больше, чем ты сам. Это мне нужно слушать его, жадно и ненасытно.
— Хочешь исповедаться? — спросил монах.
— Я не знаю как, — прошептал я.
— Вставай.
Он встал в углу рядом с аналоем, надел ленту епитрахили, поручни и стал читать молитвы. Меня подхватило плавное течение и понесло вдаль, туда, откуда веяло светом и теплом. Я стоял на коленях, на моей голове, покрытой епитрахилью, лежала его рука, от подрясника пахло землей и цветами. Он спрашивал меня о грехах, я отвечал «грешен» или «нет». Наконец, он прочел разрешительную молитву, поднял меня и попросил приложиться к Кресту и Евангелию. Я коснулся их губами, распрямился и почувствовал себя легким и радостным. Монах взглянул на меня, улыбнулся и кивнул:
— Полегчало?
— Да, спасибо, — ответил я смущенно.
— А хочешь узнать, что значит быть христианином?
— Да, — сказал я нерешительно.
— Ты не бойся, Юра, неволить тебя никто не вправе. Обещаю, если ты не примешь это, то уйдешь отсюда, как будто ничего и не было.
— Я согласен!
— Хорошо.
Отец Марк зажег свечи. Затеплил лампаду. Стал на колени перед иконостасом. Я тоже опустился на колени рядом, чуть сзади. Сначала ощутил жесткость каменного пола, потом расслабился, боль утихла, и я превратился в слух. Монах так уютно молился, так естественно и просто, будто жил этим всю жизнь. Прозвучали слова: «Покажи сему рабу Твоему милость Твою неизреченную и снизойди Духом своим Святым». Я прошептал: «Господи, помилуй».
Монах встал, поднял меня с колен. Открыл ящик стола, взял оттуда тетрадь, погладил её рукой и протянул мне: «Возьми, Юра, пойди в комнату и почитай с того места, где закладка. Это мой афонский дневник». Я взял тетрадь и удалился в пустую комнату. Еще не открыл её, а на меня накатило сначала волнение, потом страх, а потом я услышал монотонную молитву за перегородкой и всё стихло. Наконец, открыл тетрадь и прочёл:
«Отец Даниил зажег свечи. Затеплил лампаду. Стал на колени перед иконостасом. Я тоже опустился на колени рядом, чуть сзади. Сначала ощутил жесткость каменного пола, потом расслабился, боль утихла, и я превратился в слух. Монах так уютно молился, так естественно и просто, будто жил этим всю жизнь. Прозвучали слова: «Покажи сему рабу Твоему милость Твою неизреченную и снизойди Духом своим Святым». Я прошептал: «Господи, помилуй».
Меня осенило что-то очень приятное, светлое и теплое. Порывом ветерка долетел до меня тонкий цветочный аромат. Наконец, меня подхватило плавное течение и понесло по восходящему потоку вдаль. Где-то сзади-снизу осталась земля, потом и облака, потом меня окутали звезды и черный космос, потом и это улетело прочь. Меня вынесло на огромное облако. Я влетел внутрь и понесся сквозь море огня. Меня обожгло, потом будто от тела отслоилась окалина и слетела прочь. Потом еще и еще. Я стал легким и прозрачным, как привидение.
Наконец, я оказался в черном мраке перед невидимой стеной в абсолютной тишине. Откуда-то издалека доносились молитвы, я повторял их и словно посылал туда, за невидимую преграду. Но и это закончилось. Я стоял один в темноте и молчал, ожидая чего-то очень важного. Вдруг пространство вокруг меня наполнилось раскатами грома и прогремел Голос: «Благословляю!» … И я рухнул в пропасть. Летел вниз так стремительно и беззвучно, что мне бы испугаться, но нет, страха не было. Скорей, детское любопытство, доверчивое и открытое всему доброму и новому… И вот я остановился.
Будто упал занавес, и распахнулась бесконечность: пространство здесь оказалось настолько безграничным, насколько способен принять разум. Надо мной сияли небеса. Оттуда лился яркий свет, доносились приятные звуки. Там пели гимны, славили Бога, заливались на разные голоса птицы. Я всматривался в эту блаженную высоту, мне открывались все новые и новые слои света. Люди там сияли отраженным светом, льющимся от единого источника — Бога. Там всё — лица святых, их руки, их песни — устремлялись к центру всего и вся — к Богу.
Между тем, каким-то другим, параллельным зрением, видел я самые роскошные земные места. Наверное те, которые у людей ассоциируются с понятием «рай». Я бродил среди богато разодетой толпы по набережным Ниццы, Канн, Рио. Ехал в кабриолете по спидвею вдоль океанской волны в Голливуде, Сан-Франциско, Майами. Летел на вертолете над Карибскими и Канарскими островами. О, какими ничтожными и серенькими показались мне эти земные красоты по сравнению с совершенной ликующей красотой Царства Небесного! А уж занятия земных людей и их мысли вовсе почернели в сравнении с чистым светом, исходящим от жителей небесного рая.
В тот миг я понял, ради чего монахи уходят из мира в затвор нищих келий. Они жертвуют ничтожным и тающим миражом земного счастья ради вечного блаженства в этих несказанно прекрасных Небесных красотах. Уж насколько красноречив был апостол Павел, но и он не сумел описать в своих посланиях третье небо Царства Божиего, которое ему показал Спаситель: «…был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор 12, 4). Ради этого с улыбками и радостными песнями шли на лютые страдания христианские мученики. Ради этого годами и десятилетиями терпят издевательства и лишения верующие миряне.
Небеса пронизывали звуки хвалебных песен. Я не разжимал рта, но и меня наполнили эти славословия, и я всем существом пел эти радостные песни моему Богу. Как-то в детстве прочел в книге Марка Твена, как Гекльберри Финн с Томом Сойером говорили о занятиях людей в раю, будто они там только и делают, что расхаживают с арфами и поют псалмы — какая, мол, это скука. Несчастные люди, которые так думают! Вот чего нет в раю, так это скуки! Радость, свет, блаженство, любовь — в избытке, и это не может быть скучным.»
…Это был один из тех чудных дней, когда радость пронизывает тебя насквозь, а воздух наполняется вибрирующим светом, в котором иногда слышится тихая музыка, зовущая вдаль.
Так случается в детстве, когда просыпаешься в первый день летних каникул. И вдруг понимаешь: сегодня вовсе не нужно идти в душную школу. Ты улыбаешься солнцу за окном и думаешь: идти с другом на ближний пляж, но дикий и неухоженный, — или на дальний, но чистый, с музыкой и вышкой для прыжков в воду. А можно еще собраться на рыбалку в затон и наловить ведро карасей. Или, скажем, убежать в парк — полетать на качелях до белых облаков. Или пригласить в кино самую красивую, таинственную девочку, от одного взгляда которой сердце проваливается в глубокую синеву неба, а тебе хочется только одного: бесконечно долго смотреть на неё и любоваться каждым движением тонких пальчиков, каждым взмахом пушистых ресниц. …Или вот еще, можно взять из холодильника стакан с клубникой, посыпанной сахарным песком, расстелить на балконе одеяло и полежать с интересной книгой, подставив солнцу спину. Но детство ушло, и такое сейчас приходит ой как редко, почти никогда, потому и ценится особенно.
Это был день, когда вчерашние беды растаяли в прошлом, а сегодня ты чувствуешь себя необычайно легко. И тебе кажется, что будущее — это одно только счастье.
Это был день, когда со мной произошло самое большое открытие в моей жизни: смерти нет, а жизнь бесконечна! Открылось это не путём сложных размышлений, но каким-то дивным озарением: я увидел вечность, и она меня поразила невиданной красотой. Я обнаружил там всё, о чем мечтает каждый человек, о чем вдохновенно пишут поэты, чего желают друг другу в день праздника, о чем поют в самых задушевных песнях, о чем шепчут ночью далекие огромные звезды. И этого «всё» там бесконечно много. И это «всё» так прекрасно, как не бывает в нашей обычной жизни. Потому что это — совершенное счастье и бескрайняя любовь.
Я сидел на скрипучем стуле в душной комнате, видел свои руки, ноги, трогал лицо, волосы, уши, ощущал голод. А сердце по-прежнему оставалось там, в беспредельных сияющих красотах вечности, и совсем не хотелось ему возвращаться на землю. Рассудок пытался как-то всё это объяснить, подобрать слова… Я же отмахивался от его навязчивой работы и боялся только одного: растерять то ощущение безумного счастья, которое коснулось и опьянило. Мне было хорошо. Правда же, очень хорошо.
В тот день я ходил по земле, смотрел на небо, на зеркало озерной воды, наблюдал за полетом птиц, ползанием жучков, прыганием лягушек. В лесу трогал деревья, разглядывал цветы, бережно касался ягод, грибов, травы. Жадно вдыхал сладкие запахи лета и слушал пение птиц, шелест листвы, шепот короткого дождя. И всюду, во всём, на всём — на каждой малой былинке и великой огромности просторов и далей — видел отблеск того бескрайнего блаженства, которое незримо продолжало существовать и во мне, и в бесконечной вечности, и на земле. Казалось, вся огромная вселенная была окутана светящимся облаком великой любви.
В тот день я не подрос ни на миллиметр, не обогатился ни на копейку, не стал сильней или умней. Только в сердце моем произошел такой переворот, от которого вся последующая жизнь изменилась полностью и бесповоротно.
Следующей ночью после молитвы на сон грядущим отец Марк предупредил, что мне предстоит продолжение того, что началось днем. Я молча кивнул, готовый ко всему и, осенив себя крестным знамением, взял вчерашнюю тетрадь и удалился в комнату. Открыл на закладке и прочел:
«Следующей ночью после молитвы на сон грядущим отец Даниил предупредил, что мне предстоит продолжение того, что началось днем. Я молча кивнул, готовый ко всему и, осенив себя крестным знамением, удалился в комнату и встал на молитву.
Передо мной снова раскрылось пространство. Но в тот же миг со мной что-то произошло. Мои руки оказались прикованы к перекладине креста, ноги упирались в нижнюю часть стойки креста. Я попытался подвигать телом, и мне это удалось. Руки сгибались, я мог ими касаться лица, груди. Ноги сгибались, я мог подтянуть их выше. Но потом, как только я переставал прикладывать усилия, руки, ноги и голова занимали привычное положение человека, распятого на кресте. Разобравшись с возможностью движений тела, я вернул свое внимание к окружающему великолепию и стал его рассматривать.
Надо мной снова сверкнули Небеса — и вдруг поднялись вверх и вышли из моего поля зрения. Зато подо мной жутким мраком проявилась и зачернела бездна. Оттуда доносились крики несчастных людей и звериное рычание. Оттуда иногда поднимались и долетали до меня горячие смрадные ветры. Когда я всматривался вниз, мне открывались адские глубины, наполненные обгоревшими людьми, объятыми ревущим огнем. Когда я хотел увидеть кого-то из своих умерших знакомых, мне показывали его. Я обнаруживал его в муках, извивающегося в языках пламени — и от сострадания сжимался от боли в клубок.
Между Небесами и преисподней — прямо передо мной расстилалась поверхность земли. Здесь она была и круглой и плоской одновременно. Во всяком случае, я мог видеть как на ладони всё, что происходит в России и в Австралии, в Северной Америке и в Африке. Одинаково резко и четко видел я вершины гор и дно океана, мелкую песчинку пустыни и середину перистого облака, моего знакомого в Москве и неизвестного монаха на вершине горы.
Когда всё это завершилось, я оказался в одиночестве, вернувшись в исходную точку, в черном мраке перед невидимой стеной в абсолютной тишине. И тот же Голос, что меня благословил, спросил: «Хочешь ли и ты стать христианином и взять на себя крест молитвы за людей?» В тот миг меня всего наполняла любовь и не было сомнений, что мне ответить. И я твёрдо сказал: «Да, Господи, хочу. Помоги моему ничтожеству».
Я закрыл тетрадь, погладил обложку, будто это было живое существо, и бережно положил на стол. Меня окутало безмолвие, я услышал мягкое биение собственного сердца, шум движения крови по артериям и легкое шипение огонька лампады. Всё завершилось, и с чувством лёгкой досады я понял, что оказался в одиночестве, вернувшись в исходную точку, в черном мраке перед невидимой стеной в абсолютной тишине. И тот же Голос, что меня благословил, спросил:
— Хочешь ли и ты стать христианином и взять на себя крест молитвы за людей?
В тот миг меня всего наполняла любовь и не было сомнений, что мне ответить. И я твёрдо сказал:
— Да, Господи, хочу. Помоги моему ничтожеству.
— Твоей молитвы ждет Бог и каждый человек, которого ты обнимешь своей любовью. Молись!
— Как? Я толком и не умею.
— Начни. Молитва дается молящемуся.
И я почти не раздумывая о смысле слов, начал свою первую настоящую молитву. Я славил Бога и благодарил Его за дарование мне такой незаслуженной милости. Я каялся в своих грехах и просил прощения тем людям, которых знал близко. По мере углубления в молитву, мне открывались беды людей малознакомых, но которые как-то повлияли на мою судьбу. Потом передо мной стали проходить те, кого я обидел, и те, кто обижали меня. А потом и вовсе незнакомые мне люди и даже целые народы…
И открылось мне, что каждое молитвенное слово мое чутко слушалось и Небесами, и землей, и адом. Но самое главное — каждое слово молитвы слушал Господь и, я почему-то был уверен, что Ему очень приятны и нужны мои молитвы за людей. Господь любил каждого из них, Он желал каждому спасения и блаженства, Он очень и очень хотел поделиться тем несметным сокровищем блаженной любви, которым владел беспредельно.
Мокрая курица
Случаются дни, которые тянутся бесконечно. Обычно это бывает после бессонной ночи, после чрезвычайно трудного и совсем нежелательного пробуждения. А за окном висит серое небо, из которого сыплется на несчастных прохожих какая-то мерзкая сырая слякоть. Именно в такой день, ближе к вечеру, когда я вконец измотанный понуро брел из какой-то гнусной конторы к себе, в пустую берлогу холостяка, именно в такой день в голову пришла мысль о Юленьке.
Бедная девочка, думал я, где она сейчас, с кем, как живется ей? Случись встретить её, как бы я принял её новую внешность? Может быть, у неё все сложилось, и она сияет от счастья? А что если нет? А если Юля в беде? И смогу ли я простить ей крушение моей мечты? Ведь это она разрушила своей сумасбродной связью со старым актером-ловеласом наш такой красивый роман… Или это я вторгся с детской своей влюбленностью в сложившиеся отношения двух взрослых людей, в отношениях которых я ничего не понимал?
Всё это медленно кружилось в моей тяжелой головушке, терзало меня и не давало покоя. Сверху сыпало мелкими брызгами, мимо брели такие же как я съёженные мокрые прохожие, под ногами на черном асфальте мутно плескались лужи, слева по дороге едва заметно двигались автомобили в грязных потеках, фыркали выхлопными трубами, нервно сигналили… Один джип, обгоняя троллейбус, резко вырулил на тротуар, поехал прямо на пешеходов и чуть не задавил меня, окатив брюки грязной водой. Передо мной мелькнуло перекошенное злобой лицо водителя.
Я еще приходил в себя, когда в толпе встречных пешеходов заметил девушку, от взгляда на которую сердце сдавила боль. Насквозь промокшая, со слипшимися волосами, она брела, глядя под ноги, обхватив себя руками. Но самую большую жалость вызывали грязные сапоги, собравшиеся гармошкой на худеньких лодыжках. И только поравнявшись с девушкой, я узнал в этой мокрой курице Юлю. Да, в этот сырой комок ничтожества превратилась она за те годы, пока мы не виделись.
Мы чуть не столкнулись, встали напротив и долго рассматривали друг друга. Всё такая же девчонка, только вконец измученная и похудевшая, с сизыми кругами вокруг большущих глаз. Она и в печали, она и в мучении оставалась прекрасной и… родной. Наконец, Юля глубоко вздохнула, заплакала и повисла у меня на шее. Мокрая толпа молча обтекала нас, а мы замерли и, обнявшись, медленно раскачивались из стороны в сторону. Наконец, Юля отстранилась и подняла лицо.
— А я только сейчас о тебе вспоминала, — сказала она.
— Не поверишь, но я тоже, — признался я.
— Правда?.. Юрик, а знаешь, ты по-прежнему самый богатый человек на свете. У тебя есть всё-всё и я. Ты всегда-всегда был со мной. Я вернулась к тебе, слышишь! Я буду стирать твою одежду, буду готовить обеды, рожать детей. — Она всхлипнула. — Только, пожалуйста, никогда меня не оставляй. Хорошо? Если ты брезгуешь мной после этого старика-разбойника, я согласна спать с тобой поврозь. Только позволь быть рядом и видеть, и слышать тебя. Никого в жизни я так не любила, как тебя. Никого у меня не было… Юрочка, ты меня не прогонишь?
— Нет, что ты! — сказал я и еще сильней прижал к себе эту хрупкую тростинку. — Я больше никогда не расстанусь с тобой. Нет у меня на тебя обиды. Ты такая, как есть. И я тебя люблю. Ты моя маленькая женщина. Моя Юлия, Юлечка, девушка-мечта …
Мы свернули в ближайшее кафе, взяли горячего кофе с пирожными и пытались согреться. Но сырой холод уже не давил на грудь — там, хоть в грудной, но клетке, сердце билось от радости. Минуты замелькали быстро-быстро. Мы затараторили, перебивая друг друга. О, сколько же нам нужно было рассказать о себе, о нас, о нашем одиночестве.
— А меня мой старичок-то!.. — Весело сверкнула она глазами. — Уволил. То вроде помирать надумал, а то вдруг йогой занялся, вступил в какую-то секту… «Путь к себе», что ли?.. Стал деньги зарабатывать, поздоровел как-то сразу. А потом меня турнул и нашел себе помоложе и пофигуристей.
— Ну и ладно. Не переживай.
— Да я об одном переживаю, что это раньше не произошло.
— Значит, нужен был именно этот срок. Ни раньше и не позже.
— Метафизически, да?
— Вроде того. И у меня был свой срок для смирения. Я ведь тоже вдоволь измарался в этих «любовях». Так что не мне тебя, Юля, судить.
— А помнишь, в поезде ты сказал мне, что человек не может одновременно любить одного и ненавидеть другого? Я ведь эти слова запомнила. Ох, как ты был прав, Юрочка! Этот актерский роман меня рассорил со всеми друзьями, с родителями. Знаешь, как мама ругала меня за то, что я тебя прогнала?
— Ничего, ничего, Юленька, всё это не просто так. Всё это должно было случиться. — Я на секунду задумался и почувствовал, как девушка вся напряглась. — Только, Юля, знаешь… Мне нужно тебе сказать очень важную вещь…
— А я согласна! — Она вся подалась ко мне.
— Да ты послушай сначала, — сказал я с невольной улыбкой.
— А я на всё согласна, только чтобы вместе с тобой!
— Тут такое дело, — мямлил я нерешительно, — в общем, стал я православным.
— И я тоже православная! Меня в детстве крестили.
— Этого мало. Я воцерковился. Это значит, что хожу в церковь, исповедуюсь, причащаюсь, пост соблюдаю…
— И я тоже буду! Ты только научи меня, и мы вместе будем в церковь ходить. Ладно?..
— Ладно, — сказал я облегченно. Как мне легко стало!
К нашему столику подошел подвыпивший парень со стаканом пива в руке и уставился с наглой улыбкой на Юлю. Она прижалась ко мне плечом и опустила глаза. Мне это так понравилось!.. В ту минуту мне всё было нипочем! Я встал, заслоняя девушку, направил указательный палец в левый глаз противника и смачно, с расстановкой произнес одну из тех фраз, которой научился в «Колизее» — и юноша как-то подозрительно быстро исчез. Когда я сел, Юля еще крепче прижалась ко мне и прошептала: «Спасибо!» Наверное, в этот миг ко мне пришло четкое осознание того, что рядом со мной не просто девушка, не какая-нибудь знакомая, но жена Богомданная. Именно та женщина, за которую я несу ответственность, обязан защищать, с которой мне жить до конца дней. И жить счастливо!..
За окном по-прежнему сыпала серая дождевая пыль, едва тащились по дороге грязные автомобили, бежали домой мокрые прохожие… А у меня на душе стояла та самая солнечная погода, когда я, не чуя ног, спешил на первое свидание с девушкой Юлей. И сверкало солнце, и мелькали там и тут радуги, и птицы ошалело щебетали, и безумно пахли розы, а я такой молодой в светло-голубых джинсах и гипюровом белом батнике с развевающимися волосами до плеч… И Юля — вся в луче солнечного света, легкая и неземная…
Нынешняя Юля чувствовала свою вину передо мной, я так же бесконечно виноват перед ней. Нам обоим необходимо исправиться. Мы были готовы на любые уступки друг другу, только чтобы оставаться вместе. Но сколько же нужно было хлебнуть горечи, чтобы понять такую простую истину: любовь — это когда человек жертвует собой ради любимого.
«Горечь, горечь, вечный привкус на губах твоих, о, Русь!»
Мы вдоволь испили этой горечи. Но мы вернулись друг к другу, и теперь каждый миг выстраданной любви, постоянных уступок и бесконечного терпения ради счастья другого станет сладостным. Ведь только после горечи можно понять, что такое сладость. Только после мрака одиночества можно оценить свет взаимной любви.
4. ПОСЛЕ
Завещание
После разговора с иеромонахом Марком, в глазах которого я увидел сияние Царства Небесного, будто отдельные разбросанные повсюду кусочки смальты вдруг чудесным образом сложились в цельную мозаику. Пожалуй, эта мозаичная картина больше всего походила на огромную панораму, уходящую верхней частью в Небеса, устремленную своим вечным движением ввысь, в те бескрайние светлые дали, куда с самого первого моего вскрика и первого дня жизни звал меня мой Бог.
— Спеши! У тебя мало времени, — сказал мне монах.
— Я скоро умру?
— Да, очень скоро. Но пусть тебя это не останавливает. Ты можешь и должен успеть очень много.
…И время полетело с немыслимой скоростью. Недели, месяцы, годы — стали мелькать, как мгновения. Я спешил… не торопясь. И многое успевал, не задумываясь над тем, сколько мне осталось. Монашеское «мало времени» означает вовсе не то, что вкладывают в это понятие мирские люди. Когда я включился в работу по вымаливанию людей из бездны, мне стало понятно, что на это нужно не день и не месяц, но годы непрестанного подвига. Мои записки, подаваемые на Литургию, стали многостраничными, на меня часто с удивлением поднимали глаза женщины за «свечным ящиком». Я опускал глаза, уходя внутрь, где жила молитва. По совету отца Марка я всячески скрывал свою главную работу, наверное, не всегда удачно, потому что некоторые люди стали меня сторониться.
Люди по большей части находятся в безумии, они всеми силами гонят от себя мысли о смерти и посмертном суде Божием. Но я, с тех пор, как открылась мне панорама будущей вечности, уже не мог позволить себе забыть о своей ответственности ни на один миг. Это жило во мне постоянной болью и непрестанной радостью. Я не ждал в этой земной жизни благодарности от людей, за которых молился. Чаще всего от них я получал издевательства и оскорбления. Только Господь поддерживал меня по молитвам монаха, в глазах которого я увидел вечный свет Царствия Небесного.
Иной раз, чаще после покаянной ночной молитвы, время прекращало секундное тик-так, ежечасное бом-бом, в последний раз громыхало суточным двенадцатикратным боем и затихало. Наступала вечность и захватывала меня, и направляла меня в поток. Я плыл по этому струящемуся потоку счастья, золотистому, полному ароматного радужного света, в котором радостно купались и другие люди, братья мои и сестры. И всегда в такие моменты приходила мысль, как сходит откровение на детей Божиих: «Если есть поток счастья, то существует и Источник его, Который до времени скрыт от чувственного созерцания земных людей. Но Он существует, Он ведет нас по жизни, и именно туда, где состоится эта встреча Творца с детьми Его».
И тогда я открывал дверь моего дома и говорил: «Войди, Господи, очисти меня от скверны и стань самым желанным гостем!»
И тогда я открывал дверь моих глаз и говорил: «Войди и сюда, Господи, разгони мрак души моей и ослепи меня сиянием славы Твоей!»
И тогда я открывал дверь моего разума и говорил: «Войди и сюда, Господи, и просвети мой ум светом Твоего Евангелия!»
И тогда я открывал двери сердца своего и говорил: «Приди сюда, Господи, ибо здесь дом Твой, который Ты сам сотворил и оставил мне для Своего посещения!»
Как учат святые отцы, для вхождения в вечные чертоги Царствия небесного необходимо совлечь ветхого человека с грехами, страстями, нечистотой похоти и гордости житейской и облечься в нового, подобного Христу. Мне этот процесс представлялся удушением в себе самом — как сказал Высоцкий — «того, который во мне сидит и считает, что он истребитель», то есть моего мрачного двойника, сотканного из моих грехов. Поначалу-то это казалось простым, особенно во время поста, когда я отсекал от себя все мирские привязанности и развлечения, тем самым давая простор вечной моей составляющей — челоВЕЧНОсти.
В первый день поста я отключал телевизор, задвигал в дальний угол детективы, романы, книги «культовых и знаковых» авторов — и обкладывался Библией, Псалтирью, Житиями святых свт. Димитрия Ростовского, «Добротолюбием», «Лествицей», «Невидимой бранью» и книгами, в которых рассказывалось о жизни современных святых. Не отвлекающийся на светские развлечения разум впитывал светоносные слова, как сухая губка драгоценную влагу. Мною овладевал голод, который испытывает «алчущий правды», который как известно насытится в Царствии небесном. Через неделю-другую с брезгливой неприязнью посматривал я в сторону светских изданий и даже покушался на аутодафе, то есть попросту собирал книги в суперобложках в объемную китайскую сумку.
Потом, разгорячившись, отправлял туда Пушкина за «Гавриилиаду», Толстого за написание своего еретического евангелия, Гайдо Газданова за написание речей мастеру масонской ложи, Чехова за атеизм, Иосифа Бродского за насмешки над православием и Есенина за «Инонию» и «молиться не учи, не надо, к старому возврата больше нет»… И выносил в прихожую для последующего удаления из дома и погружения в мусорный контейнер. Наутро сумки у входной двери я не обнаруживал, а Юля, опустив глаза, признавалась, что перенесла книги и разложила в своей комнате. Утром перед работой я не обнаруживал в себе пророческого вопля «Порождения ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? …Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». (Матф. 3;7-10). Утром я был вял и малодушен, «бездомен и смиренен», поэтому молча пожимал плечами, чмокал жену в щеку и выбегал из дому.
Но этот самый ветхий человек во мне только прикидывался удушенным. О, нет! Его предсмертные судороги с закатыванием выпученных глаз и испускание тленного амбре рано — ох, как рано! — меня успокаивали, вселяя надежду на вот-вот наступающую персональную святость. После окончания поста, уже к концу Светлой седмицы, вдоволь находившись по гостям, страдая от переедания и похмелья, я перетаскивал детективы и романы, «культовых и знаковых» в свой кабинет и не без удовольствия зачитывался тем, что недавно почитал за мусор.
Конечно, со стыдом возвращал Пушкина за «Пора, мой друг, пора», Толстого за гениальное описание русской жизни, Гайдо Газданова за «остаточное православие», кормление нищих за свой счет, Чехова за душевный лиризм и снисхождение к убогим, Иосифа Бродского за его «Сретенье», «Рождество» и Есенина за Русь, наполненную колокольным звоном, где в небесах горят звезды-свечи, а во Вселенной совершается космическая Литургия в унисон с земным богослужением на Святой Руси…
Юля никак не комментировала это и не пыталась по-женски подчеркнуть свою мудрую практичность, и лишь едва заметная улыбка Моны Лизы, мерцающая на ее личике, и без слов обнаруживала внутреннее ликование.
Тогда я снимал с полки стеллажа папку с письмами Настоящего читателя и вновь и вновь перечитывал его добрые и мудрые слова. О, эти письма, написанные четким округлым почерком, с рисунками, газетными вырезками, цитатами, особо ценные из которых мэтр обводил красным фломастером!.. Старик в них не только делился своим опытом, но спрашивал советов, изящно шутил и, конечно, рассказывал об одиночестве и разрушительной работе старости. Нет, он не жаловался! Скорей, как исследователь-биолог, чуть отстраненно, даже с самоиронией, описывал состояние здоровья и ощущения увядающего тела. Несколько раз в его письмах звучала мысль: «Не знаю, что бы я сделал с собой, чтобы прекратить эти мучения, если бы не моя вера в милость Спасителя, которая — слава Богу — не оставляет меня».
…И вот, как-то раз придя домой, я обнаружил на рабочем столе письмо старика, которое стало последним. Еще не распечатав конверт, лишь коснувшись пальцами прямоугольного куска бумаги, я понял, что это прощальное письмо.
«…Если ты читаешь это письмо, значит меня уже нет на земле. Поверь, мне бы очень не хотелось, чтобы в твоих воспоминаниях я ассоциировался с мертвым, разлагающимся трупом, лежащим в деревянном ящике… Пусть мое тело закопают родичи и соседи. А ты, Юра, будешь читать мои письма и вспоминать своего убогого старого друга живым, каковым я и останусь на самом деле. И будешь молиться о моем упокоении, а я каким-то образом попробую отвечать тебе добром на добро за твои посильные молитвы.
В заключение, должен поделиться с тобой своими, так сказать, итоговыми наблюдениями. Сейчас я понимаю, что Господь меня вёл за руку по земной жизни. И книги стали частью этого пути. Я не могу не быть благодарным Спасителю за это. Ну что ж, пусть книги… лишь бы с Богом, лишь бы с Ним и к Нему. Конечно, для спасения души вполне достаточно небольших знаний, заключенных в Катехизисе. Но, видимо, так уж устроено наше сознание, что нам постоянно требуется подпитывание веры через рассудок, чтение книг.
Вполне допускаю, что и ты уже прошел через читательские шараханья. Разве не пытался ты выбросить светские книги? Разве не возвращал их со стыдом обратно на полку? И это тоже вполне нормально. В конце-концов ты нащупаешь ту самую золотую середину, когда станешь любить и уважать любое мнение, если, конечно, оно не является упорным богохульством. Люди склонны ошибаться, и эти ошибки Господь попускает для нашего опыта.
Адам был неопытен и не отверг соблазнительное предложение Евы — Иов многострадальный уже сумел устоять при уговорах жены «похулить и умереть». Ангелы, оставшиеся с Богом, уже никогда не поддадутся на посулы сатаны — они опытно узнали, в какое злобное и мрачное существо превращается творение Божие, отвернувшееся от Бога. Так и нам необходим живой опыт познания главной истины земной жизни: с Богом — блаженство, а с врагом человеческим — мрак и ужас.
«Да, светская культура родилась в падшем мире и подвластна его немощам, но разве не те же это немощи, что у каждого из нас, тоже родившихся в падшем мире, несущих на себе бремя адамова греха? Зачем же насмехаться над тем, что нам же подобно? Или мы святые?»
Помнишь, Юра, кто это сказал? Да, талантливейший пушкинист Валентин Непомнящий, воцерковленный православный христианин. Или вот это у него же: «Любое значительное произведение русской литературы, русской культуры — повод для глубоких размышлений о том, как по-разному в человеческой немощи совершается сила Божия». Слышишь ли ты в этих словах мудрость «не мальчика, но мужа»? Читатель с таким духовным багажом в оценке произведения не станет занимать судейское кресло, предназначенного для Божественного Судии, но предложит свои услуги только в качестве адвоката. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». (Мф. 5, 7)»
Последние строки письма читать мешали слезы. Конечно, я знал, что и князь человек смертный, и как-то готовился к его кончине… Но когда это приходит, когда читаешь слова умершего человека — такие добрые и будто сияющие любовью — духовное замещается душевным, человеческим и ты беспомощно опускаешь руки и чувствуешь, как соленая влага льётся и льётся по твоим щекам сама собою… Упокой Господи Твоего раба ради Твоей бесконечной милости, которой так щедро делился с ближними этот человек.
Свет над тёмной водой
Мы сидели на берегу лесного озера, обжигались печеной картошкой, хрустели огурцами, пили крепкий чай из термоса. Предзакатная тишина была наполнена жужжанием пчёл, шепотом леса, замершего в предчувствии наступающей ночи, робким посвистыванием далеких птиц. Вокруг стоял просторный смешанный лес, за нашими спинами темнел кустарник, чуть дальше — ельник, правее вдоль берега — осока. Косые лучи солнца, не достигая поверхности озерной глади, падали на низкую траву, рассеивая над темной водой золотистое сияние.
Юля взяла меня за руку и прошептала: «а помнишь?» — и мы опять унеслись в ту теплую июньскую ночь на овчинные шкуры. Её рука выскользнула из моей, я не обратил внимания на шорох одежды, на легкий всплеск воды, на круги, на миг возмутившие зеркало озера. Юля великолепно плавала, при этом не теряла осторожности. В ту минуту я забыл о том, что каждый вечер возвращаясь домой, я чувствовал легкий запах спиртного, которым она обдавала меня при поцелуе. Я постоянно был занят: работой, общением с православными братьями, которые учили меня жить по-новому, встречами с Олегом, чтением из святых отцов, молитвой. Конечно же, моей жене доставались от моего времени буквально минуты в неделю. У нее не было здесь подруг, да она их и не искала. Мне казалось, что она привыкает к новой жизни в новом месте, ей нужно забыть прежнюю боль унижений, залечить покоем раны. С видимым удовольствием занималась она домом, читала и бродила по улицам с фотоаппаратом. А в последнее время стала покупать мартини и позволяла себе пару бокалов.
Два-три раза в неделю я ходил в храм, и мне очень хорошо было там. Три раза и Юля просилась со мной, но она чувствовала себя в церкви плохо, кружилась голова, нападали страх и тоска, иной раз душили слезы; и она панически боялась подойти к священнику на исповедь. Мне пришлось переживать нечто подобное, поэтому я не тащил ее за руку, насильно, а только сугубо молился за неё и заказывал, где только можно, обедни, молебны, сорокоусты. Сам же я проживал ту радостную пору становления веры, которую называют неофитством. Мне казалось, что чудеса сыплются на меня, как из рога изобилия, вера горела мощным пламенем, молитва приносила неописуемую радость и любовь.
Как-то ночью я остановился вниманием на первых словах из Книги Бытия: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Я вышел на балкон, поднял глаза к черному небу с яркими звездами, вдохнул свежий воздух, напоенный запахами свежей листвы и травы, глубоко задумался. Мне представилось тогда, что это я сам был безвидной и пустой землей, а Дух Божий носился надо мной и веселил меня незаслуженным светом Своим. Еще не скоро стану я тем, что «Увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма». Я видел в себе бездну неизжитых страстей, легко грешил, но и легко каялся. И как любой человек, переживающий счастливую пору обновления жизни, представлял себе, что это навсегда, и малодушно гнал от себя мысли о грядущих испытаниях на устойчивость веры. Я просто был счастлив…
Наконец, сладкие воспоминания отпустили, я оглянулся — Юли рядом не оказалось. Встал, обошел кусты, скользнул взглядом по её одежде, подошел к воде… Мозг будто пронзила огненная стрела ужаса, ноги подкосились, и я сел на траву. Время остановилось. Меня обступила совершенная тишина. Тело словно парализовало. И только свет над черной водой парил и пронизывал меня насквозь. Передо мной вставали картины и казались мне более явными и живыми, чем окружающая меня реальность. Свет струился по моему телу, по моим артериям, опьяняющей волной пронизывал мозг и стекал в сердце.
Мама несла меня на руках в ясли и очень торопилась, а я кряхтел от волнения, которое передавалось мне от неё. Бегал босиком по теплой влажной траве и заходил по колено в шипящую морскую пену. Выходил в летнюю ночь во двор и чувствовал, как нежные невидимые руки обнимают и ласкают мою кожу теплым ароматным дыханием ветерка. Я шлепал по лужам под струями дождя и лежал в шалаше, пережидая нежданный ливень, а вокруг стрелял гром, и кривые огненные стрелы били по мокрой полегшей траве. С замиранием сердца следил за красным поплавком, прыгающим по воде и уходящим в бурую глубину. Поднимался в гору и с высоты птичьего полета взирал на крохотные крыши домов, игрушечные деревья и серебристый ручей реки, а потом поднимал глаза к белым клубящимся облакам в пронзительно синем небе.
Вдруг ощутил острую боль потери — Юли нет со мной. Я снова потерял эту непонятую до конца, хрупкую, маленькую женщину. Ох, если бы это оказалось страшным сном, и я проснусь и увижу Юлию рядом, безмятежно спящую на пестрых простынях, посапывающую с полуоткрытым ртом, вздрагивающую от сновидений. Если бы сейчас этот дорогой мне человек, ставший моей половиной, вдруг легонько ударил бы меня рукой по плечу и сказал: «вставай, пора собираться домой, уже темнеет»… Как бы я обрадовался! Каждую минуту рядом с ней я чувствовал бы мгновением счастья. Я стал бы делать всё по-другому: осыпал бы ее цветами, носил на руках, приносил кофе в постель, сам готовил бы обеды, дарил смешные ненужные подарки, а перед сном читал бы ей сказки и пел колыбельную. Ведь моя маленькая Юлия — это вечный ребенок, хрупкий цветок, одинокая раненая птица, белоснежное облако в фиолетовом холоде неба… Она — как этот неясный тающий золотистый свет над черной озерной водой.
Разве можно обижаться на такую маленькую женщину, почти девочку, заплутавшегося ребенка, потерявшего мать с отцом, беспомощно озирающуюся в поиске родителей со слезами, стоящими в огромных, наивных глазах! Разве можно её обижать, отказывать детским просьбам, подшучивать над её несбыточными мечтами? Да кто я вообще такой, чтобы портить ей настроение своим занудным ворчанием! Мне оказана великая честь жить рядом с ней, слушать её голос, дышать одним воздухом и видеть, как она ходит, сидит, двигается, качает головой, расчесывает волосы, пьет молоко и вздрагивает во сне. Я бы с великим удовольствием ходил с ней в кино, возил на море, да просто гулял бы с ней среди усталых людей и слушал бы ее истории, большую часть которых она выдумывает прямо сейчас. Я прощал бы ей всё, абсолютно всё. Я бы научился быть заботливым мужем, верным другом — да кем угодно! Только бы сейчас… Только бы в этот миг она подошла ко мне и, хлопнув по плечу, сказала хоть что-то.
Почему? Ну, почему так легко мы расстаемся и теряем самых близких? Почему так богаты обещаниями, но бедны их исполнением? Почему не ценим каждую минуту общения с ними? Зачем именно с самыми близкими, любимыми, данными нам Богом людьми мы так невнимательны и холодны! Почему эта серая плесень привычки, болотная тина обыденности так быстро и легко проникает в отношения с самыми дорогими людьми?
Я не упал в воду и не утонул, не погрузился в темную воду отчаяния. Таинственный свет, летающий золотистым облаком над поверхностью омута, чудесным образом согревал меня и останавливал на той грани, за которой бездонной пропастью чернеет мрак погибели. Это сияние над темной водой удержало меня от беды.
Меня снова понесло в годы, дни, минуты нашей юности. Там скрывалась тайна, которую не сумел разгадать за всю свою сознательную жизнь. Я видел, как проживают годы бездетности родители Юли, какую радость принесло им появление на свет долгожданного ребенка. Они, конечно, баловали малышку, оберегали от любой неприятности — ведь девочка росла такой худенькой, болезненной и ранимой. Еще в отрочестве, похожая на тощенького гадкого утенка, она убегала от грубого окружения сверстников в светлый мир девичьих мечтаний. Там, она становилась прекрасной принцессой, которой никто не смел грубить, ни только ударить, а коснуться краешка платья никто не смел.
Потом девочка выросла и поняла, что превратилась если не в лебедь, то в цветок, пусть хрупкий, но красивый. Девочка поняла, что и она может стать любимой, и к ней может прийти то призрачное счастье, которое согревало в потаённых девичьих мечтах. Она вошла во взрослую жизнь с распахнутыми настежь глазами, с горячим сердцем, открытым любви. И разве её вина в том, что ей удавалось неплохо играть на сцене, и разве она виновата, что не знала, как коварны могут быть мужчины, отравленные ядом славы и успехом у женщин. Ей тогда и в голову не могло прийти, что её первую, чистую девичью любовь любимый мужчина способен превратить в пошлую интрижку. Что пожилому ловеласу может польстить её чистота и свежесть, наивность и доверчивость…
А тут и я появился — такой же наивный романтик, только с гордым самолюбием, уже вкусивший сладкого яда побед и девичьего обожания. Бедная девочка! Ей долго пришлось пить горечь разочарования. Как только сумела она выдержать-то всё это. И вот мы встречаемся снова. Нет, не встречаемся, нас Господь сводит в одну точку вселенной, чтобы дать еще один шанс исправить нашу жизнь. Вроде бы мы тянемся друг к другу, вроде бы снова вспыхивает то дивное чувство из детской мечты… Только не умеем удержать, не способны надолго утвердиться в той высоте чувств, которой от нас ждет Бог. Мы «сползаем» в темную пучину самолюбия, разменивая богатый дар любви на медные пятаки обид, мизерных предательств, незаметных отречений. Каждый замыкается в скорлупу собственного самолюбия, а божественный дар любви медленно умирает где-то совсем рядом.
Сколько я просидел на траве у кромки озера? Может быть, несколько минут, а может, и полжизни… Душа моя рыдала в печали — и, покоилась в оцепенении рассудительных воспоминаний, звала утонуть в темной воде омута — и летела в струях рассеянного света надежды, обрекала на смертельное одиночество — и давала возможность опомниться и остановить падение во тьму. И вдруг я ощутил, как нечаянной радостью пульсировала где-то в глубине моей души Иисусова молитва…
Сумерки незаметно опускались на засыпающий лес. Легкий светящийся туман поднимался над темной озерной водой и проникал прохладой под легкую одежду. И я даже не удивился, даже не вздрогнул, когда из кустов вспорхнула птица и сонно вскрикнула. Тогда и легла на моё плечо легкая прохладная рука. Тогда и услышал я слова, которые уже не раз звучали во мне:
— Вставай, любимый, уже темнеет.
— Хорошо, — произнес я тихо. — Я готов.
— Сейчас только оденусь, соберу сумку и пойдем домой. А?
— Да, конечно… — эхом отозвался мой голос.
— Зря ты не искупался. Вода такая теплая. И этот странный свет над темной водой! Красиво.
— Очень красиво.
Я медленно осторожно повернулся и убедился, что на этот раз разговариваю не с самим собой, а с настоящей женщиной — живой, любимой и, кажется, любящей меня. И снова я любовался её руками, собирающими вещи, и удивлялся, как моя Юлия красива и как дорога мне эта маленькая женщина.
— Я тебя буду любить всегда, — прошептал я, проглотив комок в горле. — Никогда!.. Слышишь? Никогда я тебя не оставлю.
— Хорошо, Юра, — грустно улыбнулась она. — Только в следующий раз, чтобы это услышать, не заставляй меня так долго сидеть в воде, а потом еще в кустах. Я замерзла…
— Ах ты, негодница! Да ты знаешь, что я сейчас пережил?
— Знаю, дорогой. Я это переживаю почти каждый день. Это называется — умирать от любви.
После нашего воссоединения с Юлией прошли два года. За этот время мы привыкли друг к другу и узнали как свои недостатки, так и достоинства. Как-то мы с Олегом ездили в роддом встречать Аллу с новорожденным сыном. Олег в честь великого князя Димитрия, разбившего врагов на поле Куликовом, назвал сына Митькой.
Я вернулся домой и рассказал Юле, как это здорово держать в руках это пищащее сокровище, полное жизни! После этого моя Юля пропала. Осталась только записка на столе: «Не ищи меня и не поднимай паники, дорогой. Мы скоро будем!» Главное «мы»! Моему недоумению не было границ. Я работал и ждал. Мучился, ждал и надеялся. По вечерам одиноким волком уныло бродил по опустевшему дому, слегка пинал шлепанцем мебель и бормотал под нос: «Ну и зачем всё это мне одному!»
После полуторамесячного отсутствия на пороге моего дома появились «мы» — Юля держала на руках белый сверток, в котором происходило непрерывное шевеление.
— Познакомься, дорогой, это наш сыночек Алешка. Я его из дома ребенка взяла. Ну, посмотри, от какого чуда люди отказались. — «Чудо» захлопало голубенькими глазками, покряхтело и возмущенно закричало. Да, легкие у мальчугана были что надо. Юля опустила глаза и напоследок прошептала: — Раз уж Бог нам своего не дал. Ты меня простишь за это?
Конечно, я её простил. Да что там — обрадовался и чуть не запрыгал от радости. Эти самые «мы» как-то сразу заполнили своим присутствием мой опустевший дом, и всюду зашумело, зазвенело, запрыгало нечто живое и веселое. Откуда ни возьмись на нас разом свалились бабушки и дедушки, даже какие-то тетки и дядьки, о существовании которых я и не слышал. Я важно ходил среди этого шумного многолюдья, без очереди брал на руки Алешку и… чувствовал себя совершенно счастливым человеком!
Не успели мы привыкнуть к роли родителей первого ребенка, как однажды Юля пришла домой и от смеха повалилась на диван в гостиной. Я стоял над ней и терпеливо ждал, когда она успокоится. Наконец, супруга села, встала, обратно села и, с трудом сдерживая новый приступ смеха, сказала:
— Я только что узнала, что на двенадцатой неделе беременности. Поздравляю, теперь у тебя будет и свой собственный ребенок. Единокровный.
А через полгода в нашем доме снова запищал сверток — уже с девочкой, которую мы за синие глаза назвали Олей. Дело в том, что у нас в Красном углу среди прочих икон стоял образок равноапостольной Ольги, написанный в свое время Васнецовым, и там сразу бросались в глаза синие огромные глаза святой бабушки крестителя Руси князя Владимира. …И снова завертелось, закрутилось всё вокруг. А Лешка-то, сразу возмужал и почувствовал себя серьезным мужчиной, облеченным ответственностью за эту крошечную сестрёнку. Взял в руки серебристый пластмассовый меч и не выпускал его даже в кроватке. Серьезный парень!
Иногда я подсаживался к нему и пел колыбельную, такую странную и пронзительную, которую слышали многие, только автора никто не знал:
На Сущёвке есть наш старый дом,
Где живем с Алешкой мы вдвоем.
Мы живем без женщин, без забот,
Двадцать — одному, другому — год.
Спи, Алешка, слышишь, дождь идет.
Наша мама больше не придет.
Ты, Алешка, слишком маловат,
Чтобы знать, кто прав, кто виноват.
У тебя на все один ответ,
Знаешь, Лешка только "да" и "нет",
И еще о том не знаешь ты,
Что бывают синие киты.
Что бывает сорная трава,
Что бывают грубые слова,
Но тебя от них я сберегу.
Спи, Алешка, баиньки-баю.
Прощай, друг!
Уже за несколько дней до Нового года город наполнился пороховым дымом, вспышками и грохотом фейерверков. По ночам казалось, что идет война и вот-вот объявят воздушную тревогу, загоняющую людей в метро и бомбоубежища. Шли последние дни Рождественского поста, душа хотела молитвенной тишины, а вокруг творилась какая-то пьяно-торговая вакханалия. Может поэтому, когда нас пригласили в новогоднюю ночь на всенощную в Сретенский монастырь, мы согласились с такой готовностью.
За монастырскими стенами, под сводами храма нас обняла тишина и проникла глубоко внутрь. Это очень приятно чувствовать себя среди единомышленников под Божиим покровом. Всегда до отказа наполненный храм в эту ночь оказался полупустым, но уж те, кто пришли, получили великую тихую и светлую радость. Четырехчасовая служба прошла удивительно быстро, после причастия и отпуста не хотелось уходить. Очень не хотелось, но надо было.
…За монастырскими воротами на нас обрушилось нечто вроде артиллерийской канонады. Сизое небо озарялось непрерывной чередой вспышек. Нашу колонну из двух десятков человек обтекала толпа безумных людей. Они пили из горла водку, поливали друг друга пеной шампанского, сквернословили и непрестанно орали что-то ужасное. Милиция небольшими группками жалась по углам и даже не пыталась вмешаться в эту всенародную истерию. Наша компактная колонна без всяких приключений дошла до станции метро, спустилась по эскалатору вниз на платформу и только здесь разделилась на две части. Здесь, внизу, милиции и работников метрополитена не наблюдалось вовсе. По платформе в обнимку шарахалась пьяная молодежь и безнаказанно предавалась пьянству, курению и матерным воплям.
Зазвонил сотовый, я поднес трубочку к уху и услышал голос Аллы:
— Ты где, Юра? Что там за крик? Олег, случайно не с тобой?
— С Новым годом, Аллочка! Мы в метро, возвращаемся со всенощной из монастыря. Олега с нами нет.
— Прости, я думала он у тебя. Ты знаешь, они с Вольфом уехали за ёлкой, и вот уже три дня его нет. Слушай, если он у тебя появится, дашь мне знать. Ладно? всенощной из монастряй?
к уху и услышалветритьращавшимися вилимо из гостейи непрестанно орали что-то ужасное.
Подошел почти пустой поезд, внутри катались пустые водочные бутылки, банки из-под пива, комья рваной бумаги, летали грязные газеты. На двух сиденьях спали в обнимку отключившиеся молодые пары в растерзанной одежде. Пахло перегаром, желудочным соком и сигаретным дымом, и даже воздух из вентиляционных отверстий во время движения далеко не сразу смог проветрить затхлую атмосферу. По мере удаления от центра вагон стал наполняться более-менее нормальными людьми, возвращавшимися из гостей, некоторые держали на руках спящих детей.
Заснуть в ту новогоднюю ночь удалось около трех часов ночи. А в шесть утра я внезапно проснулся, как от сильного толчка, оделся и вышел на пустынную улицу. В те дни в городе мороз достигал 20 градусов, значит за городом — считай все тридцать. Я постоянно думал об Олеге, чувствуя нутром, что он в беде. Ноги сами несли меня в метро. Вышел я на Тульской и, как сомнамбула, добрел до Свято-Даниилова монастыря. Вошел внутрь, за воротами свернул налево и по лестнице поднялся в храм Всех святых. Купил свечей, заказал Олегу обедню, сорокоуст и вошел в переполненный храм.
Первые минуты я стоял по стойке смирно, зажатый со всех сторон горячими телами прихожан. На меня со всех сторон дышали перегаром десятки мужских глоток. Меня тошнило, выступил обильный пот. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, стал вспоминать, что же это за день такой, и почему одни похмельные мужики вокруг? Вспомнил: первого января поминается мученик Вонифатий. Он жил в блудном сожительстве с богатой римлянкой Аглаидой, любил выпить и пошутить. Как-то сожительница отправила его в Тарс, где непрестанно мучили христиан, за останками мучеников. Считалось, что мощи христиан приносят в дом благополучие и здоровье. Вонифатий увидел мучения, удивился мужеству и стойкости верующих и сам встал в ряды христиан. Его зверски пытали сутки, наконец, отсекли голову. Слуги нашли его тело и привезли домой, госпоже. Аглаида устроила церковь и до конца дней служила в храме при мощах бывшего сожителя, мученической кровью искупившего свои грехи. Теперь понятно, почему пьющие мужчины почитают мученика Вонифатия — он вёл такой же образ жизни, как те, кто меня так плотно окружал. Как только священник обошел храм с кадилом, тяжелый дух перегара исчез. Теперь пахло лимоном и кедром. Меня отпустило, я сумел сосредоточиться, стоял и молился о помиловании Олега, о возвращении его домой. Под конец службы похмельные собратья стали мне как родные, а я в душе почувствовал, что с Олегом все будет хорошо.
А вечером позвонил Олег и рассказал, как они с Вольфом поехали к нему на дачу. Их потрепанный УАЗик заглох среди поля, не доехав двухсот метров до дачного поселка. Они бегали на дачу, согревались и пытались починить машину, но она никак не заводилась. И, наконец, «ни с того ни с сего», сегодня в восемь утра мотор завелся с первой попытки, и они вернулись домой. Я объяснил ему, что это его мученик Вонифатий спас, на что Олег только саркастически хмыкнул.
С некоторых пор у нас с Олегом появились серьезные разногласия. После моего «восхождения на крест» по молитвам монаха, я стал посещать церковные службы. И уже не представлял себе жизни без исповеди и причастия. К тому же мне монах «вменил» молитвенное правило, которое я старался выполнять неукоснительно. Это стало моей главной работой. Это был мой крест.
Олег же решил для себя, что строить храм гораздо важнее, чем посещать его и участвовать в общей молитве. А уж «выворачивать свою душу на исповеди перед попом» — это вообще в его голове не укладывалось. Когда я часами говорил ему о своей новой жизни в Церкви, будто черные шоры падали на его глаза и уши. Он «слушал, но не слышал, смотрел, но не видел».
Мы продолжали встречаться, теперь уже парами. Наши жены шли за нами и говорили о чем-то своём, женском. Мы же с Олегом то вспоминали прошлое, то спорили, то ссорились, чтобы снова помириться. Тогда мы старались не пропускать американские и международные выставки. Выстаивали длинные очереди, чтобы в огромных павильонах ВДНХ и Красной Пресни бродить от стенда к стенду, удивляясь новинкам техники, современным технологиям, роботам, лазерам… Набирали пачки проспектов, говорили по-английски с фирмачами и вдыхали непередаваемый западный аромат дорогих сигар и духов.
Только вот относились мы ко всему этому по-разному. Олег не скрывал восторга и жадного интереса к западным новинкам. Он даже в горячке позволял себе такое: «Нет, Юрка, только страны с протестантскими традициями способны на такой технологический и культурный прорыв! Ведь у них как! Если ты не успешный бизнесмен, значит, Бог тебя наказал за лень или за пьянство». Мой восторг западными новинками был не столь ярким и довольно быстро исчезал, как только мы покидали стены выставочного павильона. В памяти оставались насмешливые взгляды высокомерных фирмачей и язвительные усмешки в наш адрес. Я чувствовал, что всё это не моё, чужое…
Всё-таки именно встречаясь со старыми друзьями, я осознавал, что внутри меня происходит переоценка прежних ценностей. Я незаметно и непрестанно менялся. Впервые заметил это, когда мы с Юлей в гостях у Аллы и Олега слушали записи музыки, которая раньше вызывала такой бурный восторг. Олег возбуждался, вскакивал, размахивал руками, кричал: «Помнишь, как мы отрывались под это!» Да, я помнил, и еще как помнил!.. Только вот сейчас прежние музыкальные композиции, грохочущие из мощных акустических систем аудиоцентра высшего качества «Hi Fi» — сейчас эти звуковые канонады чаще всего вызывали во мне раздражение и тоску. Страсти, бушевавшие в мире рока, имели происхождение отнюдь не божественное. Мне довелось видеть и слышать их в аду, где так же кричали несчастные, вился едкий дым и вспыхивали кроваво-красные всполохи. Чтобы успокоиться после таких прослушиваний, мне приходилось часами наедине молиться, чтобы восстановить столь дорогой мир в душе.
На практике познавал я слова Спасителя: «Не мир пришел Я принести, но меч (у Луки — «…но разделение» Лк 12, 51), ибо Я пришел разделить человека с отцом его…» (Мф 10, 34-35), а друга Олега со мной, продолжал я мысленно. В чем причина? В том ли, что он был более осведомленным, более мужественным, красивым, волевым?.. Но ведь Олег всегда так щедро делился со мной, опекал меня как старший брат. «Причина только в одном — в гордости, она отвращает нас от Бога», — объяснил отец Марк, к которому я обратился с этим вопросом. Вроде бы ясно сказано, только на душе не стало спокойней. Я видел свою беспомощность и только одно оставалось мне — молитва за друга и крепкая надежда на милость Божию.
Однажды он приехал ко мне на новеньком «Опеле» и буркнул, что Алла приглашает меня в гости для какого-то серьезного разговора. Я удивился. Мне представлялось, что Алла видела во мне собутыльника мужа, поэтому относилась ко мне не очень уважительно, а я её слегка побаивался. Как-то я передал ей через Олега церковные книги, но читала ли она их, не знал. А тут — «Алла приглашает тебя в гости».
Они тогда купили себе новую квартиру в хорошем зеленом районе. Мы с Олегом поднялись на двадцать второй этаж бетонной башни и вошли в просторную трехкомнатную квартиру, из окон которой открывался роскошный вид на Москву-реку. В большой столовой был накрыт роскошный стол. Я еще больше удивился. Алла встретила меня неожиданно радостно, приняла мой букет цветов и усадила за стол на почетное место. Видя мой ступор, хозяюшка подняла бокал и сказала:
— Я поднимаю этот бокал за здоровье человека, который открыл мне новую жизнь. Я очень тебе благодарна, Юра.
А потом она рассказала, как в один разнесчастный день она поняла, что жизнь её кончилась. Олег где-то пьянствовал, сын гулял с друзьями и научился неплохо обходиться без мамы, с работы в УпдК её уволили. Самые главные ценности её жизни как-то разом рухнули, а в душе поселился холодный безжалостный мрак. Алла бродила по пустой квартире и размышляла, как лучше ей покончить с собой: повеситься, вскрыть вены или прыгнуть с двадцать второго этажа. …И тут в гостиной на каминной полке она увидела книги, которые я ей передал. Она открыла одну из них, стала читать… И вдруг её озарило! Есть другая жизнь! В ней деньги, слава, бытовая и семейная устроенность ничего не стоят. В этой другой жизни Господь Бог дает человеку Свое Блаженство. Дарит свет, радость, истину и надежду тем самым «труждающимся и обремененным», которой она и была. Алла стала ходить в храм, устроилась там помогать по хозяйству, познакомилась с замечательными людьми, которых «весь мир не стоит». И вот она пригласила меня, чтобы поблагодарить за это.
Олег молчал, уткнувшись в тарелку. Потом молча отвез меня домой, и мы с ним обнялись и простились. Как оказалось навсегда…
Через неделю позвонила Алла и сказал, что Олег погиб в автокатастрофе: в борт его машины на полной скорости въехал бетоновоз. У Олега был перелом позвоночника в основании черепа — и мгновенная смерть. За день до этого он участвовал в освящении престола своего храма-часовни. Освятили его в честь родителей преподобного Сергия Радонежского — праведных Кирилла и Марии. А закончил Олег свой земной путь в день памяти своего любимого святого — Сергия Радонежского. Отпевал Олега по полному чину строителя храма иеромонах из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры по имени Сергий.
Если бы не моя вера в милость Божию, если бы не эта цепочка мистических «совпадений»… Не знаю, выжил бы я или нет. Олег унес с собой целую эпоху моей жизни. Такого одиночества и такого сиротства я не испытывал никогда в жизни. В те печальные дни только молитва за упокой друга спасала меня от черного отчаяния. Только земные поклоны до боли в спине, только милостыня всем, кто берёт…
Сразу после Олега стали умирать мои родственники и знакомые. Я хоронил их и чувствовал, как одиночество сжимает свое холодное жесткое кольцо вокруг. Как пусто становится в этой жизни без людей, которые делились со мной теплом своей души. Которым от меня ничего не нужно было, кроме любви и дружбы.
Вокруг оставались люди, появлялись новые знакомые, но они были совсем не те, что раньше. В душе нынешних моих близких было гораздо меньше любви и больше расчета. Деньги и слава вытесняли из наших душ чистую любовь и бескорыстную дружбу. И кем бы я стал тогда, если не моя вера…
Красивые люди
Марина. Не раз я вспоминала и проживала день, когда стала красивой.
Это был вечер нашего первого в жизни школьного дня. Мы гуляли с моим другом и соседом Павликом. Наши с ним родители дружили, поэтому в честь праздника накрыли стол. Мы немного посидели со старшими, съели салат, по куску шоколадного торта с чаем и, чтобы не мешать родителям, вышли во двор погулять. На нас по-прежнему была надета новенькая школьная форма. В этих костюмах бирюзового цвета мы казались себе взрослыми, поэтому никак не хотели с ними расстаться. Павлик рассказывал что-то весёлое. Он всегда старался меня рассмешить.
Вдруг Павлик на полуслове прервал рассказ и замолчал. Я с трудом отвела взгляд от роскошного розового куста в человеческий рост, от пурпурных бутонов в капельках воды после недавнего полива из шланга и взглянула на мальчика. Он долго смотрел на меня, неожиданно смутился и громко прошептал: «Маришка, а ты красивая». Чтобы вывести мальчика из ступора, я пошутила и сделала вид, что ничего особенного не произошло. А сама только и ждала окончания прогулки, чтобы вернуться домой и прилипнуть к зеркалу. Каждый день много раз я видела свое отражение и ничего особенного в нем не замечала. Но, когда такое сказал Павлик — мальчик умный, честный, «из порядочной семьи»… И я поверила.
С того теплого вечера, с того волшебного праздничного дня мне открылось, что я не обычная девочка, а отношусь к особой касте одаренных людей. Потом не раз приходилось мне выслушивать комплименты по поводу синих глаз, атласной кожи, стройной фигуры, обаяния, ума… Но тот, первый день моего прозрения помню, будто это было вчера.
Я часто вспоминаю день, когда стала красивой, не для того, чтобы снова и снова упиваться своей элитарностью. Нет, совсем по другой причине. Просто, чем становлюсь старше, тем более трагичным он мне кажется. Сейчас тот день мне представляется отправной точкой моего падения.
И вот сейчас я бреду по улице и смотрю под ноги. Вижу мелькание собственных бежевых босоножек, бурый асфальт, туфли прохожих, мелкий мусор, лужицы грязи, пятна раздавленной жвачки. Когда-то мне нравилось разглядывать прохожих, ловить восхищенные взгляды, слышать за спиной восторженные реплики мужчин и завистливое шипение женщин. Теперь всё больше прячу глаза, по-монашески опускаю лицо, скрывая от досужих взоров остатки прежней красоты.
Сегодня вышла на прогулку не для того, чтобы подышать свежим воздухом. Только с большой натяжкой густой дым от автомобилей, ползущих по проспекту, можно назвать воздухом. И не для того, чтобы встретиться с подругой, — у меня их практически нет. С некоторых пор гуляю, чтобы переждать время, необходимое мужу, чтобы допить ежедневную бутылку водки и провалиться в сон. Выслушивать его пьяные обиды нет сил.
Когда-то мне казалось, что мой четвертый муж стал подарком судьбы. Он ждал меня очень долго, звонил каждый Новый год и рассказывал об успехах в карьере. Недавно он стал большим милицейским чиновником на Петровке, 38. А потом каким-то образом узнал о моем третьем разводе и появился, как долгожданный принц на белом «Мерседесе» — мечта любой девушки, любой свободной женщины. Это Павлик. Да, тот самый дружок детства, которому так нравилось меня смешить, который открыл во мне эту треклятую красоту. Только первые несколько месяцев он был замечательным мужем и близким другом. А потом… как всегда — ревность, обиды, скандалы, а в итоге — запойное пьянство. Бедный мальчик, бедный веселый Павлик!
Краешком глаза я видела, как на меня движется что-то серое. На всякий случай остановилась. Это столкнулось со мной, мягко ударило в плечо и замерло. Я нехотя подняла глаза. Передо мной стоял мужчина, примерно моих лет, и в упор смотрел на меня. Ну, думаю, сейчас будет всё как обычно: «ах, какие у вас глаза, как вы прекрасны, а не поужинать ли нам вместе». Нет, этот молчит. И смотрит внимательно и по-доброму. Необычный тип!
— Простите, пожалуйста, — произнес он глуховатым баритоном. Из его глаз пахнуло теплом. А он красив! Будто очнувшись, сказал: — Я не нарочно. Шёл и смотрел под ноги. А вам, кажется, грустно. Что-то случилось? Я не могу вам помочь?
— Нет, — ответила я по привычке. Не хватало еще первому встречному душу изливать. — Не можете.
— Простите, — прошептал он оторопело. И ушёл.
Снова замелькали подо мной бежевые босоножки, поплыл бурой лентой асфальт, остановился… Я оглянулась. В тот же миг оглянулся и он. Какая же я идиотка! Мы смутились, опустили глаза, и каждый зашагал своей дорогой. Всё. Время. Мне пора домой. Павлик, наверное, уснул.
Игорь. Что за женщина? Чем она так зацепила меня? Ну да, красивая. Да, одета со вкусом, голос приятный. Да мало ли таких было в моей жизни! Она так же как и я бродила по улице, опустив глаза. А сколько грусти в них было! Да, вот это — красивые глаза на красивом лице. Необычные, штучные, ярко-синие глаза — а в них грусть!
Мне противны самодовольные женщины, особенно, если они красивы. Знаю, что это плохо, но я не могу отказать себе в удовольствии унизить их. За свою долгую жизнь проделывал это много раз и, кажется, в этом преуспел. Всё же я мерзавец. Хорошо, что научился скрывать свои мысли, а то бы меня давно прибили.
…А эта сегодняшняя красавица… У неё были такие глубокие глаза, полные неподдельной грусти, чистой и прозрачной, как слеза ребенка, как первая капля весеннего дождя. Что это я разошелся? Заголосил высоким штилем. Влюбился, что ли? Только этого не хватало.
«Если хочешь прожить счастливую жизнь, никогда не ставь на красивых женщин! Красивая жена — чужая жена», — так учил меня отец. Интересно, хоть кто-нибудь, когда-нибудь прислушивался к советам старших? Может быть, и случались в истории такие уникумы, только не я. Женщины шашлычным шампуром пронзили каждый день моей жизни. И единственное, что оставили во мне — это отвращение. Практически не было у меня ни одной знакомой, которую бы я не совратил за три дня. И не важно, что почти у всех были мужья или женихи. Кажется, верность ушла в область преданий. У меня были три законные жены, три сотни романов и три тысячи мелких влюбленностей. Ну, и где они, эти «самые обаятельные и привлекательные»? Ау! Тишина…
Недавно мне исполнился «полтинник» — пятьдесят лет, полвека! На последнем обследовании у немецкого врача, заезжей знаменитости, виртуоза диагностики и прочая и прочая… Да так вот, когда я лежал на кушетке, а он наговаривал на диктофон перечень моих болезней и лекарств для их излечения… Я понял, что мне пора круто менять образ жизни, иначе до следующего юбилея мне не дотянуть. Уже в метро, забившись в угол, читал и перечитывал листок, распечатанный ассистенткой, и впадал в тоску. Молодость кончилась. Впереди унылая старость со всеми вытекающими последствиями — угроза инфаркта, язва желудка, ревматизм, сосудистая дистония, диабет, маразм, а в конечном итоге — рак.
Придя домой, я в тот день напился с горя, пригласил в гости проверенную подругу и… максимально ускорил процесс старения погружением в оргиастический омут. Утром смотреть ни на себя в зеркало, ни на подругу не хотелось, было противно и страшно. Она это знала и профессионально быстро, без шума удалилась. Воскресенье провел у друга с пивом перед телевизором. В понедельник с отвращением вернулся к работе.
Среди обязательных лечебных процедур врач прописал мне ежедневные часовые прогулки. Это раньше мне доставляло удовольствие глазеть по сторонам и ловить на себе восхищенные взгляды женщин и выслушивать завистливое ворчание мужчин. С некоторых пор привык гулять, опустив глаза и смотреть, как под ногами мелькают собственные ботинки и плывет грязный асфальт спереди — под ноги — и назад. Кто-то идет мимо, шуршит листва или дождь, поют или молчат птицы, разговаривают прохожие. Как там пелось в фильме «Человек-амфибия»? «Какое мне дело до всех до вас, а вам — до меня?» По замыслу режиссера эти слова должны были воспитывать отвращение у советских зрителей к буржуазному индивидуализму, а на самом деле пророчили наше скорое будущее. Как говорится, приплыли, господа! Сливай воду и поливай кактусы. Так вот какой ты долгожданный двадцать первый век! Ну, здрасьте!..
Но какая женщина! Эти синие глаза, полные высокой грусти! Уникально.
Марина. Когда я вернулась с прогулки, Павлик еще не спал. Он сидел за столом в гостиной, опустив тяжелую голову и что-то ворчал себе под нос. В бутылке оставалось водки еще на один залп. На белой рубашке и на подбородке краснели пятна от кетчупа. Он с трудом поднял всклокоченную голову от тарелки, на меня уставились мутные глаза.
— Где ты всё шляешься? — завел он обычный в таких случаях разговор.
— Ты же знаешь, мне врач прописал часовую прогулку. Я же звала тебя погулять со мной.
— Делать мне нечего, что ли, шляться туда-сюда и видеть, как на тебя мужики пялятся.
— Никто на меня давно уже не пялится.
— Будто я не знаю! А тебе, поди, приятно, когда по тебе глазами шарят?
— Ну прекрати, Павлик, — протянула я умоляюще, — ты же знаешь, я не такая.
— Такая. Всем бабам только одного и надо…
Я вздохнула и пошла на кухню заварить чай. Задребезжал телефон. «Меня дома нет!» — закричал муж из гостиной. Это точно… На этот раз оказалась мама.
— Доченька, у тебя там всё хорошо? Что-то у меня сердце о тебе болит.
— Всё хорошо, не волнуйся, пожалуйста.
— А чем сейчас занят Павлик?
— Пришел с работы усталый. Отдыхает.
— Пил сегодня?
— Да нет.
— Будто я не знаю…
— Нет, мама, у нас всё хорошо. Ты тоже отдыхай. За нас не волнуйся.
— Ладно, не хочешь, не говори. Гордая ты у меня, дочь. Вся в отца. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, мама.
С чашкой чая зашла в гостиную. Павлик допил водку и заснул. Голова висела на согнутой шее, как у марионетки. На рубашку с уголка полуоткрытого рта стекала слюна. Я растолкала его, помогла дойти до кровати и прикрыла его половиной одеяла. Ночью он проснется, разденется и ляжет по-человечески. Утром будет тихим и мрачным. Всё как обычно.
Я переоделась в халат и подсела к зеркалу. Зачем-то густо накрасила губы ярко-красной помадой, подвела брови, прошлась новой французской тушью по ресницам. Щеки благодаря крему сохранили гладкость. А вокруг глаз, в уголках рта и на лбу появились морщины. На висках серебрится седина. А на шею и смотреть не хочется — вся исчерчена морщинами. Я долго разглядывала своё отражение и не понимала, что тут красивого. Разве только глаза, не утратившие синевы? Но из них несёт такой смертной тоской! Старуха!.. Ты, Марина, постарела. Сознайся в этом, старая ты кошёлка, и смирись…
…Этот сегодняшний прохожий — он был красив и добр ко мне. И зачем я ему нагрубила? Идиотка! В кои веки человек с душевным теплом ко мне обратился, а я его по привычке отшила. Интересно, он там гуляет каждый день? Ой, какая же я все-таки мерзавка! Может, прав Павлик, что ревнует меня? Да… Такие вот дела…
Игорь. Всю жизнь почему-то все смотрят и восторгаются только моим телом. Мясом… Холодцом, который скоро станет пищей могильных червей. Но почему никто ни разу не поинтересовался моей душой? Почему всем наплевать, что в ней? А ведь там столько всего! Иногда мне кажется, что меня понимала только мать. Хоть и она, конечно, умилялась ангельским личиком сыночка. Но она умела отрешиться от внешнего и обратить внимание на воспитание доброты, любви, уважения. Видимо, тогда она видела за кукольным личиком сына душевного урода с недоразвитыми органами души. И тогда принималась выращивать их, чтобы сын в конце концов научился верить, любить, прощать. Что еще? Плакать не от обиды и зависти, а над бедой другого человека.
После пятидесяти я как-то весь сразу посыпался. Будто попал в плен болезней. И вот сейчас… Сей… час! Когда я сижу один дома и пялюсь в этот ненавистный телеящик… Сей час… У меня болит поясница, в глаза будто песок насыпали, подташнивает, бросает то в озноб, то вдруг покрываюсь испариной. Сердце бьется неровно, то замирая от боли, то пускаясь в скач, а то грохочет, будто колокол, созывающий верующих на покаяние. Пока мне еще удается зачесывать волосы так, чтобы прикрыть залысины. Но они так быстро растут, что скоро все увидят мою плешь в её позорном матовом блеске. Итак, я превращаюсь в старого урода. Ни и пусть! Кто-то из великих как-то сказал, что самое большое искусство на земле — это умение достойно стареть. Иными словами, красиво загнивать… Старый я циник! Старый… Да.
А если старый, то почему до сих снова и снова вспоминаю эти синие грустные глаза случайной прохожей? Почему погладил костюм для завтрашней прогулки и свежую голубую сорочку из дорого бутика? Зачем проигрываю сценарий поведения на случай встречи с прекрасной незнакомкой? Да… Такие вот дела…
Марина. Сегодня всё было не так, как обычно. Павлик позвонил с работы и сказал, что задержится. А я собиралась на прогулку, словно на свидание. Надела новое с виду скромное платье от Givenchy, тщательно накрасилась, подновила маникюр, уложила феном волосы. И сердце стучало, как у девчонки на первом свидании. Хоть бы увидеть его…
Я ругала себя последними словами. Оправдывалась, как пай-девочка, застигнутая за воровством отцовских папирос. Волновалась, как начинающая актрисулька перед выходом в незнакомый огромный театральный зал. Одно точно — вела себя, как одержимая.
О, как трудно было идти медленным прогулочным шагом! Я считала шаги до того фонарного столба, где столкнулась вчера с ним. Пыталась успокоить дыхание, унять грохот сердца, который отдавался в ушах и даже в кончиках пальцев. Мои бордовые босоножки от Enzo Logana мелькали перед глазами предательски быстро, асфальт не хотел приостановить полёт подо мной, прохожие словно бежали стометровку, а птицы свистели отовсюду, как болельщики на стадионе.
И все же, когда моё боковое зрение узнало тот самый фонарный столб и его силуэт рядом… Когда подняла глаза и увидела его, меня окатила волна жара, и я со стыдом поняла, что покраснела… Он тоже стоял ни жив ни мертв и теребил в пуговицу пиджака. Мой взгляд неприлично долго задержался на темно-синем костюме, шелковом галстуке и сорочке — всё от Armani — и с трудом поднялся до уровня его лица. В голове прозвучали слова из песни Тухманова на стихи Ахматовой: «О, как ты красив, проклятый! А я не могу взлететь, Не могу взлететь, не могу. А с детства была крылатой», а потом как пророчество: «Было душно от жгучего света. А взгляды его — как лучи. Я только вздрогнула: этот, этот Может меня приручить!»
— Как приятно снова увидеть вас, — наконец прозвучал мягкий баритон, от которого у меня затеплилось под ложечкой и приятно отдалось в гортани.
— И мне так же приятно, — с великим трудом протянула я, глубоко вдыхая аромат его «Acqua di Gio» от того же Armani, и на всякий случай добавила: — как ни странно.
— Вы позволите на этот раз искупить свою вину и хотя бы немного проводить вас.
— Простите, о какой вине вы говорите?
— Как же, я случайно толкнул вас, за что прошу у вас прощения.
— Ах, это!.. Забудьте.
— Разрешите представиться — Игорь.
— Марина.
Игорь. Как я не оттягивал время, все-таки пришел на место вчерашнего столкновения с незнакомкой раньше, чем вчера. Стоял подобно своему соседу — фонарному столбу — и пытался унять сумасшедшую работу сердца. В голове звучала песня Тухманова на слова Гёте: «Сердце, сердце, что случилось? Что смутило жизнь твою? Жизнью новой ты забилось, Я тебя не узнаю».
На меня накатила «волна моей памяти» и пронеслись одно за другим лица моих подружек, с которыми общался в те времена, когда песни из альбома Тухманова звучали из каждого окна. В тот миг у меня в душе не было обычной неприязни, наоборот, ощутил стыд за свое гнусное потребительское отношение к ним. В конце концов, все эти девушки хотели любви, создания семьи, рождения детей. А я, как насильник, как совратитель, пользовался их доверчивостью для утоления похоти и непомерного тщеславия. Стоит ли удивляться своему нынешнему одиночеству? Поделом! За все низменные удовольствия в этой жизни со временем приходит расплата. Может быть, встреча с этой грустной синеглазой незнакомкой для меня некий знак свыше? Может, последний шанс исправить свою непутёвую жизнь?
Ко времени появления прекрасной незнакомки мне удалось прийти в себя. Вот она появилась из-за кустарника и подошла ко мне плавной походкой. Лицо её по-прежнему было опущено, видимо, какие-то непростые мысли держали её в плену. И видел её второй раз в жизни, но чувствовал глубокую неразрывную душевную связь, как с родным человеком. Наконец, она подняла глаза, они еще раз удивили своей необычной синевой, но грусти вчерашней я в них не заметил. Мне хотелось сказать ей, как она красива, как благородны и удивительно гармоничны черты её лица, какую волну нежности она подняла из почти нетронутых глубин моей души… А я произносил обычные дежурные фразы и ругал себя за невероятную тупость. Рядом с ней я чувствовал себя полным уродом и сгорал от стыда и осознания собственного ничтожества.
Потом прозвучало её имя — Марина, и сразу появился целый каскад впечатлений. Так вот откуда эти глаза цвета морской волны, эта глубина одиночества и безбрежность грусти. Мне захотелось поделиться с ней этим открытием, но вдруг произошло нечто ужасное!
— Так вот как моя жена сохраняет мне верность! — раздался скрипучий голос. Из-за орешника вышел растрепанный мужчина и дохнул густым перегаром.
— Павлик, снова ты принялся за своё, — тихо произнесла Марина, с трудом сдерживая мучительный стон.
О, сколько в тот миг открылось в этих людях! Мне стали понятны их отношения без слов. Мужчина пронзительно умными глазами оглядел нас и сказал:
— А вы подходите друг другу. Оба красивы, одиноки, оба устали от серой толпы вокруг. Вы как два камня на одном колье — одинаковой чистоты и ценности.
— Послушайте, Павел, — сказал я, — прошу вас не обижайте Марину. Меня вы можете даже избить, если хотите. Я сопротивляться не буду. Но её, прошу вас, не надо обижать. Вчера я невзначай толкнул Марину, а сегодня встретил и попросил прощения — вот и всё. А столкнулись мы с ней именно потому, что шли в задумчивости, не поднимая глаз.
— Весьма благородно с вашей стороны, — произнес Павел, выслушав мои объяснения. — Только не надо принимать меня за полного кретина. Вы оба одеты, как на свидание. Я знаю Марину с пяти лет и чувствую её лучше, чем самого себя. Поздравляю, сударь, она в вас влюбилась! Давно я её такой не видел.
Марина глубоко вздохнула, повернулась и быстро ушла. Павел даже не взглянул в её сторону. Он по-прежнему смотрел на меня с испепеляющей иронией. У меня в душе смешались боль, ревность, страх и жалость ко всем нам. Тогда я достал бумажник, сосчитал наличные и сказал:
— У меня достаточно денег, чтобы посидеть в ресторане. Вы не против?
— Отчего же! Только за!
Марина. Мужчины заявились к нам домой около двух ночи. Оба пьяные. Я положила их в спальне, сама прилегла на диване в гостиной. Под могучий храп двух мужских глоток я целую ночь провела в обществе своих мыслей и воспоминаний. Только под утро забылась тревожным сном.
Проснулась от неприятного чувства, что на меня кто-то смотрит. С трудом открыла глаза и, как сквозь туман, увидела двух мужчин, стоявших на коленях. Они с видом побитых собачонок смотрели на меня и сбивчиво просили прощения. В эту минуту они были так похожи, так единодушны. Я оставила их наслаждаться своей мужской солидарностью и уехала к маме. Жить.
Криминальные новости
Образ жизни у меня был достаточно мобильный. Приходилось ездить и по работе, и с паломниками по святым местам, но никуда не было так трудно попасть, как в храм, где служил мой духовный отец — иеромонах Марк. Как соберешься его навестить, так или дела наваливаются, или болезнь, или какая другая напасть. В таких случаях, приходилось рубить гордиев узел проблем решительно и без оглядки на последствия. Но уж если вырвешься к монаху, то и трудности все разом куда-то деваются, и болезни проходят, и несколько часов у него в гостях превращаются в кратковременную командировку в рай.
Со временем его храм, который был памятником истории и зодчества, превращался из руин в прекрасный дворец молитвы. Вокруг появились дома для притча и приезжих, трапезная — все строения с наружными галереями и балкончиками, в афонском стиле. Всюду шелестели густой листвой фруктовые деревья, благоухали цветы, зеленела трава. Дорожки были выложены цветными плитками. Территорию ограждал невысокий кирпичный забор с фонарями.
Отблеск Царствия Небесного в глазах монаха привлекал к нему разных людей из разных мест. На автомобильной стоянке я видел номера машин из Московской и соседних областей, и даже с Украины, Белоруссии и Молдавии. Однажды я спросил диакона:
— Как вы думаете, в чем причина такой благодатности батюшки?
Он оглянулся, удостоверился, что нас никто не слышит, и раскатистым басом по секрету сказал:
— Таких причин три. Во-первых, отец Марк девственник. За это, сам понимаешь, многое даётся. Потом, он же подвизался семь лет на Афоне — это школа суровая, но и самый прямой путь к святости… И потом, он… смертельно болен раком! По всем законам здравоохранения отец Марк должен был преставиться еще несколько лет назад, но Господь удерживает его на земле ради исцеления чад, которых он окормляет. Ведь наш батюшка — он даже изгнанием нечистых духов иногда занимается, — завершил свой рассказ диакон.
Однажды прямо на службу привезли такого бесноватого. Отец Марк несколько часов при всех прихожанах изгонял из него бесов. Под конец службы его самого пришлось выносить из храма на руках. Но больного он именем Иисусовым все-таки исцелил. Один из тех, кто привез больного, подошел ко мне и присел рядом на скамью. Познакомились. Сергей оказался офицером милиции, одним из тех редких типов, кого называют «честным ментом».
— Скажи, Сергей, — спросил я, — это что, на самом деле так трудно — быть честным?
— Да нет, нормально, — сказал он, опустив глаза. — Трудность в том, что ты выпадаешь из системы, и система тебе за это мстит. У нас ведь как? Ты обязан брать от нижних, отстегивать часть себе, а остальное нести наверх. А если ты отказываешься брать, то наверх ничего не идёт, и они начинают тебе создавать невыносимые условия работы.
— Как же тебе удается это выдерживать? — спросил я с некоторой иронией, демонстративно глядя на его звездные погоны.
— Да всё по молитвам этого монаха, — ответил тот спокойно. — Сам посуди. Проработал в милиции всего год, и меня послали учиться. После академии я попал в главк на Петровку, 38, где один из генералов носил мою фамилию. Меня, конечно, все считали его родственником и конфликтовать боялись. Должность у меня инспекционная, районные УВД — «земля» — передо мной на вытяжку стоят. Так что я еще могу позволить себе и честным людям помогать. Тем, которые пострадали от милицейского вымогательства.
— И что же, система тебе разве не мстит?
— Еще как! — хмыкнул он. — Меня в главке такой стеной молчания окружили, что в ушах звон стоит.
К нам подошла красивая пара, Сергей представил их: Игорь и Марина. Больной, которого исцелял батюшка, по имени Павел — муж Марины. Женщина взглянула на меня удивительно синими глазами — они были бы очень красивы, если бы в них не жило такое горе! Игорь бережно поддерживал её за локоть. Эти оба поразили своей красотой, они были похожи. Наверное, брат и сестра, подумал я.
Через месяц мне позвонил Сергей и повез меня к отцу Марку. По дороге он рассказал, что его друг из Управления по борьбе с организованной преступностью пригласил его на допрос. Давал показания профессиональный киллер. У него обнаружили фотографии заказанных ему жертв. Вообще-то их положено сжигать, но этот не мог отказать себе в собирании коллекции и часто их разглядывал.
— В той пачке, среди лиц криминальных авторитетов, банкиров и политиков я увидел и твою физиономию, — сказал Сергей, ожидая моей бурной реакции.
— Так киллер меня убил или не совсем? — произнес я чужим голосом.
— В том-то и дело, что согласно документам… убил. Он сбил тебя джипом на огромной скорости. Ты отлетел метров на двадцать. Он вышел из машины, сфотографировал твоё изуродованное тело и отослал фото заказчику. Тот перечислил на его счет пятьдесят тысяч долларов, и стороны разошлись довольные собой.
— Когда это было? — спросил я, доставая из сумки ежедневник.
— В пятницу, заметьте, тринадцатого, в двадцать три часа.
— В тот вечер и в это самое время я возвращался со встречи в итальянском ресторане, — сказал я, полистав расписание запланированных дел. — Припарковать машину у ресторана я не смог и оставил её на противоположной стороне улицы. Да, мы проговорили до одиннадцати вечера, потом я встал, расплатился и вышел из ресторана. Мои партнеры остались и продолжили пятничную вечеринку. Пересек я улицу по переходу, сел в машину и укатил домой. Выпил чаю и встал на молитву. Читал акафист Покрову Пресвятой Богородицы. Вспомнил! — вскрикнул я, резко обернувшись к Сергею.
— Так по какому поводу был акафист? — спросил Сергей. — И почему именно Покрову?
— Вспомнил! — повторил я. — Улица была пустой, машин не было. Я задумался, по привычке читал Богородичную молитву — я всегда её читаю после завершения дела. И вдруг на меня налетел черный джип. Я не успел ни уклониться, ни отбежать, и джип проехал… сквозь меня. …Или я прошел сквозь машину — неважно. Я даже не успел испугаться. Джип уехал, а я сел в свою машину и вернулся домой, живой и невредимый. Вот почему я встал на акафист — благодарил за спасение!
— Понятно, — задумчиво протянул Сергей. — Господь на время столкновения с джипом киллера перевел тебя в вышеестественное состояние. Ты на секунду стал как бы фотонным. Допустим. Но чей труп фотографировал убийца? Ведь не мог же он представить снимки другого тела — он профессионал, у них так не принято.
— Тоже, наверное, фотонный, — предположил я.
— Как бы там ни было, ты, Юра, с отцом Марком об этом поговори.
Пока мы сворачивали с кольцевой на шоссе, пока стояли в пробках в местах ремонта дорожного полотна, я вспомнил еще несколько странных случаев, коснувшихся меня, и рассказал о них Сергею. Тогда по ночам часто стрекотали автоматы, выли милицейские сирены, а утром то у метро, то рядом с универсамом можно было увидеть трупы застреленных в торговой битве людей.
Так однажды заехал ко мне иногородний приятель, которому нужно было купить валюту для отдачи долга. Стояла глухая ночь, но мы пошли к метро, купили продукты в ночном магазине и нашли обменный пункт. Из окошка выглянул черноволосый мужчина, взял у нас рубли и протянул несколько сотенных долларовых купюр. Мой приятель тщательно просмотрел бумажки и одну из них вернул: оказалась фальшивкой. Кассир вспылил и потребовал назад все доллары. Пересчитал валюту, потом рубли и протянул рубли в руки моего приятеля. Тот сразу у него на глазах начал пересчитывать — не доставало двух тысяч. Кассир сказал, что это не он, а мой приятель заломил пару купюр и стал звать милицию. Подошел к нам пьяный мужчина в форме в бронежилете с автоматом. Мы поняли, что объяснять такому блюстителю порядка что-либо бесполезно. Приятель нагнулся к окошку и сказал в глубину: «Девушка, вы бы отсюда уходили, а то у валютных жуликов жизнь коротка. Как бы и вы не пострадали». Мы дошли до другого выхода из метро и там без приключений купили валюту. К потере двух тысяч рублей мой приятель отнесся с философским спокойствием.
Через два дня я проводил приятеля и пошел в универсам купить что-нибудь на обед. Метрах в десяти от входа в магазин стоял обгоревший остов того обменника, в котором обманули моего друга. Рядом стоял знакомый милиционер, уже трезвый. Я спросил его:
— Скажите, пожалуйста, кто сгорел? Была ли там девушка?
— Нет, девушка на работу не вышла, — сказал сквозь зубы страж порядка, — сгорел только кассир.
Потом, как-то поехали в машине соседа к нему на дачу. Тот на шоссе Энтузиастов подсадил мужчину. Сославшись на ночное время, сторговался с ним на крупную сумму. Когда мы с кольцевой свернули на узкую дорогу и поехали сквозь черный лес без единого фонаря и автомобиля, пассажир резким движением обнял за горло водителя и сверкнул ножом: «Доставай все деньги, быстро!» Я со страху в слух стал читать «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его…» Машина остановилась. Вдруг грабитель как-то внезапно обмяк, убрал руку с ножом и пролепетал, что это его бес попутал, извинился, открыл заднюю дверь, выбежал из машины и скрылся в лесу. Сосед-водитель выкрутил руль, ударил по газам, вернулся на освещенную кольцевую дорогу. Когда он успокоился, глубоко вздохнув, попросил меня написать на листочке слова «такой сильной» молитвы.
А еще несколько раз закрывались магазины и рушились банки, в которых меня не желали обслуживать или мне грубили, добавил я.
— Об этом тоже отцу Марку расскажи. Интересно, что он ответит. Только я уже подозреваю что. Думаю, что и тебе все понятно.
Только поговорить об этих невероятных событиях в тот день не удалось. Мы приехали на отпевание Павла. Сергей мне рассказал, что после отчитки Павел заболел раком, который меньше, чем за месяц, сожрал его тело. Всё время болезни он находился при храме. За него молился отец Марк, жена Марина, его друг Игорь и все, кто жил там в то время. Павел несколько раз исповедался, его каждый день причащали, три раза соборовали. Но болезнь не отступала. Отец Марк сказал, что Павел скоро преставится и предложил постричь его в монахи. Тот согласился. Вот почему его лицо в гробу, поставленном в центре храма, закрывала черная материя.
После отпевания и погребения мы собрались в трапезной. Там отец Марк объявил последнюю волю усопшего: Марина и Игорь должны обвенчаться и жить в любви и верности до самой смерти. И снова мне довелось увидеть эту замечательную пару. На этот раз Игорь с Мариной показались мне еще красивей. В их глазах, как в зеркалах, отражался тот тихий свет, который я видел у моего монаха, моего духовного отца Марка. Видимо, страдания и любовь, посетившие этих троих в последние месяцы, так преобразили их. Один перешел в Царствие Небесное в равноангельском чине, другие два обрели праведность чистой земной любви.
В тот вечер и в ту ночь я много молился и благодарил Спасителя и Пресвятую Богородицу за то преображение наших душ, которое мы получаем даром, ни за что…
Евгенич, добрый мой приятель
Лёва грустил. Мой институтский друг Лёва сидел в полутысяче километров от Москвы, говорил со мной по телефону и рассказывал, как ему одиноко и грустно. Лев Евгеньевич попал после института в один заводов засекреченного НПО «Фрегат», где почти все его изобретения попадали в стол руководства и пылились там без дела. От нечего делать он закончил еще физмат университета, но и это развлекло его лишь ненадолго. На любовном фронте он также не добился успехов. Он просто не знал, о чем говорить с женщинами, а они его воспринимали несерьезным малым, чудаком, деревенские — «несамостоятельным».
— Знаешь, Юра, если бы ты сейчас не поднял трубку и не поговорил со мной… Я бы… Страшно сказать, что со мной бы случилось.
— А ты приезжай, — сказал я. — Брось всё и беги на поезд, а я тебя встречу. Ты еще успеешь на десятичасовой.
— Да? — отозвался он и мощно засопел. — А что! Сейчас поднимусь — и на вокзал. А?..
— Давай, Лёвушка. Жду.
Рано утром я стоял на первой платформе Курского вокзала, ежился от недосыпа и наблюдал, как медленно подъезжает горьковский поезд. Пошел следом за четвертым вагоном — там в окне махал мне растопыренной рукой друг. Видно мы стали стареть — обнялись, отшлепали друг друга по спине и… отвернулись, безуспешно скрывая мокрые глаза.
— Ну, ладно, что ты как девчонка, в самом деле!
— На себя посмотри, старый ты хрыч…
— Ну всё, всё…
— Ну и всё! …Слышал анекдот о гордости и смирении? Летит красивый гордый орел. Высоко забрался. Над ним фиолетовое небо, под ним проплывают крошечные города, поля, леса, моря, горы. «Я выше всех! — ликует он мысленно. — Я сильнее и мудрее всех! Я самый-самый!» …Вдруг чувствует, на его крыле что-то зашевелилось. Повернул он туда свою красивую голову и зорким глазом увидел воробышка. Тот снял кроссовки, натянул веревку и развесил носки просушиться. Пьет пиво, покуривает сигаретку и разглядывает пролетаемые пейзажи. Увидел воробей, что на него орел смотрит и небрежно бросает: «Ну и что?» — «Ничего…» — отвечает обескураженный орел. — «Ну и всё!»
Мы съездили ко мне домой. Я познакомил Лёву с Юлей, детьми, бабушками-няньками, позавтракали, часок поспали и отправились на прогулку по Москве. Юля почему-то всё время жалась ко мне, настороженно поглядывая на Лёву. А тот размахивал руками и восторгался всем и вся. Прошлись по Кузнецкому, заглянули в галерею, где была выставка отечественного сюрреализма, минут десять задумчиво стояли у полотна с рублями в нарезку. В букинистическом Лёва купил дореволюционное издание «Толкование Евангелия»:
— Буду изучать. Первоисточник больше озадачил, чем объяснил.
Потом он попробовал блеснуть знанием столицы.
— Вон там, за углом будет пивбар с демократическим пивом и посетителями. — На указанном месте оказался весьма дорогой ресторан со швейцаром при входе.
— А вон там книжный! — На месте бывшего книжного магазина сверкал бриллиантами ювелирный салон.
— А вот сюда со всего Союза в семидесятые годы съезжались модники за широкими галстуками… — Вместо галстуков на витрине тикали часы престижных марок, под ними — ценники с немыслимым количеством нулей. — И покупает же кто-то! — Растерянно скреб затылок Лёва. — Нет прежней Москвы, — вздохнул гость столицы. Потом улыбнулся и сказал: — Но есть другая — новая, незнакомая! И еще не известно, какая лучше.
С чужой и надменной Тверской свернули в сторону Патриаршего пруда. На пустой Малой Бронной увидели Александра Ширвиндта. Он подошел к белой машине, приоткрыл дверцу, вальяжно облокотился на крышу и, попыхивая трубкой, долго смотрел в нашу сторону. Мы с Лёвой одновременно оглянулись, но на улице кроме нас троих и артиста — никого. Тогда мы остановились и вежливо открыли в изумлении рты. Артист удовлетворенно улыбнулся и взмахом левой брови спросил:
— Ну и как я вам?
— Отлично, Александр Анатольевич! Вос-хи-ти-тель-но! — подтвердили мы, уважительно округлив глаза.
— Раз так, я, пожалуй, поеду. Простите, меня ждут! — сообщил он, ироничным прищуром правого глаза. — Без меня никак — всё искусство на моих плечах. Такая обуза!..
— Ах, как мы вас понимаем, — сочувственно засопели мы. — Счастливого пути, мэтр, и до встреч на сцене и экранах мира! — восхищенно крякнули мы, провожая уезжающую вдаль машину.
Потом вернулись в начало Тверского бульвара и встали в длинную очередь в «Макдоналдс». Я вспомнил своё посещение кафе «Лиры», которое стояло на месте этой канадской бутербродной, а Лёва рассказал о своем последнем неудачном блиц-романе:
— Иду как-то из гостей по кривым улочкам Кузнечихи. Под ногами грязь по колено, кошки шипят, крысы пищат, на цепях «лают псы до рвоты» — словом, вы уже оценили всю мрачную мистику ситуации. — Мы с Юлей понятливо кивнули. — За маленькими подслеповатыми оконцами по телевизорам демонстрируют триллер «Кошмар на улице Вязов», из-за чего местное население старательно охает и вопит в сладострастном ужасе…
— Лёва, — вклинился я с размаху, — у меня появилось чувство, что нам с тобой нужно попробовать вместе что-нибудь такое изобразить.
— Обещаю вернуться к этому вопросу чуть позже, — согласно кивнул рассказчик. Потом обвел повернутые к нему уши соседей по очереди и сказал: — А сейчас продолжим, господа. Итак, лунная ночь, притоны Кузнечихи, вой собак и вопли сограждан. А я один, утомленный после гостей, а до остановки троллейбуса топать и топать. Дай, думаю, попробую достучаться до чьего-нибудь отзывчивого сердца. Стучу в первую же дверь. Мне сразу открывает женщина в байковом халате с петухами, присматривается и распахивает объятья, куда и я падаю ввиду вышеобозначенной усталости. Просыпаюсь на рассвете и первое, что слышу: «Я из тебя человека-то сделаю!» Осторожно, эдак, приоткрываю глаз и вижу: стоит надо мной монументальная женщина с ручищами мясника дяди Жоры и точит огромный разделочный нож. Я от страха весь в комок сжался и затих. Как женщина отошла на кухню, я в секунду собрался, открыл окно и — дёру оттуда. За мной только воздушные вихри захлопали, как за болидом формулы номер один. Так из меня человека и не сделали!.. — печально завершил свой рассказ Лёва под участливые улыбки окружающих очередников. А тут с криком «свободная касса!» подошла и наша очередь.
В «Макдоналдсе» взяли мы по «Бигмаку» с молочным коктейлем и, пожевывая, попивая, побрели по бульвару. На скамейке сидели два длинноволосых парня в армейских высоких ботинках, куртках цвета хаки и в черных джинсах в обтяжку. Лёва прислушался и решительно подошел к ним:
— Простите, молодые люди, вы чехи?
— Да, мы из Праги, учимся в МГУ, — ответил один из них, почти без акцента.
— Как это хорошо! — воскликнул Лёва. Мы с Юлей стояли, ничего не понимая, и вместе с чехами внимательно наблюдали за ним. — Хорошо то, что я давно мечтал сделать, и сейчас сделаю! — Лёва глубоко поклонился и совершенно серьезно сказал: — От имени моего народа приношу вам, как представителям Чехословакии, наши самые искренние соболезнования по поводу вторжения советских танков на территорию вашей страны в 1968-м году. Простите нас, пожалуйста!
— Спасибо вам, честный русский человек, — сказал чех, что был ближе к нам. Они оба встали во весь, без малого двухметровый, рост и тоже слегка поклонились. — Ваши извинения принимаются. Простите и вы нас и нашу страну за убийство ваших солдат — ведь жертвы были с обеих сторон.
Потом чехи стали перечислять наших знаменитостей, а мы — чешских: певец Карел Готт, писатели Ярослав Гашек и Карел Чапек, режиссер Милош Форман, великие путешественники вокруг света на «Татре» Зигмунд и Ганзелка, химики Отто Вихтерле и Нобелевский лауреат Ярослав Гейровский, физиолог Ян Пуркинс, композиторы Сметана и Дворжак. Конечно, помянули чешскую сборную по хоккею, Мартину Навратилову, Театр марионеток, стекло «Мозер», настойку на 42 травах «Бехеровка», кнедли, пиво «Будвар», «Гамбринус», «Праздрой», «Козел», крепкую «Сливовицу», галлюциногенный «абсент», автомат «Че-Зэт». Оказывается, нас многое связывает и мы просто обречены на дружбу! Мы обнялись, похлопали друг друга по спинам. Юля удостоилась двукратного целования ручки. Несколько смущенно простились с парнями и продолжили свой путь.
Вскоре добрели до Дома Журналистов. Тут Лёва остановился и потащил нас внутрь. Гость столицы был в ударе, и мы не стали сдерживать его инициативу. Как ни странно, интеллигентная старушка у входа не потребовала от нас, как раньше, удостоверений Союза Журналистов. Лёва решительно спустился в подвал, пробежал по кафе, бару и ресторану, разглядывая стены. Успокоился он только в кафе у самого выхода, окна которого выходили на улицу. Мы заняли столик, заказали по большой чашке кофе и только тогда он объяснил причину своего странного поведения.
— Юра, ты читал Емельянова?
— Читал, — кивнул я. — Только мне показалось, что в его книге слишком много сенсаций и саморекламы. Это настораживает.
— Да ладно, сейчас не об этом, — махнул Лёва. — Ты помнишь, его рассказ о том, что здесь имеется картина, перед которой посвящают в масоны? Вот я и проверил. Нет.
— Может и нет, а может и есть, только её подальше с глаз долой убрали. Думаешь, ты один тут рыскал в поиске сенсации? И вообще, Лёва, эта тема неблагодарная. От нее тоска берет. Если эта всемирная организация на самом деле так сильна и законспирирована, то человеческими силами с ней не сладить. Тут только с Божией помощью можно оградиться от них. Помнишь, как в Библии: «Уклонись от зла и сотвори благо. Взыщи мира, и пожени и». (Пс 33,15) и еще: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе…» (Пс 1,1)
— А ты знаешь, Юра, я тут недавно вычислил факт существование Бога, — выпалил Лёва и зажмурился, видимо ожидая оплеухи или оваций.
— Как это — вычислил?
— Логически. Изучая теорию поля, я почувствовал необходимость ознакомления с эволюцией. Она меня вывела на генетику, археологию, информатику. Потом порылся в теории большого взрыва. Изучил гипотетические модели гравитации, света, энергии, пространственно-временного континуума. И вот что я понял. Нынешняя наука перестала объяснять окружающий мир. Она занята созданием мифа. Там абсолютный хаос из противоречий и неразрешимых задач. Я интуитивно постоянно нащупывал некий предел человеческого познания, за который нас не пускают! Если можно так сказать, за той чертой упраздняются знания, логика, эксперимент — и человек попадает в область иррациональной веры. Короче говоря, я открыл для себя существование некой невидимой мощной силы разума, которая управляет всем мирозданием и нашим сознанием. Эта сила что-то позволяет нам открывать, а на что-то накладывает печать — сюда нельзя. Когда я согласился с этим логическим выводом, то есть, когда я поверил! в мощь этого сверхразума — вот тогда я и открыл для себя Бога. А потом стал читать Библию. Там почти все недостающие звенья цепи нашлись. И теперь я ищу Бога в реальной жизни. …Чтобы с Ним… Только не смейся! …Познакомиться.
— Тогда пойдем, — сказал я, расплачиваясь с миловидной девушкой-официанткой.
Мы спустились в подземный переход, пересекли Новый Арбат и вышли на противоположной стороне Гоголевского бульвара. Дошли до памятника Гоголю, поклонились великому писателю. Затем свернули в один переулок, еще раз в другой, и подошли к открытым дверям храма Воскресения Словущего.
— Мы сейчас войдем сюда, — сказал я. — Вы на листочек выпишите свои грехи из книжки. Потом во время вечерней службы священник будет принимать исповедь. Вы скажите, что в первый раз и протяните листочек. А дальше, как Бог даст. Пойдем.
Юля с Лёвой нерешительно потоптались, пришлось их легонько подтолкнуть, и вот мы уже внутри старинного храма. Там к вечерне завершали уборку, первые прихожане прикладывались к иконам. Мы встали к стойке, я протянул Юле и Лёве листочки бумаги и авторучки. Купил у девушки за свечным ящиком и положил перед каждым брошюрку «Первая исповедь». И они занялись исследованием своей души на предмет её греховности.
Они стыдливо прикрывали ладошками текст на бумаге. Они удивленно поднимали брови, узнав что-то новое для себя. Они сокрушенно качали головами и глубоко вздыхали — в душе происходила великая очистительная работа. Вот послышались первые возгласы хора. Вышел священник, положил на аналой крест и Евангелие, и мы встали в очередь на исповедь. После исповеди мы выстояли службу, обошли иконы — от них исходил аромат. Но больше всего нам понравилась рака с мощами святых. Прежде чем приложиться к ней, мы так долго читали таблички под медальонами, что стоявшие за нами в очереди стали ворчать. Мы извинились, я объяснил, что мы здесь впервые, тогда народ понимающе закивал, а один посоветовал купить фотографию раки со списком святых на память, что мы и сделали. Вышли мы из храма, я взглянул на них, не удержался и сказал:
— Какие вы красивые! Ну вот вы и познакомились с Богом. В таинстве исповеди Господь Бог лично общается с человеком. Священник здесь — только Его свидетель. Помните, какие слова говорил священник? «Властью, данною мне Господом Богом, я, недостойный иерей, отпускаю вам грехи». Сейчас ваша душа чиста как у младенца. Ох, если бы мы такими остались навсегда!
— Спасибо тебе, Юра, — тихо сказал Лёва. — Я и не думал, что это так просто и… близко. Ничего подобного я еще не испытывал. Мне очень хорошо!
— И мне тоже, — призналась Юля. — Спасибо тебе, дорогой. А ты заметил, что у меня все так гладко прошло, даже испугаться не успела. А в воскресенье — к Причастию!
— Заметил, — кивнул я. — Ты вот Лёву благодари — это он нас подвигнул на исповедь своим «вычислением Бога». Дивны дела Твои, Господи!
От пережитых волнений мы почувствовали приступ голода и зашли в арбатский «Кофе-Хаус». Я подошел к стойке, ждал заказ и поглядывал на своих друзей. Они сначала рассматривали странных парней, уткнувшихся в ноутбуки, девушек, весело щебетавших между собой и по сотовому телефону, не забывая постреливать глазками в сторону мужчин. Но вот Лёва что-то сказал Юле, она ответила, и у них завязалась беседа. Когда я подходил с подносом, до меня долетела фраза Юли:
— А я так тебя боялась! Думала, такой умный дядечка. Куда мне с ним разговаривать!
— А я тебя! — широко улыбался Лёва. — Ты такая красивая! Куда мне рядом с такой красавицей!
— Ну вот и наш гламурный зеленый чай с культовым штруделем, — встрял я в разговор. — Вы не соскучились?
— Какое там! Можно сказать, снова познакомились.
— Ну вот и славно, и трам-пам-пам, — пропел я из какого-то водевиля.
Потом пили чай, бродили по старому Арбату, дошли до американского посольства, сломали шеи, разглядывая высотку и вспоминая стихи «А на площади Восстания, у высотного здания стоит высотный постовой». Потом свернули на Малую Грузинскую и попали на выставку в подвале доме, где жил Высоцкий. Долго стояли перед необычными картинами: «Семь смертных грехов», «Предчувствие Бога», «Сон о потерянном рае», «Кони Апокалипсиса». В кафе к нам подошла художница, представилась: «Наталья» и попросила помочь вынести картину.
Мы с Лёвой несли огромное полотно с обнаженными девицами в стиле Кукрыниксов, а Наташа рассказывала, что эту картину сняли с выставки, потому что в комиссии одни профаны: «Классическую тему «Суд Париса» снять!» Потом нас не впустили в метро, и мы пешком дошли до какого-то особняка-развалюхи, в котором и находилась Наташина студия. Внутри помещение выглядело еще более запущенным. Всюду стояли, валялись, висели картины с карикатурным изображением обнаженных тел. Одна пышная фигура на полотнах часто повторялась. Наташа объяснила, что это любимая натурщица по имени Диана, которую она пишет больше двадцати лет. Художница сбросила со стола худющую облезлую кошку, достала из старенького холодильника «Ока» плетеную бутыль болгарского вина, колбасу и селедку. Разрезала. По мастерской разлился запах тухлятины. Лёва отшатнулся от стола и смущенно сказал, что эти продукты употреблять внутрь нельзя. Хозяйка посмотрела на него уничтожающим взором, но тут же забыла об этой мелочи, переключившись на «Суд Париса», видимо, излюбленную тему.
— А что за суд такой? — опрометчиво спросил Лёва.
— Ты совсем тупой? — взвизгнула Наталья. — Или прикидываешься?
— Да я по другому вопросу, Наташ, — смущенно объяснил Лёва. — Физика, математика, логика, статистика…
— Ну-ка расскажи что-нибудь, — сменила гнев на милость хозяйка.
— Существует семь неразрешимых задач, за решение каждой из которых один американский институт дает премию в миллион долларов, — сказал Лёва, пригубив красное вино. — Так вот одну из них я недавно решил — теорему Пуанкаре. А потом заглянул в Интернет и узнал, что её же решил один питерский математик Григорий Перельман, сын того самого Перельмана, который написал «Занимательную физику».
— Ну и что? — подпрыгнула Наташа. — Ты миллион свой получил? Может, дашь взаймы? Я бы тут ремонт сделала, персональную выставку организовала.
— Ни я, ни Григорий ничего не получили. Он отказался, а я и публиковать не стал. Ему предложили соавторство, он не дал согласия, за что выгнали из института. Сейчас живет с мамой на её пенсию и скрывается от папарацци. А мне сам процесс был интересен. Эта теорема подтверждает теорию происхождения вселенной из одной точки.
— Вот это да! — открыла рот Наталья. И восхищенно протянула: — Ну ты, Лёвка, и шляпа! Ну ты и гений! Ну ты и лох…
— Дай руку, друг, — сказал я, протягивая к нему обе конечности. Мы обнялись. — Вот это уважаю, Лёвушка! За это я и перед тобой, и перед Перельманом цилиндр снимаю.
Вышли мы от художницы поздно ночью, неся подмышкой два небольших полотна с вариацией на ту же на тему «Суд Париса». На сероватом небе поблескивали несколько блеклых звездочек. С Москвы-реки веял приятный ветерок. Мы еще долго бродили пешком и весело разговаривали о том, о сём. Нам было удивительно хорошо вместе.
Рычание льва на закате
Следующим погожим утром сидели мы на кухне и завтракали. Лёва посетовал на то, что дома у него на руках больная мамаша. Он с большим трудом оставил её на попечение соседки Виктории Павловны, подкрепив сыновью просьбу немалой суммой премиальных. Тут я и вспомнил об одной своей «сетевой» знакомой.
— Представляешь, Лёва, получил я как-то по Интернету письмо от девушки. Не при Юле будет сказано. И таким оно мне показалось добрым, светлым. Стал я с той Олёной переписываться. Всё не давала мне покоя загадка: откуда у современной девушки такая отзывчивость, доброта и детская восторженность ко всему красивому. Не сразу, конечно, но месяца через три девушка открылась. Оказывается, с раннего детства она хлебнула нищеты и горя. Представь себе, по шикарным одесским бульварам идут две сестрички пяти и семи лет. Они не цветочки нюхают, не с подружками играют, а… ищут, чтобы им покушать. Подбирают почерневший банан и конфетку. Делят пополам, а кожуру банановую не выбрасывают, а берут с собой, чтобы вечером суп из нее сварить на ужин. Я ведь чего подумал сейчас! А давай, Лёвушка, я ей предложу посидеть с твоей мамашей. Насколько я понял, жить ей негде, девушка она не избалованная…
— А это идея! — закивал он головой. — Давай!
— А давай мы с тобой реализуем вчерашнюю нашу идею и проэкстраполируем, что ли… Смоделируем вашу ситуацию в будущем, а?
— Давай! Только введи побольше данных, а я подхвачу.
— Ну, представь себе, что Олёна соглашается, переезжает к тебе. Вы согреваете последние дни старушки и провожаете ее в последний путь. А я тебе все это время твержу, как по тебе скучаю, как мне нужен свой надежный человек в бизнесе. И вы с новобрачной приезжаете сюда и на первое время занимаете мой дом в Подмосковье. У тебя, под моим чутким руководством, в бизнесе идут дела, ты зарабатываешь кучу денег, обуржуазиваешься…
— Так, всё понял, — сказал Лёва, — готов продолжить импровизацию в стиле сенегальского эпоса «Плач гиены». Ты начинай, а я вступлю вторым голосом.
— Поехали! Назовем это:
«Рычание льва на закате»
Лев Евгеньевич, мужчина приятной наружности, в окладистой бороде и кустистых бровях, на вид чуть больше сорока лет, в потертой джинсовой паре от Кензо, сидел у мощного компьютера с двухъядерным процессором «Эппл». Он аккуратно доедал пятый юбилейный бутерброд с черной икрой, от «Стокманн», отхлебывал из чашки севрского фарфора английский зеленый чай с лепестками бахчисарайской розы и просматривал почту, присланную ему по Интернету.
Небрежно пробежав по многочисленным предложениям кредитов, туристических туров и недвижимости, он наткнулся на странное письмо. То есть, на первый взгляд всё в нём было обычным: новости, сплетни, анекдоты, воспоминания… Вот только в самом конце письма Лев Евгеньевич прочел: «Знаешь, Лёвушка, что меня больше всего подкупает в людях? Вот этот сознательный — ради Христа — отказ от благ» и чуть дальше: «ибо всё ко спасению, всё к тому самому вожделенному раю, где все мы будем чистенькими, лучистенькими, румяненькими, ароматными и ясноглазыми».
Лёва резко встал и возбужденно забегал по кабинету на третьем этаже загородного особняка в посёлке бывших членов ЦК КПСС Жуковка. На шум опрокинутого кресла (из натуральной кожи, с подогревом, вентиляцией и вибромассажом) прибежала супруга Олёна, женщина тихая, преданная жена и верная другиня.
С тех пор, как президент Украины пересчитал оставшихся дома чернобровых красавиц и был шокирован их несанкционированной убылью, он объявил девушек национальным достоянием номер три (после сала и горилки), и запретил им покидать пределы Нэньки-Украйины, разве только с его личного разрешения. А наш-то Лёвушка к тому времени уже влюбился в румяную чернобровую Олёнку, поэтому с великим трудом вывез её за границы Нэньки с помощью знакомого Нэньковского коррумпированного таможенника и за очень дополнительные сверху.
— Дорогой, у тебя всё Оу-Ка-а-ай? Пробле-е-емы? — едва слышно спросила она, часто взмахивая длинными пушистыми ресницами, обрамлявшими дивные очи цвета антикварного морёного каштана. Затем, увидев мужа расстроенным и возбужденным на манер уголовного дела, напрочь забыла рублёвский сленг и сказала на привычной мове: — Тю, а чого мий коханый чоловиче ось так журытся? Хто цэ до тэбэ трымае?
— Ты знаешь, дорогая, как я тебя люблю и все такое, я неоднократно докладывал тебе по вышеозначенному вопросу, но этот Юрка всё же вывел меня из меня!
— Тю, и чого ты так злякався? Чого вин тоби запропоновав такэ стрешнэнькэ? Вин, мабудь, нэ такый уж злодий, як на пэршый погляд здаецця.
— Же-но! — завопил строгий муж с очень высшим образованием. — Вернись обратно в лоно великого и могучего русского языка!
— Ладно, дорогой, конечно, — прошептала она. — Прости, я за тебя волнуюсь. Всё у нас так хорошо: и дом, и мебель, и ковры, и одежда — ну всё как у людей. Нам бы жить и радоваться…
— Вот-вот! И я того же мнения! Был…— взлохматил Лёва растопыренной пятерней львиную шевелюру. — А он! — показал длинным перстом с маникюром и золотой печаткой на экран 37-тидюймового монитора «Сони», — Юрка этот, шоп ото ему было хорошо, мне сейчас доказал обратное.
— Та не слухай ты його, дытыну нэразумну, Юрко одразу дурный бувае, — взмолилась жена, от волнения снова перейдя на заграничный язык.
— Не могу! Ты понимаешь, Олёнушка, еще вчера мог, а сегодня прочел — и уже всё! не могу! Ох, и прелестник! Ух, и назорей! Ых, и зилот! Уел! До самой печенки догрыз меня! — Потом повернулся к жене и зловеще протянул: — А тебя, дорогая, я попрошу покинуть помещение и съездить в бутик. Помнишь, тебе давеча розовый кардиган от Диора приглянулся.
— А нэ пойиду, — опустив прекрасные глаза, впервые в жизни ослушалась мужа верная супруга. — Та навищо мэни той кардыхан. Ни, нэ трэба… А то наробыш ото лышенька…
…Но было уже гораздо позже, чем казалось!
Лев Евгеньевич запрокинул гривастую голову, отверз рот, спрямил мышцы горла, превратив гортань в басовую трубу органа, и взревел, как раненый лев!!!
(…Как утверждает канал «Дискавери», звук львиного рычания раздается на расстояние до 70-ти километров. Ххха!.. Звуковой шквал от рёва Льва Евгеньевича трижды обогнул планету Земля, повсеместно наводя ужас и сея панику.
Сошел с рельсов скоростной экспресс «Токио-Иокогама» и, глиссируя по поверхности океана, достиг северного побережья Австралии.
На шоссе № 98Р в 4 км от богемного пригорода Делягинска — Нижние Мурдюки — в эскорт местного олигофре… олигатора… олигарха Панаса Дремучего из 3-х мерседесов врезался на телеге с навозом потомственный пастух Апполоныч, причем старик даже не проснулся и спокойно доехал до своего огорода, где и свалил навоз на грядку с редиской, а обугленные фрагменты автомобилей эскорта долго еще собирали с площади в 13 кв.км.
Абиссинский гамадрил Нго-Мну, сбежавший из стада на свидание с юной мечтательной макакой Мм-Даа, от внезапного звука сел на красный мозолистый зад, напрочь забыл о романтичной макаке и в ужасе вернулся в стадо, где неделю просидел в пещере, прикрываемый тремя старыми самками.
Вернулся в Москву и добровольно пришел с повинной в Гепрокуратуру Березовский в телогрейке с узелком со сменой белья подмышкой.
Иранские мальчишки, запуская самодельную ракету, собранную из неразорвавшегося кумулятивного снаряда, неожиданно сбили бомбардировщик ВВС США Б-52 с двенадцатью водородными бомбами на борту. Международное сообщество объявило: нашедший двух мальчиков и водородные бомбы получит вознаграждение суммой 99 долларов 99 центов.
В Берлинском зоопарке слониха-альбинос родила черного теленка, после чего слон неотрывно смотрит в сторону соседнего вольера с бычком-брюнетом из Техаса, который ласково наблюдает за первыми робкими шажками новорожденного.
В Париже в русский ресторан «Максим» вломился Усама-бен-Ладен, выпил из горла литровую бутылку «Смирновской», закусил поросенком под хреном, попросил у метрдотеля политического убежища и навзрыд запел: «Я люблю тебя, Росси-ия, дорогая мой Ру-усь!..»
Абрамович проиграл в подкидного дурачка всё своё состояние старейшей жительнице Магадана многодетной вдове Зинаиде Задорожной (это ей посвящена знаменитая песня «Но любил я Зинку, Зинку-хулиганку, пальцы все в наколках, золотой оскал»), и та на радостях купила себе электрическую мясорубку, а деткам — мороженое.
Ну и так, по мелочам:
Америка неожиданно для себя избрала темнокожего президента, проснулась на утро, отрезвела, а уже поздно.
Рухнули сотни транснациональных корпораций и банков мира.
Начался всемирный экономический кризис.)
…А в это время… Завершив свой эпохальный рёв, Лев Евгеньевич схватил решительно золотую телефонную трубку «Верту» и рявкнул в неё:
— Это транспортная фирма «Эх, прокачу»? Немедленно пригоните три грузовика и десяток грузчиков. Пишите адрес…
Через десять минут во двор особняка с благодушным рычанием въехали грузовики «Магирус Дейц» и рабочие в оранжевой униформе стали выносить из дому роскошную ампирную резную мебель, привезенную из Швейцарии. Потом в кузов грузовика полетели ковры, аппаратура, посуда и мешки с одеждой.
Лёва зычным решительным голосом давал команды на вынос. На пороге дома стояла оробевшая Олёна и прижимала к груди авоську с алюминиевыми мисками и ложками производства Криворожского танкового завода, подаренными мамой перед выездом любимой дочки за рубеж. Всё её существо вопило: «А вот и не отдам! Это память от мамы и последняя посуда!»
Грузовики уехали в сторону мусорной свалки, взметнув за собой серую пыль и голубоватый дым выхлопных газов. Лев Евгеньевич подошел к жене и, бережно обняв, сказал мягким голосом:
— Ну правда же хорошо стало! Как заново родились.
— Правда, — устало кивнула она. Потом подняла на мужа дивные карие очи, мощно ими просияла и, белозубо улыбнувшись, сказала: — А на ужин запечем картошку на костре. А запивать станем водой родниковой. И чтоб песни под гитару…
— А завтра на заре возьмём рюкзаки и пойдем странствовать по Руси Святой.
— А на Украину заглянем? — мечтательно пропела грудным голосом Олёна.
— А как же, — кивнул лобастой головой Лёва и, сверкнув глазами, сказал: — Там же у нас Киево-Печерские святые, оттуда же Русь пошла быть!
В ближнем перелеске самозабвенно заливался соловей.
В самшитовом кустарнике у забора стрекотал сверчок Карузо, привезенный в коробочке из-под пудры «Чио-Чио-Сан» из приднепровской степи.
На небосводе багровели всполохи заката, словно давая прощальный салют уходящему дню прежней жизни.
Но летние ночи коротки.
Не успеешь проводить закат, как на востоке уже светлеет заря нового дня, заря новой жизни.
Печаль великого гроссмейстера
В то утро мы и не знали, что почти всё, что мы наимпровизировали в нашей «экстраполяции», воплотится в реальной жизни. Только ушли Лёвушка с Олёнкой не по Руси бродить, а в нашу общину, о которой и пойдет речь.
Началось это, пожалуй, в те времена, когда православное сообщество разделилось на две части. Это был не раскол, а та самая ситуация, о которой Апостол сказал, что надобно быть и разномыслиям, дабы выявился искуснейший. Тогда в церковной среде шла полемика между сторонниками и противниками канонизации Царя Николая Второго.
Наш духовник отец Марк не только не сомневался в святости Государя и его семейства, но вместе с диаконом написал два списка с государевых икон и поместил их в алтаре. В день убиения Государя с семейством он отслужил молебен и обошел крестным ходом свой храм. Обе иконы во время крестного хода сначала благоухали, потом покрылись росой мира и пролились целебными слезами. В тот день довелось и мне участвовать в нашем приходском прославлении Государя-страстотерпца. А по молитвам отца Марка — еще и увидеть будущего Государя в тонком сне.
Той бессонной ночью, когда на черном небе за окном вспыхивали зарницы далекой грозы, когда граница между сном и явью исчезла… Я отчетливо увидел следующее.
Это случилось за несколько дней до начала Третьей мировой войны.
В Москву прилетел некий господин, которого встречали с особым почтением. Это выражалось не в личной встрече первых руководителей государства, ни почетным караулом, а покорным исполнением воли высокого гостя. Он вел себя так, будто именно он и был хозяином положения.
У трапа самолета его приезд для вечерних новостей снимали только правительственные каналы телевидения. Господин сверкнул белозубой улыбкой, взмахнул рукой и, не дойдя до шеренги высших чиновников, скрылся в черном лимузине, стоявшем у трапа самолета.
— С приездом, господин Великий Гроссмейстер, — воскликнул сидевший в машине седой мужчина в черном костюме.
— Просто Гроссмейстер, — бросил тот, глядя в окно. — А то получается «масло масляное».
— Но, по-моему, это будет звучать излишне демократично.
— Вы имеете в виду тех шутов, которые двигают игрушечные фигурки по клетчатой доске? …И считают, что заняты чем-то серьезным? Полноте! Мы-то с вами знаем, что гроссмейстер может быть только один на весь мир.
— Совершенно с вами согласен. Как чисто вы говорите по-русски!..
— Я на всех языках говорю чисто. Мы поедем, наконец?
— Но мы еще не знаем, куда? Вы не выбрали апартаменты, которые вам подойдут. Мы заказали для вас три номера.
— Пусть все три останутся за мной. А сейчас едем в первый по списку.
— Вот, господин Гроссмейстер, предлагаемая вам программа…
— Никакой программы, — сказал тот, даже не глянув на протянутый буклет. — Я буду встречаться с теми и тогда, когда мне это будет удобно и желательно. Они мне будут еще навязывать свое мнение!..
— Нет, что вы! Ни в коем случае, — засуетился встречающий. — Но как же сегодняшняя встреча с самим? — он поднял глаза кверху, где сквозь голубое стекло люка белели кучевые облака. — Для вас специально оставлено окно в три с четвертью часа.
— Когда скажу, тогда и примет, — пробурчал гость. — Невелика шишка.
Остальное время до самой гостиницы «Балчуг» в салоне лимузина царила тишина. Гость не без любопытства смотрел в окно, не на здания, — на людей.
В свой президентский номер он вошел один, бросил через плечо встречающему господину «свободен» и захлопнул за собой дверь. Сел в кресло, из кармана достал трубку телефона, нажал кнопку и сказал: «Через час едем в бункер». Этот час он просидел в кресле с закрытыми глазами.
Бункер находился на глубине сорока метров и представлял собой бетонное сооружение, построенное для управления страной на случай ядерной войны. Гроссмейстер расположился в центре зала управления. Перед ним на огромной стене светились десятки экранов.
— Начнем, — сказал он худощавому помощнику Дэну из компьютерных гениев. Тот сел за пульт и положил длинные пальцы пианиста на клавиатуру. На экранах стали сменяться картины. Замелькали лица знаменитых людей, программы новостей, шоу-программы, кинофильмы, реклама.
Гроссмейстер сидел в кресле, сложив руки на трости с золотой головой льва и с полусонным выражением лица смотрел на экраны. Иногда он поднимал руку, и Дэн ставил метку на картине. Через час-полтора важный зритель попросил повторить помеченные кадры, к которым он проявил интерес.
— Эти что делают? — спрашивал он.
— Жрут, — пояснял Дэн. — Это кулинарное шоу.
— А эти?
— Это юбилей. Тут принято льстить и засыпать подарками.
— Это что?
— Вручение призов фестиваля.
— За что? Я не помню ни одного талантливого фильма за последние десять лет.
— Но они служат вам верой и правдой! За это им честь и слава.
— А эти счетоводы что делят?
— Заседание антикризисного комитета. Они деньги раздают. Нашим, конечно.
«Одни уроды и жулики. Ну хоть бы одно умное лицо!» — бурчал под нос Гроссмейстер.
— Ну-ка, дай тот ролик с главным храмом. Там что-то необычное было…
Все мониторы стали одним огромным экраном. Сначала долго показывали руководство со свечами в руках, потом роскошные фрески и золотой иконостас. Но вот Гроссмейстер напрягся и впился в экран глазами. Дэн замедлил показ. Великий зритель разглядывал лица людей в храме.
— Теперь тоже, только в других храмах.
Снова на экране появились лица простых людей: бородатых мужчин, женщин в платочках, детей, стариков… Гроссмейстер вглядывался в них, как Черчилль на обходе русских солдат почетного караула в Москве.
«Почему эти-то за мной не идут? Какие светлые лица! Какие глубокие глаза! — бормотал он под нос. — …Ну почему мне достаются одни уроды с рылами вырожденцев, с бегающими поросячьими глазками?»
…В кармане пиджака Гроссмейстера запищал телефон. Он достал его, взглянул на экран дисплея и удивленно вскинул брови. Поднес трубочку к уху и замер, приоткрыв рот.
— Но как вы узнали? Впрочем, что это я… Простите. Да. Конечно. Немедленно буду.
Гроссмейстер надел парик, поработал над гримом лица, оделся в поношенный плащ, нахлобучил кепку и вышел из номера.
За столиком неприметного кафе в одном из центральных московских переулков сидел один единственный посетитель. Гроссмейстер подошел к сидящему, слегка поклонился и, получив разрешение, присел на свободный стул.
— Или у вас самая невидимая в мире охрана, или ее вообще нет, — сказал Гроссмейстер мягким голосом.
— Ты знаешь, кто меня охраняет, и насколько эффективно, — сказал хозяин.
— Однако вы здесь инкогнито, — слегка улыбнулся гость.
Хозяин взглянул в глаза Гроссмейстеру. Тот, будто обжегшись лучом лазера, опустил глаза и часто заморгал.
— Не забывайся. Привык иметь дело с холопами.
— Простите.
— Приехал кошельком трясти и собирать урожай? Ты же знаешь, что твои деньги ничего не стоят.
— Они пока работают…
— Да, верно, натворил ты у нас бед.
— Все в рамках дозволенного.
— Скажи… Как ты там себя называешь сейчас?.. Гроссмейстер? Шут гороховый! Скажи, неужели тебе не противно падаль подбирать?
— В смысле?
— Падаль — это то, что падает. В животном мире это трупы, в человеческом обществе — падшие люди.
— Но ведь люди! Божьи создания!
— Те, кто Божьи, никогда за тобой не пойдут. Оглянись. Ты видишь людей. Сколько из них тех, кто молится Богу? Они незаметны, они это делают сокровенно, при закрытых дверях, ночами. Они не лезут на экраны вашего телевидения.
Гроссмейстер выпрямил спину, вцепился в край стола, побледнел.
— Видимо, тяжко тебе тут приходится, — сказал хозяин. — Храмы, наверное, за версту обходишь?
— Не все. Впрочем, вы правы. С каждым часом мне хуже. Пора улетать.
— Да уж. Скоро праздник. Будет крестный ход. Можешь и окочурится.
— Простите, позвольте мне откланяться.
— Прежде чем ты дашь дёру, изволь проявить вежливость. Некрасиво обращаться к человеку, не называя его.
— Простите, ваше величество!
— Вот так уже лучше, господин падальщик. Ладно, беги, лукавый предтеча. Беги, актер погорелого театра. А то ведь на подходе разочарованная обманутая публика. Могут тебе и личность попортить. Слышишь «гром победы раздавайся»?
— Я больше не могу, ваше величество! Отпустите! Прошу…
— Свободен.
— Слушаюсь и повинуюсь.
Тот, кто называл себя Гроссмейстером, встал и, согнувшись, будто от боли в животе, быстрым шагом удалился.
Хозяин смотрел ему вслед и шептал:
— Сколько людей соблазнил! Ну ничего, многие скоро очнутся от этого наркотического сна. Последнее слово будет за нами. Помоги мне, Господи.
…Вдруг я понял, что стою рядом с Государем. Он поднял на меня глаза и сказал: «Знаю, вы ждете моего прихода к власти. Не волнуйся, я приду, когда будет на то воля Божия, когда вы будете готовы меня принять, как желанного гостя и хозяина. Прошу ваших молитв».
Последняя волна
Все эти события, связанные с Государем Николаем Александровичем и царем будущим, буквально перевернули нашу жизнь. Как-то заехал в наш храм владыка, увидел в алтаре государевы иконы и потребовал их вынести и сжечь. Отец Марк обратил внимание владыки на то, что иконы непрестанно мироточат, что является неоспоримым свидетельством того, что Господь Сам прославляет Царя и его святое семейство.
— Все эти чудеса показывают нам, что Царские страстотерпцы будут прославлены нашей Церковью, как они уже прославлены Зарубежной.
— Только через мой труп, — вскрикнул владыка и с великим возмущением покинул храм.
— Как пожелаете, — прошептал отец Марк.
Через месяц владыка скончался от сердечного приступа. Хоронили его в закрытом гробу.
— Знаешь, Юра, какие обвинения выдвигают противники канонизации Государя Николая? Те же, что в своё время фарисеи — Спасителю. Это, конечно, слабохарактерность, использования волхвования с помощью нечистой силы. Разумеется то, что не победил врагов и не изгнал их из страны, не пресёк предательства. По окружению прошлись, выплеснув лавины лжи на их головы. А как же! Не с интеллигентными фарисеями дружил, а с простым народом из глубинки, не с заумными богословами, а с подвижниками чистой веры. Не могут простить Божиего помазания, добровольной жертвенности за народ. И так пункт за пунктом. И те же приёмы: ложь, лжесвидетельства, вот это — «пусть лучше один погибнет, чем весь народ», предательство за серебренники. А как они себя выгораживают — целую религию придумали, чтобы убийство своё оправдать. Сколько денег ухлопали на это, сколько людей подключили! Это же целая медиа-империя — фильмы, газеты, книги, премии! И наказание нынешним противникам будет то же: кому петля на осине, кому «дом ваш будет пуст», а кому «камня на камне не останется». Несчастные, бедные люди!
Государь Николай Александрович со святым семейством Архиерейским собором был причислен к лику святых. На место покойного владыки прислали другого — епархиального бухгалтера. С его появлением храмам и монастырям увеличили отчисления в епархиальную казну. Священники и монахи стали носиться по благодетелям и заработкам с трубками сотовых телефонов в обеих руках — делали деньги. Только отец Марк по-прежнему продолжал молиться и принимать страждущих, большинство безмездно. Тут ему новый владыка припомнил непослушание прежнему епископу и вопиющее невыполнение нынешнего плана денежных поступлений — и прогнал из епархии отца Марка вон.
Отец Марк передал дела новому настоятелю, собрал небогатые пожитки и вместе с диаконом отбыл в неизвестном направлении. Через месяц позвонил диакон и сообщил, что их довольно тепло принял один южный архиепископ, знакомый батюшке по Афону. Помолился владыка, подумал по-стариковски неспешно и отправил отца Марка в дальний приход, «подальше от глаз начальства, которого велено бояться и на глаз лишний раз не попадаться».
Многие духовные дети батюшки поехали за ним. Кто-то продавал квартиры, кто-то сдавал в наём, приезжали в глухое село и покупали там недорогие дома.
Не сразу и далеко не в первых рядах приехал к отцу Марку и я.
Отдыхали мы как-то в августе в Сочи. Народу — тьма, жара — не продохнуть, от автомобилей в воздухе непрерывно висел удушливый смог. Мы всем нашим семейством с детьми и двумя бабушками ходили на пляж, как на работу, и терпели все издевательства нашего сервиса. В ушах постоянно стояли вопли: «горячие хачапури!», «холодное пиво!», «домашнее вино!», два дня на пляже у самой кромки воды плескалось полуобглоданное тело мертвого дельфина; по воде, прямо между телами плавающих отдыхающих с ревом носились водные мотоциклы. На рынке и в точках Общепита круглые сутки в очередях стояли потные голодные люди. Через неделю самоотверженного загорания на пляже и купания в мутной воде, пахнущей бензином, тухлой рыбой и мочой — мы устали и решили хотя бы разок пропустить посещение пляжа.
В тот день и произошло одно событие, которое почему-то надолго запомнилось. Может быть потому, что я его обозначил для себя, как «последняя волна». Да, это было похоже на волну, которая нахлынула и накрыла с головой. Зашли мы на рынок, выбирали овощи. Взял я в одну руку плоский и розовый помидор, в другую — круглый и бордовый… Вдруг под сводами здания, в просторном воздушном пространстве пролились аккорды электропиано и первые слова «Time, it needs time…» суперхита «Scorpions» «Still loving you» — я замер с помидорами в руках, да так и простоял до конца песни неподвижно. Потом оглянулся, нашел источник звука и бросился к прилавку, за которым торговал дисками печальный мужчина лет пятидесяти в бейсболке с логотипом «NY». Из-под кепки выбивались седые длинные волосы, стянутые резинкой в жиденький, но длинный хвост. Нет, диск «Скорпионов» мне не достался — кто-то более прыткий выхватил его у меня из-под носа. Зато странный торговец сказал, что «если уж так вставило», то на набережной есть кафе «Ностальгия», где собираются любители «старого доброго рока», и пригласил меня «зайти на огонёк».
Вечером, поручив детей нашим бабушкам, спустились мы с Юлей на набережную и вошли в переполненное кафе. С трудом отыскали свободный уголок на краю длинного стола и присели в тесноте, да не в обиде. Окружали нас не только седовласые любители классического рока, но и молодые пары. Мы заказали «просоветские» кильку в томате, салат-оливье, котлеты по-киевски — и погрузились в уютный, теплый, ароматный ностальгический омут. На миниатюрной сцене в окружении микрофона, колонок, микшера и двух ноутбуков сидел давешний торговец дисками с черно-красной гитарой «Gibson» в тонких волосатых руках. Все его тут звали Бобом. У него над головой плазменный экран крутил видеоклипы культовых групп. Нам достались знаменитые «Лесница в небо» «Лед Зеппелин», «Июльское утро» «Юрая хип», «Дым над водой» «Дип пёпл», «Перекресток» «Криденс», «Ле Гранж» «Зи-Зи Топ», «Калифорния» «Иглз Эйр», «Ходить по-египетски» «Бэнглз». Народ в кафе ушел в отрыв: они подпевали, безбожно фальшивя, по рукам ходили емкости с яркими цифрами «777» и «33», все обнимались, что-то друг-другу шептали, закатывая глаза. Вдруг встали двое разгоряченных седых мужей с пивными животами. Грохнули стулья и встала тишина. «Это «Лед Зеппелин» ты назвал туфтой?» — «Терпеть их не могу!» — «Так! Выйдем-ка на улицу, я тебе сейчас пару ласковых скажу!» — «Да не проблема!» Забияки вышли, следом за ними выскочил Боб. Вернулись через минуту втроём в обнимку. И всё продолжилось. Потом Боб откинулся на спинку стула, отхлебнул кофе и стал рассказывать о Борисе Гребенщикове и его группе «Аквариум».
О, БГ был гениален! БГ был обожаем! БГ был дивно красив и любим не только чувствительными дамочками, но и мужчинами. «Он Бог, от него сияние исходит!», — уверял цеховика и поэта Олега Крымова мальчик Бананан в фильме «Асса». Но увы, лично я не мог похвастать обожанием БГ. Его уход в буддистскую нирвану и «чисто интеллигентский винегрет в голове», когда «Иисусова молитва и мантры — одно и то же» — не могли вызвать во мне ничего кроме жалости: в буддизм легче вляпаться, чем выйти из его смертельных объятий. Ну не въезжаешь ты в тонкие материи, так и молчи, за умного сойдешь, ворчал я Борису в мысленном диалоге. Но музыкантом он был, конечно, великолепным, что я признавал, и отчего мучился еще больше.
Потрёпанный безденежьем, алкоголем и анашой рокер Боб исполнял удивительно красивые песни «Гарсон номер два» («Так гарсон номер два, гарсон номер два. То разум горит, а то брезжит едва. Но мысль мертва, радость моя, а жизнь жива. А все это сон, гарсон номер два…»), «Поезд в огне» («Я видел генералов, Они пьют и едят нашу смерть, их дети сходят с ума От того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, Церкви смешали с золой, И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, Время вернуться домой»), «Дубровский» («Не плачь, Маша, я здесь, Не плачь, солнце взойдет; Не прячь от Бога глаза, А то как он найдет нас? Небесный град Иерусалим Горит сквозь холод и лед, И вот он стоит вокруг нас, И ждет нас, и ждет нас…»), «Серебро Господа моего» («Серебро Господа моего, серебро Господа. Hо разве я знаю слова, чтобы сказать о Тебе. Серебро Господа моего, серебро Господа. Выше слов, выше звезд, вровень с нашей тоской»).
Завершила вечер длинная композиция на тему песни «Под небом голубым». Сначала Боб рассказал историю этой таинственной песни, подглядывая в мятый листок бумаги с карандашными каракулями. Оказывается, написал песню «Рай» в 1973-м Алексей Хвостенко на слова ленинградского поэта Анри Волохонского и музыку Франческо да Милано в обработке Владимира Вавилова, сыграл её на гитаре и разошлась она по всей стране в магнитоальбомах. Услышал Борис Гребенщиков её в 1976-м на спектакле «Сид» по пьесе Корнеля в студии Эрика Горошевского «Радуга», где песня «Рай» звучала в качестве музыкального сопровождения. В том спектакле играл одну из ролей клавишник «Аквариума» Андрей "Дюша" Романов. Видимо, БГ песня «зацепила», и он стал ее исполнять на своих концертах, потом она прозвучала в фильме «Асса», когда Алика с Банананом поднимались в кабинке фуникулера над крышами старой Ялты. На первых порах автор песни значился неизвестным: Вавилов тогда умер в возрасте 47 лет, а Анри Волохонского за прозрение Небесного Иерусалима КГБ выслал на родину предков, в Иерусалим земной. И лишь спустя многие годы автор замечательных слов стал известным и публично благодарил БГ за то, что песня без малого сорок лет поётся на Родине и стала столь популярной. (Ну и разумеется, — ворчал я себе под нос, — авторские «Над небом голубым», не сумев прозреть нечто выше небесного свода, БГ изменил на вполне земные «Под небом голубым». Ох уж этот интеллигентский винегрет в голове!..)
Но вот прозвучали первые аккорды акустической гитары, БГ прошептал «Под небом голубым»… (Я в последний раз дернулся, вздохнул, и растворился с медленном течении райской реки.) «…есть город золотой, С прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, всё травы да цветы; Гуляют там животные невиданной красы…» Мы с соседями обнялись и, раскачиваясь в такт музыке, подпевали. Сейчас мы — ностальгирующие и просто заглянувшие послушать хорошие песни — стали одним народом, одной душой, единым дыханием. В тот миг не было у меня претензий ни к кому и ни к чему, я любил БГ, Боба, Юлию, потных пьяных соседей и… всех — и все любили меня. «Тоже мне, нашел Боб, кем закончить такой шикарный вечер. Да БэГэ — это отстой!» — «Может, выйдем!» — «Да ладно, старик, это я так, «тихо сам с собою» » — «Вот и давай, пацан, чтобы тихо! Не ломай кайф солидолам!» Потом вывалились мы гурьбой из кафе, пошли по набережной и нехотя разбредались по домам, провожая каждого крепкими объятьями и шлепками по спине. Стояла черная южная ночь и в тишине там и тут раздавались удаляющиеся, затихающие старые песни.
Уложив усталую подругу жизни в постель, обойдя бдительным дозором комнаты с мирно сопящим населением, я вышел на веранду и погрузился в созерцание ярких звезд на черном небе, огромного ночного светила, плеснувшего на зеркало моря жидкое серебро лунной дорожки. Вот, оказывается, как на самом деле! Люблю я!.. До сих пор люблю рок-музыку. И даже БГ прощаю его либеральные заскоки и способен снова и снова до боли в сердце, до слез слушать эти старые песни, которые так легко уносят меня от пыльной земли в чистые небесные высоты. Что это? Шизофрения? Остаточный бред, умирающего во мне мира сего? Застарелая страсть, и не думавшая покидать мою душу? Господи, прости меня! Но я это по-прежнему люблю… Заснул я в ту дивную ночь с первыми лучами восходящего солнца.
А наутро налетели облака, потом серые тучи — и пролился веселый дождь! Взяли мы с Юлей зонты и под мягкий шорох теплой небесной водицы гуляли по опустевшим улицам. Приятно благоухали намокшие цветы, листья платанов и акаций, блестели будто покрытые лаком пальмовые лопасти. Пенилась морская волна, поднятая легким штормом. Горы заволокло голубоватыми облаками. Улицы и набережные стали тихими, уютными. Только мы и невидимые птицы, чирикающие из укрытий, радовались прохладе и монотонному шороху дождя. В тот день мы поняли, что жара и толпа нам здорово надоела. Не дожидаясь возвращения пекла, мы отправили домой детей с бабушками, сели с женой в поезд и поехали в гости к отцу Марку.
Захолустное село оказалось не таким уж маленьким, оно растянулось вдоль реки не меньше, чем на километр. Пока от поезда машина такси везла нас по полям и перелескам, хуторам и селам, мы прильнули к окнам и разглядывали необычные места, где роскошь природы причудливо смешалась с человеческой нищетой.
Когда уж приехали на место и разместились в доме причта, за столом отец Марк рассказал, что первый человек, поддержавший батюшку на новом месте, как и тот, кто первым вошел в рай, оказался разбойник.
Федор, вероятно по причине мощного телосложения и округлого чрева, носил прозвище Тощий. Несколько месяцев назад он вышел из тюрьмы, начинал новую жизнь и потянулся за молитвенной поддержкой к новому священнику. Это он купил батюшке машину дров, досок для ремонта храма и продуктов питания. Это он отвадил местных воришек и объявил населению об охране храма от криминальных наездов. Его рабочие, такие же как он сам освободившиеся заключенные, бывший клуб перестроили в довольно приличный храм. Ну, а позже и бывшие чада отца Марка стали подтягиваться в эти края и обосновываться.
С храмовой общиной мы познакомились на первой же вечерней службе. Батюшка представил нас и просил принять с братской любовью. С того вечера нас просто засыпали приглашениями, и мы стали ходить по гостям. В первую очередь мы посетили двухэтажный дом Федора с просторной мастерской и гаражом на три машины. Кроме семьи там находились бездомные рабочие и приезжие родственники. Хозяин показал цех по производству мебели, магазин и приусадебный участок с прудом, заселенным карпами. За столом, перебивая друг друга, многочисленные гости рассказывали о своей жизни.
Потом Федор поздно ночью привел нас в монашескую келью на краю села. В маленьком домике, скрытом от глаз обильной южной зеленью проживал отец Паисий. Он подвизался с отцом Марком на Афоне, потом жил в затворе в Новоафонской пещере. Сюда пришел после ночного молитвенного откровения: ему явился старец Даниил и сказал, чтобы шел пешком в это село и помогал брату своему Марку. Отец Паисий предложил нам жидкий чай с серыми сухарями и яблоки из своего сада. Потом вышли мы во двор, где в укромном уголке было летнее молитвенное место с канунником, свечами, иконами и скамейкой. Мы с час молились под яркими звездами на черном небе. Всё это было необычно: и ночная молитва под стрекот сверчков, и огромные мигающие звезды, и тихое бормотание монаха, и то, что ни один комар не укусил нас и ни одна псина в округе не тявкнула, и вот это — почти физическое ощущение Божиего присутствия, и сладкий страх, и тихая радость, и безмятежная любовь…
В ту ночь на грани яви и сна пришло мне откровение.
Царь пришёл!
В то жаркое утро после бессонной ночи Царь Вселенной принял, наконец, это нелегкое решение. Великий Гроссмейстер блестяще сыграл свою партию: весь мир положил на золотое блюдо и верноподданно протянул его Царю Вселенной. Именно он купил правителей всех стран (и неважно, что некоторых непокорных пришлось убрать физически, заменив их двойниками). Это Великий Гроссмейстер задумал и сыграл партию мирового кризиса — самого великого ограбления всего мира, позволившего сконцентрировать огромные средства в одних руках. Именно эти деньги дали возможность восстановить иерусалимский храм за месяц и построить в пустыне вокруг огромное поселение, способное принять одновременно миллионы людей со всего света. Вторую неделю продолжались великие торжества по поводу интронизации. Люди со всего мира стекались к его царственным стопам и в обмен на чек в миллион золотых империалов услужливо подставляли кто правую ладонь, кто лоб для принятия рабского клейма с тремя шестерками.
Весь овеянный славой тысячелетий Иерусалим с многомиллионным населением веселился и ликовал, только Великий Гроссмейстер оставался печальным и постоянно портил настроение Царю Вселенной. Хватит! В конце-концов его исторический предшественник — истинный Предтеча Иоанн — поплатился головой за обличения царя Ирода, так пусть же и нынешний предтеча-Гроссмейстер положит свою гениальную голову на золотое царское блюдо. Решено, быть посему! Он вызвал своего придворного экзекутора и повелел ему устроить спектакль с покушением на Гроссмейстера православного террориста с отсечением гениальной головы.
В те дни всеобщего сумасшествия тысячи лайнеров, поездов, теплоходов — совершенно бесплатно — ежедневно доставляли сотнями тысяч людей в столицу вселенского царства. В небе над планетой Земля постоянно вспыхивали изображения Царя Вселенной — огромные, величественные — громогласно объявлявшие красивым царским баритоном свободу всем людям мира. Сотнями тысяч барражировали НЛО самых разных модификаций, столь любимые адептами иноземных цивилизация и «небес обетованных». На планете установился мир, прекратились войны, беспорядки, грабежи, разбои, насилие. Свобода! Мир! Братство! Царь Вселенной красив, молод, сексуален и умен, как бог! Он — воплощение великой мечты человечества о спасителе мира. Женщины не задумываясь бросают своих мужей и едут в Иерусалим, чтобы воочию увидеть своего кумира. Брошенные мужья следом за ними несутся туда же, чтобы стать миллионерами, которым за деньги доступны женщины и получше бывших жен.
Любители тусовок, величественных шоу, музыки, театров, кино, казино, веселых застолий — все устремились в столицу мира на главный праздник жизни. Адепты всех религий, учений и доктрин откликнулись на призыв Царя Вселенной приехать к нему на праздник и посетить свои храмы, молельные дома, дворцы науки — они сияли золотом и ждали приезжих. Свобода всем вероучениям! Отныне никто в Иерусалиме не будет притеснен, каждый найдет себе свой уголок для духовного самовыражения! Приезжайте все, пустыня вокруг столицы мира превратилась в цветущий сад с тысячами гостиниц, кемпингов, коттеджей, утопающих в зелени деревьев и цветов, окруженных бассейнами и водными потоками.
Со мной прощались родственники, знакомые, священники, монахи, ученые, бизнесмены и спешили, спешили из нищей, раздробленной России в богатый Иерусалим за славой, деньгами, удовольствиями.
— Куда ты, несчастный? — вопрошал я со стоном. — Там же придется число зверя принимать! Там же от Сына Божия нужно будет отказываться в пользу сына врага человеческого!
— И ничего подобного! — отвечали они, сверкая безумными глазами. — Уже научно доказано всеми, даже виднейшими богословами, что никакой Царь Вселенной ни посланник сатаны, а тот самый царь, о котором пророчили все святые отцы. Это вы, темные раскольники, в прелести. А нам сказало священноначалие, а для нас послушание выше поста и молитвы — мы по послушанию и поедем в столицу мира поклониться.
— Да какие они священники! — вопил я со слезами. — Они же чародеи из экуменической секты. Да вы что, в библейском Откровении не читали об этой банде, как о великой блуднице вавилонской? Вы же за чек в миллион золотых, славу и свободу греха душу свою навечно загубите! Ведь этому сыну зверя править-то всего-то три года, а душу-то в огонь адский — навечно!
— Да иди ты, юродивый, святоша недобитый! — орали они, теряя терпение и сжимая кулаки. Их блестящие глаза сверкали теперь дикой злобой хищника, которому мешают запустить клыки в нежную шею жертвы. — Однажды живем, так хоть на старости лет узнаем, что такое достойная жизнь.
И только двенадцать человек из нашей общины оставались верными Иисусу Христу, но и они дрогнули, когда к ним заявился курьер от самого Царя Вселенной и предложил на выбор поклонение или заточение в мрачной тайной темнице, где содержаться враги Царя Вселенной. Нам было уже известно, что именно там провел ночь перед распятием наш Спаситель. Конечно, прежнюю скромную подземную тюрьму расширили, углубили, только стоять там полусогнутым во влажной духоте без воды и пищи так же мучительно, как Иисусу Христу в ночь перед распятием.
В ту ночь мы всей общиной провели на молитве в храме. А на рассвете, когда из алтаря вынес отец Марк Тело и Кровь Христовы в сверкающей чаше-потире… А на рассвете, когда мы причастились и стояли в очереди к Кресту… Распахнулись двери нашего храма и вместе с утренней свежестью ворвался светлокудрый мальчик и закричал звонко:
— Царь объявился! Наш, православный царь сегодня воссел на кремлевский престол в Москве! Мы спасены!
Как Давид вокруг ковчега, «веселыми ногами» прыгали мы от счастья, обнимались и поздравляли друг друга. Это была и наша победа! И наши молитвы услышал Господь! И нам пришло избавление от безбожного ига! Руст Святая, восстань! Твой царственный жених пришёл, чтобы невестою привести тебя в храм под венец, золотой и непорочный.
Община
Утром после молитвы и легкой трапезы Федор отвез нас в дом испанки Розы. Во дворе бегали и звонко кричали дети, не похожие друг на друга. Роза пояснила, что батюшка её называет «блудницей вавилонской», по причине женской слабости к харизматическим мужчинам. Правда, отец Марк добавлял, что хоть «бычки пришлые, но телята все наши будут». Роза с великим усердием каждый раз после очередного скоротечного романа отрабатывала епитимию, рожала дитя, пополняя им домашний детский сад. Она показала свое хозяйство: индюшатник и свиноферму, пояснив, что индюшки и поросята хорошо продаются под Рождество и приносят немалую прибыль. Пока Роза рассказывала о своём житии-бытии, несколько раз зычно покрикивала на детей, индюков и свиней, проявляя неукротимый темперамент. Потом показала фотографии своих родителей, младенцами вывезенных из Испании перед войной и своих братьев и сестер, в числе которых она была самая младшей.
Затем отвела нас к бывшим жителям столицы — супругам Морозовым. Те узнали, что мы с Юлей приехали из Москвы, стали расспрашивать о столичных новостях, но только для того, чтобы радостно и свободно вздохнуть и воскликнуть: «Слава Богу, что мы оттуда уехали!» Разумеется, они стали убеждать нас срочно покинуть «русский содом» и переселиться сюда. Мы обещали серьезно подумать на эту тему. Морозовы были еще совсем молоды, и у них было только двое малых детей. Но они постоянно обменивались такими горячими взглядами, которые не оставляли сомнений, что завет Божий «плодитесь и размножайтесь» они будут выполнять до самой старости. Пока мы разговаривали, я несколько раз ловил взгляд старшего мальчика лет десяти. Эти его голубые глаза, полные света и покоя, казались мне чем-то знакомы. Тогда родители рассказали о причине их воцерковления. Жили они как язычники и в церковь заглядывали из любопытства и так, свечку воткнуть, как все. Но вот однажды заболел их первенец и умер. Через несколько часов неожиданно вздрогнул, встал с постели и рассказал, как поднялся он на гору. На той горе в сильном свете стоял Иисус Христос и, протянув к мальчику руки, ласково звал к себе. Мальчик вспомнил родителей, горько заплакал и попросил Спасителя вернуть его на землю, чтобы не огорчать родителей. Господь отпустил его, и мальчик воскрес. После этого события Морозовы пришли в церковь, да там и прижились. Я подсел к мальчику и спросил:
— Скажи, Леша, ведь ты уже наблюдал в свей жизни зло, беды, мучения, смерть. Если бы сейчас тебе обратно вернуться на ту гору и увидеть руки Спасителя, зовущие домой, к Богу, в Царство Небесное — ты бы попросил тебя вернуть на землю?
— Я не уверен, дядя Юра, что попросил бы. Я тогда не знал еще, как плохо жить среди зла. — Мальчик опустил глаза, видевшие Бога, и задумался. Мы молчали. Наконец, он сказал: — Там, на горе, рядом с Господом, нет страха. Там в сердце только любовь. Поэтому, скорей всего, я бы снова попросился на землю. Из-за любви.
Потом кушали борщ с пампушками на летней веранде украинцев по фамилии Галушко. Остап налил абрикосового первача, в одиночестве опорожнил почти всю ёмкость и стал похожим на помидор. Есть такие томатные плоды, когда на главном шаре имеются два-три нароста поменьше — такими «наростами» на круглом красном лице казались пунцовые щеки и нос-бульбочка. Его крайне серьезная жинка Гануля поднесла тазик с варениками и увидела пустую бутылку и бордового мужа. Она лишь подбоченилась, свела горкой черные брови, слегка кивнула головой с тяжелыми косами и выпустила из дому троих детей, которые ураганом пронеслись по двору, заодно сметая всё съедобное со стола к нашему с Юлей удовольствию. Остап запрокинул мокрую голову и зычно заголосил песню из репертуара Высоцкого: «…пейте, пейте кровь мою — знаю, знаю вкусная!..» Собственно, наверное, для того и кровушки Остапу было отмеряно с избытком, чтобы он мог щедро делиться ею. Потом они окружили нас: два мальчика-Галушки — меня, а девочка-Галушка — Юлю, и стали тыкать пальцами, щипать и слюнявить. В прикладной психологии такое поведение называется вампиризмом, отсюда, наверное, и песня Высоцкого в исполнении хозяина. Мы секунд десять вежливо терпели, но потом взмолились, и были освобождены Ганулиным криком: «В дом! Быстро!» Дети ушли со двора, и настала приятная тишина. Мы промокали лбы и посматривали в сторону калитки. «Теперь ты меня понимаешь? — хлопнул меня напоследок Остап по плечу. — Как я счастлив! Какую блаженную семью дал мне Бог!» Я понимал. Теоретически.
Потом купались в речке и жарили шашлыки с армянином Артуром, в крещении — Артемием. Пили крепчайший кофе в его обувной мастерской с «телевизором» — большим окном во двор. Он сказал, что раньше его с отцом мастерская находилась на проспекте Шато Руставели. Она приносила им доходу не менее трех тысяч рублей в месяц. Жила семья весьма обеспеченно, только случилась перестройка и армян стали выживать из Тбилиси. Родители переселились на дачу в горы, а он уехал сюда на заработки. Как-то пришел он к отцу Марку, а тот его крестил. Посмотрел в календарь — был день Артемия Веркольского, так в его честь и назвал Артура.
Я спросил его, почему он курит. Артемий пояснил, что это единственная страсть, которую он пока не изжил. По его наблюдениям, она оставлена ему для двух целей: чтобы «грех мой предо мною есть выну» и для ради борьбы с бурлением крови ввиду приближения женского населения. Он в таком случае начинает травить себя презренным ядом, усмиряя возмущение в душе и в теле, одновременно предаваясь горячему покаянию.
Когда Юля отошла в женскую купальню, Артемий заговорил со мной об Иисусовой молитве, проявляя глубокие практические знания в этом делании. Он признался, что ему дана — уж он и не знает за что — самодействующая непрестанная молитва. Лишь один раз она «ушла» — когда им овладела «кожаная» страсть. Как-то увидел он себя во сне в кожаном плаще до пят, утром встал, поехал в город на рынок и купил его у знакомых армян: серый, мягкой отлично выделанной кожи, с вырезом от талии, с карманом для автомата — шедевр кожано-плащевого искусства! Вернулся домой, встал к иконам, чтобы поблагодарить за подарок, — и понял, что молитва ушла… К тому же он не отослал деньги родителям… К тому же стал огородами обходить храм, чтобы не попасть на глаза отцу Марку. Помучился он так три дня и три ночи, на четвертое утро встал и отвез армянам плащ, вернул деньги и сразу отправил старикам. Потом на вечерней службе покаялся батюшке. А ночью молитва вернулась и с тех пор его не покидала.
Побывали у монахини Елены, бывшей переводчицы, работавшей в издательстве. За вечерним чаем она, по-деревенски прикрывая род ладонью, рассказала, как однажды в больнице ей поставили страшный диагноз — рак. Она тогда курила по две пачки «Беломора», лицо, пальцы и зубы имели желтый цвет, к тому же зубы гнили и портили внешний вид и окружающую атмосферу. Ей подруга посоветовала съездить к отцу Марку. Она собралась и поехала. Тогда выяснилось, что она не крещеная, а в храме и минуты выстоять не может: тошнит, ломает, богохульные помыслы терзают. Отец Марк её вымолил, огласил её к крещению, позволив ей приготовиться, приставил к ней Розу, и та, со свойственной ей энергией, «крепко взялась» за оглашенную. В общем, всем миром подготовили к крещению. Её крестили, миропомазали, исповедали и причастили в один день. Пришла она в свою комнату и прилегла на кровать отдохнуть. Зашла Роза, посмотрела на неё и пронзительно закричала, как Алла Борисовна на эстраде: «Ленка! Ты на себя в зеркало смотрела?!!» «Оказывается, у меня зубы обновились — вот как меня Господь отблагодарил!» — улыбнулась мать Елена, впервые отняв ладонь от лица. Её ровные крепкие зубы сверкали, как жемчуга!..
Несколько раз к нам заглядывал странный мужичок с бородкой, но каждый раз смущенно убегал. А тут мы с ним столкнулись на улице, он набрался смелости и пригласил нас в гости. Это был местный изобретатель Миша. Он показал модели автомобиля будущего, химическую лабораторию, где он выращивал искусственные драгоценные камни, ювелирную мастерскую, и — конечно же — модель вечного двигателя, который непрестанно работал по словам изобретателя несколько лет. Особой гордостью изобретателя была повозка, запряженная двумя козлами. Он её обнаружил в сарае, когда купил дом. Ни лошадей, ни волов ему от прежних хозяев не досталось, зато по двору бегали козы. Он отобрал двух самцов покрепче и стал приучать их к хомутам. К концу второго года ему это удалось, и как-то на праздник он решился выехать в народ на «коляске». Тягловая сила вела себя примерно, только вот скорость была слабовата: они едва обогнали 90-летнюю старушку-соседку, которая шаркала в магазин за хлебом. Зато народ встретил ездока на новой коляске с бурным восторгом и сопровождал экипаж все сто метров, которые ему удалось покрыть, пока козлы не встали, одолеваемые усталостью и страхом от сопровождающих криков. Чтобы уж совсем укрепить уважение к своей персоне, Михаил открылся, что он у батюшки на особом счету, потому как служит алтарником. Только вот сейчас его временно отстранили от должности по причине его падения в пропасть непреодолимой страсти с продавщицей промтоварного отдела сельпо Риммой. «Впрочем, если увидите эту женщину, — сказал Миша, — вы и сами всё поймете. В ней такие эти… женские достоинства, на столько кило красотищи — никто устоит! Ну, и я тоже… не устоял. За что и несу… За что и стражду!»
Конечно, мы не могли пройти мимо иконописной мастерской, где отец дьякон писал иконы для храма и учил местных детей живописи. Здесь Юля осталась, сославшись на усталость, прохладу и желание попробовать себя в живописном деле. Отец дьякон проводил меня до калитки и напоследок ошеломил.
— Ты, Юра, с местным контингентом-то знакомишься?
— А как же, — ответил я. — И чем дальше, тем больше мне здесь нравится.
— Это хорошо, потому что батюшка тебя хочет после себя оставить.
— А как же вы, отче?
— Я из породы вечных дьяконов. У нас ведь как принято: священник имеет голос тихий и проникновенный, а дьякон — такой, чтобы в случае непогоды раскаты грома перекрывал. — Последние слова по силе звука точно перекрыли бы все природные звуки.
— Отче, — взмолился я, — отишь мощь гласа своего, народ ибо к погребам от страху пополз.
Дьякон удовлетворенно улыбнулся и, тяжело ступая, вернулся в дом, я же, ошеломленный новостью, отправился дальше. Не мог я обойти вниманием библиотеку с философом Василием. Именно так — философом, а не богословом. Сей муж ученый прочитал все книги, которые прошли через библиотеку. Он знал, казалось, всё. Только его глаза будто припорошил тончайший прах безумия. За несколько минут он мне продемонстрировал увлечение самыми расхожими видами ереси. Я пытался ему мягко возражать, Василий интеллигентно кивал, поглаживая загорелую лысину, повторял мои доводы и без всякого перехода и опровержения обратно переходил к псевдонаучному богохульству.
От этой изощренной муки меня нежданно избавил Николай-самурай. Он ворвался в библиотеку, перепугав двух тихих читательниц, схватил меня за плечо и сказал: «Бесполезно, Юра! У этого фарисея такой доннер-ветер в голове дует, что весь разум уже выдуло. Пока крышу не снесло, пошли ко мне! Пока, Арий Несторович!»
Во дворе Николая я обнаружил компактный сад камней, водопад с рыбками, сложенный из плоских камней и квадратную песчаную площадку для самурайских занятий с мечом, в углу стояло деревянное пугало с торчащими во все стороны руками. Внутри дома-мазанки пространство разделялось на несколько комнат легкими бумажными перегородками-фусума. Вместо люстры висели бумажные фонарики. А вместо картин — ленты ватмана со святоотеческими высказываниями, написанными тушью. Хозяин мне показал целый склад таких какемоно на каждый день года. Нынешний день протекал под сенью слов: «Но более всего возлюбил он нищету» (из жития прп. Саввы Сторожевского). В каждой мини-комнатке в восточном красном углу перед иконами горели лампады. В чулане имелась ниша-токонама, где на кронштейнах располагались самурайские мечи-катана и охотничьи ружья. Мы облачились в черные сатиновые кимоно, напоминающие подрясник, препоясались кожаными монашескими поясами-хакама и стали похожими не на самураев, а на иноков. Помолились и сели на татами за низкий столик, на котором стояла крохотная керамическая бутылочка сакэ, пиала с вареным рисом, горшочек с тушеной крольчатиной, тертая морковь с помидорами, соевый соус и васаби. В качестве шанцевого инструмента — разумеется, палочки из ивовых прутков.
— Знаешь, почему я стал православным? — спросил Коля, аккуратно отправляя в рот кусочки мяса, предварительно обмакивая их в бурый соевый соус и рыжий васаби. — Из-за отношения к смерти. Самурай живет так, будто он уже умер, поэтому не боится смерти и не цепляется за жизнь. Он бесстрашно идет в бой, защищая своего господина.
— Но мы-то умираем для мира, — сказал я. — И затем, чтобы стяжать жизнь вечную с Христом-Спасителем.
— Это я уже понял, Юра, — ответил он. — Но смысл! Мы умираем при жизни, чтобы спасти душу свою и ближнего. Мы не цепляемся за видимое и тленное. И вот это, — он обвёл рукой вокруг себя, — можем потерять без всякого сожаления ради высокой цели. — Он вскочил на ноги. — Ну, хочешь, я сейчас всё это сожгу, не моргнув глазом?
— Нет, не хочу, — сказал я полушепотом. Хозяин сел. — А как ты у батюшки появился?
— Меня от моей фирмы послали в Японию. Я оттуда автомобили в Россию отгружал. Там увлекся изучением восточных учений: буддизм, даосизм, синтоизм. Жил в буддийском монастыре, обучался искусству самураев. Зашел как-то в православный храм, купил книги про святителя Николая Японского. Узнал, что первым его обращенным стал самурай Такума Савабэ, который привел за собой других самураев, и они потом стали костяком первой православной японской общины. И это притом, что тогда действовал закон о смертной казни любому иноверцу. То есть, первые православные японцы сознательно шли на смерть ради обретенного Бога-Иисуса. А потом вернулся в Россию, и меня друг отвез к отцу Марку. Батюшка меня просветил насчет буддизма, вернул в лоно Православия. А как он сюда уехал, так и я за ним следом. Первым делом обошел местных бандитов и сказал, что за батю нашего любого урку покрошу. Они мне предлагали к ним пойти, золотые горы предлагали. Но я им про свою теорию верности сэнсэю-батюшке до смерти рассказал, они поняли, что меня перекупать бесполезно, и отпустили с миром.
— Да батюшка нас такими силами огражден от нападок, что твои самурайские приемы тут, что капля в море.
— И пусть она будет моей каплей в море, как медная лепта бедной вдовы в несметных сокровищах иерусалимского храма. А знаешь, у меня была мечта. Найти среднеазиатского леопарда и приручить. Пусть этот красивейший зверь послужит доброму делу. Ты только послушай: Panthera pardus tulliana. Я уже ездил в горы. Забирался в одиночестве в скалы альпийских лугов и нашел пещеру со свежим пометом этой мощной кошки. Думаю, она от меня не уйдет. А сейчас, Юра, я предлагаю нанести визит одному господину, который делает разные пакости нашему приходу и лично батюшке. Знаешь, что он затеял? Рядом с храмом полуразрушенный дом, так он хочет там дискотеку устроить. Представляешь, какой Содом там будет!
— И что ты хочешь с ним сделать? — спросил я настороженно.
— Да ничего особенного, просто высказать свои пожелания. Какие инструменты применяют непослушным детям? Палку. Вот я и возьму с собой эту палочку, — он взял со стола липовый прутик и сунул его запазуху. Пойдем, брат. Всё будет тихо и мирно. Обещаю. Ты только следуй бесшумно рядом и всё.
Мы вышли из дому и огородами в полной темноте пригнувшись на полусогнутых двинули в сторону реки. Я оглянулся и пристыл: метрах в пяти от меня сверкнули два больших зеленых огня, о чем немедленно сообщил самураю.
— Прости, я не досказал историю про леопарда до конца, — прошептал Николай. — Дело в том, что я её все-таки приручил. Ушло на это чуть больше трех месяцев. Кошку зовут Багира. Да ты не волнуйся, Юра, я ей запретил людям на глаза показываться. Она только в таких вот боевых вылазках меня сопровождает в виде охраны.
Наконец, мы пробрались к дому у реки. В саду под навесом в кресле-качалке сидел мужчина и пил чай из огромной чашки. Вокруг — никого. Если и есть у него собака, она за домом у ворот. Меня воин оставил в кустах, а сам бесшумно, по-кошачьи в три прыжка настиг врага и сзади обнял его, прислонив к горлу ивовую палочку. Что-то прошептал. Мужчина поднялся и, как сомнамбула, на деревянных ногах ушел в дом. А мы так же бесшумно вернулись в дом Николая. Сели мы на татами и погрузились в созерцание сада камней в лунном сиянии.
— Что ты ему сказал? — спросил я.
— Я очень вежливо попросил его не мешать нам. Он с моим мнением полностью согласился. Как сказал бы Терминатор номер два, жертв и разрушений нет.
— Ладно, это твоё дело, самурайское. Надеюсь ты обсудил эти свои методы психологического воздействия с батюшкой. Ты вот чего… Познакомь меня с Багирой. А?
— Да вы уже познакомились. Она тебя даже приняла в круг своих друзей. Оглянись.
В полуметре от меня на траве лежала огромная пятнистая кошка. Она ласково смотрела мне в глаза и, казалось, загадочно улыбалась, как её мультипликационная предшественница-брюнетка. В изгибах её длинного тела, в сложенных огромных лапах наблюдалось столько грации, что я не удержался, забыл, что это за зверь, и погладил её теплую шерстяную шею. Багира сверкнула в улыбке белыми клыками, вдохнула воздух, плавно покачнула длинным хвостом и по-кошачьи чуть слышно мурлыкнула.
— Поздравляю, Юра, ты ей понравился. Да это и не удивительно, ведь вы с ней вместе участвовали в ночной вылазке в стан врага. Вы теперь, так сказать, боевые товарищи. Ладно, давай спать, завтра утром к батюшке идти.
Ранним утром, после чая, обошел я дом и участок Николая — моей новой подруги Багиры не нашел. Она так умело скрывалась днем от людей, что найти ее шансов у меня не было.
— «Самурай только тогда становится видимым для людей, когда он того хочет», — прокомментировал хозяин. — Не удивляйся, я ведь ей запретил людям на глаза показываться. А то перепугает тут всех. И ты, Юра, никому о ней не рассказывай.
У распахнутых ворот храма стоял пустой микроавтобус. «Чудаки приехали», — пояснил Николай. В храме стояли по стойке смирно бородатые мужчины, одетые в парчовые рубашки-косоворотки и галифе, заправленные в хромовые офицерские сапоги. Впереди бравой шеренги перед отцом Марком стоял на коленях массивный мужчина. Чуть в сторонке стоял, опустив голову в терпеливом ожидании мужчина, который вчера ночью сидел в кресле-качалке и выслушивал «пожелания» нашего самурая. «Это надолго, — шепнул мне Николай, — пойдем наружу».
— Ты видел, Юра! Мой метод убеждения подействовал. Сейчас сэнсэй примет его исповедь, и из Савла превратит в Павла. А эти парни, — он кивнул в сторону микроавтобуса, — приехали из деревни Чудаково. Их вожак Станислав сам не пьёт, и других от пьянства спасает. У него свой способ: молитва, труд до седьмого пота и частые исповедь с причастием. У него там сильное хозяйство: пилорама, поля с овощами, бахча, ферма — только вкалывай! Ну и заработки у них ого-го. А сам Стас бывший крупный предприниматель, миллионер, всё в рулетку по пьяному делу спустил. А сейчас под окормлением батюшки дело своё наладил и пьяниц со всей округи к себе притягивает. Только не все у него задерживаются. Он мужик крутой: чуть каплю выпил, прогулял — вон гонит. Кто-то возвращается и обратно просится, а кто-то уходит опускаться дальше.
Наконец, к нам подошла Юля, вышел отец Марк и благословил нас на дорогу. А на прощанье сказал:
— Вот, детки мои, посмотрели вы на наши новые условия, с народом познакомились. А теперь подумайте, посовещайтесь в семейном кругу, да и приезжайте к нам жить.
Возвращение
Чем ближе подъезжали мы к Москве, тем ярче наблюдался у нас «синдром воскресного вечера» — это когда светлые дни отдыха неминуемо уходят, а впереди — нечто малоприятное, что в Библии называется «В поте лице своего будешь есть хлеб». Только два огонька освещали наш путь: сын с дочкой впереди, да отец Марк со своей общиной позади.
Ночью под стук колес я досматривал кадры из великой драмы недалекого будущего.
Возвращение последнего монарха на престол было предуготовано не только интронизацией лжемесии и великим исходом помраченных людей на встречу с ним. В конце-концов в России воздух посвежел и сразу решилась жилищная проблема. Под всеобщий шум иерусалимского ликования незаметно вышел на историческую арену Армагеддона народ Гога и Магога — Китай с его двухмиллиардным населением и третьим по могуществу военным арсеналом. Народ сверг марионеточное правительство и поставил своё, обещавшее народу всемирное господство. Для начала великий кормчий Мао Цзе-дун Второй произвел «артподготовку» сражения: выпустил ракеты с ядерными боеголовками по крупным городам Западной Европы и Нового Света. Разослал по городам поменьше и воинским базам потенциальных противников камикадзе с компактными ядерными устройствами размером с обычный кейс — и там устроил ядерный фейерверк. Изнеженный, развращенный Запад за несколько часов превратился в горящий безумный хаос. Огромные моторизованные орды китайцев двинулись в сторону нашпигованного мировым золотом Иерусалима. Им беспомощно покорились страны Индостана и верноподданно влились миллиардным населением в китайскую орду. Южные страны, пограничные с Россией, мгновенно растеряв свои центробежные суверенные амбиции, запросились обратно «под сень русских штыков».
Вот тут Его Величество и восстановил сакральные границы России, приказав установить в пределах видимости восьмиконечные кресты по всей протяженности рубежей. Как и положено православному человеку, «не попомнив зла», государь собрал интернациональное освободительное воинство, благословил и двинул его на юг по двум основным фронтам: юго-восточный отсекал китайской орде снабжение войск боеприпасами и провизией, а юго-западный направился в сторону Иерусалима. По пути в Святую землю Государь принял ключи от Константинополя-Стамбула и участвовал в завершении литургии, прерванной турецким нашествием 1453 года, когда между священником с потиром в руке и захватчиками встала непреодолимая стена.
Всё время продвижения впереди освободительной русской армии в голубом небе реял несомый ангельским воинством огненный Крест, сеявший панику неприятеля и укреплявший веру русских солдат. Практически бескровно, как на параде, русская освободительная армия во главе с Государем въехала в обезлюдивший Иерусалим: кто от китайского нашествия, кто от православного Креста — бежали обезумевшие люди с клеймами рабов. Русский царь принял от царя Иерусалима ключи от древнего града, освященного Кровью Сына Человеческого, и не без иронии выслушал клятву верности экс-царя-вселенной, бравурное почитание которого было приостановлено на двенадцать последующих лет. Затем Государь Император вошел под святые кровы Храма Воскресения, где участвовал в Литургии, которую служил Патриарх Всея Руси.
Проснулся я с ощущением близости праздника, как в детстве, когда ждёшь его задолго до начала, с замиранием сердца от радостного ликующего предчувствия. И как в детстве, с хрустом потягивался, счастливо улыбался и погружался в сладостное ожидание.
Но, как бы не интересна и познавательна была дорога домой, она имеет неукоснительное свойство заканчиваться. Мы вернулись. Потянулись будние дни, недели, месяцы. Детки наши росли и каждый день чем-нибудь удивляли. Узнав, что он не просто мальчик, а личность, Алексей обошел дом, оценил на глаз личный состав, долго рассматривал играющую в куклы младшую сестру и, наконец, сказал: «Если я личность, то Оленька — личинка! Она же еще мелкая». Бабушки наши по очереди сидели с внуками, попеременно навещая своих супругов-старичков. Лёва похоронил маму, женился на Олёне и собирался переезжать ко мне, завершая дела в Нижнем Новгороде. Я ему купил квартиру в нашем районе, отремонтировал и ждал переезда друга с женой.
Сам же занимался работой: кредиты, реклама, аренда площадей под магазин, закупка компьютеров, продажа, налоги, зарплата и так далее по новому кругу. Так летели месяц за месяцем, а решимость перебираться в общину отца Марка таяла в суете ежедневных забот. Тогда мы с Лёвой решили, что для начала я введу его в курс дела, он обоснуется в Москве, а потом мы с ним «вахтовым методом», попеременно будем ездить к отцу Марку, чтобы там присмотреть и купить дома и перестроить их под наши требования. А потом… Потом всё Господь управит, как нужно.
И только по ночам иногда я вставал с постели и бродил по спящему дому. В такие минуты я всем существом — душой и телом — чувствовал, как в мои уставшие вены врывается свежий ветер воспоминаний об общине, о братьях и сестрах, о батюшке, ставшими нам родными. Видимо, отец Марк в это время стоял на молитве и просил Господа прислать ему помощника, чтобы выучить и передать, наконец, свой храм, свой приход в надежные руки. Тогда я мысленно переселялся туда, в нищее село в окружении богатой южной природы и понимал, что это именно то место которое судил мне Господь для завершения земного пути. Это именно тот духовный Клондайк, в который мы приедем искателями счастья — того истинного, где в светлом блаженстве соединимся с Богом Любви.




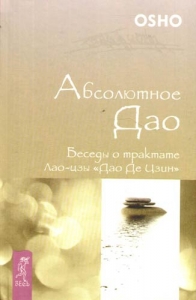

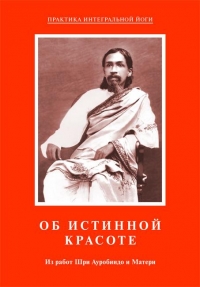





Комментарии к книге «Искатели счастья», Александр Петрович Петров
Всего 0 комментариев