Инна Андреева Пасхальные люди: рассказы о святых женах
Ульяна. Повесть о святой Иулиании Лазаревской
Я знаю, совсем недолго мне осталось проходить это земное поприще, мои дни на исходе.
Да, я умираю. Но мне не страшно, душа моя спокойна. Мое сердце бьется мерно и тихо. Я завершаю этот путь, чтобы начать Жизнь Вечную. Я иду Домой.
Настоящая жизнь быстротечна и настолько полна горестей и потерь, что порой смысл ее ускользает и теряется среди земной боли. Сейчас же, на пороге смерти, я оглядываюсь назад и, наконец, вижу весь узор своей жизни и воздаю хвалу Мудрости и Заботе Того, Кто однажды создал меня, призвал к Себе в рабы и дочери, определил мой путь и Кто сейчас меня забирает к Себе. Слава Тебе, Господи!
Самое первое, что я могу вспомнить из детства – это руки моей матери. Теплые, ласковые руки. Они нежно гладят мои волосы и легонько крестят макушку.
– Ульянушка моя! – слышу я голос матери, такой же теплый и ласковый, как ее руки. – Иулиания!
Руки отца иные. У него широкие ладони и крупные пальцы. Руки отца сильные и заботливые. Они поднимают меня высоко-высоко, так, что я достаю головою до неба. Я звонко смеюсь в вышине.
Сколько мне было лет тогда – два, три года?
Я росла счастливым радостным ребенком, окруженная любовью моих родителей, братьев, сестер и наших многочисленных слуг. Мой отец, Иустин Недюев, был ключником и служил при дворе благоверного царя и великого князя всея Руси Иоанна Васильевича. Папа был необычайно верующим человеком, главной добродетелью которого, как я сейчас понимаю, являлось нищелюбие. Наш дом всегда был полон нищих и странников – отец их кормил и одевал, а если было нужно, устраивал на ночлег.
Мама моя, Стефанида, дочь Григория Лукина, отца во всем поддерживала. Нищих из дома она никогда не гнала, а нас, своих детей, приучала бедняков и обездоленных любить и жалеть.
Помню, я уже постарше была, годиков пяти, мать вечером после чая меня бывало позовет:
– Ульяна, пойдем, послушаем, как люди в мире живут.
Я, радостная, бегу к маме. Мы с ней спускаемся в людскую, а там странник – седовласый старик в холщовой рубахе, подкрепившись горячей похлебкой, рассказывает всем собравшимся про свои паломничества по святым монастырям земли русской.
Этот старец был в нашем доме постоянным и желанным гостем. Поживет он у нас несколько денечков, погреется, сил наберется, а затем снова в путь отправится. А к нам через полгодика пожалует – поделиться историями.
Да, счастливо мы жили в доме родительском. Только не понимала я счастья своего, принимая его как должное. Пока в один день всего не лишилась.
Мы спускаемся в людскую, а там странник, подкрепившись горячей похлебкой, рассказывает про свои паломничества по святым монастырям земли русской
Тот день я помню смутно. Но эти неясные воспоминания, словно блики от огня, часто оживают и мучают меня. Я помню, что проснулась рано утром от крика маминой служанки. Такой крик я слышала впервые – это был крик-плач. Я села на свою кровать, боясь подняться. Затем, я помню, уже днем, нас, детей, повели в мамину опочивальню. Мама лежала на кровати совсем бледная, даже белая. В уголке перед иконой горела лампада и кто-то в черном читал вслух молитвы. В испуге мы застыли в дверях, не решаясь войти в комнату. «Попрощайтесь с вашей матерью, – тихо сказал нам отец. – Ее ночью забрал к Себе Господь».
Я помню, мы по очереди подходили и целовали мамину руку. Она была очень холодной. Такой эту руку я никогда не знала. Я поцеловала ее и заплакала. Я тогда не могла понять, отчего мама лежит неподвижно и как ее забрал к Себе Господь. Пока одна из сестер не прошептала мне: «Она умерла, Ульяна. Мамы больше нет».
Это была моя первая встреча со смертью, моя первая потеря в череде жизненных потерь. Второй потерей был отец. Он ненадолго пережил свою дорогую супругу. И скоро все мы остались сиротами. Мне было тогда всего шесть лет.
Господи, Ты знаешь, как тяжело я переживала смерть моих родителей. Мир любви и заботы, который окружал меня с рождения, этот, казалось, незыблемый мир, в один миг разрушился, и я осталась совершенно одна. Сирота. Боль и страх объяли меня, и та беззаботная девочка исчезла навеки.
Горе сразу прибавило мне лет и мудрости. Сиротство же научило меня любить Тебя. «Аще и матерь оставит тебя, Я не оставлю тебя…» – обещаешь Ты верным Своим. Ты пришел в мою жизнь и стал мне Отцом. А помогла мне найти Тебя и укрепиться в вере моя бабушка по материнской линии Анастасья.
Анастасия – значит восставшая, воскреснувшая. Бабушка моя была сильной женщиной особенно строгой веры. Такой ее сделала сама жизнь. Вдова любимого мужа и мать, похоронившая свою самую близкую дочь, Анастасья нашла утешение в храме, в посте, молитве и в делах милосердия. После смерти моего отца – мужа ее умершей дочери – она взяла меня, свою младшую внучку-сироту, к себе на воспитание.
С самого первого дня у бабушки я поняла, что слезы в ее доме – понятие запрещенное.
– Иулиания, – сказала она мне, найдя меня заплаканной в детской. – Настоящий христианин сохраняет мирное расположение духа во всех жизненных обстоятельствах. У тебя на персях висит крест. Гляди на него почаще. Господь взял все наши беды на себя, когда Его пригвоздили ко Кресту. И потому нам нельзя унывать, а надобно трудиться над своей душой. Хотя бы для того, чтобы твоим матери и отцу за тебя перед Богом стыдно не было.
Бабушка учила меня терпению скорбей, труду и молитве.
Утром я своими словами молилась у себя в спальне, а потом мы вместе с бабушкой читали молитвы в передней перед иконой Богородицы
Наш день был расписан по часам. Вставали мы рано – когда в гостиной часы отбивали шесть раз. По наказу бабушки я научилась одеваться без помощи прислуги и сама собирать волосы в аккуратную косу.
Бабушка научила меня молиться. «Читай Отче наш утром, и вечером, и в течение дня. Эта молитва главная. Знай, что Господь – наш Отец Небесный, а особенно Он печется о сиротах, у кого на земле родителей не осталось. Он и о тебе будет заботиться всю твою жизнь, если ты Ему будешь верна». Утром я своими словами молилась у себя в спальне, а потом мы вместе с бабушкой читали молитвы в передней перед иконой Богородицы, которую особо чтила Анастасья.
После молитв мы немного трапезничали. Затем у меня были уроки – бабушка обучила меня грамоте, чтению, а также рукоделиям, приличествующим всякой женщине-христианке. К одиннадцати годам я сама пряла и шила себе платья, а также фартуки и одежду для кухарки и горничной. В дни воскресные и другие церковные праздники мы с бабушкой шли к обедне в один из муромских храмов. С собой у нас был специальный кошель с монетами для бедных. Раздавать милостыню было моим послушанием.
С бабушкой Анастасьей мы вместе прожили шесть лет. Она никогда не выражала своих чувств ко мне. Никогда не обнимала меня, никогда не говорила ласковых слов. Но все же я знала, что она меня любит. И хотя тогда я многое отдала бы за один ее поцелуй, сейчас я понимаю, что ее трезвенная любовь воспитывала меня лучше, чем если бы я была избалована вниманием и нежностями. Ибо, сама того не ведая, бабушка передала мне силу своего имени – восставать при любых невзгодах, полагаясь на помощь Божию.
С годами я вижу, что стала во многом походить на Анастасью, и за то я благодарю Тебя, Господи.
Когда мне было двенадцать лет, Анастасья отошла в жизнь иную. В свои последние земные дни, как и я теперь, она чувствовала, что умирает. Она позвала к себе свою среднюю дочь, Наталью, и заповедовала ей заботиться обо мне и воспитывать меня в добре и во всяком благочестивом наказании. При последних ее словах тетя Наталья взглянула на меня внимательно, словно испытывала мою душу. Я не отвела взгляда.
Бабушка умерла во сне, тихо и спокойно. В это время я сидела у ее кровати и вышивала погребальный покров по просьбе самой Анастасьи. Помню, я как раз вышила слово «упокой», как бабушка вздохнула полной грудью и притихла насовсем.
Ее смерть не испугала меня. Возможно, я была уже взрослой девицей и научилась справляться со своими переживаниями и страхами. Но мне думается, дело не только в этом. Просто тогда за душой бабушки прилетел Ангел, осеняя наш дом спокойствием вечности.
Когда, Господи, я впервые почувствовала Тебя? Когда мой отец держал меня в своих крепких руках или когда бабушка учила меня молитвам? А может, это случилось, когда я целовала мамину руку на смертном одре или провожала в последний путь Анастасью? Я знаю, что во время всех этих событий Ты был со мною, Ты был рядом и Ты утешал меня. Но когда же я поняла, что это Ты? Когда сама заговорила с Тобою? Мне кажется, это произошло в доме у тетки.
Наталья была одной из сестер моей матери. Она, сама женщина своенравная, рано вышла замуж за человека простого и мягкого – за Путилу Арапова, и в то время, как я, двенадцати лет, переехала в ее загородное имение, у них с мужем уже было восемь девиц дочерей и один сын.
Конечно, я была обузой для тети: еще одну девочку надо воспитать и выдать замуж, к тому же собрать ей, сироте, приданое. Если бы я еще была красавицей, то можно было бы надеяться на славную партию для меня. Но я росла дурнушкой – худой как жердь, с рыжими волосами, собранными неизменно в тугую косу, да с серьезным не по годам лицом. Такая могла и в старых девках остаться, опасалась моя тетя.
И ее страхи были обоснованны. В доме у тети я все больше становилась нелюдимкой. Рано потеряв родителей и привыкнув к замкнутой жизни у бабушки Анастасьи, в шумном доме Араповых я чувствовала себя как раненый зверь в ловушке. Я не привыкла ни к праздничным торжествам, ни к пышным нарядам, ни к пустым разговорам. От всего этого у меня болела голова, хотелось спрятаться, и потому я часто уединялась в своей комнате за привычным рукоделием, предпочитая играм с другими детьми тишину своей комнаты.
Я продолжала молиться, как учила меня бабушка. Молитва была моей тайной, моим разговором с самой собой и с Тем единственным, Которому я доверяла. Правда, в храм я уже не могла ходить по воскресным дням. В селении, где мы жили, ближайшая церковь была за два поприща. Но в церковные дни я вставала раньше всех и шла в поле, где долго бродила в одиночестве, пока не приходила пора трапезничать. Изысканный теткин стол, полный различных яств, меня совсем не привлекал. Как прежде у бабушки, я выбирала пищу самую простую – картошку, овощи, хлеб – и вкушала их в свою меру, для поддержания сил. Такое мое поведение очень огорчало тетку, и не раз она оставляла меня за столом после трапезы, строго отчитывая: «Ульяна, зачем ты мучаешь себя нелепыми ограничениями? Ты же губишь свою молодость, свою красоту девическую!» Я спокойно выслушивала ее, благодарно кивала, понимая, что она, как может, заботится обо мне. Но послушаться ее я не могла: ведь тетя просто не понимала, что пост для меня был не мучением, а радостью. Что тело, не отягощенное пищей, даровало легкость и душе моей… И я продолжала питаться, как питалась. А когда наступил Великий пост, еще более усугубила свои труды.
Тогда-то, в одну из ночей Великого поста, мне и приснился этот сон.
Я увидела себя на огромной полянке, залитой светом. Всюду играли другие девочки в красивых платьях. Мне хотелось подойти к ним и присоединиться к их играм, но я не решалась и просто стояла и наблюдала за ними. Как вдруг раздался чудный звон – будто сотни маленьких колокольчиков разом зазвенели в унисон. Девочки притихли. На поляне появилась необыкновенная Женщина с сияющим лицом в длинном одеянии. Все склонили перед ней свои головы. Женщина подошла ко мне и ласково улыбнулась.
– Хочешь быть среди моих учениц? – спросила Она меня.
Я кивнула. Она долго и внимательно смотрела на меня, а затем протянула цветок – то был нераскрывшийся бутон белой лилии. И я проснулась.
Этот сон я до сих пор помню во всех подробностях. Я помню радость, исходящую от лиц девочек, помню мягкий звон колокольчиков, помню тонкий аромат лилии, только не могу вспомнить лица той женщины, будто ее свет застилает мне очи… Мне часто хотелось, чтобы сей сон снова мне приснился, но он никогда больше не повторялся. Да и был ли это сон? Или то была Сама Матерь Божия, зовущая меня, сироту, в свои обители?
Так или иначе, я очень изменилась с той ночи. Я стала еще более замкнутой для всех людей, но открытой для Тебя, Господи. Моя молитва вдруг ожила и запела своими словами. Вся накопившаяся боль вылилась в молитвенных слезах и успокоила душу. Я находила в Тебе невыразимую радость. И мне хотелось посвятить Тебе всю мою жизнь. Я стала думать о монашестве.
О своих тайных устремлениях я никому не говорила, кроме как Самому Господу и Пречистой Деве перед бабушкиной чудотворной иконой, что досталась мне по наследству. Я вообще очень мало разговаривала с людьми.
Все свое время я занимала молитвой и трудом. Я пряла и сидела за пяльцами, обшивая вдов и сирот нашего селения. Такой труд мне был приятен, ибо я знала, как тяжело остаться одной, когда близкие умирают. Я перешивала свои платья и юбки и раздавала их бедным девочкам, девицам и женам. Работа так увлекала меня, что часто я просиживала всю ночь, не гася своего светильника, стараясь поспеть с новым платьем к утру. И какое счастье было видеть блеск в глазах одаренных! Они искренне благодарили меня, я выслушивала их молча. Эти простые девушки и женщины не ведали, что они даруют мне нечто гораздо ценнее, чем был мой дар им, они даровали мне наполненность жизни и радость от труда. А еще – чувство нужности. Я знала теперь, что я нужна, что я могу делать что-то для других и для Бога, и это чувство окрыляло меня.
«Если чувствуешь, что летишь, не забудь о том, что падать больно!» – говорила мне бабушка, как только замечала признаки объявшей меня радости. «Самое верное расположение духа – это спокойствие. Его сохраняй всегда, рада ты или опечалена». Эти слова я вспоминала не раз, когда вскоре настало время моего испытания.
Меня невзлюбили мои двоюродные сестры – дочери тети Наталии. Им не нравилось во мне все: мое воспитание, тихий нрав, мое постничество, моя дружба с бедными вдовами и сиротами, даже моя жалкая внешность – все внушало им презрение и вызывало их смех.
«Ульянка – богомолка! Серая мышь!» – дразнили они меня. И дергали за длинную косу или нарочно опрокидывали на меня за столом похлебку. Я молчала, будто не замечая их злости. Я улыбалась им, изображая простодушие. Я никогда на них не жаловалась тете. Но все это еще больше раззадоривало девушек. День за днем они придумывали новые пакости, чтобы унизить меня.
Когда в одно утро я нашла сломанными свои пяльцы, я сразу поняла, чьих это рук дело. Но и тогда я не сказала им ни слова. Я отнесла пяльцы столяру, дочери которого я помогала в селении, и он быстро их поправил, так что они даже стали удобнее в работе.
И столяру я не сказала тогда ничего о сестрах. Но я сказала Богу. Я стала молиться. День и ночь. Молиться об этих девушках, чтобы Господь посетил их Своим присутствием и чтобы они познали истинную радость, а не придумывали себе радость греховную. Мне казалось, что я молюсь искренне, что я совсем не обижаюсь на сестер, а жалею их, ибо они не видели света и мучились в своей тьме. Но совесть укоряла меня, что в моей молитве есть гордость, что я чураюсь этих девушек, не разговаривая с ними, и сама навлекаю на себя их смех: так они обороняются от того, что я ставлю себя выше их. И я спрашивала Тебя, Господи, что же лучше: быть гордой в глазах других или лгать самой себе? Лгать я не умела, потому продолжала молчать и молиться.
Скоро я сестрам наскучила. Но тут случилось новое испытание, пройти которое мне не удалось. За меня посватался Георгий Осоргин.
Господи, Ты знаешь, я не думала выходить замуж. Все мои мысли, все устремления в то время были направлены только к Тебе. Я желала жизни монашеской, жизни святой, такой, о которой рассказывал старик-странник в моем далеком детстве. Я готовила себя к этой жизни. Мне как раз исполнилось шестнадцать лет, когда тетя, с раскрасневшимся лицом, позвала меня к себе для разговора.
– Ульяна, ты уже вошла в возраст невесты… – начала она.
Я закрыла глаза и закивала головой в согласии, ибо слышала подобные речи уже не раз, и мне хотелось, чтобы и эта беседа побыстрее завершилась.
Но тетя продолжила:
– На днях к тебе посватался молодой человек из рода Осоргиных. Молодой Георгий Осоргин.
Мне было больно слышать эти слова. Еще больнее узнать имя избравшего меня юноши. Георгий Осоргин. Господи, отчего именно он?
Я знала Георгия. Я встречала его несколько раз, когда он приезжал к мужу тетки, моему дяде, по каким-то делам. И теперь тоска охватила меня. Я могла отказать кому угодно, но только не ему. Георгий был единственным сыном знатного отца, владеющего изобильным имением в окрестностях Мурома. Но именитое сыновство не наложило на юношу печати высокомерия и силы. Напротив, это был человек молчаливый и скромный. А его добрый взгляд выдавал в нем тонкую ранимую душу. Я не могла, помня эти глаза, ответить «нет». Впрочем, ответа от меня и не требовалось – все уже было решено за меня моею теткой.
Наше обручение ждали на святки, когда молодой Осоргин должен был пожаловать в имение Араповых. А венчание отложили до конца Светлой седмицы.
Весь Рождественский пост я провела в слезах и молитвах. Неужели я, которая мечтала о жизни чистой и целомудренной, стану женою? Стану матерью детей, хозяйкой дома? Или на то есть Твоя Воля? Отчего, отчего я не могу быть сильной, отчего не убегу из дома, пока есть время, отчего не откажу ему? А может, в глубине своей души я ищу именно тепла семейного и сейчас не могу отказать не Георгию, а самой себе? Или мне хочется побыстрее убежать из дома тети? Неужели я предам Тебя, Господи?
Все эти вопросы терзали меня. Я задавала их вновь и вновь и не находила ответа.
Я вспоминала свой отроческий сон и молилась у иконы Матери Божией о том, чтобы Она услышала меня и помогла понять, как мне поступить. Я молилась о заступлении, о том, чтобы чаша замужества миновала меня. О том, чтобы Она забрала меня к девам своим, о том, чтобы вершилась не моя воля, а Воля ее Сына…
Но время шло, приближался день приезда Осоргина, а душа моя так и находилась в смятении. Мне не у кого было просить совета, некому открыть свое сердце, и потому я вновь и вновь закрывалась в своей комнате и молилась, все яснее осознавая неизбежность моей судьбы. Тогда я еще не понимала, что Господь не вершит жизней за нас, но принимает наш свободный выбор. И мне предстояло этот выбор сделать самой.
Он приехал после Рождества. Серьезный и строгий. Наталья хлопотала вокруг нас, мы же оба молчали в смущении. В какой-то момент заботливая тетя вышла, и мы остались одни.
Тишина повисла в гостиной. Георгий подошел ко мне.
– Иулиания, – сказал он тихо. – Я вижу, как тебе трудно. Ты боишься меня… Не стоит! Я прошу твоей руки, потому что ищу верную помощницу и вижу в тебе близкого по духу друга. Но мне не нужна жертва твоя, ибо она сделает нас только несчастными. Мне важен и твой искренний ответ: согласна ли ты быть моей супругой, навсегда связать со мною свою жизнь? Разделить со мной все беды и невзгоды земного поприща? И никогда не пожалеть об этом? Ты согласна?
Я молчала. Я вдруг ясно почувствовала, что мы не одни в гостиной. Что рядом – Бог. И Он тоже ждет моего ответа. Я должна была, наконец, сделать свой выбор и взять свой крест. Но какой выбор верный, Боже?
Георгий не торопил меня. Он даже не смотрел в мою сторону. Он глядел в окно – бледный, грустный, усталый. А я смотрела на него и видела его одиночество, ведь, как и у меня, у него не было друга, не было той души, которая всегда готова была выслушать и помочь, поддержать, направить. Именно тогда первое, еще не осознанное мною чувство нежности зародилось во мне.
«Не хорошо быть человеку одному…» – вспомнила я слова из Библии[1], и больше не сомневалась в своем решении. «Прости меня, Господи. Я знаю, я была бы очень счастлива, служа Тебе в монастыре, но этому человеку нужен друг. И он выбрал меня. А значит, я стану ему другом. Я стану его женою. Я возьму на себя этот крест. Возьму добровольно. Ведь нет более того, как за други своя отдать самое себя. Благослови же нас, Господи, на этом пути!»
– Я согласна, – промолвила я и почувствовала, как необыкновенный покой воцарился в моем сердце. Да будет так!
Теперь, когда я прожила эту жизнь до конца, я до сих пор не ведаю, Господи, было ли то решением верным. Но я твердо знаю, что даже наши ошибки Ты преобразуешь во благо, если мы остаемся преданными Тебе. Супружество стало для меня школой, оно стало моим зеркалом. В отношениях с супругом, с его родителями, а затем и с нашими детьми я узнавала свои немощи и несовершенства, а также открывала себя такую, какою Ты меня задумал, когда следовала Твоим заповедям и смиряла себя. Семья также учила меня внимательности к людям и отзывчивости. Являясь сама женою и матерью, я стала лучше понимать других девушек и жен, я стала сочувствовать не только их бедам, но и радостям, и переживаниям. Я научалась видеть женские сердца, а значит, и помогать им во Имя Твое.
Наше венчание состоялось в имении Георгия – в церкви святого праведного Лазаря Четверодневного, друга Божия. Венчал нас отец Потапий – священник благочестивый и верный Господу. Он стал моим наставником и научил меня многому о жизни души, пока его не перевели в Муром, где отец Потапий принял постриг с именем Пимен и стал архимандритом Спасо-Преображенского монастыря.
С каждой молитвой таинства Венчания я чувствовала, как решается моя судьба, что отныне буду уже не я, Ульяна, дочь Иустина Недюева, а Иулиания – супруга Георгия Осоргина. И я молилась Матери Божией, чтобы Она не оставляла меня своим заступничеством на пути жены и матери. И помогла мне стать верной помощницей моему мужу. После совершения таинства отец Потапий поучал нас по слову апостольскому и изречениям святых отцов о жизни супружеской, о святости брака и непорочности благословенного ложа, о верности и семейном целомудрии, о послушании жены мужу и о заботе мужа о жене. Он говорил нам, что отныне мы вместе встали на путь, который должен привести нас ко Христу и потому должны помогать друг другу на этом пути, всегда памятуя, что конечная цель нашей жизни – не земные блага и наслаждения, а радость в вечных обителях, уготованных Богом верным Ему.
Все слова батюшки я сохранила в сердце своем, как в благодатной почве, которая со временем должна была принести плод, если только я не оставлю своих душевных трудов, окунувшись в суету семейной жизни.
Родители моего мужа приняли меня в свой дом с любовью. Свекор Василий Осоргин оказался человеком доброго нрава, а свекровь Евдокия – женщиной разумной и кроткой. Они были уже в летах и видели в своей невестке прежде всего помощницу, и потому мне сразу захотелось именно таковою для них и стать. Вскоре все хозяйство легло на мои плечи.
Вечерами, когда мне выдавалась свободная минутка, я пряла и шила
Я стала жить, как жила когда-то у бабушки Анастасьи – вставать с рассветом и ложиться только тогда, когда в доме затихнут последние звуки. Я полюбила раннее утро, потому как это было мое единственное время, которое я проводила в одиночестве. Утро я посвящала молитве, я разговаривала с Тобой. И Ты не оставлял меня, давая силы на день грядущий. А сил требовалось много. Имение Осоргиных было огромно: были у нас и свои поля, и леса, и озера. Было множество прислуги и другого честного люда в доме. И за всем имением я должна была зорко следить, имуществом мудро распоряжаться, а слугам давать своевременные указания. По своему устроению сама скорее послушница, я вдруг стала управляющей другими людьми! И это давалось мне с трудом. Своих девушек я жалела, и порой, видя недостаток в работе той или иной из них, я сама тихонько доделывала за ними. Бывало, за этим занятием меня заставали моя свекровь или супруг.
«Ульяна! – слышала я гневные речи. – Что это? Не подобает госпоже самой прислуживать. Совсем так людей распустишь. А людей надобно в строгости держать!»
Я улыбалась и покорно кивала моим родным. Но строгой быть не могла. Ведь я видела, как трудятся не покладая рук наши слуги, как устают они, и нет у них ни отдушины какой, ни радости в жизни. А ведь все мы человецы – Творения Божии.
Жалела я людей. Жалела. За что частенько мне самой и доставалось даже от самих слуг, которые, я знаю, шутили обо мне, называя между собой слугой-хозяйкой. Но я не обижалась этому прозвищу, ведь по сути я таковою и была…
Вечерами, когда мне выдавалась свободная минутка, я пряла и шила. Шила и пряла. Столько вдов было в наших селениях, сколько сирот, сколько бедных, обездоленных, кому нужна была одежда! Конечно, пряжа моя была самой простой (слава Богу, грубой овечьей шерсти у нас в имении хватало), но мне удавалось сплести из нее тонкие нити, и ткань получалась мягкая, а одежда очень удобной. И я радовалась своим трудам более, чем радовались женщины, которым я передавала сшитые вещи через свою преданную служанку, которая по моему наказу держала сие делание втайне от домашних. О моем рукоделии во всем доме знал только мой супруг – от него у меня не было секретов.
Супружеская жизнь наша тихо протекала под покровом Пресвятой Богородицы. Быть женою Георгия оказалось и просто, и сложно одновременно. Он был очень заботливым и бережным со мною. Он был внимательным и мудрым. Он был любящим. Но он служил при дворе и часто уезжал из имения по царским делам. И случалось, задерживался на год, а то и на два. Я знала, что такова доля любой женщины нашего сословия, и никогда не укоряла его и не сетовала на свою судьбу. И только Господь ведает, как трудно я переносила разлуку с супругом. К своему мужу я быстро привязалась сердцем, познавая истинность слов Писания, обращенных к первой жене – Еве: «И к мужу твоему влечение твое…»[2]. На доброго мужа жена взирает с уважением и со страхом, как на своего пастыря, на свою главу. Когда Георгий был дома, я во всем его слушалась и во всем благом поддерживала. Я научилась ему доверять и самой быть достойной его доверия. В своем муже я открывала друга, брата и отца. С ним я узнавала и себя как жену, мать, как верную подругу. Его любовь даровала мне силы и меняла меня. И хотя я как прежде была немногословной с другими людьми, я перестала прятаться от них, пугаясь их бытия. Наоборот, теперь я смотрела на их жизнь с сочувствием и часто жалела людей, разделяя их радости и беды. Но свои радости и свои несчастья я делила только с Богом и с Георгием. Когда же муж мой уезжал на царскую службу, я вновь оставалась одна. Тогда я заполняла все свои дни и ночи молитвой и рукоделием. Но все же я очень скучала по Георгию, особенно в первые годы супружества, когда Господь еще не даровал нам детишек.
Я знала, что коли я не пошла монашеским путем, став супругой, моим подвигом в миру должно было стать рождение и воспитание детей для Господа, ибо, по слову апостола, «жена спасается чадородием». И потому от самого первого дня нашего с Георгием супружества я просила Бога более всего о даровании первенца. Но проходил месяц за месяцем, а моя утроба оставалась неплодной. И хотя ни Георгий, ни домашние не укоряли меня, чувство вины вкралось в мою душу. Я усугубила молитву. Теперь я вставала среди ночи, когда супруг мой крепко спал. Я вставала и шла в крошечную горницу, которую называла молельной, и там пред бабушкиной иконой Матери Божией, а также пред образами Спаса Нерукотворного, которым нас венчали, и святителя Николая – чтимой иконы семьи Осоргиных, я слезно выпрашивала у Господа долгожданное чадо. А в конце молитв я взяла за правило класть сотню земных поклонов.
Через сорок дней я почувствовала в себе живую душу, но молитв не оставляла и никому не говорила о моем положении, пока живот мой не округлился, повествуя лучше слов окружающим о находящемся под моим сердцем младенце.
Как описать радость состояния будущей матери? Это поистине дар свыше. Ношение во чреве младенца – время особое, благословенное, когда ангел Божий ограждает своим заступничеством жену от брани плотской и духовной, чтобы все силы ее души были направлены на сохранение и взращивание в себе новой жизни, которую вложил в нее Господь. Для меня сие женское бремя было счастьем, оно учило меня непрестанной молитве и предстоянию пред Богом. Будущая мать как никто понимает, что и ее жизнь, и жизнь ее чада в руках Божиих. И потому молитва матери – это ее дыхание.
Каждого своего будущего младенца я вынашивала по-разному. И с каждым чувствовала его особенную неповторимую душу, ведь уже в утробе младенец имеет свой характер. Я разговаривала с моими будущими детьми, я пела им песни, я читала над нами молитвы и не уставала осенять свое чрево крестным знамением. Я старалась часто бывать в храме святого Лазаря, исповедовать свою душу и причащаться Святых Даров. Как могла, я говела, зная, что умеренный пост полезен не только матери, но и самому младенцу. Я раздавала милостыню, вышивала для храма пелены и продолжала обшивать женщин нашего селения. Некоторую часть из своего рукоделия я отправляла в город, а вырученные средства жертвовала на храм. Я жила, как и прежде, но все же я была уже иной – теперь я никогда не была одна, со мной всегда было во чреве мое чадо. И скоро мы должны были встретиться.
Родовой боли я не боялась. Я помнила, что она дана нам для очищения, и потому всегда перед родами молилась не только о благополучном разрешении, но и прощении грехов моих, явных и потаенных. А еще я знала, что Сама Богородица помогает труждающейся жене, ведь Она тоже – Мать. И потому страха у меня не было, а была молитва и ожидание встречи со своим чадом.
Господь посылал мне больше сыновей. И в этом тоже была Его особая Мудрость. Мать привязывается к дочкам, как к отражению самой себя, и часто жалеет дочерей, ибо они также разделят нелегкую женскую долю. Сыновья же для матери прежде всего – опора. Они – ее крылья.
Я знала, что Сама Богородица помогает труждающейся жене, ведь Она тоже – Мать
Рождение детей меняло мою жизнь и самую меня, но счастье материнское не закрывало мои глаза на людское горе. На Руси настали страшные времена – ее настиг великий голод. Нам самим беда не грозила – амбары Осоргиных были полны зерна и овощей. Но простые люди на Руси голодали. Голодали и женщины, и дети. Я знала об этом, ибо видела наших слуг и слышала, как они между собой говорят о голодных смертях своих знакомых и близких. Я слышала страшные вести и от мужа, который, объезжая наши имения, мог лицезреть ужас голода, воцарившегося среди крестьян и бедняков. Мне самой кусок не лез в горло от этих рассказов. Как я могла сидеть за полным столом, зная, что рядом в селении умирают от голода люди? Дети умирают! И потому втайне от домашних я стала раздавать беднякам хлеб, я урезала свою трапезу, чтобы хоть кого-нибудь еще накормить, я собирала остатки со стола моего супруга и детей и делилась этим с нищими. Но разве сих малых крох достаточно? Так я впервые решилась на хитрость.
Я никогда в жизни не лгала – ложь в доме моих родителей и у бабушки Анастасьи считалась недостойной уст не только христианина, но просто человека. Лгать – значит унижать самого себя, это я усвоила твердо. И потому как бы тяжело в жизни ни было, я никогда не позволяла себе слукавить и сказать неправду. Лучше промолчать, считала я.
Но сейчас, Господи, я лгала. Я лгала своей свекрови, прося у нее давать больше продуктов к моему столу. Я лгала, а она радовалась. «Ну вот, Ульяна, ты образумилась, невестка моя! Стала питаться, как и подобает женщине, а не монашке. Раньше я все дивилась тебе: при изобилии на столе ты ела как птичка, и то раз в день! А сейчас, видимо, оскудение в мире устрашило тебя, и ты сама оголодалась…» И тут снова я лгала. И хитрость моя была еще несноснее, ибо она основывалась на святом святых – на моем материнстве. Я говорила Евдокии, что пока не родились мои дети, мне особо не хотелось есть, а как стала рожать, так обессилела и теперь вот не могу насытиться, что будто постоянно мне кушать хочется и днем и ночью… Так лгала я, честно глядя в глаза моей свекрови, и даже румянец от стыда не залил моих щек. И свекровь мне поверила и стала мне давать продуктов, сколько я желала. А я брала и все отсылала нищим, сиротам, вдовам да обездоленным.
Но сколько человек могла я накормить даже такой хитростью? Лишь малость. А голод между людьми все возрастал. Слухи о смертях в нашем селе все чаще доходили до меня. Эти слухи терзали все мое существо. Ведь я знала, что часто смерть приходит не одна, унося с собою все новые и новые жертвы. И горю людскому не стало предела в нашем имении. Тогда я стала сама ходить в село.
Зачем, услышав вновь об очередной смерти, я спешила в дом, где случилось несчастье? Что я могла сделать, как помочь? Как я могла утешить жену, что потеряла кормильца и любимого мужа, что могла сказать матери, которая хоронит свое дитя, могла ли я объяснить ребенку, что теперь он сирота? Любые слова перед лицом смерти сами обращаются в прах. И потому я молчала. Я приносила с собой погребальные пелены, я помогала омывать тела, я читала молитвы об упокоении душ усопших. Но я ничего не могла сделать для этих людей. Один Господь мог их утешить или хотя бы дать сил пережить горе. Как когда-то Он даровал эти силы мне.
Чужое горе влекло меня к себе. После посещения домов умерших я заходила к больным. К вдовам, к сиротам. Я нянчилась с чужими детьми, забывая про своих и оправдывая себя только тем, что мои дети в тепле и сытости, а эти дети пухнут от голода. Я ухаживала за больными, которых все сторонились, ибо болезнь их была заразна. Я омывала их раны и приносила им чистую одежду, и я не боялась принести заразу в свой дом. Но все это я делала не только для них. Я делала это для себя.
Я уходила из уютного дома с моими домочадцами в эти ветхие домишки с полуживыми людьми, чтобы вновь и вновь встретиться с Тобой. Чтобы вспомнить всю глубину нашего бытия, чтобы вновь понять его смысл, который стал ускользать от меня, поглощенной своим семейным счастьем. Здесь, среди больных и увечных, я смотрела в глаза смерти, и видела жизнь, и торжествовала, ибо Ты победил Собою смертельное жало.
Но одно дело помогать в несчастье другим, другое – переживать его самой. Скоро смерть пришла и в наш дом. И поселилась в нем надолго.
Сначала ушли родители моего мужа, Евдокия и Василий. Пред смертью они оба сподобились монашеского чина. Упокой, Господи, их праведные души. Они ушли тихо, один за другим, и мы провожали их с миром. Их отпевали в Лазаревской церкви, устроив поминальную трапезу для священника и всех пришедших. Георгия моего тогда дома не было. И когда он вернулся, как всегда сдержанный и сильный, то не выдавал своей скорби о потере отца и матери. Только я заметила, что борода его стала совсем седой. Теперь у моего мужа была лишь я да наши дети.
Господь даровал нам тринадцать детей – десять сыновей и три дочери. Но шестерых из них Он же и забрал во младенчестве. Смерть дитяти – для матери всегда боль незаживающая. Вместе с младенцем хоронит она и часть себя. И как ни успокаивал меня супруг словами: «Бог дал, Бог и взял», как ни увещевал батюшка: «Причтени суть со Иовлевыми сыны и со избиенными младенцы, и со ангелы Бога славят, и о родителях Бога молят…»[3], новая смерть дитяти уносила с собой и мою жизнь: я все более задумывалась о том, что ждет душу при переходе в мир иной, я размышляла о Страшном Суде, и мир этот и сама земная жизнь становились мне все менее интересны. Но самое страшное горе было впереди, ибо нет ничего страшнее, как похоронить свое уже взрослое чадо.
Я всегда буду молиться о том человеке, кто убил моего старшего сына, он был нашим слугой. Я не виню его. И даже когда я нашла моего мальчика в луже крови, я не желала мести. Единственное, что тревожило меня, когда смотрела в лицо его убийце, это то, что я никак не могла понять, как человек может поднять руку на другого человека. Но я не корила его. Я смотрела в его глаза и молчала. Он просил пощады и прощения, объятый страхом наказания. Я не слышала его слов. Но мне было его жаль. Как можно дальше жить с таким грехом на душе? И я стала за него молиться и до сих пор молюсь. Что с ним стало?
А мальчика моего мы похоронили возле церкви. Он был моим первенцем. Его я первого родила в жизнь земную, его первого и проводила в жизнь вечную. Когда же Господь заберет меня саму? – кричало от боли сердце. Сама же я почти перестала говорить.
А затем пришла весть о смерти моего второго сына. Его тело привезли в деревянном гробу. Говорили, что он умер героем на службе, но он умер! А что значит для матери геройство убитого сына?! Он лег рядом со своим братом. Мои два срезанных крыла.
Господи, Ты знаешь, боль пронзила все мое существо, но я не укоряла Тебя, не кляла и не жаловалась на свою судьбу. Я смолкла и перестала с Тобою говорить. Душа моя была нездорова. Все мои чувства, все мысли, все вдруг перестало существовать, оставляя во мне лишь тишину и боль. Я вспоминала о своем девичьем желании уйти в монастырь и впервые за все эти годы глубоко сожалела, что не пошла по тому пути. Монашеские скорби казались мне ничтожными по сравнению с той раной, которая образовалась в моей душе после смерти сыновей. Я завидовала бездетным матерям и монахиням, не знавшим подобной боли. И вновь желание покинуть этот мир разгорелось в моем сердце. И я не гнала его. Несчастье часто делает людей слепыми и черствыми по отношению к другим – в своем горе я забыла о своих живых детях, в своих муках я не замечала страданий мужа. Мне хотелось одного – уйти из мира, полного скорбей, спрятаться в мире молитвы. Но отпустить меня в монастырь мог только Георгий.
Я пришла к мужу, он что-то писал при свете лучины. Сутулый и постаревший. Мне стало жаль его, жаль этого родного мне и любимого человека. Но сердце мое было высушено от обильных слез, и я прогнала от себя жалостливость.
– Отпусти меня, Георгий, – сказала я. – Я уйду в монастырь.
Он повернулся ко мне. Его глаза были ясны и пронзительны.
– Иулиания… – начал он. – Я не могу тебя держать. Ты вправе идти, куда велит твое сердце… Но… – Он встал и подошел ко мне. – Ты видишь, я уже в летах, а дети наши еще малы. Им нужна мать, им нужна любовь твоя. Черные ризы не спасут нас, если мы будем жить не по-монашески, и белые не пагуба, если творим дела, угодные Богу. А если мы не терпим скорбей, если уходим в монастырь, чтобы не заботиться более о чадах своих, то мы уже не трудиться хотим, не любви Божией ищем, а себе покоя желаем…
Так сказал мне мой супруг, видя всю мою душу и обнажая ее болезнь.
И смирилось сердце мое. Я поняла, что нет воли Божией мне быть монахиней, а крест мой – крест материнский.
Я упала перед Георгием на колени в плаче и просила у него прощения за свою немощь. Он же меня поднял, и мы долго разговаривали, став еще ближе друг другу. А под конец беседы решили жить далее как брат с сестрою.
Да, Господи, Георгий был человеком редкой души и большой мудрости. В наши последние годы вместе я узнавала в нем и духовные стороны. Он никогда не говорил со мной о Боге, но своим примером он учил меня более слов терпению, смирению, упованию на помощь Божию и преданности Его воле.
Я всегда поддерживала свою веру внешними подвигами – постом, поклонами, долгими молитвами. В нем же вера была незыблема как камень, и ее он взращивал деланием внутренним. Всегда и во всем он руководствовался не своими желаниями, а нашим благом. Храм он посещал не так часто, как это старалась делать я. Но на службах он действительно предстоял пред Богом. А я смотрела на него в благоговении, ибо чувствовала в нем силу духа.
Его душа, постоянно занятая работой, созревала для вечности. Потому Господь и забрал Георгия раньше, чем меня. Это произошло десять лет спустя после гибели наших сыновей.
Я приняла смерть мужа спокойно, хотя и не была к ней готова. Я провожала его, надеясь на скорую встречу. И радовалась за него, наконец-то освободившегося от земных уз.
Прошло еще десять лет. Наши дети выросли. Большинство уже имели свои семьи. И потому я теперь могла посвятить себя молитве. Я больше не помышляла о монастыре – этот путь я считала для себя закрытым. Но я молилась дома. Молилась постоянно. Я дала себе зарок поститься по пятницам, не вкушая в этот день ни крохи, за то, чтобы Господь принял в Свои обители моих усопших чад и супруга. Это было мне совсем несложно, ибо плоть моя высохла и не требовала более разнообразной пищи для поддержания сил. Да и есть мне совсем не хотелось. Сон мой от возраста стал тоньше. Я теперь спала час или два в сутки. И жалела того времени, что провела без молитвы. Мне незачем стало ухаживать за собой, принимать баню или шить себе новые платья. Да и имение мое мне было не нужно, и я раздавала все, что имела, нищим, покуда сама не стала одною из них.
Жизнь проходила мимо меня, я же стремилась к иному – к Царствию Небесному. И для того я не жалела своих уже оскудевающих сил. Моим основным пристанищем стала церковь, я ходила туда каждое утро и вечер. И там все настолько привыкли ко мне, что в одну зиму, когда стоял такой мороз, что домашние не пускали меня из дому, сам священник пришел к нам со словами, что будто Пречистая с иконы ему молвила сходить за мною и увещать, что и домашняя молитва угодна Богу, но не так, как церковная. Эти речи смутили меня. Кто я такая, чтоб иерей за мною приходил, а тем более, чтобы обо мне просила Всесвятая? И я умоляла священника никому не говорить об этом, сама же стала ходить в храм, несмотря на лютый мороз. И ходила, пока бедность не заставили меня переехать в другое село, а болезнь совсем не приковала к постели. Но и тут я не оставляла молитв своих, ибо только они держали меня на этой земле, приближая к Небесному дому.
Были в моей жизни и иные чудеса, но о них я умолчу, Господи, чтобы не смущать свою душу перед ее преставлением. Только возблагодарю Тебя, что Ты не оставлял меня, посылая мне угодников Своих для помощи и вразумления меня, грешной.
Тело мое отказывает более служить мне, но боль умирающей плоти – это тоже дар Твой, который учит меня смирению. Я знаю, что скоро предстану пред Тобою. И нечем мне оправдать себя. Всю свою земную жизнь я была слабой и часто делала не то, к чему стремилось мое сердце, а то, чего ждали от меня другие люди. И потому, Господи, я печалюсь, что слишком мало послужила Тебе. И об этом одном воздыхаю.
Завтра придет мой последний час. Я позвала к себе священника церкви Лазаревской, отца Афанасия, чтобы напоследок очистить душу покаянием и причаститься Тела и Крови Твоей – в напутствие души перед ее исходом из этого бренного мира. Я созову всех моих детей и еще раз взгляну на них, чтобы потом ждать их уже на небе.
Я благодарю Тебя за все, Господи. Прости меня, недостойную, и приими как дочь Свою рабу Иулианию.
Эпилог
Из записей сына Иулиании Калистрата
Января во второй день, на рассвете, призвала Иулиания отца своего духовного Афанасия иерея и причастилась Животворящих Таин тела и крови Христа Бога нашего. И села на одре своем, и призвала детей своих, и слуг, и всех живущих в том селе, и поучала их о любви, и о молитве, и о милостыне, и о прочих добродетелях. И так прибавляла: «Желанием возжелала великого ангельского образа еще с юности моей, но не сподобилась из-за грехов моих и нищеты, ибо недостойна была, грешница и убогая. Бог так изволил, но слава праведному суду Его». И повелела уготовить кадило и фимиам вложить и, поцеловав всех бывших там, всем мир и прощение дав, возлегла и перекрестилась трижды, обвив четки вокруг руки своей, и последнее слово сказала: «Слава Богу всех ради. В руце Твои, Господи, предаю дух мой. Аминь». И предала Душу свою в руце Божии, Его же с младенчества возлюбила. И все видели в тот час на главе ее венец злат и убрус бел. И так, омыв ее, положили в клеть, и в ту ночь видели там свечу горящую, и наполнился весь дом благоуханием. И в ту ночь одной из служанок ее было видение и повелело отвезти ее в пределы Муромские и положить у церкви святого Лазаря, друга Божия, возле мужа ее. И, положив святое и многотрудное тело ее во гроб дубовый, отвезли в пределы Муромские и погребли у церкви святого Лазаря, в селе Лазаревском, в лето 7112 (1604) января в десятый день.
Данная повесть основана на житии святой праведной Иулиании Лазаревской, составленном ее сыном Калистратом после кончины блаженной. Но сама эта повесть не является житием, а скорее личным авторским видением и осмыслением жизни святой.
Слепая страсть Повествование о святой Мастридии Александрийской
В первые он увидел ее на одной из улочек города.
Она была одета в неприметный черный плат, и его широкие полы почти полностью закрывали ее лицо. Не слишком высокая. Не слишком низкая.
Кажется, она ничем не выделялась из толпы. Однако он заметил ее.
Заметил ее узкие белые руки, прячущиеся в складках плата. Ее по-особому прямые плечи. Ее парящую походку. Легкую, тихую, словно ее ступни вовсе не касались земли.
Он долго стоял посредине улицы, провожая незнакомку взглядом.
Через несколько дней он снова ее встретил. На этот раз на площади возле собора. Она выходила из церкви и остановилась. Должно быть, чтоб перекреститься. Когда она подняла вверх голову, плат спустился на плечи.
Быстрым движением она поправила его, пряча лицо в мягкие ткани, но юноша успел разглядеть, что кожа у нее – как фарфор – бледна и прозрачна. А глаза – словно звезды. Две яркие звезды.
Ему захотелось подойти к ней, он даже сделал первый шаг, но в этот момент кто-то ее окликнул. Это оказался старый священник. Ласково улыбаясь, иерей начал ей что-то говорить, и они неспешно двинулись по улице. За ними плелась пожилая старушка в холщовой накидке. Должно быть, ее служанка.
«Странная девушка, – подумал он. – Странная».
И весь день мысль о ней не покидала его.
На следующее утро он поднимался по ступеням храма. Он давно не заходил в церковь. И сейчас благолепие церковного убранства смутило его. Испугала строгость иконных ликов. Сосредоточенность молящихся. Величие служащего архиерея.
Ему невольно захотелось убежать, спрятаться, но он, пересиливая себя, прошел внутрь.
Шла утреня. Густой плотный дым от ладана стоял в воздухе.
Ее нигде не было.
«Господи, благодарю Тебя за эту тишину», – после службы она никогда сразу не уходила домой. Она любила сесть в уголке и остаться наедине со своими мыслями. Еще раз пережить совершившееся богослужение, возблагодарить Бога за Его дары, почувствовать всю полноту Его присутствия.
В храме мальчик, прислужник, гасил свечи. Его быстрые шаги гулко отдавались от мраморного пола. Не поднимая глаз, она могла сказать, что только что он затушил лампаду у иконы Матери Божией. А сейчас идет к левому паникадилу.
После службы она никогда сразу не уходила домой. Она любила сесть в уголке и остаться наедине со своими мыслями. Ее пальцы перебирали узелки четок
Ее пальцы перебирали шерстяные узелки четок. Она молилась:
«Благодарю Тебя, Господи, за то, что каждая минута моя наполнена Тобой, что Ты не оставляешь меня, Христе мой. И что я плыву по житейскому морю, и ни одна волна не тревожит меня…»
Она закрыла глаза и долго-долго сидела так, повторяя про себя имя Божие.
– Госпожа, – затеребила ее рукав верная Бонита. – Пора идти.
Она покорно встала. Распрямила плечи. Холодные пальцы едва коснулись лба, живота, плеч, сотворив крестное знамение. Она сделала земной поклон. Спокойная. Уверенная.
Ее день был прост. Ее мысли чисты. Ее движения неторопливы.
Поджидавшая ее у дверей Бонита протянула своей госпоже вышитый кошель – для подавания нищим и нуждающимся. Всю службу кошель провел на груди у старой служанки и оттого оказался теплым.
Мастридия улыбнулась уголками своим губ, накинула на лицо плат, и вместе с Бонитой они вышли на улицу.
Белый свет нового дня неожиданно больно ударил в глаза, за несколько часов богослужения привыкшие к полутьме храма.
Небо – синее и ясное – простиралось над Александрией.
– Тишь какая! – промолвила служанка. И вдруг добавила: – Должно быть, к грозе.
Тут только Мастридия увидела легкие желтые пятна на чистом небосводе. Они, словно первые признаки гниения, испугали душу. Видимость была еще тиха и прекрасна. Но внутри уже зародилась неотвратимость беды.
О, Александрия знала и не таких грешников!
Да и разве он – грешен? Порочен? Он просто молод. А молодость дана человеку для того, чтобы наслаждаться ею, разве нет?
Почему он должен стыдиться того, что приносит ему радость? Какой смысл изводить себя всякой философией и моралью, если мы живем один раз? Отчего он должен запереть себя, оковать, бороться и обуздывать собственную плоть, свои желания, стремления, порывы? Ради какой цели?
Вопросы вихрем проносились в его голове, озлобляя его, не давая услышать ни слова из молитв и псалмопений.
Зачем он вообще здесь, в этом храме? В храме, со стен которого на него пристально смотрят лики святых. Вопрошая, усовещивая, укоряя его.
Бред. Всего лишь мертвые картинки! – успокаивал он себя и снова злился: – Да разве эти изображения – не те же идолы, только в другом виде? И эти люди, что здесь молятся, разве они хоть сколько-нибудь отличаются от него, когда переступают порог своего храма?
Так же грешат, совершают те же преступления, точно так же оправдывают себя. А потом приходят в этот храм. И долго молятся! Отмаливают грехи, видно. Лицемеры.
Он привык жить по своим хотениям. И здесь, в этом храме, среди икон, ладана и зажженных свечей, он невольно вспоминал все то, что он не привык помнить. Что отбрасывал от себя как сор. Как лишнюю одежду. Как старую кожу. Воспоминания, угрызения совести, давние наказы верующей матери. Здесь, в храме, они ожили и терзали его.
Тяжесть навалилась на него, не давая вздохнуть. Лоб покрылся испариной.
«Как здесь душно!» – подумал он и повернулся к выходу.
На улице мгновенно стало легче. Он спустился со ступеней и сел на землю, возле цветущего дерева.
Недалеко расположились нищие, калеки, бездомные люди – эти горемыки огромного города. От нечего делать он стал рассматривать их, размышляя о встреченной накануне незнакомке.
«Интересно, кто она? Давно ли живет в Александрии? Чем занимается? Замужем ли она? Вряд ли. Скорее – дева». – Мысли его становились конкретнее и четче. Он разрабатывал стратегию наступления: – «Дева… Это неплохо. Хотя и представляет определенную трудность. Вдобавок – дева верующая. Это намного хуже. Придется строить из себя праведника или, по крайней мере, зачастить в храм. Но, судя по одежке, она бедна. Что, впрочем, хорошо. Бедную девушку намного проще расположить к себе».
Недалеко расположились нищие, калеки, бездомные люди – эти горемыки огромного города
Он прокручивал в голове разные планы обольщения незнакомки, как вдруг увидел ее.
Это без сомнения была она. Тот же плат, те же плечи, та же маленькая белая ладонь.
Девушка наклонилась над безногим стариком и что-то ему протянула. Старик радостно замотал головой, наверное, отвечая ей. Девушка кивнула и направилась дальше, к следующему страдальцу.
Он забыл про все на свете. Про свои планы, коварство, грехи. Он просто смотрел на нее и видел ее нежность, ее чистоту, ее хрупкость и беззащитность. То, на что он никогда не обращал внимания в женщинах, он видел сейчас в этой девушке. И трепетал.
В тот день он не посмел приблизиться к ней.
Мысль посвятить себя Христу пришла в ее сердце не внезапно. Она взрастила ее в себе любовью к богослужениям, размеренной жизнью и молитвой. И потому, когда в один год она потеряла обоих родителей, Мастридия спокойно поняла – пришло ее время дать обет. Обет девства и нестяжания.
Собственно, это решение почти ничего не изменило в ходе жизни девушки. Она так же рано вставала с одра, так же ежедневно шла на службу в ближайший храм, так же днем занималась рукоделием, а по ночам молилась. Разве что она усугубила пост. Но в этом не было особого подвига, она привыкла к скудной пище. Да еще она почти перестала разговаривать. Только с Бонитой перекинется одним-двумя словами. И то не для своей нужды, а потому что чувствовала, что старенькой служанке, взрастившей ее с младенчества, тяжело дается ее замкнутость.
Итак, Мастридия.
«Необычное имя. Означает “наследующая”. Мас-три-ди-я. Похоже на дикий белый цветок. Как она сама».
Выведать, как ее зовут, не составило ему особого труда. Достаточно было спросить у того безногого нищего, обитавшего возле храма.
«Вероятно, несмотря на свой скромный плащ, она довольно богата, если позволяет себе такую роскошь, как ежедневная милостыня», – решил он.
Он выведал, как часто она приходит на богослужения, какой дорогой идет домой и даже в каком доме живет. Это было несложно и заняло у него всего лишь несколько часов.
Гораздо сложнее теперь было подойти к ней и начать разговор. Он был смел, развязен, бодр, но при одном ее появлении робость охватывала его.
И оттого поначалу он лишь наблюдал за ней. А наблюдая, узнавал ее привычки и особенности. Так, он скоро понял, что в храме ее излюбленное место – за колонной с левой стороны. (Оттого в свое первое посещение он и не приметил ее!) За богослужением она остается в черном платке, туго обхватывающем голову. Он ни разу не видел ее волос (какого они цвета?) Когда она слушает кого-то, она немного наклоняет голову вбок. У нее очень красивые большие глаза, но она никогда не поднимает их, и почти никогда не говорит.
«Госпожа, это – вам!» – краснея, Бонита протянула ей белый свиток, перевязанный алой лентой.
В храме читали псалмы.
«Что это?» – удивилась девушка, медля брать свиток в руки.
«Это от того господина у иконы Спасителя!» – тихо ответила Бонита.
Мастридия подняла глаза и увидела высокого бледного юношу. Его взгляд пылал. Она быстро опустила взор и вздрогнула, как будто обожглась.
«Отдай письмо обратно, – сказала она твердо и так же твердо перекрестилась. – И впредь никогда не бери ничего от незнакомых нам лиц».
Когда они шли домой, Бонита виновато лепетала:
«Простите, госпожа, я давно его заметила. Вы… Он…»
Мастридия резко остановилась и посмотрела на служанку.
Доброе лицо женщины покорно сникло под строгостью взгляда. Бонита замолчала. Ее щеки пылали, а на глаза навернулись слезы.
«Господи, прости меня, грешную!» – зашептала старушка, когда они продолжили ход.
Молча они подошли к знакомой двери с серебряным колокольчиком. Служанка открыла госпоже дверь, но тут юбка Бониты зацепилась за старый куст терна, росший возле их дома. Она освободила юбку и огляделась. И вдруг увидела его.
Взгляд, брошенный Мастридией в церкви, пронзил его. Да, в этом взоре не было ответного чувства, не было даже признательности или женского любопытства. В нем были твердость и боль. Странные, несовместимые составляющие. Твердость и боль.
Никогда раньше он не встречал подобных глаз, такого взгляда. Такой высоты.
А она даже не открыла письма. Даже в руки свои не взяла! Не пожалела его. Не испугалась.
Странная, непостижимая девушка.
Он понимал, что его страсть перерастает в нечто иное. Усугубляется. Довлеет над ним.
Но он не боролся с нею. В терзаниях, которые приносили ему приступы темной страсти, он находил некое удовлетворение. Как находит удовлетворение скорпион, откусывая себе хвост.
Да, Мастридия казалась ему святой. Святой, чистой, строгой. Но чем чище она представлялась ему, тем острее было желание обладать ею. Подчинить ее себе. Всегда иметь ее рядом. У своих ног.
Сегодня он, как прежде, проследовал за ними до дома. Глупая служанка заметила его. Это было ему даже на руку. Теперь ему нечего скрывать. Не надо прятаться.
Хотя бы измором, но он добьется своего.
* * *
На белом пальце показалась красная капля крови. Снова укололась.
Мастридия отложила челнок в сторону и в бессилии упала на свои руки.
Что-то случилось. Ее мир, спокойный и незыблемый мир, рушился, расползался, исчезал. Господи, что же это?
Уже несколько дней подряд она не выходила из дома. Не посещала богослужения в храме, даже не выглядывала в окно.
Она почти перестала есть и спать.
И это рукоделие, которое позволяло ей давать щедрую милостыню беднякам, не сдвинулось с места. Ткань выходила неровной, выдавая ее тревогу, девушке приходилось то и дело распускать нити и ткать заново. Она исколола себе все пальцы, искусала губы, на ее лбу уже образовалась розовая выемка от частного крестного знамения. Лучше не становилось.
И сейчас, откинувшись на руки и закрыв глаза, она почувствовала свою усталость.
Тот мужчина… Юноша. Сначала он просто следил за ней. Затем стал неотступно следовать. После стал пытаться заговорить с нею. И когда это не получилось, он просто шел рядом и говорил сам.
Она не слушала его, она молилась, перебирала свои четки, взывала к Богу, но слова проникали в нее. И после подобных встреч она долго не могла избавиться от этих назойливых фраз.
Ее сердце, некогда холодное, уверенное сердце дрогнуло. И теперь она вопрошала себя – было ли новое чувство ответной влюбленностью, или – жалость и недоумение овладели ей?
А может быть – это чувство вины? Но перед кем? Перед Богом! Если она пленила мужчину, хотя бы и невольно, как она могла носить имя «невесты Христовой»? Если ее внешность, ее плоть соблазняет кого-то, как может она спокойно обращаться к Богу и считать себя целомудренной девой?
Мастридия подняла голову, села, окинув взглядом комнату. Измученная, опустошенная.
Надо что-то делать. Надо положить этому конец.
Но как?
Тот человек, он как будто ослеп от своей страсти. Он ничего не понимал и не хотел понимать. Словно был прельщенным. Одержимым.
Мастридия выпрямилась. Именно – одержимым!
А одержимость – это почти болезнь. Он сам не совладает собой.
Что же она?
Задумалась.
Его одержимость пугает… но пойми же, Мастридия, эта страсть и влечет тебя. Искры греха, разлетаясь, могут поджечь. А потом – огонь выжжет, испепелит, ветром разнесет пепел.
И не будет Мастридии…
Решимость появилась на ее тонком лице.
«Бонита! – позвала девушка. – Бонита, прошу тебя, позови этого господина ко мне!»
* * *
«В этом нет ничего страшного. Нет никакого греха, если я постою здесь! – думала Бонита. – Я ей почти как мать. Да, именно! Сейчас я заменяю ей мать».
Сердце громко билось в груди у этой седой, немного неповоротливой женщины. Она любила свою госпожу, свою маленькую Масю, как она ее называла, когда той было пять лет.
Сколько же времени пошло с тех пор. Мася выросла…
Будучи мудрой служанкой, Бонита обычно не показывала своих чувств, и никто, кроме старого священника и самого Бога, не знал, как она переживала за свою госпожу. Со смертью родителей девушка совсем замкнулась, бедная. Стала жить как какая-то затворница, прячась от людей в этом шумном городе. А ведь она – красавица!
Что греха таить, когда появился этот юноша, Бонита даже обрадовалась. В ней вспыхнула надежда увидеть Мастридию женой, матерью, понянчиться еще с малышами. Как же она, Бонита, любила малых деток! Таких сладких, таких непосредственных!
Но все пошло не так, как желала бы служанка. Мастридия не приняла внимания юноши. И с каждым днем стала изводить себя постом и ночными бдениями. Да, Бонита слышала, как по ночам ее госпожа кладет земные поклоны. Один за другим. Один за другим.
Мастридия совсем отощала, поблекла и осунулась. Даже былой свет в ее прекрасных глазах стал меркнуть. Какие-то мысли терзали ее душу.
И Бонита мучилась за свою любимицу, молилась, как умела, и потихоньку вздыхала от своих дум.
Когда же госпожа повелела позвать к себе того юношу, Бонита испугалась.
За свой век она видала всякое. И знала несколько случаев, когда девы, не справившись с искушением плоти, падали, а затем не могли перенести стыда. Одни тут же лишали себя жизни. Другие же, согрешив, сразу теряли всякую надежду на спасение и в отчаянии предавали себя пороку, так что вылезти из нечистот уже не имели сил. Несчастные души!
«Я просто постою за дверью! – думала Бонита. – И если что…» Дальше она даже не смела подумать.
* * *
Когда он вошел, она сидела за ткачеством.
Она кивнула ему, приглашая сесть на лавку. Он сел, с жадностью глядя на нее.
Тишина, как струна, натянулась в комнате.
– Зачем ты, брат, доставляешь мне столько огорчения и печали, что не даешь мне даже сходить в церковь? – тихо спросила она, не сводя глаз со своей ткани.
– Я… – начал юноша, – я… очень люблю тебя. И когда тебя вижу, я весь бываю как бы огненный. Это так!
Ее губы плотно сжались, она немного помолчала и спросила:
– Что же ты видишь во мне? – в голосе ее не слышалось и тени игры. Лишь непонятная ему решимость.
– Я вижу очи твои настолько прекрасными, – сказал он пылко, – что они прельщают меня.
Она подняла брови. Что-то одновременно грустное и отчаянное мелькнуло в ее лице. «Как хороша она в своей грусти», – подумал он.
– Значит, глаза… – задумчиво сказала она.
И вдруг (он даже не успел понять, что происходит), она подняла руку и резко ударила себя острым челноком. В один глаз и в другой.
Кровь залила ей лицо.
В комнату вбежала служанка.
– О, госпожа, госпожа! – запричитала старая женщина. – О, бедная моя девочка!
* * *
Бонита обняла рукой голову Мастридии и белым чистым платом отирала ей кровь, соображая, что делать дальше. Бежать за врачом? Кричать о помощи?
Тут служанка заметила темную фигуру, неподвижно застывшую на лавке. Лицо юноши вытянулось, подбородок дрожал. Бонита сверкнула глазами:
«Это вы… Разве не видели, госпожа… она – агница Божия, а вы… вы…»
* * *
Он не помнил, где провел тот вечер и ту ночь. Образ Мастридии с выколотыми глазами не выходил у него из головы.
Что он наделал?
Что теперь будет с нею?
И отчего он сбежал? Струсил?
Наутро он, пошатываясь, пришел в храм и всю службу простоял не шелохнувшись, не обращая никакого внимания на священнослужителя, кадящего храм, на недоуменные взгляды других прихожан, на ход службы. Он так бы и стоял там, но один из обеспокоенных его видом церковников замолвил о нем слово.
Когда служба закончилась и все разошлись по домам, к нему подошел тот самый старенький иерей. Священник ничего не спрашивал, а просто встал рядом. Некоторое время они молчали.
А затем священник с любовью и участием заговорил о милосердии Божием.
И юноша, как растение, которое тянется к теплу, потянулся на этот сердечный призыв к покаянию.
Он рассказал все. О себе, своих похождениях, О Мастридии, своей влюбленности и ее отказе. Он говорил и говорил, пока не пришло время рассказать о вчерашнем дне. Тут он запнулся и зарыдал.
Священник не торопил его, он накрыл его епитрахилью, и молча внимал, видимо, сопереживая.
Все.
– Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, – промолвил священник. – И еще: Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя.
– Значит, она сделала это ради меня? Лишила себя зрения, чтобы я прозрел? – выдохнул юноша.
Священник ничего не сказал.
– Что же мне делать? – обратился юноша.
– А ты сам не знаешь? – тихо спросил иерей.
– Знаю, – еще тише ответил тот.
Отправившись в скит, юноша облекся в черные одежды и сделался строгим иноком, подражая в молитвенных подвигах и воздержании святым отцам. Мастридия же окончила свое житие, работая Господу, к Которому и предстала.
* * *
Рассказ основан на житии святой Мастридии Александрийской. Ее память совершается Православной Церковью 24 ноября/7 декабря.
Неплодная[4] Повествование о святой праматери Сарре
Ее руки месили тесто. Две тонкие, но сильные руки, почерневшие от времени и солнца, мяли, катали, комкали и снова мяли белое пушистое тесто. Тесто поддавалось теплу рук и, послушное, становилось мягче и нежнее. Когда-то и она была такой же мягкой и нежной. Такой же белой, такой же податливой. Женственной и легкой.
А теперь стала стара, суха и черства. Как засохшая лепешка.
Сарра усмехнулась от этой мысли. Окунула пальцы в муку, стала ловко раскатывать хлеб в круглые лепешки и прикреплять их к стенкам раскаленной печи. От жара лепешки почти сразу подрумянивались и приобретали золотистую корочку.
Когда цвет корочки становился коричневатым, женщина быстрым движением вынимала горячий хлеб из печного чрева. Она не боялась обжечь пальцы. Что ей плоть? Эта старая дряхлая плоть…
Да, она была немолода. Волосы, спрятанные под широкий плат, уже как пепел – серые и тонкие. Морщины избороздили лицо. Ее стан больше не отличался изяществом и гибкостью.
Однако никто не осмелился бы назвать Сарру старухой. В ее прямом взгляде, высоком лбу, немного жестком разрезе рта читались величие и красота, которые даже нельзя было назвать женской привлекательностью. Скорее – человеческой высью. Казалось, эта женщина не подвержена тлению. Словно старость не съедала ее, а облагораживала.
Единственное, что выдавало ее, были глаза – большие, с чуть опущенными вниз уголками, в которых читалась затаенная скорбь.
Сарра была неплодна.
От дымящихся лепешек шатер наполнился запахом поля, пшеницы и очага. Хлеб – человеческая награда за труды. Плод земли, плод труда человека и плод благословения Божия.
Утроба же Сарры не давала детей. Семя погибало на мертвой земле. Бог не благословлял их труды и молитвы.
Она не сразу поняла, что бесплодна. И в начале их супружества Сарра мечтала о детях. О своих детях. Мальчишках, похожих на Авраама, и девчонках с ее, Сарриными, глазами и забавными ямочками на щеках. Но луна сменяла луну, а чрево молодой жены так и оставалось пустым.
Прошел год. Потом еще один. В душе у Сарры зародилась тревога.
Тревога – это трещина. Трещина мироощущения. Она постепенно и неуклончиво расползается в разные стороны, дробя мир на тысячу осколков.
За тревогой идут страх и стыд. Страх сковывает, словно льдом, все члены. Ты леденеешь изнутри, и даже дыхание становиться вьюгой. Стыд заставляет тебя прятаться от других людей. Если запустить страх и стыд, придет жесткость. Затем – жестокость. Потом – безразличие. Уныние. Снова – тревога, страх. И так волна за волной. Все глубже. Все холоднее. Все безжизненнее.
Никто не осмелился бы назвать Сарру старухой. В ней читались величие и красота, которые даже нельзя было назвать женской привлекательностью. Скорее – человеческой высью
Чего же боялась Сарра? Одиночества? Вряд ли. За годы скитаний Сарра научилась справляться с одиночеством. Она не боялась его.
Тяжелее всего человек переносит осуждение за свою непохожесть. И чувство вины.
Женщины вокруг становились непраздны, рожали, кормили сосцами детей. Это так естественно для жены. Так просто. Женщина, наверное, и создана для продления жизни. Это ее путь, ее призвание, ее служение мужчине. А Сарра… Сарра неплодна. У Сарры нет детей. Иссохли ее сосцы. И женское завершилось. Уже никогда ей не иметь своих детей.
Сарра вытерла руки о полотно. И кликнула слугу.
Мальчишка юркнул в шатер, взял теплые хлеба и убежал.
У мужа снова гости.
Гостеприимство было даром Авраама. И его утешением. Он любил встречать странников, омывать им стопы, сажать за свой стол и угощать, угощать, угощать. Это было проявлением человеческой любви. Той любви, которая обнимает сердца теплотой и развязывает уста для неспешного разговора. О высоком.
Длинные разговоры – это призвание мужчин. Удел Сарры, как всякой жены – ее шатер. Мудрая, она хорошо понимала свою роль и место, но часто, движимая живым интересом, Сарра не могла удержаться, чтобы из-под завесы не взглянуть на нового гостя и не послушать его речей. Это скрашивало и ее монотонные будни.
Сегодня гостей было трое. Судя по одеяниям, это были три странника. Довольно молодые юноши со светлыми лицами. Прекрасны собой! И говорят, конечно, о Боге. Авраам не упустит случая рассказать о Нем.
Авраам любил людей. Почти так же, как любил Бога. Бога же он любил какой-то непонятной, почти одержимой любовью. Любовью сына к своему Отцу. Верного, искреннего и послушного сына. К безжалостному, властному, бессердечному отцу. Так думала Сарра. Нет, она тоже когда-то верила. Она видела отблеск Бога в очах Авраама. Она доверяла мужу. Она молилась. Она надеялась.
Тщетно.
Самое глубокое ее горе Бог не уврачевал. Самый громкий плач не услышал. Самое желаемое чудо – не сотворил.
Где твой Бог, Авраам? Авраам, муж мой…
– Где Сарра, жена твоя? – вопрос странника перебил ее мысли.
– Здесь, в шатре.
Женщина отпрянула от завесы. Зачем она им понадобилась?
Как будто зная, что Сарра слушает за завесой, гость повысил голос:
– Я опять буду у тебя в это же время через год, и будет сын у Сарры, жены твоей.
Что он говорит? Сарра рассмеялась. Мне ли иметь детей? Утроба моя завяла. Иссякла. И Авраам уже стар. Что он говорит? Зачем? И кому? Моему мужу? Обо мне? О Сарре?
Злой смех сотрясал ее худые плечи.
Лучше бы он сказал эти слова Агари!
Агарь молода. Агарь – мать. У Агари – сын.
Сердце Сарры екнуло от боли.
Когда женщина не может подарить мужу сына, она начинает терзаться виной. Авраам, Божий слуга, друг, избранник, а она – Сарра – мертвая лоза, без ягод и сока. Она винила себя, корила, мучила. Иногда ей казалось, что стало бы легче, если бы муж нашел себе другую жену, жену, способную родить ему наследника. Но Авраам любил Сарру. И эта его верность и непоколебимое упование еще больше усугубляли терзания Сарры. И как-то она решила отдать мужу в жены свою служанку – юную Агарь. Это решение, конечно, было порывом, попыткой загладить вину, среди своей мелкоты проявить великодушие. Потом, здесь не было греха, такова была традиция их народа. И Авраам в какой-то момент поддался на уговоры жены. Но когда Агарь понесла и чрево ее стало округляться, Сарра укололась о шип своего великодушия. Было так больно, что по ночам она выла от тоски. И родившийся сын Агари, такой плотный, живой, орущий, настоящий ребенок, вместо долгожданного облегчения принес Сарре чувство зависти и отчуждения. Да, он походил на Авраама, он так же сдвигал брови и держал свою голову. Но в его лице отразились и черты Агари, простой служанки, простолюдинки. А черт Сарры в нем не было. Ни одной.
Сарра снова засмеялась. Нервно и холодно.
– Отчего это рассмеялась Сарра, сказав: «Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась?» – спросил один из странников. – Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в следующем году, и у Сарры будет сын.
Авраам повернул голову к шатру. И Сарра, смутившись, вышла.
– Я не смеялась, мой господин, – тихо произнесла она, побледнев.
Но гость сказал:
– Нет, ты рассмеялась.
И посмотрел на женщину. Внимательно и твердо.
Сарра не отвела глаз, как полагалось жене. Что-то притянуло ее взор к лицу этого странника. Оно было необычным, это лицо. Как пламя огня, оно горело, менялось и в то же время оставалось неизменным. В этом лице читались Всеведение, Премудрость и Любовь.
Растерянно женщина снова поклонилась и быстро засеменила в шатер.
Ужас охватил Сарру. Но не тот сковывающий страх, который она испытывала от своего неплодства. А ужас, который охватывает, когда сталкиваешься с Вечностью. С Тайной. И с Истиной. С Тем, Кто намного выше тебя и чище. С Тем, Кто знает о тебе все. С Кем ты всю жизнь боролась, и Кто, несмотря на то что может с легкостью раздавить тебя, дарует тебе жизнь и Свою верность.
– Господи, – зашептала она, очутившись одна. – Господи!
Впервые за многие годы она произнесла имя Бога. И произнесла не с обидой и укором, нет. В ее голосе слышался трепет.
Слезы захлестнули ее. Чистые, теплые слезы.
Она оплакивала не себя, не свою молодость, не свои растраченные впустую года, она плакала о своей душе, ставшей вдруг такой маленькой и ничтожной. Она плакала о своей вере, за годы свернувшейся в жалкий комок. О своей любви, растрескавшейся, как выжженная солнцем пустыня. О дороге, которую она потеряла. О надежде, которую убила в себе.
Она плакала и плакала, повторяя имя Божие. Пока в сердце ее не пришла тишина.
* * *
Через год, когда Сарре исполнилось девяносто лет, у нее родился первенец. Сарра нарекла сына Исааком – в память о своем смехе.
Арест Повествование об Анне Васильевне Войно-Ясенецкой, супруге святителя Луки Крымского
Арестован!
Анна Васильевна почувствовала слабость. Закружилась голова. Она прислонилась спиной к стене, беспомощно глядя на сестру милосердия Евгению, прибежавшую из больницы со страшной новостью.
Валя арестован. Его взяли прямо в больнице и повели, должно быть, в железнодорожные мастерские, где происходил суд над восставшим Туркменским полком.
Арестован. В груди что-то екнуло, оборвалось. Тупая боль пронзила легкие, стала болью острой. Анна Васильевна резко согнулась, скрученная кашлем. Кашель выворачивал наизнанку, тряс ее худые плечи, резал горло. Рядом засуетилась Евгения, прибежала горничная. Чужие руки расстегивали ее воротничок, усаживали на кресло, протягивали чашу с каким-то питьем. Анна Васильевна задыхалась. Кашель разрывал тело, но больнее билась душа: «Что теперь будет с мужем?»
Они познакомились в госпитале киевского Красного Креста возле города Читы[5].
Когда в 1903 году по госпиталю поползли слухи, что второе отделение хирургии возглавит молодой выпускник медицинского факультета Киевского университета, сестра милосердия Анна не могла и предположить, что новый врач станет ее судьбой.
«Святая сестра» – называли ее между собой работники госпиталя. Девушка отличалась исключительной добротой и кротостью характера. Анна мечтала посвятить свою жизнь Богу.
Сейчас, когда Анна Васильевна вспоминала время своего девичества, она грустно улыбалась. Где сейчас эта легкость, это парение? Тогда она могла всю ночь просидеть у постели больного в молитве за него. Молитва и служение будто давали ей силы, радость, покой.
Валентин Феликсович сразу обратил внимание на отзывчивую сестру милосердия. Анна была высокой статной девушкой с тяжелой косой каштановых волос, доходящей до талии. Белая косынка сестры милосердия обрамляла ее нежное лицо с правильными чертами. Но девушка привлекла врача не внешней красотой, а своим внутренним содержанием. Новый врач тотчас подметил ее искреннюю заботу о больных, ее готовность выполнить любое, даже самое тяжелое поручение врачей. Девушка не боялась крови, гноя, пролежней, не чуралась обмывать лежачих, не гнушалась резкого запаха стариков. Она была приветлива и ласкова со всеми и для каждого находила доброе слово.
«Святая сестра» – называли ее между собой работники госпиталя
Валентин Феликсович сам преображался рядом с этой девушкой. Когда он ходил по больничному корпусу, его глаза невольно искали именно ее, а найдя, начинали тихо светиться. Будучи человеком скромным и сдержанным, врач сначала никак не выражал свое особое расположение к сестре Анне, но пришел день, когда девушка сама заметила его любовь.
Анна испугалась.
До этого случая она никогда не боялась мужчин. Если сказать точнее, для нее мужчин как бы не существовало. Окружающие воспринимались Анной просто как люди: как врачи или как больные. Потому так легко ей было отказать в замужестве двум претендентам на ее руку и сердце. И так просто дать себе зарок хранить девство всю жизнь.
Теперь все переменилось.
Валентин Феликсович, этот задумчивый человек, с глубокими глазами и широким русским лбом, впервые вселил в нее страх и смущение. Анна почувствовала, что врач видел в ней не сестру, не человека и даже не просто женщину, а жену, мать своих детей. И это осознание странным образом взволновало ее. Его целомудренное отношение к ней, его бережное обхождение и внимательность порождали в ее душе признательность и ответную любовь.
Долгое время она скрывала это чувство даже от себя самой. Но оно разрасталось внутри нее, крепло, пробивало твердь ее сердца.
С осознанием своей любви пришло и ощущение стыда. Ведь она дала обет Богу, пусть не прилюдно, не обет монашеский, но когда-то она пообещала Богу остаться Ему верной. А значит, думала Анна, полюбив человека, она совершает измену Богу, самой себе. Такие мысли ранили, уязвляли, заставляли бороться с растущим чувством.
Но тщетно. Любовь не отпускала Анну.
Осенью 1904 года Валентин Феликсович сделал ей предложение. И Анна Васильевна, все еще мучаясь душой, приняла его.
Венчание должно было состояться в церкви Архангела Михаила, построенной во времена декабристов[6]. Накануне вечером Анна осталась после богослужения для молитвы. Она стояла у иконы Спасителя и молилась, прося простить ее. Неожиданно ей показалось, что Христос отвернул от нее Свой лик и икона в киоте исчезла. Девушка заплакала, полагая, что так Господь напоминает ей о ее несдержанном обете.
Всю ночь она терзалась сомнениями, мучилась от чувства вины, однако венчание состоялось, и сестра милосердия Анна Ланская стала Анной Васильевной Войно-Ясенецкой.
Анна Васильевна полулежала в кресле, укутанная в теплую шаль. Рядом с ней стоял бокал со взбитыми свежими яйцами. Говорят, они помогают при грудной болезни. Возможно. Анна Васильевна не притронулась к бокалу. Она не отрываясь смотрела на лик Матери Божией, перед которым горничная еще утром затеплила лампаду. На ее пугающе бледном челе ярко горели пятнами щеки. Глаза впали, а скулы, наоборот, резко обозначились, делая лицо похожим на маску. Губы потрескались и издалека казались черными.
Ее знобило. Кашель то и дело возвращался. И каждый приступ был тяжелее предыдущего.
К обеду пришел знакомый их семьи с новыми сведениями. На Валентина Феликсовича донес некий Андрей, что работает в морге при больнице. Главврача Войно-Ясенецкого и ординатора Ротенберга отвели на допрос. У железнодорожной станции люди кричали. «Зачем с ними возиться! Расстрелять их под мостом!» Но их не расстреляли, а доставили в штаб. Туда же пригоняли солдат восставшего полка. Всех по очереди вызывают в отдельную комнату. Говорят, в списке имен почти всем ставят кресты. Живым оттуда еще никто не вернулся.
Анна Васильевна полулежала в кресле, укутанная в теплую шаль
Анна Васильевна выслушала новости с непроницаемым лицом, затем медленно перекрестилась. Ее щеки еще больше вспыхнули. Дрожащей рукой она оперлась о подлокотник кресла и встала. Шерстяной платок сполз с плеч, упал на пол. Женщина не заметила этого.
– Позови детей! – тихим и одновременно твердым голосом сказала она горничной.
Бог не сразу даровал детей чете Войно-Ясенецких. И в первые годы супружества всю свою любовь и заботу Анна Васильевна дарила исключительно мужу. Валентин Феликсович стал для нее всем: и отцом, и супругом, и врачом, и ребенком. Теперь ее мир был сосредоточен на нем. И невольно, отдавая всю себя служению мужу, она ожидала от него такого же внимания.
Но Валентин Феликсович оставался прежде всего врачом, в ком нуждались другие люди. Нежно относясь в Анне Васильевне, он, однако, выше всего ставил врачебный долг. Все его время занимали операции, приемы, перевязки, врачебные советы, научная деятельность.
Молодая жена страдала. Ее любовь разрослась, незаметно переходя в собственничество. Пока, наконец, не породила в душе Анны Васильевны мнительность и ревность.
Да, она ревновала. И мучилась от чувства жгучей ревности.
Уверенная в целомудрии своего супруга, она не боялась физической измены, но ее угнетала мысль о том, что рядом с Валентином Феликсовичем находятся другие сестры милосердия – юные, горящие своей работой. Она ревновала к этим молоденьким сестрам, потому как видела в них себя прежнюю. Она боялась, что наскучит мужу, что, разделяя с ней быт, Валентин Феликсович обнаружит ее несовершенство, что когда-нибудь он встретит кого-то более чистого, достойного, светлого. Анна Васильевна боялась духовной измены.
Она успокаивала себя тем, что такие мысли пусты и беспочвенны, что они лишь указывают на ее незрелую личность. Но снова и снова страдала своею мнительностью, изводя себя бессмысленными переживаниями, а мужа – бесконечными расспросами. Она видела, понимала, что недоверием ранит Валентина Феликсовича, что разрушает мир в доме, ломает свое здоровье. И потому, справившись с подобными приступами, тут же просила прощения, говела и каялась.
На третий год совместной жизни у Анны Васильевны и Валентина Феликсовича родился первый сын. Материнство сгладило порывистость характера Анны Васильевны, переключило ее внимание с мужа на детей. Однако она так до конца и не смогла излечиться от злого чувства ревности.
В комнату вошли четверо детей. Лица их были бледны, встревожены. Видно, слухи донеслись и до детской.
Анна Васильевна внимательно посмотрела на вошедших, останавливая взгляд на каждом из них и остро примечая в лицах, выражениях и мимике детей родные черты любимого мужа.
Мише шел двенадцатый год. Лобастый, с чистым взором светлых глаз, он сейчас больше всего походил на своего отца. Это их первенец.
Анна Васильевна вспомнила, как впервые сказала мужу, что у них будет малыш. Что ей кажется, будто она беременна. Как Валентин Феликсович поправил очки и взглянул на нее взором не обрадованного мужа, а заинтересованного врача. Вымыл руки, стал ощупывать живот и расспрашивать у нее подробности, словно хорошая акушерка.
Он и правда принимал у нее в срок роды.
Да, она рожала при своем муже. И напрасно шептались местные женщины, пугали: мол, разлюбит муж, видя твои потуги. Анна Васильевна не слушала подобные толки. Кому, как не Валентину Феликсовичу, быть рядом в ее трудах, молиться за нее и помогать ей? Кому первым взять ребенка на руки, перерезать ему пуповину? Кто, как не он, лучше справится, если, не дай Бог, что-то пойдет не так?
Родился Миша.
Через год – Леночка.
Эта хрупкая беленькая девочка. Их единственная дочь. Такая серьезная, смышленая. Любимица Вали. Ее тоже он сам принимал.
Только Алеша родился, когда Валентин Феликсович был в отъезде. Анна Васильевна перевела взгляд на второго сына. Они жили тогда в Романовке. Супруг уехал на заседание врачей в город Балашов. Обещал вернуться к родам. А у нее отошли воды. Хорошо, в селе оказалась проездом акушерка. Она и принимала Алексея.
Последним родился Валечка. Валентин. Названный в честь папы, конечно. Ему только четвертый годок. Он хмурит брови, совсем как отец.
Боль снова полоснула по груди. Как там Валентин? Жив ли?
– Дети! – справилась с собою мать. – Встанем вместе на молитву. Богу помолимся о вашем отце. Валентина Феликсовича арестовали. Возможно, его уже нет в живых.
Отпустив детей, Анна Васильевна прилегла.
Что сейчас сделаешь? Надо только молиться и ждать. Вернулась лихорадка. И острый кашель давил горло. Она держала у губ платок с вышитыми инициалами В. Ф.
Она думала, какая она жена.
Дурная. Гордая. Ревнивая.
«Возможно, эта ревность дана в искупление нарушенного обета…» – как-то обронил Валентин Феликсович.
Анна Васильевна задумалась над его словами. Годы в браке притупили ее ощущение вины пред Богом. Более того, теперь Анна Васильевна понимала, что супружество было ей необходимо, что оно стало для нее настоящей школой познания своего падшего человека, а также обучения любви к ближнему и к Богу. Она ясно увидела, что образ святой сестры был придуман ею, не более. Что по-настоящему служить, страдать, болеть за другого она не умеет и только-только учится этому, находясь рядом с любимым ею человеком.
А ревность… Ревность – это проявление самости.
«Господи, прости неразумную. Прости!» – безмолвно кричала Анна Васильевна, глядя на икону.
Лоб горел. Ее знобило. В гостиной часы отбивали семь вечера. Восемь. Девять.
Она вспомнила, как год назад он слег с подозрением на туберкулез легких. Это случилось после того, как старшая сестра Анны Васильевны привезла то злополучное одеяло, на котором умерла ее дочь. «С этим одеялом к нам в дом вошла смерть!» – сказал Валентин Феликсович. А вскоре разболелся. Анна Васильевна не отходила от его постели, день и ночь проводя рядом с мужем. Его состояние пугало ее, ведь, привыкнув побеждать чужие хвори, Валентин Феликсович сам обычно не поддавался болезням. А тут, казалось, был при смерти.
Тогда, Анна Васильевна помнила, ее впервые посетила молитва:
– Боже, не забирай моего мужа раньше, чем меня. Я прошу тебя только об этом. Он еще нужен другим людям, он может послужить Тебе, служа другим людям. Я же без него – ничто. Забери первой меня, прошу тебя, Боже. Меня забери. А его – исцели. Отведи от бед. Спаси и сохрани мужа моего, Господи.
Молилась тогда Анна Васильевна.
Молилась она так и сейчас.
В гостиной часы пробили десять.
Валентина Феликсовича продержали в штабе до позднего вечера. Кто-то приметил там известного хирурга, и, немного расспросив врача и его ординатора, их отпустили. Валентин Феликсович сразу поехал обратно в больницу, где распорядился готовить больных к операции, как будто ничего не случилось.
Вернулся домой он далеко за полночь.
Анну Васильевну он нашел в гостиной. В кресле, укутанную в шерстяную шаль. Она спала. Видимо, забылась. В ладони платок. Боже милостивый – кровь! Неужели вернулась чахотка?
Она открыла глаза.
– Анечка…
Она кивнула. Такое белое лицо.
– Прости меня, – зашептали ее губы.
Она попыталась улыбнуться, но не смогла. Он обнял ее и тут же отстранил от себя. Озабоченно потрогал лоб, взял кисть, стал считать пульс. Потянулся к керосинке, увеличил пламя.
– Мне надо посмотреть твои легкие…
– Живой! Слава Богу! … – пролепетала она и потеряла сознание.
Послесловие
Тяжелое душевное потрясение, которое пережила Анна Васильевна, узнав об аресте мужа, крайне вредно отразилось на ее здоровье, и болезнь стала быстро прогрессировать. Она скончалась в конце 1919 года.
Валентин Феликсович пережил супругу на 42 года. В 1923 году он принял монашество с именем Луки и был рукоположен во епископа.
Прославлен Русской Православной Церковью как святитель и исповедник.
Все дети Войно-Ясенецких стали врачами.
* * *
Данный рассказ основан на автобиографии свт. Луки Войно-Ясенецкого. Однако он является художественным произведением и не претендует на историческую достоверность.
Бог Клотильды Повествование о святой королеве Клотильде
– Твой Бог – бессилен, Клотильда!
К удивлению Хлодвига, его жена ничего не ответила. Она опустила глаза и слегка побледнела, словно его слова причинили ей боль, но она ничего не сказала. Это воодушевило короля продолжать с большим напором:
– Твой Бог тебе не поможет. Его Самого распяли. Он бессилен. – Хлодвиг произносил слова четко и хладнокровно, будто наносил удары в поединке. – Ты, верно, ждешь, что, совершив свой обряд, ты спасешь нашего ребенка? Что после Крещения произойдет чудо и сын совершенно выздоровеет, да?
Клотильда молчала. Она нагнулась над люлькой и поцеловала младенца в горячий лоб.
– Ты ждешь от своего Бога чуда, – с упором повторил Хлодвиг.
Наконец королева обернулась к мужу.
– Нет, – промолвила тихо Клотильда. – Нет, я не жду чуда.
– Нет? Так чего же ты ждешь? – удивился он.
– Ничего, – просто сказала она.
Клотильда подошла к мужу очень близко и взглянула прямо в лицо. От неожиданности он даже отпрянул. Клотильда была прекрасна как никогда, но прекрасна особой красотой. Красотой не слабой женщины, а отважного воина.
Клотильда подошла к мужу очень близко и взглянула прямо в лицо. От неожиданности он даже отпрянул. Хлодвиг подумал, что жене очень подходит ее имя: Клотильда – прославившаяся в бою
Хлодвиг подумал, что жене очень подходит ее имя: Клотильда – прославившаяся в бою.
– Я верю в то, что мой Бог – мудр и милостив. И я полагаюсь на Его святую Волю, – спокойно произнесла королева.
– О какой милости ты говоришь, Клотильда? – скривил губы Хлодвиг. – Наш первенец, Ингомир, умер еще в крестильных одеждах. Будь мальчик освящен именем моих богов, он бы остался жив. То же произойдет и с Хлодомиром: крещенный во имя вашего Христа, он скоро умрет.
Клотильда покачала головой. Удары, наносимые Хлодвигом, ее не задевали.
– Я знаю, Хлодвиг, наш сын Хлодомир при смерти, – констатировала она. – Я не жду его чудесного выздоровления.
Морщина разрезала высокий белый лоб королевы, но ее голос не дрогнул.
– И я верю, если Хлодомир пройдет воды Крещения, умрет он после этого или нет, однажды мы с ним встретимся в Царствии Небесном.
Хлодвигу хотелось рассмеяться в ответ. Но лицо королевы и ее тон были настолько серьезны, что его лицо лишь застыло в усмешке. Он спросил:
– В Царствии Небесном ты надеешься встретить и Ингомира, не так ли?
– Так, – кивнула она и закрыла глаза.
– А меня? Меня ты там встретишь? – вскричал Хлодвиг. – Своего земного короля и супруга ты встретишь в этом Небесном Царстве?
Слова эхом отозвались от гранитных стен и застыли в воздухе.
Королева не открыла глаз. И теперь больше походила на изваяние. Холодное и неприступное.
Хлодвиг в растерянности стоял посреди залы. Выпустив свой гнев наружу, он вдруг осознал свое бессилие.
В люльке зашевелился младенец, верно, разбуженный криком отца. Клотильда наклонилась к ребенку. Ее бледное лицо вмиг изменилось: из холодного и мужественного оно стало мягким, любящим, ранимым. «Лицо матери совсем иное, нежели лицо жены», – с некоторой ревностью подумал Хлодвиг.
Он выжидающе смотрел на Клотильду.
– Нет, Хлодвиг, – наконец ответила она усталым, но твердым голосом. – Ты не знаешь моего Бога, значит, ты не можешь попасть в Его Царство.
Она произнесла эти слова, не отрывая любящих глаз от своего младенца. Тихая, спокойная, сильная.
Король почувствовал, что больше не может с ней бороться. Он сел рядом.
Некоторое время они молчали.
Затем он тихо произнес:
– Почему ты верна своему Богу, Клотильда, если Он так жестоко поступает с тобой?
Она так же тихо ответила:
– Ты – король, Хлодвиг, и ты знаешь, что тот истинный подданный своего государя, кто не рассуждает о королевских распоряжениях, а верно исполняет их.
Он встал. Расправил плечи. Быстро направился к двери и, не взглянув на жену, бросил:
– Пусть готовят к крещению Хлодомира.
Поле боя не место для сантиментов. Да и Хлодвиг не был склонен к чрезмерной чувствительности, но сейчас он думал о своей жене.
Алеманны вторглись в земли франков. Они завоевывают все новые и новые территории, бои как ржа разъедают войско Хлодвига. Завтра королю предстоит решающее сражение. А он думает о жене.
Итак, Клотильда. Клотильда красива. Клотильда умна. Клотильда покорна. Клотильда величественна.
У Клотильды есть свой Бог. И Бога Клотильда любит больше, чем Хлодвига, своего супруга. Хлодвиг может бить, пытать, издеваться, он даже имеет право убить Клотильду, но он не в состоянии запретить ей верить и быть верной ее Богу.
Хлодвиг знал это. И, возможно, именно верность Клотильды Христу более всего и привлекала короля. Она непонятным образом задевала его честолюбивую душу, трогала, вызывала долгие раздумья.
Бог Клотильды удивлял Хлодвига.
Сев на трон в пятнадцать лет, он привык, что власть берется силой, завоевывается годами, поддерживается жестокостью. И в нем вызывало недоумение, как всеми оплеванный, брошенный даже Своими учениками, Распятый Христос мог добиться искренней любви и преданности христиан, а главное – его жены. Отчего Клотильда не ставит ни во что свое земное королевство, а Царства Небесного ожидает с упованием и даже с какой-то радостью. Почему королева сторонится всего нечистого, но вовсе не страшится смерти и мертвецов. Она готова умереть за Бога, Который, как она утверждает, «умер за нее»…
Но больше всего ошеломляло короля то, что Бог действительно делал Клотильду неуязвимой. Вера словно хранила Клотильду, помогала ей сохранять мир и непреклонность в самых страшных обстоятельствах жизни. Клотильда не сломалась, когда ее родной дядя зверски расправился с ее родителями. Она спокойно предала себя в руки незнакомому Хлодвигу, когда тот попросил ее руки. Даже смерть первенца и болезнь второго сына не поколебали веры королевы. Все удары судьбы, все пересуды, толки, все несправедливости Клотильда воспринимала так, словно они ее не касались. Словно она лишь странница на этой земле и свой путь она держит совсем в другое, более сильное, счастливое, настоящее Царство.
Сев на трон в пятнадцать лет, он привык, что власть берется силой, завоевывается годами, поддерживается жестокостью
Значит, ее Бог силен? Значит, Его Царство истинно?
Невольно в Хлодвиге зарождалось и крепло уважение к Богу Клотильды. Хотелось узнать этого Бога. Хотелось даже, чего таить, заставить этого Бога служить и ему, Хлодвигу!
Король видел, что не только Клотильда верна Христу. Еще до женитьбы Хлодвиг столкнулся со стойкостью христиан: они будут стоять до смерти за свои святыни. И потому, осаждая и беря города, король-язычник всегда старался сохранить добрые отношения именно с епископами никейской веры и по возможности не громить их храмы. Хорошие отношения с владыками христианских церквей укрепят и авторитет короля. Ведь епископ – глава общины, а о чем думает голова, то любит и все тело. Разве не так?
Хлодвиг любил вспоминать тот случай, с чашей. Это было в Суассоне. В пятый год своего правления он пошел завоевывать земли Галлии.
Однажды вместе с другими драгоценными вещами, необходимыми для церковной службы, его воины унесли из местной церкви чашу. Чаша была необыкновенно хороша. Выполненная рукой умелого мастера, она, несмотря на внушительный размер, казалась изящной. Епископ той церкви, Ремигий, направил послов к королю с просьбой вернуть эту реликвию.
Король, выслушав послов, произнес: «Следуйте за нами в Суассон, ведь там должны делить всю военную добычу. И если этот сосуд, который просит епископ, по жребию достанется мне, я выполню его просьбу».
По прибытии короля в Суассон воины сложили всю груду добычи посредине для того, чтобы разделить ее по жребию, как это было принято среди дружины. Хлодвиг сказал: «Храбрейшие воины, я прошу вас отдать мне, кроме моей доли, еще и этот сосуд». Разумеется, он говорил об упомянутой чаше. В ответ на эти слова короля те, кто был поразумнее, воскликнули: «Славный король! Все, что мы здесь видим, – твое, и сами мы в твоей власти. Делай теперь все, что тебе угодно. Ведь никто не смеет противиться тебе!»
Как только они произнесли эти слова, один вспыльчивый воин, завистливый и неумный, поднял секиру и с громким возгласом: «Ты получишь отсюда только то, что тебе полагается по жребию!» – опустил ее на чашу. Все были поражены этим поступком, но король перенес это оскорбление с видимым спокойствием, правда, затаив в душе глубокую обиду. Он взял чашу (точнее, то, что от нее осталось) и передал ее епископскому послу.
Один вспыльчивый воин, завистливый и неумный, поднял секиру и с громким возгласом: «Ты получишь отсюда только то, что тебе полагается по жребию!» – опустил ее на чаш
Спустя год Хлодвиг приказал всем воинам явиться со всем военным снаряжением, чтобы показать на Марсовом поле, насколько исправно содержат они свое оружие. Когда он обходил ряды воинов, он подошел к тому, кто ударил по чаше, и сказал: «Никто не содержит оружие в таком плохом состоянии, как ты. Ведь ни копье твое, ни меч, ни секира никуда не годятся». И, вырвав у него секиру, он бросил ее на землю. Когда тот нагнулся за секирой, Хлодвиг поднял свою секиру и разрубил ему голову, говоря: «Вот так и ты поступил с той чашей в Суассоне». Воин умер, а король приказал остальным разойтись, наведя на них своим поступком большой страх.
Да, это был поступок короля! Настоящего короля! Хлодвиг гордился своей силой.
Правда, Ремигий, услышав о мести Хлодвига, говорят, опечалился. Наверное, их Распятый поступил бы иначе. Возможно, в Его Царстве свои законы, а в царстве людей, это Хлодвиг знает, правит сила! Сила и страх.
Сила и страх…
Клотильда не верит в страх. Страхом ее не проймешь. Но она говорит, что сила ее Бога бесконечна. И, конечно же, этот Бог дарует силу Своему народу. Хлодвиг знает истории христианских Писаний. Ремигий часто упоминал то один, то другой случай, когда Бог даровал победу избранным Своим. А Хлодвиг, затаив дыхание, слушал и внимал речам епископа.
Если Бог Клотильды силен и могуществен, если Он – вечен, то Его хорошо иметь на своей стороне, – думал король. – Если есть Небесное Царство и оно нерушимо, лучше стать наследником этого Царства.
Сейчас идет война с алеманнами. Враг побеждает. А боги Хлодвига не слышат его. Может, теперь самое время?! Если Бог Клотильды есть, если Он живой, если Он Сам – Царь, Он услышит Хлодвига.
Король преклонил колени и зашептал:
«О Иисусе Христе, к Тебе, кого Клотильда исповедует Сыном Бога живого, к Тебе, Который, как говорят, помогает страждущим и дарует победу уповающим на Тебя, со смирением взываю проявить славу могущества Твоего. Если Ты даруешь мне победу над моими врагами и я испытаю силу Твою, которую испытал, как он утверждает, освященный Твоим именем народ, уверую в Тебя и крещусь во имя Твое».
Послесловие
В 496 году Король Хлодвиг I одержал блестящую победу над алеманнами, захватившими территории франков. Хлодвиг принял Святое Крещение на Рождество Христово 496 года, в Реймсе, от руки епископа Ремигия. Примеру Хлодвига последовала вся дружина короля франков.
Второй сын королевской четы Хлодомир оправился после болезни и впоследствии стал королем Орлеана. У Хлодвига и Клотильды родились еще два сына и две дочери.
Королева Клотильда прославлена в лике святых. Ее память празднуется Православной Церковью 3 июня.
Епископ Ремигий почитается как святитель Реймсский. Его память празднуется 1 октября.
Юродивая жена Повествование о святой блаженной Пелагее Саровской
– Извольте испить с нами чаю! – засуетилась Прасковья Ивановна, встречая гостей. – У нас чай особенный, с травами. Как раз и самовар поспел! – Она нервно поправила высокую прическу и изобразила на лице улыбку.
– Что же… – важно проговорила седая дама, снимая перчатки, – благодарствуем за приглашение!
Ее спутник – худощавый молодой человек, одетый в скромный сюртук, – неловко откашлялся, озираясь по сторонам.
– Веди Палашу! – шепнула Прасковья Ивановна прислуживавшей девке. – Да смотри, чтоб без фокусов!
Хозяйка вновь улыбнулась гостям и жестом пригласила их к столу. Там на праздничной скатерти красовался пузатый расписной самовар, вокруг него на фарфоровой посуде блестели бока пирогов, а в вазочках манили к себе засахаренные фрукты.
Только гости сели за стол, как в гостиную стремительно вошла высокая девушка.
– А вот и наша Пелагея Ивановна! – Прасковья Ивановна встала и чинно представила гостям свою дочь.
Молодой человек вскочил с места и, прежде чем поклониться, внимательно посмотрел на вошедшую.
На праздничной скатерти красовался пузатый расписной самовар, вокруг него на фарфоровой посуде блестели бока пирогов, а в вазочках манили к себе засахаренные фрукты
Девушка производила странное впечатление. Она была, безусловно, красива, к тому же крепка и осаниста. И богатое платье с вышитыми цветами выгодно подчеркивало ее фигуру. Но что-то было в лице девушки слишком решительное, если не сказать – лихое. Она быстро взглянула на гостя. И этот взгляд также удивил юношу. В нем чувствовалась огромная сила и в то же время беззащитность.
– Сергей Васильевич Серебреников, – отчеканил гость.
Девица кивнула, прикусила губу и с шумом села за стол.
– Погода сегодня солнечная, не правда ли? – непринужденно заметила Прасковья Ивановна.
– Да, в этом году весна рано началась в Арзамасе, – ответила гостья.
Подали чай.
За столом дамы вели разговор об особенностях местного климата и ландшафта, с беспокойством поглядывая на молодых. Юноша заметно переменился с приходом Пелагеи Ивановны. Он выпрямился, и лицо его приняло твердое выражение. Это уже был не прежний робковатый юнец, а мужчина с серьезными намерениями. Девушка же, напротив, словно осунулась. Она забилась в дальний уголок стола и обреченно разглядывала чашку.
– Да, лето, видимо, будет засуш… – Прасковья Ивановна осеклась. Страшная картина предстала перед ее взором: ее дочь, Пелагея Ивановна, ложечкой лила чай на узорные цветки на своем платье. Польет и пальцем размажет. Польет и размажет. – Дуня! – завопила хозяйка.
Служанка подбежала к барыне.
– Дуня, – сказала Прасковья Ивановна, – подай Палаше чаю. – И зашептала на самое ухо: – А станешь чашку подавать, незаметно ущипни ты дуру-то, чтоб не дурила!
Дуняша послушно подошла к Пелагее Ивановне, протянула ей чашку и с удовольствием пресильно ущипнула ту за локоток.
– Что это? – вскричала девица и обратилась к Прасковье Ивановне: – Маменька! Или уже вам больно цветочков жалко-то? Ведь не райские это цветы!
Прасковья Ивановна стала бела как мел, а седая гостья вопросительно подняла брови.
* * *
– Ну и как вам невеста? – нетерпеливо спросил Сергей Васильевич в тот вечер свою крестную мать, сопровождающую его на смотринах.
– Не бери, Сергей Васильевич, – отрезала та. – Это не дело, что она богата. Ведь и вправду все говорят, что она глупая.
– Нет… – покачал головой юноша. Из его головы не выходил тот единственный взгляд, которым Пелагея Ивановна одарила его при встрече. – Она вовсе не глупая. А только некому было учить ее, вот она и такая. Как лошадь необъезженная. Что же, я сам и буду учить ее!
Крестная вздохнула и неодобрительно пожала плечами. Сергей Васильевич отличался упрямым нравом.
* * *
В тот день многие богомольцы Саровской пустыни лицезрели пренеприятнейшее явление. Разъяренный мужчина расхаживал по обители, грозясь все разрушить до основания и требуя, чтобы братия вернули его супругу.
– Да что случилось-то? Кто этот господин? – шепотом спросил лысоватый старичок с котомкой за спиной у толстой бабы, сидевшей возле храма.
– Что случилось?! Кто ж его знает! – ответила она и хитро улыбнулась.
– Ну ты-то точно знаешь, Матвеевна! – подмигнул старичок.
Баба довольно хмыкнула.
– Маленько знаю: кое-чего сама видала, кое-что люди порассказали. Значит, так: приехали из города давеча: господин ентот, жена его да матушка ейная, кажись. Вон она там, под липой, сидит на лавочке – с лицом-то важным. К старцу нашему пошли, к батюшке Серафиму, на разговор…
– И что же?
– А вон оно что: старец-то принял их, благословил, а затем мужа-то и мать выпроводил. Мол, в гостиницу идите. А молодую госпожу, супругу, значит, ентого господина, оставил при себе.
– Ну?
– Ну и ну. Пропала она с той поры.
– Как пропала?
– Да не воротилась обратно! Еще после обедни пошла, а уж вечерню отслужили…
– Ну дела! – старик развел руками. – А старец что?
– Что старец? Он с тех пор не принимал еще никого – вишь, сколько народу-то собралось у его кельи.
– А-а-а-а, да-да, я поприметил толпу, подумал даже, может, болен батюшка, не принимает.
– Да не болен, все с госпожой той беседы ведут, поди.
Старичок почесал свою голую макушку и хотел было еще что-то спросить у своей собеседницы, как та сама поднялась и заголосила:
– А вон-вон, старец из кельи-то выходит. Ой, что будет, что будет…
Действительно, из кельи вышел сгорбленный старец в простой ряске и вывел за руку высокую статную женщину. Изящно одетая, она, однако, выглядела не городской львицей, а скорее египетской подвижницей – такое твердое выражение было у нее на бледном лице.
«А вон-вон, старец из кельи-то выходит. Ой, что будет, что будет…»
Действительно, из кельи вышел сгорбленный старец в простой ряске
Батюшка Серафим поклонился даме до земли и что-то ей сказал.
– Иди, матушка, иди немедля в мою-то обитель, побереги моих сирот-то, многие тобой спасутся и будешь ты свет миру. Ах, и позабыл было: вот четки-то тебе; возьми ты, матушка, возьми, – проговорил отец Серафим с мольбой в голосе и протянул Пелагее деревянные четки.
– Пелагея! – закричал Сергей Васильевич. Голос его звучал как раскат грома. – Ах ты, супружница!
Пелагея вздрогнула, словно голос мужа пробудил ее ото сна.
– Хорош же Серафим! – орал муж. – Вот так святой человек, нечего сказать! И где эта прозорливость его? И в уме ли он? И вообще – на что это похоже? – дикая ревность, злость и недоверие вылились наружу. Но более того, в душе этого сильного мужчины вдруг зародился страх. Страх потерять свою любимую. – Девка она, что ль, что в Дивеево ее посылает? Да и четки ей дал!
– Ладно, ладно, Сережа! – бросилась к мужу Пелагея Ивановна. – Будет тебе!
– Тоже мне, старец! – кипел тот. – О чем можно так долго разговаривать с замужней дамой?
– Да все в порядке. – Пелагея отвернулась от мужа и снова посмотрела в сторону Серафимовой кельи.
Сергей Васильевич стиснул зубы от злости. Ему вдруг почудилось, что это конец. Конец их семейному счастью.
Он сидел во дворе на лавке и курил, пытаясь погасить в себе досаду. Но, напротив, табачный дым еще сильнее разъедал его душу, и с каждой затяжкой душа чернела и исполнялась горечью.
«Вы не думайте, Сергей Васильевич, что я со зла… Я, право, из лучших побуждений… Может, вы как-нибудь посодействуете… – звучал в его ушах участливый голосок Матроны Павловны. Эта сорокалетняя купчиха славилась в городе не чем-нибудь, а своим языком. Купчиха перешла на шепот: – Дело в том, что сегодня ваша уважаемая супруга, Пелагея Ивановна, снова разгуливала по городу в таком виде… Как бы помягче сказать: платье-то на ней было праздничное, на плечах шаль, а вот на голове… Сергей Васильевич, с какой-то грязной тряпкой на голове гуляла-то она. И так важно прохаживалась по центральным улицам, будто на ней не тряпье, а шелковый платок. А на днях она так и к службе пришла в храм Божий. Нет, нет, я ничего не хочу сказать, да только негоже это, Сергей Васильевич. Я бы на вашем месте последила бы за женою. Толки ходят, сдружилась она с еще одной дурой Арзамасской – Прасковьей. Та, поди, ее дурости и учит всякой. Да и соседка ваша видала, как Пелагея Ивановна-то по ночам не спит, стоит на коленях в галерее вашей стеклянной. А чего она стоит-то? Вы, Сергей Васильевич, ведь муж ее, зачем вы ее отпускаете, она же так на холоде-то да без сна совсем сбрендит. А ведь у нее ребеночек под сердцем – вон, живот уже не скроешь».
Сергей Васильевич еле выпроводил болтливую купчиху, сел на лавку и уже битый час курил трубку. Думы его становились все тяжелее.
* * *
Прасковья Ивановна ходила по дому с мрачным видом.
На диване истошно кричал новорожденный ребенок. Девочка.
– Что стоишь! – зло крикнула Прасковья Ивановне Дуняше, своей девке. – Неси дитя кормилице. Запеленай только.
– Вы его себе оставите? – спросила Дуня.
– Не твоего ума дело! – отрезала Прасковья Ивановна.
Ребенок заорал еще сильнее, когда Дуня взяла его на руки.
– Ишь, голосистая какая! – улыбнулась Дуня. – В мать.
Прасковья Ивановна сама еще не решила, что делать с подкидышем. Наверное, придется оставить. Все же это ее внучка. Да и Палаша, видно, совсем очумела. Первых двух младенцев загубила, а эту – в подоле матери принесла, как только та на свет родилась. Кинула, как котенка, на диван, на мать зыркнула обезумевшими глазами: «Ты отдавала, ты и нянчись теперь, я уже больше домой не приду!» – да и за порог. Эх, Пелагея Ивановна…
Прасковья Ивановна остановилась возле красного угла, поправила фитиль у лампады. Нет, она, конечно, знала, что дочь ее со странностями. Родилась вроде здоровенькой. А как слегла во младенчестве с болезнью неизвестной, так встала совсем иным ребенком. Из редко умного ребенка стала вдруг какой-то точно глупенькой. Уйдет, бывало, в сад, поднимет платьице, станет и завертится на одной ножке, точно пляшет. Уговаривали ее, срамили, даже и били, но ничего не помогало. Так и бросили. А затем она выросла, похорошела, как яблонька зацвела. Прасковья-то Ивановна и подумала, что замужество, гляди, и пойдет на пользу дочери. А дело-то иначе обернулось… Как к старцу тогда съездили в Саров, так словно подменили Пелагею – чудачить начала сильнее прежнего. Надеялась мать, что рождение ребенка ее образумит. Первый мальчик такой хорошенький народился-то! Василием назвали. А дура-то, Палаша, была и не рада, как скажет во всеуслышание и при муже: «Дал Бог, дал, да вот прошу, чтоб и взял. А то что шататься-то будет!» Конечно, Сергей Васильевич после слов таких разъярился и бить ее стал. А толку нет. Второго родила через год, Ванечку, и так же с ним, словно не мать, а кукушка. Вот и померли оба мальца. Теперь вот девку народила…
Прасковья Ивановна тяжело вздохнула. Нелегкая бабья доля, ой, нелегкая! Смутное чувство вины всколыхнулось в ней – ведь насилу замуж отдавала дочь, та и мучается. Надо взять девчонку к себе, Пелагеей назвать. Авось, тем грех свой пред Богом загладить.
* * *
– Оставьте, меня Серафим испортил!
– Серафим, говоришь? А так как? – Сергей Васильевич хлыстал ремнем босую грязную женщину в оборванной одежде. Ноги у женщины опухли, а из губы сочилась кровь.
– Оставь, Сергушка! – молила та.
– Да ты, дрянь, мне принадлежишь! Мне, поняла? Что хочу, то и делаю с тобой!
– Оставь, порченная я…
– Я тебе ум-то вправлю…
Уже больше месяца не показывалась Пелагея Ивановна дома, бегая по городу от церкви к церкви. Жалостливые люди давали ей милостыню, она тут же раздавала ее бедным или ставила свечи в храме. Там-то и застал ее Сергей Васильевич.
Он приволок жену в полицейский участок и уговорил городничего высечь упрямую и непокорную жену. Тот привязал Пелагею к скамейке и долго бил. Клочьями висело тело ее, кровь залила всю комнату, а она и не охнула.
Только не помогло это. Пелагея дурить не перестала, уклоняясь от мужа всяческими способами. Тогда и задумал Сергей Васильевич посадить жену на цепь. Заказал цепь железную с таким же железным кольцом, да сам своими руками приковал супружницу к стене. Теперь он мог издеваться над ней, как ему хотелось.
Весь город говорил о ночном происшествии в Напольной церкви. Да и шутка ли – столкнуться с привидением! А дело было так: церковный сторож, проснувшись глубокой ночью, решил обойти храм. Стужа стояла страшная, и тот перед выходом опрокинул стаканчик, чтоб не замерзнуть. Дошел он до того места, где стоял гроб, приготовленный для умершего от эпидемии солдата, а оттуда вдруг как выскочит баба! Голая почти, губы у нее синие, на шее обруч железный и цепь висит. Ни дать ни взять – оборотень! Тут припустился сторож во всю прыть. Полгорода перебудил со страху. А оказалось, это дура была – Серебреникова жена, Пелагея. Снова от мужа сбежала, чуть не околела на морозе.
Ну, жену мужу спровадили, сторожа еще больше напоили, чтоб успокоился. Гроб закрыли крышкой.
А Сергей Васильевич в тот день молча привел безумную жену теще. Хватит с него.
* * *
– Вот, батюшка, дочь-то моя, с которой мы были у тебя, замужняя-то, с ума сошла, то и то делает и ничем не унимается; куда-куда мы ни возили ее; совсем отбилась от рук, так что на цепь посадили.
Прасковья Ивановна жалостливо смотрела на старца Серафима.
– Как это можно? – воскликнул тот. Великое беспокойство отразилось на его светлом лице. – Как это могли вы? Пустите, пустите, пусть она по воле ходит, а не то будете вы страшно Господом наказаны за нее, оставьте, не трогайте, оставьте!
Напуганная мать стала оправдываться:
– Ведь у нас вон девчонки замуж тоже хотят, ну зазорно им с дурою-то. Ведь и ничем-то ее не уломаешь – не слушает. А больно сильна без цепи-то держать – с ней и не сладишь. Возьмет, это, да с цепью по всему городу и бегает, срам да и только.
Старец неожиданно улыбнулся:
– На такой путь Господь и не призывает малосильных, матушка; избирает на такой подвиг мужественных и сильных и телом, и духом.
А затем строго добавил:
– А на цепи не держите ее и не могите, а не то Господь грозно за нее с вас взыщет!
– Да, так и сказал мне старец Серафим, не мешать дочери, – рассказывала Прасковья Ивановна, – с тех пор мы дуру в цепях и не держим. Бегает она по городу днем, озорует, а ночи проводит на погосте Напольной церкви… А муж ее, живой, не заходит совсем.
– Вы бы отдали ее к нам, – вдруг предложила гостья Прасковьи Ивановны, женщина средних лет с круглым добрым лицом. – Что ей здесь юродствовать?
– Да я бы рада-радехонька, Ульяна Григорьевна, если б вы взяли ее и если б она пошла, – оживилась та. – Ведь нам-то, видит вот Царица Небесная, как надоела она, просто беда. Возьмите, Христа ради, вам за нее мы еще и денег дадим.
Ульяна Григорьевна обернулась к самой Пелагее Ивановне, сидящей за столом с чашкой в руках, и ласково сказала:
– Полно тебе здесь безумствовать, пойдем к нам в Дивеево, так Богу угодно.
Пелагея, дотоле равнодушная к беседе, вдруг вскочила со своего места, поклонилась в ноги гостье и промолвила:
– Возьмите меня, матушка, под ваше покровительство!
– Как славно заговорила! – удивилась Прасковья Ивановна. – Словно разумная!
– Ага! – гаркнул брат Сергея Васильевича, бывший в гостиной. – А вы и поверили ей. Вишь, какая умница стала! Как бы не так! – он сложил кукиш и потряс им перед гостями. – Будет она у вас в Дивеево жить? Убежит и опять станет шататься.
Пелагея Ивановна внимательно посмотрела на него, и к удивлению окружающих, спокойно поклонилась ему в пол со словами:
– Прости Христа ради меня, уж до гроба к вам не приду я более.
* * *
В Дивеево часто приезжают паломники, и оттого к незнакомым лицам здесь не присматриваются. Но этот подтянутый хорошо одетый мужчина невольно привлекал взгляд.
«Кто бы это был? – подумала послушница Анна. – Что-то вовсе я такого не видала и не знаю». Заметив интерес в глазах у сестры, мужчина обратился к ней:
– Королева-то здесь?
– Королева? – удивилась та. – Это Пелагея Ивановна, что ли?
– Она самая.
– Здесь, – отвечает. – А вам что нужно?
– Нужно, – жестко сказал мужчина. – Где она?
Послушница задумалась, затем проговорила:
– Пойдемте, – и пошла мелким шагом к храму.
– А вы арзамасские, что ль? Родные ей будете? – обернулась она на ходу.
– Кажется, будто сродником считался, – каким-то треснутым голосом ответил посетитель.
Пелагея Ивановна сидела у Тихвинской церкви и широко улыбалась. На одной ноге у нее красовался дырявый башмак, а на другой разинул рот старый валенок. В руке блаженная держала длинную палку.
Незнакомец подошел к Пелагее и прямо посмотрел ей в глаза.
– А ты полно дурить-то, – тихо сказал он ей. – Будет. Поедем-ка в Арзамас.
Дура еще шире улыбнулась.
– А вы кто ей будете? – не удержалась послушница.
– Я-то? – мужчина сплюнул. – Муж ее.
– А-а-а… – кивнула послушница и смолкла.
– А вы думаете и вправду, что она безумная дура? – вдруг спросил мужчина. – Вовсе нет, только так дурит, и просто – шельма.
Тут приказчик, бывший с незнакомцем, встрял в разговор:
– Эх, Сергей Васильевич! Что вы говорите? Ну и стала бы она, если бы и маленький у нее ум был, терпеть такие побои, как вы били ее? А потому только и терпела, что без ума стала.
Мужчина снова сплюнул.
– Что ей делается? Вишь, какая она здоровая да гладкая!
При этих словах Пелагея Ивановна встала с земли, поклонилась своему супругу и сказала без тени обиды в голосе:
– Не ходила я в Арзамас и не пойду, хоть ты всю кожу сдери с меня.
Незнакомец еще раз взглянул на блаженную, в ответ поклонился ей, развернулся и молча пошел к вратам обители.
– Что это, Пелагея Ивановна, – послушница Анна подбежала к блаженной. – Неужто правда муж твой?
– Да, все искал у меня ум да ребра хотел пересчитать, ума не нашел, зато ребра переломал все, – покачала головой та.
Много лет прошло с тех пор. И больше уж не видела Пелагея Ивановна своего Сергея Васильевича. Но как-то летом сделалось ей плохо. Вскочила она, скорчилась, стала по комнате ходить, сама стонет и плачет.
– Умирает он, да умирает-то как! Без причастия.
А он действительно умирал в тот час. Так же расхаживал по дому своему, скрючившись от болезни, да приговаривал:
– Ох, Пелагея Ивановна, матушка! Прости ты меня, Христа ради. А как я тебя бил-то! Помоги мне! Помолись за меня!
Что творилось в душе у блаженной? Любила ли она мужа своего? Жалела ли его? Простила ли? Только Богу это ведомо. Сама Пелагея Ивановна более о муже не вспоминала и разговор ни с кем не заводила.
Только уже через сорок лет, почти перед самой своей кончиной, в день преподобного Сергия встрепенулась Пелагея:
«Сергушка, Сергушка, по тебе и просфорки-то никто не вымет». И грустным-грустным сделалось ее лицо.
Что творилось в душе у блаженной? Любила ли она мужа своего?
Жалела ли его? Простила ли? Только Богу это ведомо…
* * *
Рассказ основан на жизнеописании блаженной Пелагеи Саровской и на воспоминаниях ее келейницы Анны Герасимовны.
В Нямецких лесах Повествование о святой Феодоре Карпатской
Я знал, что когда-нибудь найду ее. Ведь то, что соединил Бог, человек разлучить не может… И потому продолжал молиться и искать, даже когда, казалось, надежды больше нет.
Впервые я увидел ее в храме в ее родном селе Вынэторе. Она была простой девушкой, ничем внешне особенно не примечалась. Вот только глаза… Глаза у нее были такие ясные и добрые, что она сразу запала мне в душу.
Я встречал ее несколько раз. В тот год у нее умерла младшая сестра, и она часто оставалась после службы почитать Псалтирь. А я в то время кое-что слесарил для местного священника. Вот мы и встречались возле храма. Она опускала глаза и проходила мимо. А я думал: «Такой и должна быть жена – скромная и тихая».
Как-то я спросил о ней у батюшки, а он ответил: «Феодора? Ты на нее не гляди. У нее не семейный путь. Она желает посвятить себя Богу».
Слова священника не огорчили меня, а даже обрадовали. Тогда я был молод и не мог понять, как это – желать уйти из мира, когда толком и не пожил. «Наверное, за нее просто никто не сватался», – решил я. А значит, у меня была возможность просить ее руки.
Когда работа моя была завершена, я пошел к отцу Феодоры – Стефану Джолдя. Он был военным, и потому наш разговор был краток и серьезен.
В следующее воскресенье нас с Феодорой обручили…
Была ли она согласна стать моей женой? Я никогда не спрашивал ее об этом, а она никогда не жаловалась на свою судьбу. Она была такая, моя Феодора, – даже если ей было больно, она молчала. Все переживала в себе. Да и мне не было важно. Я искренне считал, что сделаю ее счастливой. Я сам желал семейного счастья.
Что же… чего я ждал – то и получил. Весной мы повенчались.
Жили мы просто. Было у нас свое хозяйство. Вот и жили общим трудом да молитвой. Все хорошо у нас было, как мне казалось. Дружная семья.
Год жили, два. А детей не нажили. Феодора винила себя в неплодстве и как-то сказала: «Бог не дает нам детей, чтобы мы Ему послужили…». Но я не обратил внимания на ее слова, полагая, что ей хочется чаще бывать в храме. Тем более она, всегда набожная, действительно стала еще дольше молиться и не пропускала ни одной церковной службы. Я не возбранял ей этого, потому как полагал, что церковь ее успокаивает, позволяя на время забыть про свои заботы.
Знал я и то, что моя жена ходит к старцам в горы за духовным окормлением. У нее в горах был духовник еще с поры ее девичества. Обычно она поднималась в горы вместе с несколькими богобоязненными женщинами из нашего села.
Я с ними никогда не ходил – как-то незачем было. Церковь нашу я посещал по праздникам, посты держал, какие полагаются, а на разные беседы о душе тогда времени у меня не было. Да и не понимал я сути советов со старцами. А Феодора ходила к Нямецким подвижникам, как только выпадала такая возможность. Как-то я спросил ее, зачем ей, мужней жене, советы монахов, а она ответила: «Кто лучше видит – сокол, летающий высоко в небе, или курица, живущая в своем курятнике?» Это она о себе как о курице мыслила – такое у нее было смирение.
Да, я не всегда мог ее понять и, наверное, порой ей было тяжело со мною. Но свою долю она терпела и никогда не роптала на меня. Даже как будто жалела.
Долгое время я укорял себя в том, что сам ее отпустил. Впрочем, так оно и было. Вечером накануне того дня она стала собирать кое-какие вещи. Я спросил ее: «Ты в горы?» Она как-то внимательно посмотрела на меня. А потом тихо сказала: «Да, отпусти меня с миром и благослови». Феодора часто спрашивала моего мужниного благословения перед каким-то важным делом или путешествием. Потому я не придал этому значения: «Иди с Богом!» – сказал я. Она будто немного грустно улыбнулась. А может, это придумывает моя память… я не знаю. Знаю только, что рано утром на следующий день она ушла и больше я никогда ее не видел…
Жизнь в монастыре с ее неспешным ходом, долгими молитвами и посильным трудом стала для меня лекарством от одиночества
Что только ни говорили у нас в селе… как только ни порочили мою жену. Кто-то полагал, будто она сбежала с кем-то из соседнего села, кто-то – что сошла с ума и скитается по лесу, кто-то утверждал, что ее убили. Только я знал, что все это вздор. Моя Феодора была жива, а уйти от меня она могла только ради Бога. Значит, и искать мне следовало среди Божиих людей, решил я.
Женщины, с кем она обычно ходила к старцам, ничего толком мне сказать не могли. Они твердили лишь, что в тот день, когда моя супруга пропала, никто из них в горы не поднимался. А еще от них я узнал, что духовник Феодоры скончался несколько месяцев назад, но в горах есть другие старцы, и, может быть, они могут помочь мне найти жену.
Я обошел все горы Нямецкого края в поисках супруги. Я познакомился со многими старцами и старицами, и всем я рассказывал о Феодоре, и у всех спрашивал про нее. Я объездил все известные мне монастыри и скиты. И все впустую – ее нигде не было и никто не знал о ней ничего.
В конце концов я очутился в Мерлополянском скиту. Там тогда был один старенький монах-подвижник. Он-то и сказал мне: «В свое время Господь приведет тебя к ней, а сейчас оставь свои поиски». – «Но что же мне делать без нее?» – спросил я в отчаянии. «Оставайся в этой обители, брат!» – услышал я в ответ.
Жизнь в монастыре с ее неспешным ходом, долгими молитвами и посильным трудом стала для меня лекарством от воцарившегося с уходом жены одиночества. В скиту я лечил свои раны.
Вначале я не думал о монашестве. Тогда я ни о чем не думал. Просто жил. Как-то приехали из нашего села мужики, из моей родни. Приехали забрать меня обратно. Мол, уже больше года как Феодора пропала, дескать, можно мне и новую бабу найти и снова хозяйство поднимать. А я слушаю их и дивлюсь – как это можно мне жениться, если я перед Богом стоял в храме, давая завет, что всегда буду верен Феодоре. Тогда-то я и понял, что нет мне дороги назад, и решил больше никогда не возвращаться в мир. Я принял постриг с именем Елевферий.
Проходили годы – один похожий на другой. Из простого инока я сподобился стать иеромонахом. Я вверил себя руководству старцев и полюбил монашеское делание. Но я не забыл мою Феодору. Я продолжал молиться за нее. Хотя больше я ее не искал, полагая, что мы, конечно, встретимся, но в иной жизни.
«Кто знает, может, она действительно уже умерла», – думал я. Мне и самому надо готовиться к вечности.
Однажды к нам в скит приехал инок из монастыря Сихэстрия. Как всегда после трапезы в воскресный день начался разговор о подвижниках Нямецких гор. Такие беседы не возбранялись нашим игуменом, потому что примеры благочестивых подвижников возгревали в сердцах молодых послушников и монахов желание подвига, необходимое для монашеского делания.
В тот день мне нездоровилось и на беседу я не остался. Но уже вечером, когда, проводив гостя, вернулся мой сокелейник отец Моисей, я стал расспрашивать его о том, что поведал инок Сихэстрии.
– Он рассказывал нам о старце Павле, – ответил отец Моисей.
– Это тот схимник-пустынник, что скончался несколько лет назад? – спросил я.
Я уже слышал об этом подвижнике строгой жизни. Он был духовником настоятеля Сихэстрии и долгое время подвизался в лесах недалеко от монастырского скита Сихлы, живя в небольшой деревянной келейке. Он окормлял нескольких отшельников, которые также подвизались в этих лесах.
– Да, – подтвердил Моисей. – Уже более пяти лет, как он предал душу Богу.
– И что же, отшельничество в лесах Сихлы перевелось с его смертью?
– Это-то и интересно. Братия утверждают, что есть в лесах отшельники, место пребывания которых никому не ведомо. И даже есть одна подвижница…
– Подвижница? – переспросил я. Сердце мое отчего-то сильно забилось.
– Да, как раз о ней-то и рассказывал брат.
– И что же он говорил?
Отец Моисей когда-то в миру работал учителем, он имел замечательную память и любил всякие истории. Потому он с видимым удовольствием принялся за рассказ:
– Есть в лесах Сихлы одна старица, уже более пятнадцати лет, как она отшельничает. Известно, будто раньше она была инокиней в скиту Вэрзэрешть. Во время набега турок их скит был разграблен и все насельницы, боясь надругания, бежали в леса. Две из них – еще молодая инокиня и ее духовная наставница-схимница – укрылись в горах Вранча и там жили, питаясь кореньями, ягодами да орехами. Когда старая схимница отошла ко Господу, инокиня похоронила ее и решила идти в Нямецкие леса. Говорят, сначала она посетила Нямецкий монастырь, где долго разговаривала с отцом настоятелем. Он благословил ее отправиться за советом в монастырь Сихэстрия. Батюшка отец Варсонофий, по словам рассказчика, тепло ее принял, обо всем расспросил и благословил находиться в послушании отца Павла. Тот-то и привел ее в леса, что окружают скит Сихла, и сказал, что если сможет она вынести суровое пустынное жительство, неизбежные лишения и зимнюю стужу, то следует ей подвизаться там до самой смерти. Если же не хватит на это сил, то пусть возвращается тогда в монастырь. И она осталась в лесах. И жила там много лет так, что только один отец Павел знал, где находится ее келья. Он сам приносил ей все необходимое, исповедовал и причащал ее.
– А как же сейчас, когда отец Павел отошел ко Господу? – с тревогой спросил я.
– Вот, брат, никто и не знает, жива ли та инокиня. За пять лет-то и одежда ее, поди, поистрепалась. А уж про еду и говорить нечего. Братия Сихэстрии полагают, что она скончалась уже. Но отец настоятель велит поминать ее о здравии, пока ее тело не будет найдено.
– Как же ее зовут? – не удержался я.
Тут отец Моисей задумался.
– Я точно помню, что ее спутницу-схимонахиню величали Паисия – в честь подвижника Нямецкого. А ее имя как-то с Богом связано…
– Феодора? – вырвалось у меня.
– Да, кажется, Феодора, – спокойно ответил монах.
Святые отцы говорят, что мысли приходят к нам в голову либо от Бога, либо от сатаны, либо от нас самих. Тогда, видимо, мне шепнул на ухо сам Ангел Господень: «Это твоя жена». Осознание было таким твердым, что я не сомневался в его истинности. Эта подвижница была моя жена Феодора.
«Что же мне теперь делать?» – думал я и стал усиленно молить Бога вразумить меня.
После Пасхи я написал письмо настоятелю в монастырь Сихэстрия с просьбой прислать мне какие-либо сведения о подвижнице Феодоре, живущей в лесах. Но ответ до меня не дошел. В тот год на нас снова напали турки и многие монастыри и скиты были подвержены набегам. Пострадал и наш скит. А потом мы узнали, что турки дошли и до Нямецких лесов. Монастырь Сихэстрия и скит Сихла были также разграблены.
После набега долгое время мы занимались восстановлением нашей монашеской жизни. Я стал думать, что, возможно, та подвижница и вовсе не была моей женой, может, это просто совпадение. Ведь если Феодора стала монахиней, она могла иметь совсем другое имя при постриге. Маловерие обуревало меня. И я решил пока ничего не предпринимать.
Снова шли года. Рождество сменяла Пасха, а Пасху Рождество. И вот прошлым летом наш игумен благословил меня на поездку в Нямецкий монастырь по каким-то делам обители. Я не любил покидать скит, но в Нямцы ехал с радостью – это были почти родные мне края.
Нямецкие горы словно в первый раз поразили меня своей дремучей красотой. Да, сколько же подвижников скрывали и скрывают они в себе!
Я приехал в Нямец 6-го августа поздно вечером как раз накануне Успенского поста и надеялся прожить там до Успения, а также посетить ближайшие скиты. Надеялся я и побывать в Сихэстрии.
Отец настоятель был в отъезде, и потому первый день по приезде я был предоставлен сам себе. В Нямце была такая традиция: первые три дня гостям и паломникам предоставлялось свободное время: они могли полностью посвятить себя молитве, говению или просто отдохнуть в монастырской тишине. Кто оставался дольше трех дней, тому уже между службами давали послушания – в трапезной, в столярной, в книгопечатной мастерской или даже на скотном дворе. В свой первый день в Нямце после ранней литургии я решил побродить немного в окрестностях монастыря.
За монастырским полем начинался лес, и я брел по тропинке, сам не зная куда. Я уже прошел довольно далеко в глубь леса, как вдруг вдали мне показалась фигура в старом сером подряснике и с длинными седыми волосами. «Наверное, это какой-то монах. А может, и отшельник», – промелькнула у меня мысль. Я остановился, чтобы не спугнуть этого человека. Но тот уже заметил меня. Он долго глядел в мою сторону, а потом низко мне поклонился. И вдруг исчез.
Честно сказать, я испугался. Что это было? Видение? Или просто я задремал на ходу? Я начал читать молитву Иисусову. А сам подошел к тому месту, где, как мне казалось, стоял тот монах. К моему неописуемому облегчению я обнаружил там старый трухлявый пень. Именно его я, видимо, и принял за фигуру монаха.
На следующее утро я узнал, что настоятель вернулся в обитель и желает меня видеть. После обсуждения дела, по которому я прибыл, игумен одобрил мой план и благословил остаться в Нямце до Успения.
– А Сихэстрию надо посетить, отче. Тем более только сегодня от одного монаха скита Сихла я слышал, там в лесах нашлась дивная старица. Она долгое время укрывалась в пещере. И братия ее обнаружили только потому, что кто-то заметил, что птицы собирают хлебные крохи и уносят их в одном направлении. Да, бывают такие чудеса и в наши дни.
– Феодора… она жива? – спросил я.
– А, так ты уже слышал про нее?
Тогда я все рассказал настоятелю о себе и своей жене, а также о моем предположении.
Игумен внимательно меня выслушал и сказал. «Благословляю тебя ехать завтра после литургии в Сихэстрию и все узнать о старице. Даст Бог, и ты сподобишься ее увидеть».
Ночью начался сильный дождь и все дороги развезло. В Сихэстрию мы с еще одним монахом из Нямецкого монастыря добрались только поздним вечером. Нас поселили в братский корпус, наказав нам отдохнуть с дороги и с ударами бил приходить на службу, которая в монастыре длится всю ночь.
Мне не терпелось узнать про старицу, но я положился на волю Божию.
В одиннадцать часов мы проснулись от звука бил. Монахи, шелестя мантиями как крыльями, собирались в храм. Служили вечерню, полуночницу, утреню, литургию. Во время литургии я услышал поминание об упокоении новопреставленной матери Феодоры. Я понял, что опоздал. Слезы брызнули у меня из глаз, и всю оставшуюся службу я молился так, как не молился никогда в моей жизни.
После службы братия собралась для небольшой трапезы. И тогда я подошел к уже старенькому отцу Варсонофию, который был игуменом Сихэстрии.
«Я слышал, вы поминаете новопреставленную Феодору…» – начал я.
«О да, – сказал настоятель. – Она подвизалась в наших лесах. И вчера утром мы предали ее останки земле. Это была удивительная подвижница. Если бы я не стоял у ее гроба, то не поверил бы, что сейчас возможен такой подвиг».
Взволнованный, я попросил рассказать мне об этой старице. И отец Варсонофий поведал мне следующую историю:
– Долгое время братия, послушающиеся в трапезной, наблюдали, как птицы подхватывали кусочки хлеба и куда-то их несли в клювах. Сначала мы думали, что это самец несет в гнездо для своей самки, сидящей на яйцах, но птицы прилетали разные, и история повторялась, даже когда кончилось время высиживания яиц. Мы стали внимательнее наблюдать за птицами. Они прилетали раз в день. Иногда одна птица, иногда две-три. Они собирали крохи и улетали по направлению к скиту Сихла. В среду и пятницу они не прилетали вообще. Будучи монахом, я повидал много чудес. Здесь, среди подвижников, чудеса привычны, и потому я понял, что птицы прилетают неспроста. Тогда я благословил двум молодым инокам проследить, куда они летят.
Это было на прошлой неделе. Птицы прилетели после полудня, и те иноки сразу пошли за ними. Чтобы не смутить их еще неопытные души тщеславием, их имена я указывать не стану. Они рассказывают, что шли долго сквозь леса. А птицы будто специально указывали им путь, часто останавливаясь и прыгая с ветки на ветку. Наконец, уже почти ночью, они пришли к скале, внутри которой, по-видимому, была пещера. Один из монахов заглянул внутрь и сразу отпрянул. По его словам – внутри, вся в ярком свете, на коленях стояла женщина и молилась. У нее были сбившиеся седые длинные волосы, которые, как покровом, скрывали ее нагое тело. Она обернулась и позвала иноков по именам. Она сказала, что она – Феодора и попросила дать ей одежды и проводить в наш монастырь для причастия, потому что дни ее подходят к концу. Один из иноков снял с себя свою старенькую серенькую ряску и отдал отшельнице. Но вид у нее был такой слабый, что было понятно – сама до монастыря она не дойдет. Тогда иноки пообещали ей назавтра привести священника.
В ту же ночь они вернулись в монастырь, как они сами говорят – водимые чудесным светом. И сразу ко мне. Я знал Феодору. Двадцать лет назад она приходила ко мне, и я, видя дерзновение этой инокини, отправил ее к отцу Павлу. Я знал, что она жила под его руководством в лесах недалеко от Сихлы, но по смерти схимника я ничего больше не ведал о ее существовании, хотя мы продолжали молиться о здравии Феодоры, как наказал мне перед своей смертью отец Павел. И потому, услышав от иноков об этой старице, я тут же отправил к ней иеродиакона Лаврентия и иеромонаха Антония.
Отец Антоний принял у нее исповедь и причастил ее Святыми Дарами. И, напутствованная Святыми Тайнами, она тихо отошла ко Господу. Монахи перенесли ее тело в скит. Там оно лежало несколько дней, издавая необыкновенное благоухание. Мы отпели ее как пустынницу в ее же пещере.
– А когда она умерла? – спросил я
– Вчера был третий день, 7 августа утром.
– Так значит, это ее я видел… ее душа приходила прощаться со мной, – ошеломленный своей догадкой, промолвил я, отчетливо вспоминая монаха, встреченного мною в лесу возле Нямецкого монастыря.
– Отец, ты знал ее? – удивился старенький игумен.
– Кажется, эта старица была моей женой…
Мы шли не спеша по узкой недавно протоптанной тропинке. К могиле Феодоры меня сопровождал иеромонах Антоний.
– Братия скита немного расчистили эту дорогу. Перед погребением мы срезали ветви, обозначили тропу зарубками. А то иначе и найти пещеру было бы невозможно, – говорил отец Антоний. Это был небольшого роста человек с внимательными глазами и рыжей с проседью бородой. Я кивнул, поглощенный своими думами. Какое-то время мы молчали. Вдали кричала кукушка.
– Наверное, мать Феодора чувствовала, что ты придешь, отец. Перед кончиной мы долго с ней разговаривали, и я принял у нее исповедь. Она мне сказала: если будут спрашивать обо мне – ничего не таи. Потому я могу тебе с чистой совестью ответить на вопросы, которые терзали тебя столько лет.
Да, Феодора была твоей женой. Она готовила себя к монашеству, когда ты посватался к ее отцу. Так как сестра ее умерла, Феодора была единственным ребенком в семье, и отцу не хотелось, чтобы род его пресекся, потому он с радостью отдал за тебя свою дочь. А она не смогла перечить родительской воле. Она старалась быть хорошей женой, мечтая, чтобы хоть кто-то из ее чад стал монахом. Но когда после трех лет супружества Бог не дал вам детей, она стала тяготиться супружеской жизнью и вновь мысль о монашестве захватила ее. Долгое время старец, окормлявший Феодору, противился этому желанию, полагая, что, как жене, ей нужно смиряться. Но уже почти перед своей смертью он неожиданно для нее благословил ее уйти в монастырь, сказав: «Твой муж спасется твоим уходом». И потому, похоронив старца, она собралась и ушла.
Ей было тяжело покидать тебя, но вера в слова старца и упование на Бога пересилили ее жалость. Некоторое время она скиталась, зная, что ты будешь ее искать. А потом дошла до скита Вэрзэрешть и там осталась, утаив о том, что она замужем. Ее постригли в рясофор, оставив в иночестве имя Феодора. А дальше ты знаешь ее историю.
Отец Антоний замолчал. Мне было и горько и радостно слушать его слова, как будто это говорил не он, а сама Феодора. За разговором я совсем не замечал пути. А тем временем мы вышли на небольшую опушку, где холмистый лес постепенно переходил в горы.
– Ну, вот мы и пришли почти. Вот здесь была келья старицы до того, как сюда пришли турки. Она сейчас вся заросла бурьяном. Феодора сказала, что когда-то здесь жил другой отшельник, тоже духовный сын отца Павла, он и оставил ей эту келью, а сам перебрался в иное место.
А вон там – скала. Мы сейчас к ней подойдем. Когда турки разграбили скит, они направились через лес в монастырь. И по Божьему попущению оказались в этом месте. Феодора услышала их и скрылась в пещере, где взмолилась Богу, чтобы Он избавил ее от врага. Тогда, по ее молитве, скала в основании раздвинулась, закрывая собой старицу, и турки ее не нашли. Так она и осталась тут жить, в пещере, питаясь крохами, которые приносили ей птицы. Пока наши братия ее не обнаружили.
Мы подошли к скале с выдвинутым уступом, который прикрывал вход в пещеру, зашли внутрь. Внутри было на удивление тепло. Пахло ладаном, а в уголке горела лампада.
– Эту лампаду мы принесли с собой, когда пришли к старице с иеродиаконом Лаврентием. С тех пор она и горит не переставая. Мы также принесли старице хлеба и воды. Но она от всего отказалась, говоря, что уже отходит в иной мир… Она была удивительно красива, несмотря на иссушенное постом тело и свалявшиеся волосы. У нее были необыкновенно глубокие мудрые глаза. И очень тонкие миниатюрные руки. От нее даже исходил какой-то приятный аромат.
Она причастилась, легла и стала ждать свою смерть спокойно, с каким-то твердым упованием на волю Божию. И так же спокойно она и приняла ее немногим более часа спустя. Мы по ее желанию остались с ней в пещере и читали канон об отходе души из тела… А вот тут мы ее погребли.
Отец Антоний сделал земной поклон и поцеловал камень с высеченным на нем крестом на свежей могиле подвижницы. Встал на колени и я.
Больше тридцати лет длились мои поиски. Здесь, в этой темной пещерке, я наконец нашел свою Феодору.
Я знаю, она угодила Господу и сейчас предстоит пред Ним в своей святости. Мне никогда не достичь ее высот, но все же я верю, мы с ней встретимся в будущей жизни. Ведь то, что соединил Господь, Он соединил навечно.
Эту лампаду мы принесли с собой, когда пришли к старице с иеродиаконом Лаврентием. С тех пор она и горит…
* * *
Отец Елевферий не вернулся в свою обитель. Он построил себе небольшую келейку у подножия Сихлинских утесов. Там он прожил десять лет, совершая литургию, постясь и молясь. Похоронили его на кладбище отшельников. И на месте его могилы был устроен скит Иоанна Крестителя.
В 1830 году мощи Феодоры были перенесены в скитский храм. А с 1856 года они находятся в Киево-Печерской лавре.
Память блаженной Феодоры Карпатской (Сихлинской) празднуется 7 августа.
* * *
Повесть основана на житии святой Феодоры Карпатской с художественным осмыслением автора. Все лица, кроме отца Моисея – сокелейника главного героя, – подлинны.
Радегунда, королева франков Повествование о святой королеве Радегунде
Теперь любой шорох король воспринимал как приглушенный смех придворных. И эта мнительность приводила его в еще большее бешенство. Он, как загнанный в клеть дикий зверь, ходил из угла в угол своих покоев и крушил все, что попадало ему под руку.
– Ненавижу, – то и дело вырывалось у него с громким ревом. – Не-на-ви-жу!
Уже вторые сутки Хлотарь не выходил на люди, и когда обеспокоенный длительным затвором короля старый слуга Антуан заглянул к нему, тот швырнул в него бронзовый кубок, чем чуть не лишил беднягу жизни. Больше никто не осмеливался тревожить его величество.
– Ненавижу! – снова заревел король. И, стискивая кулаки, процедил: – Убью и епископа, и ее!
Он начал прокручивать в своей голове самые жестокие виды расправы. Но взвыл от тщетности подобных планов. Он был бессилен даже в своей мести.
Его законная жена, венчанная с ним перед Богом, помазанная на царство королева, сама, по своему желанию и без его согласия, приняла постриг. И, более того, была рукоположена в диаконисы, что полностью лишало его, ее живого мужа и короля франков, власти над ней. Теперь Радегунда была под покровом и защитой самой Церкви.
«В этом есть Божия воля!» – оправдывался епископ Медард, этот благочестивый старикашка, совершавший постриг. Хлотарь-то знал, что это за «Божья воля», когда мелкие людишки плели интриги против своего короля, прикрываясь именем Господа. Любой мальчишка-чтец скажет, что постригать одного супруга при жизни другого – это противоречит всем канонам. Где же здесь Бог?
Уже вторые сутки Хлотарь не выходил на люди, и никто не осмеливался тревожить его величество
А Радегунда? Лицо короля исказилось от гнева. Неблагодарная! Ведь он взял ее, пленную дочь короля Тюрингии, на попечение еще девочкой. Он дал ей лучшее образование, о котором другие женщины и мечтать не могли. Даже христианкой она, язычница от рождения, стала благодаря ему, Хлотарю. Именно он сделал из нее ту, кем восторгается весь простой народ.
Постепенно усталость и выпитое вино дали о себе знать, притупляя ярость короля. Он завалился на свое ложе, не снимая кожаных сандалий, и отрешенно уставился в резной потолок. Воспоминания крутились в его голове.
Всему виной та мерзкая старуха-прислужница. Если бы она к этому моменту уже не покоилась на кладбище близ имения Ати, он приказал бы отсечь ей голову. Это наверняка она заморочила юную Радегунду своими россказнями о святых и мучениках. Вот та и помешалась на делах милосердия и стала мнить о себе невесть что. Святоша-принцесса даже пыталась сбежать перед свадьбой, чтобы укрыться в монастыре. Но Хлотарь-то своего не упустит. И она стала его женой. Законной. Радегунда стала королевой.
Она, эта мнимая монахиня, делила с ним престол так же, как супружеское ложе. Поровну. Он даже советовался с ней в вопросах государства, ведь она была мудра. Если бы только у них были дети… Хлотарь закрыл глаза. Она бы изменилась. Эта дурь об уходе в монастырь ушла бы из нее…
Сон победил тяжелые путы мыслей. Король захрапел.
* * *
Радегунда была счастлива.
«Господи, теперь я только Твоя, – шептала она. – только Твоя».
Как давно она мечтала о монашестве. Как берегла и лелеяла в себе это стремление. Как часто, давая милостыню, она просила нищих: «Помолите Бога обо мне, чтобы Он принял мою жертву». А сама мысленно добавляла: «Чтобы сподобил ангельского чина…» И Радегунда приготовляла себя к этому деланию – предпочитая простую пищу и грубую одежду и возлюбив долгие молитвы.
Жизнь во дворце была тяжела для нее. Все эти бессмысленные церемонии, ложные почести, лесть и притворство. Гнусные дела государства, замешанные если не на крови, то на предательстве, тяготили ее душу так же, как замужняя жизнь. Что скрывать – семья не приносила ей счастья. За десять лет своего замужества она так и не полюбила Хлотаря. И дело не в том, что он был стар, – он был порочен. Радегунда не смогла полюбить короля, но она научилась его жалеть. Ведь так устроено женское сердце – если не любишь, хотя бы жалей. И она жалела и потому так долго терпела его разгульную жизнь. Она жалела Хлотаря и потому несла с ним бремя решения задач государства. Жалела и потому не оставляла его.
Но есть вещи, которые нельзя стерпеть, даже если ты женщина. Даже королева. Даже если ты христианка.
«Я желаю иноческого жития, – промолвила Радегунда. – Я уйду отсюда только монахиней»
Узнав, что по наказу Хлотаря был убит ее брат, Радегунда замкнулась. Она поехала в храм отмывать невинную кровь брата с души супруга. И там, стоя перед иконой Спасителя, она вдруг осознала, что не может быть больше женой короля. И постепенно ноющая боль от потери сменилась твердой решимостью.
Епископ Медард служил вечерню, когда в алтарь неслышно вошла королева. Она упала на колени перед престолом. Удивленный епископ подошел и положил свою маленькую теплую ладонь ей на голову.
– Я желаю иноческого жития, – промолвила Радегунда.
– Но Ваше Величество…
– Медард, ты все обо мне знаешь… Не иди против воли Бога. Я уйду отсюда только монахиней.
Она подняла на него свой взор, и что-то такое было в ее лице, что епископ не посмел перечить.
* * *
Радегунда на средства от своего приданого основала монастырь в окрестностях Пуатье. В стенах этой обители могла найти приют любая девушка и женщина, бежавшая от насилия в семье и желающая иноческой жизни. Хлотарь попытался вернуть Радегунду, посылая за ней с угрозами свою свиту, но монахиня отказалась покидать монастырские стены.
Свою жизнь Радегунда провела в своей обители, упражняясь в посте и молитве. Только однажды она вышла за пределы монастыря – чтобы встретить мощевик с частицей Животворящего Креста, дарованный ей императором Константинополя. Она упокоилась в 587 году в возрасте семидесяти лет. По преданию, накануне смерти ей являлся Христос. След от Его стопы можно увидеть на каменной плите церкви в Пуатье.
Память святой королевы Радегунды празднуется 13 августа.
Рассказ старой рабыни Повествование о святой мученице Иулите и сыне ее Кирике
– Вот здесь мы и похоронили ее, нашу госпожу…
Старуха остановилась подле такого же, как она, сгорбившегося старого дерева и указала рукой на небольшой вал, покрытый белыми камнями. Было видно, что после долгой ходьбы слова ей даются с трудом. Но она перевела дыхание и негромким голосом начала свой нелегкий рассказ:
– Нас было двое: Урсула – мир праху ее – и я. Ночью мы перенесли тела нашей госпожи и маленького господина из города в это безлюдное место. Мы несли их в двух кожаных мешках. Урсула, уже пожилая рабыня, несла голову госпожи и тело Кирика. А я – тело. Госпожа при жизни была статной, высокой женщиной, а по смерти стала словно опавший лист оливы – легкая, невесомая. Светила полная луна, и нам было нетрудно найти эту тропинку. Вон там, за грудой камней возле ручья, мы положили наши ноши, и Урсула стала омывать тела убиенных, готовя их к погребению. С собой для этого у нас было немного масла и кусок чистого полотна. А я, будучи моложе и сильнее, принялась копать. Это дерево было еще юным, и корни его не мешали мне. Я подумала: на его ветви я привяжу ленту и так запомню, где лежит госпожа… Я рыла землю острым камнем, который нашла тут же. Была поздняя весна, и копать было легко, словно земля сама раскрывалась, чтобы принять к себе тела двух мучеников.
Пожилая рабыня отвернулась от нас и смахнула с лица набежавшие слезы.
– Мы хотели успеть до рассвета, и потому торопились. Когда яма дошла мне до пояса, Урсула подошла и прошептала, что все готово. Мы положили в яму полотно, а на него перенесли умащенное ароматным маслом тело нашей госпожи. Удивительно, но за это время (а умерла госпожа накануне днем) оно оставалось мягким и будто даже теплым. Отсеченную голову мученицы мы приставили к шее, глаза закрыли двумя монетками, а руки скрестили на груди. Яма получилась небольшая, и потому Кирика мы положили госпоже на живот. При свете луны не было видно следов побоев на его маленьком челе, и он казался живым. Мы закрыли сверху полотно и стали закапывать могилу. Это заняло у нас совсем немного времени. Тогда я принесла камней, и мы еще уминали землю сверху камнями, чтобы дикие звери не осквернили это место. К утру все было готово. Я привязала небольшую ленточку к стволу, и мы, еще раз поплакав, возвратились в город. Через какое-то время, когда в городе утихли страсти по гонению и истязанию христиан, я пришла сюда – поскорбеть у ног моей госпожи. Я чувствовала себя виноватой перед ней, ведь мы с Урсулой покинули ее, когда ее схватили воины в Тарсе… Тогда я снова натаскала камней, а сверху положила вот этот большой круглый камень. С тех пор я часто прихожу сюда, и потому уже ни камень, ни ленточка мне не нужны, чтобы точно сказать, где лежит госпожа Иулита и малютка Кирик.
Она взглянула на нас невидящими глазами и умокла.
Стало тихо, было лишь слышно, как вдали тоскливо кричит птица, а за камнями мягко шепчет свою молитву ручеек. Кто-то из нас невольно закашлялся.
Старуха вздрогнула, словно очнулась от прожитых воспоминаний и, не глядя на нас, медленно произнесла:
– Ну что же вы стоите? Давайте копать…
Оцепенение от ее рассказа исчезло. Ведь действительно, мы пришли сюда, чтобы достать кости мучеников. Теперь, когда воцарился богобоязненный Константин, да дарует ему Господь многая лета, наша община стала искать и собирать по всей округе сведения о христианах, замученных Диоклетианом. И мы уже выкопали несколько скелетов святых, захороненных в окрестностях Тарса.
Мы подошли к указанному старухой месту. Это была насыпь из земли и камней, с краю которой лежал белый полированный дождем и коленями преданной рабыни камень. На этом камне и мы попросили помощи у Бога. Так начались наши раскопки.
– Я хорошо помню тот злосчастный год, – продолжала говорить Клавдия. Она не решалась подойти к месту раскопок и сидела на камне под старым деревом. Наверное, она боялась увидеть обезображенные кости той, кому когда-то служила. Мы же, работая, с интересом слушали ее. – Мы жили в Иконии, Ликаонской области. Мои господа были богаты и знатны. Но жили они скромно и замкнуто, чем не раз вызывали людские толки и неодобрение. Тогда я не могла понять причину злой молвы. А она была проста: порок ненавидит добродетель. Мы же – рабы – искренне любили и почитали наших господ, потому что и господин, и особенно госпожа относились к нам по-доброму, словно мы были частью их семьи.
Она тяжело вздохнула и продолжила свой рассказ:
– Но беда не стучится в двери, она заходит туда хозяйкой. Сначала пришло известие о гибели нашего господина. Он был воином и во имя своего отечества сложил голову где-то на чужбине. Госпожа, узнав о смерти мужа, вся побледнела, сжалась, но причитать и рвать на себе волосы, как это обычно делали все женщины ее круга в подобных случаях, она не стала. Погребала она его сама, с помощью Урсулы и еще одного старого верного ей раба. Кто-то заметил, что она начертила на могиле крест. Тогда-то мы и узнали, что она христианка. Я помню, это известие долго обсуждалось среди рабынь и рабов всей Иконии. И кто-то из рабов соседей произнес: «То-то Иулита не наняла плакальщиц, чтобы оплакать смерть супруга. Наверное, она продала свою душу за новое учение. Своим служением распятому она прогневает всех богов. Злой рок повиснет теперь над этим домом». Я любила госпожу и избегала подобных разговоров. Но невольно я вспоминала эти слова тогда, когда через некоторое время госпожа, подточенная внутренним горем, слегла и потеряла своего ребенка, которого она носила под сердцем.
После смерти мужа госпожа Иулита стала особенно дорожить своим сыном Кириком. Она не отходила от него ни на шаг
Наша работа шла неторопливо. Наученные горьким опытом предыдущих раскопок тел мучеников, когда из-за спешки были повреждены кости, а то и черепа святых, мы относились с крайним благоговением к возложенному на нас епископом труду. Мы аккуратно разобрали все камни, лежащие грудой на могиле, а потом принялись скребками разгребать землю. Грустная история Иулиты, раскрывавшаяся перед нами словами ее рабыни, трогала нас. Каждому из нас хотелось первому найти хотя бы одну из ее костей и приложиться к ней.
– После смерти мужа и неродившегося младенца госпожа Иулита стала особенно дорожить своим сыном Кириком. Она не отходила от него ни на шаг. Он рос не по годам серьезным и задумчивым мальчиком. Ему исполнилось два года, и Иулита стала рассказывать ему о Едином Боге. Я знаю это, потому что она не таилась меня, своей прислужницы, и говорила с сыном о Боге открыто, так что даже я порой заслушивалась красотой ее речей. Но беда не оставляла наш дом. Вскоре в городе поползли слухи о том, что император приказывает уничтожать всех христиан, потому что они якобы пьют человеческую кровь и поклоняются ослиной голове. На христиан началось гонение. Кто-то из рабов нашего города донес императору о том, что наша госпожа Иулита – сторонница новой веры. Об этом предупредил ее тот старый раб – тоже христианин. Ночью она, взяв с собой только Кирика, преданную Урсулу и меня, покинула свой дом. Мы скитались из одного селения в другое, перебиваясь простым хлебом и водой и ночуя, где придется. Я плакала, омывая ступни моей госпожи слезами, просила ее дать жертву богам и умилостивить этим императора, но она лишь качала головой. «Ах, милая Клавдия, если бы ты знала Христа, ты бы не смела предлагать мне это… Я не могу предать Того, Кто любит меня и Кто отдал за меня Свою жизнь». – «Но госпожа, – возражала я, – ты сама можешь погибнуть из-за него!» – «Ну и что, – отвечала она. – В небесных селениях я вновь встречу моего мужа, и мы будем вместе…» – «А как же твой сын, госпожа?» – не унималась я. Она вздыхала, целовала Кирика в макушку и замолкала со слезами на глазах. Мы переходили из одного города в другой, прячась от гонителей, пока не дошли до Тарса. Иулита слышала, будто здесь есть христианская община. Но гонители проникли и сюда. И однажды утром схватили нашу госпожу. Она никогда не скрывала, что христианка, и часто в речах употребляла имя своего Бога. Вот кто-то и указал на нее. Ее схватили на улице, вместе с Кириком. А мы с Урсулой от страха спрятались в толпе и долго следовали за ней, до самого дома правителя Александра.
– Боже милостивый! – неожиданный возглас прервал рассказ рабыни. Это вскричал Авксентий, который копал рядом со мной. Все бросились к нему.
Справа от места, где он копал, осыпалась земля, открывая нам то, что всех повергло в изумление и ужас. На сыром черноземе покоилась белая изящная женская стопа с жемчужным перламутром ногтей.
– Клавдия… – наконец вымолвил Авксентий, обращаясь к рабыне, – так ты говоришь, Иулита приняла смерть в период правления в Тарсе Александра?
Старая женщина встала со своего места.
– Да, я тогда была еще девушкой…
– Значит, прошло более полувека, – ахнул кто-то из нас. – Пелена истлела, а стопа мученицы – нет… Господи, дивны дела Твои!
Необыкновенное чувство благоговения охватило всех нас. И у некоторых даже брызнули слезы. Мы бросили все свои скребки и осторожно руками стали очищать нетленное тело мученицы от земли. Кто-то запел псалмы.
Старуха упала на колени и заплакала: «О госпожа, госпожа… видно, угодила ты твоему Богу своими страданиями».
– Продолжай, Клавдия, расскажи нам о страданиях твоей святой госпожи! – попросил кто-то. Нам хотелось узнать все про эту дивную святую, которую не тронуло даже тление – эта вечная ржа смерти. К тому же наше эмоциональное напряжение уже достигало предела, а тихий голос старухи заметно успокаивал.
Клавдия не отвергла эту просьбу.
– В тот же день, как схватили нашу госпожу, мы с Урсулой узнали, что расправа над христианами будет утром на следующий день на площади возле тюрьмы. И, конечно, на следующее утро мы пришли туда. Народу поглазеть на пытки нововерцев собралось множество. Были среди толпы и те, кто сочувствовал мученикам. Мы сразу узнали нашу госпожу среди группы осужденных. Она держала на руках Кирика и что-то ему говорила.
Правитель Александр сидел на построенном для него высоком помосте. Народ шептался: «Правитель жесток, но труслив, коли так высоко забрался».
Когда настала очередь нашей госпожи предстать перед Александром, он спросил ее имя и откуда она родом. Госпожа ответила, что она христианка, а град ее – небесное отечество. Правитель разгневался и приказал высечь ее жилами.
Александр вдруг взвыл и со всей силы отшвырнул от себя мальчика.
Кирик полетел вниз и оказался почти у самых ног Иулиты бездыханным. Раздосадованный Александр приказал отсечь ей голову
По мере того как открывалось тело мученицы, все сильнее ощущался необыкновенный аромат, идущий из могилы, и все сильнее было чувство неописуемой радости, охватившей наши сердца. И даже рассказ Клавдии о муках святой и ее сына добавлял какой-то торжественности нашей работе. Мы слушали:
– Когда у Иулиты вырвали Кирика, мальчик повернул голову в сторону Александра. Тот, заметив, что отрок красив, приказал принести Кирика к нему. Он посадил нашего маленького господина к себе на колени. Но тот все оборачивался, ища глазами Иулиту, и просил: «Отпусти меня! Я хочу к маме!» – «Ты же хороший мальчик… – говорил Александр, – я оставлю тебя себе, у тебя будут лучшие игрушки и сладости». – «Я хочу к маме… – твердил Кирик и вырывался. «Твоя мать плохая – она верит в ложного бога», – уже начинал злиться Александр. «Мама – хорошая! И я верю в ее Бога. Отпусти меня!»
Но правитель лишь крепче держал малыша. Тогда Кирик стал царапать и кусать его руки, крича: «Отпусти, отпусти меня!» Мы с Урсулой с трудом сдерживали рыдания, глядя на такую отважность нашего Кирика. И тут, наверное, Кирик очень больно укусил Александра, потому как тот вдруг взвыл и со всей силы отшвырнул от себя мальчика, как котенка. Кирик полетел вниз, ударяясь головой о ступени помоста. Видно, он пробил себе темечко – брызнула кровь, и мальчик оказался почти у самых ног Иулиты бездыханным. Толпа ахнула. Даже палачи опешили и перестали бить Иулиту.
Какая боль тогда пронзила мать при виде убитого сына? Она ничем не выдала своих чувств. Сама вся исполосованная ударами жил, она наклонилась над Кириком, закрыла ему глаза, и словно тень мягкой печальной улыбки скользнула по ее лицу. Больше ничего не держало ее на земле.
– Дальше, – голос старой Клавдии задрожал, – дальше последовали такие пытки святой, о которых мне очень тяжело вспоминать. Ее мясо выдирали прутьями, лили на раны раскаленную смолу. Она все претерпела с каким-то величием. И не отказалась от своего Бога. Тогда раздосадованный Александр приказал отсечь ей голову.
Когда все было закончено, правителя Александра отнесли на носилках в его дом, и народ стал постепенно расходиться. Мы же с Урсулой остались.
Тела нашей госпожи и ее сына бросили за городом на съедение диким псам. Но псы даже не дотронулись до них. А ночью мы положили их в кожаные мешки и отнесли сюда, где и похоронили…
Клавдия смолкла.
Солнце уже высоко стояло над нашими головами, будто тоже желая взглянуть на славных мучеников, которых долгое время скрывала земля. Наша работа подошла к концу. Мы вылезли из могильной ямы.
В могиле лежала молодая женщина с красивым, с тонкими чертами, лицом и золотистыми кудрями. На груди у женщины, словно обняв ее, спал трехлетний отрок. Если бы не монеты, лежащие на глазах у покойной, и не черный шрам отсеченной головы на шее, можно было подумать, что женщина просто прилегла отдохнуть вместе со своим сыном.
После того как Клавдия закончила говорить, мы еще долго сидели и смотрели на спокойные, умиротворенные лица Иулиты и Кирика, и нам казалось, что от них исходит дивный свет. Свет от знания великой тайны этой жизни и встречи с жизнью вечной.
Потом мы аккуратно переложили тела мучеников на чистый плат, чтобы отнести их к нам в церковь.
* * *
Память святых Иулиты и Кирика Православной Церковью празднуется 15 июля по старому стилю.
Рассказ основан на житии святых Кирика и Иулиты с художественными дополнениями автора.
Мать и дочь Повествование о святой Эмилии Кесарийской и дочери ее, преподобной Макрине Каппадокийской, младшей
Других детей я носила во чреве лишь некоторое время, а с Макриной не разлучалась никогда…
Святая Эмилия о своей дочери святой МакринеКогда-нибудь я тебе все расскажу, мое неродившееся чадо. Малышка моя. С самого первого дня, когда я ощутила тебя в своем чреве, когда поняла, что ожидаю первенца (а осознание это пришло так рано, что никто из домочадцев мне не поверил), я знала, что ты – девочка, моя дочь. И я верю, Господь не посрамит мое упование.
Еще немного времени, и мы встретимся в этом мире и посмотрим друг другу в глаза, я возьму тебя на руки и прижму к своему сердцу. Его стук самый родной тебе звук. Ведь именно стук сердца материнского ты слышишь, находясь во чреве. «Тук-туки-тук» – ты слушаешь мое сердцебиение и лучше других ощущаешь мои чувства. Когда я устала, когда закралась в меня обида или страх, ты сама тревожишься и умолкают во мне твои мягкие движения. Когда же я спокойна и радостна – ты ликуешь или мирно спишь, набираясь сил для своего роста.
И я чувствую тебя. Я знаю, да-да, знаю – твой характер, твою милую нежность и заботу – ведь всегда в нужное время ты заговариваешь со мною, легонько стучась о стенки твоего домика – моей утробы. Ты шевелишься во мне, и мы с тобою беседуем. Конечно же, ты – девочка. Ведь только мать и дочь так умеют друг друга понять. Мне очень хочется увидеть тебя, родная моя. Но ты – расти, расти до срока и да благословит Господь нашу встречу.
Сегодня мне приснился сон. Мне снилось, что я держу на руках тебя – мою дочь. Мы смотрим друг на друга, и ты мне тихонько улыбаешься. У тебя такое крохотное милое личико, но в нем столько мудрости и ясности! Я дивлюсь тебе. И нет в целом свете меня счастливее. Мне снится, что к нам подходит старец. Величественный седовласый старец в монашеских одеждах. Или это не старец, а ангел? Он благословляет меня и тебя и трижды произносит: «Фекла». Я просыпаюсь. Я не верю в сны, но знаю, этот сон непростой.
Дивны дела Господни! Ты родилась на свет ранним утром. Не успела я возблагодарить Бога о дивном сне, как почувствовала, что пришло время мне разрешиться. Все месяцы, пока я носила тебя, я думала о предстоящих родах, я пыталась представить себе, как все будет, я слушала рассказы о родах других матерей. Но то, что произошло со мною, было совсем иным, не похожим ни на одну мою мысль или предположение, ни на один рассказ опытных женщин. Ты родилась очень быстро, я даже не испытала ожидаемой боли. Или я забыла о ней? Только вдруг будто врата между двух миров отверзлись, и ты появилась на свет. И я услышала твой голос – звонкий, как колокольчик. А потом тебя положили мне на грудь. Маленькую, хрупкую, родную. Именно такою я тебя и видела во сне.
Ты сейчас лежишь на моих руках и мирно спишь. Я назову тебя Феклой.
Моя дочь.
Василий не нарадуется на тебя. Говорят, все мужья желают сыновей, особенно первенцев. Но у нас дочь – и мой супруг светится от счастья. У Василия, твоего отца, очень чуткая душа, потому я вышла за него замуж. Он смотрит на тебя и улыбка не сходит с его лица. Он берет тебя на руки – так трогательно смотреть на вас вместе, моих двоих самых любимых людей на свете. Сейчас у него родилась дочь, и ты принесешь ему счастье. А сыновей я ему еще подарю, видит Бог.
Я рассказала Василию про сон. Он задумался. И сказал мне: «Эмилия, я тоже верю, что сон этот пророческий. Наша дочь будет иметь свойства души, как у святой девы Феклы. Расти ее во всем благочестии и чистоте».
Так сказал мне мой муж – обычно нескорый на подобные суждения. И я приняла его слова в свое сердце. Малышка моя, когда ты вырастешь, я тебе это тоже расскажу.
Итак, имя тебе – Макрина. Я хотела назвать тебя Феклой, но уважение к памяти о бабушке Макрине, что пострадала во время гонений на христиан, оказалась сильнее моего желания. Пусть будет воля Божия. Макрина – славное имя, и славной была старшая Макрина, которая ради Христа претерпела муки. Пускай же, дочь моя, и твоя жизнь ознаменуется смелостью духа и верностью нашему Богу.
Ну вот, ты наконец заснула. Солнышко мое. Покушала и спишь. Как и подобает нашему сословию, родители мужа наняли нам кормилицу. Но разве у кормилицы такое же молоко, как у матери? Или она с такой же нежностью, как мать, обнимает тебя? Крестит ли она тебя своей рукою, благословляя твой сон? Поет ли она тебе тихонько молитвы?
Нет, мое чудо, тебя не проведешь, свою маму никто не заменит. И только мою грудь ты принимаешь и только со мною засыпаешь безмятежным сном. А значит, никто больше не разлучит нас.
Спи, моя хорошая, спокойно. Господь тебя храни.
Ты так выросла за этот год! Ты уже ходишь. На твой день рождения я сшила тебе голубое платье. И мы ходили в храм. Ты очень любишь бывать в храме. В церкви Божией ты всегда такая спокойная. Наверное, это потому, что храм – твой дом. Ты привыкла к нему еще до рождения. Ведь когда я носила тебя, я почти все время там проводила. Ты любишь строгие песнопения и запах ладана. Тебе нравится смотреть на горящие свечи. А я люблю в храме смотреть на тебя. Многая тебе лета, Макрина.
Братом Макрины Каппадокийской был Василий Великий
Девочка моя, я хочу тебе кое-что сказать. Очень важное. У тебя будет братик. Уже скоро. Видишь, какой у мамы круглый животик? Там живет твой братишка, мой сынок. Он очень спокойный и, я знаю, добрый – ты его обязательно полюбишь. Ну, иди поближе, я обниму тебя и перекрещу. Дай-ка свою ладошку. Чувствуешь – маленький внутри пошевелился? Это он здоровается с тобой. Вы будете дружить и во всем помогать друг другу, хорошо?
А ты, Макрина, теперь будешь старшая в семье, мамина помощница. Ты будешь примером для своего брата. Мы назовем его Василий, в честь папы. Ты, девонька, уже совсем большая.
* * *
Как быстро летит время! Макрина учится читать. Мы с ней разучиваем псалмы Давида и притчи Соломоновы. Она серьезна не по годам, моя дочь. И я очень хочу, чтобы душа ее всегда оставалась такою же чистой. У меня были очень хорошие родители, Царство им Небесное. Господь ведает, я благодарна им за то, что они взрастили меня в благочестии. Но в нашем доме духовное образование соседствовало со светским. И моими первыми книгами были басни и греческие мифы, а не Святое Писание. Моими первыми песнями – не церковные молитвы, а писания Сафо. Моим пристанищем была не церковь, а театры. Так душа моя, хоть и христианка, росла на языческих образах, которые, словно яд, окутывали ее, опьяняли, чтобы в один момент уловить в свои сети – сети чувственных образов, мечтаний и переживаний.
Да сохранит Господь дочь мою от подобной брани. А я, как мать, сделаю все возможное, чтобы душа ее была напитана Словом Божиим и благодарностью Творцу, а тело дисциплинировано добрым трудом. И потому мы много читаем псалмов и даже разучиваем места из Писания, которые назидают в благочестивой жизни, наизусть. Мы с ней вместе обучаемся церковному пению и часто посещаем храм. А местом для детских игр у нас служит поле и луг. Я беру своих деток, и мы все вместе на природе играем. Макрина же мне помогает. И это тоже воспитывает ее душу. Она уже имеет свои обязанности по хозяйству и осваивает рукоделие. В ней нет лености. Все, что мы делаем, Макрине интересно. И я сама порой учусь у нее прилежанию.
Милая моя, вот и настал этот день. День твоего взросления. Ты больше не девочка, которая иногда может позволить себе пошалить. Ты – девушка, девица. Пришла пора твоего созревания, и ты теперь можешь стать женою и матерью. С этого дня в храм ты будешь ходить в платке, покрывая власы свои, как покрывала их Пресвятая Богородица. И пусть в твоем взоре всегда живут скромность и целомудрие – самые главные украшения женщины.
Береги себя, моя родная.
* * *
Макрина – невеста. Моя старшая дочь сегодня была обручена. Прости мне, Господи, эти слова, но я хочу быть честной пред собой. Мне грустно. Я желала бы, чтобы моя старшая дочь выбрала путь, о котором я сама когда-то мечтала. Чтобы она стала Невестою Христовой. Материнское сердце подсказывает мне, что и ей путь девства ближе, чем путь супружеский. Но Василий желает видеть в ней мать. А слово отца и его благословение – это закон. Потому, Господи, я смиряюсь и да будет воля Твоя. Пока же дочь моя при мне. Свадьба ожидается не раньше чем через пять лет, когда молодые войдут в возраст и смогут сами построить свой семейный очаг. А значит, еще несколько лет дочь по праву будет принадлежать только мне и Богу. Отчего я так к ней привязана? Кажется мне, будто других детей я носила только положенный срок, а ее до сих пор ношу в себе…
Сегодня ночью отошел ко Господу Василий. Недуг сразил его неожиданно. Но умер он как христианин – с молитвой на устах, напутствованный Христовыми Тайнами. Горе еще не проникло в ум мой, и сердце пока молчит. Или это молчание – ложно? Будто смерть мужа забрала с собою и все мои чувства? Господи, укрепи меня, прошу тебя.
Василий оставил мне десять человек детей. Последний, Петр, спокойно спит на моих руках. Он не знает смерти. Не знает, что теперь он – сирота.
Лишь Макрина, старшая моя, все осознает, но держится. Она взяла хозяйство и заботу о своих братьях и сестрах в свои руки, видя мое оцепенение.
Господи, не остави нас в эти трудные дни испытания.
Смерти идут одна за другой. Только мы оправились после ухода Василия, пришли известия от родителей жениха Макрины. Несчастный случай. Он погиб. Моя дочь, еще не став женою, осталась вдовой.
Она приняла эту весть спокойно. Видимо, недавняя смерть отца закалила ее храброе сердечко.
Она лишь сказала: «Да будет так. Господу, видно, угодно, чтобы я осталась при тебе, мама. Чтобы послужила Ему в твоем доме».
Так она произнесла. Бледная, худая и мудрая. Моя чуткая дочь.
Она очень изменилась за эти дни. Стала еще собраннее и тише. Она самоотверженно занимается с детьми. Особенно к ней близок ее брат Василий – он тоже растет серьезным и вдумчивым. А маленький Петр не слезает с рук моей старшей дочери. С ним Макрина расцветает как мать – поет ему молитвы, читает псалмы, мастерит ему игрушки. Сердце мое обливается кровью, глядя на дочь, которой никогда не суждено самой узнать сладость материнства. Но я молчу. Она счастлива своим счастьем. Да ведь и я когда-то желала ей именно девственной жизни. Так пусть скорбь душевная оставит меня и придет смирение.
Я не нарадуюсь на своих детей. Поистине, все, что я желала когда-то для себя, воплотилось в них десятерицею. Мои три сына – священники, младшая дочь Феозевия – диакониса, да и остальные чада ведут жизнь богобоязненную и праведную.
Я часто наблюдаю за Макриной – не тяготит ли ее забота о своей стареющей матери? Но дух ее мирен, а сердце, как и прежде, наполнено нежностью и любовью
Макрина же осталась со мною. Я часто наблюдаю за ней – не тяготит ли ее забота о своей стареющей матери? Не печалит ли сожаление об одиноких годах и неустроенном женском счастье? Не закрался ли в нее ропот за то, что всю свою жизнь она служит другим, отдавая окружающим все свое время и ничего не получая взамен? Я наблюдаю за ней, но не вижу и тени на ее высоком лбу, уже покрытом сетью мелких морщинок. Дух ее мирен, а сердце, как и прежде, наполнено нежностью и любовью. Она сама печет мне хлеб – и всегда он выходит необыкновенно свежим и ароматным. Она штопает мне белье, расчесывает мои волосы, читает мне Писание. И все это она делает просто и искренне, видимо, действительно находя в этом делании для себя радость.
После того как устроилась жизнь Феозевии и все мои дети покинули дом, она все чаще предлагает мне переселиться на берег реки Ирид и в Понте основать обитель. Сначала я отвергала эту мысль – с ранней молодости я жила попечениями о семье и детях и монашеский подвиг мне кажется чересчур высоким для меня. Но сейчас я задумываюсь над словами дочери. Ведь я вижу, как душа ее стремится к жизни иноческой, вдали от суеты мирской, а сердце болит заботой обо мне. Думаю, ради дочери я соглашусь, и мы переедем за город и положим основание женскому монастырю. Прости дерзость мою, Господи.
* * *
Совсем я стала стара, скоро покину этот мир и перейду в мир иной, где меня уже ждут супруг от девства моего Василий и Навкратий, мой второй сын. В последний путь меня проводят верная Макрина и Петр – мой младший. Он – наш главный помощник в устроении обители. Он теперь – епископ. А Макрина – игуменья.
Тебе, Господи, приношу начаток и жертвую десятину от трудов чрева. Вот эта – перворожденная дочь, начаток родовых мук, а этот – последний сын – их завершение. Тебе посвящаются оба по закону, они суть приношение Тебе.
Храни их на жизненных путях, так же как и остальных моих чад.
А меня приими в руце Твои.
* * *
Святая Эмилия прославлена в лике преподобных. Память ее совершается в день преставления – 8/21 мая.
Святая Макрина прожила без матери еще пять лет. Она стала мудрой руководительницей своей обители. Доброй жизнью, вниманием к сестрам и аскетическими подвигами Макрина привлекала к монастырю новые души, желающие посвятить себя Богу. Она упокоилась в 380 году и похоронена в одной могиле с матерью, святой Эмилией. Память преподобной Макрины празднуется 19 июля/1 августа.
Также к лику святых причислены четверо других детей Эмилии: святитель Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской (память 1/14 января), святитель Григорий, епископ Нисский (память 10/23 января), святитель Петр, епископ Севастийский (память 9/22 января), и праведная Феозевия – диакониса (память 10/23 января).
Пасхальные люди Повесть о святой княгине Елизавете Феодоровне и обители, основанной ею
Девушка в легком бежевом пальто выпрыгнула на перрон последней из пассажиров. Из вагона вышел проводник с пышными седыми усами и галантно поставил на перрон парусиновый чемоданчик – ее багаж. Девушка с благодарностью кивнула проводнику, поправила светло-голубой платок и огляделась по сторонам. После целого дня в поезде ощущение качки не покидало Ольгу. Даже земля под ногами казалась невесомой.
– Лёля! Лёлечка! – послышался звонкий радостный голос.
Девушка обернулась. Навстречу ей шла молодая женщина в сером подряснике. Родное веснушчатое лицо выглядывало из-под накрахмаленного белого апостольника.
– Тоня, ты? – опешила девушка, не ожидавшая увидеть двоюродную сестру в таком облачении.
– Я, я, Лёлечка! – весело отозвалась Антонина.
– Как ты выросла!
– А ты так изменилась…
Антонина улыбнулась, поклонилась и трижды поцеловала Ольгу в плечи.
– Здравствуй, кузина!
– Здравствуй, Тоня! – медленно проговорила Ольга и не удержалась от вопроса: – А ты разве монахиня? Я думала, ты врач…
Тоня засмеялась мягким добрым смехом.
– Нет, моя хорошая. Я не монахиня, я – крестовая сестра. Впрочем… – тут она вдруг сделалась серьезной, – мы еще поговорим об этом. Обо всем поговорим! А сейчас давай-ка твой багаж. Нас извозчик ждет.
Тоня подхватила Лёлин чемоданчик.
– Ого! Да, ты – нестяжатель! – улыбнулась она.
– Я ведь на праздники приехала… – начала оправдываться Ольга, пытаясь забрать у кузины свой багаж. – Тоня, верни, пожалуйста, я сама понесу!
Но Тоня уже не слушала сестру, быстро удаляясь по перрону.
– И какие люди живут в Москве? – полушутливо спросила Ольга, когда они ехали по городу в пролетке. День только занимался, принося с собой запах весны и свежести.
– Как и везде – разные люди встречаются. – Тоня задумалась. – Но знаешь, в моем окружении есть такие люди… Совершенно особенные. Эти люди они… как бы тебе объяснить… они пасхальные! Да-да, пасхальные люди.
Ольга держала Тоню за руку, а сама с любопытством смотрела по сторонам. Москва просыпалась, оживала, одергивались шторы в окнах домов, открывались многочисленные булочные и бакалейные лавочки. Вдалеке послышался крик мальчишки, разносившего утренний выпуск газет. А из открытой двери кофейни повеяло только испеченными булками и крепким кофе.
– Лёля, ты слушаешь меня? – спросила Тоня.
– Да, да… – повернулась к сестре Ольга и повторила ее слова: – Есть необыкновенные пасхальные люди…
– Лёля, это очень важно, послушай… От этих людей – такой свет и радость, как на Пасху бывает. Потому что они Одним Господом живут, понимаешь? – Тоня внимательно взглянула на сестру. А потом уже намного тише продолжила: – Хотя, наверное, тебе со слов трудно понять. Но ты увидишь сама этих людей и поймешь меня.
– Конечно, сестрица, я тебя понимаю. Ты у меня сама – пасхальная! Вон какая беленькая! – засмеялась Лёля.
Но Антонина не ответила на смех кузины и опустила глаза. Некоторое время они ехали молча, слушая звон лошадиных копыт. Ольге отчего-то стало совестно перед Тоней, и она потеребила руку сестры.
– Ну прости меня! Расскажи еще про пасхальных людей!
– Глупенькая ты, – тихо сказала Тоня, но уголки ее губ уже тронула улыбка, и она повернула к сестре свое лицо. – Сейчас ты встретишь нашу Матушку – великую княгиню Елизавету Феодоровну. Она, узнав, что ты моя кузина, благословила тебе остаться на неделю при обители. Обычно родственники не живут с нами, но ты – незамужняя девица, а сейчас, в преддверии святого дня Пасхи, нам особенно нужна помощь, потому… – заключила Тоня, – считай, что попала к нам великой милостью Божией.
– Я буду жить в обители? – вскричала Лёля со смешанным чувством не то радости, не то испуга. – В монастыре?
– Да, ты будешь жить в Марфо-Мариинской обители сестер милосердия. Вот мы уже и подъезжаем.
Пролетка остановилась у белой стены, за которой виднелись медные маковки храма. Извозчик помог девушкам выбраться, опустил Лёлин чемоданчик, поклонился и сел обратно в пролетку за вожжи.
Тоня и Лёля вошли в чугунные витые ворота и оказались в саду.
У Лёли захватило дыхание от увиденного. Белая изящная церквушка стояла посреди ухоженного сада, в котором только начали зацветать нежные крокусы. Стройные кипарисы будто свечи тянулись макушками в голубую весеннюю высь. Аккуратные кустики разнообразных саженцев говорили о том, что летом здесь царит буйство цветов.
В саду кто-то был. Статная женская фигура в белых одеждах разглядывала ветку молодой яблони с только что пробившимися листьями. При звуке шагов девушек женщина обернулась. Ее бледное лицо с тонкими чертами поразило Лёлю. И дело было не в красоте лица (оно было, безусловно, прекрасно), а в каком-то необъяснимом ощущении света и покоя, исходящих от него.
У Лёли захватило дыхание от увиденного. Белая изящная церквушка стояла посреди ухоженного сада. Аккуратные кустики говорили о том, что летом здесь царит буйство цветов
Антонина сделала небольшой поклон, и Лёля последовала примеру сестры. Женщина кивнула. Лёля снова поразилась грациозности и изяществу ее движений.
– Матушка, позвольте представить вам мою кузину – Ольгу Михайловну Извольскую. – Женщина перевела взгляд на Ольгу. «Это великая княгиня! – догадалась девушка. – Какие глубокие и грустные у нее глаза!» Внезапно Ольга почувствовала, как краснеют ее щеки и уши от пристального взора великой княгини, и опустила голову.
– Скромность – хорошее украшение для девушки, – улыбнулась Елизавета Феодоровна. – Я много слышала о вас, Ольга, и мне приятно наконец встретить вас лично! Полагаю, вам следует отдохнуть с дороги. – Она обратилась к Тоне: – Антонина, проводи свою сестру в ее комнату.
Великая княгиня осенила своим наперсным крестом девушек и вновь обернулась к яблоньке.
Лёля шла за Тоней по тропинке, усыпанной разноцветной галькой, в сестринский корпус. Ее душа ликовала, и эта необъяснимая радость удивляла саму Лёлю.
– Тоня! Тонечка! – первым делом запричитала Лёля, когда они оказались с сестрой наедине в небольшой аккуратной комнатке, из окна которой виднелась белая церквушка обители. – Это ведь была сама великая княгиня, да? И ты живешь в ее обители… Расскажи мне, как ты здесь очутилась?
– Лёля, да ты ведь устала с дороги… – попыталась отказаться от разговоров сестра. – Лучше ты отдохни, а потом мы поговорим.
Но Лёля упорствовала:
– Тоня, я тебя не узнаю. Ты в этом городе стала такая молчунья. А ведь мы давно не виделись, Тонечка… И я проехала в скучном поезде столько верст, только чтобы навестить тебя…
– Ты приехала справить Пасху!
– И Пасху справить тоже… – кивнула Лёля. – Но это не главное…
– Как так не главное? Пасха – самое важное событие для нас, христиан.
– Тоня! – Лёля внимательно посмотрела на сестру. – Дома никто не знает, что ты в монастыре, все считают, что ты – врач.
– Лёля! – Тоня вздохнула, поняв, что разговор неизбежен, и села на кровать рядом с сестрой. – Все верно, я приехала в Москву изучать врачебное дело. А затем я познакомилась с девочками, с сестрами милосердия, мы подружились. Я стала навещать их в обители, ходить на службы в храм. И в какой-то момент я поняла, что не мыслю себя иначе как сестрой… Ну и конечно, великая княгиня…
– Что великая княгиня?
– Ты ведь знаешь, милая Лёля, моя мама умерла, когда мне не было и пяти лет, отец запил… Мне было одиноко дома. А здесь я нашла семью. – Тоня говорила неторопливо, видимо, обдумывая каждое слово. – Лёля, каждому человеку важно иметь пример перед глазами – другого человека, на которого хотелось бы быть похожим. Для кого-то такой пример – мать или отец, для кого-то – старший брат, учитель или священник. Для меня такой пример – Елизавета Феодоровна. Она нам всем здесь как мать родная. В ней столько любви и заботы! Мы даже называем ее не иначе как Матушка. Великая Матушка.
– Ты о ней говорила в пролетке, да? Это она – пасхальный человек? – догадалась Лёля.
– Да, наша Матушка – удивительная, – улыбнулась Тоня. – Милостивая и милосердная. Говорят, у нее в роду была Елизавета Тюрингская, которая славилась своими добрыми делами и заботой о бедняках. Эта королева тайком от мужа помогала обездоленным и даже сама носила в подоле им хлеб. Как-то король застал свою супругу за этим занятием и спросил, что у нее в подоле. Она ответила: «Розы!» Король посмотрел и действительно увидел в подоле королевы душистые розы. Вот как Господь помогает тем, кто заботится о других! Наша Елизавета Феодоровна носит имя святой Елизаветы и во всем походит на нее. Она всегда очень любила людей и даже будучи замужней дамой находила время для милосердия. Когда же погиб супруг Матушки, великий князь Сергий, она основала эту обитель и всю себя посвятила служению.
– Тоня… – неуверенно начала Лёля. – А можно я тебе задам один вопрос? Личный…
– Полагаю, да, – удивилась Антонина.
– Тоня, скажи мне, а если ты захочешь, ты сможешь выйти замуж?
Говорят, у нее в роду была Елизавета Тюрингская, которая славилась своими добрыми делами. Эта королева тайком от мужа помогала обездоленным и даже сама носила в подоле им хлеб
Антонина ответила не сразу.
– Дорогая моя Лёля! Некоторым хорошо завести семью и заботиться о ней, а другим лучше остаться безбрачными и послужить ближним.
– Вот-вот… – Ольга покачала головой. – Значит, ты все-таки монахиня, да?
За окном зазвонил колокол. Тоня поднялась с кровати.
– Колокол! – с облегчением вздохнула она. – Мне надо идти!
Но Лёля не отпускала руку сестры, ожидая ответа на свой вопрос.
– Тут одним словом не обойдешься, милая моя, – сказала Тоня, аккуратно высвобождая руку. – Скажу тебе только, что я – сестра милосердия, или – крестовая сестра. А если ты захочешь, потом я покажу тебе наш устав и мы поговорим об этом. Сейчас же – отдыхай! С Богом!
Антонина быстро перекрестила Лёлин лоб и вышла из комнаты.
Когда закрылась дверь за кузиной, Лёля вдруг почувствовала страшную усталость. Но что удивительно: к физической слабости примешивалось и иное, неведомое ей раньше ощущение умиротворения. Словно тело устало, а душа обретала покой.
Ольга встала с кровати и подошла к окну. Колокол все еще звонил: протяжно и грустно, постовым звоном, собирая сестер на молитву.
«Такие молодые сестры, такие красивые… словно голубки…» – подумала Лёля, глядя на спешащих в церковь девиц в белых апостольниках.
С боем колокола внутри у Ольги исчезали все тревоги, страхи и волнения за кузину, становилось легко и спокойно.
«Бремя Мое легко есть…» – вспомнились слова из Евангелия. Лёля медленно перекрестилась, глядя на золотые кресты церкви. «Легко есть…»
– Все-таки хорошо, что я здесь очутилась! – прошептала девушка. – Хо-ро-шо!
Когда колокол смолк, Лёля отошла от окна и огляделась вокруг.
Комната была небольшого размера. Несмотря на простоту и даже суровость обстановки, она производила впечатление добротности и уюта. В дальнем углу стояла деревянная кровать, застеленная белым ажурным покрывалом. У окна располагался дубовый письменный стол и высокий стул с резными подлокотниками. На столе красовалась толстопузая чернильница рядом с принадлежностями для письма.
Ольга с удовольствием обнаружила медный тазик и кувшин с водой для умывания на небольшом табурете возле шкафа, встроенного в стену, а также графин с ключевой водой и хрустальный стакан на широком подоконнике.
В красном углу горела лампадка, освещая лик преподобного Сергия Радонежского.
Интерьер комнаты чем-то напомнил Лёле дом ее покойной бабушки, Лидии Павловны. Овдовев, бабушка жила почти затворницей в своем поместье, выезжая только на богомолье в храм. Несколько раз в год, обычно в праздничные дни Рождества или Пасхи Христовой, Лёлин отец навещал свою стареющую мать. В эти поездки он брал с собой и Лёлю. В доме у бабушки царил необычный дух. Там не было ничего лишнего, все имело свое место и свое предназначение. А еще у бабушки в каждой комнате висели иконы, украшенные чистыми накрахмаленными рушниками. Возле икон теплились огоньки лампадок. В доме пахло ладаном и смирной. Лидия Михайловна верила в Бога. И вера эта заметно отличалась от теплохладной веры ее родителей. Вера бабушки была живой, настоящей. Казалось, бабушка верила не в существование Бога, она верила Самому Богу – и оттого в любых жизненных неурядицах бабушка сохраняла невозмутимое расположение души.
Воспоминания о бабушке захватили Лёлю. Но усталость вновь дала о себе знать: девушку клонило ко сну. Лёля налила себе из графинчика воды. Отпила глоток. Ключевая вода приятно охлаждала.
Превозмогая сонливость, девушка открыла свой чемоданчик и аккуратно повесила праздничные наряды в небольшой шкафчик, не без сожаления полагая, что вряд ли будет возможность пощеголять в них в обители. Затем Лёля умылась, переоделась во фланелевую рубаху, юркнула в кровать и сразу же заснула.
* * *
– Тоня? – удивилась Лёля. Она привстала на кровати. – Тоня, ты давно здесь?
Антонина подмигнула сестре.
– Нет, Лёлечка, я только вошла, наклонилась к тебе, а ты и проснулась! Ты, наверное, ужасно голодная. Уже третий час пополудни.
И правда, Лёля вспомнила, что ничего не ела с вечера прошлого дня.
– А что, у вас сейчас обед? – спросила она.
– Нет, ma chйrie. Сестры откушали сразу после службы, но Матушка не велела тебя будить, чтобы ты хорошенько отдохнула. Я провожу сейчас тебя в трапезную – постоловаешься. – Тоня весело взглянула на Лёлю и добавила: – А еще в трапезной тебя ждет наша мать Пелагея.
– Какая мать Пелагея? – не поняла Лёля. – Меня ждет?
– Да, тебя. Пелагеюшка у нас мастерица готовить и личность замечательная – вы с ней поладите, – снова подмигнула Антонина. – Твое первое послушание будет на кухне, я надеюсь, ты не против?
– Так, девонька, надевай-ка вот этот белый фартучек, – пожилая сестра с широким добрым лицом протянула Лёле фартук. – Будешь мне помогать варить творожную пасху.
Двухэтажный корпус сестринской трапезной состоял из нескольких помещений: просторной залы с длинными столами, где трапезничали сестры во главе с Матушкой, священником отцом Митрофаном и его женой Ольгой Владимировной, примыкающей к ней кухни и нескольких других комнат для хозяйственных нужд. Именно на кухню привела Тоня Лёлю, после того как та хорошенечко подкрепилась. Кухня была большой, светлой и отличалась безукоризненной чистотой.
– У нас в обители, – продолжала Пелагея, – есть свои традиции. Так, пасху мы всегда готовим в Великую Среду и в Великий Четверг между службами, а куличи печем в Великую Пятницу с утра, тогда же и яйца красим.
Лёля повязала широкий льняной фартук, расправила складки на талии и взглянула на старушку-трапезницу.
– Ах, да! – спохватилась Пелагея. – Ты уж прости меня, старую, я с тобой буду по-монашески – на «ты» обращаться. Так и работа у нас пойдет складнее.
– Мне приятно! – улыбнулась Лёля.
Пелагея одобрительно кивнула.
– Пасху варим вон в том огромном чане. Я уже все приготовила для работы – там, в бочонке, свежий творог: только утром привезли, в кадушке сметана. Яйца пять дюжин. Сливочное масло. Курага, чернослив, цукаты.…У каждой хозяйки свой рецепт пасхи, и у нас свой. Особый. Сестры называют нашу творожную пасху «Царской», хотя делаем ее мы иначе, нежели при дворе Его Высочества.
Мать Пелагея, как все сестры на кухне, была подпоясана белым кухонным фартуком поверх темно-синего подрясника, а на голове имела легкий ситцевый апостольник в мелкий цветочек. Она (как шепнула Лёле Тоня, прежде чем уйти) была настоящей монахиней, постриженицей одного из московских монастырей. В Марфо-Мариинской обители Пелагея оказалась почти с самого дня основания сестричества.
– Надобно нам сделать пасхи большое количество, – продолжала старушка. – У нас своих сестер более ста человек, да еще больные в лазарете, девочки из приюта, на Светлой ожидаются высокие гости, будет народ и на разговенье. Так что, девонька, потрудимся. А сначала – молитва. Дело ведь – Божие.
Старушка широко перекрестила лоб и, обратившись лицом к иконе Матери Божией, стоящей в красном углу, негромко начала читать молитву:
«Царю Небесный Душе истины, иже везде сый и вся исполняяй…»
Лёля тоже перекрестилась, но слова молитвы ускользали от нее. Она тайком разглядывала мать Пелагею. Эта улыбчивая старушка очень располагала к себе. Маленького росточка, кругленькая, ладненькая, Пелагея сама походила на ароматную краюшку хлеба. «Как бараночка!» – подумала Лёля, и это сравнение развеселило девушку.
– Это хорошо, что ты улыбаешься! – отозвалась мать Пелагея, закончив молитву. – Готовить надо с любовью и с хорошими мыслями, тогда пища получается вкусной и идет во здравие души и тела. Даже пробовать не надо. Да, девонька, поверь мне, я много лет живу и людей кормлю. Когда готовишь от сердца, с молитвой, то всегда выходит на славу.
Пожилая монахиня дала задание Ольге нарезать курагу, чернослив и цукаты на мелкие кусочки. А сама принялась протирать творог через сито в чан. Некоторое время они работали молча. Кроме них, на кухне были еще сестры и кухарки. Каждая была занята своим делом.
Человека накормить – это святое дело. Сам Господь ради того, чтобы голодных людей напитать в пустыне, сотворил чудо умножения хлебов
Перетерев творог, Пелагея влила в чан сметану, выложила масло и зажгла под чаном керосинку на небольшой огонь.
– У нас среди сестер кого только нет: и княжны, и простые крестьянки, – снова заговорила монахиня. – Конечно, многие пришли по рекомендации. Но есть и те, кто не имел ничего за душой. Матушка всех берет, если видит, что человек имеет сердечное желание послужить Богу и ближнему. – Пелагея взяла в руки большую деревянную поварешку и аккуратно принялась мешать массу в чане. – И все начинают здесь с кухни. Можно сказать, кухня – это первое испытание души человека: годен ли он послужить ближнему. Ведь здесь нужно и терпение, и смирение, и трудолюбие, конечно. Как-то, еще в начале нашей обители, Матушка Елизавета Феодоровна наказала сестрам почистить картошку. А никто не захотел руки марать. Тогда она сама, голубушка, засучила рукава, взяла ножик и начала чистить. Тут уж все сестры набежали… Совестно всем стало, что они-де чурались грязной работы, а великая княгиня – нет. Да, девонька, ты тоже запомни, в жизни пригодится, где бы ты ни очутилась: никакой работы не стоит гнушаться. Всякую работу можно Богу посвящать. А значит, и делать ее с радостью и с усердием.
А уж человека накормить – это святое дело. Сам Господь ради того, чтобы голодных людей напитать в пустыне, сотворил чудо умножения хлебов. Да, девонька, девонька…. У нас ведь помимо сестринской трапезной есть столовая для больных да для бедняков. Много народу обитель наша питает. Слава Богу, Господь средства дает и силы!
По кухне разлился кисло-сладкий творожный аромат.
– А сейчас держи мою поварешку и мешай, а я буду яйца добавлять, – сказала монахиня и протянула черпак Ольге.
Ольга подошла к чану, масса внутри начала пыхтеть. Требовалось определенное усилие, чтобы вымешивать массу, и Ольга про себя удивилась, с какой легкостью эту работу проделывала мать Пелагея.
– Так вот, девонька, сестру на кухне-то закалят, как следует, узнают ее характер, способности и наклонности и определят ей послушание по сердцу и складу душевному. У нас ведь, кроме кухни, есть много послушаний, – проговорила монахиня, разбивая яйца и вливая по одному в чан. – Основное, конечно, в лазарете. Там сестры милосердия выхаживают больных, раненных на Русско-японской войне, увечных солдат или неимущих горожан (такие тоже имеются!). Есть у нас в обители и рукодельная. Сестры у нас и шьют, и вяжут, и делают бумажные плафоны на продажу. Трудятся сестры и при приюте для девочек – кто воспитателем, кто учителем. Воскресная школа у нас недавно открылась для фабричных женщин – и там некоторые наши сестры нашли свое поприще. Знаешь, девонька, Матушка у нас хрупкая и нежная, а силы в ней, силы – не у каждого мужчины такая сила есть. Правда Господь наш говорит: «Сила Моя в немощи творится!» Так и есть девонька. Женщина сосуд немощной, а ежели она Богу служит, то сосуд она несокрушимый и бесценный.
– Мать Пелагея… – начала вдруг Лёля. – А что же, Богу можно служить только в монастыре?
– Нет, конечно, милая. Богу можно везде служить. Куда Он Сам тебя определяет, там и служи Ему. Ему ведь что нужно от нас – сердце наше, а не наше занятие.
– Матушка, а разве можно только одного Бога любить и только Ему служить? Я, признаться, не понимаю, как это, ведь Бога не видишь, есть ли Он…
– Милая моя, Бога глаз не видит, а сердце чувствует… – мать Пелагея отставила корзину с яйцами и пристально посмотрела на Ольгу. – Ты молись, девонька, и Господь откроет Себя тебе. Верою душа живет, а в безверии умирает. А про любовь… Если ты ближнего не любишь, то и к Богу любви нет. Сначала надо нам учиться ближнего полюбить. А через служение ближнему мы и Богу служим. Это раньше в пустыню уходили и там только с Одним Богом разговоры вели и Ему служили. А в наше время, в городе, нам нужно о ближних думать и им служить, да душу свою хранить от греха. Это Богу и угодно.
На кухне снова стало тихо. Только было слышно, как стучат настенные часы да в какой-то кастрюле бурлит вода.
– Я смотрю на вас, мать Пелагея, – призналась Лёля, – и так отрадно: кажется, вы всем довольны, всему рады. Наверное, хорошо иметь такое расположение души…
– Да, голубушка, когда ты с Богом, когда страшишься жить не по Его заповедям и идти против Его воли – все в жизни становится на свои места: все выходит хорошо и ладно, – отозвалась монахиня. – А вот и пасочка наша дозрела. Сухофрукты засыплем, и можно в формы переливать да под гнет ставить в погреб.
* * *
«Господи, Ты есть? Ты существуешь?
Ты видишь меня сейчас? Слышишь ли Ты меня?»
Ольга стояла в Покровском храме Марфо-Мариинской обители, подняв голову к сводам. Шла литургия Василия Великого. Но девушка не следила за ходом службы. Она смотрела на росписи в храме и видела перед собой Христа, благословляющего детей, Христа, восходящего на осляти в Иерусалим, Христа, разговаривающего с Марфой и Марией. Росписи были совсем иные, нежели она привыкла видеть в храмах. Прозрачные, сиренево-бирюзовые, они словно пели о весне и Пасхе, которые вот-вот должны были наступить. А главное, Христос на этих росписях казался таким близким и родным.
Уста девушки невольно шептали: «Господи! Когда-то я считала, что Ты рядом со мною и Ты будешь рядом всегда. Тогда я была маленькой девочкой, и Ты для меня был живой. Я разговаривала с Тобой каждый день, делилась с Тобой своими радостями и печалями. Но потом я выросла и потеряла Тебя. Если честно, я даже стала полагать, Тебя и нет вовсе.
Здесь же, в этой обители, я вижу людей, в лицах которых – свет. Я смотрю на эти лица, и мне кажется, я вижу в них Тебя. Так, значит, Ты существуешь?»
В храме было много народа – помимо сестер пришли из лазарета ходячие больные, воспитатели привели девочек из приюта – они стояли с левой стороны рядком в белых платочках и фартучках, с серьезными сосредоточенными личиками. Были на службе и миряне, близкие к Елизавете Феодоровне.
«А если Ты есть, что мне делать? Как мне снова найти Тебя?» – взывала Ольга.
Хор запел тихо и нежно: «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими…».
Вереница причастников, сложив руки на груди, ожидали у царских врат Чаши Христовой. Сегодня вспоминали Тайную Вечерю.
Лёля отошла в уголок. Там, на аналое, лежала небольшая иконочка. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Аз успокою вас…» – прочитала Лёля слова открытого Евангелия на иконе у Спасителя.
«Как давно я не говела… – подумала Лёля. – Надо приобщиться этим постом, – промелькнуло у нее в голове. – Обязательно приобщиться в Великую Субботу или в Светлое Воскресение Христово».
От этой мысли на сердце у девушки вдруг стало мирно и хорошо. Кажется, это и был ответ Бога: Он назначил ей встречу.
«Я приду к Тебе, Господи. Я скоро приду…» – пообещала Ольга, целуя прохладное стекло иконы.
– Ольга Михайловна… – обратилась к ней молоденькая сестра после трапезы. – Вы не могли бы помочь подготовить подарки для детского приюта?
Лёля отыскала глазами Тоню, та заговорщицки подмигнула и издали перекрестила кузину.
– С радостью, – отозвалась Лёля.
Молоденькая сестра кивнула:
– Следуйте за мной в рукодельную.
Рукодельная располагалась в сестринском корпусе. Эта комната отличалась особой обстановкой. Стены здесь были оклеены бежевыми обоями, в тон подобраны ситцевые занавески в полоску и даже шерстяной ковер на полу оказался светлым. На широких подоконниках в глиняных горшочках красовались комнатные цветы. Посредине рукодельной под лампой в бумажном абажуре стоял длинный стол орехового цвета.
– Меня зовут Анна, – представилась сестра. – Все в обители называют меня просто – Анечка. Я здесь одна из самых младших, – улыбнулась Анна.
Анна была худенькая, словно прозрачная, с голубыми чистыми глазами и каштановой косой, кончик которой выглядывал из-под апостольника.
Она подошла к столу, на котором лежали сейчас несколько коробок, моток с белой лентой и стопка открыток с золотым вензелем.
– Наша работа не займет много времени, до вечерней службы мы успеем. Надо только аккуратно сложить игрушки и конфеты в подарочные мешочки и подвязать мешочек ленточкой, а на ленточку прикрепить открытку с вензелем великой княгини.
Когда они принялись за работу, Ольга спросила:
– Эти подарки девочкам-сиротам, живущим в обители?
– Нет, что вы! – покачала головой Анечка. – У нас живет только восемнадцать девочек. А здесь подарков намного больше. Матушка окормляет несколько приютов в Москве и за городом. На Светлой седмице она объезжает их и сама поздравляет девочек. Я ведь сама приютская… Здесь выросла, при обители, – призналась Анечка после небольшой паузы. – Я знаю, как это радостно – получить подарок из рук великой княгини… Это счастье потом будешь весь год вспоминать, а то и всю жизнь!
– Вы сирота, Анечка? – осторожно спросила Ольга.
– Да, – ответила девушка. – У меня не было своей семьи, пока я не очутилась в этой обители… А здесь я, право, живу как в раю.
– Анна, скажите, – Ольга запнулась, но продолжила свой вопрос: – Все девочки из приюта потом становятся сестрами?
– Вовсе нет! – оживилась Анечка. – Большинство уходят в мир, создают свои семьи. Елизавета Феодоровна устраивает жизнь каждой, насколько это в ее силах. Она старается дать нам образование и какую-то профессию. Кто-то обучен фармацевтике при аптеке, кто-то помогает в лазарете как медсестра, девочек по желанию учат кройке и шитью, иностранным языкам, художеству.
– Но вы остались здесь?
– Да, я осталась! Честно, я не мыслю себя без нашей обители. Я помогаю Матушке в ее заботах о разных приютах. – Анна поправила апостольник. – Сейчас вам случай расскажу, курьезный! Эта история как анекдот ходила по Москве некоторое время. А я сама была ему свидетельницей. Произошло это в одном приюте для девочек. Елизавета Феодоровна намеревалась нанести им визит в первый раз. Как нам потом пояснили, классная дама предупредила воспитанниц: «К нам сейчас приедет великая княгиня. Как только она войдет, вы все поклонитесь и хором скажите: “Здравствуйте!” и целуйте ручки!» И вот Елизавета Феодоровна заходит в класс, а все девочки кланяются и кричат: «Здравствуйте и целуйте ручки!», а сами свои ручки ей протягивают. Классная дама вся побелела от волнения, а наша Матушка спокойно прошла и всем детишкам ручки перецеловала.
– Какой конфуз! – засмеялась Ольга.
– Да, Ольга Михайловна! Чего только не бывает, когда с детишками общаешься! Они воистину Божий народ.
– Анечка, – неожиданно для себя попросила Ольга. – Мне думается, мы с вами почти ровесницы… Называйте меня, пожалуйста, Лёлей.
Девушка подняла голову и взглянула на Ольгу с добрым удивлением.
– Хорошо, Лёля! – наконец ответила она.
* * *
Ольга сидела у окна своей маленькой комнатки. Легкая усталость оказалась странно приятной для нее. Какое-то ощущалось внутреннее блаженство от осознания того, что весь день она, Лёля, была занята чем-то полезным и нужным.
До вечерней службы еще оставался целый час. Можно было бы прилечь и поспать, но сейчас Лёле не хотелось терять на сон свое драгоценное время. Она сидела, прижавшись лбом к стеклу, и смотрела на весенний сад.
«Как здесь все изящно и мило! – думала девушка. – В этом саду, в строении храма, в каждой комнатке обители видна заботливая рука великой княгини и ее отменный вкус!»
В дверь тихонько постучали. Тук-тук-тук. «Молитвами святых отец наших…» – послышался шепот, и в дверном проеме показалось родное личико с веснушками.
– Лёля, ты не спишь? – спросила Антонина, заходя в комнату.
– Тоня! – обрадовалась визиту Ольга.
– Как ты, сестрица? – Тоня села на высокий стул и посмотрела на кузину. – Как тебе наша Анечка?
– Анечка… – улыбнулась Лёля. – Такая славная девушка. Мы подружились!
– Да, мы все ее очень любим. Матушка привезла ее в обитель из глубинки лет семь назад. Она – круглая сирота.
– Да, она рассказала мне.
– Славно! – Тоня в нерешительности теребила края своего фартука. Казалось, она хотела что-то спросить у своей кузины, но медлила. – Лёля, – начала, наконец, она с немного смущенным выражением лица, – а ты на службу пойдешь? Будут читать двенадцать Евангелий…
– Пойду, пойду, не волнуйся! – отозвалась Лёля и взяла сестру за руку. – Знаешь, Тонечка, мне бы хотелось поговеть и причаститься на праздники.
– Уф! – облегченно вздохнула Антонина. – Как хорошо-то, сестрица!
– Ты считаешь? – Лёля подняла серьезные глаза к Тоне.
– Конечно!
– Но… я боюсь, тихо проговорила девушка. – Мне же нужно исповедоваться, а я так давно не открывала никому свою душу.
Тоня погладила руку сестры.
– Лёлечка! Ты не представляешь, как тебе повезло. Наш батюшка – самый лучший!
Отец Митрофан замечательный исповедник, и как только ты подойдешь к нему, все страхи тут же улетучатся
Ольга пожала плечами и снова взглянула в окно. Что такое значит самый лучший батюшка, когда ты ничего о нем не знаешь, а он будет знать о тебе все?!
– Лёля! – почувствовав состояние Ольги, Тоня подвинулась к сестре. – Я серьезно. Отец Митрофан замечательный исповедник, и как только ты подойдешь к нему, все страхи тут же улетучатся. Это он выглядит строгим, а на самом деле батюшка очень добрый! Поверь мне, я знаю это наверняка. Ведь сестры приходят к исповеди каждый месяц, а то и чаще. А уж за советом хоть каждый день ходи к нему – он никогда не прогонит, всегда время найдет и нужное слово скажет. Оленька, ты послушай, послушай меня. Отец Митрофан очень кроткий человек. Бывает, шалость какую натворю, мне совестно, аж жуть, а он выслушает и только проговорит: «Аз есмь первый из грешников!» И так у него это мягко и сокрушительно получается, что сама поневоле заплачешь, а потом и улыбнешься. Каждый человек ведь согрешает, а мы, христиане, только тем спасаемся, что как упали, так тут же подняться спешим. И хоть падаем, падаем, а все же стараемся идти. Так батюшка говорит. Он своим незлобивым характером и терпением и других кротости учит. Вот погляди, что скажу тебе еще. Как-то мы решили, что он чересчур мягок с нами, и сказали ему: «Батюшка отец Митрофан, вы уж построже к нам будьте, нам ведь исправляться надо!» А он брови свои сдвинул, руки в кулаки сжал, говорит: «Вот так?» Да при этих словах забавно кулаками затряс, что мы не удержались от смеха. «Нет, батюшка, так мы боимся вас!» «То-то же!» – засмеялся он с нами. Вот такой человек.
Лёля повернула к кузине раскрасневшееся лицо.
– Ты правду говоришь?
– Правду! Батюшка отец Митрофан – замечательный.
Лёля снова вздохнула.
– Все равно боязно.
– Я тебя понимаю, ma cherie, – уже серьезно сказала Антонина. – Всегда боязно перед исповедью, зато после всегда легко-легко!
– Ах, что же я! – спохватилась Тоня. – Мне же надо идти в храм, лампадки зажигать. Я сегодня церковница. Вот… – она достала из кармана своего фартука тетрадь в кожаном переплете. – Ты просила меня рассказать тебе о сестрах милосердия… В этом альбоме, я надеюсь, ты найдешь ответы на свои вопросы. Я тут записываю разные заметки о женском служении… Почитай! А пока – до встречи в храме.
Тоня выпорхнула из комнаты, оставив Лёлю с любопытством разглядывать кожаный альбом.
* * *
Вечерняя служба в Великий Четверг особенно длинна и торжественна. Вспоминали Страсти Господни. При мерцающем отблеске свечей Лик пригвожденного Спасителя на распятии, стоящем в центре храма, поражал своей живостью и неотмирным спокойствием. Духовник обители, отец Митрофан, в черном облачении выглядел одновременно величественным и скорбным. Его голос звучал мягко и пронзительно. Казалось, он сам присутствует в местах предательства, избиения и казни Христа, и ему больно видеть мучения своего Бога.
Ольга держала в руках зажженную свечу, как и все собравшиеся в храме. Девушка смотрела на священника, на распятие, на бледные и прекрасные лица великой княгини и сестер. Она ни о чем не думала.
Слова Евангелия ложились в ее душу, как складывается воедино кем-то порванное письмо. Она с удивлением открывала для себя некую тайну. Тайну Смерти Бога. И девушке ничего иного не хотелось сейчас, как просто пережить этот момент. Не убежать от боли и страха, а пережить. Зачем? Чтобы вырасти.
Среди сестер, стоящих на клиросе, Ольга узнала Анечку. Та сосредоточенно слушала слова Священного Писания. В ее глазах стояли слезы.
После службы все сестры тихой процессией возвратились в сестринский корпус, неся в руках зажженные свечи.
Не хотелось даже есть.
У себя в комнате Лёля поставила свечу в медном подсвечнике на стол и, не отрывая глаз от огонька, прилегла калачиком на кровати и тут же заснула.
Утром Лёля нашла на столе догоревший огарок своей свечи, поднос, накрытый стеганым колпаком, и записку:
«Дорогая Лёля! Сегодня послушаний у тебя не будет. Посвяти этот день молитве и чтению.
Я принесла тебе чай и булку. Общая трапеза состоится после выноса Плащаницы.
Отец Митрофан ждет тебя вечером!
Твоя А.»
«Как это Тоня все успевает? – подумала Лёля. – Сейчас, наверное, еще и семи нет».
Ольге было немного досадно, что сестра не разбудила ее, но в то же время к досаде примешивалось чувство удовлетворения. Какая радость – она наконец-то была предоставлена сама себе!
Умывшись, переодевшись и испив ароматного чая с еще теплой булкой (уж не мать ли Пелагея ее испекла?), Лёля села на свое излюбленное место у окна и открыла Тонину тетрадь.
Посередине листа аккуратно был выведен восьмиконечный крест. Далее мелким слегка округлым почерком Антонины следовала запись:
«Работу милосердия с древних времен при помощи Духа Святого делала вся Церковь Христова всем своим составом и строем. Однако с древних же времен христианства на почве служения Богу, ближним и своему спасению стали выделяться люди, которые в пламенной решимости послужить только Христу и Его делу добровольно выделялись из среды прочих верных братий своих и, давши обет самоотверженного служения Богу, шли на борьбу со злом и страданиями в себе и других для приобретения блаженной вечности.
Эти люди исстари же делились на два вида, шли к Господу двумя путями: монашеским и диаконским, или диаконисским. Оба эти пути, в сущности, имеют один корень и выросли на одной почве.
Как монахиня, так и диакониса несомненно и нерушимо веровали в Бога во Святой Троице и Христа Богочеловека, Искупителя мира; имели непреклонную решимость самоотверженно работать во славу Бога, благо ближних и спасение для вечности душ своих, отказавшись для этого не только от суеты, но и от многого позволительного, как, например, брак, собственность… Почва их – это Церковь, общая мать, с ее духовным неистощимым капиталом – библейско-евангельским учением, святоотеческими преданиями и Писаниями и всем ее чудным богослужебно-уставным строем.
Разница лишь в том, что монашество спасается и спасает более подвигом внутреннего преображения человека посредством усиленного молитвенного, самоуглубленного и созерцательного труда. Оно этим подвигом так облагораживает человека, таким делает его чистым, что обновляет и других, которые, приходя к этой духовной сокровищнице, обильно черпают из нее необходимое себе руководство. Заслуги самоотверженной работы монашества над очищением и возвышением внутреннего человека огромны.
Диаконисы служили Богу, спасали ближних и свои души более деятельной любовью, трудом милосердия для бедных, падшего, темного и скорбного человека, но непременно ради Христа, во имя Его» (Отец Митрофан Сребрянский. Из пояснительного слова «Об открываемой в Москве Марфо-Мариинской обители милосердия»).
Лёля перевела дух. Про монахинь она, конечно, знала, но девушка впервые слышала про диаконис.
«Первые диаконисы» – гласил следующий подзаголовок, красиво выведенный каллиграфическим шрифтом.
«По примеру святых жен-мироносиц многие христианки первых веков посвятили свою жизнь служению Богу при Его храме. Они назывались диаконисами. Первое упоминание о диаконисах содержится в Послании к Римлянам. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской, – пишет своей пастве апостол Павел.
Диаконисы не вели службу, подобно диаконам. Их основным послушанием было помогать священнику приготовлять жен ко таинству Крещения, а также сопутствовать ему в совершении церковных таинств над женами, посещать больных, немощных жен, а также вдовиц и сирот, следить за порядком во время богослужения.
Апостольские постановления указывают, что диакониса “без диакона ничего пусть не делает и не говорит”, но при этом “никакая женщина да не приходит к диакону или епископу без диаконисы”.
Существовало два вида диаконис: диаконисы рукоположенные и диаконисы по одеянию.
Диаконисы рукоположенные прислуживали в храмах при богослужении, были вхожи в алтарь. К рукоположению допускались женщины, достигшие сорока лет и после тщательного испытания. Рукоположенные диаконисы не имели права вступать в брак.
Диаконисы по одеянию занимались делами милосердия. Женщинам, посвятившим себя служению церкви, по достижении 25 лет благословлялось носить особую одежду. Однако до 40-летнего возраста они могли оставаться в доме родителей.
Среди святых жен следующие несли служение диаконис: святая Татьяна Римская (226 г.), святая Нонна Назианзская (мать Григория Богослова) (374 г.), святая Олимпиада Константинопольская (ей писал святой Иоанн Златоуст) (409 г.), святая преподобная Ксения Миласская, блаженная Феозва, родная сестра святого Василия Великого».
– Интересно! – сама себе проговорила Ольга. – А я и не знала, что святая покровительница моей маменьки Татианы Васильевны была диаконисой… Правда, maman читала нам житие своей святой по Минее. И там, насколько я помню, говорилось, что Татиана помогала бедным, сирым и вдовам. Значит, она была диаконисой…
Ольга снова вернулась к записям.
«Последнее упоминание о диаконисах на Востоке относится к XII веку. Институт женской диаконии постепенно утрачивал свое значение. Изменилась литургическая практика: постепенно перестают крестить взрослых женщин, поскольку широко распространяется крещение детей, в храмах не всегда соблюдается разделение на мужскую и женскую половины. Изменился состав низшего клира: диаконис сместили иподиаконы. К XIII веку диаконисы как служительницы церкви почти полностью исчезают.
Однако, начиная с XII века, на Западе и на Востоке формируются женские общины, которые посвящают свою жизнь делам милосердия. Как, например, община бегинок (Бельгия, XII век), община Винсента де Поля (Франция, XVII век). Так образуются первые общины сестер милосердия».
«Наконец-то! – подумала Лёля. – Сестры милосердия!»
«Крестовоздвиженская община сестер милосердия, – читала она дальше. – В период Крымской войны великая княгиня Елена Павловна учредила на свои средства в Петербурге Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия для ухода за ранеными и больными. Сестры милосердия этой общины трудились не только на перевязочных пунктах в столице, но и в военных госпиталях, организованных в местах военного действия. Членами общины являлись женщины разных сословий и уровня образования.
Община отправила в Крым несколько отрядов сестер милосердия, всего около 130 женщин. Среди них были представительницы известнейших фамилий: Мещерская, Бакунина, Пржевальская, Будберг, Бибикова.
Великая княгиня хотела, чтобы все сестры не только трудились в общине, по существу, за еду, одежду и крышу над головой, – она хотела придать сестринскому движению религиозный характер, чтобы дело милосердия было творено во Имя Божие, справедливо полагая, что только во славу Господа можно выдержать испытания, которые приходилось нести сестрам на войне и после нее. Но начинания великой княгини Елены Павловны не всеми были одобрены, и община скоро стала носить более светский характер. Не имея упования на помощь Божию, многие сестры не выдерживали лишений и ужасов их труда и покидали свой пост, возвращаясь в свет. Община вскоре распалась на несколько разных общин сестер милосердия Красного Креста.
Среди первых сестер милосердия были и особые подвижницы, как баронесса Юлия Вревская. Ее друг, писатель И. С. Тургенев, пишет о смерти Юлии:
“На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращенного в походный военный гошпиталь, в разоренной болгарской деревушке – с лишком две недели умирала она от тифа.
Она была в беспамятстве – и ни один врач даже не взглянул на нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах, поочередно поднимались с своих зараженных логовищ, чтобы поднести к ее запекшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка.
Она была молода, красива; высший свет ее знал; об ней осведомлялись даже сановники. Дамы ей завидовали, мужчины за ней волочились… два-три человека тайно и глубоко любили ее. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слез.
Нежное кроткое сердце… и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи… она не ведала другого счастия… не ведала – и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась – и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним.
Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души, в самом ее тайнике, никто не знал никогда – а теперь, конечно, не узнает.
Да и к чему? Жертва принесена… дело сделано.
Но горестно думать, что никто не сказал спасибо даже ее трупу – хоть она сама и стыдилась и чуждалась всякого спасибо.
Пусть же не оскорбится ее милая тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь возложить на ее могилу!”
Сентябрь, 1878 г.»
Ошеломленная прочитанным, Лёля отложила Тонину тетрадь. Вот так вот умереть… никому не нужной… В сарае, на вонючей соломе…
«Бремя Мое легко есть…» Так уж легко?
Лёля передернула плечами. Нет, все понятно – послужить ближнему ради высших идеалов. Это похвально, но зачем такие страшные жертвы? Нужны ли они кому-нибудь?
Она посмотрела за окно. Было пасмурно.
«Наверное, пойдет дождь!» – заключила девушка.
Лёля закрыла тетрадь. Больше читать ей не хотелось.
Плащаницу несли под дождем. Дождь был мелкий, холодный. Словно сама природа горевала по смерти своего Создателя. За несколько минут на улице Ольга продрогла, у нее озябли руки, появилось непреодолимое желание вернуться в теплый уютный храм.
Но великая княгиня, сестры и толпа прихожан едва замечали непогоду. Словно похоронная процессия, они медленно шли за отцом Митрофаном и вторым священником обители, несущими Плащаницу вокруг храма и пели: «Святый Боже… Святый Крепкий… Святый Бессмертный, помилуй нас!»
Ольга покорно шла в толпе народа, повторяя слова «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный…». Ей отчетливо вспомнилась Юлия Вревская. Ее молодая жизнь, отданная во имя служения ближним. Сейчас, под этим мелким дождем, Ольге смерть баронессы уже не казалось бессмысленной и жестокой, как она привиделась ей в комнате. Более того, Ольге вдруг подумалось, что смерть ради других даже хороша. Все равно человек умрет – такова его природа после грехопадения. Так не лучше ли, не мудрее ли умереть во имя высокой цели? Ведь Христос тоже умер. Сейчас они несут Его Тело. Но, ведь Ольга знает, Его смерть не вечна, Он скоро воскреснет и какая будет всем от того радость! Мысль ошеломила Ольгу: умереть ради других – это дар. Дар свыше. Конечно, сама Ольга его не достойна, слишком мелко она живет, но ведь есть люди, есть, которые следуют за Христом до конца, даже до смерти.
«Кто хочет за Мной идти, возьми крест свой и иди…» Взять свой крест. А есть ли у Ольги ее крест?
* * *
Отец Митрофан накрыл голову девушки епитрахилью. Она чувствовала на себе его крепкую руку, осеняющую ее макушку крестным знамением.
Все. Исповедь принесена. Она все рассказала, что томило душу, этому усталому, внимательному человеку. Что он теперь о ней думает? Осуждает ли он ее?
Девушка смущенно взглянула на священника, но батюшка искренне улыбнулся.
– Вы теперь будете меня осуждать, что я такая слабая, да?
– Вовсе нет! Теперь я буду молиться за вас. Мы живем в непростое время, но, мне кажется, отныне у вас все будет хорошо и просто. Вы же нашли Христа!
Ольга неуверенно мотнула головой.
– Вы полагаете, можно счастливо жить только с Богом?
– Да, – твердо ответил священник. И, видя растерянность девушки, продолжил: – Ольга Михайловна, в настоящее время строй жизни, – говорил отец Митрофан, – ушел далеко от заветов древнего христианства, и современное общество в большинстве лишь сохранило свое название христианского. Упадок веры и забвение заветов Христа сделали жизнь невыносимо тяжелой и пустой. В доброй половине современные люди погрузились в новое язычество, можно сказать, худшее прежнего, так как стали лицемерны. Древние язычники откровенно обоготворяли свои страсти и разные силы природы, а нынешние, лицемерно прикрываясь христианством и цивилизацией, творят то же, что и язычники Содома и Гоморры: та же жестокость, то же немилосердие, тот же разврат. Жизнь стала ненормальна, и плодом этой ненормальности явилась масса страданий физических и духовных. Источник воды живой, то есть истинной, здоровой, духовно-телесной жизни дан Небом человечеству в Лице Богочеловека Христа, и строй жизни правильный Им указан в Церкви. Значит, при виде и сознании язв современной жизни для излечения их следует обратиться ко Христу и Его Церкви. Возрождение и спасение человека христианство видит в пробуждении в нем и укреплении сознания, сыновства нашего к личному, живому Богу, отсюда – любви и стремления к святости, добродетели, к вечности… Ольга Михайловна, Господь позвал вас, не оставляйте Его, станьте Ему верной дочерью…
– Он так и сказал: хорошо тебе быть женой? – Тоня нахмурила брови. Они с Лёлей сидели вместе в опустевшей после ужина трапезной, полируя подсолнечным маслом крашеные яйца: желтые, розовые, красные, пурпурные. Яиц было много, они предвещали скорый праздник, и оттого настроение у девушек тоже было приподнятым. Блестящие яйца сестры укладывали в корзины и плетеные подносы – для завтрашнего освящения.
– Нет, батюшка не так сказал. Он сказал, что хорош и путь семейный, – ответила Ольга, любуясь продолговатым малиновым яйцом.
– А-а-а-а! – Тоня радостно закивала головой. – Понятно! Это он просто увидел твое расположение души и решил тебя не стращать. А то если тебе сразу сказать, что лучше служения Богу ничего нет, ты испугаешься.
Блестящие яйца сестры укладывали в корзины – для завтрашнего освящения
Лёля отложила яйцо и посмотрела на кузину.
– Тоня!
– Я серьезно, ma cherie! – спокойно отозвалась Антонина с легкой улыбкой на устах. – Так часто бывает, когда девушка думает о выборе жизненного пути. Каждый из нас вырос в семье, и потому этот путь кажется близким и простым, а вот путь сестры или монахини поначалу многих пугает своей неизведанностью и кажущимся одиночеством. Но если душа вкусит радости жизни для Бога, больше ей ничего не будет нужно, кроме Него, поверь мне, дорогая.
– Тоня, ты правда пугаешь меня! – тихо отозвалась Лёля.
– Ну прости! – вздохнула Тоня и добавила: – Жизнь сама покажет, как тебе лучше.
В трапезной пробили часы – девять раз. Яйца блестели на подносах и в руках у двух девушек. А девушки думали каждая о своем и каждая друг о друге.
– Сестрица, – отчего-то шепотом попросила Ольга, – расскажи мне о матушке отца Митрофана.
– Об Ольге Владимировне? – оживилась Тоня. – Знаешь, про нее многое и не скажешь. Пожалуй, только то, что она поистине за мужем: она всегда рядом с батюшкой, но никогда не на виду. Такой тихий, кроткий человек. Да ты ее видела – она и на службы все ходит и трапезничает с нами.
– Да, я встречала ее, – вспомнила Ольга. – А дети у них есть?
– Нет, детишек у них нет, – покачала головой Антонина. – И у нас говорят, что они дали зарок жить как брат с сестрой и Богу служить.
– А разве такое возможно в супружестве? – изумилась Лёля.
Тоня пожала плечами.
– Все возможно ради Бога, – твердо произнесла Антонина. – Но это не девичьи разговоры! Кстати, – она сменила тему, – а ты читала мой альбом?
– Да… – протянула Ольга. – Я читала…
– И что же?
– Тоня, честно признаюсь, я не очень поняла: вы здесь не монахини и не мирянки, вы что – диаконисы?
Тоня засветилась от радости:
– Молодец, запомнила про диаконис! Но мы пока не диаконисы, сестренка. Мы здесь, Лёля, крестовые сестры.
– Кто?
– Крестовые сестры. Мы не даем монашеских обетов, но желаем провести жизнь в смирении, исполняя любое послушание ради Бога и ближнего. – Тоня добавила: – Если хочешь, можешь называть нас диаконисами. Великая княгиня имеет желание возродить женскую диаконию, но пока мы сестры.
– А почему крестовые?
– Сестры при посвящении получают кипарисовый крест на белой ленте с изображением Нерукотворного Спаса и Покрова Пресвятой Богородицы; а на обратной стороне – образы святых жен Марфы и Марии и четки. Мы носим крест как сестры милосердия. Но, в отличие от сестер милосердия, мы занимаемся не только врачебной деятельностью. Основа нашей жизни – молитва, ею мы начинаем и заканчиваем любое дело. Великая Матушка говорит: мы должны все делать для Бога и ради Бога.
– А Елизавета Феодоровна тоже крестовая сестра?
– Да, конечно. Матушку возвели в чин крестовой сестры в числе первых посвященных. Это было Великим постом, в апреле, года два, нет – три назад. У нас тогда посвятили семнадцать человек. Во время торжественной службы епископ Трифон обратился к Матушке со словами: «Эта одежда скроет вас от мира, и мир будет скрыт от вас, но она в то же время будет свидетельницей вашей благотворной деятельности, которая воссияет пред Господом во славу Его».
– Красиво… – задумалась Ольга. – Так у вас крестовых сестер всего семнадцать человек? А другие сестры тогда кто?
– Сейчас посвященных сестер намного больше, чем семнадцать, почти половина – посвященные. Остальные называются испытуемыми. Ну, это как, например, послушницы в монастыре. Они живут какое-то время при обители, выполняют послушания, молятся и испытывают свое сердце – по нраву ли им такая жизнь, смогут ли они нести этот крест до конца? Когда они твердо могут сказать, что готовы, их тоже посвятят.
– Не понимаю… Ведь, по сути, вы живете монашеской жизнью…
– Так, Лёлечка, и не так. Монах – это тот, кто один на один с Богом. Кто всего себя Ему отдал. Это высочайший подвиг, так считает наша Матушка. А мы… мы Богу служим через служение людям, через помощь друг другу.
– И ты, Тоня, останешься здесь на всю жизнь?
– Мне бы очень этого хотелось, Лёля.
Часы пробили десять.
– Знаешь что, Лёля… – поразмыслив, предложила Антонина. – Яйца у нас закончились, послушания тоже. Пойдем, я тебе кое-что покажу.
– Что покажешь?
– Одно секретное место…
Лестница была довольно узкой, винтовой. Прохладные белые стены отражали теплый огонек свечки, которую держала в руках Тоня, создавая легкие блики. Девушки шли молча, крепко держась друг за друга.
Наконец лестница закончилась, и они оказались в просторном помещении.
– Подземный храм! – догадалась Лёля.
– Да, это подземный храм – усыпальница. Здесь найдут упокоение сестры, подвизавшиеся в обители до конца. Надеюсь, и я буду лежать здесь.
– Тоня! – Лёля отдернула свою руку. – Ты так просто говоришь о смерти, словно… – она замешкалась, – словно либо не видела ее, либо ее не боишься…
– Оленька, – Тоня повернулась к сестре. – Ты же знаешь, я похоронила мать, я знаю, что такое смерть… Да и здесь, в обители, мы часто смотрим смерти в глаза, когда умирает кто-нибудь из наших подопечных или больных в лазарете. Я видела смерть, но я не боюсь ее.
– Отчего же?
– Потому что – Христос воскрес, понимаешь? И своей смертью уничтожил смерть.
– Но люди все равно умирают! И мы – умрем.
– Да, умирают. И мы умрем, – повторила Тоня. – Но если мы в Бога верим, если мы живем по совести, по вере своей, умирать не страшно. По крайней мере, не так страшно.
Павел Дмитриевич Корин будет расписывать эту усыпальницу.
Он – молодой художник, но очень талантливый. Матушка хочет, чтобы он сестер учил иконописанию
Лёля покачала головой и ничего не сказала. Тоня прервала молчание первой:
– Павел Дмитриевич Корин будет расписывать эту усыпальницу. Но что же я? Ты, наверное, не знаешь, кто такой Павел Дмитриевич! – Тоня взмахнула руками. – Видела наши росписи в Покровском храме? Красивые, да? Работа Нестерова, а Павел Дмитриевич ему помогал. Он – молодой художник, но очень талантливый. Матушка хочет, чтобы он и сестер учил иконописанию. Она его специально отправляла в Ярославль изучать азы этого искусства. Ты его обязательно встретишь, он будет на ночной службе… А здесь, по просьбе Матушки, будет роспись на сюжет: «Путь праведников ко Господу». Представь, вереница праведных идут ко Христу – красиво…
Лёля молчала, ее била дрожь.
Вчера здесь ничего не было. А сегодня сырую черную землю пробила нежная головка крокуса. Белые лепестки бутона еще не раскрылись, но весь его облик торжествовал: я живу, я дышу, я расту. Вверх, к небу!
Ольга как зачарованная смотрела на цветок, сидя на литой скамеечке в саду обители. Этот цветок ей вдруг показался таким родным и близким. Будто это не крокус, а она сама, Ольга, пробивается сквозь почву и тянется ввысь.
Необыкновенное чувство жизни захватило ее, оно звучало в ней как тихая музыка ручьев, как пение птиц, как шелест листьев. Ольга словно растворилась в этом саде, в весне, в легком ветерке. И с нею, рядом, внутри нее – Бог.
Так бывает иногда, после причастия.
Великая Суббота пролетела одним мигом. Ольга была занята на послушаниях: в трапезной, на кухне, в храме. Но удивительно, она совсем не ощущала усталости, скорее наоборот, все ей приносило радость и не нарушало ее покой. Чувство распускающегося цветка переполняло Лёлю, захватывало, но не пьянило, а умиряло, наполняя внутренней тишиной и удивлением.
Вот уже и Пасхальная ночь, и крестный ход с зажженными свечами. Идут мироносицы в белых платьях ко гробу Господню. «Bocкрeceниe Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити» – поют стихиру праздника.
«Чистым сердцем Тебе славити…» – отзывалось у Ольги в груди.
Все замерли у дверей храма. Только лица светятся в темноте. Свершилось: камень отвален от гроба. Батюшкин звучный голос, как ангельская труба, возвещает: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Вот и она – долгожданная Пасха.
Ольга вошла в сияющий храм. И вдруг поняла: она наконец пришла домой.
Трапезная утопала в цветах. В больших кадках стояли кусты сирени – излюбленные цветы Елизаветы Феодоровны. На столах в вазочках – ландыши (кто-то привез к празднику), в маленьких горшочках – срезанные молодые тюльпаны из своего сада. Среди цветов возвышались румяные куличи, молочные пасхи, поблескивали боками красные яйца. Праздничную трапезу устраивали в обители не ночью, а после поздней литургии в воскресный день.
По обычаю, после вкушения яств батюшка отец Митрофан начал беседу. И, конечно, сегодня первыми его словами было приветствие: Христос Воскресе!
– Христос Воскресе! Вот и наступило время Торжества из Торжеств – Великой Пасхи. Смотрите, как светятся ваши лица и как ломятся наши столы от угощений. Позвольте, я расскажу вам о том, как мы встречали Пасху на войне.
– Отец Митрофан был полковым священником на Русско-японской войне! – прошептала Тоня Лёле.
– Шел 1904 год. И наш полк выступил в далекий и опасный поход на чужбине, и в Страстную неделю мы оказались довольно далеко от селений. Наша резиденция (или, как мы называли ее, импань) окружена была рощей. Там стояли высокие могучие деревья, между ними дорожка, а в ветвях суетились грачи.
Отец Митрофан вещал с удовольствием, но в голосе его не было ни ноток хвастовства, ни гордости. Он рассказывал просто и увлекательно.
– Думал я установить походную церковь на поляне за рощей, да вот беда: в Великую Субботу просыпаюсь, а в роще нашей буря – деревья гнутся, качаются. Ветер усиливается. Давно послали в Харбин купить куличей, но посланные не вернулись. Наши солдаты набрали красной китайской бумаги, положили ее в котел, вскипятили, и получилась красная масса, в нее опустили яйца, и появилось у нас утешение – крашеные яйца. Их и освящали, да кое-какие сухари вместо куличей.
Лёля взглянула на пышные куличи, облитые взбитым белком. Трудно было вообразить вместо этих пасхальных красавцев обычные сухари.
– Стал я думать, где службу править. Походный храм в такую погоду не поставишь, а моя фанза слишком мала. Гляжу – сарай у нас во дворе стоит глиняный с окнами, в нем устроилась наша бригадная канцелярия. Иду туда. Действительно, человек до ста может поместиться, а для остальных воинов, которые будут стоять на дворе, мы вынем окна, и им все будет слышно и отчасти видно, так как в сарае свечи не будут тухнуть.
Спрашиваю писарей: «А что, если у вас мы устроим пасхальную службу?» – «Очень приятно, батюшка, мы сейчас все уберем и выметем», – отвечают. «Ну, вот спасибо! Так начинайте чистить, а я через час приду». Как будто тяжесть какая свалилась с души, когда нашел я это место. Конечно, литургии служить нельзя: слишком грязно и тесно; но мы постараемся облагообразить насколько возможно, и хоть светлую заутреню отслужим не в темноте.
– Работа закипела, а я побежал в свою фанзу: надо ведь устраивать и у себя пасхальный стол для всех нас. Мы раздобыли довольно длинный стол. Скатертью обычно служили газеты, но нельзя же так оставить и на Пасху: я достал чистую простыню и постлал ее на стол. Затем в средине положил черный хлеб, присланный нам из 6-го эскадрона, прилепил к нему восковую свечу – это наша пасха. Рядом положил десять красных яиц, копченую колбасу, немного ветчины да поставил бутылку красного вина. Получился такой пасхальный стол, что мои сожители нашли его роскошным.
Сестры смущенно заулыбались.
– В 10 часов пошел в свою «церковь», там уже все было убрано. Принесли походную церковь, развесили по стенам образа, на столе поставили полковую икону, везде налепили свечей, даже на балках, а на дворе повесили китайские бумажные фонари, пол застлали циновками, и вышло довольно уютно.
К 12 часам ночи наша убогая церковь и двор наполнились богомольцами всего отряда. Солдаты были все в полной боевой амуниции на всякий случай: война! Я, в полном облачении, раздал генералу, господам офицерам и многим солдатам свечи, в руки взял сделанный из доски трисвещник, и наша сарай-церковка засветилась множеством огней. Вынули окна, и чудное пение пасхальных песней понеслось из наших уст. Каждение я совершал не только в церкви, но выходил и на двор, обходил всех воинов, возглашая: «Христос Воскресе!» Невообразимо чудно все пропели: «Воскресение Христово видевше, поклонимся Господу Иисусу!» Правда, утешения веры так сильны, что заставляют забывать обстановку и положение, в которых находишься.
Что-то дрогнуло в лице у батюшки, и в глазах появилась какая-то особая мягкость.
– Окончилась заутреня; убрали мы свою церковь, иду в фанзу. Вошел, взглянул на стол и глазам своим не верю: стоят два кулича, сырная пасха, красная писанка, сахарные яйца. Господи, да откуда же это взялось? Оказалось, во время заутрени приехал из Харбина наш офицер Гуров и привез мне из Орла посылку, в которой и находились все эти блага, а сырную пасху он купил в Харбине. Наше смирение вполне вознаградилось: собирались разговляться черным хлебом, а Господь прислал настоящую пасху. Слава Ему и благодарение добрым людям!
Тихо и хорошо стало в трапезной Марфо-Мариинской обители: здесь не японская роща, не война, мирное время. Загорелись глаза у сестер милосердия, живо представивших себе Пасху в полку и солдат, некоторых из них они выходили в своем лазарете. Появились слезы на глазах у гостей обители, что когда-то сами бывали в сражениях.
Батюшка замолчал, еще находясь под властью воспоминаний. Затем расправил плечи и торжественно произнес:
– Христос Воскресе, дорогие мои! Давайте же с вами помнить, что ничто и никогда не отнимет у нас радость Воскресения Христова! Как сказал святой апостол Павел: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Давайте запомним эти слова и будем жить ими. Христос Воскресе!
– Воистину Воскресе! – отозвались все присутствующие.
* * *
– Мне бы хотелось здесь остаться… – не веря сама себе, пролепетала Ольга. – Батюшка, как вы считаете, это возможно?
Отец Митрофан поднял на Ольгу внимательные добрые глаза. Только теперь Ольга разглядела, что у батюшки глаза голубые, а волосы цвета соломы, длинные, собранные в косу под рясой.
Лёля подошла к нему в Светлую Среду после Божественной литургии. Это был какой-то душевный порыв, необходимость открыть кому-то свои думы. Желает ли Ольга стать сестрой? Она сама не могла этого понять. Просто последние дни были настолько светлы и радостны, и так не хотелось, чтобы они когда-нибудь закончились…
– Нам нужны сестры, – аккуратно начал священник: – Ольга Михайловна, но чтобы остаться в обители, вам необходимо прежде всего родительское благословение.
Ольга вскинула на священника глаза. Родительское благословение?
– Да, – твердо повторил батюшка. – Очень важно, чтобы ваш путь одобрили ваши родные. Понимаете, это ведь крест, и его надо нести с Богом.
– А как же Тоня? – спросила Лёля. – Ведь у нас дома никто не знает, где она.
– У Антонины иная ситуация, – помолчав, ответил отец Митрофан. – Она по сути – сирота. А вашим маменьке с папенькой нужна ваша помощь. Да и потом, простите меня, вы еще слишком молоденькая… А мы обычно принимаем сестер с двадцати одного года. Потому поезжайте пока домой. И молитесь Богу, чтобы Он явил вам о себе Свою волю. И не волнуйтесь, Бог не оставит вас, все будет так, как Ему угодно. Только верьте в простоте души.
Лёля в нерешимости опустила голову. Наверное, батюшка прав. Ее желание остаться – не более чем детское желание праздника.
Она вспомнила смерть Юлии Вревской, тонкий профиль Елизаветы Феодоровны, худенькие запястья Анечки. И свои так и не надетые наряды. И ей стало совестно.
Надо возвращаться в мир.
И снова перрон. И девушка в бежевом пальтеце и голубом платке с парусиновым чемоданчиком в руках.
– Лёля, не забывай! Пиши.
– Я буду, Тонечка. А ты молись за меня.
– Конечно. Бог даст, вернешься. Еще будем Пасху вместе встречать!
Лёля грустно улыбнулась. Что-то отчетливо говорило ей, что больше никогда она не будет встречать Пасху в Марфо-Мариинской обители и больше никогда не увидит своей кузины. И никогда у нее уже не будет таких светлых дней в жизни.
– А это… – Тоня сунула Лёле маленький конверт. – Передай моему отцу. Письмо от меня. Ну, с Богом.
Антонина перекрестила Лёлю. И пошла быстрым шагом прочь, не оборачиваясь.
Лёля заплакала.
За эту неделю весна ворвалась в Москву: деревья стояли в пышных зеленых одеждах, пахло черемухой, свежей землей и сладким воздухом.
Прощальный гудок. Поезд запыхтел и отправился. Пых-пых-пых-пах-пах. Лёля сидела в вагоне, прижавшись лбом к холодному стеклу, и ей казалось, поезд шепчет: Пасха-Пасха-Пасхальные люди…
Эпилог
На окне третьего этажа в доме номер восемь по улице Кирова всегда стояли цветы: весной и летом здесь цвела душистая герань, а осенью и зимой красовался раскидистый фикус. В квартире с цветами жила пожилая учительница русского языка и литературы. Вечерами ее лицо с высоким лбом и седыми волосами, туго затянутыми в аккуратный пучок, также можно было увидеть у этого окна. Женщина сидела и смотрела в небо. Наверное, она любовалась закатами.
Ольга Михайловна слыла в этом городке особой странной: она была приветлива с людьми, но почти не имела друзей и практически никуда, кроме школы, не выходила. Она не участвовала в общественных мероприятиях, не посещала местный клуб самодеятельности и никого не звала к себе в гости.
Сама она жила одна в маленькой комнатке, с простым, даже строгим убранством. В городке говорили, что Ольга Михайловна – старая дева. Мол, был у нее когда-то жених, но то ли что-то с ним случилось, то ли он куда-то исчез, а может, и вовсе (тут собеседники понижали голос и с опаской оглядывались) расстрелян… Так или иначе, замуж учительница не вышла и посвятила всю свою жизнь своим ученикам. Сама Ольга Михайловна о себе никогда не рассказывала. Но по ее осанке и некоей силе, спрятанной в глазах, можно было вполне заключить, что она вышла не из рабочего класса.
Вот и сегодня Ольга Михайловна подошла к окну. Прозрачные краски апреля изменили даже эту серую улицу. Земля просыпалась, перешептываясь с ручейком, вверх тянули свои руки вязы, и молодая зеленая травка уже радовала глаз своей свежестью.
Ольга Михайловна открыла форточку, и легкий ветер ворвался в ее комнату. Она поправила прядь седых волос и отошла от окна.
Кукушка в часах пропела шесть раз. Это была суббота. А завтра – воскресенье.
Ольга Михайловна потянулась к шкафчику: там, в корзиночке, под белой вышитой салфеткой стоял маленький куличик да лежали три красных яйца. Завтра – Пасха.
Учительница отодвинула корзиночку, протянула руку в дальний уголок и вытащила резную шкатулку. В этой шкатулке хранились письма. Ольга Михайловна всегда их перечитывала в Великую Субботу. Это были письма от её двоюродной сестры – Антонины.
После той поездки в Москву Лёля так и не вернулась в Марфо-Мариинскую обитель. Родители не одобрили желания девушки стать сестрой милосердия. Ее религиозность им казалась излишней. Но Лёля ходила в церковь каждое воскресенье, положившись на волю Божию.
Письма от Тони приходили сначала очень часто, затем дважды в год: на Рождество и на Пасху. А затем и того реже: началась мировая война.
«Ma cherie, – писала кузина в 1916 году. – Ты бы не узнала сейчас нашей обители! К нам приехали 120 монахинь из разгромленного польского монастыря и 100 девочек-сирот. Лазарет всегда полон солдат. И наши былые двадцать две койки уже никого не вмещают. Матушка выстроила специальный корпус, где могли бы проживать семьи раненых. Теперь работы у меня хватает! Раненым хорошо у нас. Многие даже не торопятся выздоравливать! А службы мы часто проводим в Марфо-Мариинском храме при лазарете, так что больные могут слышать молитвы в своих палатах.
Видела ли ты нашу подземную церковь? Павел Корин расписал ее недавно – как же хорошо вышло! Как-то мы пошли туда с Матушкой и стали каждая выбирать место, где нас погребут, а кто-то спросил у Матушки, где она желает упокоиться. А она ответила: “Я буду в Гефсимании”. Грустно… Какие-то тяжелые времена идут. В Москве бывает неспокойно. Прежней роскоши нам уже не видать. Самые лучшие продукты отдаем солдатам да старикам и сирым. Но, слава Богу, не голодаем!
Храни тебя Господь!»
Кто-то спросил у Матушки, где она желает упокоиться. А она ответила: «Я буду в Гефсимании»
«Христос Воскресе!» – знакомый почерк Антонины, чернила кое-где размыты. 1918 год. Эту записку Лёле передали знакомые в церкви – почте уже нельзя было доверять. – «Пишу тебе и плачу. Светлая седмица, а у нас горе. Матушку Елизавету Феодоровну арестовали… Это произошло в Светлый Вторник. Мы служили Иверской. Матушка сама пела на клиросе. И как звучал ее голос. Будто она чувствовала недоброе и просила Бога о помощи. А потом пришли за ней. И забрали.
Она ничего не взяла с собой. Только две сестры вместе с ней поехали – Варвара да Екатерина.
Отец Митрофан и мы выбежали на улицу, плачем, кланяемся ей. Она нас крестит широко.
Батюшка исхудал, не выходил из алтаря несколько дней. Потом вышел к нам и говорит: “Молитесь, сестры, о упокоении рабы Божией Елизаветы…”
Лёленька, и ты молись. Молись за всех нас.
Твоя А.»
И последнее письмо. Оно пришло год назад, в 1953 году. Долгое время связь с сестрой была прервана. Ольга знала, что обитель разогнали и что сестра отправилась в ссылку вместе с некоторыми другими сестрами за отцом Митрофаном, но место ссылки она не ведала. Ольга пыталась разыскать Тоню, но попытки ее не увенчались успехом. Однако она узнала, что священник Митрофан Сребрянский был досрочно освобожден. Куда он отправился, она также не знала.
«Здравствуй, Лёля!
Христос Воскресе! Вот и батюшка наш встречает Пасху в Царствии Небесном. Он умер под Благовещение. И матушка, его супруга, пережила мужа на два года. Его в постриге звали Сергий, а ее Елизавета. Так они вместе сейчас и лежат. За эти годы мы очень сблизились с Ольгой Владимировной, вместе натерпелись многого. Она разделила с батюшкой все его мытарства…
Мать Пелагея умерла в 1920. Анечка заразилась тифом и тоже скончалась. Я приняла постриг с именем Анастасии. Из наших сестер со мною остались только две, остальные где – один Бог ведает.
Помнишь, мы с тобой говорили о пасхальных людях? Я теперь поняла: пасхальные люди – те, кто несет в себе пасхальную радость через все испытания. Несет свой крест до конца. Ведь Пасха не может быть без Страстной седмицы, Лёленька.
Не знаю точно, когда найдет тебя это письмо, но верю, что найдет. Я сама больна. Как врач знаю, что болезнь неизлечима. Но я не унываю. Столько пришлось увидеть и горя, и радости. Надеюсь, скоро встречусь с нашими Матушкой и батюшкой в небесных обителях.
Помни и молись за свою А.
Всегда помнящая и любящая тебя…»
А внизу была приписка:
«Мать Анастасия скончалась 5 мая 1952 года и просила передать свои крест и четки кузине, Извольской Ольге Михайловне».
Ольга Михайловна вновь перечитала письмо. Слезы текли по ее щекам.
«Христос Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».
«Живот даровав…» – тихо пропела она пасхальный тропарь.
Примечания
1
См. Быт. 2:18.
(обратно)2
См. Быт. 3:16.
(обратно)3
Книга, глаголемая «Златоустъ». Сло́во 3. Въ суббо́ту мясопу́стную, сло́во Іоа́нна Златоу́стаго, е́же не пла́катися по уме́ршихъ.
(обратно)4
Повествование из 18-й главы книги Бытия.
(обратно)5
Киевский Красный Крест при начале Русско-японской войны сформировал военно-медицинский отряд, который и обустроил свой госпиталь возле Читы.
(обратно)6
На каторгу в Читинский острог были сосланы многие декабристы, которые в 1831 году построили здесь церковь.
(обратно)


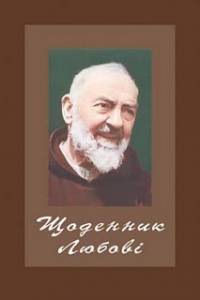




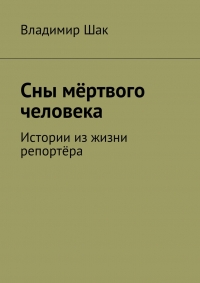
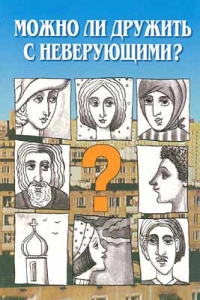
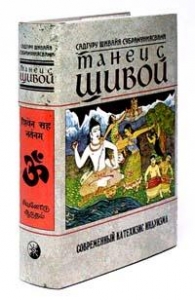

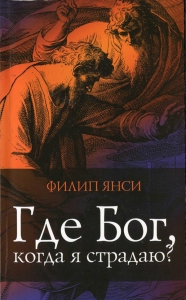
Комментарии к книге «Пасхальные люди. Рассказы о святых женах», Инна Андреева
Всего 0 комментариев