Джед МакКенна «Духовная война»
Предупреждение
Сим сообщаем, что:
Читая далее, читатель признаёт и соглашается с тем, что обсуждающееся здесь состояние Духовного Просветления не принесёт искателю-претенденту-жертве никаких выгод, благ, благословений или особых способностей, и имеет мало или ничего общего с различными нью-эйджевскими или другими западными его разновидностями, широко распространёнными под тем же названием. Оргазмическая эйфория, дикий кайф, неприличное богатство, отличное здоровье, вечный покой, вознесение на небеса, космическое сознание, чистая аура, астральные проекции, путешествия в другие измерения, сверхчувственное восприятие, доступ в хроники Акаши, глубочайшая мудрость, глубокомудрые манеры, лучезарный взгляд, всеведение, всемогущество, вездесущность и открытие третьего глаза вряд ли будут результатами чтения. Гармонизации, балансировки, настройки, наполнения энергией, разворачивания или открытия чакр не ожидается. Змею кундалини, обитающую в основании позвоночника, мы не будем будить, поднимать, тыкать, шуровать и вообще никак не будем к ней доматываться.
Никаких обещаний продвинуться, повысить самооценку, удовлетвориться или усовершенствоваться здесь не даётся и не подразумевается. А также потворствующие себе, эгоцентричные, поглощённые и довольные собой люди не найдут в сём удовлетворения. Читатель не должен толковать эту книгу как гарантию вознаграждения, экстаза, достижения, спасения, обогащения, прощения, или вечного помещения в райские кущи. Не надейтесь на возвышение, изменение, трансформацию, переход, перемещение, преображение, превращение, переселение или выход за пределы сознания.
Покупка или обладание этой книгой не гарантирует доступ к идиллическим или мифическим царствам, включая (но не ограничиваясь): Атлантиду, Элизиум, Эдемский Сад, Небеса, Три-девять земель, Нирвану, Рай, Землю Обетованную, Шамбалу, Шангри-ла или Утопию.
В этой книге широко используются аналогии и символизм. Термины вампиры, зомби, гусеницы, бабочки, царство сна, Майя и др. используются метафорически. А также, любое предположение, что читатель должен прыгнуть с небоскрёба, войти в геенну огненную, совершить ритуальное выпускание кишок или искупаться в бочке с серной кислотой не должны приниматься буквально. Предупреждаем читателя, что отрезание своей руки, выбивание глаза или отрубание головы может привести к серьёзной травме.
Поиск и достижение Духовного Просветления может повлечь за собой потерю эго, идентификации, человечности, ума, друзей, родственников, работы, дома, детей, машины, денег, драгоценностей, уважения, ограниченности во времени, плотности в пространстве, точного соблюдения общепринятых законов физики и смысла жизни.
Духовное Просветление, о котором здесь упоминается, является процессом и продуктом воли и самоопределения, не требующим доверия к или сотрудничества с: Богами, Богинями, Сатаной, невидимыми сущностями (ангельскими или демоническими), гуру, свами, пророками, мудрецами, святыми, попами, учителями, философами, феями, гномами, эльфами (любым видом маленьких человечков) и другими факторами или силами, не попадающими под власть эго.
Сердечный подход и качества, как правило, считающиеся основой Духовного Просветления, такие как любовь, сострадание, терпимость, благородство, спокойствие и миролюбие, будут рассматриваться здесь как прямо противоположные, обманчивые и не относящиеся к делу.
Искатель-претендент-жертва не нуждается в каких бы то ни было духовных практиках или системах верований, включая (но не ограничиваясь): буддизм, каббалу, индуизм, суфизм, даосизм, гностицизм, мусульманство, иудаизм, христианство, язычество, оккультизм, зороастризм, йогу, тай цзы, фен шуй, боевые искусства, белую или чёрную магию.
Искатель-претендент-жертва не нуждается в любых из так называемых духовных или ньюэйджевских принадлежностях, безделушках и амулетах, включая (но не ограничиваясь): кристаллы, драгоценные камни, семена, бусы, чётки, ракушки, благовония, свечи, колокольчики, гонги, куранты, алтари, иконы или идолы. Специальные одеяния, ювелирные изделия, украшения, татуировки или модные аксессуары не являются необходимостью для данного устремления.
Искатель-претендент-жертва не нуждается в благотворном влиянии любой из бесчисленных процедур и техник, стимулирующих просветление, включая (но не ограничиваясь): медитацию, смотрение на свечу, повторение мантр, подчинение гуру, стояние на одной ноге, странствование ползком, свободные полёты, наркотики, дыхательные техники, посты, скитания в пустынях, самобичевание, обет молчания, сексуальная распущенность или воздержание.
Искатель-претендент-жертва не нуждается в каких-либо духовных способностях, искусствах или науках, включая (но не ограничиваясь): астрологию, нумерологию, гадание, чтение таро или рун, создание мандалы, хождение по углям, психическую хирургию, автописание, ченнелинг, силу пирамид, телепатию, ясновидение, осознанные сновидения, интерпретацию снов, сверхчувственное восприятие, левитацию, билокацию, психокинезис или видение на большие расстояния. К тому же, фокусы, трюки или подвиги, как то стрельба из лука сидя на лошади, устойчивость к холоду, похороны заживо, материализация пепла или драгоценностей, хождение по углям или стеклу, лежание на стекле или гвоздях, протыкание лица или рук, колдовство и хождение по канату не имеют значения или заслуг в отношении Духовного Просветления, обсуждаемого здесь.
Встреча лицом к лицу с персональными демонами, глубоко засевшими страхами и пошаговый разбор личностной идентификации могут привести к учащённому пульсу, повышенному давлению, потере равновесия, потере двигательного контроля, изменению оттенка кожи, потере волос и зубов, потере аппетита, потере сна, потере контроля над выделениями, дрожи, усталости, короткому дыханию, рвотным позывам, снижению кислотности, диспепсии, запаху изо рта, диарее, себорее, псориазу, потоотделению, опухоли и обмороку. Эмоциональный переворот, сопутствующий открытию, что я сам являюсь выдуманным персонажем разыгрывающегося спектакля, может привести к одиночеству, мировой скорби, нетерпимости, злости, враждебности, негодованию, безнадёжности, унынию, самоубийственному отчаянию, болезненной депрессии и удушающему осознанию бессмысленности жизни.
Искателю-претенденту-жертве сим наставляется, что обучение древним культурам, путешествие в дальние страны или изучение иностранных языков нисколько не способствует постижению и достижению Духовного Просветления, здесь обсуждаемого, и что нет лучше места, чем здесь, и лучше времени, чем сейчас.
Эта книга не предназначена для употребления вовнутрь. В случае заглатывания вызывайте рвоту и скорую помощь. Не вставляйте книгу в отверстия в теле. Настойчивые попытки засунуть данную книгу в рот, глаза, уши, нос, вагину или прямую кишку могут привести к некрасивым выпуклостям на теле и болезненному ощущению жжения. Если симптомы не проходят, проконсультируйтесь с квалифицированным метафизиком.
Все персонажи, места и события, описанные в данной книге, являются абсолютно вымышленными, поскольку эта книга и вселенная, в которой она существует – абсолютный вымысел. Любое совпадение с реальными людьми, местами и событиями является чистым совпадением с реальными людьми, местами и событиями.
При создании этой книги с дельфинами не купались. Удаление этого предупреждения нелегально, так как запрещено законом. Батарейки не прилагаются. Будьте осторожны со своими желаниями. Действующее лицо Джед Маккенна продаётся отдельно.
Эта книга посвящается Кену Кизи
Поистине, я не достиг ничего полным просветлением.
– Будда –1. Великие моменты в истории просветления.
Когда мы вспомним, что все мы безумны, все загадки исчезнут и жизнь станет вполне объяснима.
– Марк Твен –Сколько духовных книг начинаются со сцены погони? Когда за просветлённым, пишущим эту книгу, гонятся полицейские?
Эти вопросы крутились у меня в голове, когда я заметил, что ещё несколько патрульных машин присоединились к преследованию. Некоторые уже неторопливо разъезжали по тёмным близлежащим улицам по мою душу, освещая фонариками дома и небольшие дворики.
Это было в маленьком курортном городке Новой Англии во время мёртвого сезона. Здесь были две гостиницы с причалами для яхт, ресторанами, барами, бассейнами, курсами гольфа и всем прочим; в двадцати милях отсюда находилось несколько горнолыжных баз, но зимой здесь не бывало много народу. В любом случае сейчас они были закрыты, поскольку скоро апрель и уже теплело. В городке было множество баров, и основным занятием местных служителей закона было отлавливать пьяных водителей и нарушителей спокойствия.
Я находился так близко от места сосредоточения полицейских, где часом ранее началось это представление, что мог слышать половину их разговоров. Я различал, что они говорили по рации, но хрипящих ответов было не разобрать. Многие из них были в замешательстве из-за неясной экстренности происходящего. Срочность в любом виде была здесь в диковинку. Сомневаюсь, что кто-либо из местных копов когда-нибудь доставал оружие при исполнении служебного долга. По существу, они были просто охранниками курорта – сотен летних домиков и поместий, расположившихся у подножия холмов, окружающих озеро.
Они ничего у меня не нашли бы – ни часов, ни бумажника, ни денег. Я просто прогуливался, и не стал нагружать карманы. Я не запер дом, который снимал, поэтому у меня с собой не было даже ключей.
Я люблю снимать дома в курортных городках в мёртвый сезон. Ты получаешь самое лучшее за меньшую цену, и когда почти никого нет. Правда, нельзя покататься на водных лыжах или на яхте, но я всё равно не охоч до развлечений. Я наслаждаюсь отдыхом на лыжных курортах летом, и на водных зимой. Именно этим я здесь и занимался. Уже три месяца я снимал дом, который в сезон стоил бы в восемь раз дороже.
Немногочисленные соседи, небольшое движение на дорогах, немного детей и собак, только тишина и уединённость. В полусонном городке на расстоянии недолгой и приятной прогулки, было несколько хороших ресторанов, которые были открыты, но не полны. Я был в часе езды от университетского городка, на тот случай, если мне понадобится что-то, чего здесь нет. Срок аренды моего дома истекал через пару дней, и тогда я закину свой скарб в рюкзак и чемодан и двинусь в путь. Дважды в неделю приходила женщина убираться в доме, так что мне не надо было беспокоиться даже об этом.
В общем, всё было прекрасно, жаловаться не на что. Куда я двинусь потом, решит очередной каприз. Паспорт у меня был с собой, и было заманчивое приглашение посетить одно место в Мексике, но в этом мире я мог бы отправиться куда угодно и зависнуть там на пару месяцев. Я ещё не решил.
Так вот, сейчас я сидел в темноте, прислонившись к дереву возле городского мемориального парка, расположенного на возвышенности, и наблюдал, как возбуждённо суетились полицейские. Они были на автостоянке, где и началась вся эта заваруха – рассматривали карты, пытались определить, кого они преследуют и зачем. Ни на один из этих вопросов ответа у них не было.
Был вечер четверга. Вернее, ночь пятницы, около часа. Я просто прогуливался, как много раз до этого. Вниз к причалам, вдоль по длинному песчаному пляжу, затем, перемахнув через забор, побродил по городу, разглядывая витрины на пустынных улицах, затем вверх в предместья, избегая домá, где, я знал, могли залаять собаки или мог включиться свет от датчиков движения. Далее обратно вниз на тропинку вдоль озера, которая должна была привести меня к окрестностям арендованного мной дома. Там неподалёку находился популярный бар, потом полоска набережной с причалами для лодок и лодочными ангарами, потом стоянка и небольшая лужайка. Пройдя через лужайку, я увидел двоих подростков, стоящих на пешеходном мостике, соединяющем стоянку с дорожкой вдоль озера. Они курили косяк, и заволновались при моём приближении. Я махнул им и улыбнулся.
— Просто прохожу мимо, ребята, – сказал я, и они расслабились.
Но потом вдруг снова напряглись. Я обернулся и увидел, почему. Две патрульные машины остановились в пятидесяти ярдах от них, очевидно, направляясь сюда.
— Чёрт, – воскликнул один из обкуренных. – Туши!
Двое полицейских вышли из машин и быстрым шагом направлялись в нашу сторону, лучи от их фонариков безумно плясали вокруг. В порыве вдохновения, являющегося отличительным признаком просветлённого мастера, я взвизгнул как девчонка, и пустился наутёк.
Это не было запланировано, просто так поступить мне показалось забавным. Я и правда подумал, что они схватят меня, не сделав и пятидесяти шагов, и всё будет кончено. Мне вдруг представилось, что я смогу наслаждаться вкусом свободы ещё лишь тридцать секунд, прежде чем запыхавшийся и серьёзно настроенный коп заставит меня грызть землю. Я просто прогуливался, на меня не заведено дело, в моих карманах, так же, как и в моей системе, ничего не было, поэтому они сообщили бы мне, какой я придурок, и отпустили бы. Если бы я вообще мог думать, я бы так подумал. Но ничего похожего не произошло. Никто за мной не погнался.
Пока.
Я взбежал по каменным ступенькам в мемориальный парк и был немного раздосадован, заметив, что меня никто не преследует, поэтому я прокрался назад, чтобы посмотреть, что происходит внизу. Подъехала уже третья патрульная машина. Копы оживлённо разговаривали с пацанами, указывали на лестницу, по которой я взобрался, и в направлении моего наблюдательного пункта. Возможно, они всё ещё были во мне заинтересованы. Я решил, что так и есть, потому что двое из них прошли по пешеходному мостику по направлению к лестнице, светя фонариками и осматриваясь. Пора удирать.
Я выбрался на дорогу и затрусил в сторону дома. Потом решил, что надо быть умнее, и немного развлечься. Мне было интересно, насколько серьёзны их намерения относительно меня. Обогнув живые изгороди, я оказался в укромном тупике. Там стоял заехавший задом грузовик, и, воспользовавшись его бампером и каменной стеной, я взобрался на гараж с плоской крышей. Пройдя по нему, и перешагнув через метровый забор из проволочной сетки, я забрался на боковую террасу другого дома. Домá здесь располагались ярусами от озера: два ряда домов, узкая улочка, затем опять два ряда домов, и так далее. Гаражи и ангары были низкими и плоскими, деревья стояли редко, так что отовсюду было прекрасно видно озеро. Здания и деревянные заборы были выкрашены в белый цвет, и стояла яркая лунная ночь. Когда я перебрался через одну улицу и три дома от озера, я остановился, чтобы посмотреть, что происходит. До сих пор я полагал, что полицейские идут за мной по пятам, и что, как бы ни было весело, всё могло закончиться. Я совершенно не смог бы объяснить свои юношеские шалости. Они пригрозили бы отправить меня на психологический тест или что-нибудь в этом роде, строго предупредили бы меня, и мы разошлись бы по своим делам. Вместо этого, я видел, как они всё ещё возле озера рыскали с фонариками по кустам и лодочным сараям. Их и близко не было.
Веселье окончено, подумал я, слегка разочарованный. На самом деле я не хотел убегать, и не знал, что мне делать со своей свободой. Я бы мог дойти до своего дома за три минуты. Вместо этого я пошёл назад в направлении городка по высокой дороге, что давало мне хороший обзор происходящего внизу. Когда я зашёл за поворот, ведущий к точке наилучшего обозрения, меня внезапно ослепил свет фар, и голос из динамиков выкрикнул какое-то приказание, которого я не разобрал, предположив однако, что мне намекнули не убегать.
И я убежал. Что я могу сказать? Свет фар напугал меня. Я подумал, что всё кончено, а, откровенно говоря, в последнее время мне было немного скучно. Полагаясь на свою единственную сверхсилу – гравитацию, я кубарем скатился в короткий проезд, потом по двору, через подпорную стену[1], вдоль забора, по террасе, пересёк улицу, потом передумал, побежал вдоль улицы, назад вверх по склону, через другую улицу, вдоль оград нескольких домов, вверх по дороге, вокруг дома, через низкий забор, сквозь дремлющий сад, пересёк ещё одну улицу, и наконец, оперевшись о детские качели, несколько минут я дышал по-собачьи.
Формально я всё ещё не совершил ничего предосудительного. Я не слышал ни одного приказания от полицейского остановиться. Кажется, машина с зажжёнными фарами приказывала мне что-то, но я не видел, был ли то полицейский, из-за ослепляющего света. Сомневаюсь, что кого-то сильно впечатлит такая защита здесь, в Мэйберри[2]-на-озере, но меня забавляло чувствовать себя жертвой – невинный человек, несправедливо обвинённый, загнанный до изнеможения и безжалостно затравленный представителями закона.
Это сейчас где-то происходит, кстати.
Я мог слышать голоса, звуки машин, хрипение раций, но не имел понятия, что там делается. Меня очень удивило, что одна машина была припаркована в ожидании меня. Я уж было подумал, что приключение сворачивается, а вот на тебе – они проводили операцию захвата. Интересно, сколько ещё машин задействовано? Я думал, что в городе не больше шести патрульных машин, и две или три из них патрулировали в этот вечер четверга. Была ли та машина, на которую я только что наткнулся, единственной, отправленной на поиски таинственного беглеца, или были другие? Я всё ещё был недалеко от своего дома, стоило только пересечь пару улиц и дворов, и через пять минут я мог бы уже принимать ванну, но в этом было что-то незаконченное, и это казалось неправильным.
Во дворе был довольно приличный шалаш на дереве, где я поиграл в ниндзя. Проверив на прочность сколоченную маленькую лесенку, я забрался на нижний помост, где меня трудно было обнаружить. Вдруг я услышал хруст гравия и увидел патрульную машину, медленно ползущую по улице с потушенными фарами, окна открыты – присматриваются, прислушиваются. Я вспомнил о том трюке, когда бросаешь что-нибудь в сторону, чтобы отправить преследователей в ложном направлении, но я бы сам не купился на это, и думаю, они тоже. Всё равно, они даже фонариками не пользовались, только ползли и прислушивались.
Я хорошо знал все эти улицы благодаря своим прогулкам. Я знал, в каких домах было освещение на датчиках движения, и из каких был хороший обзор. Я был всего в двух сотнях ярдов от большого дома, с главной террасы которого открывался самый лучший вид на окрестности, озеро и городок. Я спрыгнул с дерева, выбежал на дорогу, потом по главной улице, выходящей ко всем окрестным улицам, ведущим из городка, добежал до того дома. От задней двери возле дороги по винтовой металлической лестнице я залез на террасу и припал к земле за перилами, чтобы посмотреть, что видно.
Я видел, как одна машина ползла по улице, другая была припаркована там, где дорожка вдоль озера покидала летние домики и шла вдоль более дорогих особняков, перекрывая этот путь побега. Внизу в районе стоянки, где впервые появились полицейские машины, сквозь деревья мелькали отблески света и металла, но я не заметил ничего особенного. Вот примерно в это время мне как-то с запозданием пришло в голову, что я понятия не имею, что делаю. Я развалился на тиковом шезлонге, на котором было удобно даже без подушек, и стал размышлять о глупости своего положения. Я смеялся и смотрел на звёзды, и дал глубокому чувству удовлетворения омыть себя. Вот моя жизнь, подумал я. Я говорю и пишу о духовном просветлении, я путешествую по свету, бываю в интересных местах, я убегаю от полицейских, вторгаюсь в чужие владения и гляжу на миллионы звёзд. Это моя жизнь – чокнутая, восхитительная и самая лучшая жизнь, чем когда-либо у кого-либо была.
Минут пятнадцать я лежал, возможно, в лёгкой дрёме, довольный, весёлый. Вечер удался на славу, хорошее завершение моего пребывания в здешней местности. Я решил пойти домой, принять душ и лечь спать. Я встал и вытянулся во весь рост, приятно подмёрзший и жаждущий попасть домой и согреться, когда луч фонарика, чуть поколебавшись, уставился на меня.
«Какие глупые люди, – пробормотал мой сонный ум, – неужели они не знают, что мы закончили игру?
Теперь я просто хочу пойти домой. Всё. Спасибо за приятно проведённое время, ребята».
Очевидно, они об этом не знали. Они думали, что мы всё ещё играем, и казались не очень-то игриво настроенными. Я бы даже сказал, они были настроены довольно серьёзно. Кто-то выкрикнул приказание с использованием недетских слов. Моё утончённое состояние внутренней гармонии было нарушено, и погоня возобновилась.
Я проследовал вокруг дома, пересёк лоскутик двора и вскарабкался по подпорной стене на вышележащую улицу. Оказавшись на дороге, я остановился и прислушался, нет ли поблизости полицейской машины. Чтобы попасть на ту улицу, где находился я, они должны были либо развернуться, либо проделать более долгий путь вверх до крутого поворота. В любом случае они направлялись сюда, поэтому я развернулся и пошёл обратно по своим следам вдоль стены дома, через террасу и вниз по винтовой лестнице, где меня было хорошо заметно. Моя куртка была светлого желтовато-коричневого цвета, она практически сияла в лунном свете, так что я снял её и припрятал на обочине в кустах живой изгороди, чтобы забрать завтра, если завтра когда-нибудь наступит.
Теперь я слышал переговоры по рации, и мог видеть и слышать, что подъезжают ещё полицейские машины. Я понял, что некоторые рации, звуки которых я слышал, были у пеших патрульных. Вглядевшись во тьму, я различил свет сигнальных огней ближе, чем на комфортном расстоянии.
Я затрусил вдоль дороги, придерживаясь края проезжей части возле изгородей. Бежать было не так уж весело, и это не было частью какого бы то ни было разумного плана, поэтому я остановился и стал прикидывать, какие у меня есть варианты. Теперь я был отрезан от дома, так что ванну и постель можно было отбросить. Я мог бы просто перестать играть – сесть и ждать их появления в надежде оказаться в своей тёплой постели до рассвета. Я стоял там, размышляя об этом, и ждал, когда правильность заявит о себе, как вдруг изза угла на расстоянии двадцати метров появился пеший полисмен, и правильность тут же дала о себе знать.
Он меня не заметил, и я, на цыпочках перейдя дорогу, по ступенькам вдоль стены небольшого гаража залез на плоскую, покрытую гудроном и мелким щебнем крышу. По её периметру шла стенка высотой в фут, поэтому я мог оставаться в лежачем положении и наблюдать, что происходит внизу. Показался полисмен, размахивая лучом фонарика из стороны в сторону – по подъездным дорожкам, по кустам, по деревьям. Слышно было, как по рации кто-то говорил, чего я не мог разобрать, но я расслышал одно слово «окружная», и это меня немного обеспокоило. Я понял, что на помощь были подняты все местные полицейские, да ещё была вызвана полиция округа. Это показалось мне чересчур, но со мной никто не советовался.
Мне нравился мой гаражный насест, но я был совершенно открыт сверху и сзади, поэтому оставаться здесь я не мог. Когда полисмен прошёл, я слез назад и пошёл вслед за ним. Это казалось неплохой идеей, пока, не заметив, что он остановился, я не подошёл слишком близко и не шаркнул гравием. Он направил фонарик на меня, что-то прокричал, и я вновь кинулся бежать. С треском проломившись сквозь заросли живой изгороди, я пробежал вдоль стены дома и вдоль подпорной стены из железнодорожных шпал между домами. Полисмен поймал меня в луч фонаря, находясь в десяти метрах от меня. Я нырнул на следующую улицу и оказался возле вершины горки для катания на санках – шестидесятиметровый деревянный скат для спуска вниз на озеро во время мороза с параллельной лестницей для подъёма обратно. Раздумывая, куда дальше бежать, я получил подсказку из наклейки на бампере ближайшей машины. «Как поступил бы Иисус?» спрашивала она, и ответ пришёл мгновенно. Он схватил бы крышку от мусорного бака и спустился бы на ней по деревянной горке к озеру и свободе. Конечно, у Иисуса скорее всего был бы куда лучший в санитарном отношении план, чем у меня.
Вместо этого, я побежал назад на вершину холма в парк, чтобы посмотреть, как развиваются события и решить, что делать. Я добрался туда в целости и уселся под деревом, наблюдая за тем, что происходит внизу, и переводя дыхание.
Наверное, вы думаете, что просветлённый мастер должен быть безукоризненным примером хладнокровия и безмятежности, человеком совершенного равновесия и сдержанного изящества, излучающим любовь и сострадание, испускающим атмосферу спокойствия и невозмутимости, высшее существо, живущее незатронутым мелкими проблемами и неприятностями повседневной жизни. Я думал о том же, прислонившись к дереву и размышляя над абсурдом своего положения. «Да, – думал я, – это не очень-то по-просветленски».
***
Когда я не знаю, что делать, я не делаю ничего, что я и сделал. Я сидел и наблюдал, не делая особенных попыток спрятаться или продолжить игру.
Приключение началось около часа тому назад. Внизу на стоянке было четыре полицейских машины, другие подъезжали и уезжали. Уже вызвали полицию округа, и я подслушал разговор о вызове полиции штата, но очевидно они не хотели поднимать слишком уж много шума, не зная, кого они преследуют и почему.
Мне было любопытно и немного грустно видеть, что полицейских это вовсе не забавляло. Знаю, я до смешного плохо сведущ в отношении людей, но мне и правда было не понятно, почему они так расстроены. Стояла прекрасная ночь – множество звёзд, прекрасная луна, прихватил небольшой морозец. Они занимались всякими полицейскими штучками – рыскали по тёмным улицам с фонариками и пистолетами, искали какогото таинственного нарушителя, игрались с картами и микрофонами, создавали планы поиска. Реальная охота на человека. Приятное отступление от обычной тягомотины с драчунами в барах и пьяными водителями. Я не понимал, что такого плохого во всём этом, но, как я сказал, я вообще плохо понимаю людей. В общем, весёлыми они не выглядели.
После нескольких минут наблюдений и размышлений, я понял, что с меня хватит, и тихо спросил вселенную, что мне делать. Ответ пришёл чётко и быстро. Я услышал, как главный окружной полисмен принял решение выпускать собак. Один из его людей пошёл, чтобы сообщить об этом по рации. Это и был мой ответ. Мне совершенно не хотелось, чтобы всё заходило так далеко, поэтому я встал, отряхнулся, и спустился с холма, чтобы представиться:
— Привет, ребята, – сказал я, прерывая их сутолоку возле карты, – кажется, я тот, кого вы ищете.
Внезапно, пистолеты. Много.
Мне было приказано положить руки на капот полицейского джипа, стоящего ближе всех ко мне. Довольно полный коп средних лет с сержантскими нашивками появился непосредственно справа от меня, направил пистолет к моей голове на расстоянии фута и с трепещущей искренностью проговорил:
— Не дёргайся. Одно неверное движение, ублюдок, и я снесу твою ублюдочную башку.
Не каждый день вам делают такие предложения.
Вот это было действительно забавно – я не двигался. Именно об этой части я нахожу наиболее интересным и стоящим упомянуть здесь в рассказе об этом эпизоде. Мне нестерпимо хотелось двинуться. Смех стремился вырваться наружу, но каким-то образом я смог удержаться и пресечь видимое движение. Я смеялся не над полицейским, не над мелодрамой, не над абсурдностью. Я смеялся, потому что вот он, неожиданный, но абсолютно очевидный выход. Ни беспокойства, ни беспорядка, легче, чем щёлкнуть выключателем. Просто поверни голову и крикни "Буу!", и превосходный весёлый конец будет безболезненно обеспечен в тот же миг.
Неужели ради этого была вся эта беготня? Уже пора? Я видел совершенство ситуации, и наблюдал, как побуждение принять великодушное приглашение полицейского быстро возникло из глубины и подошло так близко к поверхности, что первое его проявление – смех – стало уже явным, но затем, какой-то странный, необъяснимый заступнический фактор или механизм отменил неминуемый снос башки, которую я уже чувствовал на своих плечах. Вместо этого я просто произнёс: – Окей, док.
***
Как много духовных книг начинаются таким образом?
2. Вне пространства и времени.
Вселенная порой кажется мне бесконечно странной и незнакомой. В такие моменты я гляжу на неё со смесью боли и эйфории – отдельный от вселенной, словно помещённый на каком-то расстоянии вне её; я смотрю и вижу картинки, созданий, которые движутся как бы вне пространства и времени, издавая звуки, похожие на язык, который я больше не понимаю и даже не регистрирую.
– Юджин Ионеску –Остаток ночи и раннее утро были не такими весёлыми, хотя и не неприятными. Никто не таил злобы и не относился ко мне как дерзкому наглецу, как можно было бы ожидать. Сержант был раздражён главным образом тем, что ему пришлось вытаскивать из постели городского прокурора, чтобы выяснить, какое обвинение мне можно предъявить. Сложность состояла в том, что, ко всеобщему удивлению, я не совершил ничего противозаконного. Но это не имело значения – они ни за что бы меня не отпустили, не обвинив в чёмлибо. Заметив, что они лезут из кожи вон, чтобы выдумать обвинение, я заверил их, что скоро покидаю здешние места и вряд ли вернусь ко дню суда. Похоже, это немного сняло напряжение.
Тем не менее мне пришлось провести четыре часа в полицейском участке, пока они подбивали все данные. Обстановка была довольно неформальной: без наручников, лёгкий обыск, несколько вопросов. Никаких отпечатков пальцев и фотографирования. У меня не было с собой бумажника, и я не мог доказать, кто я, что их не сильно беспокоило.
— Отвезите меня домой, и я возьму бумажник, – предложил я. – Вы, вероятно, собираетесь наложить на меня штраф, и мне всё равно потребуются кредитные карты.
— Мы не принимаем кредитных карт, – проворчал сержант.
— Тогда вам придётся отвезти меня к банкомату возле озера, – сказал я. Затем, чтобы не дать им переоценить свою щедрость, добавил: – Но мой дневной лимит составляет сто баксов. Если будет больше, то, полагаю, мне придётся немного у вас погостить.
Эта маленькая хитрость сработала, и штраф в конце концов оказался в сто баксов. Поди разберись.
— Разве у вас нет стандартного обвинения на всякий случай? – спросил я. – Нарушение покоя, противодействие официальным властям, непристойное поведение, что-нибудь вроде этого?
Это вызвало лишь ещё большее ворчание. Каким бы в конечном итоге ни было обвинение, мы все знали, что это лишь формальность – они должны мне что-то предъявить, а я должен что-то заплатить, и это нужно было сделать так, чтобы отпустить меня этой ночью, и поставить на этом точку – ни суда, ни адвокатов, ни расследования.
Ну, хорошо. У меня уже глаза слипались.
Большого полисмена по имени Бен послали отвезти меня домой, к банкомату за наличными и назад. Я ехал на переднем сидении, не как арестованный. Он подождал, пока я ходил за бумажником. Это был благовоспитанный парень, типа бывшего студенческого полузащитника, которому не терпелось восстановить подробности сегодняшней ночной охоты.
— Я почти догнал тебя там, возле горки для санок, – сказал он гордо.
— А, это был ты? Да, ты был чертовски близко. Что ты там прокричал? Я совсем не разобрал.
— Да, – он добродушно засмеялся. – Я начал кричать «Ни с места!», но это показалось слишком киношным, и я посредине сменил на «Стоять!», но не смог до конца выговорить. Получилось что-то типа «Нисмьстоя!»
— Да, – согласился я, – что-то типа того.
— Куда ты делся? Я думал, что почти догнал тебя.
Пора соврать. Каждый в полицейском отделении занимался подобного рода возбуждённым пересказом погони и своей роли в ней. В городке, подобном этому, сегодняшние события будут вспоминаться и обсуждаться годами – все достали оружие, была задействована окружная полиция, уже собирались вызывать собак и вертолёты, убийственные слова были сказаны всерьёз. Оказалось, правда, что беглец не был в действительности преступником, но никто не знал об этом, когда всё происходило. Это мог быть реальный головорез.
— Да, ты был совсем близко, – сказал я ему. На самом деле, я нырнул за живую изгородь, посмотрел, как он неуклюже протопал мимо, и пошёл туда, откуда он появился. – Я думал, ты легко меня догонишь, но я бежал сломя голову и спрятался в детском шалаше на дереве, пока всё не успокоилось. Его это удовлетворило. Эту историю он может рассказать.
***
— Сержант приставил пистолет к вашей голове и сказал, что застрелит вас, если вы двинетесь? – спросила Лиза, опуская только что прочитанные страницы.
Со времени тех событий прошёл месяц, и мы сидели за моим письменным столом возле бассейна в небольшом имении в Мексике, где мы вместе жили.
— Да, а что? – я поднял голову от ноутбука, посмотрел на озеро и горы и потёр глаза. – Что в этом странного?
— Не знаю, – сказала она, – звучит как-то театрально.
— Ему пришлось тянуться через всю свою тушу и поддерживать живот одной рукой, чтобы другой он смог достать пистолет. Это было не так уж театрально.
— Вы испугались?
— Чего?
— Ну, не знаю, э, что вам снесут голову?
Я пожал плечами.
— По-моему, это напугало меня меньше всего.
— Господи, какой вы странный человек.
Я снова пожал плечами.
***
На протяжении нескольких месяцев, что я жил в том маленьком курортном городке в Новой Англии, в моей голове начала формироваться идея, что может понадобиться третья книга – что есть ещё важные невысказанные вещи, и другие вещи, которые высказаны, но не полностью исследованы. Когда я закончил первую книгу «Духовное просветление – прескверная штука», я испытал облегчение, выведя её из своей системы и покончив с ней. Но это продлилось недолго. Вторая книга, «Духовно неправильное просветление», показалась на горизонте – мы написали и эту. И снова я почувствовал, что вывел её из своей системы, и больше не будет необходимости писать, то есть, что в итоге я покончил с учительством, переписками, писательством, и со всеми духовными вещами. Затем, за несколько месяцев до происшествия с полицией, это опять началось. Я ничего не вынашивал, но с самых ранних шевелений понял, что это выживет, и в конце концов надо будет писать третью книгу. Я не делал ничего, чтобы потворствовать этому – просто позволил сидеть в своей голове, пока оно само не умрёт либо останется жить.
Аргументом против написания третьей книги было то, что я давно уже был вне духовного настроя ума и учительского образа мыслей, и не жалел об этом. Я больше ни с кем не общался на эти темы, и это больше не присутствовало в моих мыслях. Оно вышло из моей системы и из окружающей меня среды, и ничто не предвещало, что я снова войду в мир человеческой духовности. Откуда взяться третьей книге?
Более того, моя собственная связь с человеческим состоянием до пробуждения стала настолько эфемерной, что я сомневался, что третья книга вообще возможна. Слишком выросла пропасть между парадигмами. Я даже уже не помнил, что из себя представляет жизнь на той стороне. Моя жизнь уже настолько отдалена от того, что большинство людей называют реальностью, что они практически не пересекаются. Я вижу людей так, как люди видят шимпанзе – с такого же эволюционного расстояния. Мои воспоминания о состоянии до пробуждения теперь так же далеки и имперсональны, как и воспоминания о втором классе. Я упоминал об этом постепенном распаде моей «личности царства сна» в обеих книгах. Тогда я ещё пытался удерживать связь, но после второй книги, я всё отпустил, и теперь она почти исчезла.
Одним из аргументов в пользу написания третьей книги было то, что это могло бы предоставить обрамление для моих действий – контекст, в котором я мог бы что-то делать, и причину для этого. Все контексты искусственны, конечно, но какая мне разница? Мне нравится жить, но веселее, когда есть во что поиграть. Одной из таких игр является записывание мыслей для воображаемой аудитории.
Итак, я заключил стандартную сделку со вселенной. Если ты хочешь, чтобы я написал книгу, выложи её передо мной, и я сделаю это. Я не собираюсь гоняться за ней. Я не собираюсь выдумывать, что писать. Это было бы искусственно и эгоистически. Я бы не смог так поступить, и из этой затеи ничего бы не вышло. Я ничего не знаю о том, о чём ты меня просишь, но я хочу ясного понимания между нами: если ты хочешь третью книгу, я напишу её, но это произойдёт лишь в единственном случае – если ты возьмёшь её организацию на себя. Вложи её мне в руки.
Заключать такие сделки со вселенной для мне не ново. Мы отлично понимаем друг друга. Я знаю, как говорить, и знаю, как понимать, что мне говорят. Образы, знаки, лёгкие изменения в правильности и неправильности, поток и непроходимость – так это работает. Я говорю так, будто я и вселенная – это две разные вещи, но на самом деле я говорю об отсутствии этого искусственного разделения. Это одна из тем, которые мы поближе рассмотрим в этой книге. Именно об этом каждый хочет знать и именно к этому приобщиться – безусильное функционирование, прямое знание, воплощение изобилия, здоровья, процветания, счастья. Поймите, как работает вселенная, вновь слейтесь с ней, научитесь действовать в сонаправленности с ней, и вам будет стыдно вспоминать, что когда-то вы думали, что Альбус и Оби-Ван[3] обладают чудесными силами.
Есть множество книг о том, как воплощать наши желания, находясь в отделённом состоянии «человека-ребёнка» – как использовать молитвы, ворожбу, аффирмации, законы привлекательности для того, чтобы получить лучший дом, более быструю машину, совершенную пару, и так далее. В этой книге мы будем обсуждать переход к интегрированному состоянию «человека-взрослого» и развитие внутри него, так что молитвы, ворожба, аффирмации и законы привлекательности станут излишними, подобному тому, как обман становится излишним, когда ты знаешь ответ.
Когда начальное соглашение по поводу третьей книги было готово, другие вещи стали выстраиваться по порядку, и проект начал проясняться. Во-первых, третья книга казалась необходимой. Было что ещё сказать важного, может быть, самое важное, и оставлять это невысказанным значит навсегда лишить весь проект ощущения завершённости.
Во-вторых, книга уже начала падать мне в руки. Я знал, какие будут основные темы уже с первых минут размышлений о ней. Также, примерно в это же время, я обратил внимание на папку, полную писем от одного профессора колледжа, ныне пенсионера, который, как я понял, обладал очень смелым умом и специфической библиотекой. Он жил в Мексике и в каждом своём письме приглашал меня к себе воспользоваться его прекрасными видами и книгами. В последних письмах он писал о своей дочери и её браке, потерпевшем крушение. Профессора звали Фрэнк, а его дочь – Лиза. Фрэнк недавно потерял жену, а Лиза недавно потеряла себя. Сейчас она была одной из тех, кто помогал мне в написании третьей книги. Это она думает, что я странный человек.
***
— То, что вы здесь говорите о вселенной, – сказала Лиза, прочитав первый черновик предыдущих страниц, – звучит как, не знаю, мне кажется, я не вижу того совершенного порядка, о котором вы говорите.
Всё, что я вижу, – это случайность и хаос везде. Я не вижу никакого реального порядка.
Странно – чтό для меня так просто и очевидно, может быть совершенно незнакомо и непостижимо для других.
— Когда ты спишь во сне, который мы зовём реальностью, – сказал я, – то кажется, что господствуют хаос и случай, будто в любой момент может произойти что угодно. Когда же ты пробуждён, когда ты открываешь глаза и начинаешь видеть напрямую, вместо того, чтобы воображать из-под закрытых век, тогда ты начинаешь понимать, как всё в действительности работает – что безупречный, совершенный разум управляет каждой деталью этой сонной реальности, от самой большой до самой малой. Во всём порядок, последовательность, разум, и не может быть нарушений или ошибок.
Она посмотрела на меня пронзающим взглядом прокурора.
— И вы более сонастроены с этой совершенной вселенной, чем большинство людей?
— Я искусственно не отгораживаюсь от неё, как большинство людей.
Я сидел на своём рабочем месте на свежем воздухе с Лизой и двумя другими людьми, помогавшими мне в тот момент, и поражался, как часто это со мной бывает, насколько странны и неправдоподобны люди. Словно я вообразил во сне эти двумерные персонажи, и странно, что я не смог лучше справиться с этой задачей. Они были похожи на роботов, облечённых в плоть, работающих на устаревших программах, неспособных адаптироваться, эволюционировать, развиваться в соответствии со своими возможностями, которые, по всей видимости, были полностью для них открыты. Они обладали огромными запасами знаний и полноценной способностью мыслить. Они компетентно управлялись со всеми сложностями жизни – семья, здоровье, карьера, духовность, домашние дела – изо дня в день, из года в год. Они были умны, зрелы, интеллигентны, добры, честны и довольно характерны, в широком смысле, для людей в любом уголке западного мира. И тем не менее, когда я начинал говорить с ними о самых основных, неотъемлемых фактах жизни, я получал в ответ подозрительные взгляды и бессвязный скептицизм. Рост, взросление, энергетические модели, поток и затор, желание и воплощение – эти темы должны были полностью поглотить наше внимание к десяти годам, как язык матери, но вот мы, группа предполагаемых взрослых, кое-как можем подобрать пригодный лексикон настоящей взрослости.
На первый взгляд, я не самый подходящий кандидат на эту роль. Я не тот, посмотрев на кого в школе, вы бы сказали: «О, да у этого парня на лбу написано просветление». Во мне есть лишь необходимые мне качества, но ничто не указывает на то, что я могу быть одним из немногих, нашедших ответы, которые человек ищет с незапамятных времён. Но, отставив в сторону истину и просветление, я – развитый и развивающийся Взрослый Человек. Я знаю, как с взаимодействовать со вселенной, я обладаю интегрированными с ней взаимоотношениями, которые настолько подвижны и легки, настолько волшебно и бесконечно восхитительны, настолько естественны и органичны, что когда я вижу ярких, способных, честных и открытых людей, мне приходится напоминать себе, что моя реальность, моя надёжная, счастливая, со-творческая вселенная им совершенно неизвестна и чужда. Моя жизненная реальность так же абсурдна для них, как и их для меня. То, что я теперь считаю нормальным повседневным функционированием, большинство людей сочло бы низкопробным кино, не имеющим ничего общего с «реальной» жизнью. Даже хотя сидевшие со мной люди выглядели как я, ходили и разговаривали как я, и казалось, занимали пространство всего в нескольких футах от меня, мы обитали в совершенно различных и не связанных друг с другом ареалах бытия.
В следующих нескольких главах мы кое-что повторим и сделаем предварительный обзор, но пока я хочу представить это различие. Это не имеет ничего общего с просветлением или реализацией истины, это имеет отношение к тому, чтобы быть естественно развитым человеческим существом, а не духовно остановившимся в росте, отставшим в развитии человеческим существом – Человеком-Взрослым, а не Человеком-Ребёнком. Практически всё, что следует знать или чему следовать относительно роста, духовного или любого другого, касается совершения этого перехода и затем продолжения развития всю жизнь. Такова жизнь в реальности, и никто не знает об этом. Я говорил, что величайшие мужи и жёны, когда-либо жившие на земле, на мой взгляд лишь дети в песочнице – вот что это значит. Это должно, и, казалось бы, могло, быть взглядом каждого человека. Вы читаете эту книгу, значит, вы, конечно, считаете, что это могло быть вашим взглядом. Каждый в состоянии Человека-Ребёнка, кроме человеческого ребёнка, не должен иметь иного интереса, кроме освобождения от подавляющих дух эмоциональных цепей, возвращения себе законных прав и достойной жизни. Уделять внимание чему-либо другому, значит прятаться от реального путешествия.
Лиза, которая сидела со мной, и которая будет с нами на протяжении всей книги, недавно невольно начала сбрасывать свои цепи, будучи совершенным новичком в духовности. Боб, с которым мы встретимся позже, был давним духовным экспертом и автором, который мог со знанием дела говорить обо всём, от адвайты до дзен. К концу этой книги Лиза завершит переход во Взрослость и продолжит в нём своё развитие, в то время как Боб останется погрязшим в своих книгах, знаниях и эгоизме.
Если, конечно, они вообще существуют, а не являются лишь призрачными видениями, обитающими в мире моих фантазий – на сей счёт я ничего не могу сказать.
3. Вся истина.
Да, я определённо мудрее, чем этот человек. Совершенно очевидно, что никто из нас не может похвастаться каким-либо знанием; но он думает, что знает нечто, чего он не знает, тогда как я прекрасно осознаю своё невежество. Во всяком случае, я, похоже, мудрее его в той небольшой степени, что я не думаю, что знаю то, чего не знаю.
– Сократ –Что вы знаете?
Нет, правда. Что вам известно с абсолютной определённостью?
Отложите на минуту в сторону все мнения, верования и теории и задумайтесь над этим простым вопросом: что вы знаете наверняка? Или, как сказал Торо:
Давайте возьмёмся все вместе и будем месить ногами грязь и слякоть мнений, предубеждений, традиций, заблуждений, видимости, всего наносного, что покрывает землю, в Париже и Лондоне, в НьюЙорке, Бостоне и Конкорде, в церкви и государстве, в поэзии, философии и религии, пока не достигнем твёрдого каменистого дна, которое сможем назвать реальностью, и скажем: вот оно есть, без сомненья.
Другими словами, давайте счистим всю шелуху и выясним, что мы знаем наверняка. Cogito[4] делает это очень точно и просто.
Вопрос: Что ты знаешь?
Ответ: Я Есть.
Все другие так называемые факты в действительности фактами не являются и принадлежат к категории консенсусной реальности и относительной истины, то есть, нереальной реальности и неистинной истины.
Cogito ergo sum – это уравнение, которое доказывает факт. Но сначала, прежде чем пойти дальше, давайте спросим, что ещё мы знаем. Что ещё можно утверждать с определённостью?
Ничего. Мы больше ничего не знаем. И это реальный смысл cogito. Важность Я Есть не в том, что это факт, но в том, что это единственный факт.
Я Есть – это единственное, что кто-либо когда-либо знал или будет знать. Всё остальное – все религии, философии и науки – не могут быть ничем иным, как интерпретацией сна. Нет другого факта, кроме Я Есть.
Cogito – это зерно мысли, которая уничтожает вселенную. За пределами cogito нет ничего известного. За пределами cogito ничто не может быть известным. Кроме Я Есть никто ничего не знает. Ни человек, ни бог не может заявить, что знает больше. Не существует, и даже нельзя вообразить ни бога, ни сонма богов, который знал бы больше, чем только это: Я Есть.
***
Невозможно не позволить этой теме ненадолго окунуться в Ветхий Завет. Когда Моисей спросил у Бога его имя, Бог ответил: «Я есть то, что Я Есть». Имя, которое даёт себе Бог – Я Есть.
Заметьте, что Я Есть не спрягается[5]. Оно не допускает вариантов. Бог не говорит «Меня зовут Я Есть, но ты можешь звать меня Ты Есть, или Он Есть». Cogito – провозглашение Я Есть – не распространяется за пределы собственного субъективного знания. Я могу сказать, что Я Есть, и знать это, как истину, но я не могу сказать «ты есть», «он есть», она, они, оно и т.д. Я знаю, что я существую, и ничего больше. Понимая это таким образом, Я Есть, он же Бог, поистине альфа и омега – полнота существования, знания, тебя.
Cogito – это граница между фантазией и реальностью. С одной стороны – вселенная верований, идей и теорий. Чтобы пересечь эту границу, нужно всё это оставить позади. Ни одна теория, концепция, вера, мнение или рассуждение не может иметь возможной основы в реальности, когда дерево cogito полностью проросло в ваш ум. Никакой диалог не возможен через эту границу, так как ничто, имеющее значение на одной стороне, не имеет значения на другой.
Все думают, что понимают cogito, но его никто не понимает. Даже сам Декарт не понимал его. Если бы профессора философии действительно понимали cogito, они не были бы профессорами философии. Альфред Уайтхед говорил, что вся философия – это комментарии к Платону, но вся философия, включая Платона, становится ненужной и неуместной благодаря Декарту. Ничто, кроме субъективного Я Есть, не может быть истинным, так какой смысл продолжать эту болтовню? Здесь действительно больше нечего добавить.
Cogito – это не простая мысль или идея, это вирус, пожирающий эго, который, если мы сможем снизить свою сопротивляемость ему, в конечном итоге уничтожит всю иллюзию. Если мы знаем cogito, мы можем начать систематически отбрасывать то, что, как нам кажется, мы знаем, и распутывать «я», которым, как нам кажется, мы являемся. Чтобы понять cogito поверхностно, требуется около минуты. Чтобы позволить ему поглотить вас целиком и полностью, может потребоваться много лет.
Жизнь – всего лишь сон. Нет такой вещи как объективная реальность. Двойственность невозможно доказать. Нельзя показать, что что-либо существует. Время и пространство, любовь и ненависть, добро и зло, причина и следствие – всё это просто идеи. Любой, кто говорит, что что-то знает, в действительности заявляет, что не знает единственной вещи. Любое утверждение, отличное от Я Есть, притязающее на истину, – это признание в невежестве. Величайшие религиозные и философские мысли и идеи в истории человека содержат не больше истины, чем блеяние овцы. Величайшие книги не более авторитетны, чем вкуснейшие завтраки.
Никто ничего не знает.
Попробуйте доказать обратное самостоятельно. Любой, кто захочет опровергнуть эти утверждения о значении cogito, должен просто доказать, что что-либо, всё равно что, истинно. Любыми средствами, попробуйте – разбейте себе голову, но у вас ничего не получится. Cogito подобен коктейлю Молотова, которым можно подорвать свой ум, спасаясь знанием, что истина не горит. Это, однако, не конец путешествия к пробуждению.
Это только начало.
4. Краткий повторный обзор.
Самая большая проблема в общении – это иллюзия, что оно имело место.
– Джордж Бернард Шоу –Вы можете пропустить эту главу, но если при дальнейшем чтении вам станут непонятны использующиеся нами термины и концепции и отношения между ними, вернитесь сюда, где всё объясняется. Если вы не читали мои первые две книги, вам непременно стоит задержаться здесь на пару минут.
Парадигма «царство сна[6]»
Реальность – это просто иллюзия, хотя и довольно навязчивая.
– Альберт Эйнштейн –Реальность, которую мы воспринимаем и переживаем – это договорная реальность. Её ни в коем отношении невозможно отличить от сна.
Духовное просветление
Если у вас есть выбор между просветлением и миллионом долларов, берите миллион долларов! Потому что если вы возьмёте миллион долларов, кто-то будет наслаждаться миллионом долларов; но если вы возьмёте просветление, не будет никого, кто смог бы им насладиться.
– Рамеш Балсекар –Вначале необходимо понять, что «Духовное Просветление» – чрезвычайно неудачный термин (термин, но не состояние, хотя и в состоянии нет ничего такого, что можно было бы порекомендовать). Никто, находящийся в этом состоянии, никогда не назовёт его Духовным Просветлением, однако ни одно другое состояние не заслуживает этого термина.
Кто-то может поспорить, что определённые неординарные состояния, как «Космическое сознание» или «Божественное сознание», стόят этого знаменитого обозначения, и если бы они были более постоянны, чем состояние «Гогочущего сознания», я мог бы с этим согласиться. Мой бывший облигационный брокер более тридцати раз переживал прямое, безвременное единство с Божественным умом, а сейчас он лишь ещё один Ванька Пупкин, толкающий продукты и катающийся на американских горках, поэтому я вижу это так: если это не постоянно, значит это просто ещё один аттракцион в парке.
Духовное Просветление – это состояние, в котором эго свободно от всех заблуждений, включая само эго. «Реализация истины» – ещё один подходящий термин для описания этого состояния. «Разоблачение лжи» – более точно, но менее используемо. «Постоянное пребывание в недвойственном сознании» тоже имеет свои плюсы.
Процесс становления просветлённым – это намеренный акт самоуничтожения. Ложное «я» совершает убийство, и оно же погибает – самоубийство во всех смыслах, кроме физического. А поскольку не существует истинного «я», чтобы заполнить пустоту, возникшую в результате ухода ложного «я», то никакого «я» не остаётся. Отсюда правильно будет сказать, что «не-я» – это «истинное я».
Невозможно осознанно выбрать или желать Духовного Просветления. Желать его, значит неверно понимать его. Эго не может желать своего отсутствия. Процесс пробуждения происходит не из любви к истине, а из ненависти ко лжи – ненависти такой силы, что она сжигает всё, ничего не жалея.
Майя – архитектор иллюзии
Как только человек на мгновенье пробуждается и открывает свои глаза, все силы, заставлявшие его заснуть, начинают воздействовать на него с удесятерённой энергией, и он немедленно засыпает вновь, и очень часто видит сон, что пробудился или пробуждается.
– Гурджиев –Лучше всего понимать Майю как интеллект страха. Надсмотрщица заключённых, государыня в Царстве Сна. Именно Майя награждает нас чудесной и жизнеутверждающей силой видеть то, чего нет, и не видеть то, что есть. Именно Майя делает существование Царства Сна возможным, а побег из него почти невозможным. Она даёт возможность быть Царству Сна, и если вы хотите пробудиться из него, то именно её вы должны уничтожить слой за слоем. Но не живите в метафорах: она – это не какая-то женщина, и она не существует где-то вне вас. Она внутри вас, и эти слои есть то, из чего состоит ваше эго.
Майя – это структурная целостность эго. Наблюдайте эго в действии, изучайте, препарируйте, перестраивайте его. Майя – это не личность, не концепция, не богиня. Нельзя узнать, что такое Майя, не схватившись с ней. Нельзя узнать, насколько глубоко она заходит, пока сам не дойдёшь до этих глубин. В этой войне у Майи все преимущества, кроме одного: истины. Майи нет. Истина есть.
Человек-Взрослый и Человек-Ребёнок
(интегрированное и отделённое состояние)
В гусенице нет ничего, что указывало бы на то, что она станет бабочкой.
– Р.Бакминстер Фуллер –Наступает время, когда риск оставаться зажатым в бутоне становится более болезненным, чем риск расцвести.
– Анаис Нин –Человек-Ребёнок находится в ограниченном эго состоянии. В детстве это состояние является здоровым и естественным. В зрелом возрасте, однако, это ужасная болезнь. Подобная болезнь способна оставаться незамеченной и неизлеченной лишь благодаря тому, что все подвержены ей в равной степени. Проблема не осознаётся, альтернатива неизвестна, поэтому выход не ищется, и нет надежды на изменения.
Мы живём всю жизнь под фальшивыми личинами из-за ошибочной идентификации. Мы полностью и безоговорочно подписываемся на свою ложную личность, принимая эту двумерную роль, которую мы играем, за то, кем и чем мы являемся на самом деле. По существу, мы должны были отбросить эту незрелую маскировку в раннем юношестве и отправиться в путешествие по жизни настолько более превосходного качества, что по контрасту с ней, жизнь в ограничениях эго – вообще не жизнь.
Представьте себе кузнечика, пойманного в паутину, отравленного несмертельным ядом и завёрнутого в кокон из множества слоёв шёлковых нитей, в котором поддерживают жизнь, чтобы он оставался свежим, но держат его туго связанным, чтобы он не дёргался и не смог вырваться. Он всё ещё жив, но уже совсем не похож на свою природную форму кузнечика. Это состояние обездвиженного, одурманенного ступора довольно точно представляет состояние хронического Человека-Ребёнка, неверно воспринимаемого по всему миру как нормально развитого взрослого.
А паук довольно точно олицетворяет Майю.
***
Большинство человеческих существ перестаёт развиваться в возрасте десяти-двенадцати лет. Средний семидесятилетний человек – это зачастую десятилетний ребёнок с шестьюдесятью годами службы в одном звании. Все наши общества состоят из людей-детей, они существуют для них и созданы ими, что объясняет вечно самосохраняющуюся природу этой отвратительной болезни, а так же большинство глупости в мире.
Человек-Ребёнок, который провёл годы на одной и той же стадии развития, понимает рост как процесс отвердения, медленного застывания в твёрдую массу. В нашем мире людей-детей такое подавление духа считается нормальным, здоровым и уважаемым.
Если измерить эволюционную зрелость граждан в различных обществах, мы увидим очень незначительную разницу даже между крайними точками. Одно общество может быть, в среднем, слегка более продвинутым, чем другое, но в реальности ни одно общество не продвинулось за пределы стадии, где девочки играют в дочки-матери а мальчишки мучают лягушек. Если бы мы жили в обществе, которое способствовало бы нормальному здоровому развитию, то мы все вырастали бы из детства в личностной структуре в то самое время, когда мы вырастаем из него в физической структуре, но такого общества нет, и нет причин думать, что когда-либо будет. Мы застряли в состоянии самоосознающего обезьяньего сознания.
Таково положение человечества.
Любые негативные вещи, которые можно сказать о людях в целом – что мы жадные, развращённые, равнодушные, глупые, ненавидящие, гневливые, и так далее – не являются симптомами нашей животной или самосознающей сути, но симптомами Человека-Ребёнка. Человеческое Детство, однако, само является лишь симптомом одной из коренных болезней, из которой исходят все остальные – страх. Страх – это естественное и непреложное состояние человека, который живёт с закрытыми глазами. Невежество – это состояние, когда ты думаешь, что твои глаза открыты, и что тот мир, который ты воображаешь, и есть реальный мир.
Чтобы стать взрослым человеком в соответствующем развитию возрасте, может потребоваться настоящий ритуал перехода, а не просто символическая церемония, как мы иногда видим, но, возможно, потребуется нечто гораздо большее. Чтобы это произошло, может потребоваться общество Взрослых людей, чего едва ли предвидится. Это плохая новость. Тем не менее, переход человека в зрелость в
несоответствующем развитию возрасте, может произойти и происходит. Это хорошая новость. Индивидуум, который хочет достичь изменений и роста в своей жизни, который хочет выйти за пределы состояния позднего развития, навязанного обществом с поздним развитием, вполне вероятно, может это сделать. Нельзя точно сказать, что возможно и для кого, но я говорю с достаточной степенью уверенности, что любой, кто сможет осознать своё пленение и захочет освободиться, найдёт возможность категорически изменить своё положение.
***
Вот где искренний ищущий должен приложить самые тщательные и концентрированные усилия. Если мы этого не понимаем, мы не понимаем ничего. Недостаточно понять это приблизительно. Необходимо стать знатоком, жить и дышать этим, сделать это собственной персональной религией и стать её фанатиком. Мы должны научиться отличать Человека-Взрослого от Человека-Ребёнка также легко и безошибочно, как отличаем шестидесятилетнего от шестилетнего.
Это может прозвучать немного странно, но ваше эго умнее вас, намного умнее, и если вы не осознáете это и не отдадите ему должное, у вас очень мало шансов против него. Я встречал множество очень вдохновенных книг, написанных очень умными людьми, экспертами на предмет трансценденции эго, но, я могу с лёгкостью сказать, что сами они не трансцендировали своё эго. Духовно-религиозный рынок, который должен был бы полностью быть посвящён способствованию этому наиважнейшему эволюционному переходу, фактически почти целиком ведёт борьбу против него.
Эго не нужно убивать, потому что оно никогда в действительности не существовало. Вам не нужно уничтожать ваше ложное я, потому что оно не реально, в чём, собственно, и состоит всё дело. Это персонаж, который мы играем, и что должно быть уничтожено, это та часть в нас, которая отождествляется с этим персонажем. Когда это сделано – действительно сделано, что может занять годы – тогда вы можете носить костюм и играть свою роль, как вам нравится, но уже находясь в роли, но не будучи ей.
Человек-Взрослый и Духовное Просветление
Какое самое великое переживание можно испытать? Это момент глубокой удовлетворённости. Момент, когда даже счастье становится отвратительным, а так же разум и добродетели.
– Фридрих Ницше –Разница между Взрослостью и Просветлением в том, что в первом случае – это пробуждение внутри царства сна, а во втором – пробуждение из него. Поверхностная Взрослость на ранних стадиях часто ошибочно принимается за Духовное Просветление и продаётся как таковое, но это не так. Это лишь первый реальный проблеск жизни, начало перехода из матки в мир.
Наиболее важным различием между этими двумя является то, что Человеческая Взрослость имеет смысл, а Просветление – нет. Главная польза, которую большинство склонных к духовности людей могут извлечь из ясного понимания, что значит быть реализовавшим истину, состоит не в том, что они могут достичь этого, но могут вполне обойтись и переключить свои духовные взгляды на что-то более стоящее, чем просветление, которое, в буквальном смысле, самое большое пустое место во все времена.
Все в действительности хотят стать Взрослым Человеком, а не истины или просветления. Именно здесь вы найдёте всё хорошее, и намного меньше плохого. Вы должны вырасти до этого, конечно, продолжая развиваться и взрослеть, учиться и расширяться, и именно здесь находятся все дополнительные преимущества — глубокое и постоянное удовлетворение, способность воплощать желания и формировать события, способность делать меньше, выполняя больше, здесь вы сможете найти своё истинное призвание, соединиться со своим высшим «я», никогда не наступать на одни и те же грабли, и так далее.
И каждый человек, духовный ли он, религиозный, или атеист, должен устремить свой взор к
Человеческой Взрослости. Вот к чему я пришёл за годы своего учительства и писательства. Если бы я мог дать совет, я бы рекомендовал Взрослость для каждого, и просветление ни для кого. Человеческая Взрослость позитивна по отношению к жизни, Просветление – негативно. Человеческая Взрослость – это реальное вознаграждение, Духовное Просветление бессмысленно и бесцельно, и его ищет только тот, у кого совершенно нет выбора на этот счёт.
Простота
Veritatis simplex oratio est.
Язык истины прост.
– Сенека –Путь пробуждения, несмотря на все наши бесконечные стремления усложнить его, совершенно прост. В любой момент, когда мы сбиты с толку, дезориентированы, слабеем сердцем или затуманены умом, когда наша голова развернулась в направлении какой-нибудь презентации новой партии духовного товара или философии, аргумента или популярного гуру, нам нужно лишь вернуться к простоте. Нечему учиться, нечего знать, нечего практиковать, нечем становиться.
Концентрация и намерение
Невозможно представить, чтобы Гёте или Бетховен хорошо играли в гольф или бильярд.
– Г.Л.Менкен –Львиная доля духовных искателей мотивируются желанием, поэтому провал их поиска можно предсказать заранее, что обильно доказывает история человечества в практически тотальной неспособности найти единственную вещь, которую нельзя потерять.
Как это возможно, что нечто настолько простое, как видеть то, что есть, умудряется ускользать даже от наших самых преданных искателей и величайших умов? Потому что никто на самом деле не хочет того, чем в действительности является пробуждение. Быть может, мы выражаем наше желания пробудиться очень неопределённо, но мы хотим очень специфического вида пробуждения, который не требует покидать наше уютное состояние, или лучше, сделает его ещё более уютным. Мы не хотим пробуждаться ото сна – мы хотим видеть сон, что мы пробуждены.
Истинное желание, которое движет процессом пробуждения, больше походит на психоз или безумие. Это опасно глубокий и продолжительный кризис, а не мрачная маленькая тёмная ночь души, которую продают незадачливым туристам.
Многие люди слышат звонок будильника в жизни, призыв к пробуждению, но чего мы больше всего хотим – больше, чем секса, власти, славы, любви, бессмертия, денег – это нажать на кнопку будильника и продолжить спать. Когда жизнь зовёт, нам лишь хочется натянуть себе на голову одеяло, перевернуться на другой бок и, что важнее всего, оставаться с закрытыми глазами.
Последнее, чего кто-либо в действительности хочет, что бы он там ни говорил, это чтобы нарушили его сон.
Сдача
Я знаю лишь одну вещь, и это то, что я ничего не знаю.
– Сократ –Сдаться, значит отбросить иллюзию контроля, которая инициирует этап смерти в процессе смертиперерождения, что является переходом от рабства слепого и ограниченного «отделённого состояния» к свободе постоянно расширяющегося «интегрированного состояния». Никакая вера или убеждение не требуется, чтобы совершить этот акт сдачи, только ясное видение. Когда человек начинает понимать, чем в реальности являются эго и страх, тогда этот процесс становится таким же лёгким и естественным, как сбрасывание тяжёлой ноши.
К несчастью, благодаря ложной сдаче, широко распространённой поп-христианством, тюремным обращениям и программам двенадцати шагов, эта жизненно необходимая стадия роста приобрела дурную славу и повсеместно презирается как акт отчаяния глупцов, трусов и слабаков. Вот яркий пример, как Майя действует в мире.
Цена истины
Пристрастие к истине любой ценой – это страсть, которая ничего не щадит.
– Альберт Камю –Цена истины – всё. Цена истины – ничто. Это ещё один способ выразить парадокс «несуществующих врат». С позиции непробуждённого человека врата, блокирующие его от просветления, огромны и непроходимы. Иллюзия полностью заполняет поле зрения человека, потому что она расположена до восприятия. Когда иллюзия уничтожена, мы видим, что её никогда не существовало в реальности.
Невежество
Самое большое препятствие к открытию – это не невежество, а иллюзия знания.
– Дэниел Бурстин –Есть два типа невежества. Первый тип относительно безвредный – когда мы не знаем или не понимаем чего-то. Обычно этот тип не вызывает много проблем. Если вы не знаете, как поменять масло в двигателе вашей машины, вы нанимаете кого-то. Если вы не знаете, как приготовить лазанью, вы покупаете кулинарную книгу. Если вы не знаете, как управляться с парашютом, вы не прыгаете с самолёта.
Другой тип невежества действует пагубно и истощает – когда мы думаем, что знаем то, чего не знаем, или понимаем то, чего не понимаем.
Большинство духовных искателей всю жизнь тщетно пытаются устранить первый вид невежества, не осознавая, что порабощены вторым его видом.
Духовный Автолизис
Мысль необходимо разделить и рассмотреть с помощью неё же, прежде чем она о себе узнает.
– Олдос Хаксли –Перо в руке – война в душе.
– Вольтер –Духовный Автолизис - это процесс записывания, позволяющий наиболее полно использовать потенциал нашего интеллекта, за счёт острейшей концентрации ума. Автолизис означает «самопереваривание», ибо в этом и состоит цель данной техники. В отличие от ведения журнала или духовного дневника, автолизис касается только нахождения и освещения следующего препятствия, мешающего процессу. Это нахождение не ответов, но вопросов. Нужно искать не ответы, а только вопросы, которые определяют наши ограничения. Постигни вопрос, и ты уничтожишь ограничение. Только посредством смелой мысли и ясного видения уничтожается иллюзия.
Все думают, что могут думать, но когда вы начнёте действительно думать – хирургически, безэмоционально, разрушительно – вы быстро поймёте, что это совсем не то, чем вы всегда занимались. Записыванием, выведением мышления наружу, его деперсонализацией, сделав шаг назад и представив все стороны в упорядоченной и объективной манере, мы можем высвободить свирепость нашего ума, которую мы обычно не осознаём и которой совсем не умеем пользоваться.
Хорошо бы начать с того, чтобы написать истинное, на ваш взгляд, утверждение, и затем точно вычислить, почему это утверждение ложно, каковым оно, собственно, и является; только если вы не отрицаете (нет истиной веры), не делаете субъективного наблюдения (у меня болит нога), или не напишете единственно верную вещь, которую вы знаете (я есть).
Страх
Сделать новый шаг, произнести новое слово – этого люди боятся больше всего.
– Фёдор Достоевский –Страх – это основная эмоция человека с закрытыми глазами. Все эмоции – это привязанности, а энергетическим источником всех привязанностей является страх.
Страх чего? Страх «не-я». Безымянный, безличный ужас небытия. Не просто страх смерти, который любой может отрицать или оправдать, но страх пустоты, который ни одна сказка не может передать.
Благодарность
Если единственной молитвой, которую вы произносили всю жизнь, было «Благодарю», этого достаточно.
– Мейстер Экхарт –Благодарность неопределённого, всеохватывающего качества, слегка окрашенная не неприятной печалью, можно сказать, является основной эмоцией реализовавшего истину существа и зрелого ЧеловекаВзрослого. Именно эта благодарность приходит, когда уходит страх.
Дальше
Когда ты достиг вершины, продолжай лезть.
– Дзен пословица –Слово «дальше» – как талисман, как предмет силы. Мы должны доставать и смотреть на него после каждой битвы, каждый раз, когда мы думаем, что уже всё окончено, что наконец-то мы дошли. Насколько бы нам ни казалось обратное, всегда «дальше». Вставай, отряхнись и подтяни пояс для следующей драки.
Карл Юнг говорил, что ему пришлось спуститься по тысяче лестниц, чтобы достичь маленького клочка земли, которым он в действительности являлся. Каждый раз, когда его нога касалась твёрдой опоры, он, должно быть, думал, что дошёл, пока его глаза не привыкали, и он видел, что есть ещё лестница вниз. Если бы доктор Юнг руководствовался словом «дальше», он бы узнал, что там осталось ещё много лестниц, и что тот маленький клочок земли есть бесконечно бόльшее, чем его действительная суть.
Когда ты уверен, что достиг, всегда «дальше». Может быть, когда-нибудь наступит день, когда больше не будет «дальше», и ты узнаешь об этом не по фанфарам или серпантину, не по излучаемой подсветке или хору ангелов, но по ошеломляющему и обескураживающему наблюдению, что ты…
Готов[7]
Готов, значит готов.
5. Краткий предварительный обзор.
Хорошей книгу делает хороший читатель – он находит в ней места, кажущиеся ему секретными посланиями и репликами в сторону, скрытыми от всех остальных и имеющими безошибочное значение лишь для его уха. Польза от книги соответствует чувствительности читателя. Самая проникновенная мысль или страсть зарыта как в глубокой шахте, пока не будет обнаружена подобным ей умом и сердцем.
– Ральф Вальдо Эмерсон –Вы можете пропустить эту главу, но если позднее у вас возникнут вопросы насчёт трёх домов, или двух женщин, или двух мужчин, или девочки, или собаки, или места действия, вернитесь сюда, где всё это объясняется. Если вам будет всё равно непонятно, в том моя вина. Я написал лишних несколько сотен страниц, и, урезая, мы потеряли некоторые детали повествования и немалое количество местного колорита, оставив основную суть. Эта глава заменяет четыре, излагавшие разъясняющую предысторию, которые Лиза, мой редакционный ассистент, уговорила меня сократить до одной короткой главы, и вот, она перед вами.
Поначалу Лиза не была моим редакционным ассистентом. Я познакомился с ней через её отца Фрэнка, который немного рассказал мне о её жизненном кризисе и предположил, что это может иметь отношение к моей книге. Заинтригованный её немного раненым поведением, тысячемильным взглядом и тесно прижимаемым к груди ежедневником, я пригласил Лизу с дочерью Мэгги пожить в гостевом домике в поместье, которое я снимал. После некоторых переговоров она с благодарностью согласилась. И только позже она стала помогать мне с книгой.
Лиза – взрослая дочь Фрэнка. Ещё она адвокат, жена зубного врача, мать двоих детей, Мэгги и Диджея, и вынужденный духовный путешественник. В тот момент она находилась в финальной стадии очень неприятного экзистенциального краха, медленно поглощавшего её уже в течении трёх лет.
Фрэнк, её отец, бывший профессор университета, пригласил меня посетить его в доме, где он поселился после ухода на пенсию, в мексиканском штате Халиско. Он жил в местечке под названием Лейксайд, которое в действительности состояло из нескольких городков, расположенных вдоль северного побережья озера Чапала. Жена Фрэнка, Изабель, умерла в прошлом году, оставив Фрэнка, так сказать, не у дел. Я решил принять часто повторяющееся приглашение навестить его в Мексике по двум причинам. Одной причиной было содержание тридцати одного его письма ко мне и свободный доступ, который он предлагал к своей уникально подобранной частной библиотеке. Другой причиной был мой дедушка.
Мой дедушка, вернее брат моего дедушки, теперь уже давно почивший, владел небольшой фермой в двадцать акров в нескольких милях от мексиканского города Сан Мигель де Альенде. Там он поселился после долгой и успешной карьеры в законодательстве. Он не был мексиканцем и не говорил по-испански, просто хотел полностью уединиться, завести лошадей, и тихо дожить свою жизнь. Будучи ребёнком, я несколько раз проводил лето на его гасиенде, и она оставила в моей памяти впечатление идеального дома. Дед был сварливым старым шельмецом, который никого не любил, и меньше всего своих близких родственников, но он довольно хорошо относился ко мне, возможно потому, что я любил удить с ним рыбу, мог прочесть на память длинные пассажи из Байрона, его любимого поэта, и потому, что я в основном молчал.
— Что будет, если две змеи начнут не переставая поедать друг другу хвосты, – спросил он меня, когда я был официально представлен ему в возрасте восьми лет.
Я немного подумал, прежде чем ответить. – Не знаю, сэр, – сказал я.
— Конечно, не знаешь, чёрт возьми, – сказал он, и на том наше знакомство закончилось. После этого мы встречались раз в год.
— Уже нашёл ответ? – спрашивал он.
— Нет, сэр, – отвечал я.
— Ещё думаешь? – спрашивал он. – Да, сэр, – отвечал я.
— Молодец, – говорил он, и то были все наши отношения до тех пор, пока лет в двенадцать я не был приглашён провести с ним месяц в Мексике на летних каникулах. Я согласился, и последующие несколько лет приезжал к нему, пока иные порывы и свершения не заставили меня отклонить его приглашение. Несмотря на тот факт, что между нами никогда не происходило ничего похожего на разговор, а может, благодаря этому, мы отлично ладили.
Последние двадцать лет я жил во многих местах, где по нескольку лет, где всего лишь пару месяцев, но нигде я не чувствовал, что хотел бы остаться здесь надолго. Когда я спросил себя, где я хотел бы жить, на ум сразу пришла гасиенда деда. Я никогда по-настоящему не думал о том, чтобы её приобрести, но я везде пытался отыскать то всеохватывающее чувство, которое вызывало во мне то место. Таким, думал я, должен быть дом.
Поэтому, зимуя в летнем курортном городке в Новой Англии, и размышляя, куда бы мне двинуться дальше, и вместе с этим, начиная осознавать, что нужно писать третью книгу, и наткнувшись на папку, полную писем от Фрэнка, я с нежностью вспомнил о доме деда и подумал, что Мексика, по многим причинам, могла бы стать неплохим местом для поселения. Моё личное предпочтение – быть рядом с людьми, но не среди них. Комфортнее всего я чувствую себя, обитая на окраине общества, но с определённой степенью отчуждения от него. Где-то в Азии, например, было бы слишком отчуждённо, а где-либо в англоговорящей стране – недостаточно. Мексика подходила идеально – самое необходимое количество культурного и языкового барьера. Я сделал все приготовления, и, спустя пару дней после отклонения любезного приглашения толстого сержанта, направился туда.
Очутившись в Лейксайд, после необычной череды событий, я в конце концов снял дом, стоимость которого ровно в четыре раза превышала мой установленный бюджет, но оказавшийся идеальным. Это было небольшое поместье, принадлежащее одному довольно известному дирижёру симфонического оркестра одного довольно большого американского города, который редко здесь появлялся. Оно стояло на возвышенности, было полностью обнесено стеной и состояло из главного дома, гостевого домика, бассейна, домика возле бассейна и множества других разнообразных маленьких строений, нескольких садов и веранд, полдюжины спутниковых тарелок и двух фонтанов – всё размещалось на площади всего чуть больше акра. Поместье находилось в достаточном уединении – пять минут езды до любого города. Будет правильным сказать, что я не желал и не выбирал жить в подобном месте, просто так всё сложилось.
Имущество сдавалось вместе со служанкой и садовником, супругами, которые служили здесь в течении многих лет. У них были свои комнаты в главном доме, но жили они где-то ещё. В главном доме также была прекрасно оборудованная комната домашнего кинотеатра, битком набитая музыкой и фильмами, так как владелец получал бесплатные копии ото всех известных крупных компаний и дистрибьюторов. Я подумал, что буду больше смотреть кино, чем когда-либо. Чуть поодаль от главного дома стоял маленький комфортабельный гостевой домик, примыкая к бассейну. Возле бассейна также стояло открытое здание типа павильона с кухонькой, комнатой, трансформирующейся в ванную, и удобным гостевым залом с камином. Его длинная стена, идущая вдоль всего бассейна, была сделана целиком из стеклянных панелей, которые можно было откатить в сторону, превращая павильон в чрезвычайно приятное открытое помещение с видом на озеро Чапала внизу и далее на окружающие его горы. Крыша типа перголы выступала футов на десять над палубой бассейна, так что я придвинул обеденный стол к открытой стене и превратил его в огромное рабочее место, где проводил бόльшую часть времени и написал бόльшую часть этой книги.
Виды здесь были просторные и часто удивительные, особенно на восходе и на закате. Вдобавок к видам это благословенное место обладало почти идеальным климатом: крайности не были крайностями, а средние температуры в точности соответствовали золотой середине. Вокруг всё зеленело, цвело и играло всеми красками. В городах можно было чудесно пообедать, погулять, в их магазинах было почти всё, что мне было нужно, а чего не было, я мог купить в Гвадалахаре, расположенной меньше, чем в часе езды. Ещё до того, как я узнал обо всём этом, я начал поиски дома в городах на северном побережье озера.
В первую неделю моего пребывания здесь я нашёл дом для покупки недалеко от Верхнего Ахихик. Я сделал предложение, оно было принято, и мне пришлось, по разным причинам, ухищряться, чтобы собрать всю сумму наличными. Это было не так-то просто, особенно в стеснённых временных рамках, в которых проходилось это делать, но посредством некоторых замысловатых манёвров, неприятных налоговых последствий, и доброй помощи, я справился с этой задачей, и мой местный счёт был заполнен практически последним центом, который я смог наскрести, готовясь к заезду в этот прекрасный дом.
И тут продавец пошёл на попятный.
Мне показалось это любопытным поворотом событий, но я знал, это к лучшему, что бы там ни было. Я стал ждать дальнейшего развития, чтобы увидеть, почему это случилось, и менее чем через неделю был вознаграждён, получив известие, что мой дальний родственник срочно нуждается в наличных, и продаёт гасиенду деда – дом, который я хотел иметь больше, чем любой другой, но никогда его всерьёз не рассматривал. Теперь казавшийся необъяснимым отказ продавца первого дома после моей безумной борьбы за наличные обрёл совершенный смысл. Если бы этого не произошло, у меня не было бы возможности купить дом моего деда, который мне нравился гораздо больше, и за который я мог заплатить теперь разумно умеренную цену. Также своими действиями по нахождению и попыткам купить дом в Ахихик я продемонстрировал своё желание и намерение, которые вселенная распознала и вознаградила. Лиза, ещё плохо зная меня, да к тому же в адвокатском состоянии ума, никак не могла взять в толк, что я отдал всё своё богатство на свете, чтобы купить дом, который я не видел больше тридцати лет, не посетив, не проинспектировав его, не сделав оценку, не торгуясь и прочее. Мой ответ, что «путь свободен», не утешил её.
Вот. Мы почти уже закончили.
Несколько недель, ушедших на ликвидацию небольшого портфеля активов покупки дома, были беспорядочными и суматошными. Именно тогда я познакомился с Лизой и её дочерью Мэгги и пригласил их переехать ко мне. Именно тогда я повстречал собаку своего сердца, и именно тогда я узнал, что один человек, с которым я был знаком, человек подобный мне, погиб.
***
В окрестностях Лейксайд жило множество американских и канадских эмигрантов, переехавших сюда изза идеального климата и низкой стоимости жизни. Тогда как такой город, как Сан Мигель – более вычурный и молодой, Лейксайд – более старый и степенный. Здесь доступно очень хорошее медицинское обслуживание и недалеко до Гвадалахары, что делает это место хорошим вариантом для поселения после ухода на пенсию. Откровенно говоря, мне больше по душе жить на окраинах более художественно и духовно ориентированного сообщества.
Так или иначе, пробыв здесь не так долго, я повстречал собаку по имени Манго. Это была четырёхмесячная самка бордер-колли. Её выгуливала болезненного вида женщина лет семидесяти, которая недавно переехала сюда со своим мужем. Как только я увидел собаку, я уже знал, что это была та, которую я выслеживал в течении всего этого года, что мы оба, каждый своей дорогой, шли к этой встрече. С моей стороны это было простое узнавание, а не импульс и не желание. Как только я увидел её, я знал, что она будет моей, что и произошло спустя час. Я на месте заплатил женщине столько же, сколько она отдала собаководу, хотя она к своему облегчению просила намного меньше. Теперь у собаки был новый хозяин и новое имя, которое я скорее почувствовал, чем выбрал – Майя.
Этой женщине дали плохой совет в выборе собаки, теперь она это понимала. Бордер-колли – рабочие собаки, они не очень пригодны для домашнего питомца, особенно если условия не позволяют им расходовать их дневной запас энергии. Эта женщина и её муж просто думали, что они красивые. Ну да. Они также чертовски умны и неутомимы и могут серьёзно спятить, не получив необходимого количества упражнений. Последний год я всё больше думал о собаках – читал журналы и книги, приобретал знания, очищал свои желания и пришёл к выводу, что я хотел бы иметь именно бордер-колли. Так указывала правильность. Когда я понял это, я всё отпустил, зная, что детали сами встанут на места.
Окей, покороче не получилось, как я надеялся, но обо всём этом необходимо упомянуть. Вообще-то, обе истории, о собаке и о доме, намного сложнее, запутаннее и показательнее, чем я смог описать здесь, и они, в своей целостности, являются настолько полными, замысловатыми и изысканными образцами процесса воплощения и работы интегрированного состояния, доверия и сдачи, ясного видения, намерения и желания, тонких махинаций вселенной, фактически недуальной природы сущности «я-вселенная», что если я когданибудь решился бы написать специальную книгу о реальной жизни в зрелом интегрированном состоянии, эти два эпизода, вместе со многими другими подобными эпизодами, были бы яркими иллюстрациями, неопровержимо подкрепляющими моё давно устоявшееся убеждение, что вселенная – это в сущности большой игривый щенок.
***
Я уже говорил, что в ту же самую лихорадочную неделю я получил известие о смерти одного человека, с которым я был знаком, человеком, таким же как я. Её звали Брэтт, она была реализовавшей истину, просветлённой, называйте как хотите. Она вела небольшую группу, которая собиралась раз в месяц на конной арене на её ферме. Члены этой группы познакомили её с моими книгами и уговорили пригласить меня. Мы с ней сделались соратниками, и я несколько раз принимал участие в собраниях её группы. Как я узнал, она погибла, возвращаясь домой после выполнения кое-каких дел. Водитель встречной машины отвлёкся звонком сотового телефона, потерял управление и съехал с дороги, попытался выровнять, перестарался и выехал на встречную полосу прямиком в машину Бретт. Она умерла мгновенно, а тот водитель не получил никаких повреждений.
***
На этом практически всё. Книга ещё местами грубовата, но пусть будет так, чем потратить ещё год, придавая ей внешний лоск, не улучшая сути. По настоянию Лизы мы удалили большинство испано-английских фраз, которыми мы перебрасывались при каждом разговоре, и которые, как мне казалось, было бы прикольно сюда вставить. Также исчезло немало своеобразия мексиканского жития, плохого и хорошего, в основном хорошего. Материалы о библиотеке Фрэнка, о времени, которое мы провели с ним вместе, и о разговорах, которые вели, вырезаны из этой книги, но возможно, будут доступны где-то ещё. На этих страницах мы ещё много раз встретимся с Лизой, её дочерью Мэгги, Брэтт и двумя Майями и закончим надлежащим образом рассказом о нашем путешествии с Лизой в Вирджинию, чтобы произнести хвалебную речь по Брэтт. Ну вот. Меньше семи страниц. Не так уж плохо.
6. Жизнь во сне[8].
Аффлюенца[9] сущ. - 1. Чувство обрюзгшести, вялости и неосуществимости, происходящее от усилий иметь всё самое лучшее. 2. Эпидемия стресса, переутомления, убытков, задолженностей, вызванная настойчивым преследованием «Американской мечты». 3. Непреодолимое пристрастие к экономическому росту.
Я сидел за своим письменным столом, работая на ноутбуке, роясь в бумагах, прерываясь раз от разу, чтобы насладиться великолепным видом, расстилающимся передо мной, и виолончельно-фортепианной музыкой, льющейся из внутренних и уличных динамиков. Появилась Лиза и в смущении встала возле стола. За те несколько недель, которые она со своей дочерью провела в этом доме со мной, мы почти не разговаривали вне ежедневных приветствий и дел по хозяйству. Я уж начал было думать, что так и всё лето может пройти без настоящего разговора, хотя я предлагал ей взять с собой дочь, и пользоваться бассейном, когда им захочется. – Можно? – спросила она, указывая на стул. – Пожалуйста, – сказал я.
Она села и начала ёрзать. Я взял пульт и ткнул им в сторону устройства, бывшее, по-видимому, соединительным узлом с музыкальным центром в главном доме, убавив громкость музыки. Голова Майи показалась из-за кушетки, чтобы посмотреть, не происходит ли чего интересного, и снова исчезла.
— Напитки, еда, угощайтесь, пожалуйста, – сказал я, указывая на кухоньку. – Там есть лимонад. Вода, лёд, всё отличное.
Она кивнула.
— Как вам нравится дом? – спросил я.
— Очень хороший, спасибо, – ответила она.
После того, как её отец представил нас, я узнал, что она ищет место для себя и Мэгги, и я предложил ей гостевой домик в арендованном мной небольшом поместье. Но после подумал, что мне гораздо удобнее будет в маленьком гостевом домике, а они могут расположиться в главном доме с отдельными комнатами и ванными, поэтому когда они прибыли, я разместил их там. Сам я очень комфортно устроился между гостевым домиком и павильоном возле бассейна. Если бы мне захотелось воспользоваться домашним кинотеатром, я по-прежнему мог это сделать, но это единственное, что меня привлекало в главном доме. Там были также законные комнаты служанки и садовника, и это придавало ощущение меньшей уединённости.
Вместо оплаты за аренду Лиза согласилась оплачивать коммунальные услуги и другие затраты по содержанию дома, включая агентство по найму, прислугу и всё то множество мелких деталей, о которых необходимо заботиться. Её испанский был гораздо лучше моего, и она легко общалась с местными жителями, до чего мне ещё было далеко. По своей инициативе она расширила круг своих обязанностей, включив в него всестороннюю охрану моего личного времени и пространства, что мне очень помогало, и, похоже, придавало успокаивающий смысл её существованию.
Когда мы познакомились в доме её отца, Лиза сжимала в руках ежедневник – необычное зрелище. Я сделал замечание на счёт него, но тогда не получил ответа. Теперь я попытался вновь. – Я вижу, вы всё носите ежедневник.
Она положила руку на него, но не ответила. Я вернулся к чтению. Спустя пару минут она разразилась потоком слов.
— Знаете, лет в шестьдесят, я, наверное, могла бы работать официанткой с большой причёской и жирной задницей, и жить в какой-нибудь блошиной гостинице в Корпус-Кристи. Это было неожиданно.
— Разведена, – продолжала она, – одинока. Может быть, я получала бы открытку на Новый год от Мэгги и Диджея с фотографиями их семей. Может быть, у меня были бы друзья шофёры. Зарабатывала бы хорошие чаевые.
— Я думал, вы адвокат.
— Была когда-то, – сказала она. – Мне казалось, я много чем была.
— Окей, и каким же образом вы закончите толстой задницей в Техасе?
Она кивнула и улыбнулась так, будто это было действительно смешно.
— Вся королевская конница и вся королевская рать, – промолвила она загадочно.
Лиза была в кризисе. Она подверглась продолжительному процессу разрушения, который вырвал её с корнем из хорошо установившейся жизни, и бесцеремонно закинул в центральную Мексику с дочерью и без понятия, что происходит и почему. Я знаю, где она находится, знаю, через что она проходит, но я не её психиатр и не собутыльник. Я не собираюсь играть роль вытаскивания её оттуда. Отвернувшись к компьютеру, я продолжил чтение.
Чувствуя, что теряет моё внимание, она попыталась снова заполучить его более прямым обращением. – Я не знаю, что мне делать, – сказала она.
— В смысле?
— В смысле моей жизни, – сказала она с напором. – У меня была жизнь, а теперь нету, и я не знаю, что произошло, и как мне её вернуть.
Я подождал.
— Знаете, я не могу просто кинуться с головой в жизнь отшельника. У меня есть обязанности. Я должна думать о детях. У меня была карьера, положение в обществе, друзья, отношения. Похоже, ничего этого теперь нет. Но у меня всё ещё есть кредитный рейтинг, о котором надо думать. Если я перестану платить даже на несколько дней, мой кредитный балл уменьшится и мне повысят тариф. Это серьёзно, знаете ли. Мне необходимо думать о будущем своих детей. Вы пошутили насчёт жизни на помойках, но это реально происходит. То есть, я не боюсь, что дойдёт до этого, но кто знает, что может случиться?
Я ничего не ответил. Фрэнк говорил, что она читала мои книги. Теперь она пытается заставить меня защищать её решения, в то время, как сама будет бранить их, но я не оказываю подобных услуг.
— Я не могу просто всё пустить на самотёк и надеяться на лучшее, – продолжала она. – Так ничего не выйдет. То есть, может быть, это подходит для вас, вы кажетесь довольным жизнью, у вас всё в порядке, но кто знает, что у вас за дела? Я имею в виду, вы явное исключение, если не сказать больше. Вы выглядите как человеческое существо, но мне кажется, это очень обманчивое впечатление. Ведь так и есть, верно? Ведь вы на самом деле не такой, как все остальные? Одно дело читать о вас, читать ваши книги, но когда я здесь рядом с вами, и Мэгги здесь, и отец, ну, это совсем другое дело.
Я ждал.
— Мне кажется, вы можете быть очень опасным человеком, мистер МакКенна. Без обид. – Я не обижаюсь. Зовите меня Джед.
— Я не хочу быть грубой, но я сижу здесь, гляжу прямо на вас, и не понимаю, что я на самом деле вижу. Вы больше чем просто опасны – мне приходится всё время напоминать себе об этом. Вы как нечто странное, дурно влияющее, которое сидит возле бассейна, предлагает мне лимонад, позволяет мне жить в своём доме и говорит «зовите меня Джед».
— И терпеливо слушает, – добавил я. – Вдохните глубже.
Она вдохнула.
— Ну да, и терпеливо слушает. Извините. Спасибо. – Так что с ежедневником?
Она посмотрела на него, и я заметил, что взгляд её немного рассеялся, поэтому вернулся к своей работе.
Несколько минут она молчала.
— Этой ночью я хорошо спала, – сказала она, немного придя в себя. – Я много лет не могла выспаться. Я уже забыла, как это бывает. Мы жили в мотеле прошлый месяц, чтобы Мэгги могла закончить учебный год, и я каталась по кровати. Бессонница. – Она сделала паузу, размышляя. – Кажется, мне лучше. Извините, что наехала на вас.
Прошло несколько минут, она сидела молча, а я вновь вернулся к работе. Мимо прошёл Хорхе, направляясь к фонтану с дельфинами. Лиза проводила его взглядом, потом встала, чтобы налить себе стакан лимонада.
— Раньше я любила наблюдать, как мексиканцы работают во дворе, – сказала она с выражением страстного желания. – Я так завидовала их простой жизни. Я фантазировала, что я бездомная, живу под мостом, хожу в библиотеку и целый день только читаю, прошу подаяния, чтобы купить себе малиновобанановый коктейль. Мне казалось, что жизнь на помойках не так уж плоха. Вот так было скверно – я мечтала быть бездомной.
— Что было скверно?
— Жизнь. Моя жизнь.
— Всё ещё немного в шоке?
— О, да, – сказала она, кивая, – я чувствую оцепенение, словно только что вышла из тюрьмы, словно последние пятнадцать лет были как в тумане, где я всегда была уставшей, беспокоящейся, занятой, и вдруг это внезапно закончилось, и я не знаю, что делать, и куда идти, и кем быть. Я, наверное, говорю бессвязно, мне немного не по себе, когда я говорю с вами. Надеюсь, я была не слишком груба. Я очень вам благодарна, что могу находиться здесь с вами, очень благодарна. Думаю, мне нужно заявить о своём банкротстве. Вот что действительно сводит меня с ума. Поверьте, я одна из последних людей, от которых можно было ожидать заявления о банкротстве.
— У вас, дантиста и адвоката, наверное, неплохо шли дела, – сказал я. – Двое специалистов, дети, дом в пригороде. Американская мечта.
Она горько рассмеялась.
— Какая там мечта. Мы утопали в долгах. Это было ужасно. Американская мечта была похожа на медленное удушение – словно на твоей груди сидит слон. И это было нормально, но теперь кажется абсолютным безумием. Ни выхода, ни спасения. Не удивительно, что я спятила. И слава богу. Как ещё можно выбраться из этого?
— Друзья не помогали?
— Какие друзья? – она усмехнулась. – Знаете, я даже не знаю, что значит это слово. Мне всегда казалось, что знаю, но на самом деле нет. Но в любом случае, все люди, которых мы знали, были точно такими же, как и мы – карьера, дети, долги. Половина из них принимали лекарства. Многие пичкали ими своих детей. Вот на этом всё и держится, а не разваливается на части. Все глотают пилюли или алкоголь – без этого никак. А потом лошадиные дозы кофеина, чтобы дать себе пинка в начале каждого дня.
Она помолчала, отхлебнув лимонада.
— Я проводила три часа двадцать минут в день в дороге – машина, поезд, автобус, пешком и в лифтах. Я засекала.
Она смотрела на меня так, будто я должен был подсчитать сумму, но я знал, что она уже это сделала.
— Больше восьмисот часов в год, – сказала она. – Больше целого месяца в каждом году я проводила просто катаясь на работу и обратно. Больше пятнадцати месяцев я провела в одних разъездах. Всё, что мы понастоящему имеем, – это время, и вот как я тратила своё: просто смывала его в унитаз, желала, чтобы оно проходило маленькими порциями, в нетерпении, чтобы время прошло, чтобы поездка окончилась. Потом то же самое в офисе с восьми до шести – смотрю на часы, с нетерпением жду, когда окончится утро, и я пойду на обед, жду, когда окончится день, и я поеду домой. Я никогда не была довольна там, где я была, всегда занятая, уставшая, в ожидании того, что будет дальше. Выходные были ещё хуже, потому что нужно было сделать всё, что не было сделано в течение недели. Уборка, покупки, дети. Что делать с детьми? Отведёшь их в какойнибудь МакДональдс, где есть игровая площадка, накормишь каким-нибудь дешёвым сладким дерьмом, что знаете, не очень-то хорошо для них, а потом прямиком в торговый ряд. Пытаешься ходить в музеи, на стадион, но фастфуды и гипермаркеты – вот реальность. Деннис играет в гольф и смотрит спорт по выходным, потому что ему нужно отойти после своей долгой рабочей недели. А ему даже не надо было ездить на работу. У него была практика в городе. Ему казалось, что неплохо иметь свободное время, вот так разъезжая.
Она сделала длинный, глубокий вдох, и медленно выдохнула, сидя спиной к прекрасному виду.
— Я была как та девочка в вашей первой книге, – продолжала она. – Я стала видеть всю эту человеческую транспортную систему: я и такие же несколько сотен людей, которых я видела каждый день, но никогда не разговаривала с ними, просто мотаются туда-сюда как безмозглые овцы, все с газетами, ноутбуками, в наушниках. Я представила себе, что весь мир застрял в таком же громадном механизме, без конца, без смысла крутится, перерабатывается. Старики выпадают, молодые их заменяют. Каждое утро эти стальные трубы по всему миру несут миллионы людей, перекачивая их, словно свежую кровь, в похожие на кладбища города, а потом вечером перекачивает обратно, грязных и усталых. Как братство овец, безмозглых, закабалённых, безжизненных жизней, пустой деятельности. Но все так живут, не только те, кто ездит. Продавцы, полицейские, водители автобусов, все, кого ты видишь. Тебя вставили в этот механизм, когда тебе было четыре или пять, и ты не выходишь с другого конца, пока тебе не стукнет шестьдесят. Когда ты начинаешь видеть это место как сумасшедший дом, ты уже не можешь перестать так видеть. Это везде, и все находятся в этом. И в этом нет никакого смысла. Это не жизнь. Это не может быть жизнью. Я не знаю, что это, но это не жизнь.
***
Вождь Швабра называет это «комбинатом» в «Полёте над кукушкиным гнездом» Кена Кизи, но это то, что Кизи называет самим гнездом кукушки. Главный герой Рэнделл МакМёрфи офигевает, когда узнаёт о своих друзьях сокамерниках то, что Платон говорит о закованных в кандалы в пещере – их пленение добровольно.
Никого не держат здесь против воли.
Нет замков, замыкающих цепи прикованных к своим местам людей в пещере Платона, и пациенты в палатах сестры Рэтчед находятся там добровольно и могут выписаться на волю, когда захотят. Вот что шокирует МакМёрфи. Мы порабощены своим собственным страхом и невежеством и можем выйти на волю, как только пожелаем. Но пациенты в отделении сестры Рэтчед счастливы находиться там. Они не хотят выходить в большой пугающий мир. Они парализованы страхом и успокоены заключением. В книге Кизи вождь Швабра сбежал из заключения. В жизни Лизы – сбежала Лиза.
***
Эта книга, кстати, посвящена Кену Кизи, не только за его «Полёт над гнездом кукушки», или за автобус, или за проказников, или за «кислотные тесты», но за храбрый и мечтательный дух во всём этом. Кен Кизи был Рэнделлом МакМёрфи, а Америка шестидесятых была его сумасшедшим домом, и он занял законное место рядом с Уолтом Уитменом и Германом Мелвиллом в американском пантеоне героических исследователей. Вождь Швабра рассказывает о МакМёрфи:
Он готовился ко сну, стягивая одежду. Длинные угольно-чёрные атласные трусы под его рабочими штанами были сплошь покрыты большими красноглазыми белыми китами. Он улыбнулся, увидев, что я рассматриваю его трусы.
– От сокурсницы из Орегонского университета, вождь, с литературного факультета, – он оттянул большим пальцем резинку и щёлкнул ей по животу. – Она подарила их мне, потому что я, мол, символ.
***
— И ради чего? – продолжала Лиза. – Это было не на протяжении месяцев или даже лет, это была вся наша жизнь! Мы были в западне! Пятнадцать лет! Не безумие ли это? И ради чего? Чтобы вырастить детей? Это просто отговорка. Любой может вырастить детей – не нужно для этого жить в постоянном душераздирающем рабстве. Однажды я спросила Диджея, чего он хочет в жизни, и он сказал, что хочет быть дантистом как отец. Это было как удар под дых. – Она печально покачала головой. – И знаете, дело не просто в том, что это ужасный способ жить – на самом деле это вообще не жизнь. Это не то, что ты выбираешь, это то, что ты получаешь, когда ты не выбираешь. Мы просто вошли строем в эти проклятые, идиотские, невозможные жизни, никогда не переставая думать о том, что мы делаем. Школа, институт, аспирантура, потом прямиком на рабочее место. Поженились, завели ребёнка, взяли кредит, купили дом, заполнили его всяким хламом, завели ещё ребёнка, взяли ещё кредит, дом побольше, больше хлама. Это абсолютное безумие, но так живут все, кого я знаю. Аффлюенца, они это называют, как болезнь. Вот что это. Последние семь лет я пыталась лишь сделать минимальными платежи по долгам.
— И всё это было нормой?
Она горько засмеялась.
— Все, кого я знала, были в том же положении. Кто-то с более высокими доходами, кто-то менее, но думаю, практически у всех был опасный перерасход по каждому направлению. Деньги, время, работа, обязанности. Мы делали всё правильно, и у нас не было настоящих несчастий – трагедий или проблем со здоровьем. Да, мы жили в американской мечте. Измученные, разбитые, несчастные, плохие родители и, теперь вот, в разводе.
Она замолкла.
— Знаете, на самом деле у меня не было нервного срыва.
– Знаю.
— У меня был момент ясности, вот что это было, но я знала, что он не продлится долго, я знала, что буду снова проглочена этим состоянием крайне ограниченного сознания, где годы пролетают словно минуты, и вовремя этого момента ясности я дала себе клятву. Я поклялась, что покончу с этим. Чего бы это ни стоило, я пообещала себе, что вырвусь. Я должна была разорвать этот круг, схватить детей и бежать сломя голову. Я напоминала себе о своей клятве каждый день, но всё равно соскальзывала обратно. Я забывала о клятве и о том, зачем её давала. Это как анестезия, как если бы тебя попросили считать обратно от ста. На девяносто семи ты думаешь, что с тобой всё в порядке, а девяносто шести уже нет.
— И?
— И плотину прорвало, когда Диджей сказал мне, что хочет быть дантистом. Меня словно разбудили пощёчиной, и я знала, что сейчас или никогда, я знала, что это мой последний шанс вырваться. Моей ошибкой было то, что я пыталась понять, как сделать это гладко, и взять с собой обоих детей. Это было слишком самонадеянно. Я собрала свои вещи и вещи Мэгги, написала записку, запрыгнула в машину и уехала. Да, я наломала много дров на работе и дома, но я знала, только так это могло произойти, и только сейчас или никогда, сейчас или никогда. Было не очень-то приятно, и даже очень неприятно, и я сожалею, но дело сделано. Господи, либо так, либо я осталась бы навсегда пойманной в этой смертельной западне со своими детьми. Порой я думаю об этом как о психическом расстройстве, потому что это как-то оправдывает меня. Если бы я была в здравом уме, то столь ужасный поступок можно было бы назвать лишь злом. Но мне не кажется, что я злая.
Глаза её покраснели, но она не плакала. Я понял, что она уже вдоволь наплакалась.
— Вы в здравом уме и вы не злы, – сказал я. – Полагаю, вам это известно.
— Приятно это слышать, – сказала она, – особенно от вас. Просто так трудно примириться с собой. Пропорции кажутся такими, не знаю, непропорциональными, но, так и должно быть. Всё равно, дело сделано, к лучшему или к худшему, и вот, я здесь. И вот, мы здесь – Мэгги и я. – Рок-н-ролл, – сказал я.
Она улыбнулась и серьёзно кивнула.
— Рок-н-ролл, – сказала она.
— Хорошо, – сказал я. – Хороший дух. Это всё, что нужно.
— У меня не было другого выхода.
— Я знаю.
— Пожалуйста, скажите мне, что я не совершила самой худшей ошибки из всех, что можно совершить, – сказала она. – Скажите мне, что я не разрушила жизни моих детей, это всё, что я хочу услышать.
– Как вы сейчас себя чувствуете?
Она закрыла глаза и тяжело вздохнула.
— Невозможно описать, какое облегчение не быть в том положении. Теперь я могу дышать, могу спать. – Она жестом показала на тот райский сад, в котором мы сидели. – Вы не представляете, насколько поразительно всё это. Не могу поверить, что я так жила. Не могу поверить, что я считала это счастьем и успехом. Не могу поверить, что я считала это жизнью.
— Значит, вы выбрались из самой большой ошибки, что можно было совершить? – спросил я.
На её лице появилась большущая улыбка.
— Это было самым лучшим, что я когда-либо совершила, – сказала она с ликованием. – Не знаю, что будет потом, но я так рада, что оставила тот мир позади. Это был процесс смерти-перерождения, о котором вы говорите. Знаю, сейчас мне страшно и я в замешательстве, ничего, это пройдёт, но я скорей умру, чем вернусь к той жизни, чем бы она ни была.
7. Имаго[10]
Вероятно, глубочайшей причиной, по которой мы боимся смерти, является то, что мы не знаем, кто мы. Мы верим в личную, уникальную и отдельную индивидуальность, но если мы возьмём на себя смелость исследовать её, мы обнаружим, что она целиком опирается на бесконечный набор различных вещей – имя, «биография», супруг(а), семья, дом, друзья, кредитные карты… И на эту ненадёжную и изменчивую опору мы полагаемся целиком и полностью. Если всё это у нас отобрать, будем ли мы иметь хоть какое-то представление о том, кто мы есть на самом деле? Без этих знакомых нам подпорок мы сталкиваемся с самим собой, человеком, которого мы не знаем, нервирующим незнакомцем, с которым мы жили всё это время, но не чтобы никогда не оставаться в тишине наедине с этим незнакомым самим собой?
– Согьял Ринпоче –Был вечер. Лиза уложила Мэгги спать. Она открыла бутылку вина и налила себе и мне. Передав мне мой бокал, она села напротив, положив перед собой ежедневник. После этого она ляжет спать, а мне ещё предстоит прогулка с собакой и обычная ночная беседа с Фрэнком, затем я вернусь и попытаюсь ещё часок поработать.
Лиза сидела молча, потягивая вино. Её надо подтолкнуть, она хочет этого, и я подталкиваю её. – Зачем вы носите с собой ежедневник?
Лиза сделала большой глоток, словно набираясь храбрости, затем открыла обёрнутую в кожу книжицу на странице где-то ближе к концу, и положила её передо мной. Там было фото из журнала – чёрно-белое, зернистое, ламинированное, с пробитыми для подшивки отверстиями, зарытое глубоко между календарём и телефонными номерами. На нём было изображено тело, падающее из Всемирного Торгового Центра 11 сентября 2001 года. По одежде и форме волос можно было сказать, что это женщина. Её лицо было едва заметно, достаточно лишь, чтобы можно было представить себе его черты.
Я взглянул на Лизу и понял, что она глубоко потрясена этим фото. Она достала его из ежедневника, держа перед собой. Потирая его пальцами, она заговорила очень тихим голосом.
— Был вторник, – начала она дрожащим шёпотом. – Она проснулась, как тысячу раз до этого, приняла душ, разбудила детей, собрала мужа. Она успела заметить, что стоял прекрасный сентябрьский день, и поделиться этим со своей семьёй, пытаясь немного облегчить ежедневную рутину, чтобы этот день казался особенным, но то был просто ещё один вторник. К половине седьмого дом проснулся и домочадцы с ворчанием занимались утренними обычными делами. Когда все ушли, она вернулась, чтобы одеться, накраситься, причесаться, постояла у зеркала в нижнем белье, думая о работе, о предстоящем дне, о предстоящих семейных событиях, о морщинках на лице, лишних килограммах, счетах, о здоровье своих родителей, как в любое другое утро.
Её веки затрепыхались от наворачивающихся слёз. Пальцы покоились внизу фотографии.
— Когда я впервые увидела это фото – женщина за секунду до смерти – я не могла оторвать от него взгляда. Оно захватило меня, как гипноз, и вся предыстория, вся жизнь этой женщины, вдруг предстала предо мной – её дом в Статен Айленд, поездка каждое утро через пролив на работу – всё это пронеслось сквозь меня сплошным потоком. Я прилепила скотчем на зеркале в ванной точно такое же фото, как это, и каждое утро, исполняя свои ежедневные ритуалы, я смотрела на него и думала о том, как она начинала свой день, так же, как я сейчас, просто ещё один день – чистила зубы, беспокоилась о мелочах, её мысли были так же полны подробностей и забот.
Она сделала паузу, отхлебнув вина. Я молчал.
— Та первая фотография совсем пришла в негодность. Дэннису она не нравилась – он говорил, что она отвратительна. Он не хотел смотреть на неё каждое утро. Да и мне не хотелось, чтобы кто-то ещё смотрел на неё. Я сделала эту, заламинировала её, и поместила сюда, где только я могла её видеть. Я сидела с ней в утреннем поезде, разговаривала с ней, и она разговаривала со мной. Вот так это было. Всё началось с чувства, что в моей жизни, которую я живу, всё неправильно. Я сопротивлялась этой мысли, старалась оттолкнуть её, но она не уходила, оставаясь где-то на периферии, всегда присутствуя где-то с краю – офис, машина, обеды, покупка продуктов, клуб, встречи – она всегда там. Потом ваши книги, – она рассмеялась и посмотрела на меня, – ваши книги просто включили свет в доме, чётко осветив всё, и тогда произошёл взрыв. Кончено, это имеет отношение к вашим книгам, но оно медленно выстраивалось в течении трёх лет, когда она разговаривала со мной.
— Женщина с фотографии говорила с вами? Какое-то время мы сидели в тишине.
— «Я была никем», говорила она мне. «Для своего босса я была такой, для сотрудников – другой; для своих родителей я была одним человеком, для детей – другим. Я была кем-то по телефону, кем-то со складскими и прочими служащими. Я одевалась для других людей, разговаривала и вела себя для других людей, тратила минуты, часы и дни своей жизни для других людей, а для меня самой никогда ничего не оставалось. Я читала книги и журналы, чтобы помочь себе быть этими разными людьми. Я выкраивала время на магазины и спортзал, чтобы сохранять стройность и быть хорошо одетой, всегда стараясь быть тем, кем я должна быть».
Лиза говорила шёпотом, держа фотографию обеими руками.
— «Я работала по десять часов в день, затрачивая два часа на поездки, я готовила еду, убиралась, ходила в магазин, платила по счетам, и была рада, если мне удавалось поспать четыре часа. Я говорила себе, что всё это было ради детей, но всегда знала, что это ложь. Для детей мы могли бы сделать намного лучше. Мы просто штамповали другие версии себя, потому что не знали, как жить по-другому. Мы стали в точности как наши родители, потому что не знали, кем ещё быть. Я падала и думала о том, что вряд ли это печально, потому что я не знаю, кто умирает. Почему должно иметь значение, что я умерла, если меня никогда понастоящему не было? Я в двух секундах от завершения жизни, которая в действительности никогда не была моей. Я была всеми этими людьми, но я никогда не была собой, а теперь в это прекрасное сентябрьское утро моя жизнь оканчивается, и я не знаю, кем мне быть».
Я молчал. Лиза всхлипнула, улыбнулась мне и рассмеялась.
— Потом она стала рыдать о том, что хотела бы не быть такой жеманной в школе, что надо было попробовать больше наркотиков, поехать в летний тур с «Грейтфул дэд», может быть, провести месяц в нудистском поселении. – Она неловко засмеялась и отложила фото. – Обычно так происходит, когда я теряю с ней контакт.
***
Она прервалась, и пошла немного освежиться. Несмотря на её боль, я могу только порадоваться за неё. То, что умирает в ней, должно умереть. То, что большинство людей называет жизнью, на самом деле лишь вызванная страхом попытка продлить состояние куколки, словно слишком испуганные бабочки не желают выходить из кокона. Стадия развития, когда из кокона появляется бабочка, называется имаго – зрелость. Вот чем мы все должны были бы быть, имаго. Если бы мы жили в обществе имаго, мы должны были бы быть хорошо подготовленными к метаморфозам – они происходили бы когда следует и гораздо легче. Это было бы не легко, но и не являлось бы катаклизмом. Но мы не живём в таком обществе, и когда случается переход, если случается, он скорее всего приводит к катастрофическому перевороту, чем к церемонии вступления в зрелость.
Тем не менее, я рад за неё. Никто, посещая больного в коме, не скажет, что он-де выглядит очень мирно, и лучше бы ему оставаться таким и провести всю жизнь в этом состоянии просто потому, что пробудиться из него может оказаться неприятным.
Лиза налила себе ещё бокал вина и вернулась на своё место.
— С этой фотографии всё и началось, – сказала она, – но кто знает? Это не было большим событием, просто как укол булавкой, лишь маленький толчок, но прямо с того момента ты знаешь, что он смертелен, как яд, который ввели в твою систему, и противоядия нет, и нет надежды. Думаю, я с самого начала знала, что это на самом деле значит, что должно произойти. Я боролась три года, пытаясь отодвинуть это в сторону, пытаясь похоронить это под всякой мишурой – работа, семья, дом – но всё это время оно росло во мне, как раковая опухоль. Что это было в реальности? Мысль? Осознание? Проблеск? Я правда не знаю, но это определённо точка невозвращения. Я знала, что всё моё отрицание было просто временным решением. Я знала, что двигаюсь навстречу собственной гибели, каждый день глядя на это фото, но я ничего не могла поделать. Не смотреть на него казалось мне предательством. Это был болезненный период. Я чувствовала себя как чужая в собственном доме, как пришелец в человеческом облике. Внутри меня росла эта тайна, и по мере того, как она становилась всё больше, другая я – мама, жена, адвокат, всё остальное – становилась меньше. Я смотрела через те же глаза, но за ними я была самозванкой, притворщицей, пытаясь удержать тот мир, который уже не был моим. С первой же главы вашей первой книги я знала, что время пришло, что что бы со мной ни происходило, скоро разрешится после этих беспокойных трёх лет вынашивания. Что та вещь, которая растёт во мне, вырвется и уничтожит всё.
— И вот, вы сидите здесь и разговариваете со мной, – улыбнулся я. – Не удача ли это?
— Я думаю, мы бы не сидели здесь сейчас и не разговаривали, если бы я была просто нормальной, какой была, если бы не этот проклятый кризис. То есть, мы бы не были… не знаю. Ладно, не важно.
— О чём бы мы с вами говорили, если б ваша жизнь не подверглась разрушению? – спросил я. – О ваших планах на пенсию? О распродаже обуви в «Блумингдейлз»? О войне против террора? – Наверное, нет. Не обращайте внимания.
— Если вы спрашиваете меня, случился бы между нами этот разговор, если бы вы не были в огне, если бы ваша жизнь не горела, то ответ «нет». Наши голоса никогда не перелетели бы через пропасть. Но благодаря тому, что вы в этом кризисе, и благодаря тому, что вы здесь со своей смертью, мы можем поговорить. – Моей смертью? – тихо спросила она.
Я рассмеялся, но мягко.
— Конечно, – сказал я. – Вы думаете, кто на этом снимке? Вы думаете, с кем вы разговаривали в поезде и в ванной? Вы думаете, кто пытается отшлёпать вас и пробудить из комы?
***
Мы взяли наши бокалы, подошли к бассейну и, развалившись на шезлонгах, стали созерцать игру лунного света на глади озера внизу и горы за ним. Разговор принял более спокойное русло, пока она силилась понять, с кем или чем она говорила.
— Я недавно читала какую-то ньюэйджевскую книгу из библиотеки папы, где говорилось, что сейчас на земле, возможно, живут несколько миллионов просветлённых существ. – Вы тоже так думаете?
Она задумалась.
— Нет, это не то просветление, о котором говорите вы, только так оно имеет смысл. Думаю, в книге говорится о чём-то другом.
— Я тоже. Я бы очень удивился, если когда-либо их было больше тысячи, или больше, чем сейчас. Знаю, что есть другие существа, которых называют просветлёнными или пробуждёнными, но если придерживаться понятия «Реализация Истины», то трудно быть обманутым.
— А те другие состояния?
— Не знаю, это не в моём ведении. В доме Майи много комнат. Все они лишь царства сна внутри царства сна, так какое мне дело? Как я понимаю, обычно они имеют отношение к счастью, доброте, состраданию, красоте, всякой сердечной ерунде, и тому подобное. Это похоже на то, о чём говорится в той книге?
— Сердечной ерунде?
— Конечно – все способы, с помощью которых мы пытаемся повязать красивый бантик на наш страх, чтобы быть счастливыми в темнице, вместо того, чтобы вырваться из неё.
– Вас не привлекает счастье?
– Меня ничто не привлекает.
– Вас привлекает истина.
— Не совсем. Никого не привлекает истина. Когда-то меня привлекало, чтобы не жить ложью, но теперь это позади. Сейчас меня привлекает написать книгу, но и это уже почти позади. Вскоре меня будет привлекать что-то вроде сидения в кресле-качалке на переднем крыльце со своей собакой, и наблюдать, как мир проходит мимо.
Несколько минут мы сидели молча.
— Сначала мы переехали в гостиницу, чтобы Мэгги могла оставаться в своей школе, а я на своей работе, но всё было то же самое. Я чувствовала, ещё очень близко, старая жизнь засасывала меня обратно. Я знала, что если вернусь, всё будет кончено. Я пропаду, мои дети пропадут. Мне было так страшно.
Она посмотрела вдаль.
— И вот теперь, вы здесь, – сказал я, так как, похоже, была моя очередь что-то сказать. В бассейне была какая-то странная штука, которая ночью меняла его цвет, но я узнал, как её отключить, и теперь бассейн оставался холодно синим.
— Ведь ты должен куда-то идти, – сказала она чуть пылко, по-прежнему уставившись в ночь. – Нельзя просто сбежать и жить в коммуне или в монастыре. А я прибежала обратно к папочке, вы это хотите сказать? – Вовсе нет, – сказал я. – Я на вашей стороне, даже если вы сами – нет.
— Я очень устала, – сказала она, – пожалуйста, не говорите загадками.
— Можно просто сбежать и уйти жить в коммуне или в монастыре, или что-нибудь в этом роде, – сказал я, – но вы этого не сделали. Большинство именно так поступают, чтобы избежать кризиса, в котором вы сейчас находитесь. Они изгибаются, как гуттаперчевые мальчики, чтобы не сломаться, как сейчас ломаетесь вы. Они перескакивают в новые или старые системы и идеологии, где можно неограниченно долго сохранять отвлечённость. Они думают, что прорываются к свободе, тогда как лишь прокладывают тоннель из одной тюремной камеры в другую. В тюрьме Майи много камер. – Куда же я могла пойти?
— Есть большой выбор для того, кто достиг этого кризиса – Майя расставила предохранительные сети, чтобы ловить прыгунов. Вы могли бы назвать себя вновь рождённой христианкой. Нынче люди бросаются к милости Христа, если их сливки в кофе недостаточно взбиты, или чтобы сделать на пару ударов меньше в гольфе. Вы могли бы оставаться в прежней жизни и пойти по пути Иисуса, сейчас это довольно распространено. Либо вы могли бы пойти к психиатру, рассказать ему всё и залечить свой жизненный путь.
Сейчас можно оставаться на лекарствах с колыбели до могилы, я думаю.
Она посмотрела на меня сердито.
— Либо вы могли бы скупить полки нью-эйдж или самопомощи в вашем местном книжном магазине и примерять на себя одну терапию, или методику, или идеологию за другой, пока безмятежно протекают ваши годы. Вы могли бы пойти в буддизм и тянуть там время – он для того и предназначен. Или вы могли бы улететь в Индию или Японию и заняться самопоглощённым духовным исследованием, чтобы обнаружить своё внутреннее что бы там ни было. Есть множество мест, куда люди могут отправиться, когда хотят спрятаться от ответов, но, мне кажется, скорее всего, вы выбрали бы психиатра или Иисуса.
— Я могу представить себя делающей все эти вещи. Я определённо ощущаю соблазн. Думаю, на этом бы всё и закончилось.
— У Майи есть сила принимать приятную форму.
— Я думала, у Сатаны. – Вы так думали?
— Но я думала, что люди пытаются найти ответы, – проворчала она.
— Все ответы находятся в ясной видимости, трудность в том, чтобы не находить их. Вот что люди стараются делать. Вот для чего предназначены религия и духовность – помочь нам не замечать того, что совершенно очевидно.
— Оставаться во сне, вы имеете в виду. Оставаться в царстве сна.
— Человечество абсолютно пристрастилось ко сну. Больше чем к пище, сексу или выживанию – к иллюзии. Как можно разбить такую привычку?
— Как?
— Так, как это делаете вы – взорвать. Разрушить всё. Уничтожить себя.
Отлично.
— В сущности, то, что вы сделали – ушли в место не требующее многого, где можно сделать шаг назад от своей жизни, посмотреть на неё объективно и перегруппироваться – это лучшее из возможного. Может показаться, что это побег домой к папочке, но в действительности вы бежите в кризис, а не от него. Это война, если вы ещё не заметили, и вы не дезертируете. Знаю, это может выглядеть иначе, но вы должны гордиться тем, как вы себя ведёте до сих пор. Я говорю об этом в масштабе всего человечества, кстати. Вы – хороший солдат.
— Спасибо, – сказала она. – Наверно.
***
Рай, спасение, сострадание, осознанность, внутреннее спокойствие, мир на земле, доброе отношение к людям – всё это безопасные духовные цели, без забот и хлопот. Они нетребовательны, обтекаемы, благоприятны для жизни и невесомы для бумажника. Ни один из этих терминов не значит в реальности ничего, поэтому никого нельзя слишком обвинять в успехе или неудаче. Они не предполагают фанатизма – никто не взорвёт автобус во имя сострадания – поэтому не обретают дурной славы. В них мы можем почувствовать себя действительными участниками: присоединиться к группе, выполнять практику, купить пару книг, подписаться на рассылку, потусоваться с единомышленниками, приобрести аксессуары. Они не конфликтуют с нашими текущими условиями и могут быть легко интегрированы в наши деловые жизни. Чутьчуть медитации утром или вечером, часок в церкви в какое-нибудь воскресенье, накормить голодного ребёнка, время от времени что-нибудь почитать или обсудить, и наш духовный зуд адекватно почёсан. Никому не больно, никто не делает ничего безумного – и конечно, никто не выключается из великого муравейника и не пускается в одинокие странствования. Порой какой-нибудь очень рьяный молодой человек может исчезнуть в монастыре дзен, но, как правило, через несколько лет он появляется снова, ничуть не измотанный, и может написать книгу о своих переживаниях, чтобы время, проведённое внутри, не пропало совсем уж даром.
***
— Знаете, – продолжала Лиза, – я прочитала ваши книги. Я знаю, из чего вы исходите, и мне очень жаль, что я таком скверном настроении, но… – Правда?
— Правда что?
— Вам правда жаль, что вы в таком настроении?
Она громко выдохнула.
— Не знаю. Нет, наверное, нет.
— Мне тоже. Со мной нормально быть в том настроении, которое есть. У вас есть достаточно причин для беспокойства и без подавления своего эмоционального состояния. Вы в полузатраханном положении, зачем же притворяться, что это не так?
— Полузатраханном? – она засмеялась. – Мне кажется, это подходящее слово.
— Ваша жизнь впереди, а не позади. Вы теперь сами по себе.
— У меня есть вы, – сказала она нерешительно.
— У вас есть только вы сами, и это всё, что вам нужно.
Она тяжело откинулась на спинку своего кресла. Выглядела она абсолютно уставшей. Я стал говорить слова утешения.
— Вы очень умный человек, сбитый с ног этим личным апокалипсисом. Нужно время, чтобы ваше сердце и ум очистились. Дышите. Гуляйте. Спите. Относитесь к себе проще. Дайте себе какое-то время, но не слишком много. Используйте письмо, чтобы разложить себя по полкам. На этой стадии вы должны взломать ороговевшие старые слои дерьма, как неустрашимый викинг.
— Это расслабляет, – сказала она сухо.
Всё будет хорошо, даже лучше, чем вы можете себе представить, но сперва вы должны выполнить работу, трудную работу. Это может занять время, но когда всё закончится, человек, которым вы станете, будет невыразимо благодарен человеку, которым вы являетесь сейчас, за то, что он прошёл через это.
— И никак нельзя пропустить эту часть?
— Именно об этом мы и говорим. Мир полон людей и институтов, которые ответят «да» на этот самый вопрос. Можно попытаться отстраниться от этого, запрыгнув во что-нибудь другое.
— Не знаю, смогу ли я действительно пройти через это ради благодарности какой-то будущей меня.
— Тогда сделайте это ради детей. До настоящего момента это вами двигало. Похоже, вы не хотите видеть их, попавшими в западню, из которой вы сами только что выбрались. Покажите пример. Чего бы это ни стоило.
— У меня есть выбор?
— Не думаю.
— Я тоже, – сказала она, положила пустую бутылку на бок, как убитого солдата, встала и пошла в дом.
8. Утопия.
В контакте с потоком космического сознания все известные доселе религии растворятся. Наступит революция человеческой души. Абсолютно господствовать над народами будет Религия, которая не будет зависеть от традиции. В неё не будут верить или не верить. Она не будет частью жизни, занимая лишь отдельные часы, периоды времени от случая к случаю. Её не будет ни в священных книгах, ни в устах священников. Она не будет обитать в церквах, в сходах, обрядах, праздниках; в молитвах, гимнах или речах. Она не будет зависеть ни от особых откровений, ни от речей богов, которые спустятся, чтобы учить людей, ни от каких-либо библий. Она не будет нести миссию по спасению людей от их грехов, или помогать им войти в рай. Она не будет учить ни будущему бессмертию, ни грядущему великолепию, ибо бессмертие и всё великолепие уже есть здесь и сейчас. Очевидность бессмертия будет жить в каждом сердце, как взор живёт в очах. Сомнения в Боге и в вечной жизни будут также невозможны, как теперь невозможны сомнения в существовании – очевидность и того и другого будет одинаковой. Религия будет править каждой минутой каждого дня в жизни. Церкви, священники, церемонии, вероучения, молитвы, все агнеты, все посредники между индивидуальным человеком и Богом будут навсегда заменены прямой и ясной связью. Грех перестанет существовать, как и стремление к спасению. Человек не будет беспокоиться о смерти, о царстве божием, или о том, что будет во время и после прекращения жизни этого тела. Каждая душа будет чувствовать и знать своё бессмертие, и что вся вселенная со всеми её богами, со всей красотой создана для неё и принадлежит ей навечно. Мир, населённый мужчинами и женщинами, обладающими космическим сознанием, будет также далёк от сегодняшнего мира, как мир нынешний от того, каков он был до появления самосознания.
– Отрывок из «Космического сознания», Ричард Морис Бёкк, доктор медицины –9. Дистопия
– Начинаешь ли ты понимать теперь, какой мир мы создаём? Это точная противоположность тех идиотских гедонистических утопий, воображаемых старыми реформаторами. Мир страха, вероломства, мучений, мир попранных и попирающих, мир, который по мере усовершенствования будет становиться не менее, но более безжалостным. Прогресс в нашем мире будет движением ко всё большей боли. Старые цивилизации заявляли о том, что они основаны на любви и справедливости. Наша же основана на ненависти. В нашем мире не будет иных эмоций, кроме страха, гнева, торжества и самоуничижения. Всё остальное мы уничтожим – всё… Не будет другой преданности, кроме преданности партии. Не будет другой любви, кроме любви Большого Брата. Не будет другого смеха, кроме смеха торжества над поверженным врагом. Не будет ни искусства, ни литературы, ни науки. Когда мы всемогущи, нам больше не нужна наука. Не будет разницы между красотой и уродством. Не будет ни стремления к познанию, ни наслаждения процессом жизни. Все конкурирующие удовольствия будут уничтожены. Но всегда – не забывай об этом, Уинстон – всегда будет опьянение властью, постоянно увеличиваясь и становясь всё более утончённым. Всегда, каждый миг, будет волнение от победы, чувство подавления беспомощного врага. Если ты хочешь образ будущего, представь ботинок, наступающий на человеческое лицо – навечно.
О'Брайен Уинстону Смиту. Отрывок из "1984" Джорджа Оруэлла.10. Миопия[11].
Храбрыми, невозмутимыми, насмехающимися и яростными – такими нас хочет видеть Мудрость.
Мудрость – это женщина, а женщины любят только воинов.
– Фридрих Ницше –Я и доктор Ким вошли в здание конной арены, опоздав на несколько минут. Мы тихонько сели на скамейку у самого края. Тридцать или сорок человек сидели на большой откидной алюминиевой трибуне, и женщина, как я понял, Брэтт, стояла перед ними внизу на песке. На ней были джинсы и джинсовая рубашка. Это была сильная, но не коренастая, женщина с волосами коричневато-рыжего цвета, около сорока лет, попоходному и чисто одетая. В тот момент у неё был такой вид, словно её терпение подвергалось проверке. Моложавый человек лет шестидесяти объяснял, что его духовный ментор, Шри такой-то, наказывал ему, что долг каждого чувствующего существа нежно любить землю и работать для духовного освобождения всех чувствующих существ.
— Сострадание к человечеству – это смысл нашего существования, – говорил он. – Только таким образом наше время на земле имеет значение и цель. Как могу я, к примеру, сконцентрироваться на собственном духовном освобождении, когда так много людей ещё живут во тьме?
Этот человек источал елейную искренность, и я было засомневался, туда ли я попал. Звали его, как он доложил, Стэнли. Рассказав о том, что он духовный искатель уже долгое время, сорок с чем-то лет, он отчеканил длинный список имён довольно известных духовных учителей и авторов – американских, английских и индийских – и сослался на них как на своих возлюбленных гуру.
— Большая часть мира гниёт от нищеты, насилия и болезней, – продолжал он. – Люди везде живут в безнадёжности и отчаянии. Они не знают, что есть лучший путь, что изобилие, сияющее благополучие и необычайная радость являются их естественным правом от самого рождения. Они не знают, что они не человеческие существа, получающие духовный опыт, но духовные существа, получающие человеческий опыт. Мой гуру учит, что обязанность тех, кто имеет глаза, чтобы видеть, прийти на помощь менее удачливым, так как духовное восхождение человеческой расы должно включать всех – мы не можем исключить никого. Мы хранители наших братьев, мы сторожа этой райской планеты. Как чувствующие существа мы обязаны нести послание любви и сострадания нашим товарищам. Пока все живые существа не обретут способность видеть духовными глазами…
— Если вы ещё раз скажете слово «духовный», – сказала Брэтт сильным, но тихим голосом, – я высеку вас розгами.
О, слава богу, я попал куда надо.
Прерванный на полуслове угрозой Брэтт, Стэнли снисходительно улыбнулся, однако продолжил.
— Да, конечно. Я наслышан о вашем крутом любовном подходе, – сказал он с лёгким осуждением, – но если вы хотите стоять не перед кучкой студентов, а снискать уважение всего духовного сообщества, вам придётся принять более сострадательный тон и расширить свой духовный кругозор, чтобы охватить не только крайних радикалов, но всех ваших друзей и товарищей. Мы все, знаете ли, на одной стороне. – Он улыбнулся и хлопком соединил ладони вместе. – Мы все вместе в этом деле.
Стэнли явно очень умный парень, но я никогда не встречал, чтобы интеллект типа «чем больше, тем лучше» применялся в таком отношении. Потом он стал вроде бы задавать вопрос, но это больше походило на лекцию. Он начал с сознания, что почти расстроило меня, поскольку есть только одно, что можно знать о сознании, и говорить об этом довольно много означает не знать этого. Потом что-то о переживании, случившимся с ним в медитации, во время которого, если я понял правильно, он растворился в своей мантре, затем последовало божественное откровение, и затем его мантра и сердце стали едины и очистились таким образом, что это имело каким-то образом атрибуты верховного гуру, от которого, доложил он нам, нисходят все остальные гуру, и чьей милостью он смог увидеть за пределы формы в суть, которая, в свою очередь, есть любовь, которая, в свою очередь, есть Бог, который, в свою очередь, есть верховный гуру, который, в свою очередь, есть Я, и таким образом он пришёл к истинному пониманию, что знание Брахмана есть единственное реальное знание, и это переживание оставалось в его сердце в первичной, неразбавленной форме почти две недели. Возможно, я не всё передал в точности верно. Стэн закончил всё это вопросом, который имел какое-то отношение к поиску счастья, и его слиянию с человеческим поиском освобождения.
— Окей, Стэнли, – сказала Брэтт, – давайте-ка, садитесь на место.
— Мой учитель настаивает на открытом диалоге, – сказал Стэн, не садясь. – Он говорит, что единственная плохая идея — это та, которую мы не выражаем. В мире, полном насилия и раздора, было бы настоящей пародией, если бы те, кем мы стали ради духовного руководства, были неспособны иметь дело со свободным потоком идей и возвыситься над мелочными тиранами злости и зависти.
— Да, – сказала Брэтт, – пародия была бы что надо. – Она обернулась к группе. – Теперь, для тех из вас, кто ещё не знает – здесь не сообщество для прений, и уж конечно не грёбаная демократия. Я стою здесь не для того, чтобы заслужить ваше одобрение или втюхать вам дерьма с собственной торговой маркой. Мы здесь не медитируем и не поём песнопения, не сливаемся с нашими мантрами и не пытаемся очистить ум или душу, или стать счастливыми, или заработать свою вечную награду, и уж конечно мы не собираемся спасать мир или наших товарищей. Всё, что мы здесь делаем, и только это – пытаемся выяснить, что чёрт возьми происходит. Вот и всё. Если вы не находите это полезным времяпрепровождением, или если вы думаете, что уже всё знаете, тогда проваливайте и возвращайтесь, когда вас не нужно будет тащить с пинками и окриками каждый дюйм дороги.
Она повернулась к Стэну.
— Стэн, надо отдать вам должное – я знакома со всеми идиотскими нью-эйждевскими книжными клише, но я никогда прежде не слышала их вот так в одной куче. Вот что вам нужно сделать: поставить себе хорошенькую черепную клизму и вымыть эти сорок лет дерьма из своей головы. Вы как маленький мальчик, который говорит о пиратах и динозаврах, будто знает их всех лично, только вы слишком стары, чтобы быть маленьким мальчиком, и поэтому на вас тяжело смотреть. Я не знаю, чем вы занимались с шестидесятых годов, но это не имеет ни малейшего отношения к пробуждению. Наверное, это что-то совсем другое. Я много наслышалась глупостей в своё время, и многое звучало как та слякоть, которую вы сейчас изрыгали, но послушайте, я говорю вам это по доброму: то, о чём вы говорите, ничего не стоит. Ваши сорок лет пропали даром. Всё это ничего не значит, ни к чему не ведёт. Вас обманули, вы обманываете, и вы сами – ложь.
Я определённо там, где надо.
Стэнли начал было что-то отвечать, но она подняла руку, чтобы прервать его, и обратилась к женщине возле него.
— Зачем вы привели его, Молли? Он что, вас совсем достал?
Молли, привлекательная женщина лет пятидесяти с небольшим, не ответила. Брэтт подошла к ней и строго посмотрела на неё.
— О, я знаю, – сказала Брэтт со смехом, – всё понятно. У вас начались отношения, верно? Подумали, что вы оба духовные люди, так что получится неплохая пара. Но потом стало невозможно выдерживать его возомнивший ум с его карьерой ученичества и строем возлюбленных гуру, поэтому вы привели его сюда, чтобы я потолковала с ним, не так ли, маленькая трусиха?
Она сказала это так нежно и любяще, и ни Молли, ни кто-либо другой не обиделся. Вообще, несмотря на некую неподвижность и стеклянные глаза тех, к кому она обращалась, никто, похоже, сильно не обижался на шероховатую манеру Брэтт.
Мне она и правда начинала нравиться. Прямой разговор на чистом английском. Я никогда не встречал никого подобного ей, и находил её успокаивающей. Как если думаешь, что ты единственный в чём-то, и вот, есть ещё один, и это делает мир другим – слегка менее чужим. Не то, что вы связаны, но, в общем, могли бы.
Брэтт отошла на несколько шагов, чтобы обратиться ко всей группе.
— Когда у вас появляется вопрос такого рода, когда подобная чепуха бултыхается в вашей голове, вашей единственной задачей должно быть вылезти из того места, где такой вопрос кажется имеющим смысл. Уверяю вас, вам не придётся лезть долго – лишь один маленький шажок вверх. Всё это разглагольствование о переживании, сознании, человечестве, счастье и гуру — это чистой воды отрицание и здесь ему не место. Если вам это нравится, вы не туда попали. Мы здесь не для того, чтобы потворствовать подобным детским фантазиям. Слушайте все внимательно, потому что это в точности тот тип удобрения, который они вам там продают. Этот джентльмен, Стэнли, является живым примером духовной близорукости. Представьте его сидящим в позе лотоса, пальцы сложены в ОК, глаза закрыты, улыбка как у блаженного кролика, а за ним такой здоровенный самосвал вываливает на него огромную кучу дымящегося навоза. Вы слушаете? А за рулём самосвала, показывая из окна большое ОК и улыбаясь, как они это делают, его возлюбленный гуру. Как вам это для нью-эйдж постера?
Я следил за Стэнли, на случай если его нужно будет утихомирить. Губы его были плотно сжаты, но он был сдержан.
— Я позволила Стэнли поболтать немного сегодня, потому что он является превосходным примером того, кто несмотря на хорошее сердце и мощный ум, умудрился оставаться в кромешной тьме в течении сорока лет поиска света. И вам всем очень важно посмотреть на это и попытаться понять, потому что Стэнли — это не исключение. Это правило. Где-либо ещё на этого парня смотрели бы так, как будто он сам практически гуру. Она повернулась к Стэну.
— Уже написали книгу, Стэнли?
Он смотрел на неё с полуулыбкой, как будто снисходительно.
— Я кстати работаю над книгой о моих годах с… – Конечно, написали. Господь с вами. Она снова повернулась к группе.
— Мы видим в Стэнли абсолютное отрицание, можно сказать изощрённое увиливание. Нет ответа на тот типа вопрос, который Стэнли сейчас попытался задать – этот вопрос даже не имеет смысла, хотя кажется, будто имеет. В этом всё дело. Вот почему это увиливание. Все знают, что такое увиливание? Если кто-то и не знал, он не встал и не возвестил об этом.
— Стэнли, я не знаю, чёрт побери, что вам сказать. Если бы я могла найти вас сорок лет назад, я знала бы, что сказать. Я начала бы с того, что дала бы вам по носу, чтобы привлечь внимание, а потом сказала бы то, что я говорю этим людям раз в месяц. Перестаньте тупить. Нет закона, который заставляет вас тупить, вы делаете это добровольно, и я бы посоветовала вам бросить это, иначе через сорок лет ваш второй подбородок скажет вам, что уже слишком поздно, что у вас был шанс, но вы его просрали, а это я вам говорю сейчас. В Китае есть пословица: Лучше всего перестать тупить было сорок лет назад, а ещё лучше перестать это делать сейчас. Может, завтра вам на голову упадёт рояль и выбьет всё это дерьмо из вашей головы, но мне кажется, вам вряд ли так повезёт.
Он начал говорить, но она перебила его.
— Не надо выяснять со мной отношения, Стэнли. Ваше чувство собственной важности и ваши миссионерские идеалы позволяют вам чувствовать себя кем-то особенным, делающим что-то священное, но всё это ложь – вы просто испуганный мальчуган, прячущийся от своей собственной жизни. Я чувствую это, как если бы вы окунулись в дешёвый парфюм. Вы боитесь открыть глаза, и выдумываете мир, где вы становитесь Иисусом, спасающим прокажённых и нищих, а они все целуют вашу задницу, за то, что вы такой славный чувак. В раю заиграл бы оркестр, завидя вас за километр.
Она вновь повернулась к группе.
— А вы все не принимайте это слишком близко к сердцу. Так поступают все, включая ваших любимых менторов и гуру, и самое безумное в этом – не видеть, насколько это всё безумно. Пять минут перерыв.
Стэн и Молли оживлённо покинули помещение. Брэтт подошла и села рядом со мной. Я уставился на неё.
— Что? – спросила она.
— По-моему, я влюблён, – ответил я.
— Значит, у вас хороший вкус, – сказала она.
Она протянула руку, и я пожал её.
— Откуда вы? – спросил я. – Из Техаса?
— Отовсюду. Дочь полка. – А акцент?
— Абсолютная чушь. Это просто персонаж, нисходящий на меня, чтобы я могла говорить с людьми, не вводя их в ещё большее заблуждение, чем уже есть. Я тихая и никогда не ругаюсь. – Она улыбнулась. – Я скромная.
— Это было целое представление.
— Просто прочищала горло. Если не следить за ними, они начнут приводить своих ньюэйджевских приятелей и всё превратится в вечеринку с объятиями и свечами, все будут петь Кумбайю и спасать мир. Они приносят мне своих детей-уродцев, как будто я должна с ними нянчиться и ласкать их. – Детей-уродцев?
— Свои верования. Все верования похожи на детей-уродцев, вы так не думаете? Каждый думает, что его вера самая красивая в мире, но все они выглядят и пахнут для меня одинаково. Я считаю, наша работа говорить им, что их дети уродливы, и чтобы они повыкидывали их в реку. Вы когда-нибудь понимали буддизм?
— Нет, мэм.
— Я тоже. Просто куча дешёвых духόв, вот что я могу сказать. Должно быть, я не права, но я знаю, что права.
— Впечатляющий стиль обучения.
— Отчасти благодаря вам. Пока я не прочла вашу книгу, я намного менее ясно выражалась. Я знала то, что знала, но не могла найти слов. Док дал мне вашу книгу, и так я узнала, как об этом говорить. У вас больший успех с мужчинами или женщинами?
— Примерно поровну, я думаю, но женщины более экспрессивны. Мужчины доходят до точки, где они должны идти сами, и исчезают на год или два. А у вас?
— У меня полный ноль, – сказала она, – но за несколькими я наблюдаю. Испытываете приятные чувства, когда кто-нибудь доходит до конца?
Я на мгновенье задумался.
— В общем, нет.
Она засмеялась и закивала головой.
— Прескверная штука, не правда ли? – сказала она. Это была моя первая встреча с Брэтт.
11. Биг Мак атакует.
Я лучше буду пеплом, чем пылью! Пусть лучше моя искра сгорит в сверкающем пламени, чем потухнет в сухой гнилушке. Я лучше буду великолепным метеором, каждый атом которого изумительно сияет, чем сонной и вечной планетой. Человеку пристало жить, а не существовать. Я не стану терять свои дни в попытках продлить их. Я буду использовать отпущенное мне время.
– Джек Лондон –Через несколько недель жизни в поместье с Лизой и Мэгги, у каждого из нас установился свой привычный будничный распорядок, и, пересекаясь один или два раза в день, мы имели при этом достаточно личного пространства и времени. Они выходили к бассейну каждое утро около одиннадцати, чтобы искупаться, выпить лимонада и полчаса поваляться в шезлонге под солнцем. Мне было приятно, что они были рядом, и это не мешало моей работе.
Поздний завтрак – мой главный приём пищи, и каждый день я делаю одно и то же: выкладываю всё, что нахожу в холодильнике, начиная с того, что купил в магазинах этим утром, когда ходил в город с Майей. Я выбрасываю всё, что кажется слишком старым или непопулярным, а всё остальное кладу на кухонную стойку. Лето двигалось вперёд, и всё больше людей приходило и уходило в течение дня, они приносили свои продукты, купленные в магазинах перед приходом, так что это становилось всё больше похожим на некую коммуну. Приятно, когда еда не доставляет слишком много хлопот – без разногласий, без готовки и потом легко убираться. Также приятно быть довольно сносным хозяином, не слишком при этом утруждаясь. Я делаю несколько походов к этому буфету в течение дня, и перекусываю лепёшками с рыбой или чем-нибудь лёгким во время ночной прогулки с Майей и визита к Фрэнку, и это удовлетворяет моим запросам едока и обязанностям хозяина.
Обычно я каждый день покупаю что-нибудь новенькое, или то, что закончилось. Лиза освоилась с этим с самого начала и сама стала пополнять наши запасы. Легко понять, что популярно, а что нет, но также неплохо сохранять интерес, принося новые продукты, наблюдая, как к ним отнесутся. Непопулярные продукты естественным образом перемещаются к задней стенке холодильника или ящиков и выбрасываются примерно раз в неделю. В общем, это большая часть дневной рутины возле бассейна, где я работал, и куда другие люди приходили поговорить, или помочь, или просто искупаться, поесть и позагорать.
Спустя пару недель такого удобного ритуала Лиза придвинула стул к моему столу, где она обычно сидела во время ежедневного недолгого разговора. Сегодня у неё была необычная просьба.
— Мэгги хочет спросить, может ли она взять у вас интервью, как Джулия в первой книге?
Я оторвался от работы и изучающее посмотрел на Лизу, оценивая, правильно ли я её понял. – Мэгги читала мою книгу? – спросил я.
— Она прочла обе ваши книги. И не один раз. У неё в ноутбуке есть электронные версии, так что она прочитала и дополнительные материалы. Она говорит, вы ненавидите йодль, любите смерть, и думаете, что вселенная – это большой игривый щенок. Это правда?
— Ээ, насчёт щенка, да, – ответил я и посмотрел на неё поверх своих очков для чтения. – Прямо сейчас это не очень хорошая идея.
— Она прочитала ваши книги, так как, – она поколебалась и продолжила, – подслушала ссору между её отцом и мной, и ей пришло в голову, что вы виновны.
— В чём?
— В, ээ, развале нашего дома и нашей семьи, я полагаю. – Понятно, – сказал я, ничего не поняв.
— Должен сказать, – сказал я ей, – и поверьте, мне очень не хочется это говорить, что вообще-то я не могу принимать участия в, ээ, человеческих делах. Извините, я знаю, как глупо это звучит, но так обстоят дела. Если вы предполагаете, что ваша дочь может извлечь пользу, проведя время со мной как часть процесса её исцеления, или это поможет ей найти правильный путь, то вы ошибаетесь. Никто не получит от меня пользы, не таким образом.
— Нет, это не то, что я предлагаю…
— У меня нет контекста, или даже воспоминаний о контексте, в котором можно вести какой-либо светский разговор, кроме самого простейшего. Я даже многих слов не помню, или почему одно может быть лучше чем другое. Я могу быть совсем неправильным…
— Я признательна вам за…
— Не думаю, что вы можете быть признательны крушению поезда…
– Я не это хотела…
— Я совершенно бесполезен в отношении… – Джед!
— А, да?
— Вы можете меня не перебивать? – Мм, – я задумался, – да?
— А что, если она не будет касаться личных вопросов? Она будет оставаться имперсональной, непредвзятой?
— Она сможет? Ничего не понимаю. Как такое возможно? – Возможно, если у неё будет взрослый наставник.
— Вы?
— И её дедушка.
— О, – я задумался, – да это запланировано.
— Это обсуждалось.
— И вы с Фрэнком будете что? Консультировать её? Натаскивать?
— Мы можем помочь ей придумать хорошие вопросы и понять ваши ответы. Просмотреть с ней её записи. Не думайте, будто мы хотим вас препарировать.
Это меня рассмешило.
— Препарировать – это нормально, – сказал я. – Я не нахожу ничего неприятного в острых лезвиях, это тупые мне жутко не нравятся. Но всё равно, я не могу согласиться. Приведите её, мы поговорим, а потом посмотрим.
Она нахмурилась.
— Не понимаю, почему это должно быть так сложно, – сказала она.
— Не понимаю, в чём тут сложность, – ответил я.
***
Причина, по которой я не дал согласия, была в том, что это не пришло в соответствие или в фокус, и я осознаю это. Я буду наблюдать, и если станет ясно, что это должно произойти, тогда мы сможем это сделать. Так работает моё соглашение со вселенной о третьей книге. Единственная причина, по которой я нахожусь здесь и контактирую с этими людьми, это третья книга. Иначе, чем для третьей книги, не могло возникнуть и вопроса о том, чтобы меня допрашивала возможно злая или обиженная молодая особа, натасканная своей матерью в кризисе и немного чокнутым дедом. Я не стал бы встречаться с этими людьми и отвечать на их вопросы более глубокие, чем дебит или кредит, бумага или пластик[12].
Вот, например, эта девочка, Мэгги. У меня нет личной заинтересованности, сбудется ли её план относительно меня. Не то, чтобы у меня была способность питать интерес, и по какой-то причине я его не питаю, но у меня нет такой способности. У меня нет контекста, внутри которого один результат может быть лучше или хуже другого. Но что у меня есть, тем не менее, так это соглашение со вселенной. Я напишу книгу, если всё сложится – такова сделка. Вселенная точно знает, что я имею в виду под этим, и я тоже. То есть, это именно то, что мы видим сейчас в этой ситуации с Мэгги. Части должны встать на свои места без нужды заставлять их или подгонять. В действительности это соглашение не более, чем вдох вступает в соглашение с выдохом. Это просто распознавание, узнавание. Я являюсь частью процесса. Он работает так, как работает.
Всё, что я могу сказать на этой ранней стадии, это вселенная хочет третью книгу, потому что части безошибочно встали на свои места, и так происходило на каждом этапе пути. Мозаика складывается, и я уверен, что интервью с дочерью Лизы тоже встанет на место. Тем не менее, это ещё не произошло. Оно ещё не защёлкнулось в пазу, поэтому мы подождём. Может быть, оно защёлкнется, а может, нет. Я могу всё испортить, плохо сыграв свою роль. Сказать девочке «да» прежде, чем «да» станет очевидным для меня, было бы некорректным и неприятным. Это было бы искусственным, насильственным, испуганным, эгоистическим, то есть неправильным. Придёт время сказать «да», и всё пройдёт как по маслу, безупречно, первоклассно, если позволить этому произойти.
Лиза не понимает, почему это должно быть таким сложным, потому что она не видит, насколько это просто. И я обращаюсь так не только с ней и с её дочерью, так я делаю всё. Так интегрированное существо устанавливает связь и гармонию со вселенной, и безусильное совершенство, ясно видимое в каждом аспекте неэгоистичсекого творения, доставляет радость также на личностном уровне. Я овладел вселенной через безусловную сдачу. Я достиг абсолютного контроля путём отпускания всякого контроля. Ничего не контролируя, я контролирую всё. Только взяв на себя контроль, могу я утерять его.
Я не помню, что значит работать, трудиться, делать что-то неприятное для себя. Я не провожу различия между работой и не-работой, будним днём и выходным. Я не беру отгулов и не ухожу в отпуск. В среднем, я провожу около четырёх часов в день за работой, но я не думаю об этом как о работе, как я не думаю, что прогулка с собакой – это игра, а поход в магазин – это домашняя работа. Для меня почти абсурдна идея, чтобы делать то, чего мне не хочется. Если же что-то нужно сделать, придёт время, когда мне захочется это сделать. Если время не приходит, я этого не делаю, и этого не нужно было делать. У меня нет расписаний, или назначенных дел, или режима дня. У меня нет концепции обязанности, долга, ответственности. У меня нет ни связей, ни уз, ни членства.
Однако, для Лизы именно этим и была жизнь – расписания, обязанности, ответственность – бесконечное вращение тарелками. Всю свою взрослую жизнь она только и делала, что неистово крутила тарелками на палочках, как старом водевиле, снуя туда-сюда в вечной панике, боясь, что одна из них может упасть и разбиться, каждый год добавляя всё больше, демонстрируя этот одержимый, жуткий танец не по пять минут в день, но каждую минуту каждого дня в течение многих лет без конца и края, до тех пор, пока… Пока просто не остановилась бы.
Что она в конце концов и сделала. Она встала между двух невообразимых вещей – продолжать крутить тарелками и перестать крутить тарелками – но мало по малу за три года одна невообразимая вещь стала менее невообразимой, и это произошло. Она остановилась. Все тарелки с грохотом попадали и разбились на мелкие кусочки, и теперь она пытается понять, что уцелело, если что-то и уцелело, после такой вероломной измены. Было ли это вращение тарелками тем, кем она была? Или лишь тем, что она делала? Прошло уже два месяца, но она всё ещё не знает.
Не с каждым бывает так же, конечно, и возможно, очень немногие чувствуют, что тонут в собственной жизни. С некоторыми происходит всё гораздо хуже, чем с Лизой, с некоторыми намного лучше, но здесь нас касается не качество неосознанной жизни, а сама неосознанность, которая принимает многие формы.
Одержимое вращение тарелками – это одна из них.
Если бы мне пришлось прожить всего один, даже относительно спокойный, день из прежней жизни Лизы, или, если на то пошло, нетрудный день из жизни её мужа, я бы подумал, что проклят. Простая встреча с приятелями в воскресенье, чтобы попить пива и посмотреть футбол, была бы адской мукой. Высшая точка в году Лизы и Дэнниса – отпуск – кажется мне непереносимым испытанием. Если мне пришлось бы провести пять минут на круизном корабле, или в Лас-Вегасе, или там, где ходят люди в костюмах мышей, я постарался убежать бы оттуда как из горящего дома. То, что люди подвергаются таким испытаниям добровольно, ради удовольствия и за умеренную плату, находится совершенно вне моего понимания.
Как всегда, важно помнить, что мы говорим не обо мне лично. То же самое будет верно для любого, даже скромно развитого, Взрослого Человека. Или, может быть, это аспект однонаправленности – человек, выполняющий специфическую задачу, любой, кто сконцентрирован полностью на одной вещи, исключив все остальные, найдёт, что все остальные, не входящие в его задачу занятия, одинаково скучны. А может, и то и другое. Возможно, каждый человек, находящийся в состоянии развивающейся Взрослости, испытает естественное уменьшение своих интересов от многих до нескольких и даже до одного, когда войдёт в сонастроенность, когда расчистит мусор и откроет своё истинное призвание. А может, ни то, ни другое. Может, я просто становлюсь старым болваном.
Я наблюдаю за человеческими жизнями, и никогда не перестаю поражаться, как люди расточают единственное истинное богатство, которое у них есть, несмотря на то, что не знают, когда оно закончится, только что закончится когда-то, разбрасывая минуты, часы и дни, словно это горячие угли. Что же ещё может означать пребывание во сне, как не такое бездумное распоряжение нашими собственными жизнями? Какой же симптом нахождения во мраке может быть более безусловным? Каждая минута, которую мы проводим забыв о ценности этой минуты, это минута неосознанности. Это не какая-то сумасбродная схема, как во времени поймать настоящий момент, это просто означает быть пробуждённым.
Лиза провела большую часть времени, запутавшись в колючем подлеске своей жизни. Не думаю, что она уникальна в этом отношении. Полагаю, большинство людей так связаны своими ложными верованиями, так туго запелёнуты в свои выдуманные личности, что пробиться к ним не может уже никакое знание о том, что такое жизнь, и как она работает, о том, кто они на самом деле, или о своём правильном положении в творении. Немногие понимают, что такое в реальности рай и ад, что они сгнивают в последнем, не догадываясь, что им по праву принадлежит первый. Возможно, это не кажется адом, когда мы внутри него, просто обычная жизнь, но когда мы выходим из него, как Лиза сейчас начинает понимать, мы видим наше прежнее состояние как бессознательные мученические корчи. Очень немногие люди имеют даже смутное представление о том, что такое живая духовность, интегрированность, богатство, сила и красота, и меньше всех так называемые специалисты.
Может быть, я преувеличиваю? Кажется, что да, но когда я пытаюсь опровергнуть свои ощущения на этот счёт, я только укрепляюсь и углубляюсь в них. При каждом удобном случае я, используя библиотеки, книжные магазины и интернет, разыскивал лучшее мышление, самые просветлённые умы, самых ясных собеседников на самые высокие предметы, выясняя послание, которое они несут. Сперва я начал думать более оптимистично о духовном состоянии человечества, но потом проступила тщедушность, ужасная эгоцентричность, которая является застывшей сталью, железобетоном иллюзии, и я неохотно отдал честь Майе, и решил больше никогда не пытаться.
***
Я вышел из задумчивости. Лиза смотрела на меня в ожидании. Мы, как я помнил, обсуждали идею о том, что её дочь Мэгги задаст мне пару вопросов.
— Если вы хотите знать, как я буду отвечать, – сказал я ей, – спросите меня что-нибудь.
Она минуту размышляла.
— Окей, – сказала она, смущённо засмеявшись, – если бы вам пришлось стать ингредиентом Биг Мака, каким бы вы были? И почему?
Я тоже засмеялся.
— Это и есть ваш вопрос? – сказал я. – Где вы такой откопали?
— Начальник отдела кадров задал мне его, когда я проходила собеседование, устраиваясь на стажировку однажды летом.
— И что вы ответили?
— Давайте не будем обо мне.
Я подождал.
— Это застало меня врасплох, – сказала она, – но вероятно, в этом и был смысл. Я сказала, что была бы особым соусом, так как он дерзкий, но загадочный.
Мы оба засмеялись.
— Что такого загадочного в особом соусе? – спросил я.
— Разве это не что-то вроде секретного рецепта?
— Не знаю. Я думал, это всем известный соус.
— Я тоже не знаю. Я даже никогда не ела Биг Маков, только знаю ингредиенты из рекламы. – Вас взяли на работу?
— На стажировку. Да, взяли. Итак, как бы вы ответили, если бы Мэгги спросила? Каким бы ингредиентом Биг Мака вы были?
— Любым, у которого есть способность уничтожить своё существование.
Она уставилась на меня, не понимая, шучу ли я.
— Нет, ну правда. Что бы вы ответили, если бы Мэгги спросила?
— Любым ингредиентом, у которого была бы способность уничтожить своё существование.
— Серьёзно?
Я пару секунд раздумывал над тем, есть ли у меня другой ответ, но нет.
— Думаю, да.
— Ну, правда, Джед, подумайте. Ингредиенты Биг Мака не могут убивать себя.
— Тогда я убил бы себя, когда мог, пока они ещё не пришли.
– Кто не пришёл?
— Кто бы то ни был, кто превратит меня в бессильный ингредиент.
— Вы не ответили на дух вопроса.
— Мне кажется, я ответил, хотя сомневаюсь, что меня взяли бы на работу.
— На стажировку. Самоубийство не было одним из вариантов.
— Оно не было явным, но оно там было. Оно всегда есть.
— И как бы вы ответили, если бы Мэгги задала этот вопрос?
— Ну, нельзя быть уверенным, но, пожалуй, это звучит так, как я бы сказал.
Она смотрела на меня ещё одно большое мгновенье, затем резко откинулась.
— Бред, вам не кажется? – она потёрла глаза. – Ну ладно, не буду в вами спорить. Она читала ваши книги. Мы прошли точку невозвращения. Надо просто попробовать это сделать.
***
— Мистер МакКенна, можно взять у вас интервью для моего летнего сочинения? – Нет.
— Почему нет?
— Я не знаю.
— Но почему ответ «нет»?
— Потому что он не «да». – Вы дразнитесь?
— Нет, так только кажется. Я обращаюсь с тобой с уважением. Ответ «нет», потому что он не «да».
— Значит, если бы ответ был «да», это было бы потому, что он не «нет»?
— Нет. Если бы ответ был «да», он был бы «да», потому что на это было бы указано.
— Значит сейчас указано на ответ «нет»?
— Только потому, что на ответ «да» не указано.
— Как указано?
— Не знаю.
— Но вы знаете, когда на что-то указано?
— Да.
— Вы не можете просто подумать и выдать собственный ответ?
— Конечно могу, и ты можешь надеть повязку на глаза и идти по жизни, нащупывая дорогу тросточкой, но для чего? У тебя есть глаза.
— Я хотела попросить дедушку помочь мне с этим. Я промолчал.
— Он и моя мама могут помочь мне задать хорошие вопросы и понять ваши ответы. Я промолчал.
— Как вы думаете, это могло бы изменить ваше решение?
— Не было никакого решения, только наблюдение.
— Могло ли это изменить ваше наблюдение?
– Конечно.
— Правда?
— Не знаю.
— Но ответ может быть другим завтра?
— Конечно.
— А через десять секунд?
— Конечно.
Через десять секунд.
— А теперь на это не указано?
— Нет.
— Могу я вас завтра спросить об этом?
– Не знаю.
Несколько секунд она смотрела на меня.
— Мы ведь уже начали, не правда ли?
— Похоже, что так.
— Значит, на это должно быть указано.
— Должно быть.
— Можно спросить, как на это было указано?
— Что мы уже начали.
Она весло хихикнула.
— Muchas gracias, senor.
— De nada, senorita[13].
***
— Полагаю, мы ещё поговорим с Мэгги, – сказал я Лизе, когда Мэгги отправилась спать. – Вы должны всегда присутствовать, и мне бы хотелось иметь копию её записок на тот случай, если они понадобятся для книги.
— Да, хорошо, конечно. Спасибо, что были так снисходительны и уравновешены. В последнее время я не чувствую себя уравновешенной.
— Всё идёт так, как идёт. Я уверен, вы в курсе, что если дело дойдёт до тяжбы за опекунство, они обвинят вас в поклонении грязному культу, и вы никогда больше не увидите своих детей без присмотра?
— Да, – сказала она уныло, – но здесь мы тоже прошли точку невозвращения.
Она обвела рукой окрестности.
— Мы уже живём в ваших владениях.
12. Это утверждение ложно.
Для меня реальный мир каждое мгновенье словно совершенно теряет свою реальность. Будто ничего нет, нет никакой основы, либо она не видна. Живо присутствует, однако, лишь одно: постоянное срывание маски видимости, постоянное разрушение всего созданного. Ничто не удерживается – всё разваливается на части.
– Юджин Ионеско –Я работал, Лиза ёрзала. Нелёгкое это занятие – ничего не делать – для того, кто привык одержимо занимать себя каждую минуту бодрствования с тех пор, как начал ходить и говорить. Усилия, которые Лиза прикладывала, чтобы сидеть тихо и не мешать мне, были осязаемы – они как пульсирующий гул наполняли пространство. И хотя она не двигалась и не производила шума, её энергия заставляла мой ум вибрировать.
А может, тому виной были лекарства.
Было за полдень. Мы сидели возле бассейна за моим рабочим столом. Майя дремала пузом кверху в одном из шезлонгов. Мэгги проводила эти дни с друзьями в общественных бассейнах или где-то ещё. Сегодня у мня уже было достаточно неприятностей, и я начал снова приходить в своё комфортное состояние, когда Лиза, бесцельно шатавшаяся по двору, подошла и села рядом с такой натужной непринуждённостью, что попытка не скорчиться заставила меня скорчиться. Я прочёл одно и то же предложение пять раз, прежде чем осознал, что смысла в этом нет. Ещё несколько минут я сохранял вид занятости, наслаждаясь её дискомфортом. Она продержалась на минуту дольше, чем я предполагал.
— Я могу помочь вам с записями, – сказала она наконец, – или ещё с чем-нибудь. Я слегка кивнул, не отрываясь от экрана.
— Не за плату, конечно, просто чтобы быть полезной, – добавила она.
Я не отвечал.
— Я изучала английский в университете, – сказала она минутой позже. – Хотела даже преподавать.
Я кивнул с отсутствующим видом.
— Я очень организована, и я довольно хороший корректор: у меня много опыта с юридическими документами и корреспонденцией.
— Да, окей, – пробормотал я, – посмотрим.
— О, конечно. Как вам будет угодно.
Я наблюдал её дискомфорт ещё пару минут.
***
«Я знаю, что значит быть внезапно отключённым, – мог сказать я ей. – Я знаю, каково это в начале, когда ты выброшен на произвол судьбы, больше не являясь частью чего-либо, отрезан от всего, что тебя всегда определяло. Ни дома, ни людей, ни работы. Внезапно все становятся врагами. Вы допустили непростительную жестокость, совершили поистине разрушительный акт. И благодаря этому вы потеряли всё, включая большую часть себя. Я знаю ощущение непреодолимого желания вновь быть частью чего-то. Я знаю, как сильно это желание и как страшно быть изолированным и отделённым. Этот процесс нового рождения, которому вы подвергаетесь, сродни физическому рождению. Чрево, из которого вы только что себя исторгли, возможно, было ядовитым и удушающим, но оно было таким тёплым, безопасным и знакомым, а теперь вы в совершенно ином мире, ослепительно ярком и суровом, и всё выглядит и работает не так, как раньше. Здесь холодно, одиноко, всё незнакомое, и вы не можете вернуться».
Вот что я мог ей сказать, но не сказал. Она не спрашивала, а я никогда не смог бы сказать это с должной торжественностью. Лично мне нравился тот период, в котором она сейчас находилась – разрыв всех связей, отделение от всех и всего, разбивание вдребезги своей прежней жизни. Да, это было мучительным, но также и экстатичным. У меня не было той проблемы, что была у Лизы, проблемы избирательности – отбросить одни вещи и оставить другие – я сбрасывал всё разом. Я не старался сохранить себя ни для чего. Меня не волновал успех, поскольку я никогда не думал, что успех возможен. Меня не волновала моя дальнейшая жизнь, поскольку я никогда не думал, что переживу свою одержимость. Я был просто воодушевлён и полон энергии, впервые переживая вкус свободы. Моя последующая жизнь произошла лишь как приятное дополнение. Я никогда не думал, что будет что-то после.
В тот свой начальный прорыв я первый раз в жизни почувствовал себя чистым, свободным и способным самоопределяться, словно моя жизнь стала действительно моей, что возможно нечто иное, нежели невежество и ложь. Но нет приятного метода добиться этого, что Лиза уже успела узнать. Это жестокое, отвратительное дело, и лучше сделать его побыстрее. Никто не может себе представить до какой степени сформирован людьми и условиями своего окружения, пока не предпримет попыток выпутаться из этого, и Лиза сейчас занимается именно этим – выпутывается. Это не сильно отличается от рождения ребёнка, только человеком, которого она выталкивает в мир, является она сама.
***
Я распечатал черновик главы о потоке, воплощении желаний и интеграции и придвинул его Лизе.
— Окей, советник, вы мой новый секретарь. Что вы думаете?
Она жадно схватила листки и несколько минут читала.
— Полагаю, должна вам сказать, – начала она, – что я не человек нью-эйдж. Когда речь заходит о желании, намерении, воплощении, потоке, препятствиях, я не могу быть вашим лучшим критиком.
— Или, возможно, поэтому вы и есть лучший критик, – сказал я. – Всё это не колдовство и не волшебство, просто так всё работает. И не только для меня – для вас, для всех. Вы распознаете это в своей жизни, если прекратите думать об этом. Нет причин, чтобы вы не могли прокомментировать этот материал. Скажите всё, что хотите.
— Окей, – сказала она, – как насчёт примера того, о чём вы говорите? О том, как эти предполагаемые силы действуют в вашей жизни. Что-нибудь особенное.
— Очень хорошо, – сказал я. – Единственной силой, однако, является наблюдение: видение того, что есть. Первое, что приходит на ум, это сегодняшнее утро, когда я ехал на мотоцикле, исследуя дороги на западном побережье озера. Вы знаете эти дороги, и вы видели мотоцикл.
— Та штука возле ворот? Она ездит? – она рассмеялась над этой мыслью. – Я видела там только самый ужасный лимонно-зелёный Форд Пинто. У него вся крыша срезана.
— Раньше там был мотоцикл Триумф-650. Я разбомбил его и мне пришлось купить этот Пинто. – Разбомбил? Что это зна...?
Тут она впервые заметила трость, прислонённую к столу рядом со мной, и вскочила. – О, Джед, боже! Что случилось? Что вы сделали? Вы в порядке?
Она обошла стол, чтобы обследовать меня, и увидела бинты на моей левой ноге, шарнирный бандаж на колене и перевязанную левую руку. Бинты на плече и лопатке были скрыты рубашкой.
— О, господи, – сказала она сквозь руки. – Что случилось? С вами всё нормально?
— Всё нормально, уверяю вас, – я указал на кувшин с лимонадом. – Не могли вы налить нам немного? Он насмехается надо мной уже целый час. Потом сядьте, и я отвечу на ваши вопросы.
— Это выглядит довольно серьёзно, – сказала она. – Честно, вы в порядке?
— Я в порядке, спасибо. Куча ссадин и вывихнутое колено. Ничего серьёзного. Немного хочется пить.
— Но вы не в состоянии пройти два шага, чтобы напиться? – она налила стаканы и села с широко раскрытыми глазами и обеспокоенным видом.
— Как-то всё немного заклинило. Чем меньше я буду двигаться, тем лучше. – Это из-за мотоцикла? Вы попали в аварию?
— Превратил его в металлолом, да. Какой-то гринго на арендованной машине подрезал меня, он ехал мне навстречу и повернул налево через мою полосу прямо передо мной, и мне пришлось съехать с дороги. Несколько секунд полёта над кюветом и бабах! Прикончил его, кроме, может быть, мотора. – О, господи, с какой скоростью вы ехали?
— Не знаю, миль шестьдесят пять или семьдесят[14]. При ударе медленнее.
— На вас был шлем? – Нет.
Руки у неё тряслись. Она прилагала определённые усилия, чтобы оставаться спокойной.
— О, боже. Вы ничего не сломали? Не ударились головой? Сотрясения нет?
— Множество ссадин, колено ноет, и чувствую себя довольно разбитым. После того, как мы с мотоциклом разлетелись в разные стороны, меня ещё хорошенько протащило.
— О, боже, – сказала она опять. – А что было потом? Приехала скорая?
— Никто не приехал, никто даже не остановился. Я прилично здвезданулся о бензобак, и это отняло у меня всё внимание. Вероятно, прошло не меньше десяти минут, прежде чем я смог как следует прийти в себя и оценить ситуацию.
— Звезданулся...? Ээ... Ох! Господи Иисусе, с вами всё хорошо?
— Всё нормально, и хватит об этом. В общем, немного погодя я сделал несколько звонков – мой сотовый оказался в порядке. Потом подъехали какие-то ребята на пикапе и мы сторговались обменять остатки моего мотоцикла плюс стопку песо на этот милый зелёненький Пинто без крыши. Вы можете пользоваться им, когда пожелаете. Ключи внутри.
— Я с ума с вами сойду. Вы были у доктора?
— Я был в клинике. Теперь каждый день я должен ездить туда на перевязку, а это немного сложновато. Где-то около недели. На мне всё быстро заживает. Так вот, это и есть ответ на ваш вопрос. Вы спрашивали о примере интегрированных, со-творческих отношений со вселенной, и эта авария – прекрасный пример.
Такой прекрасный пример, вообще-то, что я только сейчас начинаю это видеть.
— А я думала как раз наоборот, – сказала она. – Ясно же, что вы не хотели падать с мотоцикла. Ясно, что вы не хотели получать все эти повреждения.
— Это верно, но здесь в игру вступает сдача. Сдача – это самая суть описываемых мной отношений. Вы правы, моим личным предпочтением было бы не падать с мотоцикла и не разбиться так, но в действительности мои предпочтения большой роли здесь не играют. У меня есть одно предпочтение, которое превосходит все остальные – и это предпочтения вселенной. Мне не обязательно любить или понимать их, хотя обычно я люблю их и понимаю. Этот маленький инцидент – сущий пустяк. Таким языком общается вселенная – достаточно громко, чтобы быть услышанной, но не громче.
— И что это было за послание? – спросила она скептически.
— В самое первое же мгновенье, в первую же секунду, я знал, что это не было серьёзной ситуацией. Я знал это непосредственно, быстрее чем мысль. Даже несмотря на тот факт, что я загадочным образом потерял контроль, и последующие несколько секунд были довольно неприятными. Я знал, что не погибну и даже не получу серьёзных травм.
— Вы называете это несерьёзными травмами? – она показала на мои повязки.
— От падения с мотоцикла на скорости семьдесят миль в час? Нет, я назвал бы это лёгкой щекотокой.
Ничего не сломано. Я даже голову не поцарапал.
— Хорошо, что вы так философски к этому относитесь, – сказала она.
— В том смысле, в котором вы это имеете в виду, я ко всему отношусь философски. Она села на место, оставаясь в напряжении.
— Но как вы могли знать, что это не будет серьёзно?
— Потому что это не имело бы смысла. Сейчас не время для перемен. Я знал, что не мой черёд умирать, потому что третья книга ещё не окончена. Я знал, что не буду серьёзно травмирован, потому что в этом нет никакого смысла. Для чего это должно было бы произойти? Нет причин для этого. Я не должен ни выучить урок, ни отработать свой порок, ни заработать баллы впрок. Это длинный способ сказать, что я понял в первую же секунду. Я знал это практически в тот самый момент, когда вылетал с дороги. – Вы подумали об этом мгновенно?
— Нет, я знал это мгновенно. Я не продумывал это и не обращал в слова до сих пор. Сейчас это звучит несколько глупо, но тогда это было совершенно ясно.
Казалось, она была сбита с толку. Эта тема интересна мне, и может иметь практическую ценность для неё, и я попытался получше её изложить.
— Мысли — это ненужный этап. Мы можем знать вещи напрямую, без необходимости думать, в чём самые лучшие из нас до смешного неумелы. Зачем настаивать в переводе знания из его естественного природного формата в кусочки-байты, которые наш маленький мозг смог бы обсасывать? Мы ищем ещё один способ уменьшить вселенную до своих размеров, вместо того, чтобы расшириться до своей естественной величины.
— Значит, вы не думаете?
— Если о чём-то надо подумать, я высказываю или выписываю это, вывожу наружу, но это происходит только по отношению к книгам, которые должны быть написаны в любом случае. То есть, мне нужно думать об этом, но не думаю, что я думаю о чём-то ещё.
Она посмотрела на меня очень подозрительным взглядом, который я вроде бы понял, но фактически нет. Заметив, что мой рот оставался открытым, пока я молчал, я подумал, что вероятно, это побочный эффект от таблеток.
— Знаю, для вас это всё довольно странно, – сказал я, – но для меня это обычное дело. Этот пример с аварией в некотором роде драматичен, но такое функционирование в потоке – движение в соответствии с тенденциями, видение большей картины – так я действую во всех областях своей жизни. И довольно-таки преуспел в этом. Всё ещё учусь, однако, постигаю. Я ещё только яйцо I am only an egg.
Она не уловила моего замечания. Пожалуй, лекарства немного сильнее пошатнули мой мозг, чем обычно.
— Но как? – спросила она с сомнением, – Правда, как вы могли всё это знать?
— Потому что всё работает определённым образом, и я вижу это. Здесь нет тайны. Никогда не происходит сбоя, или нарушения. Эти правила нельзя нарушить. Царство сна очень, ээ, упорядочено. Никакой случайности, никакого хаоса. Идея серьёзной аварии – что меня может сбить машина, что я получу травму или умру – я не могу вам объяснить, насколько это невозможно.
— Невозможно?
— Нет, не невозможно. Это неверное слово. В моём лексиконе нет слов для моего образа бытия. Это не имело бы смысла, это было бы нарушением. Лучше сказать нельзя. Этого просто не могло случиться.
— Но такие вещи случаются, – запротестовала она. – Люди получают травмы и умирают всё время. Они погибают трагически, преждевременно, в авариях, пожарах, от насилия и болезней.
– Правда?
— Конечно, правда.
— Неправильность во взгляде наблюдателя.
— А? Что это значит?
— Рабиндранат Тагор сказал...
– Рабиндра кто?
— Рабиндранат Тагор, поэт мистик. Он сказал, что мы воспринимаем мир неправильно, и говорим, что он обманывает нас. Это так, но не обязательно. Нам не обязательно воспринимать мир неправильно. Я не воспринимаю его неправильно, и он не обманывает меня. – То есть?
— Мы можем воспринимать мир правильно. Это не так уж трудно. Мы можем перестать видеть случайность и хаос там, где царит порядок. Мы можем перестать видеть тайну там, где чётко определённые структуры и нерушимые законы. Мы можем открыть глаза и увидеть, где мы, и как всё это действует, и как мы действуем в этом и с этим. Знаю, вы пока не видите этого, но это определённо существует, и вы способны это увидеть. Нет ничего скрытого. Я не знаю, как я вышел из этой аварии здоровым. Я не крутой ездок, но я знал, что что бы ни случилось, это не будет смертью, увечьем или даже серьёзной неприятностью, потому что это было бы неправильно. Вот откуда я знал. В этом смысл этой истории. Просто так ничего не случается. Всё приобретает смысл, коль скоро вы видите на уровне тенденций – всё течёт естественным ходом от предыдущего к следующему. Никогда ничего не происходит случайно или хаотично или наобум. Для меня это было бы абсолютно нелепым. Из этого даже не получилось бы развлекательной книжки.
***
То, что непробуждённый человек видит короткими немногочисленными проблесками, пробуждённый видит всегда и во всём. Пребывать во сне, значит лишь время от времени регистрировать этот океан бытия и создавать заменяющие его объяснения о невидимых судьях и правителях – богов и карму, удачу и судьбу. Даже с закрытыми глазами мы способны ощущать движения, течения и величие этого океана энергии, в котором мы обитаем. Быть пробуждённым, значит ясно видеть этот океан бытия и не представлять себя отдельным от него. Нет ничего более мистического или духовного, чем видеть этот океан и жить в гармонии с ним. Нет другой свободы, чем отбросить эгоистические притязания и жить в согласии с тем, что есть.
Лиза хотела понять, откуда я узнал, что моё падание с мотоцикла не повлечёт за собой серьёзных последствий. Если бы мы сидели на берегу моря, и в течение часа наблюдали бы за тем, как катятся волны, сказал я ей, то она составила бы довольно ясное представление о том, что следующая волна будет делать, и, что так же важно, чего она делать не будет.
— Она не замёрзнет вдруг, не покатится обратно, или не исчезнет, – сказал я. – Она не превратится вдруг в группу марьячи[15] и не станет бродить по пляжу, услаждая нас серенадами, в ней не разовьётся эгоистическое стремление выразить свою индивидуальность, извергаясь как гейзер.
— Это очевидно, – сказала Лиза сухо.
— Да, – согласился я, – и те тенденции, в которых мы двигаемся, так же очевидны, когда мы научимся видеть их. Мы всегда в них, мы часть их, мы неотделимы от них. Всё это энергия, сознание. Больше ничего нет.
– Очень поэтично, – сказал она.
— Останься этот день и ночь со мной и ты обретёшь источник всех поэм.
Она несколько мгновений разглядывала меня. Я выдержал её взгляд.
— Я помню это, – сказала она тихо. – Это Уолт Уитмен. Это первое стихотворение в вашей первой книге.
— Нисаргадатта Махарадж сказал... – Нисарга кто?
— Индийский мудрец. Он сказал: «В моём мире всегда всё правильно». Это заявление человека с открытыми глазами. И не то, чтобы его мир был другим – это он другой, и его неискажённый, неотфильтрованный взгляд. Он убрал искусственный барьер эго из единства воспринимающий-воспринимаемое-восприятие, таким образом эта троица стала одним, и, как непременный результат, явилось совершенство.
— Этот индиец был просветлённым?
— Да, но мы сейчас говорим не о просветлении, мы говорим о пробуждении. Вы пробуждаетесь. Вы можете оставаться там, где вы сейчас, в неустойчивости и смущении, как поступают многие, дошедшие до этой точки, или вы можете продолжать настойчиво идти вперёд, продолжать то, что вы начали. Я вам сейчас рассказываю о возможных вариантах развития событий.
— Значит, всё это просто один большой океан, так вы говорите?
— Вот ещё хороший образ. Карл Саган сказал, если вы хотите испечь яблочный пирог с самого начала, вы должны сперва создать вселенную.
– То есть?
— Скажем, мы сидим на том берегу и наблюдаем прибой, – сказал я. – Вы смотрите вдаль и видите первые намёки набухающей волны, которая всё приближается и растёт, и в конце концов, в свою очередь она накатывается, разбивается, шумит и пенится на песке и спокойно отступает, освобождая дорогу следующей. Вы наблюдаете это, и вам кажется, что вы увидели всю волну целиком от начала до конца, от рождения до смерти, но это самая маленькая, самая ограниченная перспектива. Так мы видим, когда режем всё на мелкие кусочки, возводя вокруг стены и приклеивая ярлыки на каждую вещь, как настаивает эго. Начало и конец нам неизвестны, только тенденции. Та волна, которую вы выделили, началась там, где началась вселенная, и кончается там, где кончается вселенная. Когда вы рвёте привязанности и перестаёте расточать свою эмоциональную энергию, ваша перспектива расширяется и вам открываются всё более широкие тенденции в работе, тенденции внутри тенденций, ваши собственные тенденции, крутящиеся в этом водовороте, ни коим образом не отделённые, ни коим образом больше или меньше других. Отступив на шаг назад от той одной волны, вашему взору открываются приливы, термодинамика, ещё дальше – и вы видите глобальные течения и влияния луны, и так далее. Отойдите ещё дальше назад, за пределы ваших представлений о пространстве и времени, и только тогда вы начнёте видеть эту волну, знать её, и знать как живую реальность, что волна – это вы, и что вы – это волна.
Она вздохнула и посмотрела на меня с раздражением.
— Единство — это не глубинное чувство или духовное верование или возвышенное состояние сознания, это просто само доброе старое сознание: неприукрашенное, неиспорченное, неосквернённое. Нам не нужно посещать лекции, или читать книги, или преклоняться перед алтарём и мудрецами, нам нужно только очистить свои воспринимающие способности, избавиться от эгоистического дурмана, увидеть что есть и перестать видеть чего нет. Для этого не требуются ни учителя, ни учения, ни пути, ни практики, только простая честность.
— Не уверена, что понимаю это, – сказала она.
— Думаю, у вас всё впереди. Вот маленькое упражнение. Я не могу сделать записи об этом разговоре, потому что мой мозг странно пульсирует и гудит, поэтому я схожу по нужде и пойду прилягу на один из тех шезлонгов возле бассейна, а вы запишете всё, о чём мы сейчас говорили. – Ээ, не думаю, что я смогу, – сказала она.
— Вы изучали английский, – сказал я, с трудом вставая на ноги. – Вы хотели стать учителем.
— Но я ведь почти ничего не понимаю, – запротестовала она.
— Поймёте позже, а сейчас запишите, – сказал я, отправляясь в требующее сочувствия путешествие. – Вы сами просили об этом. Вы думали, что быть редакционным ассистентом могучего духовного персонажа – это жечь красивые свечи и учить жизненные уроки? Тут и голова может не удержаться на плечах. Она улыбнулась, словно я пошутил, и принялась за работу.
13. Всё есть истина.
О, как долго я ни во что не верил! Как долго я был безучастным, отвергая свою долю, и только теперь осознаю сплошь везде рассеянную истину, только теперь вижу, что лжи не существует, ни в каком виде, и не может существовать, кроме той, которая так же неизбежно завладевает собой всё больше, как завладевает собой истина, как любой закон природы или любое естественное производство земли.
(Это странно, и нельзя понять это сразу – но необходимо это понять. Я чувствую, что несу в себе лживость в равной мере со всем остальным, как и вся вселенная).
Где тот совершенный смысл, не делающий различий между ложью и правдой? В земле он, в воде, иль в огне? Иль в душе человека? Иль в плоти и крови?
Медитируя среди лжецов, упорно уходя внутрь себя, я понял, что на самом деле нет ни лжи, ни лжецов, и всё исполнено своего совершенного смысла – и то, что зовётся ложью, и есть совершенный смысл; каждая вещь в точности представляет себя и то, что предшествовало ей. Я видел, что истина включает в себя всё, она вездесуща, точно так же, как вездесуще пространство, и что нет ни прорехи, ни изъяна в её массе – всё есть истина без исключения. И поэтому я буду праздновать всё, что вижу, и чем являюсь, буду петь и смеяться и ничего не буду отвергать.
– Уолт Уитмен –14. В королевстве слепых.
Духовное путешествие состоит не в прибытии к новому пункту назначения, где человек получает то, чего у него не было, или становится тем, кем он не был. Оно состоит в рассеянии собственного невежества относительно себя и своей жизни, и постепенный рост того понимания, которое начинает духовное пробуждение.
– Олдос Хаксли –В королевстве слепых одноглазый – дурак. Он – бабочка среди гусениц, вампир среди людей, одноглазый идиот в стране безглазых мудрецов. Он не лучше, не сильнее, просто не на своём месте – изгой, чужак в чужом краю. Зачем он влачит здесь жалкое существование? Что он должен делать? Говорить? Учить?
Разыгрывать мудрого? Что может одноглазый сказать слепым от рождения? Зачем он должен что-то говорить? Чего он хочет от них или для них? Слепые ничего не знают о глазах. Они ничего не знают о зрении, а те, которые думают, что знают, заблуждаются. Зачем вообще говорить? Зачем зрячий должен добавлять свой голос к шуму незрячих, которые заявляют, что видят, и будучи «освобождёнными истиной», могут рассказать лучшую историю? Зачем предпринимать столь тщетную и неблагодарную миссию? Зрячий может начать с терпимого отношения к скептицизму незрячих, памятуя о том, что он сам был когда-то таким же слепым и ещё хуже вдвойне, но терпимость вскоре истощается. Потворствовать желаниям эго чувствовать себя разумным и проницательным дело утомительное, и служит лишь разоблачению глупости альтруистических мотивов.
Или так мне видится. Я не мотивируюсь альтруизмом или результатом, так что когда я вижу, как Майя мёртвой хваткой держит человечество во мраке, это не задевает меня. Я работаю для вселенной, для книг, поэтому то, что служит им, служит мне.
***
— Ну хорошо, – сказала Лиза спустя несколько минут, устраиваясь рядом в шезлонге с ручкой и блокнотом, – как вы думаете, почему это случилось? Какой был смысл в падении с мотоцикла? Вы сказали, что знали с самого первого момента, что это не будет серьёзно. Значит, в этом был смысл?
Я потряс головой, чтобы она прояснилась. Это не помогло.
— Когда я спрашиваю себя, почему что-то случается, – сказал я ей, – прежде всего я думаю о книгах. Служит ли это каким-либо образом книгам? В данном случае – моё падение с мотоцикла и получение небольших повреждений – ответ определённо «да».
— Да?
— Да, и вы показали мне это.
— Правда?
— Вы предложили помочь мне с книгой, и я дал вам черновик главы о том, как работает в реальности интегрированное состояние, над которой я работал последние несколько дней. Вас не удовлетворило то, что я написал до сих пор, и вы попросили привести пример, и вот, пожалуйста, прямо с сегодняшних первых полос. Эта авария представляет отличнейший способ сказать то, что я пытался сказать в той главе. Я даже не думал об этом, пока вы не спросили о примере. Видите, как это как бы выстраивается само на себе?
Она покачала головой – нет. Я снова потряс головой. Я сам только сейчас складываю всё вместе, когда говорю, поэтому мне нужно, чтобы ум перестал пульсировать и гудеть. Он не переставал.
— Не только сама авария служит книге, – сказал я, – но то, как она служит книге, тоже служит книге.
Это ещё больше сбило её с толку. Я вернулся назад.
— Когда вы читали ту главу, – сказал я, – о чём вы думали?
— Она хороша, – сказала она. – Немного суховато. Я бы сказала, это набросок.
— Правильно, работа в процессе. Так я выясняю, что я хочу сказать, и стоит ли это говорить. Само написание является частью процесса. Я делаю свою часть, а вселенная делает свою. Окей?
— Окей, – сказала она.
— Так вот, я дал вам эти страницы, а вы попросили привести пример, что привело на ум инцидент с мотоциклом, и заставило меня осознать, что это на самом деле намного более подходящий способ выразить эти знания. Всё, что я пытался сказать в той главе, было подытожено именно там, в тот самый первый момент аварии.
— А что вы думали до этого, почему случилась авария?
— Что я уже не пацан и не должен разъезжать на раздолбанном старом «Триумфе» по Мексике. Это пришло на ум чётко и ясно. Я собирался поехать на нём в Пуэрто Валларта на следующей неделе, но думаю, это уже в прошлом.
— Слава Богу, – сказала она, – хотя я не уверена, что тот «Пинто» намного лучше. Значит, вы думали, что эта авария — это предупреждение вам не ездить по Мексике на старых мотоциклах?
— Я ещё не вполне успел это осмыслить. Я вернулся сюда лишь за несколько минут до вашего появления, – ответил я. – А потом пришли вы и спросили о помощи.
— То есть, в каком-то смысле, – сказала она, – эта авария была счастливым совпадением?
— Да, и в таком же смысле моя жизнь — это одна длинная цепочка счастливых совпадений. Совпадение — это незапланированное стечение событий, что-то происходит так, как будто это запланировано, даже если это несчастный случай. В моём случае я не вижу здесь случая, лишь план, строгий порядок, согласованность. И не от случая случаю, а всё время, вернее, чем восход солнца. Поэтому, да, это счастливое совпадение из перспективы человека с закрытыми глазами, но из перспективы человека с открытыми глазами этот порядок есть везде и всегда. Как будто я живу подвешенным на невидимых нитях, и даже хотя я их не вижу, я знаю, что они есть, и приноровился к ним. Они всегда здесь, и если придёт день, когда их не станет, я буду рад упасть. Мы немного посидели молча. Она делала записи, а я провалился в причудливый туман.
***
День медленно клонился к вечеру. Лиза работала над записями, задавая вопросы. Я болтался в гудящем полусонном состоянии, наслаждаясь созерцанием бассейна и далёких видов, поглаживал Майю и качался на волнах медленных глухих ударов, начинавшихся внутри моей головы и изливавшихся наружу. Время от времени Лиза задавала вопрос, что инициировало свежий диалог, потом следовала пауза, пока она делала заметки.
— И так всегда происходит? – спросила она. – То есть, как вы работали над той главой, которую вы мне показывали?
— Почти всегда, – сказал я. – Некоторое время я работаю над написанием чего-нибудь, и мне это почти удаётся, но не совсем, лишь насколько я могу это охватить. Потом что-то случается, в точности нужная вещь и точно в нужное время, пелена спадает, и всё разрешается полной ясностью. Последняя нить чудесным образом вплетается на своё место, и только тогда ты видишь всё полотно как единое целое и полностью всё понимаешь. Так же со мной происходило, когда я делал духовный автолизис. Большая часть работы уходит на то, чтобы нагромоздить огромную кучу бурелома, но до тех пор, пока не появится неведомо откуда эта завершающая загадочная искра и всё не подожжёт, ты не справишься с ним. В духовном автолизисе это пламя превращало целую гору невежества в пепел. В книге оно очищает и придаёт вещам большую чёткость, и в итоге получается неплохой материал.
— И это то, что здесь произошло?
— Это то, что здесь происходит. Я сделал свою часть, написал эти страницы, поработал над ними, чтобы выяснить, что я пытаюсь сказать и почему, и на этом всё. Затем вы сыграли свою роль и показали мне, чего я не увидел сам, что эта авария предоставляла отличный способ выразить то, что я пытался выразить. Частичка встала точно на своё место, и головоломка решена. Используя ваши заметки, я начну снова, и через несколько часов у меня будет готовая работа в том виде, в каком должна быть.
— Окей, – сказала она. – Всё это я понимаю, но как это всё-таки происходит?
— Потому что история не только о том, что это происшествие и наши разговоры заменят ту главу. То, как разворачивался весь процесс, открывает более широкое его измерение, что в свою очередь обеспечивает важный и необходимый вклад в книгу.
— Вы меня немного не поняли. Эта авария обеспечивает что?
— Эта авария объединяет и закрепляет темы, которые я пытался выразить в той главе. – Понятно, – сказала она. – И я сыграла в этом роль?
— Вы и сейчас играете свою роль. Вы делаете свою часть, я делаю свою, вселенная делает свою, и теперь книга получит то, что нужно – ясную и живую иллюстрацию моего опыта прямого знания, что я имел в виду, когда говорил о сотворческом процессе и о том, как вселенная вкладывает книги мне в руки. Что раньше было плоским, безжизненным объяснением, теперь стало динамическим и личным – опасная дорожная авария, мои травмы, ваше трогательное участие, моё злоупотребление лекарствами, наш диалог и, конечно же, гвоздь программы, сам процесс. Книги всегда так пробивают себе дорогу. В точности нужная вещь происходит точно в нужное время. И не только книги, конечно – всё, но сейчас мы рассматриваем книги.
— Но как вы узнаёте свою часть? Как вы узнаёте, что делать, а чего не делать? Откуда вы знаете, как всё это работает?
Я на минуту задумался.
— Это похоже на равновесие, я думаю. Если кто-то с неразвитым механизмом равновесия спросит вас, как вы стоите и удерживаете равновесие, не падая, вы не сможете ему сказать. Для вас это абсолютно естественно, это развилось в вас в раннем детстве без вашего сознательного усилия и участия. Это так просто и очевидно для вас, что вы не понимаете, почему кто-то может об этом спрашивать, но для человека без механизма равновесия это кажется невероятно сложным, может даже чудом или магией.
Она постучала ручкой по столу слегка раздражённо.
— И для вас это привычное дело? – спросила она с сомнением. – То, как всё происходит – со мной, мотоциклом и всем остальным?
— Так работает всё в моём мире. Это мой опыт существования в царстве сна. Не время от времени, но всегда. Так происходит интегрированное функционирование – элегантно, гладко, легко, без острых углов, зазоров и неприятных грубых краёв. Так всегда. Я делаю свою часть, вселенная делает её часть, и всё просто течёт в безусильном слиянии. Так всегда делаются книги. Вот что значит, что вселенная вкладывает их мне в руки. Здесь этот процесс иллюстрируется. Я играю роль в создании книг, но не считаю себя их автором, лишь участником более широкого процесса.
— Всё же, – сказала она, – вы должны признать, что многие величайшие свершения человечества не были бы возможны без личной энергии и взглядов людей с очень сильной и энергичной эгоистической конституцией. Людей, которые знали, чего хотели, и получали это без особых ожиданий, мечтаний и наблюдений. Наша цивилизация существует благодаря им.
— Такова она и есть. Если через несколько лет, после того, как хорошенько оглядитесь вокруг, вы всё ещё будете на этом настаивать, я буду очень рад обсудить с вами ваши взгляды. А сейчас напишите-ка, что вы думаете о разнице между эгоистическими притязаниями и процессом сотворческого позволения. – Это задание для меня?
— Конечно, для вас. С вашей перспективы вся вселенная для вас. Для кого же ещё?
***
— У вас есть ещё какие-нибудь примеры? – спросила Лиза немного погодя. – Кроме падения с мотоцикла?
— Я могу привести бесконечное количество примеров, – сказал я. – Как если бы я спросил вас привести пример, когда вы о чём-нибудь думали. Падение с мотоцикла – это большой, яркий пример. Покупка дома – прекрасный пример: то, как первый дом, который я пытался купить, проложил путь для дома в Сан Мигель, просто изумительно. Встреча с Майей – замечательный пример, особенно моя роль в процессе: моё терпение, исследование и доверие, медленно выстраиваясь, разворачиваясь без усилий и в точное время, привели к совершенному результату. Написание книг – прекрасный всё продолжающийся пример такого сотворчества в работе. В центре всех этих примеров, и бессчётного числа других, которые я могу привести, стоит элемент доверия, терпения, невмешательства. У меня нет эго, которое требовало бы чего-то или настаивало бы на способах и средствах, поэтому события разворачиваются таким образом, какого эго никогда не смогло бы вообразить или достичь.
— Всё это хорошие примеры, – заметила она, делая записи.
— Но наиболее интересным я нахожу не эти большие фонтанирующие примеры. Они вторичны по отношению к самому интегрированному состоянию – утончённость и изящество, развитие и очищение чувств, состояние жизни и бытия в целом – и эти примеры-бомбы являются лишь частью его. И самое лучшее во всём этом, хотя для меня это уже в прошлом, это умопомрачительное персональное возрождение бытия вне отделённого состояния.
— Не уверена, что понимаю, – сказала она.
— Лучшая сторона пребывания вне темницы – это пребывание вне темницы. После этого всё остальное просто восторг. Довольно скоро вы сами это узнаете, когда немного успокоитесь, сможете на всё взглянуть с немного большего расстояния и поймёте, что вы в действительности совершили.
— Я гляжу в будущее, когда отдалюсь от этого, – сказала она устало, – но сомневаюсь, что мне когданибудь удастся понять это так, как вы.
— Вы сможете, если захотите, если проявите интерес. Я обладаю естественным интересом к царству сна, к работе иллюзии, к творчеству.
— Каким образом это включает творчество?
— Именно этим является вся жизнь – свободно текущим, динамическим творческим процессом. Иногда можно услышать, как творческие люди описывают, как они отходят в сторону и позволяют музе или вдохновению течь сквозь них, или как Микеланждело описывал, что он видит статую в скале, а потом просто отсекает всё, что не является статуей – видеть правильность и удалять неправильность. Здесь то же самое, но во всём, не только в произведениях искусства. Вся ваша жизнь становится творческим процессом, утончённым позволением, едва заметной тенденцией к правильности от неправильности такой же тонкой и очищенной, как ваш механизм равновесия.
Она минуту молчала, делая заметки.
— Разве об этом не написаны книги? – спросила она.
Я забыл, где мы.
— О чём?
— Ну, о материализации желаний, наверно.
— О, да, есть куча книг, написанных людьми и ченнелингов, об искусстве материализации желаний, использовании аффирмаций, ворожбы, законов привлекательности, и прочее. Книги, с которыми я знаком, все написаны для отделённого, одетого в эго существа, как книжки «Сделай сам» для детей, но детям не нужны книжки о том, как действовать по-взрослому, им нужно стать взрослыми. Книги сулят многочисленные способы воплощения в жизнь ваших желаний, получения всего, что вы хотите, но это в действительности самая маленькая часть, скорее приятный побочный эффект.
Вообще-то, сейчас у меня было несколько побочных эффектов. Я заметил, что всё ещё есть боль, но она не болит. Любопытно. У меня почти нет опыта приёма лекарств, но пока это кажется очень приятным.
— Как вы, вероятно, начинаете сами видеть, – сказал я Лизе, – быть богатой и красивой рок-звездой в состоянии отделённости – это ничто. Попасть в интегрированное состояние – это всё. Не важно, кто вы, чего вы хотите, духовный ли вы человек, творческий или какой-то ещё, задача номер один всегда одна и та же: стать Взрослым Человеком. Ничего не произойдёт прежде этого. Нет аргументов в пользу Человека-Ребёнка, кроме аргументов эго и страха.
Я закрыл один глаз, и это было так приятно, что я закрыл второй.
***
Лиза что-то сказала. Я открыл один глаз, потом второй.
— Что? – спросил я.
— Вы говорите, что это существует для каждого, – сказала она, – что даже в связанном эго состоянии мы можем участвовать в этом, но я этого не вижу. Где это происходит?
Минута ушла у меня на то, чтобы сделать грамматический разбор её вопроса.
— Везде, – сказал я. – У каждого был прямой опыт того, о чём я говорю, когда они чувствовали, что есть нечто большее в жизни, чем видит глаз, что происходит что-то ещё, чего они не видят. Может, у них хорошо развит инстинкт или интуиция. Может, они читают свои гороскопы в газетах, или играют в карты таро, или гадают на кофейной гуще, или на куриных желудках. Многие люди замечают работу высших сил в своей жизни, они переживают периоды потока, когда всё идёт как надо, они видят совпадение и подозревают в нём нечто большее, они распознают некую закулисную силу и называют её синхронностью, или интуитивной прозорливостью, или провидением, или божьей дланью.
Лиза записывала примеры за мной.
— Я в некотором роде оторван от человеческого опыта, – продолжал я, – но думаю, большинство людей видят вещи, которые они называют чудесами, или божественным вторжением, помощью ангелов-хранителей, ответами на молитвы, участием в их жизнях божеств или развоплощённых существ. Они видят, как события разворачиваются просто так, благоприятно, или случайно, или ещё как-нибудь; как они чудесным образом избегают аварии, деньги приходят как раз в нужный момент, как нужный человек появляется в их жизни. Пути господни неисповедимы, что-то типа того. Вы так не думаете?
— Я не знаю, что я думаю, – сказала она тяжело. – Всё это слишком. И как здесь можно даже начать со всем этим?
— Материализация желаний — это видимая часть айсберга интеграции, ощутимый её уровень, который даже люди с самыми плотно закрытыми глазами порой распознают. Когда люди начинают, если они начинают, они начинают с материализации небольших, простых вещей: хорошее место для парковки, зелёный свет на дороге, например. Это работает, и они думают, что это прикольно, но большинство никогда не заходят намного дальше. Но они натыкаются на проблему, когда их банковские счета не растут, или их талия не сужается, и они прекращают это дело, полагая, что выдавали желаемое за действительное. Они не вошли целиком в процесс, и не позволили процессу войти в них. Переломный момент наступает тогда, если вообще наступает, когда происходит осознание, что маленькие успехи, как парковка и светофор, – это не исключение, а правило, и если они не приходят по требованию, просто это означает, что вы не поняли правила. Но вы способны понять.
Она вздохнула, делая записи.
— Некоторые идут дальше, – продолжал я. – Они читают книги, учатся видеть процесс, понимать его, овладевают им. Они сливаются с ним, и в какой-то степени учатся применять эти силы в своей жизни. Это хорошо, но они всё ещё дурачат самих себя, как если ты работаешь в туалете компании и моешь полы в офисах, не зная, что владеешь этой компанией. Что-то вроде этого.
— Мне кажется, я вообще ничего не понимаю, – простонала она, записывая.
— Концептуальное понимание не имеет большого значения, – я глядел на голубую гладь бассейна перед нами. – Ты учишься плавать, прыгнув воду, а не сидя в классе, изучая аквадинамическую теорию. Имеет значение только практическое применение, и вы уже в бассейне, так сказать. Остальное само о себе позаботится через естественные процессы экспериментирования, наблюдения и игры, как вы развивали в себе равновесие в детстве. Вы не родились с уже настроенным механизмом баланса – он развился со временем, когда вы поднялись на ноги и начали его использовать.
Моё колено прострелила резкая боль, и я защебетал нечеловеческим голосом.
— Вы в порядке? – спросила она, вставая. – Могу я вам чем-то помочь?
— Всё нормально, спасибо, – сказал я, и в основном это было правдой.
Моё тело было счастливо. Все болезненные участки чувствовали себя отлично, и неболезненные участки тоже. Хорошие таблетки. Они не дают слабости в ногах, и ум вроде работает. Иногда я думаю, что после написания книг, возможно, интересно было бы пристраститься к чему-нибудь, чтобы почувствовать, как это, но навряд ли. У меня куча глупых идей о том, чем я займусь после написания книг. Возможно, я просто найду какой-то способ продолжать писать.
Лиза поставила свежие напитки на стол между нами и откинулась и кресле. – На чём мы остановились? – спросила она.
— У вас же записи.
— Окей, – сказала она, сверяясь с ними. – Как всё это применимо к человеку в моей ситуации? С чего такой человек, как я, может вообще начать?
— Ваши мысли и эмоции определяют вашу реальность в царстве сна. Вот с этого и начните. Далее вопрос лишь в упрощении уравнения и, в конечном итоге, видение, что ваши мысли и эмоции — это и есть царство сна. Всё это лишь сознание, вы – это лишь сознание. Нет больше ничего. Когда это из мыслительной концепции перейдёт на уровень полного осознания, вы естественным образом сольётесь со течениями вместо того, чтобы бултыхаться в них.
Она писала и тяжело вздыхала. Я понимал, что это очень трудный для неё материал. Не так много времени прошло с тех пор, когда она отнеслась бы с презрением к подобному разговору.
— Окей, – сказала она, – я могу согласиться с тем, что, возможно, каждый имел какой-то опыт, который вы описываете, или есть какое-то религиозное или мистическое объяснение для таких вещей. Я всегда считала это интуитивной прозорливостью, пожалуй.
— Значит, вы никогда ничему не молились?
— Молилась? Ну, да, молилась. Я молилась, чтобы мои дети были здоровы и невредимы. Я молилась, чтобы меня допустили к юридической практике. Может быть, ещё что-то. И думаю, эти молитвы были услышаны. Вы это имели в виду?
— Не совсем. С вашей перспективы ваши молитвы были услышаны, или, по крайней мере, события развернулись так, как вы просили. Я думаю, что вы на самом деле не верите, что ваши дети были здоровыми и что вас допустили к практике, благодаря тому, что вы молились, не так ли?
Она пожала плечами.
— Хуже от этого не стало бы, – сказала она с улыбкой.
— Именно, – сказал я. – Так, вероятно, большинство людей это видит. Они молятся только когда это очень важно. Они совершают сделки. Как говорится, нет атеистов в окопах. Но когда кризис позади, там же остаётся их страстная мольба к чему-то невидимому, к которому они обращались. – Чему-то невидимому?
— Богу, высшему я, ангелам, Иисусу, Аллаху, Будде, тотемам, предкам, кому угодно. Но также, я могу сказать, что даже если бы ваши дети не были здоровы и вас не допустили бы к практике, ваши молитвы всё равно были бы услышаны.
Это ей не понравилось.
— Это вообще непонятно, – сказала она коротко.
— С отделённой точки зрения – да, но с интегрированной точки зрения это просто очевидно. Нет другой альтернативы. Мы думаем, что чудеса происходят, и молитвы исполняются, только когда это что-то хорошее, когда это в соответствии с нашими надеждами и желаниями, которые у человека-ребёнка всегда основаны на страхе. Но мы не узнаём работу тех же самых сил, когда результаты не соответствуют нашим надеждам и желаниям. Мы очень избирательны в своих чувствах. Удача, неудача – это всё одно и то же: приливы и отливы, просто интерпретируется по-разному.
Она молча писала. Я попытался зайти с другой стороны.
— Одетые в эго, основанные на страхе существа могут использовать молитву, или гадание, или материализацию, чтобы получить желаемое: здоровье, любовь, карьеру, деньги, семью, обычные бесполезности. Освобождённое от эгоистических ограничений, однако, всё это движимое страхом хотение исчезает, и желание становится очень органичным и неспецифическим. Если бы я произносил молитву, она была бы о лучшем, чем бы оно ни было, или чтобы действовать безошибочно, что-то в этом роде.
Она писала. Я посмотрел на пальцы своих ног и пошевелил ими. Если я слишком долго думаю о пальцах своих ног, я становлюсь немного похотливым, поэтому я был рад, когда она отвлекла меня другим вопросом.
— Вы не молились, чтобы получить дом своего деда? – спросила она. – Или тот первый, который вы собирались купить?
— Нет, я выразил намерение через желание и действие, но я не молился в том смысле, который вы имеете в виду, когда хочешь чего-то и просишь об этом. Даже это является симптомом недоверчивого, отделённого состояния ума. Интегрированное состояние монолитно – в нём нет этих искусственных границ и различий, таких как одно существо просит о чём-то, а другое даёт ему это. Я желаю того, что будет лучше, и доверяю вселенной, а не своим маленьким мозгам, судить о том, что лучше и как лучше это сделать. Если бы я зациклился на том первом доме, решил, что я хочу его, и стал бы настаивать, тем самым я вызвал бы крушение всего процесса, но я был открыт, внимателен и чуток и получил гораздо лучший результат, чем мог бы представить или организовать.
— Вы бы не были так спокойны, если вместо дома вам пришлось бы беспокоиться о своём ребёнке.
— Если бы я заявлял, что моя вера очень сильна, вы были бы правы, но я не верю, что так всё работает, я вижу. Когда ваши глаза открыты, вы всё видите, и вера становится ненужной и отбрасывается. Вам трудно это понять, так как ваши глаза закрыты, а вы думаете, что они открыты, и вы естественно полагаете, что мы с вами в одинаковых условиях.
— Поверьте, – сказала она, – я знаю, что это не так.
Вы верите, что мы не в одинаковых условиях, но вы не видите этого. Вы довольно близки, однако, и скоро всё увидите. Я хочу сказать, что то, что люди видят в случайных проблесках, со всеми различными названиями и объяснениями, является океаном бытия, работающим в неустанном, безошибочном совершенстве. Вот что такое царство сна, вот что такое мы, вот что такое сознание. Вы всего лишь сознание, а всё, что говорит вам что-то ещё, это как наросшая корка затвердевшей эмоциональной энергии, которая образовала вокруг вас что-то в роде скорлупы. Любой истинный рост и развитие является прежде всего процессом разбивания этой корки. Эго посылает нас в направлении изучения, чтобы становиться всё больше и добавлять к себе, но всё, что мы ищем, лежит в противоположном направлении – забывание, отпускание, уменьшение. Мы думаем, что наша цель кем-то стать, но вселенная может стать нашей, лишь когда мы станем никем.
Она снова застонала.
15. Манифестация[16] судьбы.
Я прошу вас только перестать воображать, что вы когда-то родились, имели родителей, являетесь телом, умрёте и так далее. Просто попробуйте, сделайте первый шаг – это не так трудно, как вам кажется.
– Нисаргадатта Махарадж –Заходящее солнце окрасило озеро в неистово оранжевый цвет и испещрило горы вертикальными боковыми тенями. Лиза достала что-то из еды, но лекарства придавали всему какой-то подозрительный вкус, поэтому я не стал есть. Мы расслабились и позволили разговору приятно выйти из темы не какое-то время.
Наконец, Лиза вернула нас обратно.
— Вы говорите, что можете получить всё, что захотите? – спросила она, перечитывая недавние записи. – Это так? Якобы всё управляется какой-то волшебной энергией, и если ты можешь подключиться к ней...
— И да, и нет, – перебил я. – Не то, чтобы человек, укоренённый в интегрированном состоянии, может иметь всё, что захочет, но его нужды и желания находятся в естественной гармонии с их обстоятельствами в царстве сна. Другими словами, дело не в том, что я могу получить, что захочу – шевельну носом и оно появится – но я бы не стал желать чего-то, чего не смог бы получить. Я не могу материализовать стопку долларов, или быстроходный катер, или кастрюлю ухи, потому что у меня нет подлинного желания иметь эти вещи. Разница между подлинным и неподлинным желанием играет здесь центральную роль, но большинство людей совершенно отрезаны от своих подлинных желаний. – Отрезаны чем?
— Эго виновно во всём. Сравните ваши собственные желания несколько лет назад с теперешними. Чего вы хотели тогда? Быть партнёром юридической фирмы? Водить «Лексус»? Иметь больше денег? Больший дом? Стройную фигуру?
— Звучит знакомо, – сказал она смущённо.
— И где теперь эти желания?
— Не знаю, просто пропали.
— Вот именно, просто пропали. В действии процесс ликвидации. Вам не нужно было бороться с каждым мало-мальски эгоистическим материалом, вы просто боролись, чтобы сделать нелёгкий шаг, и продвинувшись вперёд, вы оставили позади огромную массу слипшегося мусора. Теперь вы начинаете обнаруживать свои подлинные желания, а они ничего не имеют общего с получением чего-то или улучшением вашего имиджа. Ваши подлинные желания не будут иметь ничего общего с тем, чтобы проецировать ваше воображаемое «я» в мир, чтобы холить и лелеять своё отражение в глазах других. Все формы приукрашивания и выставления напоказ утратят свою привлекательность и даже станут противными, и старенький «Форд Пинто» без крыши станет выглядеть намного более комфортабельным, чем новый сверкающий «Лексус».
Наступило ещё одно приятное затишье в разговоре, пока она ждала, буду ли продолжать. Я вернулся к её вопросу о получении всего, что я захочу.
— Такой предмет, как материализация подлинных желаний, довольно трудно объяснять, поскольку интегрированное состояние находится за пределами концептуальных рамок отделённого состояния. Я прогибаюсь под вселенную или она прогибается под меня? Этот вопрос не выдерживает интерпретации. Различие между мной и не-мной не имеет смысла. Ограничивающие факторы времени, пространства, причинности, двойственности не имеют эквивалентов в интегрированном состоянии.
Моё колено прислало острый сигнал.
— Раз уж мы говорим о материализации желаний, не могли бы вы передать мне мои таблетки?
Она достала пузырёк из моей сумки и прочитала название.
— О боже, – сказала она, узнав, что это за лекарство, – это сильная штука, люди присаживаются на такое.
Вы мне что-то сказали?
— Разве я не говорил, чтобы вы передали их мне?
Она прочитала предупреждение на пузырьке, протянула было его мне, но потом отдёрнула руку. – Значит вы хотите получить эти таблетки?
— Разве я непонятно выразился?
Она раздумывала.
— Ваше желание подлинное? – спросила она, хитро улыбаясь.
— Очень, – заверил я её.
— Так почему вы не материализуете их?
— Я именно это и сделал, – ответил я. – Я материализовал разбитый «Форд Пинто», чтобы материализовать свою покалеченную тушу до аптеки, где я материализовал средства оплаты, а они материализовали пузырёк таблеток, который вы сейчас материализовали из моей сумки. Сплошь одни материализации.
Она нахмурилась.
— Не очень-то это похоже на мистику.
— Разве я говорил, что это мистика? Похоже, вы что-то себе напридумывали.
Она снова задумалась, всё ещё держа таблетки в руках.
— Но вы не можете материализовать их эти последние несколько футов?
— Не могу?
Она потрясла пузырьком передо мной.
— Я могу их вам не дать, – сказала она.
— Неужели?
Весёлая игра у нас. Она исследует идеи, а я пытаюсь помочь ей увидеть, что можно за ними разглядеть.
– Но, – сказала она, – если я вам их не дам, что тогда?
— Что тогда что?
Мне нравится терапевтическая техника возвращать вопросы назад вопрошающему. Это пришло мне в голову много лет назад – сократовский метод для ленивых людей. – Тогда вам будет больно и вы не получите, чего хотите.
— Да?
— Но это противоречит с тем, что вы говорите.
— Разве?
— Разве нет?
— На самом деле нет. Нет правила, которое говорило бы, чтобы мне не было больно, или чтобы я получал всё, что захочу, или что мы не можем сидеть здесь и вот так исследовать идеи. Однако, такое нелепо неправдоподобное событие, что эти таблетки не смогут проделать последние несколько футов, не может случиться без ясной на то причины, случайно или следуя чьему-то капризу. Так или иначе, мы не находимся в такой ситуации. Вы не собираетесь сделать то, что говорите. – Но я могла бы, – сказала она.
— Разве?
Она поразмыслила ещё немного и протянула пузырёк мне.
Как я сказал, – сказал я, прервавшись, чтобы проглотить пилюли, – это не вуду, не мистицизм и не особые силы. Всё это отделённые способы объяснить феномены, которые нормальны и естественны с интегрированной точки зрения.
— Вот блин, – простонала она, – во что я ввязалась?
Я пожал плечами.
— В свою жизнь, – ответил я.
***
Интересно было разговаривать с Лизой на этой стадии. Я видел, как она колеблется между умом и сердцем. Между своими представлениями о том, какой она должна быть, и какой она хочет быть, и, возможно, какой не хочет быть. Она привыкла проецировать всю труппу комплексных персонажей – женщина, мать, жена, босс, адвокат, друг и т. д. – все сильные, самоуверенные, твёрдо стоящие на земле, но она не привыкла к новой роли, где она слабая, ничего не знающая, беспомощная, как ребёнок. Никто не привык к этому, и чем жёстче мы были закреплены в нашей прежней жизни, тем труднее будет нам перейти в новую.
Этот разговор между нами не был призван научить её чему-то. Я не ожидал, что она преодолеет свою склонность к мышлению и логике за один вечер. Я лишь пытался помочь ей расправить мускулы и смягчиться, дать ей шанс приноровиться к новой среде, может быть, показать ей пару новый идей, с которыми она могла бы поиграть. Как и любой новорожденный, у неё есть мышцы, которыми она никогда не пользовалась, области движения, которые ей предстоит исследовать, и чувства, которые ей надо развить. Неудивительно, что самое потрясающее открытие, к которому приходят все, кто освободился от удушающей зависимости всей жизни, это отсутствие удушающей зависимости. Лиза только недавно вышла из трехлетнего путешествия по родильному каналу, совершая свой переход смерти-перерождения из матки в мир, и свобода, которую она начинает обнаруживать, может быть очень пугающей.
***
— Вы знакомы с правилом «восемьдесят на двадцать»? – спросил я.
— Двадцать процентов усилий выполняют восемьдесят процентов работы?
— И наоборот. Здесь это также работает. Восемьдесят процентов этого перехода, в котором вы находитесь, могут быть пройдены при относительно небольшом количестве усилий. Всё, что вам нужно сделать, это избавиться от идеи, что вы — это человеческое существо на планете Земля. Смойте в унитаз это убеждение, и огромная масса засоряющих вашу систему ментальных и эмоциональных нечистот будут смыты вместе с ним.
— О, – засмеялась она, – прям вот так? Просто разделаться с моим личным маленьким взглядом, что я — это человеческое существо на планете Земля?
— Ну, я не сказал, что это легко. На это потребуются кое-какие честные усилия, и уйдёт время, чтобы переработать отростки. Неужели это так много?
— Вы шутите? – спросила она.
— Это и правда много?
Она посмотрела на меня подозрительно.
— Уж не знаю, когда вы шутите, – сказала она.
— Окей, – сказал я, – это кажется, как будто много, но в действительности это просто один простой щипок в вашем мозгу. Когда эта настройка будет сделана, вы оставите далеко позади большинство уважаемых специалистов в области человеческого развития и духовности, абсолютно выйдете за пределы их карт, и сделаете огромный шаг вперёд в своём процессе. Она всё ещё смотрела меня подозрительно.
— Если я осознáю, что я не человеческое существо на планете Земля? – спросила она.
— Я исхожу из предположения, что вы так думаете. – Э, да, типа того.
— Ну, да, конечно, думаете, – сказал я. – Я просто предлагаю вам по-другому взглянуть на это. Подумать над этим. Не обижайтесь, но большинство людей на самом деле не умеют думать. Они думают, что умеют, но на самом деле они всячески избегают этого, а если не избегают, то быстро обнаруживают, что это не то, чем они занимались раньше.
Подозрительный взгляд стал менее подозрительным.
— Теперь вы говорите мне, что я не умею думать, но я не должна обижаться?
— Да, и это тоже непонятно?
Она задумалась, подбирая слова.
— Вы совсем оторваны от жизни?
— Конечно совсем.
Она глубоко вздохнула и выпустила воздух.
— Знаете, Джед, – сказала она, – до недавнего времени хмурый вид официантки в кафе мог испортить мне всё утро. Я красилась и причёсывалась, чтобы выйти к почтовому ящику. Сейчас я пытаюсь думать с точки зрения маленьких шагов.
— Значит, пересмотр убеждения, что вы — это человеческое существо на планете Земля, будет слишком большим шагом?
Она помолчала.
— Могу я вас спросить?
— Конечно.
— Сколько времени прошло с тех пор, как вы были, ну, знаете, нормальным?
– Вы имеете в виду, как обычный человек? – спросил я.
— Да.
— Не знаю, – сказал я. – Двадцать с чем-то лет, наверное. Если вообще я когда-либо был им.
— Джед, я не осмеливаюсь допустить...
— Смелее.
— Ну, вы говорите, что вы вроде как постепенно исчезаете из существования? Становитесь всё больше и больше оторванным от жизни?
— Вроде того.
— Возможно ли, что ваши воспоминания о том, как это – быть нормальным человеком, уже не очень ясны?
— Допущение верно, – согласился я, – но я не уверен, что это имеет большое значение, как вы себе представляете. Давайте используем фильм «Матрица», чтобы составить карту. Мой персонаж, находящийся вне матрицы, говорит вашему персонажу, находящемуся внутри матрицы, в чём состоит дело: что вы живёте вымышленную жизнь как вымышленное существо в вымышленной вселенной. Я не говорю вам, что вы должны совершить побег из матрицы, но лишь что вы можете иметь невообразимо лучший опыт вашего существования в ней, если поймёте абсолютно вымышленную её природу. Большинство людей, конечно, не имеют об этом понятия, либо лишь концептуальное понимание.
— Но «Матрица» — это всего лишь кино, – сказала она.
— А это всего лишь царство сна, – ответил я. – Фильм «Матрица» — это солипсизм, cogito, пещера Платона, теория мозга в банке и замечательное развлекательное кино – всё в одном. Это похоронный звон по философии, науке и религии. Ничто не является тем, чем кажется, но так же и является. Это царство сна.
— Это звучит знакомо, - сказала она. – А есть ли какие-нибудь духовные или религиозные группы, которые верят, что они не человеческие существа на планете Земля?
— Конечно, – сказал я, – их называют культами и стараются игнорировать до тех пор, пока не начинает увеличиваться количество трупов. Я не подстрекаю вас поверить, что вы не человек на Земле, только проверить это своё убеждение.
— А какая разница?
— Вера. Всё в вере. Все веры служат для самоограничения и все они ложны.
— Но если я не человек на планете Земля, тогда кто я?
— Вы спрашиваете меня?
— Э, да.
— Ну, для меня вы незначительный персонаж в моём фантастическом спектакле. Еле различимый энергетический паттерн, на короткое время появляющийся на сцене моего сознания. Эпизодическая роль, чётко вписывающаяся в текущий контекст.
Ооуу, – она ухмыльнулась, – держу пари, вы говорите это всем женщинам.
Я рассмеялся. Лиза прикусила нижнюю губу, глядя на меня.
– Это не таблетки говорят?
— Не знаю. Похоже на меня.
— Да.
Несколько минут мы сидели молча. Я ощущал, как она возбуждена.
— Вам нужно ещё раз посмотреть «Матрицу», – предложил я. – Там много полезного. Помните, когда Нео был отключен от матрицы? Он спросил, почему его глаза болят, и Морфеус ответил...
Она продолжила.
— …потому что ты никогда ими не пользовался.
— Да, – сказал я, – Добро пожаловать в пустыню реальности.
Она беспокойно рассмеялась.
— В фильме, – я продолжил, – Нео отбрасывает один слой иллюзии и заменяет его на другой, точно так же, как обитатели пещеры Платона обменивают иллюзию теней на стене на более широкую иллюзию самой пещеры. В «Матрице», когда кто-то освобождается, он переходит в более широкую пещероподобную реальность с подземными кораблями, гротами, Зионом, и, как изображается в фильме, может показаться, что это совсем не выгодная сделка. Кто-то может захотеть снова войти в состояние удобной иллюзии, чтобы не подвергаться трудностям и лишениям пещерной жизни, может захотеть заползти обратно в матку. – А этого сделать нельзя, – сказала она тихо.
— Нет, не думаю, – сказал я. – Вы в порядке?
— Да, пожалуйста, продолжайте. Это интересно. – Вы уверены?
— Я кое-что начинаю лучше понимать, - сказала она. – Я начинаю как бы видеть себя в этой метафоре.
— Хорошо, иначе, это просто кино.
— Именно так я и думала, – сказала она.
— Это инструмент, – сказал я, – карта, где мы можем спланировать наше путешествие, или часть его. Если бы персонаж Нео действительно пытался пробудиться из состояния сна, он не принял бы так легко подземный мир Морфеуса, Зиона и борьбы за свободу. Он распознал бы это как ещё один слой иллюзии и продолжил бы идти.
— Дальше, – сказала она.
— Именно, всегда дальше. Слой за слоем, черепаха за черепахой. Нео так и не выяснил, насколько глубока кроличья нора, он лишь спустился на один уровень вниз, и, улизнув из матрицы, он оказался в ещё более крепких объятьях иллюзии. Он знает, что матрица — это искусственная реальность, но он думает, что вышел из неё, поэтому он заключён в темницу намного более эффективно, чем раньше. Он неверно истолковывает своё новое состояние как свободу, но это лишь более убедительная иллюзия свободы. – И как это применимо ко мне?
— Это ваша ситуация.
Она посмотрела в записи.
— Теперь я более крепко в тисках иллюзии, чем когда-либо? Что это значит?
— Это значит, что вы истратили свою неудовлетворённость. Вы подожгли фитиль, и о-па.
Она нахмурила брови.
— Это не плохо, – сказал я, – это хорошо. Возможно, вы сейчас ещё не счастливы и не уравновешены, но вы определённо там, где надо. Вы сбежали оттуда, где вы не хотели быть, где вы скорее умерли бы, чем остались, а теперь вы пробуждаетесь в царстве сна. – Но не из него?
— Нет, ваша неудовлетворённость была не той природы. Вы как Нео.
— А вы как Морфеус?
Я засмеялся.
— Только в смысле туристического гида, – сказал я. – Я показываю вам окрестности немного, объясняю, где вы, и как всё работает. У вас появились некоторые новые возможности, с которыми вы можете поиграть и научиться хорошо ими пользоваться.
— Я всё же не могу себе представить, как это – не верить, что я человек на...
Никто не может представить себе следующий шаг, пока не предпримет его. Каждый барьер кажется непроходимым, пока не приходит время, когда растворяются все другие варианты, и остаётся лишь идти вперёд или погибнуть. Могли вы представить себе год назад, что вы совершили сейчас? Она засмеялась, представив. – Нет, – сказала она.
— Вы делаете один шаг, что всегда является актом разрушения, потом делаете паузу, собираетесь с силами, размышляете, может даже думаете, что всё окончено, а потом начинает показываться следующий шаг, а возможность не предпринять его начинает исчезать. Вы уже однажды проходили через это, так что я думаю, вы понимаете, о чём я говорю.
Она слегка кивнула, уткнувшись в записи.
— Сейчас я описываю следующий шаг, это нечто значительное, почти такое же по значимости для трансформации, как и первый, но намного менее трудный. Это естественно, что сейчас он выглядит невозможным для вас, но постепенно невозможным будет не сделать этот шаг.
Она выглядела обескураженной.
— Никто не идёт, весело насвистывая, по этому пути, Лиза. Здесь нет смелости, и никто не предпринимает шагов, исходя из своего желания. Ты идёшь вперёд тогда, когда не можешь оставаться там, где ты есть. Таков процесс. Так вы дошли до этой точки, и так вы продолжите идти, если продолжите.
Она молча писала, низко опустив голову.
16. Актёр без роли.
Я не говорю, что вы должны быть свободными от страха. В тот момент, когда вы пытаетесь освободиться от страха, вы создаёте против него сопротивление, а любое сопротивление не прекратит страх. Чем убегать, контролировать, подавлять или ещё как-либо сопротивляться, лучше понять страх, а это значит наблюдать, изучать его, войти с ним в прямой контакт.
– Дж. Кришнамурти –Спустя неделю или две я пошёл на поправку. Перестав принимать лекарства, я вернулся к своим обычным занятиям – гулял с собакой, бродил по городу, каждый вечер наносил визит Фрэнку. Большую часть времени я проводил за своим рабочим столом. Лиза несколько часов в день помогала мне, заменив одного из местных пенсионеров, моего бывшего ассистента, который перестал приходить, ощутив неудобство от материала.
— Можно попросить вас рассказать о Брэтт? – спросила Лиза. – Что вы хотели бы узнать?
— Не знаю... где она жила? Где находилась её ферма?
— В Вирджинии, в Долине Шенандоа. Я любил туда ездить – очень красивая дорога, особенно ночью.
Включишь хорошую музыку, едешь не торопясь, оглядываешь окрестности. Будто летишь на ковре самолёте. Очень приятно.
— А как она выглядела?
— Рыжеволосая. Остриженные по плечи волосы всегда завязаны назад. Крепкая, сильная, но не тяжёлая, наделённая естественной красотой. Обычно она была одета в джинсы, незаправленную джинсовую рубашку и ковбойские ботинки. – Я посмотрел на Лизу поверх своих очков. – А что?
— Просто интересно. Сколько ей было лет?
— Как вам, может, на пару лет постарше. Лет сорок?
Несколько минут она молчала. Я вернулся к работе.
— И у неё была лошадиная ферма? - спросила она. – У Брэтт?
— Да.
— Полагаю, да, то была лошадиная ферма. Там были лошади, собаки, кошки, много земли, озерцо, конюшня, большая крытая арена для скачек.
Там жил ещё кто-нибудь? Ну, там, постоянные студенты?
— Э, нет. Она ограничивалась теми воскресными собраниями. Несколько раз проходили добавочные собрания в субботу, когда я был там, но это было исключением. В отсутствии других людей, студентов, я думаю, она вряд ли думала о духовности. Духовность была частью её жизни. Она не писала книг, не выступала с речами или интервью, не путешествовала, у неё была только та группа, приходившая по воскресеньям. Похоже, доктор Ким был организатором всего этого, не Брэтт. По-моему, она просто мирилась с этим.
— Семья?
— Дочь и внучка, насколько мне известно. Мы никогда не обменивались биографиями. После следующей длинной паузы она задала ещё один вопрос. – Она была счастлива?
***
Мне пришло в голову, что Лиза могла рассматривать Брэтт как ролевую модель, как человека, на которого она могла бы смотреть с почтением из своего нового и неустойчивого положения. Ей было интересно, посмотрев на Брэтт, представить себе, куда она сама идёт, или должна идти. Я не уверен в своей способности судить, что происходит внутри человека, но мне кажется понятным и объяснимым, что Лизе хочется обозначить знакомое лицо на далёком берегу, и что она, возможно, формирует образ Брэтт в своём уме, чтобы удовлетворить эту нужду. Хорошо это или плохо, я не знаю, но я знаю точно, что Лиза находится в процессе становления не тем, кем стала Брэтт. Брэтт была пробуждена из царства сна, что означает, она перешла от «я» к «не-я», умерла, не сбросив тела. Лиза пробуждается в Человека Взрослого, что является переходом от отделённого «я» к интегрированному. Это огромный шаг, но это преобразование внутри царства сна, а не выход из него. Брэтт подвергалась такому же преобразованию в Человека Взрослого, но, как и в моём случае, это было лишь первым шагом в более длительном путешествии.
Благодаря прочтению черновиков этой книги в Лизе развилось влечение ко всему, что касается Брэтт, поэтому я распечатал несколько страниц, которые она ещё не видела, и передал ей в надежде, что она поймёт суть вопроса и увидит, как это применимо к её паническому желанию схватиться за кого-нибудь или за чтонибудь.
***
— Это типа сатсанга? – спросила новенькая девушка.
— Я не совсем понимаю, что такое сатсанг, – ответила Брэтт, и началось обсуждение впечатлений от сатсангов. Сегодня на трибунах было более сорока человек, и все, казалось, хотели высказать мнение или поделиться опытом на данный предмет. Несколько минут Брэтт дала им поговорить о покое, глубокой осознанности, разделённой тишине, шакти, и о том, какими развитыми, возвышенными, просветлёнными были или не были различные учителя, прежде чем вступить в разговор.
— Окей, окей, теперь все затихли. Думаю, я всё поняла, и отвечая на изначальный вопрос – нет, это не сатсанг. Печально слышать, как вы все разглагольствуете о глубоких переживаниях, высокоразвитых учителях и прочем. Похоже, нам здесь не удастся продвинуться ни на дюйм. Скажу ещё раз: мне нет никакого дела до всей этой тишины, умиротворённости и покоя, и нет особенных людей. Как сказал мистер МакКенна, мы все в одной протекающей лодке в безбрежном океане. И нет среди нас ни лучших, ни худших. Никто не выше или ниже, впереди или позади: мы все в одной и той же чёртовой лодке с одним и тем же чёртовым пейзажем вокруг. Свирепствует шторм и часы тикают. Мы не знаем, где мы, или кто, что, почему, когда или как, и все, кто говорит иначе, просто пустозвоны. Эта лодка полна пустомелей. Они любят выставлять это так, что мы, мол, все в этой лодке вместе, но вы должны усвоить факт, что каждый из нас в одиночестве. Чёрное небо и чёрная вода вокруг, и самое близкое, что напоминает твёрдую землю, — это утлое судёнышко, которое кстати, протекает, как ржавое ведро. Оно может пойти ко дну через пятьдесят лет, а может через пять минут, нельзя это узнать, но оно утонет, это факт. Все притихли.
— Это точно не похоже ни на один из сатсангов, на которых я бывал, – прошептал сухопарый мужчина на весь зал, и кто-то сдержанно засмеялся. Брэтт тоже засмеялась.
Вы все под гипнозом, – продолжала она, – и вы приходите сюда и просите меня помочь вышибить вас из него. Но я не могу вам помочь. Вы должны дойти до того, чтобы захотеть перестать делать это самим, но это не просто, ведь вы убаюкали себя до проклятого самодовольства, которое всасывает в себя всю неотложность вашего положения. Это механизм адаптации. Все знают, что такое механизм адаптации? Это как транквилизатор. Мы всё время накачиваем себя транквилизаторами, но если вы приходите сюда, вы говорите, что хотите избавиться от этой привычки. Мы все в руках любящего Бога – одна из разновидностей транквилизаторов, которые мы любим глотать. Значит, можно просто расслабиться и проводить время. Быть хорошим мальчиком и извиняться, когда сделаешь что-то не так, и любящий Бог не поджарит твою задницу. Реинкарнация – ещё одна классная пилюля. Мы возвращаемся снова и снова – всё время в мире в нашем распоряжении. Нами владеет целая куча карма-дхарма мошенников, а от нас только требуется быть хорошенькими овечками – ни срочности, ни неотложности, можно ничего не делать, только лежать смирно и пережидать. Либо мы все божественные существа света и всё, чем мы должны заниматься, — это искриться, сверкать и жить красивую жизнь, лицемерить и сильно не пылить.
Она пнула ногой песок.
— Все понимают, о чём я говорю? Быть хорошим, тихим, приятным, не задавать вопросов, не пользоваться своим умом, не устраивать шума – звучит знакомо? Вот на что похожи, по-моему, все эти разговоры про сатсанги – как будто вы начинаете чувствовать возбуждение, и вам нужно решить эту проблему, нужно успокоиться, принять транквилизатор. Как будто это цель этих учителей и гуру, о которых вы всё говорите – они заставляют вас оставаться пьяными, под кайфом, чтобы вы не смогли встретить свою ситуацию лицом к лицу. Для меня это прямо противоположно пробуждению.
Кто-то кивал, кто-то качал головой, все молчали. Большинство из них знали, что случится, если попытаться заявить о своих убеждениях как о фактах, или ошибочно принять популярность некоего убеждения за возможность его истинности. Брэтт набросится на такого мямлю как разъярённая медведица.
Она поддала ещё жару.
— Но мы все здесь на этой лодке, брошенной на волю стихии, и если кто-то будет говорить мне, что всё чудесно и божественно, и я должна сесть, заткнуться, успокоиться, быть паинькой, закрыть глаза и очистить ум, я подниму шум. Я попрошу того человека серьёзно всё объяснить, я захочу увидеть основания. У меня нет времени выслушивать пустозвонов с их лакомыми идеями о священной добыче. Я не желаю выслушивать фантастические проповеди, стихи, или умные догадки, мне нужны факты. Любой, кто говорит, что что-либо знает, говорит, что имеет самый драгоценный товар здесь на этом судне, что у него есть какое-то знание, и если он говорит, что оно у него есть, я хочу его видеть, а если он не может его предъявить, я ему этого так не спущу, я выгоню его со своей лодки, и может, протащу под килем. Все знают, что такое протащить под килем? Это значит смерть пустозвонам. Вам когда-нибудь говорили такое на этих ваших маленьких сатсанговых сборищах по коллективному онанизму?
По трибунам пробежал нервный смех.
— Но у них нет никакого знания, – продолжала она, – вот что я узнала в своей жизни, вот что я знаю, чего не знаете вы. Не существует знания, которое можно иметь. Всё, что у них есть — это транквилизаторы, чего во всяком случае хочет большинство народа. Это наше судёнышко полно всяческих торговцев наркотиками кустарного производства, продающих болеутолители всех сортов, которые только можно представить, и их бизнес всегда в наваре, потому что мы все куча одуревших наркоманов, ищущих следующую дозу. Меня слышно на задних рядах? Нам нужно оставаться под кайфом. Мы все ищем пилюлю, чтобы проглотить, чтобы снять остроту, притупить чувства, чтобы всё всегда выглядело мягким и пушистым. Если вы подсели на это, вас чертовски трудно будет выбить. Самообман — это привычка, от которой тяжелей всего избавиться, потому что она говорит нам, что мы не обманываем себя.
Она сделала паузу, глотнув воды.
— И как же нам избавиться от этой привычки, – спросила девушка, вначале задавшая вопрос о сатсанге.
— Очень просто, – ответила Брэтт. – Вы должны сделать только две вещи. Во-первых, вы должны знать, что подсели. Я не имею в виду знать так, как вы знаете сейчас, как идею, которую вы где-то слышали. Я имею в виду, вы должны знать это полностью, каждой клеткой своего существа, что каждая мысль омрачена этим, что каждый взгляд, вкус и запах отравлены. Вы должны знать это как жгучую боль. Все знают, что такое боль? Никто уже не смеялся.
А затем, когда дойдёте до этой точки, – сказала она, нарисовав пяткой глубокую черту на песке между собой и трибунами, – следующим вашим действием будет провести черту, как всё время вам говорит мистер МакКенна. Вот что должно произойти. Вы проводите черту. Становитесь перед ней и говорите: всё, с меня хватит. Говорите до тех пор, пока это не начнёт иметь какой-то смысл. И говорите это всем своим существом и жизнью. И оставляете всё у этой черты. До тех пор, пока вы этого не сделаете, вы не сделаете ничего. Вы просто будете продолжать толочь воду в ступе.
***
Лиза положила листки на стол, потёрла виски и несколько минут сидела молча, прежде чем заговорить. – Это правда? О пересечении черты?
Я не стал сразу отвечать на её вопрос. Люди вокруг меня привыкли к моему молчанию. Ответ приходит быстро, и я могу озвучить его или нет. От меня ускользает не правильный ответ, а его подача, хотя не моё дело судить, что хорошо для других, а что плохо. Я терпеливо наблюдаю, и действую тогда, когда вижу, что надо делать, и не действую, когда не вижу.
Брэтт была абсолютно нетерпимой и бескомпромиссной ко всякой ерунде, а Лиза совершала переход в Человеческую Взрослость. Недоразумение состояло в том, что Лиза начинала идентифицировать себя с Брэтт, следить за ней как за лучом света в темноте. Можно это понять, но это не разумное решение.
Спустя несколько минут, в течении которых мой ум забрёл совершенно в другую сторону от вопроса Лизы, я увидел, что она терпеливо смотрит на меня, и вспомнил о том, что она спрашивала меня о пересечении черты, которую Брэтт прочертила на песке. Я не старался состряпать ответ. Часто правильный ответ становится полным разоблачением. Просто выложи его на видное место, и позволь человеку делать с ним то, что он захочет. Лиза тонет. Она пытается за что-нибудь ухватиться и видит Брэтт. Кто я, чтобы её удерживать? Пусть она делает, что хочет. Вот ответ.
***
Обычно, когда кто-то проводит черту, заявляя о своей позиции, мы думаем, что он предаёт себя смертельной битве – всё или ничего, здесь и сейчас, на этом месте, жизнь или смерть. Именно о таком типе ультиматума говорила Брэтт. Она придавала этому звучание, словно это сражение, что ты должен быть готовым драться, но на самом деле это не так. Это конец сражения, конец борьбы длинной в целую жизнь. Проведение этой черты не означает мобилизацию, боеготовность номер один и прочее. Эта битва не такого рода. Она означает сложить оружие, а не поднять его. Объективный наблюдатель, глядя на большинство современных духовных искателей, может классифицировать их как духовно само-одурманенных. Они устремляются найти жизнь и обнаружить истину, а кончают тем, что сидят в тёмной комнате, повторяя бессмысленные слоги, глаза закрыты, ум в покое, убеждённые, что они и вправду отправились в великое путешествие. Вот как легко нас погубить, а всё потому, что враг находится внутри, заправляя всем, перенаправляя все наши ментальные и эмоциональные ресурсы против нас. И вместо того, чтобы принимать воинственную стойку, мы должны, против интуиции, сложить щиты и оружие. Это кажется сбивающим с толку, пока мы не поймём, что мы в этом конфликте являемся как нападающим, так и защищающимся. В этом парадоксальная природа этой борьбы. Мы не можем победить, борясь. Та самая часть, которая борется, сопротивляется, является именно тем, что мы хотим свергнуть. Лишь преодолев эго можем мы достигнуть цели. Лишь сдавшись можем мы обрести победу. Немногие дошли до этой части, и ещё меньше прошли дальше. Это та часть, где всё начинает звучать очень мудро, по-дзенски, или по-оруэллски, но здесь ничего не поделаешь. Если говорить о том, что все религии и духовные учения имеют общее истинное ядро, оно может быть только таким: Сдача есть победа.
Вот что я сказал Лизе. Она долго молчала. – Это касается меня? – спросила она.
— Вы провели три болезненных года, борясь с процессом. Только перестав бороться, вы стали побеждать. Вам, возможно, это не так ясно видно...
— Я действительно начинаю видеть. Это всё так ново.
То, через что вы прошли, было большим делом, как взрыв плотины. Такое событие требует долгого медленного восстановления, поскольку затвердевшая и укреплённая структура туго поддаётся силам, которые в конечном итоге должны возобладать. Освобождение, когда оно наконец наступит, будет неистовым, буйным и разрушительным, но плотина создавала неестественный дисбаланс, и должна была рано или поздно поддаться. После того, как плотина рухнула, и накопившееся напряжение израсходовано, вода вскоре устанавливается, и всё возвращается в своё гармоничное сбалансированное состояние. Возможно, вам будет жаль погибших деревень и полей, или осушенного рукотворного озера, но всё, что опиралось на дисбаланс, вызванный этим неестественным препятствием, было с самого начала обречено на гибель.
— Тогда почему это не происходит чаще?
— Эти плотины очень крепки, и в основном переживают своих строителей. Большинство людей умудряются энергетически укреплять это искусственное заграждение в течении всей жизни, и умирают до того, как оно прорвётся. В отличие от вас.
— Значит, я провела эту черту? Да?
— Конечно. На уровне пробуждения внутри сна вы прошли через этот процесс. Вы думали, это был нервный срыв, когда ваш сын сказал, что хочет быть таким, как ваш муж – вы сломались, схватили Мэгги и ушли. Это было долгожданный взрыв плотины. Конец одной вещи и начало другой.
— Это было похоже на тотальный нервный срыв. Тяжело представить, что это какой-то тип духовной победы.
— Это не какой-то тип, это единственный тип.
– Трудно в это поверить.
— Это потому, что вода ещё не установилась. Вы всё ещё видите катаклизм, его последствия, побочные результаты, косвенный ущерб. Когда всё установится, когда вы установитесь, вы увидите новый ландшафт, и сочтёте его раем по сравнению с тем, что было. – Это всё так жестоко.
— Знаю, так это выглядит, но когда вы смотрите на работу более масштабных сил, то, что кажется жестоким, оказывается естественным порядком вещей, как восстановление баланса. Люди отчаянно не желают проходить через то, через что прошли вы. Все хотят сохранить состояние радикального дисбаланса, удерживая всю свою энергию и жизненные силы на одной стороне этого искусственного барьера, вместо того, чтобы подвергнуться подобному персональному апокалипсису. Большинство удерживают воду всю свою жизнь, но вы не стали этого делать, и теперь у вас совсем другая жизнь. – Повезло мне, – пробормотала она.
— Повезло вам, – согласился я.
***
— Брэтт любила указывать на то, что в подобном продвижении не существует уровней. Смерть и перерождение — это очень специфическое событие, не то, которое продолжается много лет. Она говорила, что нет ни начального, ни промежуточного, ни продвинутого уровня, и она была права. Всё сводится к сдаче, которая естественным образом следует за видением того, что есть, а не к вере или убеждению, в которых мы бултыхаемся, когда не видим ясно. Эту идею стоит много раз повторять, так казалось Брэтт. И мне тоже. Встречается много людей, которые подходят к духовности, будто что-то знают, будто они уже далеко продвинулись, но они не понимают, что на самом деле нет никакого далеко. Ты либо пересёк черту, либо нет. Ты либо в процессе, либо нет. Знание, понимание, учёность, опыт – всё это не имеет никакого значения. – Она кажется очень сильной женщиной. – Брэтт?
— Да.
Я задумался.
— Нет? – спросила она.
— Это совсем не из той оперы, – сказал я. – Мир полон сильных женщин. Вы – сильная женщина, ваша мать была сильной женщиной. Если вы зовёте такого человека, как Брэтт, сильным или слабым, начинаете придавать ему какие-то свойства, вы упускаете единственную вещь, которую стоит знать. Когда вы зайдёте за поверхность Брэтт к той части, которую стоит знать, то ничего там не найдёте – там ничего нет. Вот о чём всё это. Остальное просто костюм.
— И для вас это тоже верно?
— Это верно для всех.
***
Лиза не имела прецедента происходящего с ней сейчас, и, что ещё важнее, она никогда не становилась тем, прецедента чего у неё не было. Никогда ранее во множестве всех своих личных и профессиональных свершений она не попадала в ситуацию, когда не могла видеть, что она делает, оглядываясь на тысячи или миллионы других, которые делали это до неё. Я лишь предполагаю это, наблюдая за ней, но пришёл к этому не без причины, и уверен, что я прав. Она начинает ощущать более глубокие измерения своего одиночества.
Лиза не представляет себе, куда идёт её жизнь. Должно быть, это намного сильнее травмирует и расстраивает нервы, чем если бы она продолжала притворяться; как если бы она проснулась посреди ночи и сбежала из своего племени в само-изгнание, а теперь настало утро, она бродит по пустыне, потерянная, впервые в своей жизни одинокая, и нельзя узнать, в какую сторону лучше идти, или как быстро нужно идти. Я только сейчас начинаю это понимать, когда она пытается восстановить образ Брэтт, и я спрашиваю себя, почему она проявляет интерес к женщине, которую никогда не знала и никогда не узнает. Лиза не знает, кем ей теперь быть, поскольку больше не может быть тем, кем она была. Она – актёр без роли. Она не знает, как одеваться, как есть, как действовать, что говорить, что делать. Она даже не знает, какова её мотивация.
И это хорошо для неё.
17. Образованный невежда.
Нужные нам книги должны быть такими, чтобы они действовали на нас подобно беде, чтобы заставляли нас страдать, как от смерти человека, которого мы любили больше самих себя, чтобы заставляли нас чувствовать себя на краю самоубийства, или потерянными в дремучем лесу вдали от человеческого жилья – книга должна служить ледорубом для замёрзшего моря внутри нас.
– Франц Кафка –— Как бы я хотела с ней познакомиться, – сказала Лиза, кладя на стол страницы с главами о Брэтт, – хотя, полагаю, она не была особенно сочувствующим человеком.
— Она была совершенно другой, когда не стояла перед группой, – сказал я, – менее огненной, более милой, меньше акцент, и она определённо предпочитала животных людям. Отнеслась бы она к вам ласково или жёстко, я не знаю.
— Почему она должна была отнестись ко мне жёстко?
— Для вашего же блага. Лучше сделать это побыстрее, как удалить зуб. Брэтт могла подумать, что самое любезное будет отхлестать вас, чтобы вы не бездельничали и всё не усложняли.
— Я бездельничаю? Да, я слишком много валяюсь. А кажется, что я должна что-то делать. Делать больше.
— Существует естественный ход вещей. Если ты слишком напуган или слишком умён и начинаешь валять дурака, то, возможно, просто поставишь себя в трудное положение. Вы отпустили штурвал, так что не паникуйте и не пытайтесь снова схватить его. Не создавайте себе лишних проблем, всё хорошо.
Она вздохнула.
— Я не знаю, что делать дальше. Мне кажется, что, ну, не знаю, как будто я должна что-то делать.
— Ваши старые взаимоотношения со временем уничтожены. Вам стоит не торопясь об этом поразмыслить, подумать о времени, о вашем времени. Как вы проводите дни, недели, годы, чем они являются для вас, и чего вы хотите от них.
— Это совершенно вне моего образа мышления, – сказала она. – Вся моя жизнь была сумасшедшим домом, полном вещей, которые требовали незамедлительного исполнения. Не помню, чтобы я думала как-то иначе.
Теперь вам некуда спешить. Гонка окончена. Когда нужно будет сделать следующий шаг, вы об этом узнаете. Всё управляется совершенным интеллектом. Не требуется ни думать, ни вмешиваться, ни сомневаться в правильности. Просто позвольте процессу нести вас, доверьтесь ему, не боритесь с ним. Вот и всё, что нужно делать.
— Это то, о чём вы говорили Мэгги, да? Что вы не хотите носить повязку на глазах и ходить с тросточкой? – Похоже на то.
— И так вы живёте свою жизнь?
— Вроде того.
Она сидела и смотрела на меня, с полуоткрытым ртом.
— Но серьёзно, ну, то есть, на самом деле?
— На самом деле.
Она смотрела на меня, словно зависла где-то над этим разговором, не способная спуститься ни на одну из сторон. Она думала, что жизнь, какой она всегда её знала, нормальна и естественна. Возможно, она и нормальна, но далеко не естественна. Я со своей стороны не чувствую неудобства, говоря, что мы, человеческие существа, не имеем представления, кто мы в действительности и на что в действительности способны. Ни малейшего.
Она по-прежнему смотрела на меня.
— Говорите, – сказал я ей.
Её рот был всё ещё приоткрыт, а теперь голова начала слегка раскачиваться.
— Нет, этого не может быть, – наконец выговорила она, борясь сама с собой.
Я слегка подтолкнул её локтем.
— Вы, наверное, были помешаны на том, чтобы держать всё под контролем? – спросил я.
Это всё, что было нужно.
— Нет, – сказала она, защищаясь, – это уж точно. Может быть, это по вашим довольно отстранённым стандартам, но у нас была очень сложная, полная требований жизнь. Не было места для легкомыслия, знаете ли. Каждый должен был выполнять свою часть, иначе всё пойдёт... еда, стирка, счета, магазины, школа, работа, общественные обязательства, графики, домашние дела, боже мой... командировки, спорт, вó время всех подготовить, чтоб не опоздали, миллион вещей, дома, на работе, в школе, везде, каждый день, без выходных... всё это должно быть сделано, знаете, и я – та, кто должен обеспечить это. Это называется быть помешанной на контроле? Я должна была быть очень организованной, и я старалась. Я должна была следить, чтобы все были заняты, знаете, так много нужно было сделать, и не было места для оплошностей, иначе всё полетит вверх тормашками. Не думаю, это значит быть помешанной на контроле. Я просто вела нормальное суетное домашнее хозяйство.
— Значит, вы не были помешаны на контроле?
Она вздохнула.
— Мне кажется, это не подходящее название. Я делала то, что должна была, вот и всё. И делала хорошо. И гордилась, что делаю это хорошо.
— Могу я сделать одно замечание?
— Да, окей.
— Вы можете обидеться.
— Постараюсь не обижаться.
— Окей, это очень простая вещь, но крайне важная. Вы не знаете, как дышать.
— О, – произнесла она, энергично кивая, – да, я знаю. Мой тренер говорил мне то же самое. Я пытаюсь...
— Постойте, прошу вас. Вы не то, что делаете это не правильно, вы вообще не знаете, как это делать. Ваше тело не знает. Я наблюдаю за вами. Вы зеваете, словно это противозаконно, вы чихаете как котёнок, вы говорите в нос и голос ваш слаб, вы никогда в действительности не расслабляетесь. Очень важно научиться дышать, может уйти целый год, чтобы сломать плохие привычки и наработать хорошие. Это имеет решающее значение для всего, и это не легко. Вам действительно необходимо уделить этому внимание, узнать об этом, развить мышцы, сделать привычкой. Вам нужно перевоспитать свой ум и тело. Это не простая вещь.
— О, господи, – сказала она, с преувеличенным отчаянием, – как будто мне больше не о чем беспокоиться, теперь я не знаю, как дышать!
Дыхание прежде всего. Если вы не дышите хорошо, всё остальное не будет работать правильно – ментальные, физические и эмоциональные аспекты целиком зависят от полного, здорового дыхания. Вот смотрите, вытяните вперёд руку.
Я вытянул свою навстречу. Моя была неподвижна как у манекена. Её – дрожала словно мокрый котёнок. – Вы плохо засыпаете ночью? Лежите и перемалываете то, о чём вам не нужно было бы беспокоиться?
— Нет, – сказала она. – Может быть.
Я подождал.
— Да.
— Это потому, что ваше тело и ум лишены кислорода, и это приводит вас в паническое состояние. Практикуйте правильное дыхание, когда ложитесь спать, и больше это вас мучить не будет. Я не хочу читать вам лекций, но ничто не будет работать правильно, если вы неправильно дышите. Вам действительно необходимо изучить этот вопрос – почему это важно, и как это делать. Сделать это самым важным. Это самый лучший совет, который я могу вам дать.
Я откинулся на спинку, медленно и глубоко вдохнул, и выдохнул.
— Дыхание идёт рука об руку с пробуждённостью. Оно очищает, освежает, концентрирует, всё вместе. Во мне осознанное дыхание вызывает тёплое чувство благодарности за всё, что я имею, смешанное с осознанием, что с каждым вздохом это безвозвратно уходит. Это не мистика и не просветление, это не путь и не цель, это просто базовая осознанность.
Я видел, что обида завладевала ей, но она придерживала язык, её мышцы натянулись, а дыхание стало прерывистым.
— Да, – сказала она резко, – вы говорите в своих книгах о дыхании.
— Попытайтесь понаблюдать своё теперешнее состояние, – предложил я. – Вот о чём я говорю. У вас нет амортизаторов. Каждый малюсенький камушек на дороге кажется булыжником. Вы начинаете ерепениться, ваша реакция «драться или бежать» появляется из-за таких вещей, которые должны обдувать вас, словно летний ветерок. Вы когда-нибудь спали днём, или принимали ванны?
— На самом деле я не тот человек, который может просто...
— Это старое мышление, и вы должны переоценить его в свете ваших изменившихся обстоятельств. Вы хотели знать, что вам дальше делать? Вот ясный ответ. Вы должны перевоспитать своё тело, ум и эмоции. Вы становитесь другим человеком, и такие вещи, как дыхание, дневной сон, пенные ванны, длинные прогулки, щекотание друг друга с вашей дочерью больше не должны рассматриваться как непродуктивные занятия. Они больше не несущественные, теперь они – сама суть. Вы проходите не через процесс частичной уборки, вы подвергаетесь абсолютному переосмыслению, и должны быть чувствительны к процессу во всём и на всех уровнях. До той степени, до которой вы сопротивляетесь, или игнорируете, или как-то иначе препятствуете процессу, до той же степени вы будете испытывать страдания.
Однако, судя по выражению её тела и лица, она восприняла это не очень хорошо.
— Вероятно, вы будете сопротивляться занятиям своим дыханием, и через день или два бросите, поэтому я сделаю вам одолжение и заставлю вас этим заниматься.
Её глаза округлились от подобного вызова, но она ничего не сказала.
— Мэгги тоже не знает, как дышать. Испуганное, поверхностное, мышиное дыхание, точно как у вас. Вы пустились в это нелёгкое предприятие, чтобы предохранить её от совершения тех же ошибок, которые совершили вы, и вот, прекрасная возможность, чтобы сконцентрировать свои усилия. Вы должны научиться сами, и можете научить её. И теперь вы будете делать это ради своей дочери.
***
Часом позже, когда я дремал на одном из мягких кресел возле бассейна, а Лиза что-то искала в компьютере, к нам присоединилась Мэгги. Я узнал об этом, открыв глаза и увидев, что она смотрит на меня. – Вы не спите? – спросила она
— C'est mon métier[17], – вяло сострил я.
У меня есть вопрос, – сказала она. – Окей.
— Помните, что случилось с Джолин тогда в церкви? В первой книге, когда она увидела всех коровами, и это полностью изменило её, ну, взгляды.
— Мм, да, – ответил я, и отметил в уме, что надо бы пролистать первые две книги, прежде чем завершать третью.
— А у вас как всё было?
Знаю, она не думала об этом таким образом, а её мать слушала лишь в пол-уха, но не по годам развитая маленькая Мэгги только что задала мне вопрос о моём первом прозрении. – Ну, – сказал я, – был один человек по имени Мортимер...
***
Когда-то, когда мне было лет около двадцати, мне попалась книга Мортимера Адлера «Как читать книги», и она оказалась, довольно неожиданно, одной из тех чудесным образом опустошающих книг, которые разрушают стены и открывают новые, ранее скрытые перспективы. К тому времени я прочёл сотни книг, включая много тяжёлого материала, не обязательного в школе, но лишь потому, что я вообразил себя читателем. Я много читал, и мне это нравилось достаточно, чтобы продолжать в том же духе, но потом появилась эта книга Адлера, и на первых десяти или пятнадцати страницах я понял, что я никогда ничего в действительности не читал.
Бам!
Я не знал, как читать.
Это было откровением, как гром среди ясного неба, мини-просветлением – моё первое большое прозрение со времён Деда Мороза. Я не только не оценивал литературу сколь-нибудь близко к уровню, которого она заслуживала, но что намного хуже, я эффективно вакцинировался против неё. Я проникал в книги лишь настолько, насколько было необходимо, чтобы вычеркнуть их из своего списка обязательных к прочтению. Я вернулся ко многим прочитанным мною книгам, о которых я думал, как о своих друзьях, только чтобы подтвердить сказанное Адлером: эти книги были совершенно мне незнакомы. Я знал их настолько же близко, как если бы прочёл лишь краткие обзоры много лет назад. Я был, как выразился Адлер, образованным невежей – я читал много, но плохо.
Осознав это, я признал «Как читать книги» своей первой книгой, и поэтому вернулся назад, и перечитал многие книги правильно. Я также понял, что читал по многим неверным причинам, и стал гораздо более избирательным в своём выборе книг, следуя своим интересам. Я стал владеть процессом, вместо того, чтобы быть им одержимым, стал различать, что хорошо, а что плохо согласно собственным взглядам, а не весу общественного мнения.
Это было довольно обескураживающим опытом, когда вот так из-под тебя вдруг выдёргивают ковёр, но также это было и возбуждающим открытием. То был опыт смерти-перерождения. Да, парень по имени Мортимер порвал девственную плеву моей пробуждённости. После этого дело было лишь в масштабе.
Вместо того, чтобы быть расстроенным или озлобленным из-за проткнутого пузыря эго, я был воодушевлён, обнаружив, что вещи, которые я считал твёрдыми и реальными, могут так легко превратиться в дым. Адлер называл меня тупоголовым невеждой, второгодником, что кто-то мог бы найти обидным, но это было правдой. Он был абсолютно прав. Мортимер Адлер был первым, кто привлёк мой внимание к моему дерьму, и я до сих пор благодарен ему за это. Как ни печально это говорить, но да, я получал удовольствие от того, что мне утёрли нос моим же говном, и да, я думаю, что это всё, что необходимо для любой формы роста в жизни. Человек — это самоудобряющееся животное. Мы вырастаем из собственного дерьма, или не вырастаем вовсе.
Адлер не был просветлённым. Он не носил мантий или цветов, но когда дело доходит до реальных учителей, я думаю о таких глубокомысленных людях как Адлер, людях, которые разбивают вдребезги стеклянные дома людей, а не о тех, кто помогает их возводить и охранять. Иисус никогда не сделал для меня больше, или любой священник, или даже любой из учителей, которых я знал и которым верил. Что, чёрт возьми, с ними такое? Книга Адлера вышла в сороковых годах. Почему её не дали мне в первый же день моего образования, раньше всех остальных книг? Почему они позволили мне потерять тысячи часов, неправильно читая книги, с трудом одолевая их, будто они были не боле чем галочками в моей библиотечной карточке? Были ли другие области моей жизни, где я был также дезинформирован и обманут? Почему все мои учителя и профессора ставили мне хорошие оценки? Что с ними, чёрт возьми, такое? Вот ещё один прекрасный урок, который я извлёк из книги Адлера: Те, кому ты больше всего доверяешь в том, что тебе нужно знать, могут сами не знать этого. Ты предоставлен только самому себе. Думай сам, или не думай вообще.
***
Книга Адлера преподала мне много уроков, которые укоренились, развились и стали самыми важными в моей жизни.
Так как то, что я узнал о своих способностях читателя, было так же верно практически для всех остальных, эта книга научила меня, что каждый может быть самоуверенно, убеждённо и совершенно неправым. Вдруг я стал смотреть на всех в совершенно ином, более строгом свете. Адлер показал мне, что учителя, писатели, специалисты могут не только быть неправыми, но могут служить той самой действующей силой, с помощью которой неправильность увековечивается в мире. Невольные двойные агенты, можно сказать, но чьи? Неряшливого, леммингоподобного ума, неверно заключил я.
Это было очень важным уроком всеобщего сомнения и недоверия, которые я стал далее очищать и ценить, и которые теперь я считаю фундаментальным ведущим принципом честной жизни: виновен, пока невиновность не доказана. Ложно, пока не доказана истинность. Каждое убеждение неверно, пока не доказана его верность. Ни человек, ни учение, ни религия, ни система мышления, доктрина, идеология, кредо не свято, если только оно неуничтожимо. Если что-то стоит понимания, это стоит самоопределения. Если это не стоит самоопределения, этот пустяк, и им можно пренебречь.
Непредвзятое недоверие вкупе с пониманием слова «дальше» – вот всё, что нужно для пробуждения из царства сна. Честность и упорство должны непременно привести к состоянию реализации истины. Что ещё? И как ещё этого достичь? Добавьте духовный автолизис и горячее намерение, и через несколько лет вы сами будете писать книги.
Опыт с книгой Адлера научил меня, что скорее неверное знание, чем не-знание, может быть более истинной и намного более коварной формой невежества; что то, что мы считаем нашей силой, может быть укромным местом, где прячутся самые истощающие нас слабости.
Он научил меня, что видимое — это ничто, и что невидимое – всё. Он научил меня, что место, где я думал, всё кончается, может быть местом, где всё только начинается, что есть мир за пределами мира, который я видел, и существует я за пределами известного мне я. И скорее всего, ещё гораздо больше.
Он научил меня, что осознание своей неправоты гораздо лучше осознания своей правоты. Что разочарование и падение иллюзий является лучшей частью процесса роста и обучения. Он научил меня, что боль и замешательство от обнаружения собственной глупости и лживости являются ценой выхода за пределы последних – без боли нет воли; что удары, которые пришлось вынести моему образу себя, были теми ударами, которые он должен был вынести, и вероятно, во мне была доля самобичевания, и должна была быть.
Он научил меня пугающей истине, что пацан, ещё не достигший двадцати лет, может увидеть дальше, чем все эксперты, и оставить их позади. Это было много и важно. Все признанные эксперты могут ошибаться точно так же, как те, кто признал их таковыми, и возможно, и даже нетрудно, пройти дальше их всех. Просто сделав один маленький шаг, я тем самым вошёл в новую и намного менее обитаемую сферу понимания. Если вы поняли, что я говорил о «Моби Дике» во второй своей книге, то перед вами отличный пример именно такого понимания. Я был первым, кто постиг смысл этой книги, не потому, что смог превзойти всех великих мыслителей, сделавших сильно раздутые и бессмысленные заявления на счёт неё, просто я смог рассмотреть её с более высокой точки, откуда всё разрешилось полной ясностью и обрело совершенный смысл. Здесь дело не в знании, учёности или интеллекте, а в ясном видении.
Хотя я был удивлён и разочарован, обнаружив, что огромная часть читающего мира, обучающих в равной степени с обучаемыми, функционировала на таком поверхностном и легко трансцендируемом уровне, я преодолел искушение обвинять в своём невежестве кого или что-либо, кроме самого себя. Мне было решать, открывать занавески, загораживающие свет, или нет. На меня повлияли, но меня не принуждали.
Цепи, сковывающие нас в пещере Платона крепки, но не замкнуты. Если мы не откинем их, не встанем и не начнём путь, нам некого в том винить, кроме самих себя.
Он научил меня, что сделав один шаг, будут ещё шаги. И поняв, что причина моего невежества находится внутри меня, я открылся для идеи, что там есть ещё много таких слепых пятен. Я перестал быть одним из тех штампованных людей, как Джолин перестала быть одной из тех коров. Теперь я стал чем-то ещё, и мог продолжать развиваться в этом направлении.
Он научил меня, что есть два вида понимания: понимание для успеха и понимание для жизни. Понимание для успеха подразумевало следование за стадом. Понимание для жизни означало следовать разуму и фактам, собственному уму и сердцу, куда бы они ни вели. Понимание для жизни было абсолютно другим путём, и именно его я предпочёл. Адлер показал мне, что эти две дороги расходятся, и что, как сказал Фрост, пойти по менее хоженой дороге может всё изменить, и я говорю теперь, что так оно и есть.
Короче говоря, Мортимер Адлер представил меня Майе. Он показал мне, как её видеть, а видеть её, значит уничтожить её.
Всё это звучит, как будто слишком много для одного простого прозрения, но в том природа прозрений, и процесса де-становления. Это как иголка, прокалывающая воздушный шар, или искра, вызывающая взрыв, или лёгкий ветерок, опрокидывающий карточный дом, или трещина, разрушающая плотину. Это важнейшее изменение, которое может произвести один единственный щелчок нашего ментального циферблата. Когда вы последний раз меняли себя коренным образом? Когда последний раз вы становились свежим, большеглазым и молодым?
***
Книги, которые я пишу, несут то же послание, что и книга Адлера, только в другом масштабе. Нельзя избежать того факта, что в этих книгах я называю всех верующих заблуждающимися, а все веры неистинными. Если я здесь не прав, значит, я просто ещё один пустозвон, как сказала бы Брэтт, но если я прав, тогда это довольно убийственный обвинительный акт всех систем верований, и любого, кто присоединяется к ним. Адлер говорит:
Я высказал некоторые вещи о школьной системе, которые явились бы клеветой, не будь они правдой. Но если они являются правдой, это смертный приговор всем работникам образования, злоупотребившим народным доверием.
Он продолжает, говоря о школах то же, что я говорил об учителях и учениях:
Если бы школы выполняли свою работу, эта книга была бы не нужна.
И об изучении великих учений из вторых или третьих рук:
Они все могли бы быть правыми, если бы всё, чего вы хотите, было лишь какой-то информацией, но не в случае, когда вы ищете просвещения. Нет лёгкого пути. Дорога к истинному знанию усеяна камнями, а не розами. А тот, кто настаивает на лёгком пути, заканчивает раем для дураков – болваном с головой набитой неверно прочитанными книгами, второгодником на всю жизнь.
После этого дело только в масштабе.
18. Духовный диссонанс.
Если глаз никогда не спит, все сны естественным образом прекращаются. Если ум не делает различий, тогда тысячи вещей такие, какие есть, едины в своей сущности.
Понять тайну этой единой сущности, значит освободиться от всех затруднений.
Когда все вещи видятся одинаково, достигается вневременная сущность «Я». Невозможны никакие сравнения или аналогии в этом беспричинном, безотносительном состоянии.
– Сосан –Как же это возможно, что лишь немногие способны найти то единственное, что нельзя потерять? Каким же образом нам удаётся совершить этот чудесный подвиг – видеть то, чего нет, и не видеть того, что есть? Благодаря какому особому механизму иллюзии удаётся удерживать в своих лапах тех, кто стремится освободиться от неё?
Когда приходится решать, что вставлять в книгу, я вспоминаю, что мне хотелось бы прочитать, когда я сам пытался всё это выяснить. Меня всегда тяготил один вопрос: что это за великая загадка? Почему должно быть так трудно найти ответы на такие простые вопросы? Что истинно? Что здесь происходит? В чём смысл?
Кто я?
Похоже, основная масса людей удовлетворяется верой, что вселенная — это загадка, и смысл жизни непознаваем, но тех, кто действительно желает ответов на более обширные вопросы, не так-то легко отговорить. Очевидно, что вселенная — это тайна, но почему? Какова природа этой таинственности? Присуще ли вселенной быть таинственной? Присуще ли смыслу быть непознаваемым? Мы что, одурманены, или связаны, или заколдованы? Существует ли какая-то сила или фактор, который удерживает нас во тьме? Кто или что отнимает или прячет от нас реальность? Почему что-то настолько простое должно быть таким трудным?
Я обнаружил, что наше невежество не является принудительным, оно добровольное, и даже более того – мы сами налагаем его не себя. Никто у нас ничего не отнимал и не прятал, таинственность не присуща истине, и нет никакого заговора держать нас в невежестве. Существует, однако, реальный процесс, механизм иллюзии, который действует внутри каждого из нас. Имя, которое я использую для этого механизма иллюзии, заимствованное из индуизма, Майя. Нужно помнить, что Майя не является реальным архи-божеством, мешающим нам возвыситься. Майя внутри нас, она часть нас, и полностью управляет нами. Майя — это страх, пропитывающий нас настолько, что мы не подозреваем, что он существует. Майя — это организующий принцип эмоциональной энергии в основанном на страхе отделённом состоянии, и Майе присуща таинственность.
***
Близился вечер, на палубе бассейна всё затихало. Сегодня день был беспокойный, люди приходили и уходили больше обычного, но теперь остались только Лиза, Мэгги и я. Я сидел за своим большим столом, Мэгги колдовала над каким-то блюдом на кухне, а Лиза млела в опьяняющих лучах солнца.
Эта усадьба, в которой мы жили, была не тем, что я изначально искал, приехав в Мексику. Мне хотелось чего-нибудь более уютного, больше похожего на дом Фрэнка, но не в городе. Она была нелепой во многих отношениях – слишком большая, слишком вычурная, слишком высокотехнологичная, слишком дорогая – но вместе с тем она была совершенной. Мне очень нравилось в домике возле бассейна, и я часто ночевал там вместо гостевого домика. Это было прекрасным местом для жизни и работы – тихо, уединённо, великолепные виды – но эти качества я мог бы найти где-нибудь ещё. Что мне больше всего нравилось здесь, и чего я вряд ли нашёл бы в таком доме, как у Фрэнка, так это то, что Лиза и Мэгги могли жить тут же. Если бы они жили где-то у себя, или у Фрэнка, я бы не мог часто с ними видеться, но они были здесь, и обе, по-разному и в различной степени, играли важные роли в создании и содержании этой книги. Мне не нужно было преследовать их, звонить и назначать встречи, чтобы поговорить с ними, что было бы нарушением моих соглашений со вселенной, и уж этого я ни за что не стал бы делать. Но они были прямо здесь, рядом, в наличии, доступны. Это ещё один хороший пример того, как книга вкладывается мне в руки, и как я распознаю тенденции и двигаюсь ними: аренда этого совершенно неподходящего имущества, когда мой рациональный ум искал чегото совсем иного; приглашение практически незнакомых мне людей пожить здесь; неожиданная удача, пришедшая точно вовремя, чтобы покрыть расходы высокой арендной платы; и всё, что привело меня в этот дом и познакомило с этими и другими людьми, являющимися неотъемлемой частью процесса и содержания третьей книги. И намного больше, чем позволяет место, чтобы рассказать об этом.
***
Мэгги закончила, что она там делала, подошла и села ко мне за стол. Несколько минут она сидела молча, потом спросила, над чем я работаю.
— Когнитивный диссонанс, – ответил я.
— Я не знаю, что это, – сказала она.
— Я тоже, – сказал я. – Вот и пытаюсь выяснить.
— И что это?
Я зачитал из своих записей.
— Когнитивный диссонанс — это термин, используемый в психологии для описания дискомфорта, который мы ощущаем, когда наши мысли и убеждения вступают в конфликт друг с другом. Она сердито посмотрела на меня. – А например, – сказала она.
— Окей, скажем, например, я против убийства невинных животных, но также я люблю есть мясо.
Понимаешь?
— То есть, когда делаешь что-то против того, во что веришь?
— Правильно, и всё хорошо, пока я не вполне это осознаю, как если это остаётся на сумеречных задворках моего сознания. Если это не беспокоит меня, это не проблема. Какой же это зуд, если он не зудит?
– Если не зудит, – логически вывела она, – значит, это не зуд.
— Тогда что это?
— Ничто?
— Да.
— А потом, если всё-таки зазудит?
— Да, если зазудит, тогда это становится проблемой, и мне нужно что-то с ней делать.
— Почесать?
— Это один способ. Какой есть ещё?
— Можно не обращать внимания.
— Можно попытаться. Что ещё?
— Не знаю, приложить что-нибудь?
— Верно, – сказал я. – Или может, просто удалить причину, как вынуть занозу или смахнуть клеща. – Да, – сказала она.
Можно было бы допустить и другие ответы, включая болеутолители – наркотики и алкоголь, ампутацию – отрезать беспокоящую часть, и самоубийство – выпрыгнуть из окна, но они немного выше возможностей Мэгги.
— Так что же делать, – спросила она, – если ты ешь мясо, но не хочешь, чтобы животным причиняли боль?
— Это не совсем правильный вопрос. Я могу провести всю свою жизнь, питаясь мясом и не желая видеть, как животным причиняют боль.
— Значит, это не проблема, – она размышляла, – проблема в том...
Я подождал.
— … что это начинает зудеть?
— Звучит верно, не так ли? Это не проблема, пока не начнёт зудеть. Если обстоятельства действительно вынуждают меня осознать этот диссонанс в моих знаниях, в мыслях, тогда это вызывает во мне дискомфорт, и этот дискомфорт потребует облегчения. Самый очевидный способ для меня облегчить мой дискомфорт – это перестать есть мясо. Но гораздо легче сменить убеждения, чем поведение, а я очень люблю мясо, поэтому я, возможно, просто поменяю свои взгляды на убийство невинных животных, и буду продолжать их поедать. – Как это можно поменять свои взгляды?
Возможно, решив, что если бы их не выращивали на еду, они могли бы вообще никогда не родиться. И тогда, вместо ответственности за убийство животных, я буду ответственен за их рождение. Проблема решена. – Но разве это правда?
— Меня не заботит, правда ли это, – ответил я, – это должно лишь остановить зуд.
***
Я не хочу ограничиваться учебным определением «когнитивного диссонанса», поэтому переименуем его в «духовный диссонанс» и определим заново. Духовный диссонанс — это то, что происходит, когда наш внутренний мир встречается с нашим внешним миром, когда то, что, как мы думаем, верно, натыкается на то, что оказывается правдой, когда внутренняя вера сталкивается с внешней реальностью. Этот дискомфорт появляется, когда встречаются «я» и «не-я».
Эго — это как тонкая оболочка атмосферы между Землёй «я» и бесконечным космосом «не-я», удерживающая одно внутри, а другое снаружи. Мы проживаем целые жизни в этой узкой полоске, никогда не копая слишком глубоко вниз, и не проверяя свои верхние границы. Вот на что тратится наша эмоциональная энергия, накачивающая этот зазор между двумя несовместимыми поверхностями, предохраняя их от соприкосновения, которое вытряхнуло бы нас из нашего сонного состояния.
Когда происходит такое соприкосновение, это называется «духовный диссонанс».
Духовный диссонанс — это ментально-эмоциональный двойник негативных физических стимулов, как голод и боль. Мы испытываем физическое неудобство от голода, поэтому мы едим. Мы испытываем физическую боль, когда наш палец в огне, поэтому мы отдёргиваем его. Точно так же, когда мы испытываем дискомфорт от духовного диссонанса, мы ищем облегчения, хотя это не столь же легко и просто, как выдернуть палец из огня.
Духовный диссонанс — это жизненно необходимая функция в обстоятельствах жизни человека. Так мы действуем. Он может, как и всё остальное, барахлить, но для большинства людей большую часть времени, это не более чем встреча двух слегка шершавых поверхностей – самой внешней изнутри и самой внутренней снаружи.
Вот обычный пример духовного диссонанса: Если Бог нас любит, почему он допускает столько страданий? Несомненный факт божьей любви — это внутреннее убеждение. Очевидность человеческого страдания — это внешняя реальность. Разве Бог не способен остановить страдания? Нет, должны мы ответить, потому что Он может делать всё, что пожелает. Поэтому, Он должен позволять, или даже вызывать страдания. Но как такое может быть, если он любит нас? Чем-то нужно пожертвовать, либо, что лучше всего, просто избегать задавать этот вопрос с самого начала.
Специально придуманная гипотеза – один из способов иметь дело с такими неразрешимыми проблемами. В результате у нас получается новое убеждение, которое мы можем запихнуть в зазор между двумя существующими убеждениями, заткнуть щель в стене нашей тюремной камеры, куда стал проникать беспокоящий свет, нарушая наш отдых. В данной ситуации такой гипотезой может быть «Поскольку Бог нас любит, он дарует нам свободу воли, а мы используем её, чтобы создавать себе страдания». Это как программа-заплатка, патч, антивирус – мы обнаруживаем вирус в нашей операционной системе убеждений, устанавливаем убеждение-антивирус, и всё окей. Окружающие нас стены созданы из убеждений, поэтому это убеждение-антивирус скорее всего хорошо впишется и будет существовать столько, сколько будет существовать стена, если мы сами не вмешаемся.
Ещё одно решение этой проблемы – это отказаться совсем от таких нелёгких размышлений. «Пути Господни неисповедимы», можем сказать мы, и счастливо покончить с этим. Подобным же образом мы можем облегчить свой дискомфорт, доверив его специалистам. «Путь священники разбираются с этими неразрешимыми вопросами, скажем мы себе, это дело пастырей, а не стада, беспокоиться о таких вещах».
Либо мы можем удвоить свои эмоциональные вложения в Бога и просто наплевать на логические противоречия с надменным презрением или насмешливым пренебрежением. Либо мы можем пойти другим путём и вовсе наплевать на Бога, подперев подобными головоломками свою позицию. Либо, лучшее и наиболее распространённое, мы можем пуститься по маршруту «невежество — это благословение». Мы можем совершенно игнорировать этот вопрос, или отвергать его, или просто занимать себя и отвлекать, чтобы он и бессчётное количество ему подобных никогда не обрели бы точки опоры в нашем сознании.
Либо сколь угодно других сценариев. Главное – прекратить дискомфорт, как вынуть батарейку из ревущего датчика дыма, чтобы снова отправиться спать. А в это время где-то горит пожар.
***
Лиза подслушала наш с Мэгги разговор о духовном диссонансе и присоединилась к разговору.
— Духовный диссонанс появляется у стены эго, воображаемой линии, где кончается «я» и начинается «не-я», – объяснял я им обеим, пытаясь в то же самое время прояснить всё для себя. – Стена эго не имеет независимой реальности. Когда мы прекращаем вкачивать в неё энергию, она начинает растворяться. Вот что такое эго, само-отделённое состояние, и именно на это мы используем свою эмоциональную энергию. Скорлупа эго, в которой мы обитаем, это наше собственное создание, как силовое поле, требующее постоянного источника эмоциональной энергии.
Мэгги зевнула и вернулась к своим делам на кухне. Лиза выглядела смущённой.
— А что насчёт ментальной энергии? – спросила она. – Что насчёт нашего интеллекта?
— Интеллект ниже по рангу, чем эмоция, – сказал я. – Гораздо ниже. Даже наши величайшие мыслители редко заходят дальше оправдывания и рационализации своих убеждений. Вот почему я пытаюсь внушить людям, что реальное мышление – это не то, что они думают. Реальное мышление неизменно разрушительно и болезненно. Оно ведёт к уменьшению буферной зоны между этими шершавыми поверхностями, что приводит к сильному трению и изнашиванию. Как когда двигатель работает без масла, это приводит к катастрофической аварии. Обычно мы чувствуем даже самый слабый уровень изнашивания и принимаем необходимые микромеры, но возможно и скорректировать вручную этот автоматический процесс. Мы можем продумать свой путь до выхода из нашего ложного «я», вместо того, чтобы убеждать себя в его существовании. – О чём именно вы сейчас говорите? – спросила она.
— Вы перестали вкладывать свою эмоциональную энергию в эту буферную зону, всё начало скрипеть, всё больше и больше нагреваться, обдираться, и в конце концов механизм сломался, и вот вы здесь.
Она была в замешательстве.
— А как я сюда попала? – спросила она.
— Вы перестали тратить свою жизненную энергию на определение себя как отдельного существа и позволили себе быть неопределённой. Теперь вся энергия, которую вы тратили на создание и поддержание своей отделённой эгоистической идентификации, может быть развёрнута по направлению к новым и гораздо более интересным целям. Совершенно иной образ бытия, знания, восприятия. Совершенно иной образ желаний и их исполнения, делания и неделания, взаимодействия со вселенной.
Она раздражённо покачала головой.
— Но это не волшебство? Вы это имеете в виду?
— Или, как я думаю, всё волшебство. Царство сна — это волшебное место и мы являемся его частью. Мы им являемся. Мы не скромные поселенцы или прохожие или незваные гости, кем обычно себя считаем.
— Не знаю, – сказал Лиза, качая головой, – мне кажется, как будто я в каком-то кино, и никак не могу понять, что это за кино – какой-нибудь научно-фантастический фильм или просто обычная драма. Всё, что вы говорите, звучит как будто не из моего мира, я не узнаю эту реальность. Это звучит чудесно, но нереально. Это звучит как выдумка для детей.
— Что приводит нас снова к духовному диссонансу.
— Ох, потому что мои убеждения вступают в конфликт с реальностью. Ну, с конфликтом я согласна.
— Вы, вероятно, никогда не сталкивались с идеей, что мысль формирует реальность, что мысли — это вещи, а вещи всего лишь мысли. Многие умные люди борются, чтобы понять, что есть связь между умом и телом. Ещё труднее постичь связь ума со всем, или пойти ещё дальше и увидеть, что на самом деле с самого начала нет разделения между умом и всем. Если бы вы столкнулись с такого рода мышлением в той жизни, которую вы оставили, вы бы наверно просто посмеялись над доверчивостью некоторых людей и немедленно забыли бы об этом.
Она энергично кивнула, соглашаясь.
— Но теперь всё иначе. В вашей внутренней и внешней ситуации произошли драматические изменения. – Вы говорите о чудесах, да? Вы это имеете в виду?
Я имею в виду, что всё – чудо. Мы не невинные свидетели или беспомощные жертвы, мы полноправные члены вселенной, создатели своей реальности в царстве сна. Переход в Человека-Взрослого – это наше рождение в эту реальность. Это не просто следующая ступень того, чем мы сейчас являемся, это совершенно иные взаимоотношения с нашим окружением, средой, вселенной – поистине интегрированные, сотворческие взаимоотношения. Мы наносим себе ужасный вред, пытаясь быть позитивными, оптимистичными, радостными по поводу нашей ситуации. То, кем мы являемся сейчас, как мы это понимаем, даже на самый оптимистический взгляд, и рядом не стоит с тем, кем мы являемся не самом деле. Это гораздо круче, чем кто-либо мог себе представить. По сравнению с нашим истинным потенциалом мы всего лишь жалкие маленькие обезьянки, да к тому же ещё противные.
***
Самые преданные религиозные и духовные люди – те, кто переустановил свои координаты и перенаправил свою жизнь для преследования духовного роста или преобразовали самого себя, чтобы соответствовать религиозным идеалам – казалось бы являются наиболее подходящими кандидатами для того духовного перерождения, которое я описываю, но они неизменно являются наиболее эффективно защищёнными от него. Даже самые рьяные духовные искатели редко являются чем-то бóльшим, чем просто любителями или увлекающимися, точно так же посвящающими себя своим духовным практикам и идеалам, как другие посвящают себя коллекционированию моделей поездов или вязанию. Самые искренние искатели практически обречены оставаться в проигрыше – такова реальная динамика духовного поиска. Они не ищут истину или ответы на вопросы – они ищут облегчения духовного диссонанса. Обеспечивать такое облегчение является жизненным соком религиозного и духовного рынка. Это не имеет ничего общего с истиной или пробуждением. Фактически, ровно наоборот. При конечном анализе весь духовный рынок, лишённый всех своих претензий на святость, практически не более чем станция быстрой замены машинного масла, и тогда как может существовать бесчисленное количество разнообразных упаковок, в действительности есть только один продукт.
Все ищущие ищут духовной гармонии – окончания дискомфорта, а не иллюзии. Но гармония, которой они ищут, может быть найдена лишь в глубоком бессознательном, что требует уменьшения диссонанса. Есть такая вещь, как истинная духовная гармония – интегрированное, естественное и крайне желаемое состояние, но, действуя умиротворённо и спокойно, никто его не достиг, и никогда не достигнет.
Как это возможно, что лишь немногим удалось отыскать то единственное, что нельзя потерять? Это нелегко. Это требует всего, что у нас есть, но это единственное, что поистине возвышает человечество. Мы не такие смелые и отважные как нам нравится верить, не настолько наделены интеллектом, как говорит наше тщеславие, и по нашим собственным моральным оценкам мы последние из всех созданий, но есть одно, что мы все делаем замечательно, и только когда вам станет это ясно, вы сможете оглянуться и увидеть, какое это чудо – сознание, само для себя создающее иллюзию.
19. Министерство пробуждения.
Самостоп означает способность, словно следуя инстинкту, остановиться у порога опасной мысли. Это также умение не видеть аналогий, не осознавать логических ошибок, неверно толковать простейшие аргументы, если они враждебны Ангсоцу, и скучать или испытывать неприязнь к любому ходу мыслей, ведущему в еретическом направлении. Короче говоря, самостоп – это спасительная глупость.
– Джордж Оруэлл, «1984» –Боб – духовный дилетант, чьи духовные претензии являются ничем иным, как хорошо развитой ловкостью ума – сам обманщик и сам же обманутый. Мы были знакомы с ним почти неделю, и он знал, что я считаю его дилетантом и оцениваю его прозрения только исходя из этого. Сейчас мы сидели с ним на откидных креслах на плоской крыше гостевого домика, и он только что закончил чтение черновика предыдущей главы о духовном диссонансе.
— Возможно, вам стоит поразмыслить об этом, – сказал Боб, глядя на меня поверх напечатанных страниц. – Эти любители и увлекающиеся, как вы их называете, являются вашими читателями.
– Моими читателями?
— Ну, вашими подразумеваемыми читателями, – уточнил он. – И не очень-то мудро вот так их отвращать.
— Если у меня и есть подразумеваемые читатели, – ответил я, – то это те люди, которые знают, что застряли, и хотят выбраться, а не те, которые не знают, и просто хотят провести время и вынести своё суждение.
Он раздражённо вздохнул. Более или менее подобный разговор продолжался у нас уже несколько дней. – А как вы полагаете, в чём разница?
— Первые примут критику с благодарностью, последние как личное нападение. Пробуждение – это процесс, состоящий из прорывов, а прорывы не происходят от благовоний, свечей и внутреннего покоя. Вы считаете духовных искателей наиболее вероятными в достижении пробуждения, но Майя настолько их мистифицировала, что те, кто кажутся более продвинутыми, просто быстрее всех окапываются. – Но, Джед, право же, вы не можете говорить так…
— Конечно могу. Это не моя излюбленная теория, это то, что я вижу, а если вижу я, значит и любой сможет. Всё, что нужно сделать, это посмотреть. Я могу так сказать, не правда ли? Откройте глаза. Будьте честны. Посмотрите.
Он ещё больше раздражался, что придавало ему забавный вид. Он был на несколько лет старше меня, может быть, пятьдесят, хорошо ухожен, хорошо одет, хорошо говорит, хорошо образован, во всём он хорош. Сердечен, искренен, привлекателен, осведомлён и мил. Написал книгу, и именно это, через ряд некоторых знакомых, привело его ко мне. Он остановился в самой лучшей гостинице в этом районе и ездил на взятом на прокат «Лэндровере».
— По-вашему это звучит слишком стандартно, – настаивал он не в первый раз, – как будто есть только две стороны проблемы, но это очень опасное упрощение. Когда вы говорите о духовных искателях, в действительности вы имеете в виду миллионы людей по всему миру, миллиарды людей, следующих самыми разными дисциплинами и путями, многие из которых древние и высоко почитаемые. Вы не можете просто кинуть всё это духовное и культурное разнообразие в одну коробку, прилепить к ней ярлык и объявить победу над человеческим заблуждением. Это не так просто.
Вот почему мне нравится Боб. Он говорит подобные вещи.
— Это именно так просто, – ответил я не в первый раз. – Пробуждение ото сна – это очень прямолинейное дело. Оно не занимает десятилетий. Оно не похоже на умиротворённость или на спокойный ум. Оно не похоже на спасение других, или мира, или даже себя. Оно не похоже на преуспевающий рынок, где достоинства определяются привлекательным видом или коммерческим успехом. Пробуждение похоже на массивный ментальный и эмоциональный срыв, так как именно этим он и является – прародителем всех психических расстройств. Только так это работает. Знаю, есть тысячи книг, утверждающих обратное, и я могу сказать, что все они написаны Майей. Когда вы поймёте, что такое в действительности Майя, когда вы увидите её сами, это станет для вас совершенно очевидно. Вы увидите это, как видите небо. Он махнул на меня моими же страницами.
— Но нельзя же уравнивать эти обширные осуждения...
— Почему нет? – спросил я. – Разве я не прав? Разве у духовности есть какая-то иная цель, чем пробуждать от иллюзии? Разве есть какой-то другой ведущий принцип, чем истина? Разве я не прав, думая, что Майя всецело захватила сердца и умы тех, кто хотел бы избавиться от неё? Разве они не погружены целиком в доктрины, не порабощены ортодоксальностью? Разве они не сидят с закрытыми глазами, пытаясь успокоить ум и остановить мысли? Разве они не пропагандируют покой, мир и тишину как духовные идеалы? Разве они не практикуют сердечную, основанную на эмоциях, духовность? Разве они не обладают сильными убеждениями и глубоко хранимыми верованиями, которые сковывают их надёжнее цепей?
— Да, – сказал он, тяжело вздохнув, – вы можете быть неправы.
Пришлось немного применить силу, чтобы заставить его сказать это.
— Вот именно, – согласился я, – я действительно неправ. У духовности есть другая цель. И она не касается пробуждения от иллюзии. Она касается прямой противоположности.
Что?
— Я соглашаюсь с вами, – сказал я.
— Звучит совсем наоборот, – сказал он. – Я думаю, что проблемы здесь гораздо более сложные, чем вы...
— Единственная сложная проблема – это оставаться во мраке посреди залитого солнечным светом мира. Мы взяли простейшие из возможных вещей и усложнили их до неузнаваемости. Мы понапридумывали себе эти смехотворные духовные идеалы, к которым можно вечно стремиться, но никогда не достигнуть. Мы променяли свет на тьму, истину на ложь, знание на невежество. Мы убедили себя, что самое близкое – это самое далёкое, что принадлежащее всем – лишь для немногих, и что та единственная вещь, которой невозможно не достигнуть – безнадёжно вне досягаемости. Это совершенный рецепт долгого и успешного провала. Другими словами, это работа Майи, без которой не было бы царства сна, где можно спорить и писать книги, или от которой нужно избавиться. Разве тот, чьи глаза открыты, и кто чётко понял эту сюрреалистическую ситуацию, не захочет сделать попытку описать, что он видит?
— Ну, всё это может зависеть от того, как вы определите...
— Я определю царство сна как состояние, в котором человек видит то, чего нет, и не видит того, что есть – глаза его закрыты, он воображает реальность, вместо того, чтобы открыть глаза и наблюдать её. С закрытыми глазами человек вынужден жить в воображаемой, постоянно создаваемой умом, фальшивой реальности. – Во сне, – сказал он.
— В неосознанном сне, – сказал я. – Я обитаю в том же сне, что и вы, но я осознан в нём. Те, кто неосознан в нём, живут за закрытыми глазами в выдуманном мире, выдуманной реальности. Эта выдуманная структура верований не имеет свойства стабильности и требует постоянного усиления эмоциями. Это наиболее явно заметно в фундаментализме любой системы верований – их структуры наименее стабильны и больше всего требуют эмоциональной поддержки – но это верно для всех, кто не пробуждён. – Первый раз слышу, – сказал он немного угрюмо.
— Да нет, – ответил я. – Практически каждый, кто говорит о пробуждении и просветлении, на самом деле говорит о какой-то степени простого открытия глаз – это совсем не имеет ничего общего с реализацией истины. Именно об этом говорили все мистические учителя и поэты. Они получили проблеск интегрированного состояния, вкус ясности, и для них это было чем-то невероятно экстраординарным. В реальности, однако, это должно быть самым обыкновенным. Это необычно лишь потому, что мы сильно отрезаны от него.
— Вы не принимаете во внимание целый ряд духовных мотиваций и устремлений, – сказал он. – Вы умаляете весь этот спор...
— Да, – согласился я, – я опускаю духовные устремления внутри царства сна – качество жизненных аспектов, как счастье, покой, здоровье, благосостояние и так далее. И спасение и вечную жизнь, что продвигает нас ещё чуть вперёд. Жадность, высокомерие, эго – всё возникает из страха. Да, я категорически опускаю всё это. Это навозная жижа, в которой барахтается человечество, и из которой искренние искатели должны себя извлечь.
Боб покачал головой, словно я ничего не понимаю, но я-то понимаю. Я понимаю причину его присутствия здесь, со мной, в это время, я понял это в первые минуты нашего знакомства. Я знаю, зачем он здесь, с моей точки зрения, однако. Я говорю с ним немного напористо не потому, что хочу проникнуть сквозь его защиту, но потому, что хочу на неё поглядеть. Непроницаемость Боба проявила себя в полной мере для моей пользы, для пользы книги. Вероятно, Боб был бы последним духовным человеком типа нью-эйдж, с которым я проводил бы время. Мне ещё предстоит речь в честь Брэтт в Вирджинии, но там у меня не будет подобной возможности. Это мой последний шанс увидеть Майю так близко и лично; увидеть как ловко она блокирует, парирует, преломляет, поглощает каждую попытку пройти мимо или через неё; попытаться зайти с того или с другого угла, с того или с этого входа, и увидеть, как все мои попытки она без усилий пресекает; увидеть, с какой лёгкостью она делает то, что кажется невозможным. Боб знает всё это – я поделился с ним, как только увидел сам. Он не обижается и не думает, что я покровительствую или снисхожу. С его стороны, он не получит того, за чем сюда пришёл – что-то имеющее отношение к его книге, но чего у меня нет – но я уверен, что он получит то, что ему нужно.
— Я встречал сотни, может быть тысячи духовных людей, Джед, из всех путей и дисциплин, на всех уровнях развития от новичков до известных мастеров, и должен сказать, вы крайне неверно оцениваете этих людей и что они делают...
— «Пребывание в недвойственном сознании», «Человеческая Взрослость» и «Возвышенные состояния», – сказал я. – Вот всё, с чем мы имеем дело. Либо одно из этих трёх, либо вы просто сидите на дне норы и проводите время в ожидании смерти. Я говорю это совершенно не в осуждение. Похоже, вы думаете, что я пытаюсь обидеть духовных людей, я такой плохой парень говорю всякие грубости, но мой единственный реальный интерес – это попытаться привнести немного здравого смысла и ясности в самый запутанный и неуловимый предмет в истории человечества. Что реальные люди делают со своими реальными жизнями не находится в сфере моих интересов. Но я прекрасно знаю, что склонные к духовности люди, всех путей и дисциплин, всех стадий, в реальности не занимаются ничем иным, как укрепляют и углубляют свой окоп, и возможно, убивают время умеренно возвышенными состояниями. Может быть, есть что-то, чего я не знаю, и если оно есть, я буду поистине благодарен услышать это, но я знаю, что очень немногие духовные люди снимают с себя эгоистические путы и подвергаются процессу смерти-перерождения, необходимому для перехода во Взрослость, и нет практически никого, кто действительно пробудился бы от иллюзии. Эти предметы даже не входят в духовный лексикон. Только для того, чтобы обсудить эти темы, мне пришлось изобретать импровизированную терминологию: «реализация истины», «первый шаг», «царство сна» и «пробуждённое состояние», «человек-взрослый» и «человек-ребёнок», «интегрированное» и «отделённое» состояние. Эти концепции являются сущностью человеческого развития, а у нас даже нет для них слов.
Надо отдать ему должное, Боб не пустился в немедленную контратаку. Мы уже обсуждали идею о том, что я не пытаюсь завоевать его сердце или убедить его ум, я просто пытаюсь выразить то, что вижу – дружественно, радушно и даже, с моей стороны, академично.
***
Я показал на книгу, лежащую на столе между нами. – Читали «1984 год»?
— Помнится, ещё в школе.
— Я люблю её перечитывать. Исходным названием Оруэлла было «Последний человек Европы», но издатели попросили его изменить, и он назвал её «1984 год», конечно. Мне кажется, можно было просто укоротить до «Последний человек». Вы помните Новояз?
— Да, – сказал он, – они урезали язык. Постоянно выходили новые версии словаря со всё меньшим количеством слов.
— Плюс-плюс-хорошо, – сказал я. – Вы помните, зачем?
— Причину Новояза? Э, нет, не думаю, что была какая-то особая причина, кроме всеобщего контроля и подавления.
— Они ликвидировали концепции, – сказал я. – Они не просто отнимали у людей свободу, они отнимали идею свободы. В конечном итоге, сама мысль о свободе была бы невозможной, потому что для этого не было бы слова.
Он выглядел озадаченным.
— Что вы имеете в виду? Что мы двигаемся в направлении какого-то духовного тоталитаризма?
— Вовсе нет. Если бы дело было в этом, мы бы видели это как чёрное облако, катящееся по Земле. Я имею в виду, что это уже произошло. Власть Большого Брата установилась так крепко, что в уме человека не существует альтернативы. Сама концепция свободы настолько полностью упразднена, настолько отсутствует в нашем коллективном мировоззрении, что она, буквально, немыслима. Не существует возможности человеческого развития на практике, потому что его нет в теории. Больше не существует такой вещи как радикальный революционер. Нет мятежей и восстаний. Может и существует пара изолированных кучек заговорщиков, но ничего даже близко заслуживающего внимания Майи. В свободе нет заинтересованности – всё течёт по ничем не угрожающим, ублажающим эго каналам – карьера и семья, религия и духовность, хобби и пристрастия. Свобода фактически стёрта из существования. Идеи больше нет. Игра окончена.
— Звучит мрачно.
— Сейчас для человечества 1984 год, и возможно, навсегда. Реальное послание, которое мы можем извлечь из книги Оруэлла, не имеет ничего общего с такими банальностями как политическое угнетение или нарушение личных прав, оно касается уменьшения воспринимающих способностей человека до узкого поля
зрения, как шоры на глазах вьючного скота, отчего мы перестаём видеть альтернативу, не знаем ничего, кроме как медленно и бесцельно волочиться к могиле. «1984 год» – это не будущая возможность, это настоящий факт. Я взял со стола книгу и зачитал отрывок из приложения.
Целью Новояза было не только предоставить средство выражения мировоззрения и свойств ума, присущих приверженцам Ангсоца, но сделать все другие образы мышления невозможными.
Предполагалось, что когда Новояз усвоится раз и навсегда, а Старояз будет забыт, еретическая мысль – та, что расходится с принципами Ангсоца – должна быть буквально немыслима, по крайней мере, насколько мысль зависит от слов.
— Мы живём в тёмные времена, Боб. Вы не видите этого, но я вижу. Вы думаете, что я говорю что-то страшное, но я рассказываю самые лучшие новости. Мы можем прекратить раскручивать колесо наших обстоятельств и действительно изменить их, радикально улучшить их, намного лучше, чем описано во всех наших сказках, мифах и средневековых суевериях.
Боб смотрел на меня так, словно я негодяй. Я вздохнул.
— Вы, кажется, думаете, что я выступаю против человеческой духовности, Боб, как будто я говорю, что это не очень эффективная дорога к свободе.
– Разве вы не это говорите?
— Нет. Я говорю, что эти две вещи не связаны. Духовность – это санкционированное государством развлечение. Ничто – ни буддизм, ни суфизм, ни нью-эйдж, ни индуизм или каббала или что-либо ещё, не угрожает статусу-кво. Их практика не ведёт к результату. Я не говорю, что у них ничего не получается, как вы наверно, подумали, но что это вне их сферы возможностей и прав. Религия и духовность, как всегда было известно, не имеют никакой практической ценности. Индивид, который хочет исследовать жизнь и свои взаимоотношения со вселенной, должен ужесточить своё сердце, обострить ум, и грести самостоятельно. И то, что он обнаружит, когда расчистит весь мусор, что люди могли бы слезть с деревьев, но для этого нам нужно лишь сделать первый шаг.
— Ну, эволюция может занять тысячи лет...
— Не думаю, Боб, не такого рода эволюция. Мой опыт таков, что эта эволюция не видов, но индивидов. Я не говорю о том, что люди способны сделать вместе, но что один человек может сделать в одиночестве – серьёзный человек, желающий начать всё заново и играть в игру, как она есть, а не как ему было сказано, или как он хотел бы. Взяться и проверить границы того, что значит быть сознательным существом в сознательной вселенной, находится в пределах возможностей индивида. Любая группа из двух и более людей обязательно примет внешнюю форму и утеряет мобильность именно благодаря своей общности, но один индивид может продолжать идти.
— Я конечно же целиком за индивида, – показнό заявил Боб, – но вы не можете отрицать вклад тех, кто приходил раньше. Это великие учителя и тексты от античности до современной науки, из которых мы получаем наше понимание и которым обязаны своим...
— Наука — это просто ещё одна система верований, да к тому же фундаменталистская. Никакое понимание не значит ничего, пока оно не переводится в действие – изменение, реальный прогресс. Иначе, это просто ещё одна тактика уклонения. И потому, что мы принимаем наше скудное искусственное освещение за полный солнечный свет, мы не достигаем взрывоопасных уровней само-уничтожающей неудовлетворённости, необходимой, чтобы сделать прорыв. Но до тех пор, пока мы не начнём кромсать свои ментальные и эмоциональные заблуждения, мы не сможем всплыть на поверхность до полного света пробуждённости. И до тех пор, пока мы не сделаем этого, мы не сможем понять, в какой холодной и убогой темноте обитает человечество. Это личная революция, духовная война. В этом единственный смысл всего этого, и это не кажется мне таким уж мрачным.
***
Проведя много часов с Бобом, мне стало ясно, что он считает меня каким-то занудой, некомпанейским парнем, который является досадной помехой, не одевая на себя смешную шляпу и не распевая вместе с мировым сообществом духовных массовиков-затейников; будто я брюзжащий пессимист, который видит во всём только тёмную сторону и не питает надежд на человечество. Но по правде говоря, я, вероятно, самый большой оптимист и самый ярый сторонник человечества. Но мой оптимизм реалистичен и прагматичен – оптимизм, основанный на здравом смысле, на прямом опыте, на легко поддающихся проверке результатах, а не на религиозных сказках, мистических супервозможностях и ньюэйджевской рыночной шумихе. Если я и кажусь негативным, так это потому, что я немного осведомлён о нашем потенциале. Если я и кажусь неуважительным к нашим великим мыслителям и духовным лидерам, это потому, что я вижу их не как освободителей, но как невольных соучастников заговора в преступлении против человечества, преступлении подчинения и духовной кастрации.
***
Каждый человек должен знать термины, которые мне пришлось изобрести, и многие другие. Такие книги, как «Прескверная штука», «Неправильное просветление» и «Духовная война» не должны быть революционными или разоблачающими, они должны быть абсолютно ненужными, так как каждый должен говорить и писать об этих предметах. Человеческое развитие и потенциал должны целиком пропитывать наше мышление, исключив весь отвлекающий хлам, которым мы набиваем наши головы. Эти темы должны быть так же знакомы людям, как язык родной матери. Человеческая Взрослость должна быть первичным образованием, как Адлеровские «чтение, писание и мнение». Каждый должен совершать переход во Взрослость в ранней юности, и это должно быть событием празднования жизни, а не личным холокостом, когда это происходит слишком поздно. Реализация истины вряд ли должна быть заботой каждого, но нет причины не знать о ней людям, которые имеют честные отношения с жизнью.
Не должно быть нужды в Джеде МакКенне. Не должно быть необходимости говорить то, что мне приходится говорить, и ещё меньше это должно казаться сюрпризом. Реальный вопрос здесь не в том, что я ушёл далеко вперёд, но что человечество сильно отстало. Мы можем продолжать говорить себе, какие мы чудесные, какие смелые и сильные духом, но это одна из сторон патологического расстройства нашего сна. Мы можем продолжать рыскать в открытом космосе, на дне океана, в лабораториях, чтобы продолжать убеждать себя, что мы храбрые исследователи неведомого, но это симптом той же патологии. Каждое внешнее стремление считается важным и благородным, потому что мы все в одном клубе и таковы правила – даже воюющие и озлобленные группировки внутри клуба не выходят за рамки этих правил. Как такое может быть, что мы в сущности остались такими же, какими были в самые ранние периоды письменной истории?
Почему изменялась наша внешняя среда, тогда как наши внутренние ландшафты оставались такими же?
Потому что первое правило этого клуба гласит:
Всегда Наружу. Никогда Внутрь.
Следовательно, несомненный факт в том, что любой, кто поддерживает любое учение, доктрину или философию обязательно является членом клуба. Любой духовный учитель, который позволяет ученикам задавать вопросы, и даёт им ответы, является членом клуба «Только наружу», ненамеренным, и потому ещё более коварным, агентом невежества. Мир полон уважаемых и возлюбленных духовных и религиозных учителей. Люди задают им вопросы, а они отвечают – вопрос-ответ, вопрос-ответ, снова и снова, разговоры и разговоры, больше похоже на духовную терапию, чем на войну, но все вопросы, не важно насколько они искренни и прочувствованы сердцем, на самом деле являются одним вопросом: Наружу? - и все ответы, не важно насколько они глубоки и мудры, являются на самом деле одним ответом: Да. Подтекст каждого вопроса такой: Продвигаюсь ли я по пути, задавая вопросы и стараясь понять ответы? И подтекст каждого ответа такой: Да, ты куда-то идёшь, сидя здесь, разговаривая или читая. Это прогресс развитие. Будь в покое. Ты хорошо прогрессируешь. Это очевидная ложь, которую мы хотим слышать, а те, кто говорит это наиболее убедительно, являются самыми уважаемыми, почитаемыми и востребованными.
Сияющим примером этого является премного возлюбленный Рамана Махарши. Его центральным учением, если спросить Боба, или любого из многих почитателей Раманы, было «Спроси себя, Кто я?» И какая же здесь проблема?
Проблемы нет. В сущности, это учение совершенно – законченное духовное учение в четырёх словах.
Настолько совершенное, по сути, что любой, кто действительно будет его выполнять, пробудится. Спроси себя, Кто я? Если вы будете выполнять это, вы станете просветлённым. Другой альтернативы нет. Это самоисследование не сработает в одном единственном случае – если вы не сможете его выполнить. Это очень важный момент, поэтому я скажу ещё раз: Единственный случай, когда самоисследование – Спроси себя, Кто я? – не сможет привести к просветлению, это если вы не сможете его выполнить.
— Итак, – спросил я Боба, чья книга была посвящена Рамане, – почему многие тысячи обожающих учеников и приверженцев Раманы не пробуждаются? Кажется, это довольно справедливый вопрос, не так ли? – Не думаю, что справедливо полагать... – начал он.
— Не нужно защищаться, – сказал я, – я согласен с Раманой. Я говорю, что самоисследование — это бомба.
Я абсолютно поддерживаю его.
— Но вы также говорите... что вы говорите?
— Что провал Раманы в производстве пробуждённых существ был практически абсолютным.
— О, ну, едва ли...
— В то время как при всём этом, абсолютным должен быть его успех. Ведь так?
— Не знаю, полагаю...
— Так что же мы упускаем? Почему это не приводит к успеху? Чего мы здесь не понимаем?
Я взглянул на Боба – он обдумывал проблему. Он был заметно возбуждён, и можно было с уверенностью заключить, что он испытывает некоторую степень духовного диссонанса. Он уверен, что Рамана был великим человеком, великим учителем, святым, мудрецом, что бы он там ни думал, что все эти слова означают. Это внутренняя вера. Но даже после попыток поиграть словами на счёт успешного коэффициента на протяжении пятнадцати удалённых мной абзацев, он должен был согласиться, что в лучшем случае это ужасно. Это внешняя реальность. В конце концов, ему ничего не оставалось, как увидеть очевидное. – Они это не делают? – сказал он вопросительно.
— Кто не делает что?
— Последователи Раманы не выполняют практику самоисследования.
— Да, – согласился я, – если точно сформулировать ситуацию, самоисследование ведёт к пробуждению, а последователи Раманы не пробуждаются, следовательно мы приходим к единственному заключению. И что же, если это его учение, тогда почему его ученики не практикуют его?
— Я просто не думал... – начал он и остановился, затем начал вновь. – Я не согласен с этим, то есть, знаете, я сам его делал, я практиковал самоисследование...
— Искренняя практика самоисследования может потребовать год или два мучительного, напряжённого процесса, чтобы пройти весь путь до конца, – сказал я, отсекая его попытку смотаться через чёрный ход. – Это не вопрос, на который нужно ответить, или прозрение, которое нужно осознать, или мысль, которую нужно продумать, это больше похоже на гору невежества, которую нужно измельчить в пыль, камень за камнем. Вы это понимаете?
Он понял, что дверь захлопнулась.
— Да, окей.
— Значит, в действительности вы её не выполняли?
Он немного посидел молча.
— Ну, я думал, что выполняю. Мне вроде бы казалось, что я следую учению Раманы, читая и пытаясь понять диалоги и книги, написанные о нём, то есть, я думал, что всё это вместе и есть типа процесс самоисследования. Я думал, если тебе нравится Рамана Махарши, то это означает, что ты выполняешь самоисследование, просто изучая его учение.
Так был разоблачён внутренний двенадцатилетний мальчик. Вот так этот умный, образованный, кажущийся выдающимся человек, увидел, как разоблачаются его выдумки, словно ребёнок, пойманный учителем за обман.
— В противоположность особому процессу? – спросил я.
— Нет, это тоже был своего рода процесс. Я делал что-то такое, когда попадал в интроспективное состояние, ну, время от времени. Типа, я спрашивал себя, кто переживает это? Кто разговаривает с Джедом сейчас? Кто загорает на солнце в этот прекрасный день?
Я был не слишком удивлён, услышав о слабом и неэффективном методе самоисследования Боба – свидетельствование в самой умеренной и наименее разрушительной форме. Я не делаю вывод, что если бы у меня был тот же разговор с любым из тысячи случайно выбранных приверженцев Раманы, я получил бы те же ответы, но полагаю, что ни один из них не был бы пробуждённым. И хотя я не думаю, что многие будут заявлять, что пробуждены, полагаю, большинство или все будут настаивать на реальном прогрессе в этом направлении.
Взгляд на Раману Махарши и его самоисследование предоставляет нам очень ясную перспективу на это явление, но теперь, когда мы знаем, что ищем, мы можем поднять планку, расширить перспективу и выбрать наугад из всех духовных искателей. Почему никто никуда не идёт? Потому что все убедили себя, что идут кудато. Почему? Потому что так говорят их духовные мастера и инструкторы. Почему их духовные мастера и инструкторы говорят им, что они куда-то идут?
Чтобы подхалтурить.
Мы выбираем наших учителей. Мы получаем то, чего желаем. Мы хотим уютно, беспробудно спать и видеть сон о духовном прогрессе, и мы получаем это. Если бы всё, что Рамана когда-либо сказал, было Спроси себя, Кто я?, если бы это было его ответом на каждый заданный ему вопрос, тогда он был бы совершенным учителем с совершенным учением, но никто никогда о нём не услышал бы, и мы сейчас его не обсуждали бы. Мы знаем о нём из-за тех тысяч вопросов, которые люди задавали ему, и тысяч ответов, которые он давал людям, но каждый из тех вопросов был в точности одним и тем же вопросом: Наружу? И каждый ответ, который он давал, был в точности одним и тем же: Да!
Самоисследование не было центральным учением Раманы Махарши. Это лохотрон, а мы лохи, выстроившиеся в ряд и жаждущие, чтобы нас обобрали. Но, как знает каждый мошенник и жулик, нельзя обмануть честного человека. Истинное центральное учение Раманы, если вы пожелаете откинуть занавеску и взглянуть, было Наружу. В реальном прогрессе нет вопросов и ответов, нет знания и учения, есть только продвижение или его нет.
Внутрь.
***
Действие книги «1984 год» происходит в государстве Океания, где девизом (который Томас Пинчон проницательно назвал «коанами искажённой формы дзен») было «Война — это Мир, Свобода — это Рабство, Невежество — это Сила». Океанией управляло четыре министерства, чьи названия «представляли вид бесстыдства в своём нарочитом переворачивании фактов». В Министерстве Любви занимались пытками и промыванием мозгов. Министерство Мира вело непрекращающуюся войну. Министерство Изобилия отвечало за ограничение поставок продуктов и товаров. Министерство Правды отвечало за ложь и пропаганду. Продолжая эту бесстыдную практику названий, мы можем взглянуть на наше собственное Министерство Пробуждения, духовный рынок, где мы найдём всех мудрецов, учителей, философов, учёных, усердно трудящихся, делающих в точности то, что наш Большой Брат, Майя, от них хочет. Обеспечивают, чтобы все продолжали крепко спать.
20. Обыкновенные сверх-возможности.
Молитва — это не праздное развлечение для старушек. Если правильно её понимать и применять, это самый мощный инструмент действия.
– Махатма Ганди –В этой книге я уделяю большое внимание повседневной жизни человека, который пробуждён в состоянии сна – «осознанный сновидящий», который способен не от случая к случаю, а как само собой разумеющееся, формировать реальность своей жизни до такой степени и такими путями, что «неосознанный сновидящий» может принять это за фантастические выдумки. Конечно, так это выглядит с порядочной точки зрения, но у нас здесь нет времени для приличий. Я понял уже очень давно, что если бы мне нужно было чьёто уважение, то у меня бы не было своего собственного. Если мы хотим чего-то достичь или понять, все приличия должны быть отброшены, как пристанище страха.
Когда мы рассматриваем влияние невидимых сил на повседневные дела – приобретение дома или собаки, правильность мотоциклетной аварии, написание книги, как прыгает мяч или крошится печенье – первостепенный смысл состоит в том, что эти невидимые силы не являются чудесными возможностями избранных, но естественными и принадлежащими по праву всем людям способностями. Обычно ими занимаются лишь поверхностно, смутно их понимают и называют многими именами из перспективы отделённых существ с закрытыми глазами, но ими можно лишь поистине обладать и развить в себе из перспективы интегрированного существа с открытыми глазами.
Когда, после того, как я с большими усилиями наскрёб необходимую сумму для покупки дома в Ахихик, сделка сорвалась, я не был расстроен или разочарован. Я точно знал, что происходит, хоть даже совершенно не имел представления. Затем, когда вскоре другой дом, идеальный дом всей моей жизни, стал доступен для покупки, я не был шокирован или поражён, я был доволен и благодарен. Когда появилась Майя, собака, я не лез из кожи вон, чтобы приобрести её. Я сразу же её узнал, так как двигался по направлению к ней несколько месяцев. Мне и в голову не приходило, что она может не стать моей. И я вовсе не был удивлён, что её тогдашние владельцы искали для неё новый дом.
Я могу очень долго рассказывать и рассказывать подобные истории. Я мог бы каждый вечер исписывать стопку страниц о тенденциях, видимых мной в различных стадиях развития только в этот день – о волнах, только показывающихся вдали в виде набухшей поверхности моря, о волнах, вырастающих до пенного гребня, о волнах, разбивающихся, омывающих берег и отступающих обратно в море. Из тенденций я узнаю, что будет, и, что не менее важно, чего не будет. Я не знал, что сделка с покупкой первого дома сорвётся, но я знал, что это было частью более крупного процесса, который вот-вот должен был полностью проявиться, и я никогда не подозревал, что меня постигла неудача, или что вселенная действует каким-то недоброжелательным или случайным образом. Когда на сцену вышел дом моего деда, и я оказался в неправдоподобно выгодной позиции для его покупки, я не был изумлён или ошеломлён, я был словно ребёнок, хлопающий в ладоши в восторге, когда фокусник, после захватывающего нагнетания напряжения, достаёт из шляпы кролика.
Лучшие уроки преподают маленькие ежедневные истории, истории о плавном функционировании, о том, как с меньшими усилиями ты осуществляешь гораздо больше, о непринуждённости, удовлетворённости и непоколебимом, никогда не утрачиваемом доверии. Когда кажется, что что-то идёт неправильно, это непременно является частью более широкой правильности. Я ем, когда голоден, сплю, когда устал, иду, когда хочется идти, отключаюсь, работаю, дремлю, читаю, когда хочется. Я ни ленив, ни деятелен. Я никогда не делаю того, чего мне не хочется, и ничто никогда не остаётся несделанным. Если мне в голову приходит мысль, что надо бы что-то сделать, я делаю это. Если бы я мог развить в себе подлинное желание, скажем, забраться на Эверест, то все необходимые средства для этого появились бы вовремя и без усилий с моей стороны. А если бы мне удалось развить в себе неподлинное желание забраться на Эверест, то я быстренько распознал бы его как таковое и позволил бы ему исчезнуть.
Если бы всё это касалось только меня, если бы я был каким-то особенным, об этом не стоило бы и говорить, но это касается не меня, это касается всех нас. Это про то, кем и чем мы являемся здесь, в царстве сна. Это про то, как всё на самом деле работает, или как может работать, если мы откроем глаза, посмотрим и примем участие.
***
Я стоял на песке конной арены Брэтт. Женщина в переднем ряду по имени Карен подняла руку.
— Во второй книге вы говорили, что если у нас нет страстного желания стать Взрослым Человеком, мы должны молить о нём. Не могли бы побольше рассказать о молитве? Как молиться? Как это работает?
Другие поддержали её. Популярная тема.
— Конечно, мы можем поговорить о молитве, если вам хочется, – сказал я. – Молитва — это реальная вещь, и она реально работает, но слово «молитва» несколько слабо и вводит в заблуждение. Это термин отделённого состояния для обозначения интегрированного процесса. Это детский способ объяснить взрослые вещи, как сказать, что детей приносит аист. Это мило и забавно, пока вы не захотите вырасти и заиметь детей, и вам понадобится более подходящая идея о том, как обстоят дела на самом деле. Или как ребёнок говорит, что самолёты держатся в воздухе с помощью волшебного порошка. Это классное объяснение, но если вы захотите, чтобы самолёт взлетел, вам придётся более реалистично разобраться с аэродинамикой.
— Окей, – сказала Карен, – но это ведь не чистая наука? Ты должен как-то это заслужить, не так ли?
— Да, – сказал я, – в том же смысле, в котором самолёт должен заслужить, чтобы оставаться в воздухе. Если он подчиняется правилам, он заслуживает. Если он не подчиняется правилам, он падает. Мгновенная карма. Мы можем принимать участие в формировании своей реальности в гораздо большей степени, чем такое слово как «молитва» может предложить, но мы должны понять основные принципы и перестроиться под них.
Все были во внимании. Это становилось похожим на источник вечной молодости, божий дар и выигрыш в лотерею в одном флаконе. Они видели, что Брэтт вела идиллический, свободный от стрессов образ жизни, вдали от мира, окружённая красотой, умиротворённостью и любимыми животными. Они знали из книг и разговоров, что я живу комфортно, не борюсь и не испытываю много неприятностей. Они видели, что мы живём хорошо, но не напоказ – просто, удобно, без излишеств, однако всего имеем в достатке. Они думали, что мы знаем что-то о качестве жизни и о формировании своего окружения, и были правы. Они надеялись, и не зря, что это знание они смогут использовать в своей собственной жизни, чтобы коренным образом её улучшить.
— Вы знаете, о чём я говорю? – задал я риторический вопрос. – Я говорю не просто о воплощении желаний, я говорю об удаче и неудаче, о том, как быть в потоке и вне его, о том, когда всё идёт по-вашему или против вас. Это не случайно или ненадёжно, это процесс видимых тенденций, и мы можем их видеть и научится двигаться с ними. Если вам удастся определить контуры этого процесса, почувствовать свои отношения с ним, увидеть, как он работает, когда работает, и почему не работает, когда не работает, тогда вы можете начать разбирать его структуру, анализировать, наблюдать его, чтобы лучше понять, как он работает, и применять в своей жизни больше и лучше. И делая так, вы будете демонтировать свою собственную эго структуру, потому что эго всегда мешает, пытается направить нас вразрез или против естественных течений бытия. Не говорю ли я как хиппи? Они засмеялись.
— Удача похожа на молитву, – сказал я им, – поскольку это объяснение с закрытыми глазами того, что можно увидеть и понять, открыв глаза, как про аистов и волшебный порошок. Судьба – ещё один пример. Эти термины используются примитивными людьми, чтобы объяснить вещи, которые они едва видят и совсем не понимают.
— Эй, погодите минуту, – сказал молодой парень по имени Логан тоном притворного возмущения. – Вы что, сейчас назвали нас примитивными?
Это вызвало смех.
— В общем, да, – сказал я, и они затихли. – То есть, как бы вы определили примитивных людей? Люди с низким развитием. С убеждениями, которые мы, вероятно, посчитали бы наивными, возможно, даже смешными. Люди, живущие в условиях, которые мы сочли бы ниже стандартных норм. Люди, которые выдумывали бы неестественные, притянутые за уши истории, чтобы объяснить процессы, которые они не понимают. Люди, которые могли бы выйти из этого состояния, но не делают этого. Все с этим согласны? О несогласии никто не заявил.
— Тогда да, тот, кто укоренился в интегрированном состоянии, непременно применил бы термин «духовно примитивный» к любому человеку в отделённом состоянии, что, пожалуй, было бы гораздо более оправданным, чем когда мы применяем слово «примитивный» ко всем, кого видим на станицах «Нэшнл Джеографик».
На группу спустилась тяжёлая тишина.
— И как же мы должны это воспринимать? – спросил Логан.
— Всё, что я говорю, должно восприниматься как приглашение, – ответил я, – приглашение принять участие в своей собственной жизни, взять личную ответственность за своё развитие, вместо того, чтобы перекладывать её на церкви, священников или гуру. Вы должны воспринять это как отличную новость. Да, по сравнению с вашим потенциалом, вы заторможены в своём развитии и духовно примитивны, но вам совершенно не обязательно такими быть. В том смысле, что вы находитесь на примитивной стадии, эволюция у вас впереди. Я был в таком же состоянии. Брэтт была в таком же состоянии, и мы поняли, что это крайне нежелательно, и выцарапали себе дорогу прочь из него. Это возможно сделать. Настройте ваш взгляд на духовный рост, просветление, реализацию истины или взрслость, всё это начинается одинаково. То есть, вы здесь именно за этим, не так ли? Расти? Исследовать? Измениться? Этот вопрос был лучше, чем я мог тогда осознать.
***
— А что насчёт таких вещей, как астрология, нумерология, таро, – спросил кто-то, – и других методов прозрений и предсказаний. Как это принимать в расчёт?
— Хороший вопрос, – сказал я. – Эти различные методы, помогающие нам знать, что делать и когда, становятся устаревшими и ненужными, как только мы открываем глаза и начинаем видеть окружающую нас обстановку, и как в ней действовать. Побуждение завладеть какой-то мере контролем исходит прямиком из основанной на страхе перспективы закрытых глаз. Это симптом отделённого состояния, где ты действуешь из страха и недоверия, вцепившись смертельной хваткой в штурвал и чувствуя, что твой ум, твои маленькие мозги за что-то отвечают, чувствуя, что ты нежеланный гость во враждебном мире, и тебе нужно вооружиться, чтобы выжить и преуспеть. Когда мы перейдём в интегрированное состояние и сориентируемся, все подобные побуждения будут забыты. Методы предсказания могут иметь очень неплохой смысл в отделённом состоянии, но несравненное больший смысл имеет найти свой путь в интегрированное состояние, где вам уже не понадобятся подобные методы. Я двигаюсь в соответствии с ясно видимыми силами и энергиями, так что другие методы и формы навигации, будь то звёздные карты, или инвентарные карты, или карты погоды, или что-либо ещё, нужны мне не больше чем собака-поводырь. Мне нет нужды пользоваться навигационными приспособлениями, предназначенными для страдающих ослабленным зрением. Я могу видеть сам. И вы тоже. Вот в чём смысл.
***
Мы сделали перерыв, во время которого несколько людей подошли ко мне, чтобы высказаться в поддержку астрологии, таро и других подобных вещей; но всё это детские игрушки, и когда мы становимся взрослыми, мы оставляем их, и мне больше нечего сказать об этом. Спустя минут двадцать все расселись по местам, и несколько минут мы просто приятно поболтали. Карен полушутя пожаловалась, что она всегда молилась, желая получить определённую машину, но ничего у неё не вышло. Так мы плавно вернулись к основной теме.
— Если вы думаете о процессе воплощения желаний как о способе получить то, что вы хотите, – сказал я, то вы уже на неверном пути. То, как это работает, больше похоже на непрерывное разворачивание. Вы не можете это улучшить, только затруднить. Единственный способ, с помощью которого можно что-то улучшить, это убрать эго из уравнения. Как только вы начнёте навязывать свои убеждения процессу, он обязательно начнёт приходить в упадок. Даже ваши убеждения насчёт пространства и времени, или насчёт причинности и дуальности сделают его хуже. Как только вы начинаете заявлять о своих убеждениях, вы принижаете процесс до своего уровня, вместо того, чтобы открыться ему и возвыситься самим. К тому же, поскольку на самом деле этот процесс касается бытия сознания – того, кто, что и где мы – развитие и постоянное углубление понимания его является синонимом реального прогресса и роста. Это то же самое, понимаете?
Многие неуверенно закивали. В спор вступила Брэтт.
— Надеюсь, вы все слушаете, – выкрикнула она со своего места. – Это не новинка нью-эйдж и не рекламный ролик поздней ночью, где модели в бикини моют «Феррари» перед особняком, и всё это будет вашим на льготных условиях.
Она встала и вышла ко мне.
— Мы живём в испорченном мире, – произнесла она с мощным напором. – Во вселенной есть только одна злая сила, и это мы. Это не означает, что мы какие-то плохие, просто мы не полностью сформировались, и это отвратительно. Все знают, что такое отвратительно? Это то, что китайские принцессы делают со своими ножками, связывая их так, чтобы они оставались маленькими, вместо того, чтобы вырасти до своего нормального размера. Эти ножки отвратительны, но причина этих ножек — это та испорченность, о которой я говорю. Священники, которые пристают к детям, — это отвратительно. Политики и корпорации, злоупотребляющие людским доверием, — это отвратительно. Каждый из нас, даже если мы никогда не делали ничего плохого, отвратителен также, как самый худший из людей. Можно написать список отвратительных вещей, который занял бы место до луны и обратно, но я считаю, что в центре каждой отвратительной вещи лежит только одна испорченность, и это эго. Симптомов может быть миллион, но причина только одна.
Она сделала паузу, чтобы дать этому усвоиться, и продолжила свою яркую речь.
— Теперь я знаю, о чём вы тут сидите и думаете. Вы думаете, что мистер МакКенна расскажет вам какойто большой секрет, и тогда вы заживёте на улице Счастья, потому что у вас будет какое-то особое знание, которое даст вам особые силы, и в каком-то смысле это правда, но не в том, что это даст вам спортивную машину, или сделает вас моделью в бикини. Он говорит о том же, о чём мы всегда здесь говорим, о той единственной вещи, о которой стоит говорить: мерзкое, гадкое, отвратительное, противное эго. Вы все захотите применить всё это волшебство в своей жизни, и это хорошо. Я думаю, чуть-чуть у вас получится, но если вы собираетесь играть с этой сверкающей новой игрушкой, вы должны попытаться найти ей хорошее применение. Используйте её для того, чтобы стряхнуть с себя все слои брони, багажа и всякой дряни, которую вы везде таскаете с собой и называете своим именем. Разденьтесь догола. Отшелушите эту чепуху, чтобы жить свою жизнь непосредственно, вместо того, чтобы собирать её из кусочков, основываясь на слухах и теориях, как вы делаете это сейчас. Желайте это, молите об этом, воплощайте это, просите Фею Молочных Зубов об этом, но используйте то, о чём вам говорит мистер МакКенна, чтобы пробудиться, чтобы когда ваша жизнь подойдёт к концу, вы могли оглянуться и сказать, что были в ней, а не просто проспали её, как делаете это сейчас.
И Брэтт вернулась на своё место.
***
А я вернулся к тому, на чём остановился.
— Когда мы говорим воплощение, мы имеем в виду реальный творческий процесс, в котором подлинные желания становятся реальностью. Когда вы поймёте всё относительно желаний, воплощение само позаботится о себе.
— Когда вы говорите реальность...? – спросил парень лет тридцати по имени Шон.
— Я имею в виду консенсусную, двойственную реальность. Мы говорим о состоянии сна, а не об истине. – Они взаимоисключают друг друга?
— Ну, да, – сказал я, – так как истина существует, а ложь нет.
— О, – сказал он, – окей.
— Речь идёт не об истине, а о вашем законном наследии. О понимании своего места в мире. Мы говорим о том факте, что вселенная, в которой вы находитесь, вся в вашем распоряжении. Если говорить языком сновидения, то это что-то вроде осознанного сна, своевольное формирование сновидения, в противоположность неосознанному сну, где события, среда и так далее формируют вас.
— Кажется, вы противоречите самому себе, – сказал пожилой мужчина. – С одной стороны вы говорите об отпускании штурвала, а теперь вы утверждаете, что мы должны схватить штурвал и взять под контроль свою жизнь.
— Хорошее замечание, – сказал я. – Взять под контроль свою жизнь означает только одно – отпустить её. Безусловная сдача. Это должно быть сделано осознанно и с чистым намерением. Ничего не будет прежде перехода во взрослость, никто не продвинется вперёд без этого. Противоречие появляется из-за парадоксальности потери своей жизни с целью её обретения.
— Всё это сбивает с толку, – сказала Карен, которая инициировала весь этот разговор своим вопросом о молитве. – Было бы здорово, если можно было просто нажать на кнопку или принять таблетку, и всё сразу стало бы понятно.
Все сочувствующе засмеялись.
— Несмотря на то, что это кажется таким сложным и пугающим, – сказал я, – уверяю вас, стоит беспокоиться только об одном: о переходе в Человека-Взрослого. Только там начинается жизнь. Ничто больше не имеет значения. Нет второстепенных целей или утешительных призов. Никакое количество знания, понимания или духовного опыта не будет стоить ничего, если вы всё ещё застряли в отделённом состоянии. Это не должно быть очень сложным: вы ставите перед собой одну цель – перейти из отделённого состояния в интегрированное, умереть для плоти и родиться для духа. Вот кнопка, которую вы должны нажать. Все молчали, пока я пил.
— Но как мы реально можем это сделать? – спросила Карен. – Я имею в виду, реально.
Все загалдели в поддержку этого вопроса. Они хотят, чтобы в их жизни что-то произошло, по крайней мере, это та роль, которую они играют. Один из этих тридцати сможет действительно что-то предпринять в ближайшие десять лет, но, вероятно, нет. Они не понимают природы своего пленения, или того факта, что они довольны в нём, поэтому их шансы выйти за пределы стадии разговоров очень скудны.
— Вы должны открыть глаза, – ответил я, – вот ответ. Смотрите на жизнь честно, видьте её ясно, и всё остальное естественным образом последует за этим. Всё автоматически следует за ясным вѝдением.
Несколько мгновений они смотрели на меня в тишине.
— То есть как это – мы не честны? – спросил молодой парень, Логан, с видом крайнего радушия.
Отмеряя шаги, я раздумывал над его вопросом. Есть много ответов, но самый очевидный, вероятно, наиболее показательный.
— Придя сюда, – ответил я. – То, что мы делаем, приходя сюда на эти встречи, по сути является нечестностью. Мы говорим себе, что это часть нашего духовного роста, или что мы хотим понять новые идеи, или хотим каких-то позитивных изменений в своей жизни, но правда ли это? Люди в действительности не хотят меняться, а те, кто хочет, не ходят на собрания и не слушают, как кто-то говорит об изменениях, не читают книг и так далее. Они действуют. Они берутся за оружие и заставляют события происходить. Они не просто переходят от одной части стада к другой.
Я мог бы гораздо резче высказаться насчёт самообмана этих людей, который они практикуют, приходя сюда, но на самом деле мне вовсе не хочется быть резким. Я никогда не хочу становиться эмоциональным или вызывающим, но когда речь заходит об интегрированном состоянии, неизбежно появляется побуждение встряхнуть людей, чтобы они пробудились, выбить их из ступора, утереть им нос их же собственными дурацкими убеждениями. Кажется, что это могло бы сработать, но я знаю, что нет. Логан заговорил и спас меня от себя.
— Я не согласен с этим, – сказал он возбуждённо. – Я думаю, это круто, что мы приходим сюда. То есть, мы знаем, что застряли в плохой ситуации, о которой говорите вы с Брэтт, мы неосознаны или заключены в темницу или что угодно, и мы приходим сюда на собрание, как банда тайных заговорщиков! Мы приходим сюда, потому что мы хотим задать жару!
Юношеский энтузиазм Логана был заразительным. Все засмеялись, кто-то зааплодировал. Даже Брэтт улыбнулась.
— Хотелось бы в это верить, – сказал я после того, как все затихли, – и иногда я сам почти в это верю, но в реальности всё по-другому. Говоря реалистично, мы здесь занимаемся не более радикальными вещами, чем полистать журнал или сходить в супермаркет.
Это вызвало в ответ ропот неодобрения.
— Это не тайное собрание, а мы не революционеры, планирующие свержение злого диктатора. Это беззубый заговор, как клуб «Побег» в тюрьме. Он стоит в списке тюремных развлечений после драматического кружка и перед хоровым. Наша здесь встреча и обсуждение всех этих предметов полностью санкционировано тем самым режимом, против которого мы строим заговор. Все книги, журналы и события клуба «Побег» спонсируются тюремной администрацией. «Когда двое или больше собираются вместе, говорит Майя, я среди вас». Нет тайных собраний, нет заговора, нет свержений. Побег возможен только в одиночку, полагаясь только на себя, ускользнув в темноту. – В темноту? – спросил Логан.
— Вы должны войти в эту тьму, в которой вы провели свою жизнь, избегая и отрицая её. Вы должны дойти до такого места, где вы скорее войдёте в эту тьму, чем будете продолжать избегать её. Ваш приход сюда — это просто ещё один способ установить правдоподобное отрицание. Согласен, это не справедливо, и так уже слишком много. Вы должны были сделать это, когда вам было двенадцать, но откуда вы могли знать? Но теперь ваша ситуация намного хуже, и в этом всё дело.
— Извините, – сказал Логан, – я просто не понимаю этого.
— Да, – сказал я, кивая, – я об этом и говорю.
— О, – сказал он.
— Представьте, насколько громадное количество взрывчатой энергии требуется космическому кораблю, чтобы преодолеть земное притяжение. На что была бы похожа такая энергия в вашей жизни? Что должно случиться, чтобы зажечь её? Что может снабжать топливом столь мощное событие? Не любовь. Не безмятежность или сострадание. Не красивые истории о вечной жизни и небесном доме.
Я сделал паузу, чтобы быстро сменить метафору.
— В тюрьме Человеческого Детства мы не вполне живы. До тех пор, пока вы не поймёте этого, пока не увидите это сами, вы ни коим образом не сможете набраться ментальной решимости и эмоциональной интенсивности, необходимой для изменения своего положения. Нам нравится верить, что мы становимся более духовными и сострадательными, но именно так говорят заключённым, чтобы те продолжали заниматься интересными и безвредными занятиями. Есть только одна возможная цель – вы должны умереть и родиться снова, и для этого я порекомендовал бы вам использовать духовный автолизис, чтобы запустить процесс ясного мышления и освобождения своих мыслей от плотных эмоциональных туч ограничивающих самих себя убеждений. Используйте духовный автолизис в качестве ментального подхода, а молитву в качестве эмоционального. Молите о намерении. Молите о подлинном желании. Молите о том, чтобы научиться молиться лучше.
— Или? – спросил Логан. Я пожал плечами.
— Или вот, – сказал я, подняв руки, указывая на жизнь, какой они сейчас её знают, но она не казалась им такой уж плохой, так что реальных изменений ожидать не стоило.
***
Наши глаза широко открыты, и мы видим реальность с совершенной ясностью. Это так очевидно, что невозможны никакие сомнения. Но это неправда. Наше зрение настолько замутнено ментальным и эмоциональным хламом самости, что то, что мы называем чистейшей абсолютной реальностью, всего лишь неяркое свечение, видимое сквозь плотно сжатые веки, впускающие достаточно света лишь для того, чтобы осветить наш внутренний воображаемый ландшафт. Своему убеждению, что наши глаза открыты, мы целиком обязаны тем, что наш духовный поиск обречён с самого начала, и что многие, кто думает, что уже далеко продвинулся или закончил, никогда даже и не начинал. Не важно, насколько мы непреклонны в своих обязательствах или непоколебимы в своей решительности, не важно, сколько знаний мы накопили или какой мудрости достигли, не важно, какие тяжёлые испытания мы вынесли или какие жертвы принесли, не важно, каких писаний мы придерживаемся или каких богов ублажаем, — это всё лишь отчаянная хитрость не позволить себе сделать ту единственную вещь, которая привела бы к результату – взять личную ответственность на себя, думать самим. В тот момент, когда мы начали свой поиск, мы уже прошли мимо цели, и каждый шаг уводит нас всё дальше от неё.
В поиске истины, Бога, смысла, сверхсознания, божественного единства, блаженства, спасения, любой другой духовной цели, за которой мы охотимся, само «я» никогда не подвергается критическому рассмотрению. Мы просто принимаем, что мы такие, какие мы думаем, и что реальность такая, какая мы думаем, и начинаем с этого. Мы принимаем эти факты как авторитетные и надёжные, и пускаемся в путь от этой отправной точки. Таким образом, изначальная ошибка, из которой следуют все остальные, уже совершена и защищена от распознания и исправления. Вся наша проницательность и разум отворачиваются наружу от «я», а не внутрь против него. Если говорить образами кинематографической версии аллегории пещеры Платона – фильма «Матрица» – какой возможен рост или развитие, если мы никогда не сможем обнаружить, что живём в стеклянном гробу, а «реальность» подают нам по трубкам как фоновую музыку?
21. Сила молитвы.
Ужасное неправдоподобие явлений, их неопределённость, наконец, способна обмануть нас. Может, надежда и опора, в конечном итоге, лишь теории, а жизнь после смерти – только красивая сказка; может, всё, что я вижу – животные, растения, люди, горы, искрящиеся и текущие воды, дневное и ночное небо, цвета, плотности, формы – может быть, они (хоть и кажутся несомненными) лишь видéния, а нечто реальное ещё нужно познать. (Как часто они бросаются вон из себя, словно хотят смутить и насмеяться надо мной! Как часто я думаю, что ни я и ни кто-либо другой ничего не знает о них).
– Уолт Уитмен –Молитва заслуживает более близкого рассмотрения. Молитва — это место, где шина касается дороги[18]. С ней, вне зависимости от всего остального, экспериментировали все эти люди на конной арене. Они все произносили искренние молитвы, и все обращали внимание на их эффективность. Они ничего не знают о молитве, и могли предположить, что подобного знания вовсе не существует, но оно есть. Всё, что работает, работает определённым образом, и молитва в том числе.
Они не знают одного, что молитва не изменяет правил, но приводит в соответствие с ними. Молитва — это не значит хотеть, чтобы было как-то по-другому, но слиться с естественным положением вещей. Это не чудесное событие, произошедшее единственный раз в жизни, но чудо каждого вздоха. Живя с закрытыми глазами, мы теряем не только зрение, но и перспективу. Мы не понимаем своих взаимоотношений с окружающей средой или чем-либо в ней. Мы думаем, что нам принадлежит то, что нам не принадлежит; что бренное вечно; что ложное истинно. Мы сгибаем пальцы и думаем: «Конечно, моя рука работает. Это моя рука. Она делает то, что я ей скажу». Но многочисленные слои неверного знания притаились даже в таком, казалось бы простом, наблюдении.
— Я хотел бы провести несколько минут, поближе рассмотрев, что не так с молитвой, – продолжал я. – Не с самим реальным процессом, но с тем, как мы его понимаем, обозначая словом «молитва». Возможно, нам удастся немного снять налёт загадочности, развеять мистический туман и увидеть это как естественный и управляемый процесс. Окей?
Похоже на то.
— Во-первых, слово молитва вызывает ощущение, что одно существо просит о чём-то другое существо, как будто маленький человек просит о чём-то большого человека, как будто крестьянин просит у короля корку хлеба. Это обычное предположение – мы слабые и беспомощные дети в доме Большого Дяди – заразило мышление многих людей, и является характерным симптомом человека-ребёнка. Окей?
Множество неуверенных «окей».
— Окей. Во-вторых, слово молитва подразумаевает, что вы можете получить или не получить то, о чём вы просите. Это тесно связано с идеей, что вы получите желаемое лишь в том случае, если этого заслуживаете, то есть Большой Дядя должен быть вами доволен, прежде чем наградить вас, будто существует какой-то судья, для которого чьи-то молитвы не более чем прошение в суд. Именно это стоит за жертвоприношениями, десятинами и другими вещами, которыми мы пытаемся заслужить милость Большого Дяди. В их лицах я заметил узнавание.
— Я бы также сказал, что молитва не до конца выполняет то, что была бы должна, – продолжал я. – То есть, когда кажется, что молитва услышана, то ответ, возможно, не сравним с запросом. Сопоставьте это с воплощением с открытыми глазами, которое, как правило, превосходит наши самые смелые надежды и ожидания.
Это вызвало приглушённый отклик, сопровождаемый киваниями и улыбками, словно для них было обычным делом просить и получать – когда изо всех сил просишь, а получаешь только что-то типа того.
— Ещё одна вещь по поводу молитвы: она похожа на последнюю надежду, как если бы обычные методы не сработали, и мы в отчаянии обратились к молитве. Как прыщ на носу перед выпускным балом – мы пробовали разные диеты, очистители кожи, косметику, а когда ничего не помогло, мы начали молиться. – Просите, – пошутил Джефф, – и Господь вам воздаст.
— Очень хорошо, – сказал я, – и это поднимает ещё одну проблему со словом молитва. Это неразрывно связано со всем нашим религиозным багажом. Всё, что вам нужно, это чтобы прыщ исчез до выпускного, и вот Иисус, божий сын, который умер дурацкой смертью за ваши дурацкие грехи, с которым вы не разговаривали много лет, а теперь из-за своего угря вы назовёте его даже сукой.
Они засмеялись.
— В отличие от молитвы, воплощение — это первая и последняя надежда. Когда мы понимаем, что это в действительности такое, и как оно в действительности работает, оно естественным образом становится нашим единственным способом действия в мире – не только в получении того, что мы хотим, но в знании, как хотеть и чего хотеть, в знании, что и зачем делать. Вместо отчаянной мольбы о желаемом, воплощение становится нашим образом движения по жизни, взаимодействия со вселенной.
Шагая по песку, я позволял словам приходить.
— Это приводит нас к наиважнейшему различию между молитвой и воплощением – молитва специфична. Вы чего-то хотите, и вы просите об этом – чтобы исчез прыщ, чтобы быть здоровым, чтобы ваш ребёнок имел по десять пальцев на руках и ногах. Но воплощение не специфично. Оно касается не только того, чего вы хотите, оно касается всего, что вы делаете и как, кто вы и как вы двигаетесь в мире. Оно касается формирования сна и движения внутри него в неразрывном слиянии «я» и «не-я». Это стирание грани между сновидящим и сновидением. Вы воплощаете не только машину или новые ботинки, вы воплощаете самих себя, а всё остальное следует естественно и без усилий. Вы видите, почему молитва — это лишь скудная маленькая концепция по сравнению с этим.
— Воплощение — это что-то вроде синхроничности? – спросила Карен.
— Вроде того, – ответил я, – но синхроничность — это ещё один неопределённый термин, как и молитва, который мы используем, чтобы описать явление, которое смутно себе представляем и не понимаем. Помоему, термин «синхрония» придумал доктор Юнг. Есть широко известный случай, когда он обсуждал жуков скарабеев с одним пациентом в высотке Нью-Йорка, и вдруг совершенно невероятный жук появился в окне. Это действительно хороший пример для наших целей, так как он показывает, насколько совершенно наглой должна быть синхроничность, чтобы мы смогли её обнаружить. Можно подумать, что синхроничность — это тип диковинного совпадения, но если наши глаза открыты, мы бы увидели, что это вовсе не редкое происшествие, это основной организующий принцип энергии. Если вам нужно, чтобы египетский жук стукнулся о ваше окно на Манхэттене, дабы преподать вам урок синхроничности, то реальный урок будет состоять не в том, что вы увидели нечто очень необычное, но что вы настолько слепы, что не замечаете совершенно нормальных вещей.
— Но как это возможно, что все настолько слепы, как вы говорите? – спросил Джефф, который сидел рядом с Карен.
— По той самой причине, – ответил я, – что именно все.
— И что же нам делать, чтобы открыть глаза? – спросила Джэн, женщина лет пятидесяти с коротко остриженными седыми волосами, сделавшая несколько замечаний в этот и в прошлые вечера, которая, пожалуй, была скорее намерена выражать своей скептицизм, нежели получать ответы. – Это же метафора, как я поняла.
— Может быть, – сказал я. – А может быть это реальное видение, а то, что мы видим физическими глазами, это метафора. Мы начинаем видеть ясно, когда начинаем видеть, что спим, стиснутые тугими витками собственной эмоциональной энергии. Когда мы действительно понимаем, что спим в царстве сна, тогда мы можем начать серьёзные попытки пробудиться, что состоит в срубании этих тугих витков. Это переход, который в здоровом обществе мы могли бы совершить естественно и относительно легко в ранней юности. Однако, в мире, который мы знаем, очень немногие совершают его, а из тех, кто совершил, намного меньше тех, кто продолжил развитие до сколь-нибудь значительной степени. Всегда работает духовная инерция, сопротивляясь движению или изменению. Она встроена очень глубоко. Вот почему так важно слово дальше.
— Но вы, – спросила Джэн, – вы продолжили развитие дальше, за пределы перехода в человекавзрослого?
— Да, продолжил. Сейчас я, вероятно, равнозначен взрослому юноше. Ну, взрослый юноша со звёздочкой, из-за просветления.
— Значит, вы как взрослый юноша? – спросила Джэн, защищаясь. – А остальные мы все что, только дети?
— Не совсем дети, – сказал я. – Скорее нерождённые дети, которым ещё предстоит выйти из чрева. Жизнь начинается, когда мы рождаемся для духа. Нет возможности для развития до этого выхода. Когда я говорю, что, возможно, мог бы быть взрослым юношей, я имею в виду мир, где мы были бы развиты в здоровом, нормальном смысле, где жизнь — это вечное путешествие роста, расширения и понимания, где тридцатипятилетний человек был бы значительно более развитым, чем тридцатитрёхлетний, а не лишь только более застывшим. В таком мире не было бы даже таких слов, как удача, молитва, воплощение или синхроничность. Эти слова подходят для мира людей с закрытыми глазами, в котором наше лучшее мышление — это почти мистическое гадание, основанное на таких хрупких доказательствах как жук в окне, но не для мира с людьми с открытыми глазами, где всё доступно прямому наблюдению.
***
Джэн делала скептические, но непродуктивные, замечания на протяжении всего вечера. Ничего заслуживающего внимания, просто сомнительные высказывания сомнительным тоном, словно она слишком умна, чтобы покупать то, что я продаю. Её презрительное высокомерие — это тип духовного щита, не необычного на подобных форумах. С её точки зрения я — продавец подержанных машин, пытающийся продать ей рухлядь. Или низкопробный политик, пытающийся выманить её драгоценный голос. Или жадная корпорация, распространяющая рак в сахарной оболочке. Я – телевизионный священник-пропагандист, пытающийся загнать её в свою овчарню. Я – велеречивый обольститель на соседнем стуле в баре, пытающийся обратить её сердце против ума. Мы окружены этой динамикой покупки-продажи во всех областях нашей жизни, и духовность не исключение.
Для такого человека, как Джэн, я всего лишь один из многих поклонников, соперничающих за её духовное сердце, и, как она могла не без оснований предположить, за её кошелёк. Она думает, что у неё есть что-то, что нужно мне, и она права, хотя и не знает, что это, и она была бы не прочь дать мне это, если бы у неё это было. Мне не нужно ни её сердце, ни ум, ни деньги. Я не хочу спасать её или просветлять. Я не хочу, чтобы она поверила в духовно возвышенный персонаж, который я изображаю, чтобы тоже я мог в него поверить. Всё, что мне нужно, — это осмысленный диалог, интуитивная обратная связь, вызывающий и интересный разговор, но она не может мне этого дать, потому что она слишком поглощена своей защитной ролью разбирающегося духовного потребителя, чтобы выйти из неё и поиграть.
***
Мы сделали перерыв на пятнадцать минут, во время которых мы с Брэтт пошли прогуляться и поболтать о том о сём. Когда мы вернулись, все уже молча сидели на своих местах. Я взглянул на Брэтт, и она отправила меня обратно на арену.
— Итак, как же воплощение можно применить к прыщу на носу? – спросил Брэд, смеясь.
— Хороший вопрос, – сказал я. – Но здесь нельзя сравнивать, как яблоки с апельсинами, потому что в центре этого разговора мы говорим не о двух методах – молитве и воплощении – мы говорим о двух парадигмах – отделённой и интегрированной.
— Окей, – сказал Брэд, – тогда что вы лично сделали бы с прыщом?
Его вопрос вызвал всеобщее одобрение. Я взглянул на Брэтт и увидел, что она мне улыбается. Я улыбнулся в ответ.
— Для начала, – ответил я, – вместо того, чтобы воспринимать это неправильным, я без всяких вопросов бы знал, что это правильно, и задумался бы, почему. Итак, прямо сначала, имеет место отход от отделённой неправильности к интегрированной правильности. Я бы провёл минуту, размышляя, не совершил ли я где-то ошибку, не впал ли в неосознанность, приведшую к такому несвоевременному пороку, но это просто привычка, я не нашёл бы ничего подобного. Потом я потратил бы ещё минуту, чтобы выяснить, нет ли чеголибо, что я должен понять – понять ясно, а не поверить и не предположить – из этого странного прыща. Сомневаюсь, что я нашёл бы что-нибудь на этой стадии, но никогда не мешает проверить. Как бы то ни было, я бы оставался бдительным, поскольку появление этого прыща в данных обстоятельствах поразило бы меня так же навряд ли, как наверняка могло производить дальнейшие, хотя и пока невидимые, действия.
— Вы не стали бы пытаться вылечить или спрятать его? – спросил Брэд.
— Вероятно, попытался бы, конечно. Если бы я попал в ситуацию, где я хотел бы выглядеть наилучшим образом, я не был бы счастливее от прыща на носу, чем кто-либо другой. Я не стал бы притворяться, что мне всё равно – у меня нет привычки действовать иначе, чем я склонен. Я играю свою роль честно, понимаю ли я каждую деталь или нет, и в этих обстоятельствах мой персонаж может захотеть залечить или спрятать некрасивую отметину.
— А что вы имели в виду под невидимыми действиями? – спросила Карен.
— Для меня всё это не ново. Я долгое время делал это даже ещё до своего просветления, и теперь это встроенная функция моего пробуждённого сознания, мне не нужно это останавливать, или думать об этом, или выполнять это. В сценарии, где я иду на особое событие, выпускной вечер, что влечёт за собой одевание, ухаживание за собой, планирование и особые приготовления, появление прыща было бы столь же незаметным, как говорится, как пукнуть в батисфере. Я мог бы сразу не понять его назначение, но нечто настолько невероятное долго не оставалось бы загадкой, и вскоре последовало бы объяснение. – Последовало бы как?
— Я не могу расписать этот сценарий так далеко. В течении нескольких часов, или уж точно, нескольких дней, то, что казалось небольшой неприятностью, открылось бы как идеальная часть более обширного, изящного целого. Всё обрело бы совершенный смысл.
— Но иногда прыщ — это просто прыщ, – сказал Брэд философски.
— Может быть, в вашем мире, – сказал я, – но не в моём. Как если бы сейчас сюда вполз морж, и вы спросили бы меня о нём, а я сказал бы, что иногда морж — это просто морж.
— Да, – сказал Брэд, – если бы сейчас сюда вполз морж, думаю, этому было бы какое-нибудь рациональное объяснение.
— Именно об этом я и говорю, – согласился я, – мы могли бы быть уверены, что есть какое-то объяснение, даже если бы мы не имели понятия, какое, и даже если бы мы никогда не нашли бы его с уверенностью. Говорить «морж — это просто морж» было бы абсолютно неприемлемым способом объяснить такое странное событие. Таким же образом, я бы не стал думать об этом прыще, о котором мы говорим, как о просто странном событии, или не заключил бы, что я не могу этого понять лишь потому, что ещё не время. Такой тип упорства и недоверия целиком и полностью присущ эгоистическому и отделённому состоянию. Даже если я никогда не пойму это полностью, я никогда не предположу, что это была – как я могу даже говорить такое? – случайность? хаотичность? элемент беспорядка? Беспорядка не существует. Нет ничего случайного или хаотического, только полностью увиденное или нет. Это не то, во что я верю, как вы предполагаете, это то, что я вижу.
— Вы не стали бы молиться о том, чтобы прыщ исчез, или воплотить его исчезновение?
— Нет, это значило бы, что это не правильно, чего мне даже в голову не придёт. Мне может не нравится иметь на носу прыщ, и я могу попытаться спрятать или вылечить его, но я не могу подумать о нём, как о чём-то неправильном.
Похоже, они мне не поверили.
— В этом сценарии, – продолжил я, – мои желания уже заняли бы свои места. В какой-то момент до свидания я потратил бы пару секунд на выражение желания, чтобы этот вечер прошёл хорошо – что всё, что бы ни случилось, всё было бы к лучшему – и отпустил бы это желание. Я бы отпустил его и забыл бы о нём. Я не стал бы панически пересматривать свои желания из-за появления прыща. Подобный тип испуганного недоверия не мог бы со мной произойти. Для меня здесь нет ничего неопределённого, всё очень конкретно и постоянно. Если вселенной угодно, чтобы у меня был на носу прыщ, тогда, очевидно, это угодно и мне. В тот момент мне это может не понравиться, и я могу не понимать этого, но я знаю, что это часть чего-то, чего я пока не вижу, и что причина станет ясна довольно скоро. Нечто настолько особенное не может долго оставаться тайной.
Теперь они молчали. Я заметил появление следующего вопроса ещё до того, как кто-либо захотел задать его.
— Давайте не будем останавливаться на тривиальном уровне отметин на лице, – сказал я. – Если бы я оказался в горящей машине сегодня ночью, я всё равно бы не подумал приписывать ситуации неправильность. Оказаться в горящей машине и иметь на носу прыщ на выпускном вечере различны только в масштабе. Мне может не понравиться сгореть насмерть, я могу не понять этого в тот момент, и я, конечно же, буду сражаться за свою жизнь, но я не могу предположить, что вселенная допустила ошибку, или что я не должен был оказаться в горящей машине.
— Значит, вы примете это, – спросил Брэд.
— Я не понимаю, что может означать не принимать то, что есть. Я не могу себе этого представить. Это нельзя перевести в то, что имело бы для меня смысл. В моей парадигме для этого нет эквивалента. Оказаться в горящей машине могло вызвать во мне чувство глубокой неудовлетворённости, которую я постарался бы излечить, вероятно, спасшись из машины и потушив пламя, но я не мог бы подумать об этом иначе, чем как о чём-то правильном.
Похоже, они мне не поверили.
— Я не могу хорошо объяснить, – продолжал я, – что это не другая система верований, это другая парадигма бытия. Это не то, что вы можете включить в своё мировоззрение. Моя сдача совершенной и безошибочной воле вселенной – которую я не воспринимаю отдельно от себя – абсолютна. Это не какая-то вера, которая может согнуться или сломаться под давлением. Никакой кризис веры невозможен, поскольку здесь нет никакой веры. Я говорю об ином состоянии бытия, так же отличающемся, как сон от яви, как ребёнок от взрослого, как разум от безумия. Мы подходим к духовности с неверным предположением, что нам необходимо больше знаний, или более глубокое понимание, или более сильная вера, или особый опыт, но нам не нужно ничего – это совершенно другое состояние бытия. Я наблюдаю, как работают эти отношения с безошибочным совершенством, уже более двух десятков лет. И я не внешний наблюдатель, я сотворческий партнёр. Это не отношения между двумя существами – это новый и совершенно иной тип существа. Вот что означает быть в другой парадигме. Вот что значит сказать, что моя реальность отличается от вашей реальности. А так как вы все смотрите на меня, будто я, по крайней мере, больной на голову, я положу ещё сверху вишенку: Если у меня на носу вскочит прыщ в день выпускного бала, или я окажусь в горящей машине, моим ответом никогда не будет страх или разочарование, или сомнение, моим ответом всегда будет одно и то же. Благодарю. Всегда благодарю.
Похоже, они мне не поверили.
22. Лучший из всех возможных миров.
– Ты веришь, – спросил Кандид, – что люди всегда убивали друг друга, как сейчас, что они всегда были лжецами, обманщиками, изменниками, неблагодарными, разбойниками, идиотами, ворами, негодяями, жадинами, пьяницами, скрягами, завистниками, амбициозными, кровожадными, клеветниками, развратниками, фанатиками, лицемерами и дураками?
– А ты веришь, – спросил Мартин, – что ястреб при встрече всегда съедает голубя?
– Да, без сомнения, – сказал Кандид.
– Ну, тогда, – сказал Мартин, – если ястреб всегда обладал неизменным характером, почему ты вообразил, что человек мог изменить свой?
– Вольтер, «Кандид» –Есть два литературных произведения, о которых было бы интересно и поучительно упомянуть здесь. Первое — это «Кандид» – сатирический ответ Вольтера на оптимистическое утверждение Готтфрида Лейбница, что «всё к лучшему в этом лучшем из всех возможных миров». Это утверждение в действительности было решением псевдо-философской линии исследования, названной «Тэодицея», призванной облегчить наш духовный диссонанс примирением нашей внутренней веры в любовь Бога с внешней реальностью страдания и зла.
«Теодицея» — это некорректное философское исследование, поскольку оно изначально предполагает всемогущество, всеведение, благодетельного Бога, и стремится примирить зло с этими тремя изначальными установками. В том же самом смысле вся философия — это псевдо-философия, и вся наука — это псевдо-наука, поскольку первичным условием самого их существования они принимают воображаемую реальность царства сна за реальную реальность, и возводят свои системы знаний на этом необоснованном основании.
Кандид, как и Будда, вырос в привилегированной изоляции, отгороженный от уродства мира, и однажды, как и Будда, вышел и сам обнаружил его, что стало опустошительным для его взрощенного мировоззрения. И Кандид, и Будда, затем проходят через страдания и тяжёлые испытания из-за неправильных взглядов, и оба в конечном итоге находят свои соответственные срединные пути.
Кандид вырос в вере, что всё есть часть божественного плана, и что всё происходит к лучшему, понимаем мы это или нет. Толковать любое зло или страдание как-то иначе, значит просто проявлять незнание того факта, что у Бога грандиозный план, о котором не нам судить. Главная тема «Кандида» — это сатирическое высмеивание такого абсолютного оптимизма путём вывода его из школьной теории, подвергнув практическим тяготам совсем не лучшего мира. История проводит своих персонажей через все природные и человеческие ужасы и все виды страдания, чтобы подвергнуть этот оптимизм проверке, и их философия терпит полный крах. В конце даже доктор Панглосс, философ-оптимист, хотя и по-прежнему утверждает, что всё к лучшему, соглашается, что с трудом в это верит.
Вот слова ещё не подвергнутого проверке доктора Панглосса, профессора метафизико-теолого-космонигологии:
– Можно доказать, – сказал он, – что ничто не может быть иначе, чем так, как оно есть: ведь всё бытие создано ради некоей цели, и эта цель обязательно должна быть лучшей. Вот смотрите, нос имеет такую форму, чтобы носить очки, таким образом, у нас есть очки. Ноги, очевидно, созданы для чулок, и мы носим чулки. Камни созданы, чтобы их обтёсывать и строить из них замки, поэтому у моего господина великолепный замок – у величайшего барона провинции должно быть самое лучшее жильё. Свиньи созданы для того, чтобы их есть, поэтому мы круглый год едим свинину. Следовательно, те, кто утверждает, что всё хорошо, говорят глупости – нужно было сказать, что всё к лучшему.
Если закрыть глаза на интеллектуальное блядство этой речи, и несмотря на ошибочность рассуждения, посредством которого был достигнут результат, философия преподавателя Кандида, доктора Панглосса, в конечном счёте, верна. Если мы алгебраически сократим это уравнение, вычеркнув равные противоположные суждения – хорошее с одной стороны и плохое с другой, например – останется свободное от эго и очищающее духовный вкус высказывание: что бы ни происходило, оно должно быть лучшим из того, что могло произойти, потому что это то, что происходит. В конце концов, у нас есть единственный критерий, посредством которого можно определить, что лучше всего: это то, что происходит.
Или, как кратко выразился Александр Поуп, «То, что есть – правильно».
Океан не может нарушить идею океана. Если существует конфликт между идеей и действительностью, значит, идея ошибочна. Океан не может быть ошибочным, поскольку то, что он делает, это то, что есть. Цунами, стирающая с лица земли деревни, не хороша и не плоха, не правильна и не неправильна, она просто есть.
Наша цель не там, куда мы идём, она там, где мы есть. Это ясный, естественный неэгоистический взгляд. Где та часть океана, которой не нравится цунами, стирающее целые города? Где та думающая часть океана, в которой интерпретируются действия, и соответственно подгоняется или видоизменяется будущее поведение? Где производятся планирование или составление расписаний? Где океан хранит свои воспоминания, знания, мнения и верования? Где тот чувствующий орган, которым он ощущает своё величие, мощь и красоту? Где он чувствует гордость и стыд? Где он боится того времени, когда его больше не будет? Где океан хранит свои надежды и амбиции? Свои сожаления и опасения? Какая его часть замышляет против одного человеческого предприятия и благоволит другому? Как океан судит? Как он знает, что правильно, а что нет?
Не найдя ответов на эти вопросы, должны ли мы сделать вывод, что океан — это неживая, безжизненная вещь, не обладающая разумом? Очевидно, нет. Океан — это полная жизни динамическая система чистого разума. Он выполняет операции неисчислимой сложности каждую секунду ежедневно, по всему миру, от одного края земного времени до другого, никогда ни на йоту не отклоняясь от совершенства. Этот чистый разум находится везде – от субатомных частиц до галактик, за пределами и в промежутках. В каждом насекомом, в каждом человеке, в каждой мысли, в каждом дуновении ветра, в каждом теле на этой планете, в каждой пылинке и былинке, в каждой капельке росы и каждом мгновении времени. «Я знаю, что каждая травинка не меньше, чем работа всех звёзд», писал Уитмен. «Я открыл секрет моря, медитируя над каплей росы», писал Джибран. Океан — это лишь бесконечно малая часть бесконечной системы, в которой мы являемся тоже бесконечно малой частью, хотя нет частей меньше или больше. Нет отдельных частей, каждая часть содержит в себе тотальность. Океан — это единая вещь, быть частью океана, значит быть океаном. Тат твам аси. То есть ты.
И это тоже является свободной от эго перспективой интегрированного состояния.
Вселенная — это чистый разум – абсолютный, непогрешимый, совершенный. Так в чём же разница между океаном, звёздами, субатомным миром и вами?
Эго.
Одетые в эго существа – единственные во вселенной, способные на несовершенство. Мы одни в своём отделённом состоянии способны на всё то, на что не способна вселенная: ошибки, недомыслие, эмоциональность, тупость, оценка, любовь, ненависть, исследование, страх, чувство собственной важности, смысл, искусство, геноцид, и длинный список других качеств, включая, самое важное для наших целей – стремление. Мы можем устремиться за пределы нас самих, за пределы отделённой самости, и превзойти свою собственную природу. Мы можем снять с себя само-ограничивающие программы и снова влиться в соединённое состояние, от которого нас искусственно отделяет эго.
В конечном счёте, конечно, эгоистическое человечество является подсистемой точно так же, как океан, звёзды, трава, и то, что кажется ошибкой изнутри, снаружи являет собой совершенство. Мы совершенны в своём несовершенстве, наши пороки заложены изначально.
Когда мы перестанем эгоистически настаивать на суждениях о действиях, намерениях, мыслях и чувствах, как правильных и неправильных, хороших или плохих, позитивных или негативных, мы увидим, что единственным критерием, по которому можно о чём-либо судить, является то, происходит это или нет. Еретик прав, совершая ересь, если он это делает, а разъярённая толпа права, сжигая его на костре, если она это делает. Нет правильного и неправильного, добра или зла, только есть или нет.
Что бы ни было – правильно.
Всё к лучшему в этом лучшем из всех возможных миров.
***
Ещё одно литературное произведение, о котором хотелось бы упомянуть здесь, — это «1984 год», где разница между верой и парадигмой освещается аксиомой главного героя Уинстона Смита: «Свобода — это свобода сказать, что два плюс два равно четырём. Если это разрешено, всё остальное последует».
Позже, во время курса по де/репрограммированию в министерстве Любви, Уинстон узнал, что разрешённое может быть запрещено, и два плюс два на самом деле равно пяти, или трём, или как будет угодно партии. Но благодетелям-мучителям Уинстона было недостаточно сделать эту маленькую перенастройку в его системе убеждений. Даже последний лоскутик его самости, самая истинная истина в сердце его сердец, которую, он был убеждён, у него никогда не смогут отнять – его любовь к Джулии – может быть, как он узнал в комнате 101, сорвана с него за пару минут, как и любая другая вера.
Так был убит Будда Уинстона Смита.
За исключением субъективного «Я Есть» всё знание — это вера, а все веры всего лишь бижутерия, которую можно сорвать и выбросить в сточную канаву, так как это лишь дешёвые безделушки. Не мы имеем убеждения, а они имеют нас.
Два плюс два равно четырём верно в точности так же, как и два плюс два равно пяти. Самая истинная истина, которую мы храним в сердце наших сердец, верна не больше, чем правда, которую мы говорим детям и гаишникам. Два плюс два равно ровно столько, сколько мы пожелаем. Именно это О'Брайен, спаситель-мучитель Уинстона Смита, называет коллективным солипсизмом, или его противоположностью.
– Но как вы можете контролировать материю? – выпалил Уинстон. – Вы даже не можете контролировать погоду, или закон гравитации. А есть болезни, боль, смерть...
О'Брайен остановил его движением руки.
– Мы контролируем материю, так как мы контролируем ум. Реальность находится внутри черепа. Шаг за шагом ты усвоишь это, Уинстон. Нет ничего, что мы не могли бы сделать. Невидимость, левитация – всё. Я мог бы взлететь с этого пола как мыльный пузырь, если б захотел. Я не хочу этого, потому что этого не хочет партия. Ты должен избавиться от этих идей столетней давности о законах природы. Законы природы создаём мы.
Истина в том, что нет истинной веры, и сказать, что любая вера истинна, значит открыть шлюзы, и сказать, что все веры истинны. Ни одна ложь не больше и не меньше истинна, чем другая. Когда мы осознанны в царстве сна, такие ограничения не применимы, и даже «два плюс два равно четырём» это просто ещё одна вера. Что угодно плюс что угодно равняется чему угодно. Два плюс два равно столько, сколько мы скажем. Эта сумма может быть разной для разных людей в разное время по разным причинам. В неосознанном царстве сна ваши два плюс два будут равняться семи, а мои одному. Наверное, те, кто верит, что 2+2=5, будут ненавидеть тех, кто верит, что 2+2=3, и они будут столетиями воевать. А может, они едва будут знать друг о друге, или может, они объединятся против приверженцев 2+2=7. Сейчас мир принадлежит тем, кто верит в 2+2=4, но «1984» помогает нам увидеть, что ситуация может измениться. Такова жизнь в неосознанном царстве сна, где истина произвольна, а реальность лишь безнадёжная фантазия.
23. Тренога иллюзии.
Его ум скользнул в подобный лабиринту мир двоемыслия. Знать и не знать, осознавать совершенную истинность, говоря при этом тщательно сконструированную ложь, удерживать одновременно два взаимно нейтрализующиеся мнения, зная, что они противоречат друг другу и веря в них оба, использовать логику против логики... забывать то, что необходимо забыть, затем вытащить это обратно в память в нужный момент, и тут же снова забыть, а самое главное, применять тот же процесс к самому процессу. Это было тончайшим умением – осознанно стимулировать неосознанность, и потом, вновь стать неосознанным к акту гипноза, только что тобой совершённому. Даже чтобы понять термин «двоемыслие» необходимо задействовать двоемыслие.
– Джордж Оруэлл, «1984 год» –Сегодня был последний день Боба в Мексике. Он появился перед моим столом и мельком взглянул на предварительный экземпляр своей книги, лежащий в одной из стопок, но не спросил, просматривал ли я её. Вообще-то, я просматривал, но не долго. Мне не нужно много времени, чтобы определить и оценить эго в людях или в их трудах. Я могу легко и уверенно за десять минут (за восемь, если не нужно будет аккуратно складывать) разделить сотню книг «новой мысли» на стопку негодных и стопку для дальнейшего просмотра, а потом просеять стопку для дальнейшего просмотра ещё за пару минут, что оставит мне вероятно, две или три книги, с которыми мне захочется провести ещё минутку, и из них одна, а может, и ни одной, окажется действительно стоящей.
Я упоминал в первой книге, что при первой встрече с человеком я могу очень быстро, за пару слов, определить, в какой части духовной местности он находится в данный момент. Так оно и есть. Эту способность – быстро делать точные суждения, особенно о печатном материале – я развил в себе ещё в начале своего процесса, поэтому я упоминаю об этом здесь: любой человек с хорошим теоретическим пониманием просветления может это сделать. Я находил это очень ценным инструментом. Это оберегало меня от потерь времени и энергии на отношение к книгам и их авторам с уважением, которым они пользуются у тех, чьё уважение я не уважал. Воплощение было так же полезным – способность просить, получать и распознавать, что мне нужно и когда нужно. Благодаря этим двум зарождающимся талантам я мог получать, что мне надо, не потерявшись в горах книг, учений, групп, философий, соревнующихся за моё внимание.
К книге Боба я приложил бóльшие чем обычно усилия по оценке и конструктивной критике. Вначале я взял маркер и стал отмечать фразы и утверждения, показавшиеся мне особенно неудачными, которые он мог бы захотеть исправить, пересмотреть или перефразировать, но как только я просмотрел несколько страниц, мной овладело ощущение бесполезности этого занятия. Я потратил ещё пару минут, быстро просмотрев остаток книги, и отложил её.
Это было по сути переделкой всё тех же старых гуру и учений, всё те же старые банальности. Избыток сердца, души, невозмутимости и безмятежности, избыток покоя и сострадания, любви и красоты, но ни одной острой или направленной мысли. Просто стандартный нью-эйджевский лепет – мягкая, слащавая книга. Другими словами, я понял, что Боб просто хочет быть учителем. Он вложил своё время, научился говорить, и теперь хочет перейти на следующий уровень.
Его книга, возможно, будет популярной и катапультирует его в ряды успешных и уважаемых духовных авторов/учителей. В ней есть все нужные элементы. Она мягкая, пушистая и тёплая. В ней нет никаких требований к читателю, кроме рекомендаций выполнять обычные техники и практики – медитацию, ведение дневника, наблюдение и т.д. Она убеждает читателя, что он может достигнуть подлинного освобождения в одно мгновенье, просто осознав или отпустив что-то, или что-то вроде того. Не требуется реальных изменений, ни самоотречения, ни жертвоприношения, ничего трудного, или взыскательного, или даже неудобного. Она сулит весь мир и несёт в себе прелестную мораль: Мы есть любовь.
Короче говоря, стандартный противень с пирожным, которое можно иметь, одновременно съев его. Конечно, здесь работают силы рынка, и ты должен дать людям то, чего они хотят, если хочешь, чтобы они хотели тебя. Так было не всегда, со всем этим непристойным потворствованием мнению и соревнованием с манерами соперников и подражателей. Виной тому Гуттенберг с его печатным прессом и Аль Гор с его интернетом. Католики, например, держали монополию во многих частях мира, и их хватка была столь сильна, что они могли под именем подавления ереси мучить и убивать своих же приверженцев. Нынче же, в нашем климате информационных альтернатив, они едва ли могут применить подавление ереси к педерастии с мальчиками. Как пало былое могущество.
Боб попросил меня обсудить с ним его книгу пункт за пунктом, чтобы составить подробный отчёт, что я считаю её достоинствами, а что недостатками. Когда он говорил, это звучало разумно, но нельзя обойти тот факт, что Боб сам не прошёл через тот переход, о котором он пишет. Лиза прошла через него или проходит, и он выглядит не так, как рисует Боб, это не красивые картинки о том, что любовь — это наша истинная природа, и всё, что нам нужно сделать, — это быть в тишине, отпустить что-то негативное, принять что-то позитивное, чтобы что-то внутри нас стало... чем-то.
Боб хочет вернуть людям просветление. Да, он использует слово просветление, хотя по большей части описывает тихую задумчивость, или умеренный транс, или ступор с улыбкой на лице, и самое большее, что он имеет в виду, — это поверхностный, неразвитый человек-взрослый. Он думает, что просветление несправедливо отняли у людей, и создали эксклюзивную епархию, ээ, просветлённых. Он видит в этом несправедливость и ищет исцеления, действуя как самозванный духовный Робин Гуд, который крадёт его у элиты и возвращает обратно нечестно обделённым. Он хочет принести просветление вниз с вершин гор в долину, где каждый может наслаждаться им. Духовный социализм.
Просветление, о котором говорит и пишет Боб, имеет обычные, повседневные качества. Он приводит список мифов и недоразумений о просветлении, которые служат, чтобы исключить всё, что могло бы придать ему вид иной, чем небольшое, заурядное прозрение. Его книга — это «кто есть кто» из духовных авторов и учителей, исповедующих те же или похожие взгляды о том, что быть пробуждённым, просветлённым и счастливым — это всё одно и то же, и что никто не может найти эти вещи потому, что ищет, но великий парадокс состоит в том, что чтобы найти то, что мы ищем, мы должны перестать искать. Что-то типа того.
И возможно, это верно. Если кто-то ищет удовлетворённости, тогда кажется неплохой идеей, по крайней мере, на первый взгляд, сказать ему перестать быть неудовлетворённым, что его проблема не в том, что у него нет того, чего он хочет, но в том, что он хочет того, чего у него нет, и что как только он перестанет хотеть этого, ему перестанет этого не хватать. Всё бы ничего, если бы разговор шёл только об удовлетворённости и счастье, но они – я имею в виду ряд авторов и учителей, которые своим житием и репутацией поддерживают эту линию тюремной ортодоксии – продолжают говорить о просветлении, пробуждении, природе Будды и истине.
В этом нет ничего нового и удивительного. Это стандартная процедура защищающегося невежества, просто ещё один день в офисе для Майи. Как удержать людей в тюрьме без замков? Сохранять их удовлетворённость. Легко и просто.
По-ихнему проблема духовных искателей состоит в том, что они думают, что должны забраться на вершину горы, где, по их предположению, обитают такие высшие индивидуальности, как Будда и Иисус, но у искателей плохо это получается, что является безопасным способом интерпретировать абсолютный провал. Вместо того, чтобы пересмотреть свои идеи насчёт Иисуса, Будды и вершины горы, Боб со своей закалкой духовного поставщика решений пытается устранить проблему путём смены ярлыков. Теперь долина становится вершиной горы, и все будут просветлены, если пойдут за ним. Новая цель находится прямо здесь и прямо сейчас, нужно только её осознать. Вуаля! Абсолютный провал теперь абсолютный успех.
Мир — это война. Плен — это свобода. Невежество — это знание.
Спящий — это пробуждённый.
Это так по-оруэллски, так беззастенчиво, хотя и тонко, настолько изящно олицетворяет самообман, на который способен основанный на страхе ум, что вызывает во мне сильное чувство восхищения и уважения перед Майей. Я говорю это без тени иронии: мне кажется, что нет ничего более прекрасного, очаровательного и заслуживающего восхищения, чем Майя – архитектор иллюзии, разум страха. Наш возлюбленный Большой Брат.
***
Боб хотел поговорить, но было время выгуливать Майю, и я пригласил его пойти вместе. Моё колено ещё требовало помощи в подобных прогулках по холмам, поэтому я взял с собой трость, метатель мячей для Майи, бутылку воды, и мы отправились.
В начале романа «1984 год» главный герой Уинстон Смит сидит в кафетерии и наблюдает за различными типами личностей вокруг него. Они были разные, но имели одну общую черту: все они умудрялись верить в то, что для Уинстона было невероятным. Один верил благодаря чистой глупости, другой благодаря фанатизму, а третий, самый умный, с помощью сложных ментальных ухищрений двоемыслия.
А между ними сидел бедный, безнадёжно здравомыслящий Уинстон, который знал, что два плюс два равно четырём, но который был окружён людьми, которые знали с большей уверенностью, что два плюс два равно пяти. Все они жили в мире, где тебя замучают и убьют за веру – даже самую сокровенную – что два плюс два равно четырём. Верить в ложь было абсолютно необходимым для их выживания, и фатальным недостатком Уинстона было то, что он не мог этого сделать.
Боб уникальным образом сочетает в себе все три типа: глупость, то есть защищающееся невежество, фанатизм, то есть эмоциональное усиление невежества, и ум, способный на требующие усилий ментальные искажения, необходимые, чтобы поверить в очевидную ложь. Это тренога иллюзии, и Боб, как и все, твёрдо сидит на ней.
Но в отличие от всех остальных Боб провозгласил себя авторитетом по вопросу истины и написал об этом книгу. Независимо от того, что из этого получится, Боб писал эту книгу в надежде на то, что она будет хорошо принята, и что он сможет подняться из обширного разряда студентов в менее раздутые ряды учителей, из овец в пастыри, из обыкновенного заключённого в уважаемого члена правления.
Мы вышли через северные ворота, и зашагали по дорожкам и тропинкам по направлению к старой часовне. Первые десять минут дорога шла всё время вверх, что не способствовало разговору. Майя рыскала вокруг, обнюхивая каждый третий камень. Здесь много опасностей для собаки, а я лишь наполовину был готов к экстренной ситуации, но она умная девочка, и пока до чего-либо серьёзного дело не доходило.
Когда дорога выровнялась, мы несколько минут поговорили, стараясь обходить острые края сложных тем. Трудность разговора с Бобом была в том, что мы не могли установить рабочую динамику. Если бы мы были в отношениях студент-учитель, всё было бы нормально, потому что я мог бы поразмять его чуть-чуть, а он бы слишком не сопротивлялся. Но он хотел вести диалог на равных, что ставило меня в несколько неловкое положение, что говорить и зачем.
Мир полон ложных и искусственных авторитетов. Согласно моим случайным наблюдениям истинный авторитет исходит из знания, а ложный – из могущества. Знаки отличия и пистолеты, титулы и офисы, деньги и звания – вот лишь некоторые вещи, придающие людям власть и привилегии, на которые они не имеют независимых прав. Они – внешние источники питания, когда нет внутреннего источника. В духовности титулы, мантии, придуманные имена служат той же цели. У нас с Бобом, даже хотя мы проводили с ним вместе по нескольку часов каждый день в течении почти целой недели, всё ещё присутствовало лёгкое трение при разговоре, потому что он хотел признания своего авторитета, а у меня не было такой компетенции. Он написал книгу. Это его знак отличия, осязаемый символ его авторитета. Он понял, что большинство людей уважают знаки отличия и признают авторитет, но это место острых лезвий, где умение и мастерство — это всё, а костюм и шоуменство – ничто. Мне нравился Боб, он был для меня очень полезен, и во время разговора с ним я должен был помнить, что он в некотором роде предал себя тёмной области, где он не мог ни говорить, ни слушать.
***
— У вас есть какой-нибудь вопрос? – спросил я, когда позволила дорога.
— Каким должен быть мой вопрос? – сказал он. – Что мне необходимо знать?
На первый взгляд, неплохой вопрос, но в действительности это стратегическая уловка. – Вот короткий ответ: Человек-Взрослый, – ответил я.
— А длинный ответ? – спросил он.
— Книги, – сказал я. – Читайте мои книги.
— Окей, – сказал он, – Я собираюсь их прочесть, но уж коль скоро я здесь, коль скоро мы идём с вами рядом, всё, что вы скажете, я буду очень внимательно слушать, не взирая на свои чувства...
Я вздохнул. За эти несколько дней он научился меня переигрывать.
— Это очень похвально, Боб. Я понимаю, что вы человек глубоко вникающий и необычайно духовно чистый. Я знал много духовно чистых людей, которые всё же были во власти эго, так что... – я пожал плечами.
– Вы имеете в виду, как я?
Я засунул теннисный мяч в штуковину для метания мячей и далеко его забросил. Майя не обратила на него никакого внимания.
— Окей, как я, я понял, – сказал он. – Простите, прошу вас, продолжайте.
— Вы хотите, чтобы я сказал вам то, что мне кажется, вам нужно услышать, – сказал я, – так я скажу. Духовность — это самая коварная форма самообмана, и она владеет вами. Духовность — это Майя в её самой хитрой форме самосохранения – самый глубокий окоп эго. Вот перед чем вы стоите, вот что держит вас в ловушке. Духовность нависает над миром подобно пелене, подобно чёрному масляному дыму, который накачивают в атмосферу дымовые трубы, торчащие их миллионов церквей, университетов, монастырей и храмов, из книжных стеллажей, журнальных полок и вебсайтов. Я смотрю на вас, и вижу человека, всю жизнь потреблявшего этот дым, который теперь хочет перейти в производственную и распространяющую часть этого бизнеса.
Минуту он молчал.
— Мне действительно трудно во всё это поверить, – сказал он.
— Да, – сказал я. – Я об этом и говорю.
— Но это не кажется чёрным масляным дымом, – настаивал он. – Это похоже на то, что люди пытаются найти смысл и счастье, пытаются жить в согласии с высшими законами, с землёй и со своими товарищами, пытаются растить детей, быть хорошими людьми, как можно лучше сохранить планету. Не знаю, как вы можете сравнивать развитый, позитивный по отношению к жизни, надконфессиональный вид духовности, который я описываю, с чёрным масляным дымом. Я просто не понимаю.
— Так я воспринимаю это снаружи, – сказал я. – Изнутри, я знаю, это кажется милым, приятным и хорошим, чем-то желанным и успокаивающим. Это естественно. Природа зверя.
Он призадумался. Я прихрамывал. Майя принюхивалась.
— Значит, – продолжил Боб, – я говорю, что есть все эти люди, ведущие гармоничную, духовно возвышенную жизнь, а вы говорите, что они живут в каком-то дыму?
— Я не имею в виду ничего дурного, – сказал я. – Так поступает Майя. Так она связывает всё это в единое целое. Такую она служит важную службу.
— Вы наделяете Майю слишком большой властью и разумом.
— На самом деле, этим занимаетесь вы. Я отсёк её много лет назад. – Я выразился фигурально, – сказал он. – А я нет.
Он не ответил.
— Майя внутри вас, оживляет вас, прямо сейчас, – продолжал я. – Если кажется, что я иногда нетерпим с вами, то это потому, что вы думаете, что я говорю с вами, а я знаю, что говорю с ней. Вы верите, что пробуждены, а я вижу, что вы спите. Какой смысл в нашем разговоре? Не знаю, но я это делаю, а вы спросили, и вот, извольте.
— Значит, я сейчас стою в этом масляном...?
— Вы не только стоите сейчас в этом чёрном масляном дыму, вы глубоко вдыхали его всю свою жизнь, и теперь он пропитывает вашу систему целиком, сверху донизу. Он заполнил ваши лёгкие и поры, так что вы теперь излучаете его в виде своих слов и книг. Он просочился в каждую клеточку вашего существа настолько, что вы не осознаёте его, как воздух, как рыба не осознаёт воду. Это среда, в которой вы существуете. Вы больше ничего не знаете.
— Ну, – сказал Боб, неловко рассмеявшись, – должен же я где-то быть.
— Неужели? Тогда, возможно, вам стоило бы поискать это ваше самозванное «я», которое должно быть где-то внутри.
— Ну, может быть, именно это я и пытаюсь сделать – найти это внутреннее «я».
— Или может быть, именно это вы пытаетесь не делать.
Я продолжал бросать мячи Майе, но её больше интересовали запахи, так что мне приходилось ковылять за ними самому.
***
На вершине холма, откуда открывался красивый вид, мы остановились. Я налил Майе воды в складную чашку, потом попили мы с Бобом.
— Знаете, – сказал он, – есть много мифов о просветлении. Говорят, что всякий, кто заявляет, что просветлён, автоматически не просветлён, или, что нет такой вещи как просветление. – Я согласен с этим, – сказал я.
— Правда?
— Конечно. Просветление — это разоблачение лжи, а «я» — это ложь. Не может быть и то и другое вместе, поэтому кто просветляется? «Не-я» — это истинное «я». Несмотря на явный парадокс, быть просветлённым означает, что не остаётся никого, кто просветлён.
– Но вы заявляете, что вы просветлены.
— В контексте нашей метафоры я заявляю, что не нахожусь в ослепляющем дыму. Необходимо помнить, что, независимо от всех заявлений об обратном, в этом дыму нет никакой видимости. Никто ничего не видит, и самое главное, что никто не видит, что никто ничего не видит. Некоторые говорят, что видят, и если они расскажут хорошую историю и сами в неё поверят, тогда они смогут и других заставить в неё поверить. Это подходит для целей Майи, и за это предусмотрены награды. Почти все духовные учителя попадают в эту категорию – слепой ведёт слепого. Если ты видишь, то легко разглядишь, кто видит, а кто нет. Здесь не о чем спорить.
— Я? – спросил он.
— Что «вы»?
— Я в этом дыму притворяюсь, что вижу?
— Конечно, – ответил я.
— Но не вы.
— Я не учитель. У меня нет студентов. У меня нет учения.
— Но в чём тогда разница? Вы здесь вместе с остальными. Вы видите то, что видит каждый.
— Ни то, ни другое.
— Но прямо сейчас мы с вами вместе, – настаивал он. – Я смотрю на вас. Вы смотрите на меня. Вы меня видите.
— Вы мираж, Боб. Я вижу вас насквозь. И я мираж. Я вижу себя насквозь. – Я жестом указал на чудесный вид. – Это всё мираж, я вижу всё насквозь. Уточню: этот чёрный дым — это не просто среда, где обитает погружённое в духовный мрак эго, это само эго, материал, из которого оно создано. Нельзя провести различие между обманщиком, обманом и обманутым. До тех пор, пока мы не поймём состояние эго, у нас поистине нет шансов реального продвижения вперёд.
— Знаете, – сказал он, – некоторые очень высоко почитаемые учителя говорят, что нет никакого продвижения вперёд, что это иллюзия, что мы уже полностью пробуждены, уже просветлены, и что мы должны лишь перестать бороться и искать. Мы ищем то, чем уже являемся, и только наш поиск закрывает нам глаза на эту истину.
Я не смог собраться с духом, чтобы ответить на это. Всё, что говорил Боб о современной духовности, совпадало с моими собственными взглядами, только с противоположным спином. Там, где он видит спокойствие и невозмутимость, я вижу послушание и неосознанность. Где он видит продвижение, я вижу окапывание. Когда я отваживаюсь взглянуть, что нынче популярного в духовной мысли нью-эйдж, я нахожу лишь то же самое упрощённое до абсурда, выхолощенное, тошнотворно-слащавое приторное пойло. Как будто все ели из общего корыта, и спецвыпуск дня зависит лишь от того, кто отрыгнул последним. Я пробовал потерпеть, но чуть не заболел – это как подвергнуться радиации, которая переносима лишь в малых дозах. Когда неприятная реакция прошла, я напомнил себе, что если не выносишь запаха, то нечего совать голову в канализацию.
Есть исключения, конечно, и поэтому я снова и снова выискиваю кого-нибудь с истинным авторитетом, прямым знанием и силой выражения.
Я убрал воду, и мы продолжили прогулку. Я отдал молчаливую дань величайшему и искуснейшему мастерству Майи – богине иллюзии, не собаке. Это её шоу, она его крепко зафиксировала, и нигде так не сильно её воздействие, как там, где, казалось бы, оно будет наиболее слабым.
24. Альтернативные люди.
Судя по всему, существует два типа искателей: те, кто хочет как-то изменить своё эго, т. е. сделать его святым, счастливым, неэгоистичным (как будто можно сделать рыбу нерыбой), и тех, кто понимает, что все подобные попытки — это просто размахивание руками и игра роли, и что можно сделать только одно – перестать идентифицировать себя с эго путём осознания его нереальности и своей вечной идентификации с чистым бытием.
– Вэй Ву Вэй –Пока мы шли, Боб подобрал несколько камней и забросил их в кусты. Для меня это было просто праздной болтовней. Для Боба же это было атакой на самую основу тщательно смастерённой и большим силами охраняемой его эго структуры, его «бобности». Спустя несколько минут он решил сменить тактику.
— Джед, серьёзно, я думаю, вы неверно относитесь к современному духовному климату в мире. Вы слишком пренебрежительно относитесь к тому, что вы не вполне понимаете. Человеческая духовность — это вам не динозавр, застрявший в прошлом, это эволюционный процесс, и он происходит прямо сейчас по всему миру. Мы можем изменить мир, сделать его лучшим местом для всех. Возможно, я говорю не о тех людях, которые полностью просветлены в том смысле, какой вы придаёте этому, но о людях, пробуждённых благодаря собственным усилиям, о всех сортах вдохновенных людей – артистах и музыкантах, учителях и родителях, людях, полных любящей доброты, с открытым сердцем и фундаментальной порядочностью, которые увидели, что путь сердца несёт свои богатства и награды. Интеллигентные, успешные, внимательные люди...
Я попытался его прервать, но он прервал меня.
— Позвольте мне продолжить, – продолжил он. – Я говорю о глубоко, подлинно духовных людях, которые живут в моменте, приспосабливаясь к изменяющемуся будущему, которые создают искусство, экологический бизнес, здоровые, счастливые семьи, о людях, не являющихся частью большого человеческого стада, бездумно расточающего жизнь и планетарные ресурсы, о людях, вырвавшихся из этой мышиной возни и нашедших лучший путь. Это осознанные и видящие люди, которые понимают трудное положение, в котором оказалось человечество – общество, политика, окружающая среда – и которые ведут эту революцию, Джед, они прокладывают путь к...
— Новому мировому порядку?
— Да, окей, к новому мировому порядку, новому типу человечества, человеческого сообщества. Вот что я пытаюсь до вас донести. Я понимаю ваши высказывания о старых путях, но вы не видите, что...
— Что это уже происходит, — сказал я.
— Да, что эта революция происходит прямо сейчас, и она не касается буддистской, индуистской или ньюэйджевской идеологии, или любой другой отдельной школы или доктрины. Она не ограничивается ни одной точкой зрения, но охватывает все идеологии в том смысле и в той степени, что они уважают индивидуальность и семью, и право человека следовать своему собственному пути, чтобы отыскать своё счастье. Она касается нового подхода к жизни, основанного на глубоко сокровенных универсальных ценностях и принципах, общих для всех. Это глобальное духовное...
— Возрождение?
— Вот именно, надвигается глобальное духовное возрождение...
Я остановился и посмотрел на него сердито, но он светился каким-то странным свечением праведности, что делало его невосприимчивым. Тема, которую он излагал, занимала видное место в его книге, и, повидимому, предусматривала объединить множество различных крайних систем верований, попадающих в серую зону между главными религиями и культами, в связующее движение, которое поведёт человечество в светлое завтра. Насколько я мог судить, общей чертой всех этих людей и групп была их терпимость ко всем точкам зрения. Два плюс два равно столько, сколько вам угодно. Все правы.
Все веры истинны.
В любом случае, то, о чём он говорил, даже если это и было правдой или вероятностью, не имело ничего общего со мной и тем, о чём я говорю и пишу. Кроме того, что оба наши предмета попадают в одну широкую рубрику человеческой духовности, они совсем не связаны, и мне абсолютно безразличны все провозглашённые им идеалы, а он совершенно незнаком с моими взглядами. Я сделал несколько попыток внушить ему это, но люди, похоже, внутри своих границ имеют особое место для вещей, которые выходят за их пределы, и он поместил меня именно туда.
Мы всё шли, а он всё говорил.
— Я говорю об открытом и чутком подходе к жизни, – продолжал он. – О подходе, который побуждает процессы роста, созидания и раскрытия сердца. О жизни в любви и мире так, как ни одно общество ранее. Вы знаете, как сегодня живёт большинство людей в обществе? Как рабы, как автоматы, не способные думать, следующие движениям жизни, но в реальности неживые. Мы наслаждаемся этим чудесным уровнем изобилия и благосостояния, что позволяет нам осуществлять мечту о новом восходе человечества, трансформации сознания. Все великие мудрые учения указывают на это. Вот почему я думаю об этом как о революции, Джед, об идеологической перестройке. Вместе мы сможем добиться реальных изменений, эволюционного сдвига. Вы когда-нибудь слышали о сотой обезьяне? Это радикальное пробуждение вида, и это происходит прямо сейчас. Многие тысячи людей по всему миру принимают участие в этой трансформации. Возможно, миллионы. Это очень волнующее время, Джед, и я не думаю, что вы вполне осознаёте...
***
Но я осознаю.
Боб говорит об альтернативных людях. Альтернативные убеждения и взгляды, альтернативный бизнес и политика, альтернативный образ жизни и забота о здоровье, альтернативные продукты питания и производства, альтернативное воспитание и образование, альтернативное топливо и энергия – в сущности, альтернативное всё, но альтернативное не очень. Это всё альтернативы внутри установленной парадигмы, но не альтернативы ей – подразделение стада, бегущее параллельно главному стаду. Вместо того, чтобы отделаться от своих эго-структур, альтернативные люди просто перестраивают их в соответствии с более сердечными эгоцентрическими линиями, их многочисленные цели и идеалы можно уменьшить до личного счастья через удаление, избегание и отрицание несчастья.
Короче, они проходят небольшой курс перенастройки своих верований из ортодоксальных в немного менее ортодоксальные, и за всеми явными причинами этого изменения всегда стоит одна и та же причина:
выживание эго. Способность приспосабливаться подобно хамелеону — это один из самых эффективных манёвров Майи. Нарисуй пару деревьев на стенах камеры, облака на потолке, и ты свободен, как птица.
Вот статус потенциального духовного искателя нынче в мире. Духовность — это просто альтернативная религия – те же контуры, заполненные теми же цветами из чуть другой палитры. Она исполняет те же нужды, как и религия, выдвигает те же нетребовательные требования и предлагает те же расплывчатые обещания и награды. Она также обладает любопытным иммунитетом к ответственности, которым обладают религии и культы, между которыми она попадает, таким, что пользователи возлагают вину за неудачу на себя, а не на купленную ими упаковку верований, или на людей, продавших им её. В конце концов, все группы – большие религии, культы и сентиментальная середина – являются малыми разновидностями одной истинной религии человека – Агностицизм.
Неведаизм.
Альтернативные люди Боба убедили себя, что они сбежали из заключения, тогда как они просто прорыли ход из одной камеры в другую, и назвали эту новую камеру «свобода». В этой тюрьме эго мировоззрение и обстановка камеры — это синонимы. Многие живут в вечном неудовлетворении своей камерой и ищут решение проблемы во введении новых возбуждающих декоративных штрихов – клочок буддизма здесь, мазок суфизма там, немного мистической поэзии, чтобы придать яркости серому тусклому углу, и может быть, небольшое национальное американское красочное пятно, чтобы придать местный колорит. Всегда что-то покупаем, всегда ищем нечто, что идеально бы заполнило пустое пространство, находим, а потом начинает расти усталость от этого, и мы вновь возвращаемся к поиску. Это хроническое стремление приукрасить свою обстановку обеспечивает жизненными силами духовный рынок, который на всех уровнях является не более чем бутиком по дизайну тюремных камер. Пришли вы на рынок за готическим христианством, электронным нью-эйдж, или апокалиптическим шиком, у них есть всё, что вам надо.
Быть альтернативным человеком — это роскошь, которую не каждый может себе позволить, это требует свободного времени и свободных денег. Счастливые мамаши и рабочие эмигранты не покупают соевый творог, или вилки с настройкой чакр, или наборы для багажа из конопли, или, честное слово, мои книги. Крестьяне занимаются тай-цзы только там, где это является основным направлением. Не каждый может позволить себе уехать на месяц для энергетического лечения в Институт Эсален, или на неделю поплавать с дельфинами, или даже на один день искупаться нагишом в океане мудрости Далай Ламы.
Конечно, каждый может бесплатно медитировать. Даже если ты беден, ты можешь сесть, закрыть глаза и повторять мантру, или считать свои вдохи пару минут, но глядя на вещи реально, без специального священного пространства, оборудованного импортными благовониями, набитыми вручную подушечками, точными копиями храмовых колоколов и гипсовой статуей Гуаньинь на музейного качества алтаре из красного дерева, где, одевшись в свободную, хорошо сидящую, светло-салатовую одежду для йоги из натурального хлопка, вы можете работать над своим духовным спасением в манере, строго приличествующей духовному поиску, реально, какие шансы у вас есть? Конечно, вы можете надеть фланелевую пижаму, запереться в ванной, зажечь старую новогоднюю свечу, которая была там с тех пор, как вырубило свет, подстелить под зад пару полотенец и почтительно водрузить резинового Снупи на фарфоровый столик, но серьёзно, кого этим можно одурачить? Не вас, и это приводит нас к золотому правилу всех духовных практик:
Если ты не дурачишь себя, в чём тогда смысл?
Истинная цель всех духовных практик – держать себя в дураках, утвердиться в самообмане, видеть то, чего нет, и не видеть то, что есть. Вот почему заявленные цели всегда не поддаются проверке и плохо определяются: их не нужно достигать, к ним нужно стремиться. Кто хочет пробудиться? Когда маленький зуд угрожает разбудить нас посреди ночи, мы хотим почесать его, чтобы он ушёл, а не чтобы он разогнал наши сладкие сны. Здесь – то же самое. В этом смысле духовная практика – медитация, например – на сто процентов эффективна. Если духовная практика удовлетворяет ваше побуждение делать что-то духовное, если она внушает вам, что вы прогрессируете, если она чешет ваш зуд, не прерывая сна, тогда она выполняет именно то, что должна.
***
Что говорить и зачем? Я размышлял над этими вопросами, когда мы с Бобом шли вниз по холму, возвращаясь обратно. Он продолжал проталкивать свои идеи о духовно возвышенном человечестве, а я продолжал противодействовать ему, больше из привычки, пожалуй, чем из надежды или веры, что у меня получится его пробить. Я знал, что наши разговоры, возможно, попадут в книгу, и помнил об этом. В противном случае, мне абсолютно нечего и незачем было бы говорить.
— Вы и ваши альтернативные люди, видимо, обвенчались с идеей, что мы здесь играем в какую-то игру с системой зачёта баллов, – говорил я Бобу, когда вновь настала моя очередь, – как будто вы зарабатываете кармический уровень, или приз в космическом каталоге подарков – какую-нибудь чудесную путёвку на вечный отпуск в место, где нет правил, которые вам не нравятся. Вы косметически заделываете какие-то мелкие проблемы на поверхности, но реальный материал, с которым вы должны иметь дело, находится внутри вас и так глубоко, насколько вы можете зайти, что намного глубже, чем вы можете себе представить, пока действительно не зайдёте. Вы просили меня высказаться, Боб, и я скажу. Я знаю тех духовных людей, о которых вы говорите. Я был знаком со многими духовными людьми всех путей и систем – я видел их теми глазами, которые есть и у вас, но которыми вы никогда не пользовались. Это дилетанты, любители, дезертиры из своих жизней. И это измеряется не мнением, но прогрессом. Их духовность лишь на поверхности – эгоистическое приукрашивание, тактика уклонения. Лучше смотреть по-другому, думают они, чем быть другими. Духовность — это то, что должно было изменить нашу жизнь, полагали они, а не вызвать её крушение.
Он качал головой, словно я опять ничего не понял. Он начал защищаться, но я надавил.
— Вы не согласны со мной, – продолжил я, – потому что вы никогда не видели, где проходят реальные духовные сражения, где духовный прогресс похож на медленное и методичное срезание с себя кожи опасной бритвой, слой за слоем, каждый более болезненный, чем предыдущий. Вы убедили себя, что эго — это что-то маленькое и банальное, подобно привычке, которую можно отфутболить. Представьте, что вам отрубают голову. А теперь представьте, что это делается не за один удар, а мелкими кусочками. А затем представьте, что вы делаете это сами.
Он скорчился.
— Вы даже не знаете о таких вещах. Деньги и толпы текут в направлении красивых сказочек, где всё прекрасно и все живут вечно и счастливо. Все хотят сказок, и получают их, и эго живёт вечно и счастливо.
Во время всей прогулки я кидал мячи для Майи, которая, сперва радостно кинувшись, потом отвлекалась на странные и волнующие запахи вдоль дороги, и мне приходилось, прихрамывая, самому собирать мячи, чтобы потом снова бросить.
— Ваша оценка выглядит чрезмерно пессимистичной, – сказал он без энтузиазма.
— Я бы так не сказал, – сказал я, – поскольку я не вижу ничего неправильного, но да, в конце концов, моя оценка состоит в том, что люди существуют в таком предельном состоянии, что это больше похоже на кому, чем на жизнь, поэтому это звучит пессимистично. Я был бы рад перестать говорить.
— Продолжайте, прошу вас, – сказал Боб тихо.
Мы подошли к изогнутой части дороги с ограниченной видимостью.
— Вы видите Майю? — спросил я.
— Не так, как вы, — сказал он, – но из чего я делаю вывод...
— Мою собаку, Боб, вы видите мою собаку?
Я коротко свистнул, и через несколько секунд она, подпрыгивая, появилась из-за угла позади нас, и нарвалась прямо на свежую погоню за теннисным мячом.
— Для многих искренних людей, как вы, – продолжил я, – духовность — это прогулка в парке солнечным днём, голова кипит красивыми идеями о мире во всём мире и доброй воле к человеку. Это мягкая духовность, полная лёгкой концентрации, неяркого освещения и приятной музыки, всё такое мягкое и пушистое, всё движется к некой очень важной кульминации, которая никогда, по всей видимости, не наступит. Любой, кто вовлечён в действительный процесс пробуждения, видел бы такое легкомыслие так, как мужчина на кровавом поле боя видит детей, играющих в войну во дворе. Вы говорите о революции, но революции не похожи на полуденные чаепития из тонких фарфоровых чашек с оттопыренным мизинцем, это адский кошмар, от которого вы не можете проснуться. Реальная духовность это жестокий бунт, восстание угнетённых с лозунгом «Свобода или смерть!». Это не то, что люди делают, чтобы улучшить себя, или заработать заслуги, или впечатлить друзей, или чтобы найти бóльшую радость и смысл в жизни. Это самоубийственная атака на врага, невообразимо превосходящего по силе.
— Как Давид и Голиаф, – предложил он.
— В общем-то, да, хорошая аллегория. Наш Голиаф огромен, силён, хитёр и всевидящ. Наш Давид тщедушен, слаб, глуп и слеп. У него нет никакого преимущества в этой битве, кроме страстного желания биться и его камня. Можно сказать, что камень — это истина, а истина убивает гигантов. Истина уничтожает всё. У Голиафа есть вся мощь и преимущество, кроме истины, и поэтому мы можем сражаться и победить: у нас есть истина, а у Майи нет. Однако, это не дело одного броска, когда Давид метает камень, и Голиаф опрокидывается замертво. Это долгая, ужасная битва, потому что мы сами являемся как другом, так и врагом – как Давид, так и Голиаф обитают внутри нас. Каждый дюйм отвоёванной земли забирает всё, что у нас есть. Уроки не приходят в виде маленьких причудливых аллегорий и иносказаний, но в виде невосполнимых утрат – урок за уроком, утрата за утратой. Каждый шаг — это потеря, и до тех пор, пока есть ещё что терять, остаются ещё шаги. Всё потеряно. Ничего не приобретено.
— Значит, вы говорите, что я должен...
— Вовсе нет, Боб. Я не подстрекаю вас к бунту или к объявлению восстания. Царство сна — это величайший парк развлечений, я никогда никого не стал бы уговаривать пытаться сбежать из него. Это было бы абсурдом, как предложить кому-то совершить самоубийство для его же блага.
Несколько мгновений Боб молчал. – Чёрт, – промолвил он наконец.
25. Карнавализация
Человек подобный ребёнку — это не тот, чьё развитие остановилось, напротив, это человек, который даёт себе шанс продолжать развиваться намного дальше большинства взрослых, закутавшихся в коконы привычек и условностей среднего возраста.
– Олдос Хаксли –Смерть витала в воздухе.
В моей жизни было два человека, значительно помогавших мне в моих скромных финансовых делах. Можно сказать, никто из них ничего не делал, и не выставлял счетов, однако было всё сделано и за всё заплачено. С Кларком мы общались в основном за обедом, а с Норманом – по телефону. Оба они были из другой эры Нью-Йорка, оба уже наполовину отошли от дел и были практически членами семьи, когда я был ещё ребёнком. Кларк умер несколько лет назад, а Норман, подмигивающий, пьющий бренди, вечно при галстуке чемпион по джин-рамми[19], умер незадолго до того, как я должен был ехать в Вирджинию с помощью Лизы, чтобы произнести прощальную речь Брэтт.
Именно Норману я позвонил, когда хотел купить дом в Ахихик, и мне нужно было как можно скорее перевести мои скромные активы в наличность с наименьшими налоговыми последствиями. Я доверил ему законное право действовать от моего лица, а он придумал и претворил в жизнь решение, которое дало мне то, что было нужно и в требуемый отрезок времени.
Но Норман оставил кое-какие незаконченные дела, так что мне пришлось ехать в Нью-Йорк и НьюКанаан, чтобы завершить их. Я был в Коннектикуте, где остановился на ночь и утро, когда зачирикал мой новый знакомый ненавистный одноразовый телефон. Это была Лиза, она звонила, чтобы сообщить мне, что Фрэнк, её отец, умер. Сердечный приступ во сне, сказал она. Ей необходимо было привезти тело обратно в штаты для процедур и похорон на семейном участке кладбища рядом с её матерью, которая умерла в прошлом году.
Естественно, я освободил её от любых обязательств, которые она чувствовала относительно нашей поездки в Вирждинию, но она уверила меня, что сильнее чем раньше желает предпринять эту поездку, и что раз уж мы оба в штатах, то может быть, нам встретиться на пару дней раньше и совершить это путешествие в менее напряжённом режиме.
***
Мы пересеклись в Национальном аэропорту Рейгана, рядом с границей Вашингтона. Я просил её взять напрокат комфортабельный седан, но она взяла классом выше величественно-чёрный «Линкольн Навигатор», объяснив это тем, что хочет, чтобы эта поездка была особенной, и что она оплатит разницу. Нам нужно было проехать всего пару сотен миль, и мы могли это сделать за один раз, но решили растянуть маршрут на два дня и до пятисот миль, сперва отправившись на восток, затем неторопливо повернуть к югу, и потом на запад, останавливаясь и заезжая куда-нибудь по пути, если захочется, избегая большие города, скоростные трассы и туристические поля сражений Гражданской Войны, насколько возможно. Из-за ограниченности во времени назад в Вашингтон нам придётся ехать прямиком через Блю Ридж Хайлэндс и Долину Шенандоа, всю дорогу проделав ночью, что мне особенно по душе.
Я и Лиза в этот период прощались не только с другими людьми в своей жизни, мы также прощались друг с другом. Когда мы приедем в аэропорт, я сяду в самолёт, и мы, вероятно, больше никогда не увидимся.
Почти всё утро мы ехали не спеша. Остановились пообедать на веранде с видом на доки причудливо обшарпанной пристани, запивая чесапикские[20] устрицы холодным пивом.
Я не мог сказать этого Лизе, но было заметно, что за последние несколько месяцев, в течении которых мы были знакомы, она стала очень привлекательной. Для меня это не было сюрпризом – я видел, как многие искусственно привлекательные люди становились подлинно привлекательными уже на ранних стадиях перехода из искусственной индивидуальности в подлинную. Когда мы познакомились, Лиза была привлекательной в другом смысле – деловой, городской/провинциальной женщиной, всегда бодрой заботливой мамочкой; всё у неё было в порядке – косметики не много, но она всегда присутствовала, волосы пострижены так, чтобы за ними было легко ухаживать, и всегда уложены, аксессуары тщательно подобраны. Теперь она от всего этого отказалась, и в то же время всё это стало ненужным. Она стала сама собой, и теперь её привлекательность исходила скорее изнутри, нежели чем из универмагов, клубов здоровья, или из ежедневных обрядов причёсывания и прихорашивания. Она выглядела прекрасно в джинсах, теннисных туфлях и футболке, волосы завязаны назад или распущены. Она была более здоровой и счастливой, что выражал её внешний вид.
В течение тех нескольких недель, которые она провела со мной в Мексике, её тело, ухватившись за столь редкую возможность, подверглось глубокой физической трансформации. Поначалу она сходила с ума, осознавая, что ей приходится сражаться с целой уймой недоброкачественных симптомов, к тому же её дискомфорт ухудшался из-за общего беспокойства. На моём опыте всё это было довольно обычным, я утешал её и уговаривал расслабиться в процессе и довериться ему. Её тело не упустило своего шанса, приведя себя вновь в гармоничное состояние после стольких лет чрезмерного натяжения во всех направлениях. Оно выпускало множество накопившихся токсинов, смешивая и переваривая их всех разом. Для того, кто плохо спит и ест, чьи нервы измотаны постоянно присутствующими электромагнитными полями, кого со всех сторон бомбардируют сводящими с ума изображениями и сообщениями из всех средств информации, кто постоянно задыхается под давлением работы, семьи, времени, для кого даже отпуск является организованным безумием, и кто, прежде всего, считает это состояние нормальным и здоровым, для такого человека истинное расслабление может стать подобным новому рождению.
Самая важная вещь — это сон. Первое, чего желает тело, — это отключиться, и люди, которые не спали больше пяти-шести часов годами или десятилетиями, приходят в шок, погружаясь в глубокий непрерывный сон на десять-двенадцать часов подряд, ночь за ночью, плюс к тому короткий сон в дневное время. Им кажется это чем-то мистическим или духовным, и так оно и есть, но не в том смысле, как они думают – это простой мистический и духовный образ жизни. Они не просто спят, но спят хорошо, и просыпаются глубоко отдохнувшими и удовлетворёнными, так что это кажется им новым, чудесным и удивительным. Они оживают и молодеют. Быть может, с детства они не испытывали ничего подобного, и уже не думали, что такое возможно.
По-видимому, всё главным образом зависит от того, насколько сильно они перекосились. Когда телу позволяют восстановиться и исцелиться до своего естественного состояния, начинает происходить целое множество кардинальных изменений. Изменяются вкусы, вредные привычки естественным образом отпадают. Годы спадают с внешнего вида. Килограммы спадают тоже, возвращается здоровый тонус кожи и мышц. Не в первый же день, конечно, но удивительно быстро. Поразительно, каким жизнеспособным и прощающим может быть тело.
В случае Лизы ей нужно было ещё преодолеть некоторые зависимости от химических веществ. Её тело развило в себе слишком большое пристрастие к кофе, диетической содовой воде и нескольким прописанным лекарствам, и прошёл месяц, прежде чем она смогла без напряжения снизить дозу до такой степени, когда она могла утром выпить со мной чашку кофе с нормальным октановым числом и остановиться на этом. Не знаю, какие у неё были алкогольные привычки, но у меня было такое чувство, что пара стаканов вина пару раз в неделю означали уменьшение дозы.
Этот период, что довольно естественно, может быть также очень эмоционально напряжённым, и Лиза рассчитывала на мои советы, поэтому я дал ей мантру: отдых, дыхание, плавание, прогулки. Отдых, дыхание, плавание, прогулки. Отдых, дыхание, плавание, прогулки.
Ум гораздо медленнее освобождается от ядовитых мыслей, чем тело восстанавливает своё здоровье. Лиза испытывала внутренний конфликт, исходящий из глубоко укоренившихся взглядов на продуктивность и управление временем. Спать полдня было ленью и бессовестностью. Дневной сон был публичным оскорблением её рабочей этики. Всё время ничего не делать было для неё большой проблемой. Ей нужно было бороться, чтобы просто увидеть, что, возможно, нет необходимости постоянно чем-то заниматься. В первую неделю нашего знакомства посидеть пять минут молча могло свести её с ума. Просто согласиться с тем, что иногда ничего не делать может не быть таким ужасным, было для неё серьёзной уступкой. Сейчас ей было уже намного лучше, но вирус продуктивности ещё заражал её систему.
Это даёт небольшое представление о происходящей с людьми трансформации, когда они перестают подвергаться бесконечной бомбардировке нападок и стрессов, которые так много людей считает нормой. Уверен, есть много хороших книг о пользе выхода из этого ада назад в свою природную стихию, поэтому я не буду распространяться здесь об этом, скажу лишь, что для Лизы это было чрезвычайно благотворно. Она практически во всех отношениях стала совсем другим человеком – более здоровой, более молодой, уравновешенной и лучезарно привлекательной – чем была, когда мы встретились. Хоть работа всё ещё продолжалась, но до сих пор выходило очень хорошо.
***
— Я всё-таки не понимаю, зачем вам нужен ассистент в путешествии, – сказала она. – Нет, я конечно благодарна за эту возможность, но вы кажетесь абсолютно способным сами улаживать свои дела.
Во время этого путешествия с Лизой я сделал попытку быть более разговорчивым, чем обычно. Я рассказывал о себе – маленькие эпизоды, истории из моей жизни, не столько биографичные по содержанию, сколько относящиеся к процессу. Я пытался показать ей кое-что, помочь увидеть, как работает мир в реальности, и как мы работаем в нём и с ним. Есть несколько книг, которые могут ей пригодиться на ранних стадиях, но она быстро их освоит и пойдёт дальше, и тогда она останется одна. Для меня этот процесс открытий был и остаётся чудом, но наши обстоятельства сильно отличаются. Я хотел, чтобы в ней сложилось чувство, что она сама может входить в любые пространства, и когда наши пути разойдутся, она имела бы представление о своём новом «я» и о своём новом месте в мире, кто она и где.
— В общем-то, всё дело в людях. Много лет назад я осознал, что мой контакт с, ээ, знаете, нормальными людьми должен оставаться минимальным.
— На это было указано? – спросила она игриво.
— По сути, да, – ответил я.
Она улыбнулась и кивнула, подталкивая меня к разъяснению.
— Окей, – сказал я, – давайте попробуем. Ну, в общем, дело было в Мексике, в каком-то маленьком грязном городке в часе езды от границы, не помню точно где. Я стоял у стойки в гостинице, пытаясь организовать замену сломавшейся арендованной машины, когда женщина за стойкой высказалась по поводу ужасной жары. Так вот, набирая телефонный номер, я совершенно без задней мысли сказал ей: 'No diria eso si era muerto”.
Потрясённая, Лиза громко засмеялась.
— «Вы бы не стали так говорить, если бы были мертвы»?
— Ну, да.
— Господи, вы так сказали?
— Ну, да.
— О боже мой, Джед, нельзя говорить такие вещи. Люди не приходят в восторг, когда им такое говорят.
— Я не думал. Я просто сказал то, что сказал бы в ответ любому студенту, который жалуется на тривиальности, в том смысле, что каждый день – лучший, что это не генеральная репетиция и прочее. Так вышло, что я знал эту фразу на испанском. Мне она показалась забавной.
— Могу поспорить, ей так не показалось, – сказала Лиза.
— Я ничего не имел в виду под этим, – сказал я, чувствуя необходимость оправдать свой промах. – Я никогда не стараюсь быть умным, или мудрым, или проницательным с незнакомыми людьми. Это просто выскочило, как стандартная реакция, о которой даже не думаешь. И даже до сих пор я не понимаю, почему она обиделась, и поэтому, полагаю, мне нужен ассистент в путешествии. Говорить честно нельзя, а я ненавижу молоть чепуху, так что я лучше буду избегать контактов с людьми, когда это возможно. Сонайа заметила, что я скорее проеду не останавливаясь через всю страну, чем буду иметь дело с билетёрами, администраторами гостиниц, заказами по телефону, очередями и прочим, поэтому она стала просто посылать кого-нибудь со мной, и поездки стали в десять раз лучше.
Это лишь один небольшой пример. Разобщённость между мной и нормальными людьми проявляется всё время во многих разных видах, всегда благодаря тому факту, что я нисколько не притворяюсь кем-то. Чтобы общаться, взаимодействовать, я должен играть себя. От этого я чувствую сильный дискомфорт, и у меня плохо получается. Моя маска неубедительна, и обман легко распознаётся. Люди не знают, что именно они распознают, но они знают, что что-то здесь не так. Даже если они этого не понимают, то каким-то образом чувствуют, что я мошенник. В этом, пожалуй, есть доля иронии.
— Она обиделась? – Сонайа?
— La mexicana.
— Ах, да, она взбесилась. Подумала, что я угрожаю убить её. Через пять минут об этом знал весь город. Какой-то убогий городок на распутье дорог, и вот, какой-то гринго угрожает убить местную abuelita[21]. Из соседнего бара все прибежали посмотреть, что происходит, её босс вышел из офиса со стальной трубой в руке, появился начальник полиции, который оказался братом той женщины. Все кричали друг на друга, размахивали руками, утешали женщину. Вот это было представление. Эмоции хлестали через край. Карнавал, ей-богу.
— О, господи. Вы им объяснили?
Я рассмеялся.
— Мне не дали и слова вставить. Сумасшедший дом. Это продолжалось с полчаса. Всё было похоже на Голливудскую съёмочную площадку, словно все прямо из основного актёрского состава. Вообще-то, я всех людей так вижу, но здесь это было особенно ярко выражено. Я просто расслабился и старался получать удовольствие от спектакля.
— Вы с ума сошли? Они ведь думали, что вы хотите её убить. Удивительно, как они не выпотрошили вас и не бросили в пустыне.
— Мы не в их руках, брат мой, но в божьих.
— Брат мой? Простите?
— Ах, это просто одна хорошая цитата. В «Генри V» герцог Глостер волновался, что французы нападут, когда англичане будут самом невыгодном положении, и так ответил ему Гарри: «Мы не в их руках, брат мой, но в божьих». Гарри был взрослым человеком – король страны в состоянии полной сдачи, он угрожал изнасиловать дочерей, размозжить головы стариков, насадить детей на копья, выступая со своей кучкой голодранцев против превосходящих сил врага, потому что на это было ясно указано. Не так уж часто можно встретить это в книгах или пьесах.
— И какое это имеет отношение к тому, что вас собиралась выпотрошить разъярённая толпа?
— Вы опираетесь на веру, что это была их воля, что это они сделали выбор. Мысль о том, что кто-то с ножом, или пистолетом, или кучей денег, или ядерным арсеналом обладает какой-либо силой, выходит за пределы моих возможностей воображения. Я не могу представить, что такое возможно даже гипотетически.
— Вы говорите, что никакой опасности не было?
— Никогда нет никакой опасности, разъярённая ли толпа – что? выпотрошит меня? – выпотрошит ли меня разъярённая толпа или нет. Сломаю я шею, упав с мотоцикла, или нет. Поднимутся ли все народы мира против меня или нет. Если вселенной угодно, чтобы меня выпотрошили и выбросили в пустыню, я целиком за, а если нет, то никакая толпа, никакое правительство или закон физики не сможет заставить это случиться. И это неизменные и абсолютные условия моего существования. Это не то, во что я верю, это просто то, что есть.
Я не знаю, как высказать это лучше.
Она в тревоге покачала головой.
— И для вас это нормально?
— Для меня это жизнь, и для вас теперь тоже. – Я отставил свою тарелку и отодвинулся на пару дюймов от стола. – Как вы, наверно, успели заметить, я не словоохотлив. Истории, которые я вам тут рассказываю, это ваши новые истории. Я – взрослый в мире, где вы – всего лишь дитя, и я рассказываю всё это, чтобы помочь вам вырасти и создать свои собственные истории. Теперь мир не для вас – куда бы вы ни пошли, вы будете чужой. Нет ни семей, ни кланов, ни племён, ждущих, чтобы приветствовать вас, показать вам местность, объяснить, как всё работает. Нет никаких аппаратов, готовых принять вас, научить и защитить. Вскоре вы выйдете за пределы той точки, где вам кто-либо сможет помочь, потому что теперь вы взрослый человек, а это мир детей. У вас не будет меня, и возможно, вокруг не будет никого старше вас, даже в книгах. Я говорю с вами, стараюсь быть чуть более открытым и разговорчивым, потому что вы останетесь одна в мире, и вам будет очень легко найти какую-нибудь колею и застрять там. – Такое может случиться?
— В основном так и происходит. Для этого есть все условия. Мир полон тёплых тёмных норок, в которые вы можете упасть.
— У меня никого не будет? – спросила она несчастным голосом. – У меня не будет вас? – У вас будете вы сами. Это всё, что вам нужно.
— Неужели я сделаю это? – спросила она. – Заползу обратно? Найду норку, чтобы спрятаться?
— Несмотря на почти абсолютную статистическую вероятность этого, мне кажется, нет. Я могу ошибаться, я не силён в этом, но насколько я могу судить, вам уготовано нечто большее. В должны попытаться понять, что такое страх, иначе он захватит вас, и вы никогда даже не узнаете этого.
***
Мы вышли из ресторана и пошли побродить по берегу.
— Так, чем всё закончилось? – спросила она.
— Когда?
— С толпой? В Мексике?
— А, да ничем. Шеф полиции довёз меня до границы и сказал, чтоб я никогда не возвращался в его страну.
— Они вышвырнули вас из Мексики?
— Ну, – я пожал плечами, – это было довольно неформально.
— Похоже, у вас много проблем с законом.
Я снова пожал плечами.
— Совсем никаких проблем. – И что вы делали потом?
— После того, как он выгрузил меня у границы? Аннулировал свои кредитные карты. Заявил о том, что у меня украли паспорт и дорожные чеки. Получил деньги переводом.
— Они украли ваш бумажник?
— Конечно, всё, что у меня было с собой, и рюкзак, который я оставил в машине. Она покачала головой, расстроенная мелочной продажностью. – Сволочи, – сказала она.
— Каждый просто играет свою роль, – сказал я. – Нет причин принимать что-либо на свой счёт. Она долго смотрела на меня искоса.
***
Мы сели обратно в «Навигатор» и выехали на дорогу. Около часа мы ехали в тишине, хотя я слышал довольно сильный шум в голове Лизы.
— Мне кажется, я больше никогда не смогу относиться к людям как раньше, – сказала она наконец. – Мне кажется, я никому не смогу больше доверять.
Несколько минут я молча наблюдал сменяющиеся картинки – это счастье быть здесь, с Лизой, счастье ехать помянуть Брэтт, счастье быть. Неужто это мой последний день? Неужто это мои последние моменты? Неужто вечно нависающий надо мной палец смерти должен вот-вот опуститься? Эта мысль наполнила меня нежным приливом радости и окунула мир в красоту.
— Люди — это клочки пыли, – наконец ответил я, – маленькие пушинки и паутинки, собравшиеся в тени и тёмных углах и удерживаемые вместе страхом. Если видишь их ясно, доверять им становится очень легко. Я всем доверю и никогда не бываю разочарован. Вы тоже так можете.
— Трудно в это поверить.
Нужно доверять людям не то, чтобы они не предали вас, или не разбили вам сердце, или не украли кошелёк – просто доверять им, чтобы они были теми, кто они есть. Когда ты понимаешь страх, когда отходишь от него на расстояние и видишь, что он из себя представляет и как действует в этом мире, тогда понимаешь про людей всё. В бытии с закрытыми глазами всё вытекает из страха – хорошее и плохое, смелость и трусость, любовь и ненависть, всё вытекает из одного источника.
— Как же можно доверять, если знаешь, что тебя могут предать?
— Вы сами ответили на свой вопрос – потому что ты знаешь. Всё, что с закрытыми глазами казалось таким загадочным и неизвестным, становится ясным и очевидным, когда мы открываем их. Это требует времени, опыта, усилий, чтобы стать взрослым, точно так же, как вам потребовалось время, опыт и усилия, чтобы стать тем, кто вы сейчас. Жизнь — это процесс постоянного становления и обновления, движение в направлении более ясного видения и большей простоты и уменьшение видимой разделённости между «я» и «не-я». Таким будет мир для вас, если вы продолжите движение вперёд. Всё будет совершенно по-другому. – Если я продолжу, – произнесла она уныло.
— Когда вы заберётесь повыше и увидите более широкую картину, личные черты людей станут размываться, и вы будете распределять их по тому, в какой норке они прячутся. – Звучит как-то цинично.
— Примерьте-ка вот это: жизнь не имеет смысла и все убеждения ложны.
— Это совсем уж цинично.
— Я думаю, циничность — это термин для закрытых глаз. Вам он больше не нужен. Ваши амортизированные, основанные на размышлениях отношения со своей средой теперь устарели, как и большая часть вашего лексикона. Вы проделали этот громадный переход, настоящий сдвиг парадигм, но ваша инфраструктура пока ещё отстаёт. Вы совершили революцию, свергли деспотический режим, а теперь настало время править, мудро руководить, направив это новоявленное островное государство в будущее, где оно будет расти и процветать. У вас есть люди, о которых нужно подумать – Мэгги, Диджей, и возможно, Дэннис. Возможно, также и другие. Раньше вы были матерью и женой, а теперь кто вы? Мэгги находится в критическом возрасте, ей и так уже пришлось столкнуться с довольно необычными вещами – она наблюдала ваш кризис, работала со своим дедом, допрашивала меня. Что вы собираетесь с ней делать?
— Возможно, я должна найти норку, – сказал она хмуро, – найти Иисуса. Может быть, так будет лучше для всех.
Я кивнул.
— Может быть.
***
— Спасибо вам, что говорите со мной, – сказал она. – Спасибо, что рассказываете мне всё.
— De nada[22].
— Не могу поверить, как изменилась моя жизнь. Вот я, здесь с вами, в каком-то странном предприятии, чем бы оно ни было. Это совершенно неправдоподобно. У меня такое чувство, что я сейчас проснусь рядом с Дэннисом, выключу будильник и начну новый день, забыв об этом безумном сне о новой жизни. – Её начало немного трясти. – Что я здесь делаю?
— Почему вы думаете, что вы здесь? – спросил я. – Отойдите на шаг назад от событий и спросите себя беспристрастно: что происходит? Несколько месяцев назад вы были адвокатом, женой, провинциальной мамочкой и всё такое, а теперь, вот, вы ведёте этот большой чёрный катафалк через Вирджинию...
— С Джедом МакКенной, – вставила она.
— С одним пробуждённым существом по дорогое на панихиду по-другому. Для вас это может стать хорошим шансом, чтобы подумать о том, что происходит и почему.
Несколько мгновений она молчала.
— А вы знаете? – спросила она.
— Я знаю про себя.
— Вы знаете, что будете говорить?
— В общих чертах. Мэгги подала мне идею «расскажи и покажи», это я и собираюсь сделать.
— Правда? И что вы собираетесь показать?
— Две вещи. Одну, как вы знаете, мы надеемся найти в целости и сохранности ожидающей нас в гостинице.
— А другая? Что ещё вы собираетесь показать?
Я протянул руку за водительское сиденье, достал из пакета её ежедневник и положил его на консоль между нами.
— Вас.
26. Пост-утробная беременность.
Преувеличивая и восхваляя, с самого начала переплачивая старых скупых торгашей, сам становясь размером с Иегову, литографируя Кроноса, сына Зевса, и Геракла, его внука, я покупаю изображения Озириса, Изиды, Ваала, Брамы, Будды; небрежно бросаю Манито в свой портфель, Аллаха на листе бумаги, гравюру распятия, с Одином и безобразным Мекситли – и каждый идол и образ. Я даю за них столько, сколько они стоят, и ни центом больше, допуская, что они когда-то были живы и трудились для своего времени, (они внесли свой скромный вклад для неоперившихся птенцов, которые теперь должны сами встать, взлететь и запеть).
– Уолт Уитмен –Лиза завезла нас неизвестно куда, что впрочем, было очень приятно. Мы не спешили, поэтому она, придерживаясь основного направления, сворачивала на более пустынную дорогу, когда только
представлялась возможность. Так мы петляли больше двухсот миль. День близился к вечеру, мы оба немного устали от езды, поэтому остановились в маленьком городке у реки, чтобы найти место, где пообедать, и гостиницу с парой номеров.
Лизе не понравилось, когда я сказал ей, что она должна будет выступать перед группой на ферме Брэтт. Отказываясь, она приводила тот довод, что у неё нет ни знания, ни понимания духовных материй, и поэтому она была неподходящим кандидатом на выступление перед группой преданных духовных искателей. Я сказал ей, что за свой короткий путь она оставила далеко позади их всех, но она настаивала на своём решении не выступать.
— Я понимаю ваше нежелание, – сказал я, – но почти уверен, что вы всё же выступите. Это просто шаблон, который можно легко увидеть.
Она нашла прелестную старую гостиницу, и мы припарковались, но никто из нас не был сильно голоден, так что мы сначала решили размять ноги и посмотреть город.
— Как это чувствуется – быть сиротой? – спросил я её.
— Боже, я не думала об этом таким образом, – засмеялась она. – Я сирота. Так странно это говорить, как «я замужем», или «я больше не девственница».
— Может быть, это не столько новый статус, сколько нон-статус.
Хм, не знаю, я так не чувствую. Я не знаю, что я чувствую.
— Не хочу показаться равнодушным, но я бы хотел обратить ваше внимание и оценить то, как вселенная обеспечивает ваш переход – это впечатляет. Не знаю, ясно ли вам это сейчас, но то, как у вас отобрали прошлое и выложили перед вами будущее...
— Вы правы, – сказала она резко, – мне это не вполне ясно. Наверно, вам это видно яснее.
Я принял это за неохотное приглашение продолжить.
— Все силы мира трудились не покладая рук, чтобы создать и ублажить вас – заимствуя у Уитмена. Именно вы дали всему этому толчок. Вы продемонстрировали чистое намерение не просто словами или мыслями, но действиями. Когда мы поступаем так, вселенная естественным образом становится более сговорчивой, чем мы обычно о ней думаем. Она начинает подстраиваться под нас, а мы под неё. Так происходит тогда, когда видимое разделение между «я» и «не-я» начинает растворяться. Именно это и происходит с вами, и эта намного более отзывчивая, уступчивая вселенная теперь ваша новая реальность.
— Это звучит так, как будто вы имеете в виду, что мои родители умерли из-за той ситуации, в которой я оказалась.
— То есть, не окажись вы в этой ситуации, ваши родители не умерли бы? – Не знаю, – сказал она после паузы.
— Я тоже не знаю. Я знаю только то, что могу видеть, глядя снаружи, и вот, на первых стадиях жизни в качестве интегрированного существа с вами обращаются как со звездой – огромные количества биографического багажа выметаются, предоставляется возможность общаться со мной, ваша будущая жизнь, полная покоя, свободы и непрерывного роста, выложена перед вами, словно королевский пир... – Королевский пир? – переспросила она с оттенком горечи.
— Не работа официанткой в Корпус Кристи с большой причёской и толстым задом, – объяснил я. – Никакого вреда для вашего кредитного рейтинга, если вас это ещё волнует. Вы получите хорошенькое маленькое наследство, как говорил ваш отец.
Какое-то время мы шли молча. Я чувствовал необычное побуждение вмешаться. Уже скоро у Лизы не будет возможности иметь меня под рукой, и было бы неплохо побыстрей провести её через эту неприятную стадию, когда начинают резаться зубы, и довести до той точки, где она сможет сама немного о себе позаботиться. Трудно поверить, но большинство людей, зайдя так далеко, как зашла она, закапываются в норку и отказываются идти дальше. Они сворачиваются в позе эмбриона, зажмуривают глаза и живут, будто они ещё в утробе. Это звучит слишком странно, чтобы быть правдой, но среди тех, кто прошёл через переход смерти-перерождения, это так распространено, что почти является нормой. Мне бы не хотелось видеть, как Лиза остановится, не начав. Обычно я не вмешиваюсь, не потому, что у меня какое-то правило насчёт этого, но потому, что не испытываю в этом потребности. Сейчас я испытываю такую потребность, поэтому вмешиваюсь.
— Я скажу, что вам следует услышать, даже если вы не спрашиваете. Вы прошли через смерть и рождение, вы пережили огромные изменения и потери, но теперь эта часть окончена, и настало время открыть глаза и начать постигать жизнь. Это совершенно новый мир, а вы – совершенно новое существо. Именно на это всё было направлено с тех пор, когда та фотография впервые пронзила ваше сердце – вся боль, страдания, потери, болезненные решения, личные измены, всё это вело сюда. Теперь эта часть окончена. Вы больше не личность. Теперь вы должны всё это отпустить и двигаться вперёд, а иначе, всё было впустую.
Она резко остановилась в раздражении. А я продолжал идти, направляя свои шаги в ближайшие окрестности, мечтая, чтобы со мной была моя собака.
***
Представьте мужчину, потерявшего работу и погрузившегося в отчаяние, так как он отождествлял себя со своей работой до такой степени, что её потеря означала потерю себя как человека. Представьте женщину, с которой происходит тот же кризис идентификации из-за развода, с сопутствующей потерей основной идентификационной структуры. Представьте родителей, чья жизнь теряет весь смысл из-за потери ребёнка. Или того, кто теряет всю надежду и радость из-за плохих новостей от доктора. Подобные потери могут заставить нас чувствовать, что мы утратили свой центр. Нам может показаться, что мы никогда не восстановимся после них, и возможно, так оно и будет.
Когда мы верим в мир вне нас самих, приобретения воспринимаются как нечто хорошее, а потери – как плохое. Когда мы перестаём верить в мир снаружи себя, всё переворачивается: приобретения становятся плохим, а потери – хорошим. Всё, что мы можем потерять, никогда нам не принадлежало с самого начала.
Всё, что мы можем потерять – иллюзия.
Используя фильм «Джо против Вулкана» в качестве параллели, можно сказать, что Лиза смогла перейти из бестолкового зануды, который уныло тащится по жизни, где всё известно заранее и однообразно, к вибрирующему осознанному существу, которое держит курс «прочь от всего человеческого». Как и в фильме, вселенная растянулась до казалось бы сверхъестественных размеров, чтобы обеспечить её переход. Она никогда не могла бы пожелать такого катастрофического переворота, так же, как Джо Бэнкс не мог желать прогноза «мозговой тучи» и надежды прожить всего несколько месяцев. Оглядываясь назад, однако, это ничего не изменило бы.
***
Эмерсон говорил, что человек является тем, о чём он думает в течение дня. (Будда предположительно говорил нечто похожее, но всегда, когда вы видите слова «Будда сказал...», ваша идиотская сирена начинает верещать, так что уж лучше пусть будет Эмерсон).
Я, похоже, уже ни о чём не думаю. Я не могу даже подумать о том, о чём надо подумать. Порой я пытаюсь подумать о чём-нибудь, поймать какую-нибудь мысль и поразмышлять её, но через секунду или две это просто проходит. Для меня мысль — это инструмент, орудие. И я достаю его только затем, чтобы что-то уничтожить. Это меч, но у меня ничего не осталось, над чем им можно было бы помахать. Время от времени я беру его и рассекаю им воздух, но это просто пустые воспоминания старого солдата. О чём я могу подумать?
Религия? Политика? Бизнес? Искусство? Я пуст. Я, по мнению Эмерсона, ничто.
Моё основное состояние очень похоже на что-то вроде горько-сладкой радости. Я не обитаю в своих воспоминаниях, я даже не уверен, есть ли они у меня. Кажется, что у меня где-то в моём ментальном пространстве спрятана коробка старой киноленты, но идея вытащить её и предаться воспоминаниям о кое-как склеенных сценах жизни, с которой я не чувствую связи, выглядит не очень-то привлекательно. Я знаю, что был когда-то воином, но это не память о том состоянии бытия, это просто воспоминание о факте. В этом нет ни удовольствия, ни неудовольствия. Словно это знание о ком-то ещё.
Время от времени я залезаю на колокольню и проверяю, нет ли там летучих мышей. Я проникаю в свой череп, чтобы убедиться, что там всё в порядке – нет ли тёмных углов, кучек навоза, не тронута ли пыль. Как старый, безоружный ночной сторож делает свой обход, я быстро осматриваю помещения. Я не делаю это очень осознанно или внимательно – меня не слишком волнует, что там может что-то обнаружится, а если и обнаружится, то удалить это будет не так уж сложно.
Особенно к смерти я хотел бы оставаться немного более бдительным. Я не чувствую страха, меня не беспокоит, что я умру, я не придаю смерти никакой важности, но кажется, что она может тайком что-то протащить мимо меня, так что я присматриваю за ней. Я побывал в дюжине ситуаций за последние десять лет, когда я думал, что всё уже кончено, и моя реакция ни разу не приподнесла мне неприятных сюрпризов. В каждой ситуации я испытывал чувство заинтригованности, готовности, благодарности. Я не паниковал и не реагировал из страха, поэтому я не без причины уверен, что во мне не много притаившихся демонов смерти.
Было бы интересно, если б они были, но я так не думаю.
В этом отношении я нахожу любопытным свой отказ от приглашения толстого сержанта. Не то, что я сожалею, что не повернулся и не прокричал «Буу!», но не вполне понятно, почему я этого не сделал. Меня не слишком это волнует, просто любопытно. Не каждый день получаешь подобные приглашения, поэтому было бы правильным, пожалуй, оценить свою реакцию.
Моя повседневная персона — это ещё одна вещь, за которой я лениво наблюдаю. Я общаюсь, я присутствую в жизни других людей, и я должен лавировать по жизни – в моём существовании в царстве сна. Вот этому я уделяю внимание, но опять же, не много. Это не требует большого количества усилий или раздумий. Во мне работает эта штука – учитель/автор – но нет реальной опасности, что она затянет меня обратно в перинатальные состояния, обычно принимаемые за пробуждённую жизнь. Не думаю, чтобы что-то могло утащить меня обратно, но такая минимальная внимательность не повредит.
Многое из этого я включаю в книги. Сейчас, например, я приятно заинтересован «1984» Оруэлла, но если бы это не входило в контекст, предоставленный этой книгой, я бы и не открыл неё. Она не интересна лично мне, потому что нет моей личности, которая могла бы заинтересоваться. То же самое я могу сказать о том времени, которое я провёл в библиотеке у Фрэнка, выслушивая его энциклопедические знания о методах трансценденции, используемых разными культурами в разные эпохи, и его взгляды на дистопичнокорпоративное состояние мира. Это было интересным, постольку поскольку служило книге, но вне этого – нет. У меня нет подлинного, независимого интереса в чём бы то ни было, кроме прогулок, предпочтительно с моей собакой. Вот что значит быть полностью пробуждённым, просветлённым, реализовавшим истину. И так это было бы для всех. Сострадающий Будда, например, — это оксиморон, непримиримое противоречие. Это звучит красиво, но это полный абсурд, как любой, кто проработал теоретическую часть, может легко увидеть сам.
Меня забавляет мысль, что есть люди в мире, которые считают, что состояния реализации истины необходимо преданно желать и бороться за него. Сразу же начинают накапливаться противоречия. Его нельзя желать, поскольку его нет, как и «я», которое в нём обитает, хотя я обитаю в этом состоянии и не променял бы его ни за какое количество богатства, власти, красоты, детей, внуков или чего-либо ещё. Мне хотелось бы избежать громких рыночных слов как блаженство или любовь, так как я не чувствую, что они точно описывают это состояние, по крайней мере то, как эти термины понимаются теми, кто в нём не находится. Я счастлив, удовлетворён, обычно либо изумлён, либо радостно поглощён каким-либо занятием, и даже если мне скажут, что я точно умру через пять минут, моей реакцией будет лишь очистить ум, обратить внимание на то, какое чудесное время я провёл здесь, и позволить благодарности хлынуть и затопить меня.
Быть может, не хватало именно этого, когда сержант сделал мне то предложение – у меня не было бы возможности сказать спасибо и прощай этой замечательной, милой, непростой жизни. Подобный выход через заднюю дверь мог иметь свой неотразимый комический эффект, но он оставил бы этот огромный резервуар благодарности неопустошённым. Это было бы плохой смертью, и, вероятно, одной из последних вещей, которые посетили бы меня тогда, был бы приступ сожаления. Вот такой я сделал вывод, бродя по маленькому городку в Вирджинии. Когда придёт время уходить, хотелось бы иметь в запасе минуту-другую, чтобы сначала попрощаться. С усилием я направил внимание на это желание и отпустил его, уверенный в том, что оно, когда придёт время, будет исполнено.
***
Часом позже мы снова встретились с Лизой, и отправились в гостиничный ресторан. Усевшись за столиком на улице, мы заказали чай со льдом, и стали глядеть на воду.
— Мне кажется, человек не может заставить своё прошлое просто так уйти, будто его и не было, – сказала она, продолжая наш последний разговор, – как будто оно не было его частью.
Прибыли наши напитки, и мы сделали заказ.
— Не нужно заставлять прошлое уходить, – сказал я ей, – оно просто растворяется, как когда просыпаешься утром, мир сна, в который ты только что был погружён, постепенно исчезает и забывается. Когда это случается, ты знаешь об этом непосредственно, видишь это сам, без посредства людей или процессов. Весь остаток своей жизни вы будете считать того человека, которым вы были, и практически всех остальных, недоразвитыми и дефективными существами.
— Недоразвитыми и дефективными, – повторила она с неприязнью.
— Недоразвитыми, как ребёнок по отношению к взрослому, а дефективными, потому что застой в развитии — это ненормально. Что ещё можно сказать о создании, которое выросло и развилось в физического взрослого, никогда не выходя из утробы?
Она выразила отвращение.
— Какая гадость, – сказала она.
— Вот ещё что должно измениться, – сказал я, – это эгоистическая потребность судить, сортировать, навешивать на всё ярлыки. Она исчезнет, когда отделённость уступит дорогу тому, что есть. Это гораздо более расслабленный, требующий меньше внимания взгляд.
— Разве не для этого предназначен интеллект? – спросила она. – Судить? Взвешивать? Определять ценность и смысл? Я что, должна отказаться от своей способности к различению? Мне это не кажется правильным.
— То, что вы называете интеллектом, — это интеллект крысы в лабиринте, интеллект шимпанзе, складывающего друг на друга блоки, чтобы достать банан. Когда вы увидите реальный интеллект в работе во всём и всегда, вы больше никогда не будете думать о нём в человеческих терминах. Мышление, как инструмент навигации и понимания, — это ещё одна ненужная вещь, которая отбрасывается и забывается. Все наши мнения — это просто мини-убеждения, мусор, который мы повсюду таскаем за собой ценой своих жизненных сил. Склонность судить о вещах как о плохих или хороших, правильных или неправильных и так далее, просто отпадает сама собой, и энергия высвобождается. Уже скоро вы начнёте находить все мнения и убеждения довольно вредными, и естественным образом будете сторониться их источника, который есть эго.
— Не могу себе это представить, – сказала она, отхлебнув чая, пока я ковырялся в салате «Цезарь» в поисках признаков Цезаря. Салат-латук возвышался айсбергом, вокруг плавали клинообразные помидоры, оранжевый сыр в загадочном соусе из банки; единственным ингредиентом, гармонирующим с тарелкой, были тугие на зуб гренки.
— Похоже, вы судите свой салат, – заметила она с кислой миной. – Разве вы не удовлетворены тем, какой он есть?
Я рассмеялся.
— У меня есть личные предпочтения, вещи, которые мне нравятся и не нравятся. Никто не говорит о том, что нужно действовать определённым образом, или пытаться подстроиться под какие-то предвзятые мнения о том, каким ты должен быть. Это ловушка, и очень эффективная, судя по количеству человек, находящихся в ней.
— Не заметила, что вы попадаетесь во много ловушек, — сказала она. — Мы говорим не обо мне, — сказал я.
Она тяжело вздохнула.
— Зачем мы об этом говорим, можно спросить?
— Потому что я хочу причинить вам неудобство, — сказал я. — Хочу разозлить и досадить вам.
— У вас это получается.
— В каком контексте происходит этот разговор?
— То есть?
— Что мы делаем? – спросил я. — Что вы делаете?
— Я везу вас, чтобы вы могли произнести хвалебную речь Брэтт, я думала.
— Нет. Мой контекст — это книга. Я пишу книгу. Какой ваш контекст?
Она покачала головой.
— Не знаю. Пожалуй, я об этом не думала.
— Вам не нужно думать, – сказал я, – вам нужно только посмотреть.
***
Мы съели невдохновенную еду, и они унесли тарелки. Развернув стулья в направлении обзора, мы потягивали чай со льдом. Прошло несколько минут, прежде чем она заговорила снова.
— Я не знаю, как не различать плохое и хорошее, правильное и неправильное, – произнесла она после длинного интервала. – Как не судить? Это как утерять свой интеллект, свой персональный суверенитет, свой моральный компас. Как можно не делать этого?
Это непростой вопрос – можно легко наговорить лишнего. Я хочу помочь людям сделать следующий шаг и ненавязчиво предостеречь их от заглядывания за его пределы. В первой моей книге был короткий диалог между мной и Майей (архитектором иллюзии, не собакой). Я заметил, как она красива; она спросила, предпочёл бы я другое её лицо, а я сказал, что все хороши. Этот игривый диалог скрывает за собой весь ужас, зло и страдания в мире – другое лицо Майи. Я пробуждён из сна, поэтому меня уже не обманет ни одно её обличье – ни доброе, ни злое, ни красивое, ни ужасное. Я знаю, что это такое, что всё это – одна вещь. На данной стадии нет необходимости или даже возможности показать Лизе, что нет разницы между любыми двумя крайностями, но пришло время ей пересмотреть своё глубоко укоренившееся убеждение, что таковые существуют. Ей не нужно видеть другое лицо Майи, чтоб сделать следующий шаг, но она должна начать подвергать сомнению свою практику сортировать мир по стопкам, как бельё.
Да, мы едем помянуть добрым словом Брэтт, но это не наш контекст. Мой контекст – эта книга, а контекст Лизы похож на контекст не умеющего ходить младенца – начать двигаться и взаимодействовать с миром, выяснить, где она, как всё работает, и как она в это вписывается.
***
В биосферах, где нет ветра, деревья становятся слабыми, так как им не с чем бороться. Тогда генерируется искусственный ветер, чтобы деревья могли развить силу, но не из жестокости, не для того, чтобы над ними измываться. Если ветра не будет, дерево испортится.
— Я видел по телевизору маленькую девочку, – рассказывал я Лизе, когда мы брели по лесной велосипедной дорожке немного позже. – С ней произошла жуткая трагедия. Она оказалась запертой в горящей машине, и получила больше повреждений, чем, казалось бы, может выдержать тело. Ей сделали множество операций, но она осталась практически полностью обезображенной. И вот, во время интервью, она смотрит на обрубки, которые когда-то были её пальцами, и произносит: «Раньше я плакала, если сломается ноготь».
Через секунду Лиза ответила тихим шёпотом:
— Боже мой, это так ужасно.
— Разве? – ответил я. – Я думал, это одна из самых красивых вещей, которые я когда-либо слышал. Какая поэма может с этим сравниться? Какое искусство? Фотографии войны и бедствий это единственное из того, что я знаю, что ближе всего к этому, но они не сравнятся с образом реальной живой девочки, когда-то милой школьницы, полной надежд и мечтаний, а теперь настолько физически уничтоженной, насколько это вообще возможно, которая, глядя на свои исковерканные руки, говорит, «Раньше я плакала, если сломается ноготь».
— У вас очень своеобразные представления о красоте, – сказала она угрюмо. – Бедная девочка. Бедная её семья.
— Для меня это всё не про девочку, это про меня, про жизнь, про бытие. Это то, где мы находимся, и таковы правила. Тот труп, которому делают У-образный надрез на столе из нержавеющей стали завтра утром, — это я. Та женщина, падающая из Всемирного Торгового Центра, — это вы. Та сгоревшая девочка — это Мэгги.
Лиза остановилась и повернула лицо ко мне. Я тоже остановился. Она смотрела на меня ровным немигающим взглядом, который трудно было прочитать, но мне не нужно было его читать. Следующие свои слова я произнёс медленно и чётко.
— Вы знаете, где вы?
Ничего.
— Mires. Abrase los ojos[23].
— Джед...
— Вы знаете, что это за место?
— Пожалуйста, не надо, Джед, – сказала она. – Я знаю, вы пытаетесь мне как-то помочь, но сегодня такой прекрасный вечер. Не могли бы мы просто расслабиться и насладиться им?
***
Слишком? Я толкаю Лизу слишком сильно? Я мог бы пойти в библиотеку или в книжный магазин и заполнить коробки книгами с секций поэзии, религии, духовности, самопомощи и философии, написанными людьми, которые прошли также далеко, как Лиза, и остановились на этом – людьми, которые подверглись трансформации смерти-перерождения, но остались с закрытыми глазами в воображаемой реальности, вместо того, чтобы открыть глаза новому миру, в который они вышли. Я не мог подумать, что такое возможно, но вижу это всё время. Кажется, что если мы начали двигаться, то будем продолжать двигаться, но в реальности всё по-другому. Такую же ярую непреклонность оставаться вросшими корнями на месте, которую мы демонстрируем, находясь в утробе, мы продолжаем демонстрировать и после выхода из неё. Если метафоры привести в соответствие друг с другом и регистрировать доступные наблюдению случаи, то можно
обнаружить промежуточную стадию между двумя мирами, некий сорт гипнагогического, очистительного состояния, в котором человек, покинув утробу, всё ещё зовёт её домом, когда, войдя в мир, он ещё не открыл глаза.
Это не то же самое, что фальшивое перероджение, так распространённое в поп-христианстве и программах двенадцати шагов, эти люди действительно вышли из утробы, но не смогли выйти за пределы страха. Это не просто сбрасывание цепей в пещере Платона, это безусловно больше чем это, но безусловно, меньше, чем ясность. Это кажется почти ненатуральным, но как уверяют люди, занимающиеся причудливым сексом, единственной ненатуральным актом является тот, который ты не способен совершить, поэтому можно рассматривать эти промежуточные состояния как ступеньки эволюционной лестницы из подземных уровней тёмного сознания, в котором пресмыкается человечество, проклявшее само себя.
Именно здесь сейчас и находилась Лиза – она вышла из тьмы, но с ещё закрытыми глазами. И она может остаться в таком состоянии, застряв между двух миров, будучи чужаком в них обоих. Она легко может ошибочно принять эту начальную точку за конечную и сложить оружие, может даже вывесить вывеску, когда поймёт, как здесь оказалась – написать книгу, проводить встречи, сделать карьеру, помогая другим пройти неполный переход.
Искушение отдохнуть после такой битвы, заведшей так далеко, должно быть сильным, но я страстно хотел, чтобы Лиза продолжила идти. Наверно, для этого шлёпают по заду новорожденных. Может быть, именно это я пытаюсь сделать для Лизы. Следующий её шаг не так лёгок, но и не слишком труден, и если она его осилит, она сможет продолжить движение вперёд. Мне казалось, для неё будет почти позором – дойти так далеко, и остановиться. Здесь начинает становиться хорошо. У меня нет большого опыта в работе с людьми на этой стадии, но я точно знаю, что я должен подталкивать Лизу, чтобы она пока не успокаивалась, даже если это значит немного позлить её.
***
Минут десять мы шли молча, прежде чем я снова начал наседать.
— Вы прожили тридцать с чем-то лет своей жизни в утробе, родившись для тела, но не родившись для духа, – сказал я. – Кто хочет покинуть утробу? Никто. Независимо от того, что говорят, никто не хочет выходить наружу. Это невозможно. Внутри тепло, уютно, безопасно, и покинуть её означает конец мира, конец единственной жизни, которую ты когда-либо знал. Человек выходит оттуда в единственном случае – когда какое-нибудь бедствие или яд побуждает его с криком выбежать в мир.
— Через это я прошла, – произнесла она задумчиво, – как постепенное отравление, которое в конце концов становится непереносимым.
— Да, и теперь вы здесь, но вы всё ещё стремитесь отрицать и отвергать всё, что не приятно и мило. Это старый путь, путь с закрытыми глазами. Теперь пришло время смотреть, видеть, наблюдать творение, частью которого вы являетесь. Вот что такое честность, вот что такое жизнь с открытыми глазами – приятие того, что есть. Осознание, где вы и каковы правила. Вѝдение, как всё работает, как в этом участвовать, как жить без страха.
— Это всё так мрачно и угнетающе, – сказала она.
— Дело не в том, что это мрачно, – продолжал я, – просто вы щурите глаза. Всё хорошо, на это можно смотреть. Это только кажется тёмным, потому что мы не смотрим, не идём в это, но мы можем. Вы можете. Мы отгородились от всего пугающего, потому что так поступают дети – они крепко закрывают глаза, чтобы не видеть чудовищ. Это мир детей и он полон религий, основанных на наградах и наказаниях, духовных систем, которые учат быть разборчивыми, они принимают приятное и красивое, исключая тёмное и уродливое, но единственная причина этому – страх. Когда ты открываешь глаза и видишь, где ты находишься, ты видишь всё, и только тогда страх исчезает. Сейчас вы всё ещё живёте в своём выдуманном царстве. Вы уже не часть его, но ещё не двинулись дальше. Пришло время открыть глаза и увидеть, где вы.
Она опустила голову.
— Слишком много для такого прекрасного вечера, – сказала она.
— Довольно долго вам снились презренные сны, – снова процитировал я Уитмена. – Теперь я смою дёготь с ваших глаз, вы должны привыкнуть к ослепительному свету каждого момента вашей жизни. – Сегодня я слышу много Уитмена, – заметила она.
— Уитмен лучшие свои вещи писал о том, где вы сейчас, об этом переходе, о перерождении. Она внимательно посмотрела на меня.
— Правда?
— Вы больше не будете принимать вещи из вторых или третьих рук, – декламировал я, – не будете смотреть глазами мертвецов, или питать книжных призраков. Вы не будете смотреть и через мои глаза, или перенимать у меня, вы будете прислушиваться вокруг и фильтровать всё сами. – Это Уитмен?
— Большая часть мистической поэзии, если это не цветочная абракадабра, описывает два элемента процесса смерти-перерождения: покидание отделённого состояния и вступление в интегрированное состояние.
— Не просветление?
Я усмехнулся от такой мысли.
— Нет, не существует искусства, которое описывало бы недвойственное сознание, или поэзии, воспевающей состояние реализации истины, ничего подобного нет. Это вещь не такого рода. – Да, Уитмен звучит лучше, чем история о бедной маленькой девочке.
Но сейчас не время для приятного.
— А вот кое-что из моего собственного опыта, небольшое событие типа «ага!». В начале восьмидесятых я учился в Нью-Йоркской школе. Однажды включилась новостная радиостанция. Какой-то стандартный набор новостей, которые слушаешь в пол-уха, а потом, после чего-то о мэре и перед чем-то о янки, тем же механическим тоном диктор произнёс: «Сегодня какой-то мужчина ворвался в апартаменты в Верхнем Западном Районе и кинул младенца в стену без каких-либо видимых причин».
— Господи, Иисусе, – произнесла она, закрыв рот руками. – Прошу вас, Джед, не надо больше. Давайте просто погуляем, пожалуйста?
***
Мне всегда казалось, что это прекрасное хайку, несмотря на нарушение формы. Я назвал его «Долбаная лягушка Басё»:
Сегодня мужчина ворвался в квартиру в западном районе и швырнул младенца о стену без всяких на то причин.
Шмяк!
***
Уже намного позже, когда я редактировал эту главу возле другого бассейна в другой части Мексики, я всё ещё не знал, войдёт ли этот материал в книгу. Не слишком ли мрачно? Девочка без пальцев, младенец о стену? Годится ли это для книги или нет? Ответ, как я отлично знал, состоял в том, что не мне это решать. Мне не ясно, значит ясность придёт. Нужно только быть терпеливым, и ответ появится. Вселенная даст о себе знать.
Я не пытался шокировать Лизу только ради того, чтобы шокировать. Если бы я хотел только шокировать её, я бы, наверно, ударил бы её действительно высоковольтным ужасом и поджарил бы её электрическую схему. Моим замыслом было пару раз легонько тряхануть её сердце, только для того, чтобы заставить её осознавать всё то пространство, которое она хранила во тьме, отгородившись от него.
Я лениво размышлял над всем этим, когда на экране ноутбука появился заголовок Нью-Йорк Таймс:
«Мужчина ударил ножом девочку в коляске».
Вселенная дала о себе знать. Материал вошёл в книгу.
***
Одно последнее замечание. Однажды ночью, когда я уже заканчивал редактировать эту главу, я читал нечто совершенно не связанное со всем этим, и мне попался на глаза термин «пост-утробная беременность». Я напряжённо работал над концепцией о людях, которые так же завязли после выхода из чрева, как и до этого, и из довольно невероятного источника – эссе о «Меридиане крови» Кормака МакКарти – я получил этот термин, «пост-утробная беременность», который, похоже, ухватывает этот странный феномен, рассматриваемый нами на этих страницах. Этот термин предполагает, как обнаружилось во время наблюдений, что появление в мире не является чёткой точкой разграничения, как можно было бы предположить. Процессы роста и развития, работающие до и после этого появления, продолжают работать и после него, и если прервать эти процессы, или не распознать и не взращивать их, мы скорее всего погребём себя вне утробы так же эффективно, как те, кто находится внутри. Странно.
27. Casus Belli[24]
И теперь, так как Пьер начал видеть сквозь первый слой мира, он наивно полагал, что достиг цельной материи. Но как и любой геолог, проникающий вглубь мира, он обнаружил, что мир состоит из не более, чем слоёв, наслоённых на другие слои. До своей оси мир представлял собой не что иное, как множество наложенных друг на друга поверхностей. Через огромную боль мы роем подкоп в пирамиду, через полные ужасов искания мы находим центральную комнату, с радостью видим саркофаг, но когда открываем крышку – там никого нет! – он невыносимо пуст, подобно бескрайности человеческой души!
– Герман Мелвилл, «Пьер» –Во время поездки Лиза рассказывала мне о своём муже, Дэннисе. Деннис был дантистом. Дэннисдантист. Она рассказала, что он тайно ненавидел быть дантистом, а может, он просто ненавидел быть Дэннисом, она точно не знала. Он стал дантистом, потому что дантистом был его отец. Он так отчаянно пытался угодить своим родителям, сказала она, что его жизнь была вечно проигранной битвой за то, чтобы жить согласно их ожиданиям и завоевать их одобрение. Лиза сказала, что он ненавидел множество вещей в своей жизни, поэтому никогда не был счастлив, и часто злился. Страдая от депрессий и алкоголизма, он с внешней стороны казался счастливым и успешным. Проецирование этого имиджа, особенно для своих родителей, было главной мотивацией его жизни.
Наши отношения с родителями — это очень важная тема для рассмотрения, не потому что мы хотели бы наладить их и исцелить все раны, которые мы могли испытать или причинить, но потому что большинство из нас всё ещё застряли на этом уровне. Если наше основное понимание жизни в широком смысле одинаково с пониманием наших родителей, значит мы ещё не начинали своего путешествия. Мы – дети детей, которые были детьми детей, которые были детьми детей и так далее до самого конца. Солидная цепь, чтобы её порвать, но именно этого и касается процесс освобождения. Любой, кто когда-либо захочет что-то сделать в жизни, стать самостоятельным человеком с собственными правами, должен начать с убийства своих родителей (метафорически!).
Когда мы убиваем своих родителей, на самом деле мы сбрасываем внутренний слой ложного контекста, в который мы упакованы и который нас определяет. Вот что мы делаем каждый раз, делая шаг – сбрасываем следующий слой обволакивающей нас иллюзии. Мы увидим другую вариацию этой темы, когда посмотрим на прошлое Брэтт и на её отношения с отцом, как она разобралась в этим. Дэннис, по словам Лизы, не разобрался. Может быть, когда-нибудь он разберётся. Может быть, он выскажет всё на семейном совете, или заорёт по-первобытному, или примет МДМА в терапевтической обстановке, и его постигнет катарсис, который позволит ему наконец выйти из этого духовного запора, сделавшего из него вечного и хронически больного ребёнка.
Катарсис означает опорожнение, очищение от токсинов и непроходимости, вывод тяжёлого ментальноэмоционального мусора и восстановление свободного течения по всей системе. Весь прогресс можно рассматривать как поток и затор. С Лизой после долгой мучительной болезни наконец случился катарсис, очищение, исцеление, и можно увидеть, куда это её привело – пока, во всяком случае. Она утеряла всё, что главным образом её определяло. Возможно, она могла бы предпочесть просто принять пилюлю, чтобы боль ушла и она смогла остаться в своих жизненных обстоятельствах. На свете много таких пилюль, они принимают множество различных форм, но она не приняла пилюлю, она выбрала боль.
— У него патологическая одержимость угождать своим родителям, чтобы они могли им гордиться, – рассказывала она, – но они всегда недовольны. Всё, что он делает, недостаточно хорошо, а он всё пытается сделать больше и сводит себя с ума. Для них он всё ещё маленький мальчик. Не думаю, чтобы я осознавала это раньше, но он словно болен, а все его проблемы — это лишь симптомы. Выпивка, высокие достижения и низкая самооценка, хроническая несчастность, вечная неудовлетворённость, но он всегда делает вид, что счастлив и успешен, так как стремится угодить родителям, чего ему никогда не удаётся, потому что на них ничего не действует. Что бы он ни делал, это не имеет значения – он в ловушке. Даже после смерти они всё ещё имеют власть над ним. Он в безвыходном положении.
Сократ говорил, что неизученную жизнь не стоит жить. Это серьёзно, чёрт. Большинство людей не захотят изучить это утверждение, а уж тем более свою жизнь. Если это означает, что застоявшуюся, закоснелую жизнь не стоит жить, тогда мы говорим, что жизнь большинства людей не стоит беспокойства, и именно так Человек-Ребёнок выглядит с перспективы Человека-Взрослого. Можно, конечно, привести доказательства в пользу Человека-Ребёнка, но они будут вызывать ощущение неудовлетворённости, что выиграли за счёт техники.
Сократ вынес довольно изобличающее обвинение: неисследованная жизнь не стоит того, чтобы её жить. Кто живёт осознанную, исследованную жизнь? Все, вероятно, думают, что ведут такую жизнь, но в реальности этого не делает практически никто. Кто решает проводить часы, дни, недели, месяцы и годы своей жизни именно так, как проводит? Кто осознанным решением, преднамеренно, со знанием дела решает соединиться в пары, завести детей, купить дом, работать на работе, тратить все свои силы, заполняя строчки потрёпанной книги-раскраски? Где те люди, которые исследуют свою жизнь? Жизнь, которую стоит жить? Где те люди, которые сделали выбор? Не просто вторичный выбор, сделанный в рамках уже существующей системы, но принципиальный выбор, выбор самой системы? Где те люди, которые выбрали свою жизнь?
Кто осознанно делает выбор заковать себя в цепи? Кто выбирает женитьбу, детей, карьеру? Кто выбирает пополнить ряды обременённых долгами потребителей и пожинать плоды трудов всей своей жизни в качестве раба имущества и корпораций? Кто выбирает в свободное время быть на побегушках, заниматься домашними делами, уставиться в телевизор? Кто выбирает есть ядовитую пищу, жить в ядовитой среде, в окружении ядовитых людей? Кто выбирает жить заранее запрограммированную жизнь от рождения до смерти? Кто видит такие жалкие, отвратительные, отрицающие жизнь сны?
Конечно, может быть, жизнь в тяжёлой нудной работе и погоне за морковкой — это именно то, что мы выбрали бы, если бы выбор был за нами, но мы не выбираем. Вот что означает быть неосознанным: спать внутри сна. Мы быстренько напяливаем на себя жизнь, которая уготована для нас, подобно детям, напяливающим в одежду, приготовленную для них утром. Никто не решает. Мы живём нашу жизнь не по выбору, а по умолчанию. Мы исполняем роли, для которых родились. Мы не живём наши жизни, мы избавляемся от них. Мы выбрасываем их, потому что мы не знаем ничего лучшего, мы не знаем ничего лучшего потому, что никогда не спрашивали. Мы никогда не задавали вопросов, не сомневались, никогда не поднимались, никогда не проводили черту. Мы никогда не подходили к родителям, или к духовным наставникам, или к учителям, или другим людям, влиявшим на наше становление, и не задавали один простой, честный и откровенный вопрос, вопрос, ответ на который должен быть получен прежде, чем можно задать любой другой вопрос:
Что, чёрт возьми, здесь происходит?
Так вы убьёте их. Не саблями и пистолетами, но мыслью, честностью и прямотой. Так вы посмотрите, так вы увидите. Так вы проведёте черту.
Это не бодрая маленькая речь в перерыве между таймами, призванная согнать всех нас в остервенелый carpe diem[25], чтобы мы вышли, вопя, на поле с победным чувством в сердце и с жизнеутверждающей, свободолюбивой жаждой крови в первый день своей новой жизни, пульсирующей в венах, пока в понедельник утром не зазвонит будильник, ловко перемещая нас обратно в тюремную рутину. Поймать момент – не значит его остановить. Это как подстрекать товарища по камере к воплощению мечты его жизни петь в тюремном хоре. Если бы у меня был сын или дочь, кто-то, о ком я глубоко беспокоился бы, я бы вместо этого ободрял бы его словами carpe vitae – лови жизнь. А если бы я знал, как по-латински «твою мать», я бы вставил и это. Я бы наколол это на тыльной стороне его ладоней, чтобы он всё время это видел и чувствовал здоровый стыд и отвращение к себе за каждую минуту, которую он потерял в качестве зрителя, а не участника игры.
Говоря метафорически (!), первое, что мы должны сделать в нашей претензии на свободу, — это убить своих родителей. Мы убиваем Будду (или его эквивалент) последним на пути к реализации истины, но родителей мы убиваем в первую очередь на любом пути. Есть ещё немало людей, которых нужно убить, прежде чем достигнешь свободы, но всё начинается с этого. Пока мы не убьём своих родителей (метафорически!), мы останемся нерождёнными.
Фильм «Выпускник» именно об этом – смерть и новое рождение Бенджамина Брэддока. Как он вырывается из своей жизни, убивает своих родителей – их мир, их надежды на него, их общество, человека, в которого они его превратили, и будущее, которое они ему уготовили – и борется в своём процессе смертиперерождения.
В «Выпускнике» нет плохих и хороших людей. Родители не злые (вообще-то), просто они скучны, а против скучности нет закона (вообще-то, есть), иначе всех нас упекли бы в тюрьму (вообще-то, мы уже там). Элен не проявляет воли и является просто призом, который можно выиграть или проиграть. В конце фильма она не освобождается, лишь разрушается её шаблон. В конечном счёте этот фильм о бомбах замедленного действия среди нас. Бен не хотел взрывать и разрушать всё вокруг себя. Он не проделывал тяжёлой работы в школе, планируя свой побег. Он такая же жертва своего спонтанного взрыва, как и все остальные.
«Выпускник» — это фильм не о любви, а об освобождении.
Если бы вышло продолжение, мы, возможно, нашли бы Бена не ушедшим далеко от того, что мы видели вначале. Как и большинство тех немногих, кто проделал этот переход, он, вероятно, посчитал бы своё новое состояние целью, а не отправной точкой, и скоро оказался бы снова в стаде, никогда уже не став его членом полностью, хотя и в достаточной степени.
Вот через что я пытался помочь пройти Лизе.
Переход Бена был относительно мягким. Он был ещё молодым деревцом, его корни были ещё слабы и редки, их легко можно было выдернуть из земли. В двадцать один год у него нет больше семьи кроме родителей, ни детей, ни закладной или долга, ни друзей или дальних родственников, ни установившейся карьеры, ни одной из множества сложных ролей, которые он мог бы играть, будь он более устоявшимся, более укоренённым в жизни. Короче говоря, его срыв произошёл в идеальное время, когда было очень мало того, что нужно было отсечь, очень немногих предать, очень немногих потерять.
Но что произошло бы, случись такой кризис на двадцать лет позже, когда корневая система уходит намного глубже? Когда она намного сильнее и намного больше переплетена с окружающими корневыми системами? Тогда, вместо «Выпускника», мы бы смотрели «Коллегу». В сорок один Бен уже не маленькое деревцо, которое можно легко выдрать из земли. Теперь он дерево, и такой же шаг на этом более продвинутом уровне эмоциональных разветвлений требует невообразимо большего количества взрывчатой энергии и гораздо более мощного источника неудовлетворённости, чтобы питать топливом такой взрыв. Это не аккуратная и незаметная хирургическая операция. Это не духовно, не сострадательно, не благословенно. Это приведёт к огромному беспорядку. Это нанесёт вред всему его окружению и связанному с ним развитию. Если бы Бен продолжил свою жизнь в течении ещё пары десятков лет до появления своего прозрения, тогда вместо простого бунта против своих ужасно немодных родителей, он должен был бы рвать связи с женой, детьми, друзьями и дальними родственниками, с работой, сообществом, церковью. Его карьера и финансы превратились бы в прах, камня на камне не осталось бы от всего, над чем он работал всю свою жизнь, и ради чего? От этого не уедешь на заднем сидении автобуса, улыбаясь, словно ты удрал из дома, прихватив с собой трофей в натуральную величину.
Кто герой в «Коллеге»? Кто хороший парень? Как ещё рассматривать старшего Бена в такой ситуации, кроме как психо-духовного террориста? Человек, который проник в жизнь людей, сначала казавшийся серьёзным и любящим, вдруг взрывается как бомба? Дамба была под таким толстым покровом, что он и сам не знал о ней, пока не прозвенел звонок пробудиться и не вызвал детонацию. С кем бы он сидел в автобусе в конце такого фильма? Чему бы он тогда улыбался?
Если бы фильм «Выпускник» продолжился ещё минут пятнадцать, мы бы увидели, куда направлялись Бен и Элен. Они героически вырвались из тюремной камеры родительского принуждения, а теперь мы бы увидели их ползущими по канализационным трубам по пути – куда? Им нужно найти место, где бы устроиться, чтобы жить. Им нужно найти другую камеру, чтобы туда переползти. Сначала они пойдут в старый мотель, затем Бену нужно выйти, чтобы купить Элен какой-нибудь дешёвой верхней одежды. Затем что? Бену нужно найти работу. Им придётся приползти обратно к преданным ими родителям за своими вещами и за помощью. Элен находит работу или беременеет. Двадцать лет спустя Бен и Элен будут играть в дом, иметь дело с собственными бунтующими детьми, прокисшими родителями, работами, счетами и распадающимся браком – всё, от чего они думали они освобождаются, тогда как только глубже закапывались. Никто не живёт долго и счастливо.
Что происходит, когда такое пробуждение приходит в поздний период жизни? Нам повезло, об этом есть фильм «О Шмидте». Механическая жизнь Уоррена Шмидта была совершенно упорядочена. Он делал всё правильно. Потом всё рухнуло, каждый слой его тщательно выстроенной личности был содран, и даже Ндугу, голодающий мальчик из Танзании, которому он посылал деньги и писал письма, глядел на него как на объект жалости. Один за другим, все его эмоциональные привязанности и слои самости растворяются – работа, жена, дом, дружба, семья, альма матэр, история, будущее, права, и без последующего счастливого конца, потому что время вышло. Фильм оканчивается честно, когда мужчина, всегда игравший по правилам и всё делавший правильно, сидит в одиночестве и плачет.
Дорогой Ндугу... Относительно скоро я умру. Может, через двадцать лет, а может, завтра, это не важно. Когда я умру, и все, кого я знал, тоже умрут, будет так, как будто меня вовсе никогда не было. Что изменила моя жизнь в жизни других людей? Ничего, о чём я мог бы вспомнить. Совсем ничего.
– Уоррен Шмидт –Этот вывод восхитителен для Бенджамина Брэддока, катаклизм для тридцати с чем-то летней Лизы, и бесконечно печален для старого Уоррена Шмидта.
***
Лиза поступила гораздо круче, чем Бен Брэддок. Что для двадцатилетнего пацана было как сорвать маргаритку, для неё было подобно выкорчевыванию с помощью динамита хорошо укоренившегося дерева. Некрасиво, зато эффективно. Ей очень повезло, что она встретилась со столькими несчастьями в жизни за эти три года, и это она сейчас начинает понимать. Она убила родителей, что является лишь ещё одним способом описать переход из детства в зрелость. Не существует книг в отделах само-помощи, воспитания родителей, или нью-эйдж под названием «Убей своих родителей (или никогда не вырастешь)», но должна быть такая книга, и в мире, обитатели которого не все задержались в развитии, Взрослые родители давали бы её каждому ребёнку в возрасте десяти-двенадцати лет.
Но опять же, в таком мире в ней не было бы надобности.
После того, как Лиза рассказала мне о Дэннисе, я выложил ей свои размышления о «Выпускнике», «Коллеге», и «О Шмидте», и использовал их, чтобы помочь ей понять статус развития своего мужа, Брэтт, её самой, и практически каждого, кого она знала. Мы поговорили о вертикальном прогрессе в противоположность горизонтальному, и о решающей важности слова «дальше». Мы обсудили некоторые другие фильмы по мере того, как пересекали штат, рассматривая, как старые истории функционируют в качестве новых. Она спросила, был ли когда-либо фильм, который она могла видеть, о таком человеке как я – пробуждённом.
— «Острие бритвы»? – предположила она.
— Нет, – сказал я, – это о вас, а не обо мне. Ларри проходит через такой же переход в зрелость, через который проходите вы. Вместо фото падающей навстречу смерти женщины у него была война и воспоминания о погибшем друге: «Мертвецы выглядят ужасно мёртвыми, когда мертвы», говорит он. Он проходит через процесс само-рождения, покидая одну жизнь и вступая в новую. В конце он рвёт со всеми аспектами своей прежней жизни, даже отрезает себя от денег собственной семьи, как я помню, начав новую жизнь в НьюЙорке скромным механиком такси.
— Но он не стал просветлённым?
— Нет, он закончил там, где вы сейчас, в начале своей жизни, и если он восприимчив, он будет благодарен всем силам, которые сговорились в его пользу и привели его туда – смерть, война, убийство – благословения, замаскированные под трагедии. Вам нужно прочитать книгу и посмотреть, как это сравнимо с вашими переживаниями, вы найдёте там очень интересные параллели.
— Значит, вы думаете, это был реальный человек?
— Должен был быть, это слишком точно – начальный срыв, дальнейшие запутанные искания, его образ и стадии прогресса, конечная тщетность, и то, как вселенная способствовала его пути – Моэм не мог бы этого выдумать.
— Значит, Ларри сделал всего лишь то же, что и я?
— Совсем не всего лишь, детка. Там, где вы сейчас, находятся все великие мудрецы, видящие и мистики.
Они прошли лишь чуть-чуть дальше.
— Я могу быть одной из них? – спросила она. – Мистиком, мудрецом или что-то типа этого?
— Это просто роли. Вы можете сыграть любую роль, если у вас есть подлинное желание её сыграть. Признанные и уважаемые мудрые граждане редко являются очень продвинутыми в своём развитии. Вы можете обойти их пойти дальше. Вот увидите.
Казалось, ей это понравилось, и несколько минут она молчала.
— А какой тогда фильм о ком-нибудь, как вы? – спросила она.
Я задумался. Персонаж техподдержки из «Ванильного неба» близко олицетворяет меня в моей роли учителя – того, кто объясняет альтернативу остаться в царстве сна или спрыгнуть с высокой крыши, чтобы пробудиться из него, и терпеливо ждёт, доступный, но незаинтересованный, в то время как его клиент борется с принятием решения – пробудиться или остаться спать. Но это лишь небольшой персонаж, который я играю в человеческих драмах.
— «Изгой», – сказал я спустя пару минут.
— В самом деле? Том Хэнкс? На острове? Не понимаю. – Она помолчала. – Ведь это меня не расстроит?
— Может быть, я не знаю.
— Я сегодня чувствую себя немного измотанной, пожалуй. Вы говорите, что персонаж Тома Хэнкса стал просветлённым в результате испытанного им на острове?
— Нет, просто он попал в неприуркашенную парадигму пробуждённого существа. Быть в одиночестве на необитаемом острове — это хорошая метафора для пробуждённого состояния. Будучи выброшенным на берег этого острова, он на самом деле умер для своей жизни, не умерев при этом физически. До крушения персонаж Тома Хэнкса, Чак Ноланд, имел всё, о чём мы думаем, как о жизни – друзей, карьеру, семью, невесту – как и бесчисленное количество других больших и маленьких вещей, которые мы принимаем как должное, пока они не исчезнут. Это всё контекст. В начале фильма у Чака Ноланда наполненный, богатый контекст. Он соответствует своему миру, у него твёрдый набор убеждений, он – часть вещей, и вещи – часть его. А потом Бам!, его самолёт терпит крушение, и всё это исчезает. Внезапно простое выживание является его единственным контекстом. Что остаётся? Человек без контекста. Человек, который во всех отношениях, кроме физического, мёртв. Человек, которому двадцать четыре часа в сутки нечего делать, кроме как спать, есть и смотреть на волны. Разница между ним и тем человеком, которого он похоронил и произнёс над ним подзенски краткую речь, незначительна.
— И это значит, быть просветлённым?
— Это состояние реализации истины – отсутствие контекста. Не существует искусственной структуры, в которой можно было бы сказать, что одна вещь лучше или хуже чем другая.
— У него был друг, – сказала она, – Уилсон, волейбольный мяч. Наверно, у него должна была слегка поехать крыша, чтобы подобные отношения могли существовать.
***
В сущности, я могу понять такие отношения. Да, у него должна слегка поехать крыша, чтобы они могли существовать. Он должен был согнуться, иначе он бы сломался. Он был вынужден играть в эту игру ради выживания. Он был вынужден поверить в ложь, и перестать верить в правду. Он был вынужден проявить акт двоемыслия: «Способность удерживать в уме два противоречащих друг другу убеждения одновременно, принимая их оба». Чак Ноланд знает, что Уилсон — это просто волейбольный мяч, но он должен верить, что Уилсон — это его товарищ, поскольку он не может не иметь товарища в своей жизни. Уилсон предоставляет контекст, без которого Чак не может жить. Без Уилсона Чак сломается, но с Уилсоном Чак может согнуться. До крушения самолёта контекст Чака был отражён практически в каждом человеке и вещи его многозначительного и пунктуального окружения. После крушения всё это исчезло, и осталась лишь одна вещь, чтобы отражать его контекст – волейбольный мяч с кровавым отпечатком руки, чем-то напоминающим человеческое лицо. Это не так много, но это всё, что ему нужно, чтобы представить себе, что он не совершенно один на богом забытом острове. Вот что такое контекст и вот что он делает – он говорит нам, что мы не совершенно одни на богом забытом острове. Он обеспечивает иллюзию населённости окружающей нас среды, где могут восприниматься и применяться смыслы и ценности – где имеет значение, что мы делаем и что выбираем. Любой контекст искусственный. Настоящего контекста нет.
«Изгой», если уменьшить его до его аллегорической структуры и убрать всё, что происходит после спасения Чака, даёт нам мощное средство философского исследования. Все привязанности Чака Ноланда порваны, хоть он и не хотел этого. Его насильно освободили из тюрьмы, которой он был полностью доволен. Кто-то подбросил ему в стакан красную пилюлю, и он проснулся за пределами матрицы, о существовании которой, и о том, что находился внутри неё, он и не подозревал. Ему ужасно хочется вернуться, но он не может. Он исключён из собственной жизни, не совсем мёртв, и не совсем жив.
Кто хочет быть обречённым вечно скитаться по безбрежному морю? Кто хочет провести остаток жизни, кувыркаясь в бесконечном пространстве? Никто, конечно. Какой смысл в бессмысленности? Как можно хотеть ничто? Слова, которые приписывают Будде, часто сфальсифицированы, но есть одно явное исключение, и это цитата в начале этой книги: «Поистине я ничего не достиг[26] полным просветлением». Это утверждение как оптическая иллюзия – его можно рассматривать с двух сторон, из которых менее очевидная является более верной. Не то, чтобы он не достиг чего-то, но он достиг ничто.
— Понимаю, – сказала Лиза после того, как мы немного поговорили об этом, но она не понимала. Она не понимала, что Чак делал для выживания то же, что делает для выживания каждый. Она не понимала, что она сама совершенно одна на забытом богом острове, что у неё слегка поехала крыша, и что её ум перестроился, чтобы соответствовать её запросам, что её жизнь имеет смысл и форму только благодаря её способности к двоемыслию. Она не понимает, что безумные отношения Чака Ноланда с волейбольным мячом не уникальны – ту же самую тактику используют все люди всё время для того, чтобы удерживать состояние отрицания, необходимое для продолжения бессмысленного существования в вымышленной вселенной.
Но сегодня Лиза чувствовала себя немного измотанной, поэтому я не стал её этим беспокоить.
***
Написание книг предоставило мне искусственный контекст, внутри которого мне есть, что делать, и есть причины, по которым надо это делать, внутри которого одни вещи могут быть лучше или хуже, чем другие. Когда книга будет окончена, когда я перестану выводить каракули на песке, тогда я повернусь и встречусь со своим необитаемым островом почти тотальной безконтекстности, по существу, в первый раз. Было приятно что-то делать, иметь контекст, внутри которого можно это делать. Когда моё учительство и писательство будут окончены, и я перееду в свой новый дом со своей новой собакой, последние оставшиеся слои моего искусственного контекста исчезнут. Если в последствии я пожелаю вернуть их, мне придётся их создавать, если я ещё буду на это способен.
Я размышлял об этом ещё в первой книге: «Лениво скучая, я подумал, что же будет дальше?». Дальше будет остров, и я всегда знал об этом. Укромный оазис, свободный от выдумок и умопостроений. Чаку Ноланду не нравилось его изгнание. Он не хотел его и жил на острове, всё время желая сбежать и вернуться в свой прежний мир. В этом значительная разница между его состоянием и состоянием пробуждения. Я не могу вернуться в мир, из которого сам себя изгнал, и у меня нет такого желания. Быть может, я продолжу это любопытное занятие – записывание слов на песке, коль скоро я уже поднаторел в этом, но, вероятно, не в качестве какого-то соглашения со вселенной, поэтому это будет другой тип развлечения – хобби, а не призвание. Мой пёс будет моим Уилсоном, и у меня должна будет немного поехать крыша, чтобы это работало.
С этим у меня проблем нет.
28. Будь что будет.
Алиса подошла к развилке.
– На какую дорогу мне свернуть? – спросила она.
– А куда ты хочешь пойти? – отозвался Чеширский кот.
– Не знаю, – ответила Алиса.
– Тогда, – сказал кот, – это не имеет значения.
– Льюис Кэрролл, «Алиса в стране чудес» –Я шагал взад-вперёд по песку, по которому шагал уже дюжину раз во время предыдущих визитов, как шагал уже много раз перед многими разными группами, многими разными вечерами. Разница была, в том, что сегодня я делал это в последний раз.
Лиза сидела с доктором Кимом в первом ряду, а другие семьдесят или восемьдесят человек сидели на песке и на трибунах. Казалось, всем было интересно, что я собираюсь сказать. И мне я тоже. Я видел свою тройную задачу так: произнести хвалебную речь Брэтт, говоря при этом то, что нужно услышать этим собравшимся здесь людям, и так, чтобы это по возможности лучше служило книге. В заднем кармане у меня лежал лист бумаги с некоторыми цитатами, и я почти совсем не думал о том, что я буду говорить кроме этого. Каждый должен был сегодня принести по двадцать долларов на памятный подарок дочери Брэтт Мелиссе, который ей вручат этим вечером. Некоторые принесли больше, а доктор Ким собирался позже внести щедрый вклад. Сам подарок будет сюрпризом для группы, но не для Мелиссы, которая знала о нём за несколько месяцев, с тех пор, как был запланирован этот вечер. Подарок в целости ждал меня в отеле, как я и ожидал, и теперь лежал в моём кармане.
— Мы посидим здесь несколько минут и послушаем меня, – начал я, когда все успокоились, – а затем я передам вас приглашённому мной оратору – Лизе. После этого мы все спустимся к озеру, где зажжём костёр и скажем должное «прощай» нашему – давайте скажем, другу – нашему другу Брэтт. Не знаю, как мы все поместимся там внизу, но таким вещам всегда находится решение. Когда мы пойдём вниз, к нам присоединится дочь Брэтт, и, возможно, её внучка, и там будет маленький сюрприз, от которого вы, вероятно, обалдеете – подарок для них, в который вы внесли свой вклад. У кого-нибудь есть вопросы на этот счёт?
У некоторых были, и мы убили ещё полчаса на незапланированный разговор, чтобы всех удовлетворить. Стоял прекрасный вечер ранней осени. Неярко горело освещение, и шёл мелкий дождь, мягко барабаня по алюминиевой крыше и придавая уютность конной арене. Сегодняшние события займут, с перерывами, больше четырёх часов. После того, как мы довольно расслабленно поболтали, я перевёл тему на причину, по которой мы здесь собрались.
— Мне сказали, что последний раз, когда вы приходили сюда и встречались с Брэтт, был около года назад. Кто был здесь тогда?
Поднялось около двадцати рук.
— Что тут было? Что она говорила? Николь?
Николь – деловая женщина примерно в возрасте Лизы, которая вместе с Лизой и доктором Кимом помогала организовать этот вечер.
— Ну, вы ведь знаете, какая она была – громкоголосая, всё время ругалась и всматривалась в наши лица?
— Да, – ответил я, и все засмеялись, вспомнив неистовую Брэтт.
— Но в тот раз она была не такой. То был единственный раз, когда я видела её как бы самой собой. Она говорила очень мягко, с меньшим акцентом, была очень вежлива и немного печальна. Она просто села с нами и стала объяснять, что наши собрания не работают так, как она думала; она чувствовала, что скорее способствует нашему отрицанию, нежели позитивным изменениям. Она сказала, что возможно, этого мы на самом деле и хотим, но она не желала служить этой цели. Это было довольно грустно. Некоторые плакали.
Я кивнул и зашагал взад-вперёд перед трибунами, всё кивая. Как мы умудряемся не находить то единственное, что не может быть утеряно? Как нам удаётся не видеть того, что только и есть? Почему люди, которые говорят, что хотят увидеть, отказываются открыть глаза? Эти вопросы, вероятно, мучили Брэтт. Этого она не могла понять, разглядывая эти полные энтузиазма, чуткие, умные лица, откуда теперь разглядывал их
я. Как эти люди, которые говорят, что хотят освободиться от иллюзии, умудряются закапываться ещё глубже? И как я, которая знает, куда они хотят идти, и как туда попасть, превратилась лишь в ещё одно снотворное?
Брэтт не смогла ответить на эти вопросы, поэтому прекратила эти встречи. Я хорошо её понимаю. Я не совсем понимаю, зачем она вообще начинала всё это. Подозреваю, что всё дело в докторе Киме. Теперь эти друзья, студенты и почитатели Брэтт, хотят знать что-то о ней – то, о чём она умалчивала. Они хотят знать, почему она положила конец этой их совместному делу. Они хотят знать, почему ещё до своей смерти она повернулась к ним спиной.
Я начал говорить. Я начал свой последний урок – хвалебную речь Брэтт.
***
— Зачем вы сюда пришли? – спросил я группу в риторическом, поучительном тоне. – Чего вы хотите? Я раскинул перед собой руки, словно ожидая ответа, но никто не откликнулся.
— В самом начале своей первой книги, «Прескверная штука», я сказал, что вы должны знать, чего вы хотите. Вы должны иметь ясное желание, сильное и конкретное намерение. Если вы не знаете, куда вы идёте, тогда нет основания, чтобы судить о том, что одно направление лучше чем другое. Я не хочу никого выделять, поэтому просто спрошу всех: может ли кто-нибудь встать прямо сейчас и сказать, в нескольких словах, чего он хочет? Зачем вы приходили сюда на встречи с Брэтт?
Никто не встал. Я продолжал шагать, позволив тишине повисеть, чтобы все поняли её значение.
Никто не знал, чего он хочет.
— Как бы вы ответили на этот вопрос? – спросил один из ребят, Рональд.
Я остановился, развернулся прямо лицом к группе и ответил.
— Вопрос не в том, как я ответил бы, – ответил я, – но как я ответил. Я сказал, что хочу перестать быть ложью. Я хочу перестать не знать, кто, что и где я. Я хочу перестать не понимать и блуждать в темноте. Я хочу перестать притворяться, что ложь — это правда, и что я понимаю то, чего не понимаю. Я хочу прекратить играть понарошку и выяснить, что есть реальность. Я отдам за это всё. Я отрежу себе руки, выбью глаза, отрежу голову. Нет ничего слишком, и никакая цена не слишком высока, потому что жизнь в невежестве и самообмане для меня не имела ценности. Не было ничего, что бы я не сделал или не отдал, потому что я скорее умер бы, чем продолжил жить в этом отравленном, омрачённом состоянии. Я не ставил рамок или условий, я отпустил все мнения и предпочтения, я только хотел знать, что есть истина, чем бы она ни была, и будь что будет.
Они смотрели на меня молча.
— Жить свободно или умереть, – сказал я. – Таков девиз избавления. Это именно так просто. Я повторил простой вопрос, на который никто из них не ответил. – Чего вы хотите? Зачем вы здесь?
Они продолжали молчать. Встал Рональд.
— Я думаю, мы все здесь умные люди, – заявил он напористо, чувствуя необходимость установить защиту. – Но мне кажется, вы так не думаете.
Интересно, был ли он таким же наглым с Брэтт. Не важно. Мне нравится наглость.
— Неправда, – сказал я. – Я знаю, что все мы умные люди, но ум очень интересная штука в царстве сна: с ним плохо, и без него – никак. Как иголка в магазине воздушных шаров – приходится втыкать её в пробку, иначе всё начнёт лопаться. В этом реальный смысл всей духовности, религии и философии – они все безопасные пробки, в которых мы можем спрятать острые концы своих умов. Так, само-отупляя свой разум, мы постоянно налагаем на себя сонные чары. Никто за нас это не делает. В нашем заблуждении нет никакой магии, кроме той, которую мы сами создаём своей эмоциональной энергией. Когда мы перестаём колдовать, мы начинаем пробуждаться, а это последнее, чего бы мы хотели, даже если заявляем об этом намерении. Что бы мы ни говорили, мы не хотим, чтобы всё начало лопаться.
Я замолчал, шагая, размышляя.
— Если бы речь шла об отравлении или о желудочном гриппе, кто-нибудь знает, что это значит? Из личного опыта?
Это встретило хор стонов, который я истолковал как «да».
Что? – спросил я с притворной тревогой, – Никто не любит интенсивный желудочный грипп? Судороги, тошноту, рвоту? Нет? Понос, лихорадку, озноб? Никто? Чёрт, крепкий народ. Всю ночь лежать скрючившись на полу в ванной? Тело всё разбито и натужено? Никто? Постойте-ка, я не сказал самого приятного. Как насчёт свирепого желудочного гриппа, который продолжается полтора года, а может, два? Есть желающие?
Нет.
— Ну же, серьёзно, чего это стоит? – подзуживал я. – Ради чего стоило бы провести пару лет, корчась от желудочного гриппа? Что бы могло заставить вас вынести это? Что бы могло заставить вас захотеть этого? – Я обвёл взглядом всю группу. – Миллион баксов? Лишние двадцать лет жизни? Возвращение умершего возлюбленного? – Они сидели молча и неподвижно. – Ах, да, я понял. А как насчёт ничего? Есть кто-нибудь? Два года выворачивания кишок наизнанку совершенно просто так? Очередь начинается слева. Кто первый?
Они не знали, можно ли смеяться. Шучу я или грублю без причины? Оскорбляю ли я память Брэтт или делаю справедливые замечания? Думаю, они верят мне на слово, поскольку привыкли к её буйным, непристойным речам. Брэтт умела быть земной женщиной.
— Оставайтесь со мной, пожалуйста, – сказал я. – Это близкая аналогия. Жестокий желудочный грипп — это очень близкий физический эквивалент процесса духовного пробуждения, и это одна из тех метафор, которые становятся тем лучше, чем больше с ними играешь. Я вижу, вы все на меня смотрите так, что даже если это и хорошая метафора, это не значит, что вы хотите слышать о ней, особенно если мы здесь для того, чтобы почтить память Брэтт. Поверьте, это всё о Брэтт и обо всех вас. Это о том, зачем она проводила эти встречи, и почему решила прекратить их.
Они перешли в более внимательное настроение.
— Основная особенность этих двух процессов, духовного пробуждения и желудочного гриппа, — это насильственное и огульное откачивание всего содержимого, физического в одном случае, ментального и эмоционального в другом. Говоря огульное, я имею в виду всё без разбору – если что-то может выйти, оно выходит. Все части тела выворачиваются наизнанку. Экстренная чистка. Опорожнение всех резервуаров.
Я знал, что для них это был всего лишь разговор. Они не проходили через описываемый мной процесс, и сомневаюсь, что кто-либо из них пройдёт через него в этой жизни, но сегодня последний раз, когда я обращаюсь к группе, а это классная аналогия, и я не собираюсь – простите – спустить её в унитаз.
— Оба эти процесса волнообразны, – продолжал я, – цикл агонии – облегчение. Заканчивается один сильнейший приступ рвоты, и какое-то время вы чувствуете себя неплохо, и думаете, может быть, всё окончено, но потом это начинается снова. Вы чувствуете первый позыв неправильности, первое лёгкое урчание, которое говорит вам, что всё плохо; вы знаете, зачем вы в это ввязались, и вам ничего не остаётся, как только перенести это. Это становится всё хуже и хуже, вот уже невыносимо, и потом со взрывом разлетается во все стороны, оставляя вас в слабости и дрожи, с чувством невозможности больше выдержать. Потом наступает короткий период затишья, появляется проблеск надежды, что всё наконец окончено, а затем вы вновь чувствуете позыв, и всё начинается опять. И так продолжается снова и снова, волна за волной, далеко за пределы той точки, когда вы думаете, что там уже ничего не должно быть. А там есть ещё. Я шагал взад-вперёд, изучая их лица.
— Разве другие духовные учителя не рассказывали вам об этом? О двух годах очистительного заворота кишок?
Нет ответа. Следующие несколько минут, шагая туда-сюда, я произносил имена нескольких дюжин хорошо известных духовных учителей, гуру и авторов, живых и умерших, делая паузу после каждого имени на тот случай, если кто-то захочет поднять руку и поручиться за кого-либо из них, чтобы они могли заметить тот факт, что никто этого не делал. Я закончил одним именем. – Брэтт?
Все подняли руки.
Мне действительно хотелось прояснить это. Теперь можно продолжить.
— Вот ещё одна ценная сторона этой аналогии, – сказал я. – Когда у вас желудочный грипп или пищевое отравление, вам кажется, что ваша система абсолютно выходит из строя, но это не так. Здесь работает разум. Это процесс. Организм подвергает себя этому ужасному испытанию по определённой причине. То же можно сказать о процессе пробуждения. Это выглядит как тотальный умственно-эмоциональный хаос, но это процесс, и управляет им разум. Процесс работает определённым образом, и для этого есть причины. А теперь изюминка.
Но аналогия ещё не завершена, – сказал я. – Я много раз говорил, что никто на самом деле не хочет того, чем это является в реальности. Приз в конце этой двухлетней интенсивной болезни не просто ничто, но «ничтожность»[27]. Вот что значит говорить, что этого не просто нельзя хотеть – его просто нет.
По всей видимости, им это совсем не понравилось.
***
— Как можно при желании заставить это случиться? — спросила Николь. — Как можно, ээ, вызвать тот процесс?
— Отличный вопрос, – ответил я, – очень близко к существу дела. Можно ли заставить это случиться? Что можно сделать? Нельзя просто принять рвотное средство, некую духовную ипекакуану, чтобы выблевать всю свою жизнь. Вы не сможете засунуть свои согнутые в мудру пальцы себе в горло. Вы можете сесть в дзадзен на несколько лет, и попытаться изрыгнуть тот шар расплавленного свинца, о котором все говорят – дайте мне знать, что из этого вышло. Чтобы действительно заставить что-то произойти, вам нужно отравиться, вам нужно ввести в свою систему какое-то чужеродное вещество, которое будет расти и распространяться, будто оно имеет собственную жизнь. Возможно, это чужеродное вещество уже внутри каждого из нас, возможно это тот слабый голосок, который толкает нас приходить на такие собрания, какое-то семя неудовлетворённости, и его необходимо лишь питать и поддерживать. Возможно это чужеродное вещество — это единственное нечужеродное вещество в нас.
Я окинул взглядом свои мысли, чтобы понять, что говорить дальше.
— Можно ли заставить это случиться? – спросил я. – Можно ли сделать так, чтобы это не случилось? Не имею понятия. Моё мнение таково, что это не находится в пределах вашего прямого контроля. Вы должны молить об этом, используя «духовный автолизис», чтобы чётко сфокусировать своё желание и намерение, и выяснить, что хочет сказать тот маленький голосок, если вы хотите его услышать. Но мы возвращаемся к тому, что если вы не хотите этого, то вы не хотите. Это приводит нас самому центральному вопросу в этой теме – зачем? Зачем заставлять себя хотеть то, чего вы не хотите? Ради чего инициировать двухлетний приступ жестокой болезни? Это непростой вопрос, потому что для этого нет разумной причины. Вам нужно стать безумным, вы должны выйти из своего ума. То, что требуется для выхода из комнаты смеха Майи, настолько экстремально, настолько противоречит инстинктам и нормальным желаниям, что это не может случиться в состоянии ума, которое мы называем здравым.
Я сделал паузу, чтобы выпить воды. Группа выглядела немного понурой.
— Знаю, это не очень приятная аналогия, – сказал я, – но это одно из её достоинств. Пробуждение — это очень неприятный процесс. Это последняя детокс программа, поскольку термин «духовный автолизис» означает духовное самопереваривание. И запомните, если отбросить все метафоры и аналогии, то всё, о чём мы говорим, — это перестать верить в ложь, прекратить видеть то, чего нет, возвращение в наше чистое, неиспорченное, неискажённое состояние. Это именно так просто.
Я вновь раскинул перед собой руки.
— Итак, я повторяю свой вопрос. Зачем вы здесь? Чего вы хотите?
***
Мы сделали короткий перерыв. Когда все снова собрались, я стал вести речь в более разговорном ключе.
— Брэтт имела неверное представление о том, что здесь происходило, о том, какова была её роль, и каковы были ваши роли. Вызывает недоумение, почему она вообще вела эти встречи. Ошибка Брэтт была в том, что она думала, что вы приходите каждый месяц, так как хотите подхватить желудочный грипп. Она думала, что вы хотите заразиться и пройти через этот процесс, который я только что описал. Это вызвало некий отклик. Я шагал, пока они не утихли.
Она думала, что вы понимаете это, – сказал я, – и что вы хотите подвергнуться тяжёлой и продолжительной болезни, как это сделала она.
Молодой человек похожий на музыканта по имени Джастин встал и задал вопрос, который хотели задать все.
— Она думала, что мы приходим сюда потому, что хотим, чтобы нас два года тошнило, как вы говорите? – Именно.
— Но вы говорите, что всё это ради ничего.
— Лучше сказать «ничтожность» – ради «ничтожности». Абсолютно израсходованное содержимое вашего ментально-эмоционального пищеварительного тракта полностью опорожняется, оставляя вас опустошённым, словно скорлупа. Во всяком случае, да, в это легко поверить таким людям как я или Брэтт.
Джастин не поверил.
— Вы и Брэтт думаете, что люди действительно могут хотеть пройти через всё это? Да ещё ни за что?
— Хороший вопрос, и ответ подчёркнуто «да». Знаю, трудно в это поверить, но для меня и Брэтт это совершенно естественно. На наш взгляд, это элементарно. Более того, нам тяжело поверить, что все не стоят на коленях, умоляя об этом. Знаю, это звучит так же непостижимо для вас, но так есть. Во-первых, мы считаем этот опыт, который я описываю, процессом рождения из фантазий в реальность. По нашему разумению, просто нет другой альтернативы. Во-вторых, вот, вы все здесь. Вы пришли сюда просить о чём-то, даже если вы не знаете, о чём. Поэтому, да, мы ловим вас на слове. И наконец, третье, скажу, что я и Брэтт не совсем неправы в своих утверждениях. Я встречал очень немногих людей, и получал совсем немного писем от других людей, которые получили послание в том же духе, в котором я и Брэтт говорим о нём. Только очень маленький процент, но сильных и с чистым желанием и намерением людей.
— В вашей первой книге, – сказала Николь, – вы говорили, что один или два человека в год пробуждались с вашей помощью...
— Это количество удивительно выросло с выходом книг, и я вижу куда больше людей, которые хотят перестать выстраиваться в очередь на каждое показное мероприятие, и подходить к главным вопросам своего существования со зрелостью и здравым смыслом.
***
Я сделал перерыв, чтобы попить воды и дать этой последней части усвоиться. Возникло множество частных разговоров, но все затихли, когда я вернулся в центр.
— Почему необходимы такие крайние меры? Почему мы должны пройти через такое мучительное испытание, чтобы просто стать тем, чем мы являемся?
Не ожидая, что кто-то ответит, я усилил напряжение.
— Поток и затор, – сказал я, – являются основными действующими принципами в царстве сна. Для большинства людей, однако, есть только затор и нет потока. Они говорят, что мы — это духовные существа, получающие человеческий опыт, но на самом деле мы — это духовные существа с насмерть закупоренным желудком, получающие суб-человеческий опыт. Пандемии ожирения, диабета, сердечной недостаточности и рака, опустошающие западный мир, являются просто внешними проявлениями далеко зашедшего внутреннего состояния. Тогда как физически ожиревшие и больные только некоторые из нас, то духовно практически все мы ожиревшие и больные. Патологическое духовное ожирение — это бич, который косит человеческую расу, делая эту прекрасную планету чуть лучше аппарата для ухода за умирающими, где мы сидим со стеклянными глазами и с отвисшей челюстью, коротая часы жизни, о которой мы не просили, и с которой не знаем, что делать; это мир умирающих пациентов хосписа, которые колют себе в вену ароматизированный морфин и тянут время.
Этот пассаж оставил в кильватере несколько мгновений тишины.
— Но, может быть, это всё, чем хотят заниматься эти люди, – предположил немолодой человек по имени Генри, торопясь намазать эту свинью губной помадой, – быть духовными лежебоками. Ходить на работу, растить семью, зависнуть перед телевизором или что-нибудь в этом роде. Это не ад, это просто жизнь.
— Согласен, – согласился я. – Никто не пинает двери, вытаскивая людей из постели. Вы все приходили сюда, чтобы встретиться с Брэтт. Она не выискивала вас и не заманивала сюда, ведь так? Вы приходили к ней, прося этого сами, верно?
Генри кивнул, согласившись, остальные тоже закивали.
— Разве Брэтт когда-нибудь говорила о том, какая здоровская штука – просветление? Как оно может решить все ваши проблемы, наполнить вас любовью, покоем и счастьем, возвысит вашу душу, позволит превзойти человеческий уровень и даже смерть, даст вам особые способности, что-нибудь соблазнительное наподобие этого?
Никто не ответил. Это ещё один важный момент, который следует прояснить.
— Она когда-нибудь пыталась вас на что-либо уговорить? Убедить вас в чём-то, кроме как в том, чтобы думать самим, смотреть и видеть самостоятельно? Была ли она как гладко стелющий продавец, или целующий детей политик, который обещает, насколько лучше будет жизнь, если вы купитесь на его специальный духовный брэнд? Разве она осуществляла схему «быстрого благословения»? Разве она поддерживала какое-то учение? Разве она озаряла вас своей энергией шакти?
По трибунам прошёл небольшой смех, потому что всё, что я говорил, было так непохоже на Брэтт. Я подождал пока эти вопросы повисят в воздухе. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то подумал, что мы здесь собрались, чтобы попрощаться с каким-то любимым членом правления тюрьмы, ещё одним членом легиона лизоблюдов и подхалимов Майи, проповедником приятности, покорности, довольства – гипнагогии. Гипнагогия определяется как «фактор, вызывающий сон». Майа выпустила армию гипнагогов в мир, чтобы вызвать и удерживать состояние сна. Прекрасно. Я не спорю с этим. Я просто не хочу, чтобы сегодня здесь думали, что такой была Брэтт.
— Большинство из вас знают, что я испытываю довольно сильное презрение к духовному рынку. Порнографическая пародия на человеческое желание знать истину, кажется так я его называл. Вы понимаете, кого и что я имею в виду под этим?
Все закивали и заворчали, в основном соглашаясь.
— Кто-нибудь из вас думает, что это применимо к Брэтт? Разве она устанавливала распорядок? Пыталась разбогатеть? Строила организацию? Публиковала рекламу или блог? Ездила в туры? Разве хотела она быть популярной? Разве хотела она, чтобы в вас отражался её имидж духовно превосходящего существа? Разве она когда-либо даже улыбалась? Чёрт, разве она когда-либо была милой?
Все были очень внимательны. Они знали, что сейчас говорится что-то очень важное, что-то близкое к страшному краю.
— Разве она когда-либо требовала денег? Пыталась вам что-нибудь продать? Пригласить вас на круиз или ритрит на берегу? Разве она когда-нибудь наряжалась, принимала титул, или духовное имя? Разве она когда-нибудь заявляла о своём учении или о линии учения? Разве она когда-нибудь произнесла хоть слово на японском или санскрите? Разве она выключала свет на собраниях? Или включала музыку? Или зажигала свечи? Начинала с молитвы или медитации? Что-нибудь в этом роде?
В ответ лишь лёгкий смешок. Это важный момент, как и перечисление всех учителей и авторов. На сегодня у нас запланировано хорошее шоу, но ничто из этого не имеет смысла, если эти люди уйдут отсюда, смешивая Брэтт с миром духовной проституции.
— Брэтт была реальной – сказал я, – а это такая редкая вещь, что её очень легко не узнать при встрече. Ей не был присущ неистовый темперамент. Тот тихий, задумчивый человек, которого некоторые из вас видели на последнем собрании, ближе походил на то, как она была далека от всего этого. Очень непросто говорить о пробуждении, и ей пришлось стать другим человеком, который смог бы это сделать. Она прекратила встречи, когда поняла, что каждый раз во время наших с ней бесед я говорил правду – что между учителем и учениками совсем нет связи. Совсем. У нас нет того, что вам нужно, и вы не хотите того, что у нас есть. Брэтт не хотела в это верить, но в конце концов она не могла не увидеть, что это было правдой, и тогда она прекратила встречи. У меня есть другие причины продолжать это учительство, но у неё их не было.
***
— И теперь, с помощью Далай Ламы, я отвечу на тот вопрос, который задавал. Вопрос такой: зачем вы здесь? Чего вы хотите?
Я достал лист бумаги из заднего кармана, развернул его и прочёл одну из цитат, которые нацарапал на нём заранее.
— При конечном анализе, сказал Далай Лама, каждый человек надеется просто на покой ума.
Я свернул бумажку и убрал её.
— Кто-нибудь не согласен?
Никто.
— Я тоже, – сказал я. – Чего вы хотите? Покоя ума. Вот так просто. И вы приходили сюда, ища покоя ума у Брэтт, но она думала, что вы пришли сюда за абсолютно противоположным. Она была разрушителем, возбудителем, метафизическим анархистом. Её делом было крушить и сжигать. Она была иконоборцем, революционером. Она думала, вы желаете войны, а вы всё время хотели мира. Я согласен с Далай Ламой – покой ума, духовная гармония — это то, чего в реальности ищут практически все искатели везде и во все времена. Всё обретает совершенный смысл, если посмотреть с такой точки зрения. Почему все ищут, но никто не находит? Потому что они ищут не истину, рост или изменения, они ищут покоя ума. Всё остальное – просто маскарад.
— А что плохого в покое ума? – спросил Джастин.
— Ничего, – ответил я, – просто это не сочетается с таким человеком, как Брэтт. – Или как вы, – сказал он.
— Или как я, да. Лично я, думая о покое ума, содрогаюсь от отвращения. Для меня это лишь причудливый способ сказать, что люди просто хотят продолжать жевать свою жвачку и пастись с опущенной головой в окружении товарищей по стаду – неосознанные, незаинтересованные, неживые. Для такого человека, как я или Брэтт, покой ума — это враг. Это самое худшее на свете. Это корова, это сокамерник, это безволосый эмбрион, который по-прежнему вставлен в матрицу. Я имею в виду покой ума. – Я сложил пистолет из пальцев и вышиб себе мозги. – В чём смысл?
Это их немного взволновало.
— Не обижайтесь, здесь определённо нет вашей вины. Это универсальная динамика искателей. Вы можете пойти практически к любому духовному учителю или члену духовенства, и они помогут вам найти покой ума. Брэтт была тем, кто не понимал этого. Она не просто не знала, что вы хотите покоя ума, для неё это желание было непостижимым. Даже если бы вы сказали ей об этом напрямую, она не смогла бы уложить это в своей в голове. Она приравняла бы покой ума со сном, а это означало бы, что вы приходите к ней и просите её усыпить вас. Вот здесь и разрыв между нами. Так же, как вам не понятно, что мы думаем, что вы приходите сюда, чтобы сжечь свою жизнь, так и мы не понимаем, что вы приходите сюда, прося усыпить вас.
***
Я дал сигнал на перерыв, и все стали подниматься и потягиваться. Через пятнадцать минут все вернулись на свои места и несколько минут беспорядочно болтали между собой. Спустя некоторое время я представил Лизу. Она вышла, держа в руках свой ежедневник, явно чувствуя неудобство и смущённость. Ей и вправду было непонятно, что она – духовный неофит – преуспела там, где легионы духовных ветеранов потерпели неудачу. Она согласилась выступить. Я не старался её убедить. Она поняла, что я пытался ей показать, что ей предстоит ещё много сделать, и она решила, что будет это делать, и что рассказ своей истории, стоя перед этими людьми, может помочь ей в этом.
Она открыла ежедневник, достала фотографию и передала её кому-то в первом ряду, чтобы пустить по кругу. Тяжёлую историю ей придётся рассказать. Она начала медленно, зажато, в манере болезненной эмоциональной исповеди, опустив глаза, мягким, колеблющимся голосом, но потом нашла тихий, сердечный ритм, и история потекла. Я вышел, чтобы своим присутствием не усложнять ей задачу. Двадцать минут спустя, находясь на прилегающем поле, я услышал громкие продолжительные аплодисменты, и понял, что она справилась.
Брэтт и я никогда не срывали аплодисментов.
29. Эпитафия другу.
Лёжа головой на твоих коленях, камерадо, я продолжу своё признание – то, что я начал говорить тебе там, на открытом воздухе: знаю, я беспокоен, и беспокою других, знаю, мои слова – орудия, полные опасности, полные смерти, (поистине я реальный солдат, а не тот со штыком, и не артиллерист с красными нашивками), ибо я противостою покою, безопасности и всем установленным законам, чтобы нарушить их; я более решителен, потому что все отвергли меня, чем я мог бы быть, если все соглашались бы со мной; я не замечаю, и никогда не замечал, ни опыта, ни осторожности, ни большинства, а так же насмешек; и угроза, что называется адом, лишь мелочь или ничто для меня, и соблазн, что называется раем, лишь мелочь или ничто для меня.
Дорогой камерадо! Признаюсь, я убеждал тебя идти со мной, и снова убеждаю, не имея ни малейшего представления, куда мы направимся, и будем ли мы праздновать победу, либо нас полностью разобьют и повергнут.
– Уолт Уитмен –30. Речекряк[28].
«Помнишь, я говорил, что собираюсь рассказать о жизни, приятель? Так вот, жизнь — это довольно странная штука. Люди всё время говорят о правде. Каждый всегда знает, что такое правда, будто это какая-нибудь туалетная бумага, которой в чулане уйма. Но по мере взросления, начинаешь понимать, что никакой правды нет. А есть просто дерьмо собачье, прошу прощения за грубость. Прорва дерьма. Один слой дерьма за другим. И ты, когда становишься старше, выбираешь слой дерьма, который тебе больше нравится, и это становится твоим дерьмом, так сказать».
– Берни Ла Плант, «Герой» –Я вернулся на арену полчаса спустя и нашёл всех разбившимися на кучки, занятыми различными разговорами, сидящими и стоящими, пьющими и жующими угощения с прекрасно укомплектованного стола закусок, неизвестно откуда взявшегося. Обменявшись улыбками с Лизой, живо общавшейся с загадочным доктором Кимом, я стал переходить от группы к группе, прислушиваясь к разговорам. Говорили о Брэтт, об истории Лизы, о решающих различиях между школами дзен Риндзай и Сото, о недостатках бойфренда, о потрясающем новом духовном учителе в Мэриленде, у которой во время медитации у студентов заворачиваются глаза так, что они могут видеть свой третий глаз, о местных ресторанах. Я пошёл дальше.
Когда мне задавали вопрос, я отвечал, но в основном, слушал. Лоуренс, парень, распространявшийся о дзен, провёл двадцать лет, как я понял, усердно медитируя у различных дзен мастеров в Нью-Йорке и на западе страны, и в настоящее время писал книгу о своих переживаниях. Он сообщил мне, что мои взгляды на дзен слишком упрощённы, что в дзен есть нечто бесконечно большее, чем горячий и узкий поиск просветления. Я без иронии поблагодарил его и отчалил назад туда, где, помнится, говорили о местных ресторанах, но теперь там говорили о чём-то другом.
Должен признать, от дзен у меня и правда шарики за ролики заходят. Он с незапамятных времён был предметом моего смущения и разочарования. Когда я думаю о дзен, я знаю, в нём что-то есть, но когда я смотрю на дзен, я не могу ничего найти. Черчилль говорил, что демократия — это худшая форма правления, за исключением всех остальных. Нечто похожее я мог бы сказать о дзен – это худший путь к просветлению, за исключением всех остальных. Дело не только в том, что дзен был американизирован, гомогенизирован, коммерциализирован и исковеркан до неузнаваемости. Я изучал многовековую историю дзен и обнаружил, что он уже давным-давно благополучно покинул свой опасный центр. Я присматривался ко многим высоко почитаемым дзен мастерам востока и запада, и мне стало совершенно ясно: дзен мастер — это не синоним пробуждённого, реализовавшего истину существа. Честное слово, я не знаю, что такое дзен мастер, если он не пробуждён, или что такое дзен, если это не уничтожение эго, но любой, кто будет использовать эти критерии для собственного поиска дзен мастеров, немедленно заметит резкое падение количества от миллионов известных людей до сомнительной горстки, и очень немногие из больших имён выдержат подобную чистку.
Искренний ищущий может провести десять лет подряд в дзен монастыре, сидя у ног почитаемого мастера, практикуя дза-дзен в абсолютной дисциплине, перенося боль, удары палкой, мучительные часы самоотверженной тяжёлой работы, впитывая каждое слово, каждую притчу, каждую каплю учения, и в конечном итоге, зная о дзен не больше, чем извозчик, который отвезёт его в город, когда он решит наконец завязать с этим делом. Самое интересное, что даже когда он уедет с мыслью о том, что всё это было зря потраченным временем, он будет в то же время знать, что не ошибался. Он будет знать, что сделал правильный выбор, что чего он хотел, было где-то там, он просто не смог его найти. Помешал всё тот же другой дзен.
Дзен — это спортивная машина без двигателя. Смотрится круто, но без мотора мы никуда не уедем. Мы можем запрыгнуть за руль, имитировать губами звук мотора, крутить руль, переключать скорости, делая вид, что мчимся по духовной местности, но когда устанем от этого через десять минут или десять лет, мы вылезем из этого эротического болида в точности там, где в него залезли. Так зачем же об этом говорить?
Я мало думал о дзен с тех пор, как написал первую книгу, но этим летом, а так же по пути сюда, я много размышлял об опыте Лизы, и понял, что вижу в ней реальный дзен – такую мощную и непоколебимую силу, которая может непрошенно ворваться в жизнь человека и закинуть его словно тряпичную куклу в очаг крушения иллюзий.
От этого можно сойти с ума. Я имею в виду, вот она, прекрасная жена-домохозяйка, супер мамочка, женщина с отличной карьерой, во всех смыслах успешный человек, и вдруг как гром среди ясного неба, Бам!, её прекрасная, связанная воедино connect-the-dots жизнь резко отбрасывается в детство. Не в просветление, но в процесс смерти-перерождения, который отмечает начало путешествия. Любого путешествия.
Я видел в Лизе реальный дзен, не давным-давно умерший дзен мифов и рыночной площади. Не тот второстепенный отвлекающий труп дзен, который всё ещё соблазняет деревенщин, или пританцовывающий дзен-зомби, который продаёт энергетические напитки и газонную утварь по приказанию Свенгалиса с глазами-долларами на Мэдисон Авеню, но преисподнюю в самом сердце дзен. Без треннингов, без посредников, без сформулированного желания или особого намерения, Лиза каким-то образом нырнула прямо в самую суть.
Почему Лиза? – спрашивал я. Чем она отличалась? Миллионы людей видели эту фотографию падающей женщины и множество подобных. Мир полон кажущихся бессмысленными трагедий. Мы все висим на волоске, и время от времени каждый получает напоминание об этом. Не каждый поступает так, как поступила Лиза, однако. Большинство из нас отворачиваются от такого выбивающего из колеи откровения, в отличие от Лизы, которая повернулась к нему. Она не смогла позволить себе отвернуться. Было ли это предназначением, или свободной волей, или чем-то ещё – вневременным, внепространственным? Не имею понятия, но я знаю, что она сделала то, что практически все духовные искатели, по всей видимости, должны делать, но не делают – она отпустила иллюзию контроля. Но видимости могут быть обманчивыми, и духовные искатели не всегда знают, если вообще знают, что они ищут. Вот что поняла Брэтт, когда прекратила собирать эти встречи.
В терминах дзен Лизе за три трудных года удалось опустошить свою чашу – впечатляющий и в высшей степени необычный подвиг, особенно для человека, так глубоко укоренённого в жизни, какой была Лиза. Она никогда не просила об этом, никогда не хотела этого, но оно пришло, и она приняла его.
Непостоянство стало личным коаном Лизы, и те тысячи минут, что она провела, уставившись на это неясное фото падающей женщины, были её практикой дза-дзен. Это реальный дзен, пылающий изнутри реального человека. Кому нужны хлопки одной ладонью, или твоё лицо до твоего рождения, или любая из этих причудливых завораживающих ум штук? Что может более завораживающим, чем собственная смерть, маячащая впереди? Что может быть более сокрушительным для эго, чем раздумья о бессмысленности и незначимости? О ничтожности? О не-я? Вот Лоуренс, умный, преданный человек с двадцатилетним стажем изучения дзен за поясом, пишущий непременную книгу и уже подписавшийся ещё на двадцать лет, продвинулся настолько же реально, как и любой, выбранный наугад из толпы, или намного меньше, в зависимости от того, что считать анти-прогрессом. А вот Лиза, не имея ни заинтересованности, ни мотивации, крепко засевшая в своей уже порядком заезженой круговой колее, достигла успеха такого уровня, который закалённый ветеран типа Лоуренса не может даже признать таковым.
***
— Мы можем использовать возможность, предоставленную опытом Лизы, чтобы поближе рассмотреть дзен, – сказал я группе, призвав их снова к порядку. – Вопреки самому себе, дзен — это то, что мы имеем в виду, когда говорим о сдирании многослойной кожуры ложной идентификации. Если убрать все внешние атрибуты дзен – учения и церемонии, различные школы, позы и коаны, всё, о чём вы думаете, как о дзен – и выбросить всё в огонь, что останется? Что является истинным ядром дзен после того, как все маски и идолы сгорят?
Я сделал паузу, так как хотел, чтобы они подумали над этим.
— Огонь, – ответил я. – Останется огонь. Дзен — это огонь.
Лоуренс покачал головой.
— Вы можете говорить, Лоуренс, – сказал я.
Он раздражённо вздохнул и встал. Обращаясь не только ко мне, но ко всей группе, он говорил о настоящем дзен, который я, похоже, игнорировал. Он говорил о патриархах, о древних корнях, о нынешнем дзен, засвидетельствовал почтение собственным учителям и их учителям. Он говорил о наследии, философии, обучении и стиле жизни, практике и посвящении, личной борьбе, традиции, самоотдаче, жертвоприношении. Интеллигентный, красноречивый, он был знатоком своего дела. Я дал ему выговориться несколько минут, поскольку в интересах Брэтт я оптимистично смотрел на то, что некоторые здесь сегодня, глядя на Лоуренса, увидят то, что вижу я: маленького мальчика, который боится темноты, и проводит жизнь, закапываясь в крепости дзен – взрослая версия съёживания под одеялом, прячась от воображаемого бабайки.
Родители говорят своим детям, что никакого бабайки нет, но это потому, что они сами ещё не откинули одеяла и не включили свет. Бабайка существует. Он преследует вас, и когда-нибудь настигнет. Бабайка реален. Он самая реальная вещь в царстве сна, и реальный дзен, если такой существует, это разворот к нему, не от него.
Во время своей речи Лоуренс несколько раз пытался вовлечь меня, втянуть в спор, но меня не проведёшь, и я махнул ему, чтобы он продолжал один. Первое правило в этом деле — это не позволять им затягивать себя в свои выдуманные владения. Он хотел втащить меня в грязь и болото слов и концепций, в тёплую липкую жижу нескончаемого тупика. Это его стихия, здесь он и многие другие подобные ему чувствуют себя наиболее комфортно, имитируя звук мотора, занятые тем, что стоят на месте.
Пока Лоуренс говорил, я наблюдал за группой. Не всегда легко помнить, что эти люди не такие как я – они выглядят и говорят как будто не спят, но это не так. Они спят и видят сны, говоря и двигаясь во сне. Их слова имеют для них значение внутри царства сна, но на мой взгляд по большей части это бормотание. Они редко выражают связную мысль или формулируют чёткий вопрос. За несколько минут непрерывного дискурса на тему дзен, Лоуренс не сказал ничего, что можно было бы отнести к теме пробуждения от иллюзии.
Глядя на хлопающее ртом безглазое лицо, Уинстон испытывал странное ощущение, что это было не живое человеческое существо, а какой-то манекен, в котором говорил не человеческий ум, но его глотка. То, что из неё исходило, состояло из слов, но не было речью в истинном смысле – это был бессознательно производимый шум, подобный кряканью утки. – Джордж Оруэлл, «1984».
Как же общаться через это огромное разделение? Метафоры и хорошо известные истории, как книги и фильмы, предоставляют общую основу для выражения идей, но если отойти в сторону от этой территории в любом направлении, это будет похоже на то, когда радио съезжает с чистого канала на статический шум.
Если, стоя здесь перед этими людьми, ты привязан к результату, как была привязана Брэтт, тогда совершенно естественно, что тебе это начнёт немного надоедать, и в конце концов, ты всё бросишь. Пропасть, разделяющая эти состояния, по-настоящему реальна, и все попытки общения через неё – неотъемлемо являются донкихотством. До тех пор, пока студент, искатель или читатель не начнёт перекрывать разрыв в сознании со своей стороны, никакая реальная коммуникация не возможна. Пока кто-то не поймёт, что на самом деле его глаза закрыты, и не начнёт процесс, который заставит его прекратить видеть то, чего нет, всё, что будем говорить мы с Брэтт, не сыграет никакой роли. Стена, разделяющая пробуждённое и непробуждённое состояние не концептуальная, теоретическая или метафорическая. Интеллект не может пронзить её, благочестие не растопит, пыл не сожжёт. Это силовое поле, питающееся от эмоциональной энергии страха, поэтому всё, что мы бросаем против него, переходит к нему. Только смерть эго разрушает этот барьер, потому что этот барьер и есть само эго. Отделённое «я» должно отступить, чтобы дать дорогу интегрированному «я».
***
Весь вечер продолжался больше четырёх часов, меньше двух из которых я обращался к группе. В остальном это было просто лёгким разговором и тихими воспоминаниями.
В течении следующего получаса мы болтали о том о сём. Вместе обсуждали Бхагавад Гиту, пытаясь выяснить, является ли Кришна в действительности Майей, а Песнь Господа – колыбельной. Мы говорили о «Матрице», положив её лекалом на наш собственный мир, чтобы посмотреть, как она соответствует ему, и как каждый вписывается в неё, включая нас здесь сегодня на этой конной арене. «Вы – Морфеус?» – кто-то спросил меня. «Брэтт была больше похожа на Морфеуса», – сказал другой. «Джед больше похож на программу». «Нет, он красная пилюля», – кто-то ответил, и все засмеялись. Многие принесли с собой экземпляры моих книг, и многие вопросы исходили из них. Мы говорили о «1984», с которым они были кое-как знакомы, о «Моби Дике», который у многих был, но немногие его читали, о Уитмене и Торо, о Ю.Дж.Кришнамурти. На арене было так приятно и мило, горели только несколько ламп, шёл лёгкий дождь и продувал нежный ветерок. Оставаясь в рамках книг, метафор и аллегорий, мы могли наслаждаться интересным и поучительным диалогом.
Я знал, что из этих семидесяти человек, возможно, один сможет сделать что-то реальное, но вероятно, никто не сделает ничего. Они в основном просто туристы, что для меня нормально, но для Брэтт это было потрясением. Из тех, за кем я наблюдал, самым искренним казался доктор Ким, но я знал, что он не собирается взрывать свою святую троицу – работа, дом, семья – из-за какой-то маленькой формальности, что он фиктивный персонаж в фиктивном мире. Лоуренс так глубоко находился в своей роли преданного приверженца дзен, что никогда не увидит нового проблеска дневного света. Есть и другие, которые кажутся искренними или преданными, но при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что это встроено в их персонаж – казаться искренними и преданными, либо что их духовность как-то неловко модернизирована, и перепускной клапан не был предусмотрен проектом.
Конечно, всегда есть тот, кто удивляет. Может быть, где-то на трибунах сидит Брэтт или Лиза. Если и есть такой человек, то, скорее всего, это не кто-то из наиболее вероятных кандидатов, но один из тихих, сидящих на заднем ряду людей, который, медленно накапливая жар, начинает гореть изнутри.
***
Я объявил перерыв и пошёл прогуляться к озеру. Оказавшись там, я увидел, что мои беспокойства по поводу нехватки места уже приняты в расчёт. Берег был расчищен и выкошен, натянут средних размеров навес, и по меньшей мере сотня складных стульев были расставлены полукругом лицом к яме для костра и к озеру. Я надеялся отыскать здесь дюжину поленьев и пинту бензина для костра, но об этом тоже позаботились. Большой, прекрасно уложенный костёр стоял в ожидании. Площадка вокруг костра, где раньше было тесно двадцати людям, теперь могла вместить сотню.
Я знал, что часть вечера возле озера пройдёт удачно, что мы организуем костёр и втиснемся все какнибудь, но я и не представлял, что об этом так позаботятся. Доктор Ким.
Я сразу понял, что он приложил здесь руку, как подтвердила позже Николь. Доктор Ким нанял уборщиков территории и дневных рабочих, достал стулья, тент и несколько столов из своего храма, управившись за три дня.
У меня была последняя сигара, оставшаяся от Фрэнка. Эта часть была немного запланирована. Мне хотелось создать паузу в сегодняшних событиях, когда можно было бы в одиночестве спуститься к озеру, прикурить сигару, молча обойти вокруг него и просто поразмышлять. Я делал много классных вещей в жизни, больше чем просто прыганье с парашютом, написание книг, освобождение от иллюзии, но я не знаю большего удовольствия, чем приятно прогуляться в приятном месте приятным вечером. Хотелось бы, чтобы Майа была со мной.
— Я всегда рядом, – сказала она.
— Я имел в виду собаку, – ответил я.
Дождь перестал, в облаках появились просветы, в которые заглядывала почти полная луна. Идеально. Я прикурил сигару и отправился в путь. Эта маленькая прогулка должна была быть тихой, задумчивой, исполненной смысла, когда я отдам дань Фрэнку, Брэтт и многим другим, кто сыграл важную роль в моём путешествии. Я знаю, что для меня всё заканчивается, и это должно было быть кругом почёта, где я оглядываюсь на одну жизнь, и, возможно, смотрю вперёд на будущую.
Нужно было лучше знать, прежде чем пытаться отколоть подобный сопливый номер. Сигара имела отвратительный вкус. В противовес нужна была какая-то выпивка, а выпивки у меня с собой не было. Дорожка вдоль озера, по которой Брэтт ходила столько тысяч раз, теперь вся заросла ежевикой, словно колючей проволокой. Пройдя метров двадцать, я решил бросить эту дурацкую затею. Сигара отправилась в озеро, а я отправился обратно к конной арене.
Сентиментальная чушь.
31. Укротитель демонов.
Единственное, что горит в аду, — это та часть вас, которая не может отпустить вашу жизнь – ваши воспоминания и привязанности. Сжигая их, вас не наказывают, но освобождают вашу душу. Если вы боитесь умирать и цепляетесь, вам покажется, что демоны отрывают вашу жизнь. Если же вы сохраняете спокойствие, тогда демоны — это поистине ангелы, освобождающие вас с земли.
– Льюис, «Лестница Якоба»[29] –— Большинство из вас, вероятно, знают, что мне удалось достичь состояния реализации истины посредством процесса «духовного автолизиса». Я говорил об этом в первой книге. Все, кому удалось достичь этого состояния, пользовались каким-то способом. Кто-нибудь знает, каким способом пользовалась Брэтт?
Поднялись несколько неуверенных рук. Я указал на парня впереди.
— Это имело какое-то отношение к её отцу, – сказал он.
— Прямое отношение, – подтвердил я, – хотя это было через несколько лет после того, как он умер. Он был военным офицером, и Брэтт была дочь полка – она жила в куче разных мест, в разных странах. Её отец был очень придирчивым человеком, во всём находил неправильность, всегда судил. Так Брэтт о нём рассказывала. Даже когда он умер, он постоянно присутствовал в её мыслях. Все знают, что значит иметь в своей голове критикующий голос? Какой-то человек, или мысль, или эмоция, которая обосновывается в вашей голове и имеет тенденцию быть немного назойливой?
Все подняли руки и закивали от мрачного знакомства.
— Ну, вот это и есть демоны. Демон — это хороший способ описать нечто нежелательное, обитающее в нашей голове, у которого, кажется, собственный ум, и оно имеет власть над нами, держит нас на крючке – память, люди, пристрастия. Демоны по-разному мучают нас, но главное, что они делают, это тянут нас назад, ограничивая наш прогресс.
— Это, кстати, последний урок Брэтт вам. Это идёт от неё. Она поведала мне всё однажды вечером в прошлом году. Мы сидели возле озера после собрания, костёр догорал, и она рассказала мне, насколько болезненным был голос отца в её голове. Всегда присутствующий, вечно критикующий и умаляющий – реальный рак души. Обычно я не особенно терпим к такого рода откровениям. Если бы Брэтт была моим студентом, я бы постарался внушить ей, чтобы она перестала хныкать над своими детскими горестями и печалями, чтобы она оставила их позади и двигалась дальше. С трибун донеслись звуки неодобрения.
— Может, это звучит жестоко, – продолжил я, – но проблемы такого рода решаются их трансценденцией, а не борьбой с ними. Наше дело убить демонов, а не кормить их.
Это вызвало множество хмурых и сомнительных взглядов, поэтому мне пришлось продолжить. Я планировал просто ограничиться упоминанием об отце Брэтт, как о чрезвычайно выразительном примере демонизма, который только можно найти, но теперь мне стало ясно, что демонологии следует уделить несколько минут.
— Представьте, что вы вылезаете из тёмной канализации, и какой-то зверь впился зубами вам в ногу, свирепо рыча и повиснув на вас, пытаясь с силой утащить вниз – демон. Неужели вы запрыгнете обратно в люк и будете с ним драться? Многие думают, что так и надо поступить, но зачем? С демонами нелегко бороться, потому что это симптомы, а не причины, и даже если вы одного убьёте, всегда останутся ещё. Что дальше, смертельный бой со своим пристрастием к аккуратности? Дуэль на рассвете с любовью к шоколаду? Единственным результатом этих битв является то, что вы никуда не двигаетесь – вы по-прежнему в канализации. В действительности вы убиваете время, а время — это всё, что у вас в действительности есть. Вы не убили демона, вы потеряли часть своей жизни, а это значит, победили они, победила та часть вас, которая боится двигаться вперёд. Вы должны спросить себя: какова ваша цель? Достичь умственного равновесия в канализации или вылезти из неё? Убить каждого маленького демона или выбраться из мест их обитания? Не смейтесь, будто это очевидно, все ищут решение внутри канализации, вместо того, чтобы сбежать из неё. Сражения с демонами — это основная форма борьбы с тенями. Вы просто мутузите пустую проекцию самого себя. Условно говоря, если демоны не захватывают вас, тогда они просто не существуют – это именно так просто.
— Это похоже на отмазку, – сказал Джастин, – как способ не решать свои проблемы.
— Кто согласен с Джастином? – спросил я группу, и многие закивали и подняли руки.
— Я тоже, – согласился я. – Это похоже на отмазку, но решать свои проблемы – вот реальная отмазка. Вот метод избежать реальной войны, заняв себя на уровне мелких перестрелок. Кто бы не предпочёл бороться против своего пристрастия к кофе вместо пристрастия к бездумному конформизму?
Они засмеялись.
— Когда мы разовьём в себе более тонкое и очищенное понимание сущности демонов, идентифицируя их по действиям, а не по виду, мы начнём видеть, что демоны не ограничиваются пристрастиями и критикующими голосами. Это просто негативные привязанности, удерживающие нас запертыми в эго сфере, это все привязанности. Подход к жизни и духовности, когда мы уменьшаем плохие вещи – грехи и привязанности, и увеличиваем хорошие вещи – любовь и сострадание, никогда и никого не продвинул ни на один шаг к пробуждению.
Половина из них смотрела с сомнением, половина была сбита с толку.
— Например, – объяснял я, – если я азартный игрок, тогда значительная часть моей жизненной энергии – моё время, мои мысли и эмоции – будет уходить либо на игру, либо на борьбу с непреодолимым стремлением к игре. Но для наших целей, кормить моё пристрастие и бороться с ним — это на самом деле одно и то же. Победит ли меня мой азартный демон, или я побью его, не имеет значения, имеет значение то, что я сижу в своей тюремной камере полностью вовлечённый в процессы, которые никогда не сдвинут меня ни на сантиметр ближе к освобождению. Вот что делают демоны. Они как армия летучих обезьян Майи. Они всегда ведут отвлекающие манёвры, которые тратят наши ресурсы, и не дают нам двигаться вперёд. В этом состоит их цель – занять нас, а не одолеть.
***
В «1984» есть интересная параллель. Страна Океания имеет возможность создать высокий уровень жизни для каждого человека, но правящая партия желает, чтобы все оставались в нищете и, таким образом, в рабстве.
Проблема сейчас в том, чтобы колёса промышленности продолжали крутиться, не увеличивая при этом благосостояния мира. Товары должны производиться, но они не должны распространяться. И на практике единственным способом достижения этой цели являлось ведение непрерывной войны. – Джордж Оруэлл, «1984».
Непрерывная война. Люди работают на фабриках, производя корабли и танки, которые уничтожаются в вечной войне, в которой никогда нет ни победителей, ни побеждённых. Люди остаются занятыми, производство остаётся высоким, тогда как уровень жизни остаётся низким, и надежда на свержение угнетателей остаётся несуществующей.
Демоны похожи тем, что они не существуют для того, чтобы победить или проиграть, но лишь для того, чтобы удерживать нас в занятости. Скажем, к примеру, что после двадцати лет борьбы с моим пристрастием к азартным играм мне наконец удалось одолеть его. Что я могу предъявить как трофей этой победы? Потерянные двадцать лет.
***
— Демоны отвлекают и рассредоточивают нас, – продолжал я, – с чем очень эффективно можно бороться с помощью «духовного автолизиса». Необходимость иметь дело с мучающими демонами возникает снова и снова по мере нашего прогресса, поэтому вы должны знать, что делать в смысле политики – продолжать лезть вверх или спрыгнуть вниз и драться? Мой совет: деритесь, когда это необходимо, лезьте, когда можете. «Дальше» — это всё. Используйте письмо, чтобы сохранять жёсткий фокус, и демоны умрут от недостатка внимания.
— А нет ли возможности использовать этих демонов в каком-то положительном ключе? – спросила Шанти. – Вы говорите о том, как тёмные эмоции могут быть полезными, а могут ли демоны быть так же полезными?
— Да, – сказал я, – и это приводит нас вновь прямиком к Брэтт. Присутствие её отца в уме было намного серьёзнее, чем кто-либо из нас может себе представить. Я никогда не слышал о подобном, пока Брэтт мне не рассказала. С тех пор я изучил это и обнаружил, что для некоторых людей критикующие внутренние голоса могут быть действительно разрушительными.
Никто не двигался и не говорил. Не думаю, что Брэтт на этих собраниях когда-либо нянчилась. Ей было так же безразлично мирское эмоциональное, психологическое и биографическое содержание, как и мне. Смысл не в том, чтобы изучать, понимать и лелеять мешки с камнями, которые мы тащим, смысл в том, чтобы их бросить.
— Всё это было в прошлом, когда Брэтт была просто нормальным человеком, до какого бы то ни было пробуждения, до возникновения какого-либо интереса к этому. Присутствие отца-демона в её голове было постоянным и чрезвычайно ядовитым. Что бы она ни делала, или думала, он был всегда там – громкий, презрительный, разрушающий. Она потратила час, рассказывая мне, чем это было для неё, и я был заинтригован, потому что она не была печальна, не всхлипывала, не жалела себя, она улыбалась с видом воина, вспоминающего былые сражения – выигранные и проигранные. Даже когда она была тихой и задумчивой, она могла рассказать хорошую историю.
Все смеялись и улыбались.
— Но вдруг, рассказывала она, это стало слишком. Она больше не могла вынести присутствие этого гиперкритика в своей голове. Жизнь утеряла всякое удовольствие. Всё, что бы она ни делала, было плохо. Она не могла наслаждаться ничем. Она пыталась найти облегчение в наркотиках и алкоголе. Полагаю, это более тяжёлый случай, чем знают большинство из вас?
Глаза были широко открыты. Никто не возражал.
— Это была вся её жизнь с тех пор, как она была ребёнком. Двадцать лет негативного, изводящего, ноющего голоса в голове. Она была близка к самоубийству. Подумайте об этом. Так ей было плохо. Так всё было серьёзно. Она знала, что он никогда не уйдёт. Она знала, что не могла сражаться с ним. Она знала, что не имеет значения, что она делает в жизни, этот голос всегда будет высасывать радость, разрушая всё, а поскольку отец уже умер, она не могла противостоять ему лично и хоть как-то изменить их взаимоотношения, что оставляло ей ещё меньше надежды. Она была в западне, и выхода не было. Вот так она описала всё это мне сквозь строгую улыбку. Вы все знали, что у неё был рак?
Они зашумели, поражённые. Я был почти уверен, что никто не знал об этом, кроме доктора Кима.
— Это не удивительно, я думаю, что злокачественность ума и духа может в конечном итоге проявиться злокачественностью в теле. Это было когда ей было почти тридцать, до встречи с кем-либо из нас. К тому времени ей поставили неутешительный диагноз, и это заставило её всё больше задумываться о более масштабных проблемах.
Я замолк, шагая, позволяя своим мыслям уйти с дороги.
— Она говорила мне, что в наихудшие времена она была в ужасном состоянии. Очень худая, все мышцы напряжены, мигрени, плохой сон, всегда сутулилась, в голове туман от лекарств и тошнота от химиотерапии. Она жила здесь, на ферме, но хозяйства не вела – ни животных, ни полей и садов. Лишь этот голос в голове, издевающийся над каждой мыслью, и довольно мрачный прогноз докторов.
— Она справилась с этим, верно? – спросил Джастин, – То есть, это было больше десяти лет назад, ведь так? Она победила рак?
Я смотрел на эти лица, с нетерпением ждущие моего ответа.
— Она задала ему жару, – ответил я, – Вы видели её, вы знали её. Она выглядела больной?
Напряжённой? Слабой? Уставшей?
— Нет, – сказал он. – Как он победила его?
— А как вы думаете? – переспросил я, развернувшись ко всей группе. – Каким образом Брэтт одолела рак? Химия? Альтернативная медицина? Сила молитвы? Позитивное мышление? Мексиканская клиника? Техника визуализации?
Я шагал туда и сюда, не торопясь.
— Кто-нибудь скажет? Как вы думаете, как Брэтт удалось победить то, что доктора определили как последнюю стадию рака?
Наконец, я остановился перед доктором Кимом.
— Сэр?
Он взглянул на меня и произнёс сдавленным шёпотом. – Она перестала бороться.
***
— Она перестала бороться, – сказал я после продолжительной паузы. – Она перестала сопротивляться. Всё, что она столько лет старалась подавить, теперь начала позволять. Она знала, что побеждена, знала, что ей нечего терять. Она не нашла поддержки ни в церкви, ни в медицине, ни где-либо ещё, поэтому она просто перестала бороться.
Я помолчал минуту, чтобы им в голову пришла неверная мысль.
— Знаю, это звучит парадоксально, – продолжил я, – как если всё бросить, проявить слабость, но когда я говорю, что она перестала бороться, я имею в виду, что она перестала вкладывать всю свою энергию в защиту. Этот один простой акт является ключом ко всему. Это точка перехода из отделённого в интегрированное, из Детства во Взрослость. Эго — это затор, сдача — это поток. Сдача — это основа и предвестник роста. Это сама его суть. Нет ни обходного, ни короткого, ни альтернативного пути. Можно подделать его, как это делают многие, но вы обманете только себя. Никакой рост невозможен внутри ограничений эго, только иллюзия роста. До сдачи есть эго – мелкое, невежественное, отделённое «я». Освободившись от этой вредоносной искусственной мелочности, мы входим в поток согласия. Бам! – прямо вот так. Налаживание различных аспектов нашей жизни может занять дни, месяцы, годы, но начальный толчок так же разителен и отчётлив, как выползание из тёмной вонючей канализации на свежий воздух и ослепляющий солнечный свет. До этого, мы просто глупые, поглощённые собой похожие на крыс маленькие существа, но после того, как мы перестаём утверждать фальшивое отделение, мы приобретаем такие же размеры, что и океан бытия, в который вливаемся. Практически вся религия и духовность учат, как быть невежественно счастливым в канализации, потому что именно этого хотят люди, но сдача — это выползание из неё. Если вы счастливы в канализации, тогда для вас это не канализация. Если вы не думаете, что там воняет, тогда всё нормально, но тогда, зачем вы здесь? Вывод, который напрашивается, когда вы предстаёте перед таким человеком как Брэтт или я, состоит в том, что вы знаете, что это канализация, и вы хотите вылезти.
Развернувшись, я пошёл прочь от группы. Здорово иметь столько места для движения. Я развернулся и пошёл обратно.
— Вы довольно жёстко отзываетесь о религии и всех духовных и нью-эйдж учениях, – сказала женщина, которую я не знал. – Существует целый мир знания и мудрости, неужели вы думаете, что это справедливо – стричь всех под одну гребёнку?
— Не имеет значения, что я думаю, я говорю вам лишь то, что вижу, и что увидите вы, если откроете глаза и посмотрите. Обещаю, что если вы это сделаете, вы станете моим новым любимчиком.
— Я не вполне согласна с вашим утверждением, – сказала она, – что мои глаза не открыты. Я думаю, что вижу то же, что и вы.
— Ну хорошо. Опять же, без обид, но вы здесь как турист, вы не вложили свой капитал, вы зритель, а не участник. Так обстоит дело со многими людьми, но большинство из вас здесь сегодня, возможно, питают какую-то степень здорового сомнения в самих себе. Во всяком случае, я не пытаюсь вас ни в чём убедить. Я просто не знаю, зачем вы здесь.
Она понурилась. Я развернул внимание ко всей группе.
— Я делаю вывод из абсолютного провала мировых духовных и религиозных учений в способствовании пробуждению, даже тех, что заявляют о своём предназначении именно этой цели. Особенно их. Я вижу этот провал, и я вижу Майю, и ясно всё понимаю. Интеллектуальная и эмоциональная сила невежества полностью очевидна для меня, и я могу сказать, что всё сострадание и медитация мира не сможет вытащить вас из этой канализации. Ни широта знаний, ни глубина понимания не равняется ни одной из ступенек, ведущих наверх. Никто не может вас толкать, тянуть, или идти вместе с вами. Все мысли идеи, чувства, концепции и системы знаний и верований сводятся к этому единственному недвусмысленному различию – канализация или солнечный свет, темница или свежий воздух, затор или поток, эго или сдача, отделённость или интеграция, вертикальное окапывание или горизонтальный прогресс. И это не просветление, духовность или что-либо возвышенное, это честная или нечестная жизнь.
Они молчали, внимательно слушая.
— Страх перенаправляет наружу каждую мысль и импульс, идущие внутрь. Майа преобразует всё для своей цели. Вот против чего вы восстаёте. Это смертельный бой, и есть только один способ его выиграть, и Брэтт нашла его. Она перестала драться. Она сдалась. Борется и сопротивляется эго, оно высасывает всю нашу энергию. Брэтт бросила оружие и подставила грудь врагу, таким образом уничтожив его. Майа не находится вне нас. В конечном итоге это лишь ещё один внутренний демон. Направлять свою энергию против неё или к ней это одно и то же, и когда мы останавливаемся, мы прекращаем снабжать её силой, и она перестаёт существовать.
***
Эти книги никогда не были бы законченными, если бы я не сказал вот что.
В контексте долгой и счастливой жизни, полной людей и развлечений, застрять в тюремной камере, или в инвалидном кресле, или в больничной койке, или в бесчувственном теле может показаться сущим адом, но это фактор контекста, а не обстоятельств. Неужели я имею в виду, что последняя стадия болезни, физическое бессилие, заключение в казённый дом это лишь мелкие неприятности? Я имею в виду именно это. В контексте роста, прогресса, развития, движения, реализации – освобождения – всё меняется ролями, и физически несвободный человек может действительно испытывать значительное преимущество перед свободно передвигающимся. Фокус, намерение, видение, воля, сердце, ясность, зрелость, серьёзность, дух воина – вот то, что нужно, а не способность сбегать в магазин, когда хочется перекусить. Возможно, мы не в силах изменить наши обстоятельства, но мы способны изменить контекст. Тюремная камера может стать молитвенным домом. Находясь в инвалидном кресле мы можем вести войну. Будучи ограничены физически, возможно, мы многого не можем, но если в нас есть ещё меч интеллекта и волевой дух, то есть одна вещь, которую мы сможем сделать, и в контексте этой книги, этих трёх книг, это единственное стоящее дело. Единственное. Это не физическая война, это духовная война, и чтобы драться вам потребуется дух, а не руки и ноги, розовое будущее или большие открытые пространства.
Я не могу притворяться, что понимаю положение человека, который сидит на крэке, или приговорён к пожизненному заключению, или заточён в хоспис, в дурдом, прикован к инвалидному креслу, но я могу, с определённостью и убеждённостью, сказать следующее: В моём собственном процессе, в моей борьбе, в моём путешествии к пробуждению, в смерти лжи и рождении истины, никакое физическое препятствие не могло быть равным моей воле, и могло бы даже, если на то пошло, оказаться довольно полезным. Сама мысль, что мои физические условия могут помешать пробуждению, поскольку мои ментальные и эмоциональные ресурсы были достаточно нетронуты, была, я был совершенно уверен, абсурдной.
Для дальнейшего подкрепления этого момента повторю слова Мелвилла/Ахаба, которые я включил во вторую книгу:
На что я решился, я желал, и чего я желал, я сделаю! Они думают, я безумен... но я одержим, я обезумевшее безумие! Это дикое безумие должно быть спокойствием, чтобы постичь себя! Пророчество гласило, что я буду разорван на части, и – ах! – я потерял ногу. Теперь же я предрекаю, что разорву на части того, кто разорвал меня...
Свернуть меня? Путь к моей ясной цели выложен железными рельсами, по которым предназначено бежать моей душе. Через глубочайшие ущелья, сквозь продырявленные сердца гор, под руслами горных потоков я безошибочно мчусь! И нет ни препятствий, ни поворотов на этом железном пути!
***
— Брэтт, – продолжал я, – вместо того, чтобы убегать от жизни, нашла способ жить. Как мастер дзю-до, она обернула энергию отца-демона в свою пользу. Она поняла, что в любом случае ей конец, будь то прогрессирующий рак или присутствие отца, отравляющее ей жизнь, поэтому она решила, что ей нечего терять. Делая небольшое отступление, я бы хотел сказать, что могу отзываться лишь положительно об этом особом понимании – нечего терять. Это абсолютно верно для каждого человека всегда, но это довольно сложно осознать. Однако, когда приходит это осознание, не только концептуально, но полностью впитавшись во всё ваше существо, тогда перед вами распахиваются все двери. Стены рушатся, вселенная раскрывается.
Да, так на чём я остановился? Кто спрашивал, есть ли способ найти демону хорошее применение? Шанти? Она кивнула.
— Да, именно это сделала Брэтт. Как она рассказывала мне, всё просто распадалось на части. У неё был рак и печальная перспектива, и в голове всё ещё болтал этот беззвучный голос отца, обвиняя её во всём, обвиняя её в том, что она больна. Она искала помощи, она искала на книжных полках в отделах религии и самопомощи, но вне зависимости от того, что она делала, какую книгу читала, какой метод или идеологию пыталась принять, этот голос всегда говорил, что всё это чушь, что она была слишком напугана, чтобы прямо встречать факты, что в ней не было смелости, обзывал её всякими мерзкими словами, всё это продолжалось и продолжалось, а она в это время всё слабела, и времени оставалось всё меньше. А затем однажды, когда поиск ответов и смысла не принёс никаких плодов, она вдруг подумала, что этот голос в голове, возможно, не так уж не прав. Он был очень циничен и несносен, но не обязательно неверен. Чем больше болезнь толкала её искать ответы, тем больше она начинала соглашаться с голосом отца. Все ответы, которые она находила, были ерундой. Когда дело дошло до поиска ответов, поиска смысла, способов справиться со своей болезнью и близостью смерти, этот циничный голос говорил такие вещи, которые она не только не могла отрицать, но с которыми соглашалась. Хотел бы я, чтобы она сейчас была здесь и объяснила всё вам так, как объяснила это мне, но главная идея в том, что таким образом она провела себя до состояния реализации истины. Вместо инструмента типа «духовного автолизиса», она воспользовалась этим встроенным гиперчувствительным детектором лжи, который морил её столько лет. Она действовала за счёт того, что считала приговором к надвигающейся смерти, она думала, что это её последние месяцы, и была полна решимости достичь самого дна, найти смысл вещей. Она хотела найти что-то реальное, что-то истинное.
— Она думала, что одержима? – спросил Рональд.
— Нет, рационально она знала, что не одержима демоном. Она знала, что этот голос не был в действительности её отцом, но её собственным созданием. То говорила какая-то часть её самой, какая-то спрятанная или подсознательная часть пыталась выразить себя. Это отчасти повлияло на её решение прекратить бороться и начать пытаться понять его. Она рассказывала, что в течении этого периода она обходила вокруг своего озера тысячи раз, иногда по двадцать кругов в день, а там больше мили. Я сразу же узнал такое поведение. Подобный уровень интенсивности, гнев – обычное дело для процесса пробуждения. И во время этих прогулок вокруг озера она спорила с голосом отца. Она дискутировала с ним вслух, озвучивая обе стороны диалога. Вообразите, какой чокнутой она должна была выглядеть для уток и жаб. – Все засмеялись. – Это ещё одна отличительная черта процесса пробуждения – потеря уважения к условностям и нормальности. Все мысли о поддержании внешнего вида уходят.
— Часами она ходила по дорожке вокруг озера, круг за кругом, час за часом, день и ночь, месяц за месяцем. Началось с того, что Брэтт кричала на своего отца, но в какой-то момент они пришли к согласию и стали работать вместе, пока, после почти года этих лихорадочных красноречивых прогулок, Брэтт поглотила этот критикующий голос, который всегда, конечно же, был частью её. Этот отец-демон был маленьким голосом разума в ней, кричащий, чтобы его услышали, и она отодвинула всё своё эмоциональное сопротивление и позволила ему говорить.
— Подумайте минуту о её ситуации. Она никогда не стремилась к каким бы то ни было духовным достижениям, не входила ни в какую систему верований, не следовала пути или учителю, она не пыталась эволюционировать или сжечь карму или повысить осознанность, ничего подобного. Она лишь честно пыталась иметь дело со своим дерьмом – её слова – и в её случае так это выглядело: очень нездоровая дамочка нарезает круги вокруг озера, ведя сумасшедший диалог, выводя саму себя из своего дерьма. Это была не просто борьба за свободу, это было процессом исцеления. Со временем она покорила этот демонический голос в голове, полностью избавилась от рака и нашла ответы, которые так отчаянно искала.
***
— Сейчас вы очень мило слушаете, потому что думаете, что вся эта история про демона имеет отношение только к Брэтт, а вы здесь ни при чём, но вы ошибаетесь. Это всё про вас. Я упоминал, что сегодня собираюсь поделиться с вами двумя техниками. Одна техника — это то, что делала Брэтт, — «Укрощение демона», она интересна и показательна, но может использоваться только тем человеком, у которого есть необычайно мощный и шумный демон, свирепствующий в его голове. Другая – «Memento mori» – для всех и везде. Каждое живое человеческое существо, вне зависимости от религии, национальности, или чего бы то ни было, должно практиковать Memento mori, начиная с теперешнего момента и каждый день.
— Что это? – спросила Николь. – Что значит Memento mori?
— Это значит, что у нас есть этот мощный и шумный демон в голове, и не просто демон, король всех демонов, бабайка, но мы заглушаем его всеми мыслями и чувствами каждую минуту своей жизни. У всех нас есть личный демон внутри, и наша жизнь целиком посвящена его отрицанию. Но если мы хотим пробудиться, мы должны перестать прятаться от этого короля демонов, который обитает внутри нас. Мы должны развернуться и встретиться лицом к лицу с этим большим, плохим бабайкой. Вот что значит Memento mori. – Так что же нам делать, – спросил Джастин, – убить бабайку?
Все засмеялись. Я тоже.
— Не будьте такими глупыми, – сказал я, – вы не можете убить бабайку.
Смех стих.
— Давайте пойдём вниз к озеру, зажжём большой костёр и расскажем пару страшных историй.
32. Memento Mori.
Чтобы лишить смерть её огромнейшего превосходства над нами, давайте примем путь прямо противоположный общепринятому: давайте познакомимся со смертью поближе, давайте будем чаще посещать её, привыкнем к ней, давайте не будем думать ни о чём так часто как о смерти. Мы не знаем, где смерть ожидает нас, так давайте будем ждать её везде. Практиковать смерть, значит практиковать свободу. Тот, кто научился умирать, разучился быть рабом.
– Мишель де Монтень –О чём я хотел бы сказать в заключении? К чему всё это вело? Если бы я мог преподать лишь один урок, каким бы он был? Какое наиважнейшее послание, которым я мог бы поделиться? Какая тема соответствует не только моему прощанию с учительством, но так же прощанию с Брэтт?
Такие вопросы я задавал себе, когда решил встретиться с группой Брэтт и попрощаться с ними, и как только эти вопросы возникли в моей голове, я уже знал ответ. Memento mori. Помни о смерти.
***
Чем может обернуться весь этот духовный поиск? Каков самый худший сценарий? Если оставить эти вопросы открытыми, они могут ужасать и парализовать, особенно когда пускаешься в одинокое путешествие за пределы нанесённых на карту территорий.
Ответ на эти вопросы, к счастью, смерть. Нет ничего хуже смерти, смерть — это наихудший вариант развития событий. Вот чем всё заканчивается. Вот она – оборотная сторона во всей своей красе. Вы умрёте. И конечно же, вы умрёте в любом случае, поэтому это и проблемой-то не является.
Этот простой вывод меня всегда успокаивал и придавал мне сил. Моё собственное путешествие стало возможным благодаря тому, что этот вопрос – каков наихудший сценарий? – был чётко определён. Смерть абсолютна. Как ничто больше в царстве сна, смерть очевидна и несомненна. Это то место, куда мы все направляемся, предпринимаем ли мы своё путешествие или нет. Не важно, что вы делаете, не важно насколько ужасно ваше положение, оно не может вечно становиться всё хуже и хуже. Этому есть предел. И так как я в любом случае умру, вопрос только в том, когда, то в действительности это вообще не может быть плохим.
Такой легкомысленный подход к смерти не подразумевает уменьшение агонии от срывания с себя кожи слой за слоем, когда лишаешься своего эмоционального содержания и связей. Это ужасная сторона процесса, но эти раны, в сущности, заживают мгновенно. Скорее даже, никаких ран не остаётся. Что ушло – ушло, что сделано, то сделано. С каждым шагом мы оставляем позади то, за пределы чего выходим. Не остаётся никакого багажа, так как освобождение от багажа — это суть процесса. То, что причиняет боль, удаляется, и когда его нет, нет и боли. Остаётся лишь облегчение и тихое, мимолётное любопытство. Это как удалить больной зуб или оторвать присохшую повязку, трудная часть — это страх до и боль во время. После ампутации заражённого гангреной омертвелого куска эмоциональной плоти не остаётся синдрома фантомных болей – просто приятное ничто.
Пока не даст о себе знать новая боль, начиная следующий цикл.
***
Было уже поздно, около десяти часов. Пока все спускались к озеру, перекусывали и размещались, чтобы провести остаток вечера, мы с Лизой поднялись в дом и поговорили с Мелиссой. Мы встречались с ней раньше и отдали ей маленькую шкатулку для драгоценностей, где хранился подарок, который собрались подарить ей позже. Она знала о нём уже несколько месяцев, но я бы не хотел, чтобы она впервые увидела его перед всей группой. Лучше, если сначала она проведёт какое-то время с ним наедине. Теперь я забрал его и отправился вниз к озеру, а Лиза осталась с ней. Мы подошли к центральной части вечера. Я немного поговорю, мы представим дочь Брэтт Мелиссу, сделаем маленькое подношение, а затем Лиза и я уедем, и после прекрасной поездки по автостраде Блю Ридж Паркуэй я сяду на ночной авиарейс до Дэнвера.
***
Позади меня горел костёр, над головой светила яркая луна, кое-где скрытая серебряными клоками облаков, слева – озеро, справа – большое, огороженное забором, поле, а передо мной сидели около ста человек на расставленных ровными рядами складных стульях, а за ними белел натянутый тент. В течении всего вечера мелкий дождь то начинался, то прекращался, но нам не пришлось от него укрываться. Мне показалось, что ровные ряды сидений не очень красиво смотрятся. Это создавало впечатление театра, где мы с костром были на сцене, а все они на стульях – в зрительном зале. Я попросил каждого взять свой стул и придвинуться ближе, образовав полукруг вокруг меня и огня. Спустя пару минут все устроились, и стало уютнее. Я подбросил в костёр дров, пока все усаживались. Потом подождал, пока все не обратили внимание ко мне.
Я вытащил из кармана шкатулку. Она была сделана из чёрного орехового дерева со стеклянным окошком наверху, так что можно было видеть, что внутри, не открывая. Внутри на ложе из чёрного шёлка покоился довольно больших размеров бриллиант на тонкой золотой цепочке. Все, кто его видел, охали и ахали. Я подержал его, любуясь, как он сверкает в свете костра, и передал шкатулку с маленьким фонарикомбрелком кому-то в переднем ряду.
— Это наш подарок Мелиссе в память о Брэтт, – сказал я, – Надеюсь, вы оцените символику, которую олицетворяет этот бриллиант. Передавайте по кругу.
Подарок пошёл по рукам.
— Вы слышали, о чём говорила Лиза, – начал я. – Она показала вам фотографию. Она рассказала вам о женщине, которая проснулась однажды прекрасным сентябрьским утром, оделась, собрала всю семью, поехала на работу. Просто ещё один день, ничего необычного, что указывало бы на то, что сегодня ей предстоит стоять у выбитого окна и выбирать между преисподней и падением в тысячу футов.
Все внимательно слушали. Некоторые искали глазами Лизу, но она была ещё в доме с Мелиссой.
— Лиза показала вам реальный дзен, неизвестный дзен, дзен, который не продаётся. Это фото женщины, только что выпрыгнувшей из горящего небоскрёба, была для Лизы коаном. Как злобный демон эта фотография вцепилась в неё своими когтями и не отпускала. Время, которое Лиза проводила, уставившись на неё и размышляя над её смыслом, было её медитацией, её дза-дзен. За три года коан поглотил её. Он вошёл внутрь и распространился метастазами по всей системе, подобно раку. И в конце концов, несмотря на сопротивление Лизы, он убил её.
Сделав паузу, я отпил воды.
— Memento mori означает «Помни о смерти», помни, что ты должен умереть. Именно это и делала Лиза. Её практика общения с этой фотографией по часу или больше в день является прекрасным примером духовной практики – осознавание смерти — это средство выхода из состояния отрицания смерти, в котором мы обитаем. Опыт Лизы, и глубочайшее преображение её жизни как результат, это то, что происходит, когда мы совершаем этот выход.
Несколько мгновений я молча шагал, глядя на огонь.
— Мы живём в страхе смерти. Мы не хотим о ней думать, мы не хотим смотреть на неё, мы не хотим даже признать, что она существует. Мы просто хотим жить свою жизнь, не вспоминая, что смертны, поэтому стараемся свести это к минимуму тремя путями. Во-первых, мы пытаемся отодвинуть смерть в далёкое будущее, чтобы не было необходимости думать о ней прямо сейчас. Возможно, мы умрём, когда нам будет восемьдесят или девяносто, и возможно, мы уже будем не так хорошо соображать, чтобы понять, что вообще происходит, поэтому нас это не будет так волновать.
Они засмеялись вопреки самим себе.
— Ещё один способ уменьшить смерть до удобных нам размеров, — это сорвать с неё всю её окончательность посредством веры в жизнь после смерти – рай и перерождение, главным образом. Для большинства из нас эти верования сильны лишь настолько, насколько необходимо, чтобы убрать смерть из вида. С глаз долой – из сердца вон, верно? Никто меня не опроверг.
— Третья тактика, которую мы используем в нашей практике отрицания смерти, — это постоянное отвлечение. Дабы не задумываться, мы занимаем себя делами, удерживая своё внимание сфокусированным на мириадах тривиальностей жизни. Святая троица – дом, семья, работа, но есть и другие вещи для заполнения пробелов по мере необходимости – спорт, покупки, книги и телевидение, пристрастия, хобби и так далее.
Я помолчал, шагая, размышляя.
— Итак, первое: смерть не продлится долго и мы вероятно будем слишком дряхлыми, чтобы нас это заботило; второе: смерть — это не конец, как кажется, это просто переход куда-то; и третье: это постоянное отвлечение. Благодаря этим тактикам отрицания смерть не имеет значимого присутствия в нашей жизни. Она каждый момент с нами, но никогда не перед глазами, где мы должны смотреть на неё и думать о ней. Так мы держим смерть вне поля зрения, за спиной, а не перед собой. Так мы удерживаем состояние отрицания смерти, которое позволяет нам проживать жизнь практически бессознательно.
***
Это был общий план – рассмотрение предмета и отношения к нему. Теперь я бы хотел предоставить крупный план.
— Есть избитое клише, что мы не знаем, насколько нам что-то дорого, пока не потеряем это; что когда человек близко сталкивается со своей смертностью, он начинает по-новому ценить жизнь. Внезапно всё становится прекрасным и восхитительным, каждый день — это дар, всё приобретает новое значение и тому подобное. Это очень мощно, это открывает глаза и расширяет перспективу. Мы называем это зовом пробуждения, и это именно так и есть. Всем это знакомо? Поднимите руки.
Все подняли руки.
— Наверное, из телевидения или кино. Кто видел это вблизи?
Большинство рук опустились.
— А кто сам переживал это?
Только двое или трое не опустили рук. Я указал на одного молодого человека по имени Терри. – Что произошло?
— Я упал с лесов на работе, – сказал он. – Я слышал, как врачи скорой помощи говорили, что я не жилец, а потом, в приёмном отделении тоже, я бы сказал, не верили, что я выживу.
— И?
— Ну, очевидно, я всё-таки выжил, и потом всё было так, как вы описываете. Я стал действительно искренне и глубоко всё ценить. Я не мог понять, почему все не чувствуют так всё время, то есть, почему никто не видит этого? – Он на секунду замолк, но потом продолжил. – То есть, я попросту по-другому стал смотреть на всё. Это полностью изменило мои взгляды.
— И как долго это продолжалось?
— Ну, это ещё со мной...
— Но не совсем, – сказал я.
Воцарилась полная тишина. Все глаза были устремлены на Терри.
— Нет, – он вздохнул, – не совсем. Теперь это лишь память. Это совсем не то, но я бы так хотел, чтобы оно было. Я чувствовал себя действительно живым, ээ, где-то около недели, наверно, но это было реальным. Это было самым реальным из всего, что я когда-либо испытывал, это была реальная жизнь, а эта только что-то вроде, ну, как вы говорите, как во сне. Я обещал себе, что не упущу этого, как говорила Лиза, но упустил, и теперь всё почти как обычно.
— Значит, для вас это было не клише?
— О, нет, конечно нет, – сказал он с ощутимой искренностью, – я был живее, чем когда-либо в жизни. Прямо как вы говорите, как будто я проснулся не мгновенье, но не смог остаться в этом состоянии, как будто снова закрыл глаза и уплыл в ту жизнь, где я был раньше до несчастного случая, или жизнь затащила меня обратно. Как-то грустно об этом сейчас думать, что я вот, опять нормальный человек, и всё такое. Было такое чувство, что я наконец родился, как будто я впервые узнал, что такое жизнь. Я всегда думал, что жизнь должна быть именно такой. Я и сейчас так думаю. Это стало главной причиной, почему я стал увлекаться духовностью и приходить сюда к Брэтт. Я пытался снова поймать то ощущение интенсивной жизненности. И, в общем-то, всё ещё пытаюсь.
— И как вам это удаётся?
Он покачал головой.
— Не очень-то.
***
— Лишь тот день для нас наступит, в котором мы пробуждены, – сказал я. – Так говорил Торо. Лишь тот день для нас наступит, в котором мы пробуждены. Это звучит довольно сентиментально, но на самом деле это нано-бомба, как фотография Лизы, как вирус, крошечный микроб, который может залезть внутрь и распространиться там, в конце концов, опрокинув гиганта. Или так можно было бы предположить, во всяком случае. Факт в том, что автоматическая иммунная система Майи довольно крепка и отлично может справиться с подобным надоедливым микробом. Вы слышали, что сделала Лиза: у неё была фотография, которая пришла в негодность, тогда она сделала другую и заламинировала её. Ту, что она вам показывала. Она развила в себе что-то типа пристрастия к ней. Нездоровая одержимость – так, я думаю, психотерапевты назвали бы это, они попытались бы вылечить её, накормить лекарствами. К счастью, она не пошла к психотерапевту.
Я подбросил дров в костёр и подправил его лопатой. В ночь полетели искры, исчезая на глазах.
— Не важно, какие усилия мы прикладываем, отрицая смерть, она всё равно является фактом жизни. Мы можем отвернуться от неё, но не можем оттолкнуть. Она всегда с нами. Брэтт просто возвращала кому-то фильмы – выполняла ещё одно дело. Для женщины с фотографии Лизы, и для тысяч других таких же, это был лишь ещё один день в офисе. Но эта женщина поняла, что нет такой вещи как ещё один день. Каждый день может случиться что угодно. Нет дня, часа, мгновенья настолько обыденного, что оно не смогло бы открыть двери смерти. Как вам такая страшная история?
Некоторые неловко засмеялись. Бриллиант шёл по кругу. Я взял бутылку с водой и отхлебнул.
— Знаю, это кажется простым, и так оно и есть. Это самая простая вещь. Первая глава моей первой книги называлась «То, что не может быть проще», и это то, к чему мы всегда возвращаемся – простота. Сожгите всё, и посмотрите, что останется. Когда мы делаем это здесь, в царстве сна, мы обнаруживаем, что не горит именно смерть. Вот что останется, когда всё остальное исчезнет. Смерть выживет.
Я вытащил из кармана сложенный лист бумаги и развернул его. – Вот что писал Эмерсон:
Одна из иллюзий состоит в том, что настоящий момент – не критический, не решающий. Напишите на своём сердце, что каждый день — это лучший день года. Человек не сможет должным образом ничему научиться, пока не поймёт, что каждый день – судьбоносный.
— Напишите на своём сердце, – повторил я, – каждый день — это лучший день в вашей жизни. Смерть придаёт жизни резкость. Осознавание смерти — это осознавание жизни. Отрицание смерти — это отрицание жизни. Вот что писал Моцарт в письме своему отцу:
За последние несколько лет у меня сложились такие близкие отношения с этим лучшим и истинным другом человека, что образ смерти не только больше меня не ужасает, но в действительности очень успокаивает и утешает, и слава Богу за то, что он милостиво предоставил мне возможность узнать, что смерть — это ключ, который открывает дверь к нашему истинному счастью.
Я убрал листок.
— Сегодня мы говорим о том, о чём рассказывала Лиза – стать осознанным в царстве сна, проснуться к жизни. Она не рассказывала о годах, проведённых в качестве ученика шамана в лесах Амазонии, или о времени, проведённом в исследованиях древних пергаментов в катакомбах под Ватиканом или Топалой. Она не имела в виду решить это как головоломку, когда всё время вымучиваешь следующую деталь. Она рассказывала об осознавании смерти – просто и ясно. Причина, по которой мы увязаем в этой причудливой, экзотической духовности, в том, чтобы избежать хорошо знакомого и личного. Мы ищем наиболее удалённые места и времена, потому что не хотим иметь дело с здесь и сейчас. Мы с рвением присоединяемся к мудрёным, наносящим оскорбление интеллекту системам верований, потому что они изначально задумывались как проводники сонного состояния, которое мы хотим сохранить. Религия и духовность существуют для обеспечения наших нужд по отрицанию смерти. Они служат колыбельными и заглушают тиканье часов. Мы проводим жизнь и тратим все жизненные силы, убегая от этого монстра, которого зовём смертью. Это состояние непрерывного отрицания забирает всё наше время и энергию. Вот куда идёт наша жизнь, вот так мы её проводим. Вот что значит спать внутри сна.
***
Я поставил вопрос, это повлекло за собой другие вопросы, и несколько следующих минут мы провели, вместе исследуя всё это. Я спросил их, как они думают, чего мы все так боимся, почему мы так отчаянно отрицаем реальность смертности, они сделали некоторые предположения, которые мы обсудили, и нашли неудовлетворительными. Никто, похоже, не думал, что мы все боимся реального состояния мёртвости, или что нас пугает процесс умирания. Все соглашались, что смерть неприятна и никому не нравится думать о ней, но никто не мог сказать, почему, пока необычайно мудрый подросток, сидящий между папой и мамой, не сформулировал ответ, словно официальное заявление.
— Бессмысленность, – сказал он. Музыка для моих ушей.
— Бессмысленность, – эхом отозвался я. – Нет истинной веры, жизнь не имеет смысла, всё, что мы делаем, не имеет значения. Всё суета и погоня за ветром. Мы умрём, и будет так, словно нас никогда не было. Всё, что нам кажется правдой – ложь, все наши верования – заблуждения, и всё, что мы знаем – обман. Нет такой вещи как успех; что бы мы ни делали, это ничего не изменит; не важно, насколько быстро мы движемся, или насколько ушли вперёд, мы никуда не идём. Самые лучшие и самые яркие намертво связаны с самыми худшими и самыми незаметными. Таковы факты жизни, простые, очевидные, доступные прямому наблюдению, но которые нигде в мире не распознаны и не узнаны. Вот что значит, видеть то, чего нет, и не видеть того, что есть, пребывать в отрицании, спать внутри сна, пребывать в чреве нерождённым. Мы безумно, отчаянно, безрассудно боимся истины, и этот страх отгораживает нас от нашей безграничной природы. Эмоциональная энергия страха воздвигает и защищает скорлупу эго.
— Но этот тип осознавания смерти, о котором вы говорите, – сказала Шанти, – момент... ээ...
— Memento mori, – вставил я. – Помни, что умрёшь. Осознавание смерти.
— Окей, memento mori, – сказала она, – но это не то, что делали вы? Это ведь не было вашей практикой?
— И да, и нет, – сказал я. – Когда я начал своё путешествие, с самого первого момента, я знал, что моя жизнь потеряна. Это было наверняка, и я был несказанно счастлив совершить эту сделку. Моя мутная мелочная жизнь взамен ясности? Конечно. И думать не о чем. Не было ни малейшего колебания. Променяли бы вы ничто на всё? Как только вы поняли вопрос, вы уже ответили на него.
— Но вы не мертвы, – логично заметила она.
— Человека, с которым это случилось, больше не существует, – сказал я, – а то, чем я явлюсь теперь, живёт в постоянном осознавании смерти – это заполняет моё бытие в состоянии сна, как раньше страх и отрицание смерти. Смерть всегда у меня перед глазами. Я никогда не прячусь от неё, не отрицаю и не отодвигаю. Смерть — это бриллиантовое сердце моего бытия в царстве сна. Она является определяющим признаком, который показывает мне ценность всего, что я вижу.
Я дал им поразмышлять над этим, поправляя ногой костёр. Потом развернулся к ним.
— Я уже говорил раньше, – продолжал я, – что люблю факт своей смерти. Он сделал возможной мою жизнь. Без него не могло быть пробуждения. Так я узнал ценность вещей. Так я узнал красоту. Благодаря этому я основываюсь на благодарности, а не на страхе. Благодаря этому я могу отличить ребёнка от взрослого, спящего от пробуждённого, просто посмотреть на человека и сказать, стоит ли смерть перед ним или позади него.
Я развернул это на них.
— Я говорю не о какой-то абстрактной смерти, но о смерти в самом личном, интимном смысле – о вашей смерти. Во сне смерть многозначительна – тень «не-я» в царстве сна. Смерть — это бабайка. Вы не можете убить его, или спрятаться от него, или убежать, вы можете только повернуться к нему или отвернутся от него.
Если вы разворачиваетесь к нему, дружески его приветствуете, полностью принимаете, не только на поверхности, но как собственную истинную сущность, тогда смерть становится тем демоном, верхом на котором вы сможете въехать в любое сражение, как Брэтт на своём демоническом отце, как Лиза на том фотокоане.
— И что бы вы нам порекомендовали? – спросил Джастин с долей сарказма. – Гулять по кладбищам?
— Чёрт, да, – сказал я. – Кладбища – прекрасные места для прогулок и раздумий. Купите себе место под могилу и обедайте там каждый день. Закажите себе могильную плиту. Встреча со смертью придаёт вещам объективность, ведь так говорят? Вы должны хотеть встретиться с собственной смертью, придать вещам объективность. Есть множество способов повысить свою осознанность. Изучайте фотографии подобных вам людей, которые уже умерли. Читайте книги о смерти и самоубийстве. Носите яд в кармане и часто созерцайте его. Ходите по высоким обрывам. Лягте на рельсы и читайте стихи. Положите заряженный пистолет в рот и взведите курок. Сам я любил сидеть высоко на краю, свесив ноги в бездну. Я любил гулять во время грозы, когда молния могла поразить меня в любую минуту. Наверное, это всё звучит экстремально, но я не понимаю, как что-то может быть слишком экстремальным. Именно в этом смысл – подойти как можно ближе к смерти. Каждый час, каждый день, вы должны желать погрузиться в созерцание смерти, времени, в осознавание того факта, что часы тикают, что каждый день становится на один день меньше, что с каждым вздохом становится на один вздох меньше. Измеряйте свою жизнь неделями, месяцами, а не годами, и хмуро замечайте, как они проходят. Каждое утро уделите минуту, чтобы прочувствовать, что значит для вас новый день жизни. Вытравите слова «Только тот день для меня наступит, в котором я пробуждён» на зеркале у себя в ванной. Созерцание смерти, своей собственной смертности — это реальная, мощнейшая медитация. Осознавание смерти — это настоящий дза-дзен, это универсальная духовная практика, единственная, необходимая кому-либо когда-либо, и которую каждый должен выполнять, поэтому да, вы должны желать во что бы то ни стало привнести эту живую осознанность в свою жизнь. Развейте привычку вспоминать о смерти каждый раз, когда смотрите на часы, когда садитесь к столу, каждый раз, когда идёте в туалет. Гуляйте каждый день и думайте о том, что значит, быть живым, идти, видеть и слышать, дышать. Это не упражнение, это не что-то, во что вам необходимо поверить, как в аффирмацию, это нечто реальное, и оно находится в центре каждой вашей мысли и каждого действия. Если бы вы знали, что умрёте завтра, что бы вы сделали сегодня? И почему, чёрт возьми, вы этого не делаете?
33. Быть или не быть.
Осознавание смерти — это главнейший принцип всего пути. Пока вы не разовьёте в себе такую осознанность, ни одна практика не принесёт результата.
– Его Святейшество Далай Лама –Когда вы начинаете готовиться к смерти, вы в скором времени понимаете, что должны присмотреться к жизни – сейчас – и встать перед лицом истины своего существа. Смерть как зеркало, в котором отражается истинный смысл жизни.
– Согьял Ринпоче –Для того, кто ищет понимания, смерть послужит чрезвычайно созидательной силой. Высшие духовные ценности жизни могут происходить от размышлений и изучения смерти.
– Элизабет Кюблер-Росс –Если вы не помните о смерти, все ваши практики Дхармы будут лишь поверхностными.
– Миларепа –Для любой культуры, где первостепенной заботой является смысл, изучение смерти – единственной определённости, которую оставила нам жизнь – должно быть центральным, поскольку понимание смерти — это ключ к освобождению в жизни.
– Станислав Гроф –Я ушёл жить в лес, потому что хотел жить разумно, встречаясь лишь с неотъемлемыми явлениями жизни, посмотреть, смогу ли я научиться тому, чему она может меня научить, и когда придёт пора умирать, не обнаружить, что я и не жил вовсе.
– Генри Дэвид Торо –Мы говорим, что момент смерти нельзя предсказать, но когда мы так говорим, мы воображаем, что этот момент расположен в далёком и туманном будущем. Нам никогда не приходит в голову, что он может иметь связь с уже начавшимся днём, или что смерть может наступить этим самым вечером, который настолько определён и каждый час которого расписан заранее.
– Марсель Пруст –Бояться смерти, друзья мои, значит лишь воображать себя мудрецом, оным не являясь – ибо это значит думать, что мы знаем нечто, чего мы не знаем. Ведь что ни говори, смерть может быть величайшим благом, которое только может случиться с человеком, но он боится её, будто прекрасно знает, что она является худшим из зол. А что это, как не позорное невежество – думать, что мы знаем то, чего не знаем?
– Сократ –Нас должен беспокоить не конец физического тела. Скорее мы должны беспокоиться о том, чтобы жить, пока живы – освободить наши внутренние «я» из духовной смерти, происходящей из жизни за видимым фасадом, созданным, чтобы подстраиваться под внешние определения, кто и что мы есть.
– Элизабет Кюблер-Росс –Когда-нибудь я стану обшарпанным черепом, покоящимся на мягкой перине травы, которому птицы поют серенады.
Короли и простолюдины заканчивают одинаково.
Нет ничего более крепкого, чем сон в последнюю ночь.
– Риокан –Лишь когда мы действительно узнаем и поймём, что наше время на земле ограничено, и что мы никак не можем знать, когда оно истечёт, тогда мы начнём жить каждый день в полную силу, как будто это единственный день, который у нас есть.
– Элизабет Кюблер-Росс –Сказал я жизни:
«Хотел бы я услышать смерти речь».
А жизнь ответила, слегка повысив голос:
«Сейчас её ты слышишь».
– Калиль Джибран –Смерть дёрнула меня за ухо.
«Живи, – сказала она, – я иду».
– Вергилий –Они говорят нам, что самоубийство — это величайшая трусость, что самоубийство — это неправильно, когда довольно очевидно, что нет ничего в мире, на что каждый человек имел бы более бесспорное право, чем на свою жизнь и личность.
– Артур Шопенгауэр –Пусть смерть каждый день будет перед твоими глазами, и ты никогда не допустишь низкой мысли, и не будешь слишком страстно жаждать чего-либо.
– Эпиктет –У мудреца глаза на месте, а глупец плутает в темноте, я же понял: всех их ждёт одна участь.
– Экклезиаст –Каждый день умирая, я начал жить.
– Теодор Рётке –Мир настолько утончён, в нём столько любви и моральной глубины, что нет причин обманывать себя красивыми историями, для которых нет достаточных оснований. Гораздо лучше, по-моему, в своей уязвимости, смотреть в глаза смерти, и быть благодарным каждый день за короткую, но великолепную, возможность, которую предоставляет жизнь.
– Карл Саган –Смерть – наш друг, и тот, кто не готов принять её в гости, находится не дома.
– Сэр Фрэнсис Бэкон –Смерть – наш вечный компаньон. Она всегда слева, на расстоянии вытянутой руки за нашей спиной. Смерть — это единственный мудрый советчик, который есть у воина. Если он чувствует, что всё идёт не так, и что его могут сейчас уничтожить, он может обернуться к смерти и спросить, так ли это. Его смерть скажет ему, что он ошибается, что на самом деле ничто не имеет значения, если она до этого не дотронулась. Его смерть скажет ему: «Я ещё не прикоснулась к тебе».
– Карлос Кастанеда –Скажи друзьям: «Смотрите: весна, набухли почки, сверкает вода, всем весело. Мы все умрём».
– Кришна, «Махабхарата», Жан-Клод Каррьер –Все люди живут, обмотанные китобойным линем. Все родились с верёвкой вокруг шеи, но лишь когда человека настигает внезапный, резкий смертельный шок, он начинает осознавать тихие, нежные, вездесущие опасности жизни.
– Герман Мелвилл –При окончательном анализе именно наш взгляд на смерть создаёт ответы на все вопросы, которые ставит перед нами жизнь.
– Даг Хаммаршёльд –Поскольку инстинкт смерти существует в сердце всего живого, поскольку мы страдаем, пытаясь его подавить, поскольку всё живое жаждет покоя, давайте развяжем узы, что привязывают нас к жизни, давайте будем культивировать желание смерти, развивать его, поливать, как цветок, пусть растёт без помех. Страдание и страх рождаются от подавления желания смерти.
– Юджин Ионеско –Есть лишь одна серьёзная философская проблема, и это самоубийство. Оценивать, стоит жить или нет, равнозначно поиску ответа на фундаментальный вопрос философии. Всё остальное – имеет ли мир три измерения или нет, имеет ли ум девять или двенадцать категорий – идёт потом. Всё это игры – сначала человек должен решить.
– Альбер Камю –Живи так, как будто ты завтра умрёшь.
– Махатма Ганди –Репетируйте смерть. Говорить так, значит сказать человеку репетировать свою свободу.
Человек, который научился умирать, разучился быть рабом.
– Луций Анней Сенека –Ты хочешь жить, но знаешь ли ты, как жить? Ты боишься смерти, но, скажи мне, та жизнь, которую ты ведёшь, отличается ли как-либо от мёртвого состояния?
– Луций Анней Сенека –Разве философия — это не изучение смерти?
– Платон –Смерть — это бесконечная ночь, думать о которой так ужасно, что это может заставить нас любить и ценить жизнь со страстью, которая может стать основной причиной всей радости и всего искусства.
– Пол Теру –Нет фундаментального различия между приготовлением к смерти – практикой умирания – и духовной практикой, ведущей к просветлению.
– Станислав Гроф –34. Высшее табу.
Вероятно, корень всех человеческих проблем в том, что мы принесём в жертву красоту нашей жизни, заключим себя в тотемы, табу, кресты, человеческие жертвоприношения, часовни, мечети, расы, армии, флаги, нации – ради того, чтобы отрицать факт смерти, являющийся единственным фактом, который у нас есть.
– Джеймс Болдуин –Смерть — это ключ к жизни. Смерть определяет жизнь, придаёт ей форму, значение и контекст. Без ясного и честного отношения к нашей смертности мы живём, постоянно скрючившись в неуклюжей духовной позе, в густом сером тумане, создающем адскую иллюзию жизни, которая растягивается бесконечно во всех направлениях.
Мы гомогенизировали свою жизнь, спрятав стороны, которые нас пугают, и таким образом исключив из жизни всю её неотложность. Мы вынули смерть из жизни, и это позволило нам жить неосознанно. Смерть никуда не ушла, конечно, мы просто отвернулись от неё, притворились, что её нет. Если мы хотим пробудиться – и это очень большое если – тогда мы должны принять смерть обратно в свою жизнь. Смерть — это наш персональный дзен мастер, наш источник силы, наш путь к ясности, но мы должны перестать убегать от неё в слепой панике. Нам нужно лишь остановиться и обернуться – и вот она, на расстоянии в пару дюймов, глядит немигающим взором, и палец её каждый миг готов опуститься. Этот палец – единственная истинная вещь в царстве сна, и он, без сомнения, когда-нибудь опустится.
Осознавание смерти — это универсальная духовная практика. То, что мы ищем в книгах и журналах, в учениях и учителях, в древних культурах и чужих землях, всё это время дышало прямо нам в шею. Это не просто ещё одна поднимающая настроение духовная техника, с которой вы позабавляетесь пару недель и будете обвинять самого себя, что она не сработала. Смерть всегда срабатывает. Смерть — это ваш единственный истинный друг, который никогда не покинет вас, и которого никто у вас не отнимет. Она искромсает всякую ложь, поднимет на смех любую веру, сведёт на нет любую суету, и доведёт эго до абсурда. Она сидит рядом с вами прямо сейчас. Если вы хотите что-либо узнать, спросите её. Смерть никогда не лжёт.
***
— Инверсия осознавания смерти важна в равной степени, – продолжал я, глядя на их заинтересованные, хотя и настороженные лица, освещённые светом костра. – Научитесь практиковать осознавание отрицания смерти. Всякий раз, когда вы сидите на диване, уставившись в телевизор, или делаете покупки в торговом центре, или пытаетесь найти развлечение в какой-то бессмысленной книге или праздном развлечении, напомните себе, что именно от этой привычки вы хотите избавиться. Старайтесь ловить себя в каждой ситуации в течении дня, когда вы не пробуждены, не осознанны, когда совершаете движения по жизни в практически сомнамбулическом состоянии. Постоянно напоминайте себе: в это мгновенье, прямо сейчас, я нахожусь в состоянии сна. Я привык к этой бездумности как к наркотику. Я опиумный наркоман, живущий в опиумном сне. Это кома, медленное сползание моей жизни в канализацию. Прямо сейчас моя жизнь ускользает от меня.
Я схватил бутылку с водой и долго пил.
— Ещё одна мощная сторона практики культивирования осознавания смерти – она предоставляет точный барометр вашей духовной искренности, хоть даже вы этого и не хотите. Любой может потерпеть неудачу в основной религии и взамен принять менее ортодоксальную систему верований, но сколько людей понастоящему искренни в своих духовных стремлениях? Вероятно, каждый из вас думает, что искренен, но так ли это? Готовы ли вы пойти, куда бы это ни завело? Сделать всё, что бы ни потребовалось? Тысячи разговаривают разговоры, и лишь один идёт по пути. Практика осознавания смерти отделяет говорунов от идущих. Можно использовать это в качестве само-диагностики, чтобы определить раз и навсегда, духовность — это что-то серьёзное для нас, или мы просто туристы. Большинство из нас туристы, но кто из нас искренен, а кто любитель? Если вы хотите ответить на этот вопрос для себя, вот ваш шанс. Ваше отношение к собственной смертности расскажет всё. Каждый либо повёрнут лицом к ней, либо отвёрнулся от неё, всё именно так просто. К ней или от неё. Если вы не можете посмотреть в лицо фундаментальному факту своего существования, тогда чему вообще вы можете посмотреть в лицо? Это самый нижний этаж, начальный уровень пробуждения. Не бывает ближе или проще этого. Если, основываясь на этом разговоре, ваша жизнь не подвергнется крупной перестройке в течении нескольких месяцев, значит вот ваш ответ: вы просто турист без реального желания или намерения пробудиться. Что вы будете делать с этим знанием это ваше дело.
Может быть, вы не захотите знать ответ на этот вопрос, но если вы не хотите знать, значит, вы знаете.
Шагая взад-вперёд перед костром, я думал о том, что подумала бы Брэтт о том, что мы здесь сегодня говорим и делаем. Думаю, ей бы понравилось.
— Не так-то легко практиковать осознавание смерти, но это возможно, потому что это правда: вы умрёте. Постоянная бдительность – вот ключ. Нам необходим не один звонок будильника в жизни, нам нужны сотни звонков каждый день, всё больше и больше, пока наконец мы не всплывем на поверхность и не пробудимся. Это требует мышления, желания, волевого намерения. Перевес далеко не на вашей стороне. Сомневаюсь, что хотя бы один из вас сломает эту привычку. Состояние сна очень удобно и приятно, слишком трудно выдрать себя из него. Это как целую милю плыть против течения по жидкой грязи. Нужно просто продолжать и продолжать плыть, постоянно напоминая себе, чтó ты делаешь и зачем, потому что как только ты остановишься, то начнёшь снова тонуть, и потом будешь сидеть в палате дома престарелых и вспоминать ту далёкую ночь, когда какой-то чокнутый метал искры перед танцующим пламенем и говорил тебе не дать жизни ускользнуть, но ты всё упустил, а теперь уже слишком поздно.
Возникла долгая пауза, пока я ковырялся в костре.
— Вы говорите о достойной смерти, о том, как мы должны встретить смерть, когда она придёт? – спросила женщина в джинсах, ботинках и овчином жилете. – Что-то вроде того?
— Ни в коем случае, – ответил я, с нетерпением стремясь определить разницу. – Смысл не в том, чтобы умереть достойно, но чтобы жить достойно. Какая разница, как вы умрёте? Храбро, или будете плакать, как ребёнок – какая разница? Осознавание смерти — это осознавание жизни, а осознавание жизни — это пробуждение. Это не имеет ничего общего с умиранием.
— Это кажется очень негативным, пессимистическим образом жизни, – сказала она.
— Мой опыт говорит как раз наоборот, – ответил я. – Ничто в действительности меня не тревожит, ничто не удручает. Если завтра я всё потеряю в результате какой-либо трагедии, так что ж? Я всё ещё жив, всё ещё здесь, в комнате смеха. Всё остальное не важно. Всё хорошо. Где же здесь пессимизм?
— Ничто вас не удручает?
— Ну, это слишком широкое утверждение, – ответил я. – В жизни может, конечно, наступить резкий спад, который мне не захочется терпеть. Может наступить такой момент, когда я захочу схватить костлявый ведьмин палец и сам дать сигнал к отбою. Кто-то ахнул.
— Уж не говорите ли вы о самоубийстве? – спросила женщина, похожая на ковбоя. – Вы что же, имеете в виду, что мы должны об этом думать?
— Я не говорю, кому что делать, но я бы сказал, что о самоубийстве довольно глупо не думать. Если вы даже не рассматриваете возможность покончить с жизнью, тогда чья это жизнь вообще? Самоубийство — это один из немногих вариантов, которые мы действительно имеем. Это означает, что мы не обязательно отданы на милость смерти. Это настолько страшно, что вам может стать плохо, но нет причины, чтобы не думать об этом. Большинство людей считают самоубийство высшим табу, как будто это даже не обсуждается, но на самом деле это центральная тема обсуждения, и нет причин не уделить ей должного внимания. Вероятно, вы всё равно его исключите, но это будет вашим решением, а не чьим-то.
Некоторые выглядели шокированными.
— Возможно, для вас это звучит мрачно или угнетающе. Возможно, вы думаете, что смерть противоположна жизни, или что всё это дело с осознаванием смерти означает конец радости и весёлых времён, но суть не в этом. Не смерть так ужасна, ужасен страх. Не смерть противостоит жизни, а страх. Закрывать глаза на смерть, значит закрывать глаза на жизнь – что может быть более ужасным? На ваш взгляд смерть и самоубийство внушают ужас и просто немыслимы. На мой взгляд они придают силы и утверждают жизнь, и я смотрел бы на человека, который не имеет открытых, честных отношений с этими предметами, как на девять десятых мёртвого.
***
Было ясно, что для большинства или для всех, этот предмет явно был под запретом – отгороженная территория, куда их мысли редко заходят. Они приравнивают самоубийство к страданию, несостоятельности, трусости, к поступку капризных подростков, слабаков и больных. Они рассматривают самоуничтожение как абсолютно, безусловно крайний выход, а может даже вообще не выход, тогда как я, существо с открытыми глазами, могу рассматривать его на третьем или четвёртом месте. Не думаю, что я засуну голову в печь из-за штрафа за превышение скорости, но я мог бы это сделать ради того, чтобы выбраться из инвалидного кресла, или из тюрьмы, или отделаться от тяжёлого случая икоты. Это, однако, было бы основано не столько на решении, сколько на наблюдении. Вещи выстраиваются в определённым образом, вырисовываются контуры, правильность даёт о себе знать, и события следуют согласно ясно указанному курсу. Я никогда не мог не сделать того, что нужно было сделать, а это включает более крутые вещи, чем самоубийство. Несмотря на то, что я не похож на воина бушидо, я обладаю ясным и непреложным знанием, что сегодня идеальный день, чтобы умереть.
Лишь тот день для нас наступит, в котором мы пробуждены.
Это похоже на несерьёзное обращение с серьёзным предметом, но всё потому, что из перспективы интегрированного существа всё выглядит не так мрачно и ужасно. У смерти нет привкуса зла, когда она выходит из укрытия, и мы можем видеть её, не отводя взгляда. Это значит дружески принять смерть, обнять её, признать её важность в нашей жизни. Не то, что мы начнём любить или искать её, или развивать какой-то зловещий с ней резонанс. Важнейшей пользой от таких честных отношений является то, как это распахивает перед нами жизнь, но так же важно и то, как это снимает покров ужаса с призрака смерти.
Мы говорим не о совершении акта, но лишь о честном его рассмотрении. Вопрос о самоубийстве – быть или не быть – находится в самом сердце философского исследования, но Майа сделала его практически немыслимым благодаря бурелому эмоционально насыщенных противоположных убеждений – мы не в праве уничтожать свою жизнь, потому что она священна, это непростительный грех и кощунство, это акт трусости и мошенничество, что те уроки, которых мы избежим сейчас, нам придётся пережить в следующей жизни, и так далее.
Вместо того, чтобы быть немыслимым, однако, самоубийство должно быть хорошо продуманным. Оно больше всего требует размышления над собой. Но в самую последнюю очередь нам бы хотелось разбирать этот бурелом и самим принимать какое-то решение. Если хотите развлечься «духовным атолизисом», начните с вопроса «Почему бы мне не убить себя прямо сейчас?»
***
— По большому счёту, – подвёл я итог, – весь наш разговор о демонах и бабайках — это просто способ привести себя в чувства, в состояние полного неистового здравомыслия, отрезвить себя от опьяняющего воздействия убеждений и неверного знания. Дело в том, что мы все прекрасно можем достичь пробуждающей ясности. Если на то пошло, поразительно то, что мы умудряемся видеть, чего нет, и не видеть то, что есть. Всё, о чём мы сейчас говорим, это о способе прекратить совершать этот чудесный подвиг самообмана, чтобы увидеть вещи такими, какие они есть на самом деле. «Духовный автолизис» фокусирует ум, а «Memento mori» определяет точку фокуса. В сочетании с искренним желанием они могут поставить любого на путь выхода из отделённого состояния Человека-Ребёнка. И если вы этого хотите, пожалуйста.
Единственный вопрос в том, хотите ли вы?
— Я уже решил, что никогда не умру, – пошутил один молодой человек, но никто не засмеялся.
— Очнитесь, – почти ответил я ему, и понял, что это увещевание лежит в самом сердце всего этого разговора. Я мог бы просто сказать это и уберечь себя от хлопот по написанию трёх книг. Вот к чему это всё сводится:
Очнитесь.
35. То, что не может быть проще.
Люди боятся мысли больше всего на свете – больше краха, больше даже, чем смерти. Мысль губительна, революционна, разрушительна, она беспощадна к привилегиям, устоявшимся институтам и удобным привычкам, мысль анархична и беззаконна, безразлична к авторитетам, её не заботит проверенная веками мудрость. Мысль заглядывает на самое дно ада и не испытывает страха. Там она видит человека – ничтожную крупицу, окружённую неизмеримыми глубинами тишины; и тем не менее она ведёт себя гордо, бесстрастно, словно господин вселенной. Мысль велика, быстра, свободна, она – свет мира и главная красота человека. Но когда мысль станет достоянием многих, а не привилегией меньшинства, мы покончим со страхом. Ведь это страх удерживает людей – они боятся как бы их дорогие сердцу убеждения не оказались заблуждениями, боятся как бы институты, за счёт которых они живут, не оказались тлетворными, боятся как бы они сами не оказались недостойными уважения, которое они себе приписывают.
– Бертран Рассел –Мы все лишь убиваем время в зале ожидании смерти, отвлекаясь какой-нибудь книгой или журналом, головоломкой или игрой, ждём, когда нас позовут, и притворяемся, что это не так. Мы, в большинстве своём, не осознаём где мы и что происходит, не осознаём благодаря материнскому благоволению и беспощадной хитрости Майи. Каждая минута, когда мы не знаем своей ситуации – где мы и что происходит – это минута неосознанности, минута, когда мы спим и видим сон о жизни в другом месте с другими законами.
Практически каждый обитает в этом воображаемом состоянии практически всё время.
В какую бы игру мы ни играли, чем бы себя ни тешили, нам удобно думать, что это куда-то ведёт, двигает нас в направлении желанной цели, что это имеет значение, но значение — это вымысел царства сна, где всё реально, но ничто не истинно.
Царство сна — это абсурдная выдумка, и чтобы жить в ней, мы должны вопреки всякому разуму быть способными удерживать соответствующий уровень абсурдности. Это жизненная функция, которую в нашей жизни исполняет система убеждений. Убеждения образуют эмоциональный балласт – искусственную гравитацию – которая нужна нам, чтобы оставаться на земле. Но срезая балласт невежества – неверного знания – мы можем взойти на высоту, откуда будет виден лес, а не деревья, где нити исчезают, и открывается всё полотно, и где вселенная, которая прежде казалась состоящей из бесчисленных отдельных частей, будет видна как единый неделимый океан бытия. Неверное знание — это регулятор эго, который управляет таким подъёмом и нисхождением. Как только мы подумаем, что что-то знаем, это неверное знание начинает ограничивать наше естественное стремление вверх. Когда же мы отпускаем иллюзию знания, и правильное знание целиком заполняет наше существо, замещая неверное знание, мы восходим к самым вершинам царства сна. Трансцендируя противоположности, мы пробуждаемся от сна множества частей в реальность единого целого. Однажды увидев это единство, невозможно закрыть глаза. Мысль, как способ навигации по жизни, становится неактуальной и заменяется неизмеримо высшим – прямым знанием, свободным от промежуточных процессов. Из такой интегрированной перспективы всё, что мы когда-то называли тьмой, ложью или злом, теперь безошибочно видится в равной степени ценным и важным, как и то, что мы раньше называли светом, правдой или добром. Восстанавливается баланс и целостность, и мы рождаемся в наше законное «я».
Вот что означает быть полностью осознанным в царстве сна. Вот о чём я говорил группе.
***
— Значит, знание есть, – сказал Рональд, пытаясь подловить меня.
— По крайней мере, я о нём не знаю, – ответил я, и все засмеялись. – Зачерпните банку воды из океана и закройте крышкой. Изучите это в отделённом состоянии. Где океан в этой банке? Где приливы и течения? Вылейте банку обратно в океан и она вернётся в интегрированное состояние. Временного существа больше нет.
— Существа? – спросил Рональд.
— Зачерпнув воду в банку, вы создали новое существо, суб-океан. Невозможно разбить бесконечность на подразделения, конечно, но попробуйте объяснить это своему новому существу. Оно имеет все качества океана, из которого вы его зачерпнули, ни в коей мере не больше и не меньше, чем любой другой образец, который вы могли взять, и тем не менее, в нём не так много общего с его океанской сущностью. Оно имеет независимое существование, но как только вы выльете его обратно в океан, оно снова органично сольётся с интегрированным целым. Где тó конкретное существо после того, как вы вылили его обратно? Там же, где оно было и раньше – везде и нигде. Оно не существовало до того, как вы зачерпнули его, но вы его не создавали. Оно не существует после того, как вы вылили его обратно, но вы его не уничтожили. Так что же родилось, когда вы выделили банку с водой? Что умерло, когда вы воссоединили её с океаном?
Я понятия не имел, откуда это шло, но мне это нравилось, и похоже, там было ещё.
— Наше восприятие времени делает одни вещи неизменными, а другие преходящими, но это динамический океан бытия, где в непрекращающемся вихре всё появляется и исчезает, так же как банка воды, так же как всё, о чём можно подумать – комар, гора, галактика, человек – всё течёт, всё принимает форму и теряет её. Искра рождается и умирает за долю секунды, тогда как солнце кажется вечным, но если восприятие времени изменить в одну сторону, искра будет казаться вечной, подобно солнцу. Измените его в другую сторону, вы увидите как солнце, мерцая, исчезнет из существования подобно искре. Что правильно? И то и другое? Ни то, ни другое? Можно сказать то же и о пространственном восприятии. Измените его в одну сторону, и солнце будет размером с искорку, измените в другую, и искорка заполнит собой вселенную. Меня не было сто лет назад, и меня не будет через сто лет, я просто промелькнул в существовании, меня зачерпнули и скоро выльют обратно, так в чём же моя истина?
Никто не ответил.
— Кто я? Вот в чём вопрос. Если хотите узнать, выясните. Используйте осознавание смерти вместе с духовным автолизисом. Думайте настолько усиленно, насколько можете. Не бойтесь быть глупыми.
Освободитесь от приличий. Дайте клятву. Объявите войну. Я шагал, пил воду, давая им размышлять.
— Сожгите всё, – продолжал я. – Вот ответ на вопрос, который вы задаёте, приходя сюда. Вот о чём всё это пробуждение. Вот о чём реальный дзен. Взорвите свою жизнь. То, что будет уничтожено, никогда не было вашим с самого начала.
Это висело в воздухе несколько мгновений, прежде чем кто-то заговорил.
— Что это на самом деле значит? – спросила Николь немного робко. – Откуда приходит этот уровень энергии?
— Из вас, – ответил я. – Это ваша энергия, та же энергия, которая в вас сейчас, но вместо того, чтобы изрыгать её во все стороны наружу, вываливать её из себя так быстро, как только возможно, используйте её, направив на единственную цель.
— Да, – сказала она, – но как?
— Это хороший вопрос, и молитва, духовный автолизис и «мементо мори» – вот мои ответы. Вы должны начать с сосредоточения внимания на себе. Ничто не произойдёт прежде этого, и никто за вас этого не сделает. По существу, не имеет значения, как вы отсекаете эту энергию, не имеет значения, во что вы верите, всё, что у вас есть это крошечный момент бытия между двумя вечностями небытия. Если не сейчас, когда?
Поднялись несколько рук. Они хотели отстаивать свои убеждения на счёт жизни после смерти, что есть более широкие, чем явно видные, измерения царства сна, но разговор о бессмертии эго не выдержит и двух минут честного исследования, а я не хочу, чтобы прощание с Брэтт перешло в торжество убеждений, поэтому я поднажал.
— Всё, что у вас есть, — это окошко бытия в царстве сна, которое может захлопнуться в любой момент. Вопрос в том, что вы будете с ним делать? Когда вы начнёте действительно глубоко понимать этот вопрос, ваша жизнь начнёт рушиться каскадом. Рухнет всё, кроме самой жизни. Затем начнётся игра, и всё, о чём мы сейчас говорим, приобретёт смысл. Тогда вы поймёте, что в действительности значит думать, и почему большинство людей никогда этого не делают. Тогда вы начнёте видеть, что значит спать, и что практически все спят. Тогда вы начнёте понимать, что значит говорить, что люди — это дети, да к тому же безумные. Тогда вы начнёте видеть, что все эмоции — это энергетические привязанности, и что все они исходят из страха. Тогда вы начнёте видеть Майю и понимать, кем и чем она является, где обитает и как работает. Тогда вы начнёте видеть, что нет ничего неправильного, что неправильность невозможна, и что самая неправильная вещь, о которой только можно помыслить, является не менее правильной, чем самая правильная вещь, о которой только можно помыслить. Тогда все кажущиеся противоречивыми утверждения перестанут быть парадоксальными концепциями и начнут быть самыми простыми и очевидными наблюдениями. И тогда вы захотите сфокусировать себя как лазер, а для этого потребуется процесс подобный духовному автолизису или «мементо мори». Вот что означает преуспеть в предприятии, где неудача и посредственность в таком почёте, что никто не помнит, как выглядит успех.
Я повернулся к костру, отхлебнув воды. Затем снова развернулся.
— Никто не говорит, что это легко, – продолжал я, – реальное развитие никогда не бывает лёгким. Вы слушали Лизу – три года страданий, чтобы открылись глаза, и они ещё не привыкли к новой среде. Это порвало её жизнь к чёртовой матери, и всё только начинается. Она не строила прелестные песочные мандалы, стирая их, чтобы напомнить себе о своей мимолётности. Она не пыталась выяснить, каким было её лицо до её рождения. Возможно, она делала не больше, чем снимала защиту в течении трёх лет, понемногу, как медленное умирание. Но быстро или медленно, это и есть умирание. К чему всё это приведёт? Что вы получите за всё своё страдание и лишение иллюзий? – Я сделал паузу, чтобы они могли подумать. – Спасение? Освобождение? Нирвана? Нет, это приведёт вас в самое начало. Это приведёт вас назад к той точке, где вы двигались вертикально, а не горизонтально, где вы похоронили себя в возрасте десяти или двенадцати лет. Это вытащит вас из норы, в которой вы провели всю свою жизнь, чтобы вы наконец могли начать её. Мы сейчас говорим даже не о духовном пути, а о прекращении недуховного пути. Всю свою жизнь мы закапывались в собственные могилы, словно это подходящее место, чтобы спрятаться от смерти. Теперь мы должны вылезти оттуда и начать свою жизнь, открыть кто и где мы есть, частью чего мы являемся, а этого не сделать со дна норы.
***
— Вы говорите, что реально ничто, – сказала Шанти немного позже. – Как может быть ничто реально? Это бессмысленно.
— Не знаю, – сказал я. – Я не обладаю знанием на сей предмет. Это царство сна. Здесь не о чем больше говорить.
— Но это как-то, – она подыскивала слово, – не удовлетворяет.
— Всё дело в точке зрения, – ответил я, – не это не удовлетворяет, а вы не удовлетворены. Я осознан в царстве сна, и вовсе не нахожу это неудовлетворяющим. У меня нет вопросов, недовольств, нерешённых проблем. Я совершенно удовлетворён. Мне всё целиком нравится. Я бы ничего не изменил. – Вы никогда ни в чём не заинтересованы?
— В чём? В том факте, что нет ничего, чем можно заинтересоваться? Что можно сказать о сне? Неужели вы находите неудовлетворяющим то, что в ваших снах не хватает материальности и основательности? Что они лопаются как мыльные пузыри, когда вы просыпаетесь? – Нет, – сказала она, – конечно нет.
— Ну вот, это то же самое, – сказал я Шанти, но для всех. – Единственная разница в том, что вы этого не знаете. Но могли бы. Это возможно узнать, увидеть. Здесь нет тайны. Ничего не спрятано, только не видно. Все эти метафоры, аллегории, иносказания – очень мощные инструменты понимания. Если вы хотите хоть как-то продвинуться вперёд, вы должны попытаться больше им доверять, но проверять, насколько они могут согнуться, прежде чем сломаться. Используйте духовный автолизис для нападения. Некоторые сильнее, другие слабее, конечно, но понимание консенсусной реальности как «царство сна» сломать невозможно. Жизнь всего лишь сон. Реальность не имеет основания в реальности. С закрытыми глазами вас это не удовлетворяет, с открытыми же я нахожу это восхитительным, волшебным, абсурдным, интерактивным, вызывающим, мистическим, игривым и непродолжительным. Вы хотите ответов, но ответов нет, есть только убеждения, а если вы хотите пробудиться, либо внутри, либо из сна, убеждения вам не друзья. Они только тянут вас назад. Требование ответов и объяснений — это тактика эго для замедления скорости потока. Вы можете просто перестать выставлять эти эгоистические требования и расслабиться в то, частью чего вы являетесь – довериться, сдаться, отпустить. Вы не слышите, но часы тикают, и вы не знаете, сколько тиканий вам осталось.
Прислушайтесь. Игра в разгаре, играете вы или нет.
Я развернулся к группе.
— Я не какой-нибудь великий умственный деятель. Я просто парень, который серьёзно захотел всё выяснить. И Брэтт тоже. Я не могу ничего вам сказать, чего бы вы не могли выяснить сами. Я не вижу ничего, чего бы вы не могли увидеть сами. Как Сократ – я знаю только то, что ничего не знаю. Это подтекст cogito, и вместе они образуют альфа и омега всего знания: я знаю, что я есть, и я знаю, что не знаю больше ничего. Это легко сказать, но чертовски трудно понять.
***
Несколько минут продолжался непринуждённый диалог, пока мой одноразовый сотовый телефон не завибрировал в кармане, сообщая о том, что Лиза и Мелисса спускаются к нам. Я взошёл на небольшой пирс и зашвырнул свой телефончик, наблюдая, как он плюхнулся в воду и исчез. Этот сигнал был последним, для чего он был мне нужен, и я был рад от него избавиться. Глядя на расходящиеся круги, я вспомнил об одном вечере в далёком прошлом, почти таком же как теперь, когда я стоял на похожем пирсе, глядел на тёмную воду и выкидывал одну вещь. Это было в самом начале моего процесса пробуждения, и я выбрасывал фамильную вещь, которая перешла ко мне, и предполагалось, что я когда-нибудь передам её своему сыну. Это были старинные дорогие часы, семейная драгоценность, и выкинуть её навсегда было непростительной наглостью. Я не думал об этих часах много лет, и почувствовал прилив благодарности, товарищества и симпатии к тому совершенно безбашенному молодцу, которым я был.
Я вернулся к группе. Попросив всех отодвинуть стулья и встать вокруг меня и огня полукругом, я поставил один стул возле огня и встал на него.
— Одна из причин, по которой мы сегодня здесь собрались, — это попрощаться с Брэтт, – сказал я. – Брэтт была не просто человеком. Не хотелось бы оскорблять её память банальными пошлостями, которые могли бы отлично послужить другим, и это поднимает важный вопрос: что мы можем сказать о Брэтт? О её жизни? Я бы не стал стоять здесь и говорить, что её жизнь имела смысл, или что она ушла в лучшее место. Она дала бы мне пинка под зад, если бы услышала такое, и правильно бы сделала. – Все засмеялись. – Она сыграла хорошую игру, вот что можно о ней сказать. Она была честна так, как почти никто в этом мире. У неё была смелость посмотреть фактам в лицо. А это довольно редко.
Все молчали и были должным образом угрюмы.
— Сначала я хотел принести сюда сегодня череп Брэтт, чтобы каждый подержал его в руках, может быть, поставить его на стол рядом с её улыбающейся фотографией. Это создало бы хорошую, провоцирующую размышления, живописную картину – непосредственное соседство одинаковых оскалов жизни и смерти, но оказалось, что не так-то просто заполучить чей-либо череп, да к тому же, Брэтт была уже кремирована. Было предложение принести сюда урну с её прахом и развеять его над водами этого озера, пока я буду нести чушь о том, как она здесь родилась, но мне показалось это довольно банальным, и думаю, Брэтт бы со мной согласилась. Итак, я спросил вселенную, что делать, и ответ пришёл ко мне незамедлительно и безошибочно. Кто-нибудь знает, что получится, если подвергнуть давлению углеродную сущность? Ну, очень сильному давлению?
Некоторые быстро сказали «нет» и спросили, что получится, но вопрос был риторическим. В течении одной минуты, пока я слез со стула, выпил воды, пошерудил в костре, ответ уже разнёсся по группе. Когда я вернулся к своему стулу и посмотрел на их лица в танцующих отсветах пламени, я увидел, что они поняли, но не могли поверить.
— У кого она? – спросил я, выискивая среди них. – У кого шкатулка с Брэтт?
***
Существует возможность кремировать человека, немного очистить пепел и под давлением сделать из него алмаз. Есть компании и лаборатории, которые этим занимаются. В то время об этой процедуре не было широко известно. Из всех студентов Брэтт лишь несколько человек слышали об этом, но никто никогда не видел результата. Быть может, в будущем это станет модным, и каждый будет носить своего утерянного любимого на шее или на пальце, но когда мы делали это для Брэтт, об этом практически никто не слышал. Это довольно дорогой и сложный процесс, но вселенная поддерживала его со всех сторон, Лиза и Николь содействовали ему, так что в результате огромный, бесцветный бриллиант в прекрасной шкатулке ждал нас в целости в отеле в Вирджинии точно в срок. Я подписал проект в самом начале, но большая часть стоимости была возмещена группой, доктором Кимом и некоторыми другими источниками, и всё прошло без каких-либо сюрпризов сначала и до самого конца.
Не было сюрпризов и от дочери Брэтт. Мелисса знала об этом с самого начала. Она полностью одобрила план и в некоторых моментах участвовала в нём напрямую. Сегодня, сразу же по прибытии, мы с Лизой отнесли ей бриллиант, чтобы она могла провести с ним какое-то время наедине. У нас даже и мысли не было удивить её этим.
Удивительной, однако, была реакция группы. Когда они поняли, что бриллиант, которым они любовались, был на самом деле останками их умершего учителя, они не бросились немедленно аплодировать. Не знаю, чего я ожидал, но получил огромную тяжёлую тишину.
***
Полчаса ушло на то, чтобы объяснить всем процесс создания алмаза. Шкатулка сделала ещё один круг, чтобы каждый мог изучить её в свете нового знания. В этот раз бриллиант вынули из шкатулки. Им хотелось дотронуться до него, подержат в руках, подумать о том, чем он был, и чем были они все, потому что это те вещи, о которых мы должны думать, когда мы предстаём перед смертью, перед покойниками и останками умерших. Таков был желаемый эффект, который был у меня на уме, когда я думал вначале об использовании черепа Брэтт для рассказа и показа, и позже, когда решение сделать алмаз дало о себе знать. Но я не мог вообразить, что эффект будет таким трогательным. Ушло ещё полчаса, чтобы они могли переварить это, и мы смогли продолжить. Кто-то был взволнован, кто-то плакал, некоторые собрались в небольшие группки, чтобы между собой выразить свои чувства. Прошёл целый час, прежде чем шок смягчился, и люди успокоились и вновь стали чувствовать себя комфортно.
Бриллиант — это красивая ложь, и люди жаждали в неё поверить. В нём они видели красоту и смысл. Они видели суть – проблеск истины, или смутную перспективу бессмертия. Они видели все те вещи, которых здесь не было, которые были спроецированы на этот небольшой камушек фильтрами, через которые они видели его.
Не хочу показаться бессердечным ублюдком, но я видел смысл бриллианта лишь в том, что он был совершенно бессмысленным. Я находил прекрасным в нём саму его ничтожность. Я поднял его перед собой на цепочке, и рассматривал. Этот человек ходил среди нас, был здесь, в этом месте, мы видели его, слушали его, он был таким же как мы, а теперь стал этим дурацким камнем. Брэтт, владелица ранчо, женщина, уцелевшая в битве, учитель, дочь, мать, бабушка – теперь лишь яркая безделушка.
Брэтт не умерла. Не существует существа Брэтт, которое обладает статусом мертвеца. Просто нет такой вещи как Брэтт. Она не умерла, она просто ничто. Фактически, она не стала ни больше ни меньше, чем когдалибо была, чем кто-либо когда-либо был. Она была лицом в облаках, которое образовалось на минуту, и потом пропало. Вот чем на самом деле кто-либо или что-либо является, и можно спокойно принять это, не потому что это успокаивает, но потому что это правда.
***
Следующую часть вечера должны были провести Лиза и Николь. Они вернули себе шкатулку и бриллиант и попросили всех сесть и замолчать. Они вывели Мелиссу вперёд и сказали несколько тёплых слов о Брэтт, которые заставили всех вытирать слёзы, а затем преподнесли бриллиант Мелиссе. У них всё получилось хорошо.
Мелисса тоже молодец. Она взяла шкатулку и долго и трогательно изучала её в тишине. Затем она поблагодарила всех и немного рассказала о своей матери, что она не знала ту Брэтт, которую знали мы все, но что хотела бы знать.
— Любимым фильмом мамы был «Гарольд и Мод», – сказала она, – и я подумала, что наверное, я должна, приняв сегодня этот бриллиант, пойти прямиком на тот пирс и выкинуть его в воду, как сделала Мод с кольцом, которое ей подарил Гарольд, и я бы сказала: «Так я буду всегда знать, где он», как сказала Мод. Мне показалось так поступить будет правильно, но подумав ещё немного, я решила, что совсем не понимаю этого, я не понимаю, почему Мод выкинула подарок Гарольда, и если бы я так поступила сейчас, это было бы фальшивым, только ради шоу, поэтому я не буду так поступать. Я оставлю его у себя и попытаюсь понять свою мать с той стороны, с какой вы все её знали, и если у меня когда-нибудь это получится, тогда, может быть, я пойму, почему Мод выкинула то кольцо, и может быть, тогда я приду сюда, даже если буду уже совсем старой, и брошу алмаз в воду, и скажу маме: «Так я буду всегда знать, где ты», и буду знать, что это значит. Я думаю, что это будет значить, что я почтила её, попыталась понять её, и не просто выкинула, чтобы это выглядело так, как будто я поняла что-то, не поняв, или как будто я просто хотела избавиться от неё. Не знаю, есть ли какой-нибудь смысл в этом. Надеюсь, вы все меня понимаете. Спасибо за этот подарок, за то, что пришли сюда, и за то, что знали мою мать так, как не знала её я.
***
Лиза и я пошли проводить Мелиссу назад в дом и сказать ей спокойной ночи. Мы попрощались и ушли. Лиза направилась обратно к озеру. Я направился к машине.
— Куда это вы? – спросила она.
— Пора уходить, – сказал я.
— Уходить? Но у людей ещё много вопросов. Вы всех взволновали. Они стоят, переговариваются и ждут, когда вы вернётесь. Они о многом хотят вас спросить.
Я остановился и повернулся к ней.
— О чём же? – спросил я её. – Например, какой достойный вопрос они могут мне задать?
— Почему вы спрашиваете меня? Я не знаю.
— Зная то, что вы знаете, какой информации им не хватает, чтобы совершить путешествие из отрицания в осознанность? Какой ответ есть у вас или у меня, который им стоило бы услышать?
Она выглядела озадаченно.
— Не знаю, – повторила она.
— Уже пора перестать так говорить.
Она напряглась. В трудных ситуациях она молчит, что усложняет мне задачу, значит, я должен говорить твёрже.
— Наши с вами отношения почти закончены, – сказал я. – Несколько часов дороги, и всё. Она немного расслабилась. – Но мы могли бы...
— Разве? Вы всё лето просидели со мной за письменным столом. Вы видели, чтобы я разговаривал с кемнибудь по телефону, или переписывался по электронной почте? Вы видели приходящие письма, я когданибудь отвечал на них? – Нет, но...
— Какие-либо признаки семьи, друзей, людей в моей жизни? – Нет.
— Вы думаете, что я скрываю от вас эту часть моей жизни? – Нет, думаю, нет, но...
— Я не инструктор жизни, не гуру, не суррогатный отец. У меня нет человеческих отношений. Каждый человек — это остров, целиком сам по себе. Если бы у меня был кобель, я назвал бы его Уилсон. Я знаю, где я.
— Но я думала...
— Я сослужу вам плохую службу, оставшись в вашем распоряжении. А также тем людям возле озера. Это соло. Если тонущий человек хватается за меня, я делаю ему одолжение, ударив его по лицу.
Она опечалилась.
— Вы сирота, – сказал я ей. – Даже если ваши родители были бы живы, вы сирота. К этому вам нужно привыкнуть. Если вы напишете мне письмо через несколько лет, я с нетерпением его прочту. Надеюсь, там будет сказано, что вы поняли, что я вам сейчас говорю, что вы продолжаете развиваться в зрелого и постоянно прогрессирующего взрослого человека, и в таком же духе воспитываете детей. Я надеюсь, что в этом письме будет так написано.
— А что ещё там могло бы быть написано? – спросила она с серьёзным видом.
— Дорогой Джед. Мне намного лучше после того небольшого нервного срыва. Я снова занимаюсь юридической практикой, дети хорошо учатся в школе, и возможно, мы вновь соединимся с Дэннисом. Я увлеклась гольфом и принимаю участие в местной благотворительности. Не большая причёска и толстый зад в Корпус Кристи, ха ха! Спасибо, что помогли мне в трудное время. С любовью, Лиза. Она выглядела так, словно я её ударил.
— Вы так думаете? Я пожал плечами.
— Выбор за вами. Даже теперь, после всего, через что вы прошли, вы всё ещё должны открыть глаза, сделать первые шаги, чтобы осознать новый и непохожий мир, в котором вы находитесь. Вы думаете, что всё уже закончено, но процесс всё ещё в самом разгаре. Вот вам шлепок под зад. Abrase los ojos, abogada[30].
— О, господи, – сказал она, печально качая головой, – такой прекрасный вечер.
— Да, конечно, – согласился я. – Это самый прекрасный вечер на свете. А что мы делаем? Есть только осозанность и отрицание, движение вперёд и назад, прогресс и окапывание. Те люди у озера либо пройдут через тот переход, через который прошли вы, либо останутся в своих норах. Им не нужна информация, им нужна суицидальная неудовлетворённость. Какой ответ есть у вас или у меня, который им необходимо услышать? Теперь я вас спрашиваю. Вам решать. Что вы хотите сделать?
Она долго смотрела мне в глаза, затем кивнула. – Поехали, – сказала она.
***
Вот мой итоговый совет на предмет о духовном пробуждении, внутри царства сна или из него. Смотрите в лицо фактам. Смотрите в лицо смерти, своей собственной бессмысленности. Это применимо ко всем и везде. Я касался этой темы в первой книге, но тогда я думал, что пишу для искушённых читателей, для людей слишком духовно сообразительных, чтобы им нужен был такой простой урок. Однако, с тех пор я обнаружил, что тот, кто выглядит наиболее искушённым, является наиболее глубоко окопавшимся, и меньше всего есть вероятность, что он подвергнет себя тяготам истинного духовного путешествия. Зайдя так далеко не в ту сторону, он наименее склонен развернуться и уничтожить свой анти-прогресс. Теперь я вижу, что отрицание смерти, страх не-я, находятся в самом сердце паралича, сковавшего практически всех духовных претендентов, а так же всех остальных.
Отрицание Смерти во всём множестве его форм — это та нора, на дне которой мы сидим, съёжившись и дрожа, напуганные до смерти за свою жизнь. Осознавание Смерти — это акт выхода из норы и созерцания мира, в котором мы живём, и творения, частью которого мы являемся. Я много раз говорил, что все люди, по всему миру и по всей истории, выглядят простыми детьми с перспективы человека, который предпринял всего один шаг, и вот он, этот шаг. Осмелиться выйти из норы, объявить свободу от детских верований, повернуться к смерти, посмотреть в глаза неубиваемым архи-демонам тщетности и бессмысленности – вот где начинается путь, и никакого пути не начнётся где-то ещё. Всё остальное мы делаем ради того, чтобы оставаться немыми, убивать время, закапываясь всё глубже.
Что сделал бы я, будь я в той группе, слушавшей сегодня меня и Лизу? Невозможно сказать, конечно, но в идеализированном смысле, могу предположить, что я бы пошёл домой и провёл черту. Я начал бы с того, что собрал бы в кучу все духовные обломки и мусор, накопившиеся за долгие годы – каждую книгу и журнал, всю одежду и драгоценности, каждую статуэтку, безделушку, тотем, идол – облил бы бензином и смотрел, как всё это горит; разделся бы догола, выл на луну, давал бы дикие, как на войне, клятвы, призывая в свидетели луну и звёзды. Громкий, дурацкий поступок? Абсолютно верно. Таким и должно быть проведение черты. Вы должны послать мощный сигнал, даже если только для себя. Никто не входит в это в здравом уме и невозмутимости.
Или может быть, я поступил бы по-другому. Может быть, я сказал бы, что мне нравится моя жизнь и мой подход к духовности такими, какие они есть. Я хочу быть счастливым и жить хорошую жизнь. Спасибо за сумасбродную речь о смерти, Джед, но я хочу жизнеутверждающей духовности, а не всех этих долбаных смертей и войн. Мне нравятся мои книги, моя медитация, и я совсем не вижу смысла сжигать да тла свой дом, когда всё, что ему нужно, это лишь слой свежей краски.
В конце концов, не имеет значения, как вы сыграете, ведь это всего-навсего игра.
В путь – немедленно в путь! Кровь кипит у меня в жилах!
Прочь, о душа моя! Поднимай скорее якорь!
Руби канаты – отчаливай – ставь все паруса!
Не довольно ли стоять здесь, словно вросшие в землю деревья?
Не довольно ли пресмыкаться, есть и пить, словно грубые животные?
Не довольно ли омрачать свой ум книгами?
Вперёд – держи курс только в открытое море, о отважная пытливая душа моя, я с тобой, и ты со мной;
мы поплывём с тобой туда, где ни один моряк ещё не плавал, рискуя кораблём, собой и всем на свете.
О, храбрая душа моя!
О, дальнее, дальнее плавание!
О, безрассудная, спасительная радость! Не все ли моря божьи?
О, дальнее, дальнее, дальнее плавание!
— Уолт Уитмен –
Эпилог
Ну почему так скоро стало поздно?
Настала ночь, а только что был день.
Сейчас декабрь – недавно был июнь.
О боже мой, как быстро время пролетело!
Ну почему так скоро стало поздно?
– Доктор Сьюз –Глубоко расслабившись, в настроении, дружелюбном к смерти, я сидел в волшебном кресле и без усилий скользил сквозь лунную ночь в нескольких футах над поверхностью тихо спящей планеты. Kyrie из «Торжественной мессы» Бетховена наполняла пространство подобно тёплому золоту, в то время, как сельский ландшафт Вирджинии проносился мимо. Ночь была холодной, но мне было тепло в моём волшебном кресле. Виды и звуки создавали и определяли моё сознание. Не было ни прошлого, ни будущего. Холмы, поля и леса потеснились, чтобы дать место маленькому городку – поселение людей на планете под названием Земля.
Город спал; мы без труда промчались сквозь него и снова выехали на бегущие мимо поля.
Впереди появилась встречная машина, свет фар приближался, подобно тому, как он приближался к Брэтт в её последние секунды. Если свет этих фар пересечёт черту, я готов, и надеюсь, Брэтт тоже была готова. Надеюсь, её последние мгновенья были похожими на эти – было время вспомнить хорошо прожитую жизнь, исполненную роль, сыгранную игру. Надеюсь, у неё была секунда с половиной, чтобы попрощаться и поблагодарить. Особенно поблагодарить. Благодарю за гостеприимство. Спасибо за отпущенное мне время.
***
Есть две эмоции, которые наполняют и вдохновляют человеческое животное: страх и смесь благодарности, любви и благоговения, которую лучше всего назвать агапе. Когда уходит страх, приходит агапе. Выражаясь более точно, чистый белый свет сознания, проходя через призму «я», разделяется, чтобы стать вселенной, какой мы её воспринимаем. Если призма «я» серая и тёмная от невежества, забита страхом, заражена эго, то такой становится и вселенная, излучаемая из неё. Вот так просто. Когда призма освобождается от подобных пороков, то вместе с ней меняется и вся вселенная. Она становится более понятной, более яркой, более игривой и волшебной. А поскольку мы являемся линзами, через которые она проецируется, мы все принимаем участие в её образовании и движении – со-творцы собственной вселенной.
Это Человеческая Взрослость. Духовное Просветление по существу то же самое, только здесь предпринимается последний шаг в очищении призмы «я» – она ликвидируется.
Приближающаяся машина осталась на своей полосе, пролетела мимо и исчезла.
Мне была дана жизнь, и я прожил её. Я сделал всё, что мог. Я сыграл свою роль. Я произнёс все реплики, собрал все ключи, поразил все цели. Я родился ребёнком и стал взрослым, а затем я пошёл дальше, покуда было куда идти, прошёл весь путь до странного пустого места под названием «готов». Я написал книги, в которых рассказал о том, о чём сам когда-то хотел узнать. Эти книги и диалоги представляются мне как один длинный разговор с собой до пробуждения, с тем, кто должен был идти, пустился в путь и ушёл. Вот чем на самом деле являются все три книги. Чем ценны подобные книги? Полагаю, тем, чем они ценны для конкретного читателя. Если бы кто-то подошёл ко мне, когда это всё начиналось, и предложил мне эти книги, я бы отдал за них руку и ногу, в буквальном смысле и без колебаний. Серьёзно? Вам нужна всего лишь рука и нога? В чём тут подвох? Я бы смог прожить без конечностей. Но во лжи – нет.
Кажется, словно это было миллион лет назад, когда я стоял на краю пирса и бросал свои смехотворно ценные часы в воду, как сегодня почти поступила Мелисса с плотно упакованными останками своей матери. Я мог бы поступить гораздо умнее с теми часами, но они были слишком тяжёлыми, поэтому я выкинул их. Громкий, глупый поступок, да, но то было время громких и глупых поступков. Сейчас мне радостно оттого, что тогда у меня хватило ума быть таким дураком. Когда ты стоишь на краю пирса, готовый выбросить фамильную драгоценность навсегда, ты знаешь, что это дурь, и что это не дурь в единственном случае – если ты действительно собрался идти до конца. А ежели так, если ты реально намерен это сделать, тогда кровная измена и несколько унций металла – небольшая цена. В противном случае это лишь бессмысленный, глупый и непростительный поступок. А дело в том, что когда ты берёшь эти часы, которые тебе вручили с доверием и со смыслом, и кидаешь их в чёрную воду, видна только дурная часть уравнения, но ты должен пойти и сделать это, потому что часы слишком тяжелы для чего-либо ещё, и ты знаешь, что если ты не утопишь их, они наверняка утопят тебя.
Это волшебное кресло, эта ночная планета, эта музыка, эти руки – это всё не моё, я не могу их сохранить, но сейчас они у меня есть. Прямо сейчас они со мной, они мои, но лишь на мгновенье, а урок мгновенья таков, что его нельзя ухватить. Нет настоящего, есть только пересечение прошлого и будущего, каждое из которых обладает странным очарованием небытия.
Вспомнилось о моём первом друге в этой жизни. Она была, ей-богу не вру, слонихой. Мы вместе были маленькими детьми. Я знал её имя, а она знала моё. Я мог бы рассказать об этом, но думаю, не стану. Она всё ещё жива, и я знаю, где она. Возможно, я когда-нибудь навещу её. А может, нет.
Ещё вспомнилось, что как-то раз – и я опять не вру – я мчался в сумерках на роскошном спортивном автомобиле по шоссе 666, машину подбросило на полной скорости, и я припомнил всех мыслимых богов, чтобы не врезаться в понурого белого длиннорогого бычка, беспечно вставшего поперёк дороги. Перед машины был повреждён, и мне пришлось провести всю ночь – я снова не шучу – на индейском кладбище. На шоссе 666. Когда я попытался отыскать невероятное животное, оно исчезло, хотя ему совершенно некуда было деваться. Я был молод, и то была необыкновенно тёмная, холодная и длинная ночь.
Или, быть может, мне это приснилось.
Часы, друг слон, длинная ночь на шоссе 666 – быть может, моя жизнь проходит у меня перед глазами, заставляя меня заинтересованно следить за следующей парой приближающихся фар.
Или, быть может, эта ночь добавится к тому списку. Прощание с человеком, так похожим на меня. Произнесение моей первой и последней прощальной речи. Навязчивая, сверхъестественная красота этой поездки. А так же опускание занавеса большой части моей собственной жизни. С учительствованием, говорением, писанием теперь покончено.
А потом...
Щёлк.
Я готов. Моя работа выполнена. Временная работа автор-учитель закончена. Всё началось двадцать лет назад, когда стрела с алмазным наконечником попала мне прямиком промеж глаз. Сначала это было чем-то одним, затем другим, затем чем-то ещё, и теперь, вот, закончилось. Я завершил свою жизнь, выполнил свою задачу, внёс свою лепту. Если я не упоминал раньше, что просветление бессмысленно, прошу прощения, я имел это в виду. Просветление бессмысленно. В бесконечном, вечном небытии не-я нет никаких смыслов. Окончен контекст, который придавали моей жизни писательство и учительство. Всё, что мне осталось теперь, это удалиться в свой новый дом и играть со своим новым другом, Майей.
Мальчик с собакой.
Торжественна Месса пронзала моё сердце. Полная луна стояла высоко и отбрасывала сказочное зарево на сверкающий ландшафт. Я отпустил все мысли и воспоминания и водворился в настоящем моменте, настолько погружённый в красоту, что мог бы остановить войну. Пережить этот момент казалось святотатством. Я посмотрел на Лизу, интересуясь, знает ли она, где мы. Она вела машину сквозь бесконечно короткую ночь, а по её улыбающемуся лицу ручьём лились слёзы. Она знала, где мы.
Окончен праздник. В этом представленьи Актерами, сказал я, были духи. И в воздухе, и в воздухе прозрачном, Свершив свой труд, растаяли они.
Вот так, подобно призракам без плоти,
Когда-нибудь растают, словно дым,
И тучами увенчанные горы, И горделивые дворцы и храмы, И даже весь — о да, весь шар земной. И как от этих бестелесных масок, От них не сохранится и следа.
Мы созданы из вещества того же, Что наши сны. И сном окружена Вся наша маленькая жизнь.
(перевод М.Донского)
– Шекспир –
Примечания
1
Подпорная стена удерживает от обрушения находящийся за ней массив грунта
(обратно)2
Мэйберри – город в 50-х из шоу Энди Гриффитa. Этaкий символ идеaльного городкa, нa улицaх которого дети могут игрaть без стрaхa, все дружелюбны и знaют друг другa.
(обратно)3
герои фантастических фильмов
(обратно)4
Cogito ergo sum – «Мыслю, следовательно, существую», знаменитое высказывание Декарта.
(обратно)5
В английском языке глагол «to be» (быть) изменяется по лицам.
(обратно)6
Слово «dreamstate» можно так же перевести как «состояние сна», «страна грёз»
(обратно)7
Слово «done» можно перевести как «окончен», «сделан», «убит». Это слово употребляется Джедом для обозначения конца духовного путешествия (см. примечание в первой книге)
(обратно)8
Dream – в английском языке это слово означает «сон» и «мечта»
(обратно)9
Affluenza – от affluence (изобилие, богатство) + influenza (грипп).
(обратно)10
Взрослая стадия развития насекомого. В психологии: первообраз, прообраз.
(обратно)11
Близорукость
(обратно)12
Популярная дискуссия в Америке, какой из материалов более экологичен
(обратно)13
Большое спасибо, сеньор. – Не за что, сеньорита. (исп.)
(обратно)14
100-110 км/ч
(обратно)15
Мексиканские музыканты
(обратно)16
Слово manifest в английском языке означает «воплощение», «материализация»
(обратно)17
Это моя специальность (фр.)
(обратно)18
Where rubber meets the road – слэнг; момент истины, от которого зависит успех или неуспех предприятия.
(обратно)19
Карточная игра
(обратно)20
Чесапик – город в Вирджинии
(обратно)21
бабулю
(обратно)22
не за что (исп.)
(обратно)23
смотрите, откройте глаза (исп.)
(обратно)24
Повод для объявления войны
(обратно)25
лови момент (лат.)
(обратно)26
Английская фраза I attained nothing дословно звучит как «я достиг ничего»
(обратно)27
nothing (ничто) + ness (ность) = то, чего нет; небытие
(обратно)28
Один из терминов Новояза («1984» Дж. Оруэлл)
(обратно)29
Слова, приписываемые Мейстеру Экхарту (прим. автора)
(обратно)30
Откройте глаза, адвокатша
(обратно)
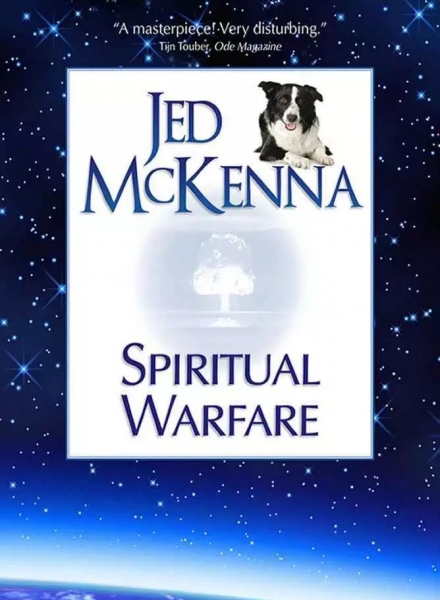

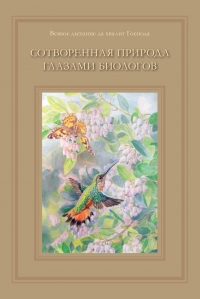

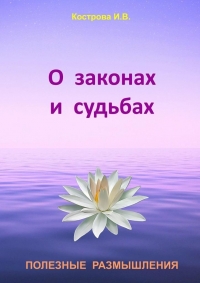
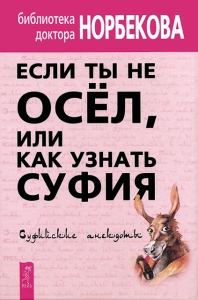


Комментарии к книге «Духовная война», Джед МакКенна
Всего 0 комментариев