Артур Пшибыславски Пустота — это радость, или Буддийская философия с прищуром третьего глаза
Предисловие
Однажды два величайших мастера тибетского буддизма XX века — Шестнадцатый Кармапа Рангджунг Ригпе Дордже и Дилго Кхьенце Ринпоче — пили чай в саду и, беседуя, рассмеялись до слез. На вопрос, что их так рассмешило, один из них показал на растущее неподалеку дерево и ответил: «Понимаешь, они все думают, что это дерево!» И они снова разразились хохотом.
Хохот просветленных заразителен и, конечно, не рассмеяться вслед за ними просто невозможно, но совсем не обязательно наш смех будет означать понимание. Пусть эта книга станет попыткой объяснить шутку, за которой стоит опыт буддийской философии. Объяснение, скорее всего, покажется несколько затянутым, с многочисленными отступлениями, но в оправдание скажу — они должны получиться шутливыми. Также объяснение будет содержать большую часть буддийской философии, потому что именно она с помощью медитации превращается в живой опыт и становится лучшим поводом для радости, о чем знают далеко не все. Обычно философия защищала себя от счастья и смеха, подменяя их важностью. Первый принцип философии — дело огромной важности, как патетически утверждал молодой Шеллинг. То есть в философии всегда оставалось место для ужаса, страха и тревоги, порождающих спекуляции состояний ума. И только одного европейского философа прозвали «смеющимся». Это Демокрит, который из далеких путешествий в Индию, вероятно, и привез порадовавшую его теорию атомизма, уже известную в ту пору в ведической и буддийской традициях. Еще две попытки привнести смех в философию (ясное дело, обе серьезные) случились в XX веке. Первую из них осуществил Анри Бергсон, написавший книгу под названием «Смех». Кто-то отметил, что в ней нет ни одной шутки! Вторую попытку предпринял Хельмут Плесснер, который в свою очередь написал книгу «Смех и плач». Как видно по названию, он все испортил уже в самом начале.
Когда к слову «философия» добавляют определение «буддийская», в глазах большинства все выглядит еще хуже. К сожалению, у многих людей буддизм ассоциируется с мрачной аскезой, лишенным страстей уходом от жизни, рассматриваемой исключительно как страдание. Однако стоит помнить, что истина о страдании, а ею часто ограничиваются поверхностные читатели буддийских текстов, — лишь первая из так называемых Четырех благородных истин, на которых основываются наиболее общие учения Будды. Три следующие говорят о причине страдания (лишь познав ее, можно понять ситуацию, в которой мы очутились), о состоянии вне страдания (здесь я внесу также рискованное предположение, что речь может идти о счастье и радости) и, наконец, о пути, ведущем к состоянию вне страдания (а можно ли его достичь?!). Этот путь и состоит из разнообразнейших буддийских методов со специализацией на свободе и радости, и именно этим методам (в количестве, равном 84 000) Будда учил в течение 45 лет после достижения Просветления вплоть до самой смерти. Тот, кто утверждает, что, как каждая капля воды в океане имеет вкус соли, так и каждое его поучение имеет вкус освобождения, вряд ли представляет собой измученного жизнью нигилиста, проповедующего умерщвление в печали экзистенции. Одно из имен Будды звучит как сугата. Су, согласно тибетскому источнику, происходит от санскритского слова сукха, означающего радость, а гата относится к тому, кто достиг цели. Таким образом, сугата, или по-тибетски дэвар-шегпа, — дословно «тот, кто достиг радости», необусловленной, окончательной, великой радости, как принято ее определять в традиционных буддийских учениях. В свою очередь, названием сугата гарбха на санскрите и дэшег ньингпо по-тибетски, что буквально означает «сердце достигшего радости», определяется природа Будды, согласно буддийским учениям присутствующая в каждом более-менее осознающем существе. Узнавание этой природы есть Просветление, и оно невозможно без некоторой, пусть небольшой, порции буддийской философии, объясняющей природу явлений и природу переживающего их ума.
Чтобы попытаться понять сформированную буддийской философией и медитацией радость упомянутых ранее мастеров, нужно посмотреть на окружающий мир глазом буддийской мудрости; это так называемый третий глаз, нарисованный вертикально на лбу у просветленных форм с буддийских картин. И глаз этот — смею утверждать — определенно прищурен. Он видит пустоту вещей, а она, в свою очередь, является ничем иным, как радостью. Для ее определения тибетцы используют термин дэтонг, в котором дэ происходит от слова дэва, означающего радость, а тонг — от тонгпаньи, означающего пустоту[1].
Конечно, на первый взгляд двух оставшихся глаз, подобное определение пустоты выглядит странным, но, надеюсь, следующие главы книги сделают его более интуитивным. Именно благодаря интуитивности я отказался от всяческих герметичных и чересчур сухих умозрительных построений, которыми оброс этот ключевой термин буддийской мысли, а взамен решил приблизиться даже не к словарю, но скорее к духу или атмосфере философии, имеющей тенденцию исчезать под влиянием специфического словаря. Оставаясь верным духу, а не букве, я поместил это скромное приближение к буддийской мысли в контекст повседневной жизни. А как же быть с философией, не имеющей ничего общего с жизнью? Конечно, кое-кто приписывал философии добродетель как раз из-за ее оторванности от жизни, однако Будда утверждал, что единственная причина, по которой он учит, — в том, что все существа хотят быть счастливыми. А счастье — чрезвычайно практичный вопрос нашего существования, ведь, в конце концов, все в этой жизни вращается вокруг счастья. Впрочем, даже самая абстрактная философия может быть культивируема, поскольку доставляет удовольствие (иногда замаскированное возвышенными декларациями) тому, кто ею занимается (если не сказать возделывает). Тогда философия становится для кого-то патентом на счастье, пусть немного извращенное, но все же счастье. Таким образом, философия имеет дело — не будем больше этого скрывать — со счастьем (ведь как иначе объяснить, например, ее сотериологические или эсхатологические увлечения?). Буддийская же философия ставит этот вопрос совершенно открыто, и оказывается методом, специализирующимся на радости, переживаемой уже не только при чтении философского текста или во время медитации, но и в повседневной жизни, например в саду за чашкой чая. Чтобы подобное стало возможным, буддийское мировоззрение посредством медитации сплавляется с обычной жизнью, и их единство становится настоящим поводом для радости.
Это наиболее очевидно в традиции индийских махасиддхов, которая проникла в Тибет и породила множество высокореализованных буддийских мастеров. Вопреки внешнему виду одухотворенных аскетов, эти легендарные мастера буддийской тантры не только проводили многие годы в медитации, но и занимались работой, и зачастую среди повседневных, казалось бы, скучных дел их ум приобретал все более глубокое понимание природы явлений. В случае Тилопы это произошло, когда он выжимал масло сезама; Сараха обрел осознавание в момент, когда женщина показала ему собственноручно изготовленную стрелу, что в памяти тибетцев сохранилось в таком виде.
Рахула направился на базарную площадь. Там он увидел женщину, вырезающую древко стрелы. Она не оглядывалась по сторонам и была полностью сосредоточена на своей работе. Подойдя ближе, он увидел, как старательно женщина выпрямляет тростинку с тремя утолщениями, подравнивает оба конца, а потом насаживает наконечник на нижний конец, разрезанный на четыре части, и обвязывает сухожилием, прикрепляя четыре пера на верхний конец, разрезанный надвое; потом она зажмурила один глаз, как будто прицеливаясь. Когда он спросил, не является ли для нее изготовление стрел ремеслом, она ответила: «Благородный сын, смысл учения Будды можно познать по символам и по поступкам, но не через слова и книги». Тогда в его уме возникло понимание, почему именно так сказала эта Дакиня.
Тростинка символизировала то, что не было создано, три утолщения — необходимость достижения трех совершенных состояний Будды; выпрямление древка — исправление пути духовного развития. Подравнивание внизу — необходимость искоренения сансары, а вверху — необходимость искоренения представлений о существовании «я» или сущности вещей; разрез на четыре части внизу — четыре уровня проверки; насаживание острия — необходимость использования своей способности к пониманию; обвязывание сухожилием — достижение печати единства; расщепление верхнего конца на две части — методы и мудрость; закрепление четырех перьев означало воззрение, размышление над ним, практику и достижение результата; один открытый глаз, а другой зажмуренный означали закрытие глаза дискурсивного познания и открытие глаза вневременного сознания; стойка, из которой метят в цель, — необходимость выстрела стрелой недвойственности в самое сердце двойственного цепляния (к объекту и субъекту).
По причине этого понимания брамин Рахула получил имя Сараха; в Индии сара означает стрелу, а ха — выстрел. Он стал известен как выпустивший стрелу, потому что сумел отправить стрелу недвойственности в самое сердце дуализма[2].
Очевидно, люди вокруг видели лишь женщину, занимающуюся своим ремеслом и демонстрирующую товар, но Сараха смог увидеть в такой, казалось бы, банальной ситуации нечто совершенно иное, потому что его ум был уже достаточно открыт благодаря медитации и подготовлен благодаря буддийской философии к возможности намного интереснее проживать обычную жизнь. В самом обыденном событии таится огромный потенциал, способный высвободить глубокое переживание. Осознание этого зависит лишь от уровня открытости и подготовленности воспринимающего ума, который в конечном итоге может распознать свою глубочайшую природу. Так было в случае Манибхадры: ее ум стал всем в ту минуту, когда она смотрела на дорогу, по которой разливалась вода из кувшина, случайно выпавшего из ее рук. Подобные моменты венчают буддийское развитие, но даже в начале пути невозможно скучать — самая серая реальность, рассматриваемая буддийским взором, оказывается пустой, что означает реальность более интересную, легкую и забавную, чем мы привыкли считать.
Буддийская философия стремится оценить нормальную, обычную жизнь и придать ей такую легкость, что ум переживающего способен испытывать все больше свободы и радости. Это самый быстрый путь к познанию природы ума. Именно повседневная жизнь становится лучшей проверкой и подтверждением буддийской философии. Поэтому махасиддхи не только медитировали, но и трудились в самых разных областях. Они занимались не только благородными профессиями, как Сараха, Нагарджуна, Наропа или Майтрипа, многие годы преподававший в Университете Наланда (впрочем, чтобы потом уйти из него), но также аккуратно исполняли, к примеру, обязанности секретаря и уборщика у куртизанки, как упоминавшийся уже Тилопа; возделывали земли, как Марпа, полностью просветленный мастер, полиглот и переводчик множества санскритских текстов на тибетский язык (их появление привело к ренессансу тантрического буддизма в Стране снегов); Гампопа был несравненным врачом из Дагпо, как именуют его до сих пор. Получается, важно не то, что человек делает, а как он это делает, с каким настроем приступает к действию. Если уж буддийская философия, то в практике и действии.
В главах этой книги будут представлены не теоретические объяснения, а лишь иллюстрации определенного ключевого тезиса буддийской философии[3], находящегося в соответствующем эпиграфе. Философия будет показана в контексте повседневности, а не в теоретическом измерении, рассмотренном мной в других источниках. Теперь я могу почувствовать себя свободным от требований серьезной академической лекции.
Поэтому предлагаю развлечение, основанное на другом взгляде на мир. Чем глубже мы усваиваем буддийское воззрение, тем интереснее становится реальность, и наоборот. Чем больше нас веселит реальность, тем более очевидной становится буддийская философия. Даже если она покажется вам не согласующейся с прежним отношением к жизни, прошу помнить — развлечение заключается именно в том, чтобы без предубеждений посмотреть на мир с другой точки зрения и позволить себе удивиться. Например, узлы на шнурках можно принимать как раздражающую проблему, а для индейца они будут замечательным образцом поэзии, записанным узелковым письмом. Или вернемся к нашему дереву! Можете ли вы, положа руку на сердце, с полной ответственностью признать, что это на самом деле дерево? «Я сижу в саду с философом; указывая на дерево рядом с нами, он вновь и вновь повторяет: „Я знаю, что это — дерево“. Приходит кто-то третий и слышит его, а я ему говорю: „Этот человек не сумасшедший: просто мы философствуем“»[4].
* * *
Я благодарю всех друзей (их слишком много, чтобы перечислять всех без риска забыть кого-нибудь), которые прочитали фрагменты книги или ее целиком и поделились со мной своими замечаниями. Ламу Оле Нидала, как всегда, благодарю за все.
Ретритный буддийский центр в Кухарах, май 2010 г.
1. Как управиться с чулками и подвязками, или О методе буддийской философии
Когда преграды тела и ума растворяются сами по себе…
XIII Кармапа Дюдюл ДорджеФилософские проблемы — как и любые другие — вопреки утверждению Витгенштейна, появляются не тогда, когда отдыхает язык, а когда не хочет отдыхать ум. Ум работает неустанно, и, даже утомившись от собственного непрерывного мыслетока[5], он продолжает вести себя как типичный трудоголик, для которого наилучшим, а точнее неизбежным отдыхом является работа. Ментальная работа, проведенная для постановки проблемы, тут же оборачивается очередной, еще большей работой, вкладываемой в решение той же проблемы. Непросветленный ум не умеет отдыхать, не говоря о праздновании. Он делает простое сложным, хотя нет ничего более освобождающего, чем простота. Решение проблемы узнается по ее исчезновению, говорит Витгенштейн. Невозможно отказать ему в правоте. Самым простым, а значит, лучшим способом избавления от проблемы было бы выбросить ее в мусорное ведро. Впрочем, проблема уже в названии подразумевает то, что выкидывается: pro — означает перед, а ballein по-гречески — бросать. Главное, не себе под ноги. Лучше всего швырнуть за спину, тогда не нужно заботиться ни о проблеме, ни о ее решении — простая экономия времени и энергии.
Одно то, что проблема представляет собой проблему, с ее стороны является наглостью, с которой вообще не стоит мириться. Хуже того (а вообще-то лучше), проблема и не может представлять собой проблему, потому что сама проблематична. Ее нет там, где мы ее ищем. Обратимся к какому-нибудь примеру, лучше всего из жизни, ведь любая жизнь — это свидетельство определенной философии. Начнем, пожалуй, с верхней полки — с Канта, создателя замечательной философии (поскольку она трансцендентальная), который
…из-за страха нарушить циркуляцию крови никогда не носил подвязок. В скором времени оказалось, что чулки без них не держатся, и он изобрел для себя изощренные заменители. Я опишу их: в кармашке на каждом бедре, меньшем, чем часовой карман, но выполнявшем почти ту же функцию, помещалась малюсенькая коробочка, чем-то напоминавшая корпус от часов; в эту коробку вкладывалась закрученная колесом часовая пружина, а на колесо наматывался эластичный шнурок, натяжением которого регулировалось дополнительное приспособление: к обоим концам шнура прикреплялись крючки, через маленькие отверстия в кармашке они выводились наружу и, спускаясь по внешней и внутренней сторонам бедра, закреплялись на петлях, пришитых по обе стороны чулка. Как нетрудно предположить, это сложное устройство, подобное птолемеевской небесной системе, часто приходило в неисправность. Тем не менее, по счастью, мне запросто удавалось починить все эти поломки, порою угрожавшие нарушить комфорт, а то и покой великого человека[6].
Покой — существует ли что-нибудь более желанное для философа и для обычного человека? Есть ли что-нибудь более желанное для буддиста, для которого нирвана — согласно одному из ее определений — это покой, или для поляка-католика, устремление которого еще больше — его покой обязательно должен быть святым? Но как же легко покой потерять! Взять хотя бы те же чулки. Сколько нужно намучиться, чтобы они не доставляли хлопот? Читая этот фрагмент воспоминаний о Канте, я почувствовал духовное родство с философом, мне самому еще в детском саду приходилось бороться с труднейшей проблемой — ею были колготки. Что может сильнее унизить молодого мужчину в возрасте четырех лет, как не отнимающие всякое мужское достоинство колготки? Да-да, наши родители и воспитательницы детского сада, не осознавая этого, упорно ломали личности молодых мужчин[7], в душе чувствующих себя Янеком Косом или Густликом из «Четырех танкистов» — эти геройские души в маленьких телах, втиснутых в колготки! Наверняка любой мужчина моего поколения помнит борьбу за собственное достоинство с оскорбительной женской одеждой. На фотографиях детсадовских времен можно увидеть гордые лица из-под ковбойских шляп, дикие взгляды апачей, бросаемые из-под индейских головных уборов с перьями, а от пояса вниз, увы, колготки…
Что ж, с великими философами нас объединяют общие, пусть и банальные проблемы, и так же неуклюже, как философы, мы пытаемся их решить. Но почему мы вынуждены бороться с проблемами и как возникает ситуация столкновения с ними? Прежде чем ответить на эти вопросы, задумаемся, чем является проблема сама по себе. Несмотря на то, что слово «проблема» — существительное в единственном числе, очень трудно найти то единственное, что ее порождает. Ведь проблема Канта крылась не в подвязке или чулке, скорее она сложилась из множества условий. Во-первых, извращенная мода того времени, вынуждавшая мужчин носить чулки (как только выдерживала их психика?!), во-вторых, сами чулки в количестве двух штук, в-третьих, подвязки в таком же количестве, в-четвертых, ноги Канта — удивления не вызывает? — тоже в количестве двух, и наконец, в-пятых, ипохондрия великого человека. Если бы любой из этих факторов отсутствовал, говорить о проблеме было бы трудно. Проблема проявляется во взаимозависимости, как сказал бы буддийский философ, когда вместе сходится много условий, ошибочно принимаемых за единство. Таким образом, во-первых, проблемы как реальной единицы нет, во-вторых, достаточно убрать одно лишь условие, и с проблемой (не самой в себе) покончено. А какое из условий убрать лучше всего? Вмешательство в моду рекламы брюк — одежды настоящего мужчины — не гарантирует успеха, наверняка в те времена именно чулки рекламировались как символ мужественности; впрочем, кто захотел бы позволить втянуть себя в рекламную кампанию такой ерунды, как мода? Ампутация ноги, в свою очередь, кажется развязкой с чрезмерным вмешательством, и Канта можно было бы тогда выплеснуть из ванны вместе с водой. Конфискация одежды в виде подвязок и чулок также не принимается в расчет, особенно в случае ипохондрика, который, не говоря о моральных издержках от принудительного обнажения, сразу бы замерз без них, схлопотал высокую температуру, воспаление легких, потом в результате контакта с пиявками, поставленными для кровопускания, получил бы вирусное воспаление печени по типу В, ведущее в итоге к циррозу печени, а то и к раку печеночных клеток, что не сулит ничего вселяющего надежду, и наконец умер бы от истощения в страшных муках после долгой агонии. Поэтому остается только один выход: избавиться от ипохондрии, и проблема с плеч. Как голова с плеч. Где же еще проблеме находиться, если не в голове?!
Ведь проблема не существовала где-то между чулком, подвязкой и ногой Канта, несмотря на то, что создатель трансцендентальной философии расположил ее именно там. Проблема была абсолютно воображаемой, являлась умственным приложением к реальности, не имеющим с ней ничего общего, поскольку возникла только из-за болезненной впечатлительности по поводу здоровья. Это была исключительно оценка ситуации, а она всегда происходит в голове того, кто оценивает. Потом мы принимаем оценку за реальность, ведь кто-кто, а уж мы-то трезво смотрим на ситуацию. Таким образом, оценка превращается в проекцию, замещающую реальный мир. Начинается борьба с миром, по сути являющаяся борьбой с собственными оценками и концепциями по поводу мира. Неудивительно, что последствия оказываются либо комичными, либо плачевными — зависнув в собственной голове и рассматривая одни лишь собственные концепции, оценки и проекции, мы невидимыми руками мастерим околореальность, в результате получая странные эффекты, способные вызвать удивление даже у нас самих, ведь мы глядим внутрь своей головы, а не на натруженные руки и целый мир. Это непременно приводит к созданию какого-нибудь часоподобного подхвата для чулок или к другому якобы трезвому жизненному выбору, который становится обременительным на долгий срок и к тому же вовсе не решает проблем.
Механизм, изобретенный Кантом, работал в двух направлениях. Во-первых, этот чрезвычайно изощренный «девайс», как говорят англичане, используемый ежедневно, утверждал Канта в верности собственного решения и поддерживал ипохондрическое решение ипохондрической проблемы, которая могла быть делом исключительно ипохондрика, уверенного, что может жить со своими недомоганиями. Мало того, совершенство и изобретательность решения проблемы подтверждают ее весомость, которая не была недооценена. Во-вторых, само решение проблемы превратилось в очередную проблему, ведь механизм выходил из строя. Теперь нужно было решать решение. Вместо того, чтобы заботиться о чулках и подвязках, приходилось беспокоиться о похожем на часы «девайсе», и если бы не добрый друг Канта, которому нравилось чинить это мудреное изобретение, ситуация наверняка закончилась бы созданием приспособления для ремонта приспособления для поддержки чулок. Одну проблему заменили бы на другую и назвали решением. Собственно говоря, это была бы все та же проблема, только несколько отстраненная: из-за «девайса» по-прежнему выглядывали бы угрожающие ногам подвязки. Оценка ситуации оставалась бы ипохондрической, и изменилось бы немногое, ведь даже спрятанные в шкаф подвязки готовились к прыжку подобно запертой в клетке змее-душителю, которая если бы только смогла, мгновенно обвилась бы вокруг своей невинной ипохондрической жертвы, слишком поздно понявшей, что доверять рептилии было нельзя. Таким образом, проблемы вообще не стоит решать, потому что это приводит лишь к дальнейшим осложнениям, которые потом еще более усложняются. Подобный механизм работает не только в философии, но и в жизни. Нет большой разницы между повседневной проблемой и проблемой философской, хотя, конечно, абсурдность слишком сложных решений лучше видна в жизни, чем в философии, прячущейся от комизма за абстрактными барьерами. Просто-напросто жизнь более очевидна, чем философия, и ее легче проверить.
Решать проблемы, похоже, нужно так, чтобы их не решать! А как это сделать? Достаточно заметить, что никакой проблемы нет. Если бы Кант мог посмотреть канал моды по телевидению, то убедился бы воочию, что дела у ног в чулках идут прекрасно (раньше я сказал, что мода — это глупость, и от слов своих не отказываюсь, исключение — показы мод женского белья). В принципе, он смог бы также увидеть значительно более простое и гениальное изобретение, каким являются колготки, хотя мне кажется, что мужская мода его времени не отважилась бы зайти так далеко. А потому достаточно лишь заметить, что там, где кому-то хотелось увидеть проблему, то есть на стыке ног, подвязок и чулок, проблемы-то и нет, она — лишь ничего не стоящая добавочная стоимость, при начислении которой, естественно, придется уплатить повышенный налог. Между подвязкой и лодыжкой Кант засунул собственную оценку ситуации, добавил излишний элемент, и оценка немедленно стала важнее ситуации, открыто превратившись для него собственно в ситуацию. У Канта не было проблемы, Кант лишь думал, что проблема есть, именно в этом и крылась проблема, если таким словом мы еще можем пользоваться. Если мы считаем, что у нас есть проблема, то она есть. Сначала мышление, потом проблема (обязательно надуманная), и никак не наоборот. Мы лишь думаем, что сначала проблема нам что-то навязывает, а потом мы начинаем размышлять над ее решением. Проблема — это неправильная оценка ситуации, спроецированная и принятая за саму ситуацию.
«Когда преграды тела и ума растворяются сами по себе…», — говорит XIII Кармапа. Вот именно! Достаточно понять механизм оценки, приклеивания этикеток на наш жизненный опыт, и проблемы исчезают сами по себе, ведь их там никогда не было. Проблемы — нереальные пузыри, ментальный мусор. Попытки решать проблемы не обоснованы так же, как мытье мусора перед выбрасыванием на помойку — зачем драить то, что не пригодится и в любом случае окажется в корзине? Зачем решать проблему, если ее можно отбросить? Формулировка «сами по себе» из приведенной цитаты по-тибетски звучит как ранг сар, что дословно означает «на своем месте». Все проблемы следует оставить на своем собственном месте, там, где они появились, хотя и появились-то фиктивно, и уже одного этого достаточно, чтобы они исчезли. Нетерпеливый Кант со своей ментальной проблемой подался в домашнюю мастерскую, где сконструировал необычайно изобретательное решение, только вся его работа напрасна, — достаточно было оставить чулок с подвязкой на бедре и подождать немножко больше времени, чем уму требуется для наклеивания на ситуацию этикетки. Тогда после минуты терпения, если мы не позволим себе слишком поспешной оценки или уже вынесенную оценку не примем за чистую монету, окажется, что никакой проблемы нет, ее вовсе не было на том почетном месте, которое мы ей отвели. Это место пусто, очищено от проблемы, она уже растворилась (поэтому тибетское даг из вышеприведенной цитаты, означающее очищение, я позволил себе перевести как растворение). Проблемы на ее месте — ранг сар — нет, как сказали бы тибетцы, что видно right on the spot[8], как сказали бы англичане, вот так проблема была бы решена на месте, как сказали бы мы, если бы были свободны от привычки постоянно жаловаться.
«Это не так просто, — возразите вы. — Совсем нелегко отбросить проблему, не так легко себя отпустить». Таким образом мы создали очередную проблему избавления от проблем. От них невозможно избавиться, потому что избавляться от них не так-то просто. Какая находчивость! Едва мы коснулись проблемы, чуть-чуть о ней подумали, а у нас уже возникла очередная проблема (нет ничего хуже, чем браться за проблемы). Можно было бы даже назвать ее мегапроблемой, потому что это проблема над проблемами, и именно она является причиной нашего неутомимого цепляния. Подчас мы даже занимаемся их разведением. А они хорошо размножаются в домашних условиях. Чтобы пустить корни и разрастись, проблемам нужно всего лишь немножко внимания и пары посвященных им мыслей. Но мы можем решить, что избавляться от проблем не просто, и тогда не будем проявлять желания от них избавиться, вот так будет попроще… А проблемы просто остаются с нами.
Буддийская философия нашла метод, называемый Срединным путем. В «Сутре горы драгоценностей»[9] Будда говорит, что путь заключается в тщательном анализе каждого отдельного явления. Поучение звучит не слишком захватывающе, но суть дела кроется в слове «тщательный». Большинство наших проблем и наше отношение к миру вытекает, согласно буддийской философии, из не очень обстоятельного знакомства с реальностью. Например, мы слишком поспешно решаем, что мир реален, и получаем целую массу реальных проблем философских и повседневных. Ситуация напоминает осмотр картин Арчимбольдо. Если смотреть на них издалека, отчетливо видно лицо, а если подойти поближе, открывается, что это всего лишь груда овощей или рыб с морепродуктами, укладывающихся в обманчивые очертания с печальным образом. Когда мы приближаемся, то есть тщательно исследуем реальность, оказывается, что она отличается от нашего воображения. Можно потратить уйму времени на размышления о мерзком человеке, представленном на картине, о вредности его характера (что заметно с первого взгляда), о перспективе встречи с ним и наших словах, предшествующих рукоприкладству. Но все это совершенно лишено смысла, потому что куча овощей не собирается с нами разговаривать, и нет человека, который принудил наш ум к этой мыслительной работе, планированию и эмоциональному порыву. Если бы мы подошли к картине с самого начала, ум вообще не вовлекся бы в мыслеток, имеющий начало в ошибочной интерпретации реальности. Мы оцениваем мир, других и самих себя по внешнему виду, а следствием суждений обязательно будут настоящие результаты в реальности, как правило, плачевные, потому что реальность — одно, а наши оценки — другое. Ничего удивительного, что мы, ведомые ими, можем только напортачить, действуя в реальности. Мы стараемся, а выходит как всегда, потому что по привычке начинаем с оценок, с головы, а не с реальности; мы продвигаемся в ней на ощупь, с шорами концепций и оценок на глазах.
Думая, что мир такой, каким нам кажется, то есть реальный, мы начинаем искать некий гарант реальности, что-то постоянное вопреки изменчивости и непостоянству всего, что переживаем. К примеру, мы ищем в вещах неразрушимую и вечную сущность, но тут сразу появляется ряд проблем, которые, конечно, можно решать в ходе философских дебатов. Что является сущностью, скажем, стола — мебелеватость или столовость? Если вещи обладают сущностью, что происходит с ними в момент их разрушения; куда девается эта наиреальнейшая и неразрушимая штука, ведь она — их составной компонент? Вот так нечто, что в наш опыт было привнесено с помощью домысла, нечто, что было приписано в уме, становится главной темой философии (претендующей на познание мира, а не на добавление в него).
Подобным образом философия насоздавала длинный список проблем, и их не способны удовлетворительно решить ни на Западе, ни на Востоке уже более 2500 лет, до сего дня не появилось решения, на которое согласились бы сразу все философы. Эта ситуация породила несколько типов реакции. Первый из них — догматизация и закоснелость систем, упорно игнорирующих положение вещей наперекор критикам либо после ответной критики критиков, продолжающих оставаться с предложенными ими самими положениями, очевидными, правда, только для их авторов. Тогда полезность таких решений подпадает под оценку Лихтенберга, утверждающего, что «вся эта теория не годится ни для чего иного, кроме как для того, чтобы вести о ней диспуты»[10].
Второй тип реакции, модный в XX веке, заключается в попытках убедить читателей, что философия состоит исключительно в формулировании проблемы или постановке вопросов, и не так важно, можно ли на них ответить. (Но, о чудо, в книгах пропагандистов этого тезиса — как заметил мой друг — вопросы как таковые отсутствуют). Импотенция вдруг становится ценностью и ее не нужно больше стыдиться. Совсем наоборот, это повод для гордости. Можно даже посвятить много времени не самой постановке вопроса, а описанию возможности постановки вопроса, как это сделал один немецкий философ.
Третий вариант реакции на Западе представляет скептицизм, в определенной степени Витгенштейн, а также Гераклит, убежденный, что ввиду повсеместной переменчивости вещей нет смысла что-либо утверждать о реальности категорично. На Востоке этим положениям родственна буддийская философия. Она избавляется от проблем, да так пренебрежительно, что отбрасывает их совсем без решения. Вслед за Буддой этот метод распространял Нагарджуна, величайший представитель так называемого Срединного пути. Он не занимал никакой философской позиции, но охотно критиковал положения других. Поначалу это кажется философским вредительством и недоброжелательностью, но его намерением было избавление людских умов от лишнего балласта заблуждений, принимаемых за философские проблемы и адекватный образ реальности. Чандракирти — лучший комментатор Нагарджуны — говорил, что для него дебаты имели смысл до того момента, когда он вынуждал оппонента отказаться от своей позиции. Но он делал это не для того, чтобы вместо опровергнутого положения предложить свое, более правильное воззрение (такового у него просто нет), но лишь для того, чтобы освободить ум от жесткого корсета понятий, в котором реальность не умещается — она значительно богаче и разнообразнее любого описания, которые мы силимся создать в обычной жизни и в философии. Ее описания в корне ложны, потому что наше ограниченное воображение не постигает всего потенциала разнообразия, и именно потому реальность часто удивляет своими неправдоподобными сценариями.
Но какова же она, если не такова, какой мы ее представляем? Может быть, она какая-то другая? Будда говорит, что она не такая, какой нам кажется, но и не иная. Она такая, какая есть, и хотя в первый момент это может прозвучать банально, но именно такой мы ее и не видим, потому что обычно приклеиваем этикетки или даем оценки, о которых сама она не имеет ни малейшего понятия. Наш образ реальности заслоняет ее и не позволяет увидеть в соответствии с тем, что тибетцы называют дешинньи. Этот философский термин перевести нелегко: дешин означает «таким образом», а ньи — это окончание существительного — ость. Реальность является в том образе, какой есть, и это не тот образ, который мы воображаем или представляем. Она есть лишь то, что есть в своей «такой-вотости», или таковости (этот пример, наверное, самый лучший), и ничем иным не является, а мы, как правило, принимаем ее за нечто большее или меньшее. Тибетцы используют еще одно слово, декхонаньи, которое столь же сложно перевести: де — это местоимение «это», кхона означает «исключительно», а ньи снова превращает слово в существительное: за тибетским сокращением этого термина деньи[11] скрывается «толькоэтость», или, проще говоря, «этость».
Любое определенное утверждение о реальности ошибочно, потому что оно — добавление или подделка таковости, о которой не получится сказать ничего, кроме того, что она такая, какая есть. Поэтому Нагарджуна не занимал никакой позиции и был свободен от ошибки. Свободный от концепций, предубеждений, философских теорий, повседневных фантазий, генерирующих разномастные проблемы, он мог смотреть на реальность в ее таковости, выходящей за пределы всяких названий, теорий, оценок и следующих за ними ожиданий. Omnis determinatio est negatio[12], поэтому нет смысла отрицать реальность в ее неизмеримом богатстве, замыкая ее в фантазиях или понятиях о ней, тем более что все представления имеют больше общего с их автором, чем с тем, понятием о чем они должны быть. Философские проблемы являются не проблемами реальности, но лишь проблемами философов. Именно поэтому их так сложно решить — они не согласуются с реальностью и по этой причине стали проблемами. Почему бы тогда не избавиться от проблемы просто так, без долгих попыток ее разрешить, если только мы осознаем, что она занимает неправильное место и не связана с реальностью? Избавляться от проблем без решения — это похоже на философский скандал, но ведь вы, наверное, признаете, что скандал — штука чрезвычайно интересная.
Противоядием к перепроизводству концепций и оценок реальности, приводящих к проблемам, согласно буддийской философии, является метод Срединного пути, он позволяет различить неадекватность и противоречивость наших концепций и, главное, видеть реальность такой, какой она является, без очков тех самых концепций. А реальность пуста. Если заметить пустоту реальности, все проблемы решаются сами, они больше не бросают в реальности якорь, благодаря которому могут оставаться на месте. Тогда свобода от проблем становится свободой для радости, более ничем не ограниченной. И прежде чем вы позволите, чтобы со словом пустота стали ассоциироваться негативные фантазии, какие приписывает ей наша культура, поразвлекайтесь — в чулках или без них — пустотой в следующих главах.
2. Как безнаказанно ломать мебель, или Пустота объекта
Внешние явления, такие как форма и т. д., пусты — лишены собственной природы. Поскольку сутью формы является пустота, то форма пуста — лишена собственной природы формы.
VIII Кармапа Микьо ДорджеСтол с выломанными ножками — это не только трудно произнести, но и непросто понять. Смею утверждать, труднее понять, чем вымолвить. Ведь что нам остается после акта вандализма — отламывания ножек стола? Ответ кажется банально простым: стол без ножек. Но на самом ли деле это стол? Или только столешница? Ну, конечно, скорее столешница и ничего больше. Вот здесь, дорогой читатель, мы вместе испытываем первый трудный момент: это философское открытие может побудить тебя или потребовать возврата денег за эту книгу, или, если ты богат, просто ее выкинуть… При этом я еще беспардонно требую, чтобы ты сейчас же ответил, куда девался стол после отламывания ножек.
Перед отламыванием у нас был стол с ножками, а после — мнимый стол без ножек, оказавшийся столешницей. Перед отламыванием был стол с ножками и столешницей, а после — только столешница без стола. А куда делся стол? Ведь он был тут еще минуту назад, до того, как мы дали волю ненависти к мебели.
Давайте еще раз. Что было в начале? Был стол, имеющий четыре ножки и столешницу. Следовательно, у нас шесть вещей: столешница, четыре ножки и стол. Однако после отламывания мы уже не можем досчитаться всех элементов — с одной стороны лежат четыре ножки, с другой — столешница, а третьей стороны, где должен лежать стол, ничего нет. Мы не хотели истреблять стол, а только выломали у него ножки, но вот стола прямо сейчас уже нет. Так был ли он за минуту до этого? Может, лучше сказать: мы выломали ножки из столешницы, и никаких хлопот? Но ведь ножки не являются частью столешницы, не принадлежат ей, поэтому выломать их из столешницы невозможно. Вы с этим не согласны? Чем же отличается просто столешница от столешницы без ножек? Если они идентичны, какой смысл имеет выражение о столешнице без ножек, ведь она по определению ножек не имеет? У стола ножки есть, а у столешницы нет, потому что столешница — плоская доска. Но тогда где же стол? А если от стола оторвать столешницу, то у нас, должно быть, останется стол без столешницы. Или, если пойти еще дальше, то есть отломать у стола ножки и оторвать столешницу, видимо, будет стол, только без ножек и столешницы.
«Это все философское мудрствование, — скажете вы, — философы самые простые вещи делают сложными! Ведь стол — вот он! Стоит здесь, и даже ребенок может на него показать пальцем! Вся эта философия — просто причуды, а стол — это стол, и все тут».
Но я снова дерзко заявляю, что и пальцем не так-то просто указать на стол. Читатель, я знаю, уж теперь-то совершенно тебя разозлил, но попробуй, пожалуйста, дотронуться пальцем до стола, за которым читаешь эту книжку (если читаешь в кровати, то встань и подойди к столу. Если читаешь в туалете — с трудом допускаю такую возможность! — не вставай). Уже дотронулся? Да? Ну, тогда скажи, уверен ли ты, что касаешься именно стола, или, быть может, твой палец лежит на столешнице или ласкает ножку… ой, извини, дотронулся до ножки стола? В самом ли деле ты можешь дотронуться до того, чему принадлежат столешница и ножки? Можешь ли показать тот стол, у которого есть ножки и столешница, а не только столешницу и ножки? Мы все время показываем на то, что ему принадлежит, а сам стол вроде как прячется от нас именно тогда, когда мы хотим на него показать. Нагло прячется за ножками и столешницей. Он есть, но словно и не было!
А может, вопрос намного проще: нет ничего, кроме столешницы и четырех ножек. Это и есть стол, и с проблемой покончено. Стол — это те самые пять элементов (столешница и четыре ножки), взятые вместе, без добавления того, кто ими обладает. Говорится, что у стола — четыре ножки и столешница, но никакого шестого элемента не предполагается. Если мы согласимся с этим, придется признать, что употребление слова «стол» — лишь мысленное сокращение. Вместо того чтобы говорить: «положи двести листов и две картонки на столешницу и четыре ножки», удобнее сказать «положи книгу на стол». Тогда найти стол еще труднее, потому что его названию не соответствует ни одна, извините за выражение, предметная единица. Одно название мы приспосабливаем для обозначения нескольких предметов (столешница и четыре ножки), а потом при его использовании уже думаем не о множестве, а об их единстве. Именно поэтому начинают искать сущность, которая спаяла бы в единое целое все составляющие элементы. Если стол — только столешница с ножками, и в нем нет столовости — причины того, что они становятся единым столом, то само название «стол», хоть оно и в единственном числе, не имеет никакого единственного соответствия. Следовательно, говоря «стол», мы совершаем пусть удобный, но подлог. И в повседневной жизни мы совершаем его так часто, что начинаем верить и видеть стол там, где его нет. Ножки и столешница притворяются чем-то большим, чем являются сами по себе, выдают себя за некий стол, но это еще не повод утверждать, что произнесенному звуку «стол» что-то реально соответствует. Конечно, мы можем и дальше пользоваться названиями, без них трудно представить ежедневное функционирование. Дело лишь в том, чтобы не слишком волноваться по поводу предметов, которых нет. Например, мы купили стол. В магазине заплатили за него, и счет подтверждает, что за стол уплачено, но радоваться нечему — нас обманули. Мы купили только столешницу и четыре ножки, исполняющие роль стола, а самого стола как не было, так и нет. Столешница и ножки, так сказать, выполняют обязанности стола, но столом не являются, так же как исполняющий обязанности начальника не является начальником[13]. Столешница и четыре ножки — это просто набор столоподобных предметов, и должны все же стоить немного меньше, чем сам стол, так некогда шоколадоподобные продукты стоили дешевле настоящего шоколада. Также понятно, почему выгоднее покупать автомобили запчастями. Ведь они тоже ездят, выглядят совершенно как машина, но дешевле, потому что мы платим только за запчасти, и не нужно платить за какой-то дополнительный автомобиль, который при всех раскладах мы и так не нашли бы между частями.
Конечно, на стороне стола по-прежнему будут столяры, хотя зачем защищать то, чего нет, — они будут утверждать, что я забыл простой, но важный факт: стол — это не только составляющие элементы, но и их соотношение. Если так, то после отламывания ножек останется столешница и соотношение столешницы с четырьмя ножками? Некоторые скажут, что это полное опошление, ведь соотношение — это нечто более абстрактное. Глаза видят части системы, а ум постигает саму систему. Пусть так, но где это более абстрактное сидит? Между частями, которые склеивает в единое целое? В самих частях данной системы или в кусочках каждой части? Что тогда склеивает части в единую систему? Что склеивает систему с частями? Какая-то надсистема? Такая абстрагированная от предмета система из частей наверняка умещается у нас в голове и о ней нетрудно подумать, но из этого еще не следует, что ей соответствует какая-либо единица со стороны реальности. Со стороны реальности у нас есть части, и если их забрать, то никакой системы не останется, хотя мы можем и дальше о ней думать. А из факта нашего думания следует только, что мы умеем думать, а не то, что все является таким, как мы думаем. Законы мышления не обязаны быть законами бытия, даже если мы думаем, что они таковыми являются. Сколько женщин полагало, что мужчины им изменяют? Из факта такого мышления вытекало только то, что они так думали, и ничего более.
Так что там со столом? Отличен ли он от своих частей? Нет, стол не отыскать за их пределами. Значит, он тождествен своим частям? Нет, потому что единое не может быть тождественно множеству. Находится ли он в частях? Нет, ведь стола не существует по чуть-чуть в каждой из ножек. Находятся ли части в нем? Нет, потому что то, с чем мы встречаемся на опыте, это лишь части, которые не заключены в некую рамку. Обладает ли стол этими частями? Нет, потому что мы не смогли найти его нигде под столешницей. Но тогда, наверное, он — их набор? Нет, поскольку он должен быть чем-то большим, нежели пара элементов. Но и не является системой из них? Нет, не является, ведь искать систему среди элементов — напрасный труд. Вот так мы дошли до так называемых семи отрицаний, благодаря которым буддийская философия отменяет понятие объекта, или, говоря нормальным языком, отнимает немного конкретности у окружающих нас предметов, на которые мы проецировали фантазии об их реальности и субстанциональности.
Все потому, что вещи пусты, или лишены собственной сущности. Они есть, но их как бы нет, они есть, лишенные самого главного компонента, который должен усиливать их реальность, компонента, оказавшегося мнимым. Именно это имеется в виду в знаменитом утверждении буддийской философии «форма есть пустота». Под формой здесь понимается любая материальная вещь (сейчас неважно, что понимается под материей). Пустота же на санскрите и в тибетском языке означает отсутствие чего-либо в чем-то другом, но — и давайте об этом помнить — вовсе не ничто. Пустота — лишь отсутствие сущности предмета в самом предмете, который никуда не пропадает, хотя и становится несколько менее реальным. Согласен, это достаточно важное отсутствие — если мы имеем склонность к онтологии, — потому что именно сущность гарантирует вещи ее предметность, но ведь все прочее остается, то есть остается все то, что и так до сих пор было объектом жизненного опыта. Мы можем и дальше сидеть за столом, есть или танцевать на нем, несмотря на то, что он пустой, то есть лишен сущности, которая не выпала из него после отламывания ножек, не выпала лишь потому, что ее там и не было. Буддийская философия говорит: «вещи пусты», но она не отбирает их у нас. Они продолжают оставаться предметом нашего жизненного опыта, но уже не будут настолько реальными, как мы думали раньше. Это очень просто. Раньше мы думали, что стол существует, что на философском языке Востока означает, что он обладает сущностью. Теперь в связи с невозможностью ее обнаружить у нас остается нечто, что кажется столом, но не подтверждено столовостью — мы имеем стол, лишенный стола. Мир не изменился, изменилось наше воззрение. Мы открыли нечто, чего раньше не знали, а именно, что вещам, чтобы проявиться в нашем переживании, вовсе не нужно обладать сущностью. Реальность, оказывается, не такая уж реальная, как мы считали, поскольку вещи пусты, и в конечном итоге не являются вещами в полном онтологическом смысле. Стол — это результат соединения столешницы с четырьмя ножками, которые, хотя и остаются только столешницей и четырьмя ножками, ошибочно принимаются нами за нечто большее, за стол сам в себе. Этот стол — лишь наша проекция, наложенная на пять данных элементов, которые о своей столовости не имеют ни малейшего понятия, так же как не имеют представления о том, что они не стол, будучи разобранными на части.
Теперь нам будет легко понять выражение «стол с отломанными ножками». Оно имеет смысл только тогда, когда мы понимаем стол как пустой, лишенный сущности стола. Ведь если мы предположим, что стол реален и находится где-то между своими частями, то так и не сможем ответить, что происходит со столом и куда он девается, когда у него отламывают ножки. А если с самого начала знать, что у нас стол без стола, что это не стол, а «стол» в кавычках, или что у нас есть нечто, лишь напоминающее стол и выполняющее его функции, то ничего странного, что после отламывания ножек у нас не будет никакого стола, не правда ли? Все сходится. И вдобавок теперь можно ломать мебель совершенно безнаказанно. Все-таки философия может доставлять удовольствие! Ведь теперь легко объяснить, что мы не могли уничтожить то, чего не было. Если танец на столе закончился далеко идущими последствиями, мы сможем, пусть запыхавшись, но с невинным выражением лица спросить: «Если что-то сломалось, то скажите, что именно?»
Если кто-то не согласен, давайте предположим, что стол реален на сто процентов. Смогли бы мы в таком случае его сломать? Может ли перестать быть то, что есть? Как происходил бы такой переход и кто бы его осуществлял? Ведь уже в момент начала дестолизации стол сразу же перестает быть столом, поскольку только стопроцентный стол является столом. Как же тогда он смог бы участвовать в процессе дестолизации до самого конца? В каком моменте стол перестал бы быть столом? После отлома одной ножки, двух, трех или, быть может, когда первая ножка только треснула? А если он перестал быть, то, может, он и не был таким реальным, и уж наверняка не был реальным на все сто. Он немножко притворялся, что существует, делал вид, то есть выдавал себя за стол. Невозможно себе представить, как нечто, что должно быть столом, вдруг переходит в состояние не-стола. Каким образом возможен подобный переход и точно ли это происходит со столом? «Из явлений, которые пусты, возникают явления, которые пусты», — говорит Нагарджуна. Из чего-то, что мы считали столом, но что было лишено стола, возникнет что-то, по-прежнему лишенное стола. Вначале у нас было четыре ножки и столешница, и после выламывания ножек тоже остаются ножки и столешница, а стола ищи-свищи — и раньше, и теперь.
Вся эта философия — внимание! — применима и к стулу, на котором вы сейчас сидите! Нет, нет! Не хватайтесь сейчас за сиденье, чтобы удержать его, раз оно тоже пустое! Расслабьтесь, и сами увидите, что буддийская философия совсем не так страшна. Несмотря на то, что стул тоже пустой, вы до сих пор не упали! Сидите на нем точно так же удобно, как и раньше. А представляете — все думают, будто это стул, и стол, и дерево?
3. Нас полно, а вроде как и нет никого, или Пустота субъекта
Эго является производным от невежества необдуманных обиходных мнений. Оно не установлено по своей природе.
VIII Кармапа Микьо Дордже[14] Где-то между кончиком ногтя большого пальца стопы и кончиком волоса на макушке должно находиться наше «я». Факт его существования очевиден, потому что об этом говорит наше глубочайшее чувство. Чем или кем мы являемся, если не самими собой? Исключение составляет Рембо, утверждающий, что «я — это кто-то другой», но мы же знаем, что за люди эти поэты.
Где же скрылось наше «я»? Наверняка не в аппендиксе и не в зубе, ведь, избавившись от них обоих, мы сохраняем собственное тождество, несмотря на возникающее порой сильное впечатление, что «я» засело именно в больном зубе, что оно исключительно больным зубом и является. Но если не там, то где? Когда мы влюблены — оно находится в сердце; когда решаем математическую задачу — перемещается в голову; когда обжигаем палец — прыгает в его подушечку. Следовательно, «я» путешествует по телу? Это вряд ли возможно, ведь стыдно даже подумать, куда еще оно может забраться. А может, оно как-то равномерно распространено по всему телу? Это, наверное, тоже невозможно, потому что тогда вторжением в личность стало бы даже простое обрезание ногтей, не говоря уже о серьезных ампутациях. Если бы вопрос существования «я» был таким очевидным, как повсеместно считается, почему так трудно определить его локализацию? На самом ли деле «я» имеет много общего с телом, если составляющие тело атомы полностью меняются за несколько лет? Скорее всего, наше «я» — не то же самое, что тело. Но если не то же самое, значит, нечто иное. Правда, не совсем отличное, потому что дела, связанные с «я», ассоциируются с телом, и наоборот. Выходит, «я» отличается от тела, но не совсем, хотя такое определение близко к формулировке «женщина беременна, но не совсем».
Определенные способы обращения с телом нашему «я» нравятся, а некоторые — не очень. Похоже, здесь появляется взаимосвязь, но отсутствие точной локализации «я» в теле приводит к соотношению, дающему возможность взаимовлияния. Декарт утверждал, что душа соединена с телом с помощью шишковидной железы, что могло бы нас выручить, если бы не факт, что анатомия и физиология роль эпифиза объясняют несколько иначе. Может быть, у вас найдутся предложения по другим органам или частям тела (не смею привести здесь распространенные теории о том, где располагается «я» у мужчины)?
«Я» часто называют душой, доказывая ее существование с усердием. Философия тоже произвела на свет ряд умилительных доводов, призванных обосновать очевидность этого факта. Но разве упорные попытки доказать эту мнимую очевидность не доказывают, как назло, его неочевидность? Ведь если «я» скорее являюсь душой, чем телом, то факт наличия души должен быть более очевидным, чем то, что у меня две руки. Разве потребность поиска все новых аргументов, убеждающих в существовании души, не подтверждает огромную неуверенность в таком фундаментальном вопросе? Обычный человек, глядя вглубь себя, не скажет: «О! Какое прямое и вечное бытие! Вот моя душа!», скорее он заявит: «Вижу темноту! Сплошная темнота!» Если бы было иначе, душу легко можно было бы описать и выдать список ее свойств, будь то форма, цвет или более абстрактные ценности вроде имманентного добра или вежливости и т. д. Тогда неприкрытому внутреннему оку было бы ясно, что у людей маленького роста душа — не прямое бытие, а скорее прямое бытиишко, мужчины бы утверждали, что их бытие необычайно прямое и так у них постоянно, к тому же оно — немного больше, чем у приятеля. А женщины наверняка оспаривали вес их бытия и стремились к его похудению. Ни один из примеров, однако, не встречается в жизни наверняка из-за того, что ничего такого, как душа, внутри не видно.
И все же кое-что там просматривается, например, мысли и чувства. Так вот чем «я» являюсь — наверняка скажет кто-то, кто уже не отождествляется с телом[15], но не хочет отказаться от малого островка собственного «я». Мы очень часто отождествляемся с мыслями и чувствами, сумму которых легко принять за «я». Но тогда с ходом времени ничего из «я» не уцелело бы. Есть ли хоть одна мысль, не обязательно гениальная, которая без перерыва длится в голове, оставаясь постоянной? Есть ли чувство, которое неизменно с момента рождения до сего дня, обеспечивающее нашу личную неизменность? Если ответ на эти вопросы «нет» — а кто бы отважился на другое? — то оказывается, что в так называемом «я» нет ни единого неизменного пункта, позволяющего сказать, что вчера и сегодня мы — один и тот же человек. Не напоминает ли это гераклитовскую реку, которая отнюдь не постоянна и не конкретна, она — лишь все время текущая новая вода?
Конечно, думая мысли и ощущая чувства, мы уверены в их исключительности и особенности, что должно бы указывать на наше собственное, особенное «я», но ведь даже наши самые потаенные мысли и мечты чрезвычайно похожи на мечты других (кто же не хочет влюбиться, найти хорошую работу или, обобщая, быть счастливым). Следовательно, в них нет ничего особенного и личного, кроме чувства, что они особенные и личные только для нас. Точно такое же ощущение особенного и личного присутствует у каждого, и потому оно не особенное, не личное и не такое уж исключительное. В нас нет ничего, что отличало бы от других и что являлось бы границей между нами и другими. Нет ничего, что обусловливало бы исключительность нашего «я».
Повседневная привычка слишком серьезно относиться к чувствам и мыслям, навык отождествляться с ними, хотя и сильный, не имеет смысла — чувства и мысли появляются и исчезают, и глубокое отношение к ним так же абсурдно, как выражение преданной дружбы каждому человеку, повстречавшемуся во время долгой прогулки по переполненной улице.
Однако язык дает определенную подсказку, где искать «я». Мы же говорим, к примеру, «моя одежда», и такое определение принадлежности исследуемого объекта заставляет догадываться об обладателе одежды. Одежда принадлежит телу, тем не менее это — не я сам, потому что и тело мое. Значит, я и дальше ищу обладателя тела и, заглядывая вглубь него, открываю психологический зоопарк мыслей и чувств. В первый момент кажется, что я уже нашел себя, и «я» — этот зверинец, но сориентировавшись, что это мои мысли и чувства, я снова начинаю осматриваться в поисках их обладателя. Так я добираюсь до сознания, переживающего все мысли, чувства, тело и внутренний мир. Неужели это «я»? Собственно говоря, да, если бы не факт, что и сознание мое, а значит, должен существовать его хозяин. В данный момент я не могу его найти, как ни озираюсь по сторонам, хотя он должен быть где-то здесь, ведь я признал наличие у него сознания. Я почти чувствую его присутствие, подтверждаемое фактом принадлежности ему моего сознания. Так где же он? Я и сам устал искать то, чего найти не удается, но потерпите немножко.
В нашем переживании до сих пор происходит наклеивание этикеток на каждое появляющееся восприятие. Мы не слишком изощренно пользуемся прежде всего двумя этикетками: «мое» и «не мое». Все запихивается в два ящика, и вечное колебание восприятия между полюсами «мое — не мое» создает впечатление, что якобы существует хозяин, то есть мое «я», обладающее тем, что мое, и отделенное от того, что не мое. Наверное, вы догадались, насколько силен навык определения «мое — не мое», ведь я даже сказал, что тем желанным хозяином является мое «я». Вроде бы ничего порочного, и звучит абсолютно логично, что мое «я» — мое. Но давайте на мгновение задумаемся, так ли это логично. Именно в этот момент можно заметить, как необоснованно окончательно это могучее чувство и насколько бесплодными должны быть попытки его отыскать. Я сделал вывод, что «я» является обладателем моих мыслей, моих чувств, моего сознания. Поскольку эти переживания определены как мои, их обладатель обязан существовать. Если, двигаясь далее по этому пути, мы говорим о моем «я», должен существовать и обладатель моего «я». И это уже странно, не правда ли? Ведь на «я» все должно закончиться, но вдруг за последним «я» объявилось очередное «я». То есть, существует некое «я» нашего «я» — сокращенно «яя»? Видите, насколько силен навык приклеивания этикеток, с самого начала ведущий к представлению о «я», являющемся обладателем воспринимаемых мною переживаний, а потом приведший меня прямо к «яя» как к обладателю моего «я»? Так можно бесконечно отыскивать «яя» высшего порядка, потому что более высокое «я» будет более моим, чем предыдущее, а значит, еще больше будет казаться мной. Следовательно, «я», наше любимое «я», — это только неправомочный вывод из ментальной привычки, которая может подтвердить лишь, насколько она сильна.
Наше «я» — не будем больше скрывать — это лишь зациклившаяся привычка ума, переживающего в конечном итоге внеличностные вещи; она заключается в упорном впихивании их в один из двух ящиков — с надписью «мое» (очевидно, это более важный ящик, так как мой) и «не мое» (этот ящик менее важен, потому что в нем складируются элементы, которые должны бы были находиться в первом ящике, например, красивая подружка приятеля, квартира родителей и т. п.). Эту сильную привычку буддийская философия определяет как привязанность. Непросветленный ум липнет к любому переживанию, которое в нем появляется, — хватается за него и классифицирует как мое или не мое. Такой вариант функционирования ведет к иллюзорному восприятию реальности и самого себя в виде пары противоположностей, на стыке которых разыгрывается вся драма жизни. Но из факта двойственности нашего переживания реальности не следует, что два полюса этого дуализма являются чем-то реальным. В снах ситуация выглядит похожей — там тоже есть делинквент, переживающий некую отличную от него реальность, но в момент пробуждения ситуацию уже невозможно принимать всерьез. До пробуждения дела во сне выглядят важными и реальными: за нами гонится тигр или налоговый инспектор, или даже налоговый инспектор верхом на тигре, а мы, конечно же, должны убегать. Проснувшись, мы понимаем: преследующий нас тигр или инспектор на самом деле не существуют и исчезают в ту же секунду, как только мы открываем глаза. Убегающий от них правонарушитель иллюзорен, как и угроза ему. Не было никого, кто убегал от тигра, хотя все, казалось бы, подтверждает его существование, и потому бедняга так устал. Следовательно, «я» придумано для переживания; оно снится, как мы снились сами себе во сне. В этом сне повседневного опыта мы постоянно чего-то добиваемся и хотим чего-то избежать, несмотря на то, что оба устремления не имеют никакого смысла, являясь лишь приснившимися устремлениями приснившейся личности в приснившемся мире. Эта буддийская метафора сна говорит о нереальности и пустотности мира, а также о нереальности того, кто пытается свить в нем безопасное гнездышко. Нет ничего более замечательного, как стать зреловылупляющейся птицей (не знаю, уместно ли здесь вторжение в жаргон орнитологов) либо попросту пробудиться ото сна, как говаривал Будда.
Сон, в котором появляется разделение на объект (окружающий меня мир) и субъект (я сам, окружаемый миром), может разыграться лишь благодаря воспринимающему сознанию. Сознание, вопреки привычке, не является моим личным сознанием, будь оно личным, в нем появилась бы идея, будто оно мое. Тогда становится возможным переживание, разыгрывающееся в поляризации: «я» и все остальное. В рамках такого разделения появляется мысль о сознании как о моей собственности. Вначале должно быть сознание, чтобы мысль о «я» вообще могла появиться. В сознании что-то переживается, и в рамках сознания появляется разделение на то, что я переживаю и переживающего, как во сне появлялся тигр и тот, кто от него убегал. Сознание, видевшее сон, только позволяло переживанию появиться в такой форме; само оно не убегало от тигра. Беглец, которому казалось, что он в опасности, и гонящийся за ним тигр были в одном и том же охватывающем их сознании. Сознание же совсем не личностно, и когда мы обнаруживаем его за «нашими» мыслями и чувствами, только несносная привычка к привязанности велит нам думать о нем как о чьей-то собственности, приказывает наклеить этикетку «мое». Этикетка снова предполагает, что есть нечто большее, чем сознание, и это нечто непременно должно быть нашим «я». Именно из-за того, что «я» является лишь выдуманной производной от привычки, следует, что, глядя вглубь себя, мы не сможем найти «я». Вместо него мы найдем нечто намного большее — но не будем опережать события, отраженные в главе о вневременном сознании.
Мнимое «я» напоминает образы с портретов Арчимбольдо, еще раз приведу их в качестве примера. Помните лица, которые при близком рассмотрении оказываются композицией из овощей? Если смотреть издалека, видно лицо, по мере приближения оказывается, что это только сумма овощей. Это вовсе не нос, а морковка, не щеки, а две луковицы, не глаза, а горошины. В лице в конечном итоге нет лица — лицо лишено лица, или пусто, хотя издали выглядит лицом. С нашим эго точно так же: это только конгломерат из большого количества атомов, нескольких мыслей, пары чувств и ряда привычек, удерживающих эту солянку вместе. Однако мы все время смотрим на эго с большого расстояния. Морковка кажется носом, которого нет, цветная капуста мнится мозгом, а буйно цветущий горох принимается за богатую духовную жизнь, поддержанную луковицей впечатлительности. Мы привязываемся к этой зелени, из которой пытаемся скроить себя самих для собственного употребления. Однако это эгоистическое вегетарианство заранее обречено на провал: в конечном итоге овощи имеют срок годности и рано или поздно начнут подгнивать; к тому же некоторые из них и без того противны, особенно цветная капуста и шпинат[16], вкус которых, вопреки распространенному мнению, не может извинить даже то, что они полезны для здоровья.
Склонность к коллекционированию овощей в нас сильна — мы старательно выбираем их на рынке, считая, что овощи улучшают здоровье. Но в описываемом нами случае они не полезны для психики. Коллекционирование, в результате которого появляется наше «я», состоит из многих факторов, объединенных привычкой к привязанности, и в долгосрочной перспективе оказывается невыгодным, что не заметно сразу, потому что склонность переплачивать — обязательное условие коллекционерства.
Если же у нас уже есть «я», выпестованное за долгие годы, мы заботливо привносим его в очередные события жизни. Каждая ситуация становится проверкой на выносливость «я», постоянно доказывающего, что оно ковкое и тягучее. Мы беспрестанно набиваем себе ментальную шишку, связанную, например, с тем, что «я не заслуживаю такого отношения к себе», «я имею право требовать…», «а как еще я должен себя вести, если они все…», и так далее. Во всех этих ситуациях мы несем издержки, прямо пропорциональные степени отвердевания эго, вставленного нами в ситуацию. Чем более определенное представление о себе мы имеем, тем жестче конфронтация эго и реальности, не подозревающей о первостепенной роли «я» — первостепенной только с нашей точки зрения. Отсюда чувство необходимости войны с миром, который, как обычно, против нас. Если большинство встреч в жизни проходит под горячо исповедуемым обеими сторонами девизом «мое эго лучше твоего», ежедневная борьба, как правило, неизбежна.
Если у нас уже есть эго, каждая очередная ситуация, являясь для него конфронтацией, вынуждает работать над ним и периодически его реорганизовывать. Вот, например, кто-то закончил учебу в институте и стал аспирантом. Статус изменился, значит, должно подвергнуться изменению и эго, которому нужно вписаться в новую ситуацию. Человек — уже не студент, погруженный в зубрежку; оказывается, он уже кое-что знает, иначе его не засосала бы университетская научная машина. Значит, пора соответствовать новому уровню — сменить костюм (куртка больше не подходит, так одевается только студенческое простонародье), приобрести пальто и подходящую шляпу. Правда, шляпа слегка не по возрасту и не ко времени, да и выглядит порой чуть нелепо, зато такое облачение, дополненное длинным зонтиком, вызывает уместные ассоциации с Лешеком Колаковским[17]. Обязательным атрибутом становится черный портфель, в котором можно с достаточным достоинством транспортировать необходимую научную литературу и ноутбук (раньше его место занимала стопка бумаги, приготовленная на случай приступа гениальности для безотлагательного увековечения продуктов умственной деятельности в интересах всего человечества). И однажды вместе с эго, победившим в этой ментальной гонке вооружений, его владелец оказывается приглашенным на вечеринку к знакомым, учившимся на курс младше, а значит, все еще студентам. Он идет туда, но уже как аспирант, и смотрит на мир уже по-другому — не приземленно, а с высоты полета своей птицы. Он прибывает на место с портфелем, что никого не должно удивлять. Играет музыка, все развлекаются, но ему жарковато танцевать в пальто, да еще с портфелем, которым он случайно зацепил нескольких людей. И вот он стоит в сторонке у стены и смотрит на происходящее, которое все больше кажется ему постыдным. Чего они так смеются? Вот уж правда, такие глупости болтают… А музыка! Как под нее вообще можно танцевать? Вот раньше были вечеринки…
Та же самая ситуация, которую раньше мы переживали без портфеля, теперь кажется совершенно иной. Мы перетащили в нее наш слишком тяжелый багаж, не предполагая даже, что за перевес придется платить сменой образа мира. Этот ментальный портфель эго решает, как нам воспринимать мир и самих себя, а также как нас будут принимать другие. Чем сильнее человек хочет, чтобы его за кого-то принимали, тем больше он должен трудиться, убеждая мир в том, что достоин лучшей репутации. Однако часто результатом таких усилий становится лишь еще более глубокая уверенность в том, что в наш образ, который мы хотим предложить миру, нужно вложить еще больше усилий, раз окружающие настолько глупы и еще не поняли, с кем имеют дело. Ментальный портфель растет и становится все тяжелее и тяжелее для его носителя, для окружающего мира; к тому же он неуклонно пухнет по мере вкладываемой в него работы.
Обладание «я» оказывается довольно дорогостоящим. Нужно считаться с расходами на его содержание, оплатами за использование, налогами на развитие; приходится платить за его страхование и инвестировать в его рекламные акции. Результатом этих действий всегда будет какой-нибудь ментальный галантерейный продукт, скрывающий два достаточно длинных списка, о которых никто сразу не подумал. Первый список — это длинный перечень того, что нужно делать. Я такой-то и такой-то, следовательно, должен поступать так-то и так-то. К несчастью, как правило, этот обширный список охватывает вещи, которые на долгий срок становятся грузом, как пальто аспиранта летом. Второй список содержит перечень того, что делать не нужно, и как назло обычно это любимые занятия (в глубине души аспирант охотно потанцевал бы, расслабившись после стаканчика-другого). Хуже того, если эти списки вдруг перепутаются, когда наш герой окажется в каком-нибудь забавном настроении, и останется ощущение морального похмелья, либо генерируются разные настроения, приводящие к совершенно бесплодным решениям под девизом «что они теперь обо мне подумают». Совершенно бесплодным, поскольку каждый встреченный нами человек непременно что-нибудь о нас думает, и любые попытки удовлетворить всех подряд заранее обречены на неудачу. Тем более что удовлетворение появляющихся у других фантазий относительно нас чаще всего стоит нам наших ценностей, а значит, даже в случае успеха это не даст нам чувства исполненного долга, зато побудит других и в дальнейшем вмешиваться в нашу жизнь.
Итак, нет ничего более ограничивающего, чем эго и наросшие на него со всех сторон концепции. Забавно при этом то, что это дорогое и самое ограничивающее ограничение не существует. Именно поэтому расходы на его приобретение значительно превосходят прибыль от обладания им, если тут вообще возможно говорить о прибыли. «Я» — это в конце концов совершенно нерентабельное дело — более того, оно приносит одни убытки.
4. Рассуждения за едой, или Мир является лишь умом
Все явления — это твой ум. Восприятие внешних объектов — обманчивая концепция.
Они пусты, словно сон, — лишены природы.
Если не верите, что мир — только ум, то ответьте мне на вопрос: что такое «Quadratisch. Praktisch. Gut»? Для выбора у вас есть такие варианты:
а) металлический ящик для инструментов,
б) бетонный кирпич для укладки дорожек в саду,
в) титановый сейф, вмурованный в стену за картиной,
г) шоколад.
Ну, естественно! Конечно же, ответ г) — шоколад, ведь под таким слоганом его рекламируют в Германии. Среди изобилия порочных круглых шоколадок, нарочито ромбовидных батончиков с начинкой или сентиментальных дамских шоколадных сердечек настоящий шоколад можно распознать по тому удивительному свойству, каким является квадратность[18]. Вторым фундаментальным фактором, подтверждающим шоколадность шоколада, является его практичность. Именно такую плитку удобно ломать на маленькие, такие же квадратные кусочки, что снова отличает ее от всяких других шоколадок, которые нужно пилить подходящей дисковой пилой фирмы Bosch. Gut — шоколад должен быть хорошим. Не думаю, что речь идет о вкусе, ведь этой характеристикой можно пренебречь. Шоколад хорош в моральном смысле. Он ни с кем не дерется, не ругается плохими словами, ведет себя прилично, лежит себе скромненько на каком-нибудь квадратном столике — ах, какой хороший шоколад!
Поляк воспринимает шоколад совершенно иначе. Прежде всего это предлог для амурных дел, о чем свидетельствует польская реклама, обычно демонстрирующая парочку с шоколадкой в роли атрибута вступительной игры (в заботе о ценностях я не буду вдаваться в анализ рекламы молочного шоколада, где обнявшись, танцуют взрослый мужчина и корова с выдающимся выменем). Непонятно, почему польская реклама так назойливо подчеркивает вопрос вкуса — он и великолепный, и замечательный, и незабываемый, и т. д.
Вопрос в том, видят ли поляк и немец, две родственные души, одно и то же, глядя на шоколад? Определенно нет. И кто же из них прав? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно иметь доступ к шоколаду самому в себе, к шоколаду такому, каков он есть, а не к абстрактным национальным тенденциям ума, которые проецируются на него в соответствующих странах. Только как это сделать? Ни в одной стране мы не наблюдаем шоколад во всей наготе бытия (извините за польскую тенденцию), потому что на него всегда смотрят через национальные очки. Куда бы поехать с целью беспристрастного осмотра шоколада? Откуда его будет видно по-настоящему? С Луны? Наверное, нет: во-первых, слишком далеко, чтобы рассмотреть происходящее на Земле (Армстронг об этом и словом не обмолвился), во-вторых, даже оттуда шоколад виделся бы в некоторой конкретной лунной перспективе, а не сам в себе. И тут появляется беспокоящий всех сластен вопрос, а есть ли у нас вообще доступ к шоколаду самому в себе или все-таки только к определенному национальному конструкту? Это беспокойство можно попробовать отвергнуть как необоснованную реакцию на совершенно надуманную проблему, которой вообще-то нет, потому что все видят один и тот же шоколад, только немного по-разному. Стоп, стоп, стоп! Откуда нам знать, что все видят тот же самый шоколад, раз воспринимают его по-разному, то есть имеют разный образ шоколада? Если нам дан не оригинал шоколада, а лишь немецкий или польский образ чего-то, что называется одинаково, но существует в двух трактовках, откуда нам знать, что они представляют одно и то же? Мы ведь не можем эти национальные картинки сравнить с прашоколадом и убедиться, что оба воззрения правильные. Если нет прашоколада, нет и шоколада, о чем все знают и без буддийской философии из текстов Платона. К сожалению, вместо шоколада у нас есть только национальные шоколадоподобные конструкты.
Если бы удалось показать, что оба толкования взаимно соответствуют друг другу, словно два хороших перевода — немецкий и польский — одной французской книги, тогда конец проблеме — из двух переводов можно было бы воссоздать французский оригинал. Однако в случае шоколада это не так просто. Нужно доказать, например, что немецкое «praktisch» означает то же самое, что польское «вкусный». Тогда готова аргументация: практичный обед — это просто-напросто вкусный обед, потому что его легко съесть, а значит, оба слова означают де-факто одно и то же — легкую поглощаемость пищи, а немецкое «gut» признать за определение так называемого эстетического восприятия, то есть хороший, поскольку подводит к делам сладострастным, но вы и сами, наверное, чувствуете, это натянутая интерпретация (не говоря уже о том, как трудно решить, хорош ли шоколад, и поэтому приводит к делам сладострастным, или наоборот, приводит к делам сладострастным, и именно поэтому он хорош). И как, в дополнение ко всему, объяснить поляку, что квадратность является наиболее волнительным, первичным свойством шоколада?
Значит, каждый народ конструирует свой собственный шоколад. Если же существование шоколада устанавливается через существенные свойства, то продукт, сутью которого являются квадратность, практичность и хорошесть, есть совершенно иная вещь, нежели объект, суть которого состоит из вкусности и склонности-к-делам-сладострастным. Следовательно, шоколад пуст — лишен своей собственной природы, вместо которой в него вмонтирована природа, сконструированная определенной нацией, и эта природа впрыснута в шоколад с помощью воззрений граждан данной страны, выбирающих принципиальные свойства и собирающих их вместе в воспринимаемый предмет. Что ни край, то шоколадка. Все-таки шоколад не является объектом, полностью независимым от нас, он сотворен в умах жителей конкретной страны и, следовательно, кондитерский магазин воспринимается или как секс-шоп, или как склад строительных материалов.
Более того, не только коллективный ум конкретного народа конструирует восприятие в своем воззрении на предметы и явления. Индивидуальный ум создает такие конструкции в каждое мгновение каждого единичного восприятия. Например, мы едим нечто округлиш, практиш и нихтгут, то есть яблоко[19] (слишком большое количество шоколада не полезно, а я не хочу, чтобы читатель пополнел, читая книгу). Давайте присмотримся, чем занимается ум при употреблении яблока. А его употребление — переживание тотальное; в нем принимают участие все чувства, информирующие нас о сладком вкусе яблока, о его цвете и форме, о фруктовом запахе, гладкости его кожуры и похрустывании при надкусе. Эти пять чувств передают полную информацию о яблоке. Но исчерпывающая ли это информация и на самом ли деле касается яблока? Читатели уже сориентировались в моих изысканиях и знают, что если я невинно спрашиваю: «А на самом ли деле так?», то ответ будет: «Несомненно, нет». А потому я не собираюсь больше скрывать, что информация, идущая от наших органов чувств, не относится к яблоку.
Представьте, что каждое из чувств — это дверь в комнату, где сидит сознание (можно его вообразить маленьким зеленым гномиком[20]), которое принимает исходящую от чувств информацию. Тогда с точки зрения сознания поедание яблока выглядело бы как поочередное открывание дверей, откуда в виде писем влетала бы информация от чувств. Через дверь вкуса — письмо с содержанием «сладкое», через дверь зрения — сообщение «круглое и красное» и т. д. Зеленый гномик подбирает и прочитывает письма с информацией, относящейся к яблоку. Но в какую дверь влетает письмо с надписью «яблоко»? Откуда зеленому гномику знать, что письма идут от одного отправителя, которым должен быть обладатель всех этих свойств? В комнату ведет только пять дверей, и нет даже малюсенького дополнительного окошечка, в которое можно бы было подбросить информацию об отправителе или открыто взглянуть на него. Если письма не подписаны, а они не подписаны, потому что чувства передают информацию исключительно об определенном качестве или свойстве, воспринять которые они способны, то откуда известно, чему эти свойства принадлежат? Вкус передает информацию «сладкое» и все, а не «сладкое и предмет с таким свойством». Зрение различает форму и цвет — глаз «знает», что перед ним круглое и красное, но ничего не «знает» об обладателе этих свойств. А ведь само яблоко здесь необычайно важно, потому что именно оно имеет все эти свойства; сначала должно быть яблоко, которое потом уже сладкое, круглое и тому подобное. Но разве есть чувство, воспринимающее само яблоко, сам предмет, свойства которого воспринимаются другими чувствами? Как глаз не может ощущать вкус, а ухо — обонять, так и каждое из чувств не может передавать информацию о субъекте транслируемых свойств.
Если в комнате нашего сознания непременно находится информация «яблоко», и она не попала сюда ни через одну из дверей, то ответ на вопрос о происхождении такой сверхважной информации может быть только один, а именно: ее добавил зеленый гномик. Заваливающую его информацию он ловко упорядочивал при помощи одного термина, то есть «яблоко». Он собрал по листочку из каждой двери в целую коллекцию и назвал ее «яблоком», что привело в порядок обильную корреспонденцию. Таким образом, яблоко оказывается конструкцией сознания, ведь зеленый гномик — маленький любитель помастерить, постоянно проводящий время за конструктором «Сделай сам», содержащим материал, получаемый от чувств. Разве что наш гномик после долгих лет тяжкой работы (и не только в этой жизни, как утверждает буддийская философия) забыл, что яблоко — лишь его собственное добавление, не имеющее снаружи никакого соответствия. Следовательно, яблоко — и это может оказаться неожиданностью — не является причиной наших чувственных восприятий, как наверняка мы считали до сих пор, а совсем наоборот, яблоко — их следствие, потому что обильная информация, приходящая от чувств к сознанию, собирается в единое целое и снабжается термином «яблоко». Именно тогда у нас появляется осознание предмета, но это уже конструкция ума, а не что-то полностью внешнее и независимое от ума.
«Это неправда! — воскликните вы. — Ведь яблоко должно быть вне нашего сознания, чтобы сознание могло его осознать». Позволю себе не согласиться, потому что если яблоко находится снаружи и осознается нами при посредничестве чувств, то я вынужден повторить свой вопрос: каким же из чувств до нас доходит информация «яблоко»?
«Хорошо, — скажете вы, — но я же не являюсь этим яблоком, а вижу его вне меня».
Это так, вы видите яблоко вовне, но не потому, что оно находится снаружи, а потому, что сознание сконструировало яблоко как внешний предмет. Яблоко — представление о внешнем предмете, но внутри нашего сознания — зеленый гномик просматривает упорядоченные им письма. Часть нашего восприятия сконструирована как внутренняя, а часть — как внешняя, и переживается соответственно, но это всегда переживание сознания или переживание в сознании. Поэтому если мы видим яблоко вне нас, то видим собственный ум, или следствие его точнейшей, неутомимой работы.
А как же с чувствами? Разве они не являются лучшим доказательством существования внешнего мира, ведь они служат для приема исходящих от него сигналов? А вот и нет, если только хорошенько присмотреться к ситуации и сделать это со стороны воспринимающего сознания, то есть глазами зеленого гномика. Вот он получает только письма, но не имеет непосредственного контакта с отправителем, о котором может делать выводы на основе полученной корреспонденции. Так и наше сознание не сталкивается с предметом, а имеет в своем распоряжении лишь нервный импульс от органов чувств, интерпретированный, например, как сладкий вкус. Ведь ощущение сладости — это интерпретация информации о возбуждении органа чувств, а не впрыскивание свойства фрукта в сознание. О том, что сладость не имманентное свойство яблока или меда, знали и жители Древней Греции, которые, подобно буддийским философам, заметили, что иногда больной человек, пробуя мед, чувствует горький вкус. Если бы мы воспринимали независимые от нас свойства независимого от нас предмета, а не собственные интерпретации, представления или конструкции (называйте, как хотите), то и больной, и здоровый должны были бы почувствовать одинаковый вкус.
Если смотреть со стороны воспринимающего сознания, тогда то, с чем оно контактирует, есть представления о предметах, интерпретированных как внешние объекты, и все. Сознание не сталкивается с самим внешним предметом. Независимо существующие предметы не впрыгивают в сознание (иначе восприятие слона было бы самоубийством). Однако сознание нуждается в представлениях о предмете, как зеленый гномик в комнате — в письме. Итак, в сознании имеются представления о предметах как о внешних объектах. Но из этого не следует, что они существуют вне сознания. Если вы не согласны, но признаете, что сознание располагает представлениями, являющимися копией внешних вещей и дающими нам возможность их познания, то скажите, откуда у вас такая уверенность? Подобная ситуация предполагала бы, что, во-первых, у нас есть представление, а во-вторых, некий непосредственный непредставленный контакт с отображаемым предметом, который мы можем сравнивать с его представлением с целью верификации правильности нашего познания. Но именно здесь круг замыкается — если у нас есть непредставленный контакт с предметом, то зачем нам представления о нем? А если контакт с предметом возможен только при помощи представлений, поскольку вещи не запрыгивают в сознание, то это фиаско — у нас есть только представления, и все.
Вещи «не существуют снаружи как отличные от познающего их сознания», утверждает Гьялва Кармапа III. Вещи — лишь представления в нашем уме. Если вы до сих пор не верите, отнимите у воспринимаемого предмета то, что в него вкладывает сознание. Давайте отнимем это неприметное, но значимое добавление «яблоко», вложенное зеленым гномиком, и интерпретацию органов чувств, — писем, касающихся свойств предмета. Что останется? Вы по-прежнему видите где-то снаружи некий предмет или его объективно существующую природу? Или все-таки нет? Может быть, там уже пусто? «Все явления — это твой ум. Восприятие внешних объектов — обманчивая концепция. Они пусты, словно сон — лишены природы».
Окончательным доводом существования какой-либо внешней вещи является ее восприятие, утверждает Дхармакирти, или, обобщеннее, познание этой вещи. Это приводит к тому, что вещь нельзя отделить от ее познания, она навсегда познанный предмет, предмет для или в рамках познания. Это не позволяет говорить что-либо о реальности самой в себе и ее независимости от познания. Утверждать, что вещие такие, а не иные, независимо от того, познаем мы их или нет, означает, что мы познали их независимо от познания, а это, смею заверить, достаточно подозрительный способ познания вещей.
Хорошей иллюстрацией обсуждаемого в этой главе фундаментального тезиса буддийской философии будет история о двух господах, поспоривших о мухах. Первый из них утверждал, что мухи везде, а второй настаивал на том, что они только там, где есть люди. Чтобы разрешить этот тяжелый, или, точнее, мушиный вопрос, первый предложил отправиться в пустыню. Там они набрели на труп верблюда, поедаемого роем мух. Тогда первый господин триумфально вскричал: «Видишь?! Куда ни глянь, ни одного человека, а сколько мух!» Второй с усмешкой решительно заявил, что истина на его стороне: «Здесь ни больше ни меньше, две особи, никем не вычеркнутые из рода человеческого!» Хотя первый из них принадлежал скорее к гомо эректус, а второй — к гомо сапиенс.
Сперва кажется, что спор рассудила бы камера, оставленная возле павшего верблюда. Она запечатлела бы ситуацию, и вопрос выяснился бы в момент просмотра записи. Но в том-то и дело: в момент просмотра записи. До просмотра мы не знаем, играют ли мухи главную роль или нет. Когда же мы посмотрели фильм, содержание нашего познания — это содержание нашего познания, и оно не независимо от познания. Даже если мы посмотрели мушиный фильм под названием «Безжалостное растерзание верблюда», мы не можем утверждать, что знаем, как вещи ведут себя независимо от познания, ведь просмотр и был познанием, и от него снова никуда не убежать. Наше знание о том, как должен выглядеть мир, не было получено в отрыве от познания, и именно потому, что оно является знанием, то есть познанием. Если бы мы действительно могли знать, каков мир независимо от познания, то должны были знать содержание фильма, не посмотрев его. Но заплатили бы мы за билет в кинотеатр на фильм, который смотреть не будем? Оставленная в пустыне камера является способом познания этой ситуации; мы что-то знаем о мухах, это означает, что они находятся в поле нашего познания, без сомнения, расширенном благодаря оставленной камере, но всегда в поле познания, и от этого познания не удастся оторваться — это поле познания, а не поле непознания.
Невозможно узнать, какими являются вещи независимо от познания, и существуют ли они в этой независимости. Чтобы знать это, их нужно познать. Этот факт нельзя недооценивать. Также нет смысла говорить о вещах, якобы независимых от познания, ведь как их познать, не познавая? Даже если они существуют, то именно в их независимости от познания мы их познать не можем — они же от него независимы. Буддийский философ смотрит на тот же мир, что и остальные, но отличается пониманием статуса воспринимаемого. Он утверждает, что воспринимаемый мир и ум неразрывно сплетены, и потому мы никогда не узнаем, выглядел бы мир, который нами не воспринимается, таким, каким мы его видим сейчас. Утверждение, что мир остается таким же, даже когда мы его не воспринимаем, так же легко привести в доказательство, как и то, что мухи есть везде.
Частый упрек, возникающий из-за непонимания сути вопроса, звучит так: «Ведь мир не исчезает, когда я закрываю глаза, и не появляется, когда я их открываю». Конечно, нет, потому что и сам упрек предполагает непостижимую, как мы уже говорили, уверенность в том, что должно происходить с миром, когда он не воспринимается, — уверенность, что его нет, когда его не воспринимают. Как мы узнаем, что его нет, если в данный момент нет восприятия? Другой вариант упрека звучит так: «Ведь стул, на котором я сижу сегодня в этом зале, это тот же самый стул, на котором я сидел неделю назад. Он ведь не исчез, пока я отсутствовал, чтобы появиться в ту минуту, когда через неделю я открываю дверь в зал. Впрочем, я могу выйти из зала и послать друга, чтобы он на него посмотрел и подтвердил, что стул существует, несмотря на то, что я его не воспринимаю». Во-первых, друг подтвердит лишь то, что стул существует только как воспринимаемый им, а значит, снова о нем нельзя сказать ничего независимого от восприятия. Во-вторых, факт, что я могу судить о стуле, который хранился неделю без меня, означает, что стул познается, и его существование я доказываю в рамках моего познания, необязательно чувственного. Недоразумение лишь в том, что восприятие мы понимали как осмотр глазами, а это значительно сужает познание. Философия вовсе не собирается никого убеждать, будто мир исчезает, когда мы его не познаем, это утверждение равно необоснованно, как и приговор о том, каково бытие само в себе. В обоих случаях мы заходим слишком далеко, авторитарно высказываясь о происходящем вне зависимости от познания. Следовательно, утверждение, что мир — это только ум, в конечном итоге достаточно скромный и безопасный тезис. Мы можем говорить лишь о том, что познаем, а не о том, что делается абстрагированно от познания. Мы никогда не узнаем, как выглядит мир, которого никто никогда не познал, что, наверное, не является необычайным и революционным тезисом. Либо иначе — мир, который мы познаем, является познаваемым нами миром, и ничем больше. В частности, он не является миром самим в себе, независимым от познания. Кто в таком случае предлагает более странные тезисы: буддийская философия, говорящая, что от познаваемого мира неотделим познающий его ум, или ее оппоненты, утверждающие, что познают вещи такими, каковы они сами в себе, абстрагируясь от факта, что они познаются? Вещи есть, но они познаются нами; именно мы познаем, что они есть: собственно то, что они существуют и познаются.
Следовательно, мир есть конструкция ума. Она сооружается не только посредством проецируемых вовне концепций и самого механизма восприятия, но и через эмоции. Обычно мы определяем эмоции как нечто важное, потому что, едва появившись в уме, они диктуют нам, что делать; с другой стороны, мы недооцениваем их влияние на окружающую реальность, считая их проявлением нашего внутреннего мира, с которым внешний мир якобы не связан. Но принятые нами всерьез, эмоции быстро становятся внешней реальностью. Это легко заметить на таком примере.
Представим себе, что у меня есть девушка (кто не любит помечтать?) и я немного, совсем чуть-чуть, в границах разумного, ревнив. Не то чтобы я ее не уважал, вовсе нет! Просто иногда хочется быть уверенным, что все в порядке, — так, для полного спокойствия. Ой! Как раз это я хотел сказать о своем друге. Ведь это у друга есть девушка, которую он немного, в границах разумного, ревнует. Не то чтобы он ее не уважал, вовсе нет! Просто иногда ему хочется быть уверенным, что все в порядке, — так, для полного спокойствия. К тому же, как известно, — не ревнует, значит, не любит. Поэтому я проверяю, ну то есть друг проверяет, во сколько моя, или точнее его, девушка заканчивает работу — предположим, в три часа дня. Пройти от работы до остановки занимает пять минут. В четверть четвертого приезжает трамвай, на котором до дома еще пятнадцать минут. Значит, в половину четвертого она должна быть дома. Сейчас уже пять, а ее все еще нет. Значит, у нее есть причина, более важная, чем я, точнее, чем мой друг. Легко догадаться, что это за причина. Она красивая и умная… кажется, женщины предпочитают другую последовательность, ну тогда умная и красивая, а в офисе у нее работают не только женщины. А, пришла наконец! Я даю ей шанс честно признаться и с невинным видом спрашиваю: «Где была, любимая?» «День сегодня такой замечательный, прошлась пешком», — отвечает она, а я совершенно сокрушен. Могла бы постараться придумать что-нибудь более убедительное. Она же выбрала самую примитивную отговорку. Так любой скажет! Сообщаю ей, эх! друг сообщает, что обо всем догадался, и выдает правдивую версию событий, а также описание подозреваемого. Она возражает, но только ухудшает дело, добавляя к подлому обману очередную отчаянную ложь.
На следующий день в поисках доказательств ее гнусного обмана, я жду в кустах с биноклем, возле трамвайной остановки, от которой она едет с работы домой. К несчастью, бдительный взгляд девушки разоблачает мое присутствие, когда неожиданный порыв ветра внезапно срывает листву, открывая меня, сидящего в засаде. И хотя я как ни в чем не бывало объясняю, что открыл в себе страсть к орнитологии и изучаю популяцию Upupa epops[21], которые как раз гнездятся и кормятся вблизи трамвайных остановок, девушка не верит, и вечер проходит в молчании. Таких вечеров будет много, потому что какова любовь, такова и ревность, а любовь моя велика.
Однажды, выходя с работы, моя девушка принимает предложение от знакомого попить кофе. Ей не хочется возвращаться домой так быстро, ведь там ее ожидает очередной скандал. Вполне можно позволить себе разок сходить в кафе, думает она. И через полчаса беседы отмечает: напротив сидит приятный мужчина, который не напрягается, оказывает внимание, шутит. Возникает яркий контраст между обезьяночеловеком, ждущим дома, и коллегой с работы. Ничего странного, что мысль о возвращении домой становится все более абстрактной и вся история может закончиться сменой адреса моей девушки, или уже экс-девушки. Что же в такой ситуации скажу я? Не скажу, а победно крикну вместе с другом: «Я так и знал! Уже два месяца назад все знал! Я это предчувствовал с той минуты, как ты ко мне переехала!»
Вот так моя эмоция и сопутствующая ей концепция материализовались во внешнем мире. Проблема, однако, не в том, что я не знаю об этом и не отдаю отчета, что у меня на уме. Я абсолютно убежден, что прав: мое недоверие, возникшее сначала, подтвердилось — предчувствия меня не обманули. Стоит больше доверять интуиции, хотя она и женского рода, а этому полу доверять нельзя.
В очередной ситуации «мужчина плюс женщина» я буду склонен еще больше контролировать случайности, что еще быстрее приведет к очередному расставанию, а это еще крепче утвердит меня в убеждении, что все они такие и нужно быть еще более осторожным и так далее, и так далее. Наши проекции становятся реальностью, которая, не зная, что порождена нами, пытается подтверждать наши идеи о ней. А когда идеи будто бы подтверждаются, они еще сильнее проецируются на мир; он снова превращается в их материализацию, и так круг замыкается и вертится все быстрее. Круг на санскрите — сансара. Сансара — это не место, в которое — как иногда думают — попадают непросветленные существа, она — ум этих существ, непросветленное переживание мира, без знания о том, что он — только наш ум. Эта истина — как любая истина — ограничивает, когда не познана, а когда ее распознают, становится свободой и радостью. Не верите? Тогда почитайте следующую главу.
5. Взгляд — это царь, или Потребительская пустота
Мир — это космическая шутка пространства…
Лама Оле НидалПредставим себе утро середины недели. Так получилось, что мы опоздали на работу. Первая информация, которую мы получаем, переступив порог офиса, — что шеф нас ждет у себя в кабинете. И вот через минуту мы стоим на ковре (естественно, красного цвета, чтобы сильнее напоминало место казни). У нас есть несколько отличных оправданий:
1. Нам платят так мало, что само появление на рабочем месте в очередной раз за неделю — это настоящее чудо;
2. Работа такая скучная, что наше молчание про компенсацию за моральный ущерб — это проявление нашей доброй воли;
3. Погода такая скверная, что мы рискуем здоровьем, когда приходим на работу ради того, чтобы выполнить обязательства по трудовому договору;
4. С нами в постели была такая замечательная подруга, что одно лишь то, что мы выбрались из кровати, следует признать необычайной самоотверженностью и жертвой, возложенной на алтарь работы.
Почти каждый склонит голову перед железной логикой этих аргументов. Но есть в мире один человек, который не в состоянии их постичь, и по роковой случайности этот человек — наш шеф. Мы трезво оцениваем ситуацию, которая не видится радужной, и в нас просыпается свойственный всем существам инстинкт выживания. По дороге в кабинет шефа мы одалживаем у коллеги-мотоциклиста каску, и, прикрываясь толстым скоросшивателем, переступаем через порог. Конечно, оборонительная поза одновременно является и признанием вины, и подтверждением мнения, которого придерживается о нас начальник. Обе стороны это мнение прекрасно знают, но шеф все же высказывает его. Заботясь о доступности, он говорит довольно громко (он видит, что каска закрывает нам уши) и для пущей уверенности подкрепляет речь языком жестов, подчеркивая важные моменты потрясанием кулака. Через минуту мы расстаемся без дружеских чувств — они невозможны между тряпкой и садистом. Результат: два человека в негативном состоянии ума, которых тем не менее соединяет слабая (в первую очередь из-за отсутствия духовной близости) связь, в этот самый момент делают и думают одно и то же: оба сидят за столами с мыслью: «Что за кретин!» С буддийской точки зрения негативный итог всей ситуации обусловлен не тем, что она плохая, а тем, что ее неправильно воспринимали. Неправильное переживание рождается из восприятия ситуации как совершенно реальной, и в соответствии с ее оценкой она признается плохой.
«А как же ее переживать?» — спросите вы. Вот именно! Можно видеть ситуации, как описано выше, то есть обычным образом, а можно — по-буддийски, если мне будет позволено воспользоваться таким противопоставлением. Как же воспринимать ее вторым способом? Если наш привычный, реалистичный подход к миру хоть немного уравновешен ключевой информацией идеалистичной буддийской философии о том, что мир напоминает сон, то есть вероятность, что в уме рядом с раздражением появится немного пространства и расслабленности, и мы зайдем в кабинет шефа без каски и с открытым невинным выражением лица. Сны нереальны; даже кошмары не могут причинить вреда — если только мы не примем их всерьез, забыв, что это сон. Но раз они не так реальны, как обычно кажется, а пусты, то их можно менять. Остается только воспользоваться вторым планом свободы, которую предлагает нам пустота данной формы — трудной и неприятной ситуации.
Прежде чем шеф откроет рот (хотелось сказать: пасть), чтобы развернуть свое видение, мы можем — как ни в чем не бывало — рассказать ему лучший анекдот из тех, что приходят в голову. Конечно, для шефа это станет неожиданностью; он, во-первых, удивится, а во-вторых, может быть, и не сумеет скрыть улыбку. Правда, через минуту он вспомнит, что «мы здесь собрались не для того, чтобы шутки шутить», но как раз этой минутой его колебаний мы и воспользуемся, не теряя инициативы:
«Я вчера видел в городе вашу уважаемую супругу. Какая красивая женщина! Как вы завоевали сердце такой дамы? Вы просто удивительный человек, шеф!» — так до начальника доходят две важные новости. Во-первых, он узнает от нас, что его жена красавица, а он давно забыл об этом. Во-вторых, что он сам удивительный; вообще-то он подозревал это уже давно, и вот наконец это заметил кто-то еще. Через минуту раздумий о себе и жене, он, конечно, вспомнит о цели нашей встречи, но у нас опять был краткий момент его колебаний, которым мы снова можем воспользоваться:
«Вчера приходил клиент, благодарный за то, что я уладил его дело, он подарил мне коробку конфет; может, вы ее возьмете… для супруги?»
Безусловно, первый ответ будет «нет», хотя сердце шефа скажет «да». Стоит дать ему второй шанс подумать и стать обладателем коробки конфет (в конце концов, ни один настоящий мужчина не устоит перед шоколадом, а жертвователю и не нужно знать, что жена сейчас худеет).
Теперь можно оставить начальника один на один с его умом, в котором появилась пара хороших впечатлений, а это последнее, на что можно надеяться на работе, где человек вкалывает на износ, а спасибо не слышит даже от хромой собаки. Позитивные впечатления минутку борются с первоначальным отношением к нам, но лишь минутку, и шеф, держась за голову, говорит: «Ладно, Ковальски, ступайте уже… Ах, да! И не опаздывайте больше!»[22].
Так мы выходим из ситуации, выкрутившись с помощью конфет. Мы поставили буфер перед разгневанным боссом, да еще к его удовольствию. Ведь, глядя на шоколад, он может подумать, что этот Ковальски, конечно, опоздал, но вообще он неплохой парень и анекдоты смешные рассказывает. Хотя я никогда не слышал о Сутре алмазного буфера, тем не менее уверен — описанный метод насквозь буддийский, поскольку ведет к противоположному результату: в итоге остаются два человека в позитивном состоянии ума. И только это имеет значение — позитивное состояние ума, которое мы можем подарить другим и себе. Кто-то скажет: вся ситуация разыграна не fair[23], это разводка для бедняги шефа, спасение собственной шкуры любой ценой, уход от ответственности и нарушение трудового законодательства. Но ведь речь идет вовсе не об этом! Скажите сами, что лучше — растянувшееся на несколько рабочих часов сердцебиение взбесившегося шефа и наше отождествление с тряпкой во имя трудового договора или все-таки смех, в который нам удалось преобразовать все отрицательные эмоции, в буддизме называемые ядами ума. Тут никто никого не обманывал. Анекдот на самом деле был хорош, жена шефа действительно красавица, да и сам он не злодей, просто у него куча дел, а шоколад квадратный и в высшей степени практичный. Если мы стремились избежать больших негативных эмоций, заменив их на смех, если эти 20 минут прогула мы сегодня же отработаем, чуть задержавшись, то найти проблему в этой истории может только мелочный человек, совершенно лишенный чувства юмора, а таких ведь не существует. Обе стороны и до беседы знали, что опоздание — не повод для восхвалений, и обе хотели ситуацию улучшить, так что развернувшаяся вокруг этого психологическая драма не имела смысла, вместо нее хватило бы простого общения и обычного извинения. Тем не менее мы позволяем себе эмоциональные взрывы, якобы оправданные внутренними обстоятельствами. Это просто плохой стиль, который в перспективе лишь вырабатывает привычку слишком эмоциональной реакции во всех менее значимых ситуациях и вообще подталкивает к согласию с кем-то (не помню фамилию), сказавшим, что лучшее лекарство от перхоти — гильотина.
Но мы собрались не для того, чтобы шутки шутить, пора бы получить хоть крупицу философии. О чем все это свидетельствует? О том, что, во-первых, пустота — штука потребительская и, во-вторых, взгляд — это царь.
Пункт 1. Допустим, что ситуация не пуста, а значит, реальна — то есть имеет собственную, независимую от нас внутреннюю детерминированность. Будучи стопроцентно реальной, она должна быть или хорошей, или плохой, потому что нейтральной она не кажется. Если же она была плохой в начале, а в конце оказалась хорошей, то, может, она все-таки не является внутренне, независимо от нас детерминированной, раз проявила такую пластичность. Ситуация скорее напоминала сон, в который мы можем вмешиваться и который как раз по причине природы сна был пластичным и не оказывал сопротивления. Измеримые последствия нашей работы, вложенной в трансформацию ситуации, указывают, что это мы решали, какой ей быть. Это ли не лучшее свидетельство ее пустотности? Она напоминает сон — таким примером часто объясняется буддийское понимание пустой реальности. Реальность пуста, согласно определению пустоты, лишена постоянной сущности, имманентно детерминирующей ее форму, а следовательно, недоопределена на своем базовом уровне, как сон, в котором каждый элемент может с легкостью подвергнуться метаморфозе и превратиться в нечто совершенно иное и неожиданное. Пустота, соответственно, это недоопределенность, которой можно сознательно пользоваться, и тогда она становится потребительской — мы способны сами придавать ей заданную форму (естественно, пустую, и это неизбежно). Зачастую обросшая непониманием и демонизированная пустота является ничем иным, как динамикой реальности, которая никогда не застынет в конечной форме. Поэтому пустота всегда приглашает воспользоваться ее потенциалом, предлагая свободу, стоит лишь протянуть руку.
Это оптимистичный сценарий, скажут некоторые. Все могло пойти совершенно иначе: анекдота шеф не понял и решил, что мы над ним издеваемся; супруга вчера выгнала его из дома, предварительно очистив его счет в банке; предложенный нами шоколад ему категорически противопоказан из-за тяжелой формы сахарного диабета, причем мы — единственный человек в компании, не знающий об этом. Результат: директор взбешен втройне, ситуация на порядок хуже, чем в начале.
Но это только подтверждает буддийскую философию! Если удалось многократно ухудшить ситуацию, то она сама в себе не была такой уж плохой, как казалось на первый взгляд. Именно потому, что она была пуста, ее можно было ухудшить до такой степени, а в принципе — до любой степени. Если бы она была независима от нас и плоха сама в себе, первоначальное раздражение шефа должно было оставаться константой на протяжении всего времени, несмотря на наши беспомощные попытки ее изменить. Следовательно, ухудшение ситуации тоже было использованием пустоты, хотя и не особенно удачным из-за отсутствия профессионализма. А как можно использовать пустоту профессионально на благо ее участников? Об этом говорится в следующем пункте:
Пункт 2. Взгляд — это царь. Если ситуация пуста, а значит, внутренне не детерминирована, это означает: мы сами придаем ей форму, хотим того или нет, знаем об этом или нет. Получаемый результат зависит от взгляда, с которым мы вступаем в ситуацию. Собственно, так и произошло в наших случаях. Решив сначала, что ситуация плохая, мы ведем себя в соответствии с этой оценкой и не замечаем, что наше поведение формирует исход согласно принятому взгляду. В очередной раз оказывается, что пустой мир — это наш ум. Его пустота и факт, что мир создается умом, — две стороны одной медали. Именно потому, что в нем нет независимой, постоянной сущности, мир пуст; и ум может его формировать. Либо наоборот: именно потому, что мир всего лишь создан в уме, в нем нет независимой от ума сущности, а значит, он пуст.
Ситуация, будучи пустой, не может сама решить, какой ей быть в конечном итоге. Только мы решаем это, ведь ее нет самой в себе, есть только происходящее для ума и умом переживаемое. Если мы поменяем способ переживания, от которого ситуацию нельзя оторвать, она сама подвергнется изменениям. По этой причине наши оценки в конце концов становятся реальностью — по ним мы пытаемся переживать события. Раз их не удается отделить от акта их переживания, то у них нет выхода; рано или поздно происходящее должно приспособиться к нашему способу его восприятия. Такой механизм срабатывает всегда, знаем мы об этом или нет. О нем нужно помнить, ведь мы пользуемся им постоянно.
Если принять мир как подобие сна и идею, что все в конечном итоге возможно изменить, мы будем поступать соответственно: менять и развлекаться, как хотим. Если же решим, что реальность как нельзя более реальна, важна и тяжела, естественно, так и окажется, но не потому, что она такая сама в себе, а потому, что, будучи пустой, она покорно приспосабливается к нашему заранее принятому взгляду. Может быть, вы скажете, что я преувеличиваю, ведь каждый видит и знает, что мир вокруг нас реален. Вот-вот! Именно так вы решили, так и видите. Но оправдывает ли себя подобное воззрение? Нужно ли так судорожно за него цепляться? И что мы теряем, отпуская чересчур серьезный подход к реальности? Ведь все продолжает происходить и нами воспринимается, хотя теперь, после существенного уменьшения нагрузки, появляется дополнительное место для ощущения немалой свободы.
В конечном итоге распознание пустотности явлений — это дар свободы. Чем лучше мы понимаем, что все, окружающее нас, — это только результирующая сила условий, сошедшихся вместе, тем легче будет заметить, что достаточно изменить хотя бы одно из них, чтобы вся ситуация выглядела совершенно иначе (например, перед тем как войти в кабинет шефа, вместо гримасы мученика изобразить на лице радость). Преобразование событий следует из того, что все они — лишь временно собравшиеся вместе условия, не имеющие никакой постоянной, детерминирующей сущности. Если мы хотим воспринимать ситуацию как плохую, то в ней нет ничего, что обязательно сделает подобное переживание невозможным. В ней нет также ничего, что сделает невозможным противоположный вариант. Наш взгляд — царь, это он решает, как нам воспринимать происходящее, то есть как его сформировать и каким оно в конце концов окажется. Ситуация пуста, ergo[24], в конечном итоге не может нас ограничить, разве что мы сами на это согласимся.
Остается вопрос, сумеем ли мы воспользоваться свободой. Недостаточно знать в теории, что ситуация, в которой мы оказались, пуста. Кроме этого знания необходима некоторая расслабленность в уме. Она, к примеру, поможет рассказать шефу анекдот, несмотря на то, что мы сами нервничаем. В повседневной жизни эмоции берут верх, иногда мы забываем и обычную savoir-vivre[25], не говоря уже о буддийской философии. Без дистанции к появляющимся в уме эмоциям и оценкам мы не можем воспользоваться свободой, дарованной нам в очередной ситуации, а переживаем ее под диктовку мешающих чувств, которые в непросветленном уме берут верх над основополагающей свободой. Каждая следующая эмоция или концепция пытается произвести переворот в уме и захватить власть, которую через минуту, утратив силу, будет вынуждена отдать очередной, более сильной конкурентке. Абсолютная власть никогда не длится очень долго; как правило, на престол стремится взойти очередной абсолютизм. Согласно буддийским наукам эта борьба происходит у нас в уме с безначальных времен, но эта модель ни разу себя не оправдала. Значительно лучше просветленная монархия буддийского взгляда. Этот взгляд говорит: все совершенно просто потому, что может происходить. Поскольку все происходящее пусто, а значит, свободно и недоопределено, как игра возможностей, которые мы можем использовать для принесения пользы всем существам, мы забавляемся тем больше, чем лучше осознаем неограниченность потенциала, таящегося в каждой ситуации (обязательно пустой, а следовательно, открытой). Монархию этого взгляда способна установить буддийская медитация, которая вовсе не гасит, не устраняет эмоции и не притупляет способности к оценке, как полагают некоторые. Она создает дистанцию по отношению к эмоциям, позволяя по-прежнему их переживать, смотреть поверх них и озирать поле событий значительно трезвее. Такой осмотр приводит к осознанному выбору, который мотивирован не сильными эмоциями, а желанием повернуть ситуацию на пользу каждому из ее участников. Тогда выигрывают все.
6. Карма, или От нас зависит, чему происходить
Если не появится противоядие от кармы, то даже спустя бесконечную кальпу недозревший до сих пор результат проявится без всякого для себя вреда.
ГампопаПотребительская пустота дает столько свободы, что напрашивается вопрос, не надинтерпретация ли это, ведь в буддийском учении много места уделяется карме, или закону, гласящему, что все, что нам встречается, есть результат наших прошлых поступков. На первый взгляд этот закон звучит как декларация несгибаемого детерминизма, и он действительно подвергался такой ложной интерпретации. Однако Будда утверждал, что каждое его поучение имеет вкус свободы, то есть его учение о карме должно быть учением окончательного освобождения. Так оно и есть, ведь за ним стоит уверенность в свободе в мире без бога-творца, существование которого буддизм не признает[26].
В случае кармы как закона причины и следствия, ситуация аналогична законам физики. Пока законы не познаны, они остаются ограничением — не мы пользуемся ими, а они управляют нами. Например, мы не можем подпрыгнуть выше, чем на метр, тренированные спортсмены — максимум на два, выше не позволяет гравитация. Однако если мы хорошо понимаем этот закон и другие законы физики, то можем построить ракету и полететь на Луну, допрыгнуть до которой трудновато. Невозможное становится возможным в момент приобретения знания, открывающего возможности, о каких ранее мы не подозревали. Согласно буддийским наставлениям, освобождающим является знание, а не вера[27]. Поэтому Будда желал, чтобы его поучения проверяли так же скрупулезно, как проверяют золото перед покупкой. Нет свободы без знания; хотя карма и связана с ограничениями, о ней рассказывается для того, чтобы мы могли понять ограничивающие обстоятельства и суметь от них освободиться.
Закон кармы гласит: каждое действие оставляет след в уме и становится причиной следующих переживаний, их характер точно соответствует причине. Закон, следовательно, означает ответственность, разумность и свободу. Ответственность — потому что нет никакой высшей инстанции, на которую можно свалить вину за нашу жизнь, ставшую последствием прошлых поступков. Разумность — потому что теперь есть понимание: от нас зависит, чему происходить сейчас, и мы отвечаем за то, что происходило в прошлом; так почему бы не отказаться от поступков, результатом которых стало бы страдание. Свобода — потому что возникает решимость быть ответственным и выбирать то, чему следует происходить. Впрочем, мы всегда решали сами, хотя и не осознавали этого, и сейчас нужно считаться с последствиями этой неосознанности.
Возьмем простой пример. Мы движемся на перекресток на зеленый свет, а сбоку на красный в нас въезжает какой-то… иди…, ой, извините, какой-то другой участник дорожного движения. Ситуация очевидна. Ответственность несет наш новый знакомый, который попытался поместить свой транспорт внутри нашего. Мы склонны сказать, что он несет стопроцентную ответственность, ведь это он проигнорировал красный свет, но мы знаем, не будь там нас, аварии бы не было. Так что девяносто пять процентов ответственности лежит на нем, а на нас — скромные пять. Однако при таком подходе вдруг оказывается, что введенные нами пять процентов разбухают до ста, потому что, не окажись мы в этой ситуации, авария вообще бы не произошла. Именно поэтому каждый из участников происшествия несет стопроцентную ответственность за случившееся. С этим, конечно, согласиться трудно, и традиционное оправдание будет таким: откуда нам знать, когда мы спокойно едем на зеленый свет, что сбоку на красный мчится дальтоник, пропустивший стаканчик. Вот именно! Мы не знали, а незнание приносит вред. Именно неведение является причиной проблем: зная все заранее, мы пропустили бы нарушителя или поехали бы другой стороной. По неведению мы попадаем в ситуации, приводящие к страданию, и охотно обвиняем других. Но другие оказались в таком же положении тоже по причине неведения, и из-за него же поступали во вред и себе, и другим. Вот и наш знакомый с перекрестка, тоже погруженный в невежество, думал, что ему удастся быстро проскочить, прежде чем кто-нибудь успеет тронуться на светофоре. Будь у него стопроцентная уверенность, что он припаркуется в нашу боковую дверь, на перекресток он не поехал бы. Так неведение встречается с неведением, и трудно ожидать, что подобная встреча принесет хорошие результаты. Не стоит винить кого-то кроме себя, потому что все знают: люди сегодня ездят как сумасшедшие, не стоит легкомысленно выезжать на перекресток только потому, что свет сменился на зеленый. Условия, складывающиеся в ситуацию, в которую мы попадаем, не известны нам до конца; нужны осторожность и предусмотрительность. Получается, понимание закона кармы означает обычный здравый смысл, которым руководствуется каждый дальновидный человек. Мы не выбегаем на пешеходный переход при горящем красном свете — здравый смысл подсказывает, что есть серьезные шансы для созревшей негативной кармы, которую мы должны пережить или не пережить вместе с водителем приближающегося грузовика.
Если мы страдаем, этому есть две причины: первая — содеянное нами в прошлом: своими поступками мы создали негативную связь с этим невнимательным водителем, и теперь последствия созревают в виде неприятной ситуации; вторая — наше неведение, из-за которого мы сейчас входим в эту ситуацию. В конечном итоге две причины можно сократить до одной, и это будет неведение. Как раз из-за него мы и в прошлом сделали что-то, не подозревая о далеко идущих и неприятных последствиях. Страдание — не что иное, как результат нашей собственной глупости. Это может оказаться горькой правдой для кого-то, кто любит в своих жизненных неудачах обвинять других, либо объяснять неприятности волей высшей инстанции. Буддизм утверждает, что за все в жизни отвечаем мы сами. Каждое наше переживание является результатом связей, созданных с другими существами в прошлом (в этой жизни или даже раньше) и зависит от кармических семян, которые мы засеяли своими действиями.
Можно придерживаться версии, что это всего лишь несчастный случай; на наше счастье, такой взгляд распространен в страховых компаниях, которые ничего не знают о законе кармы (или их неведение является нашей хорошей кармой?). Однако буддисты, представители большинства восточных систем, древние греки, а также ранние христиане, принимавшие в первых веках платоновское учение о душе, отстаивают точку зрения, что наша теперешняя жизнь — только очередное рождение из бесконечного их числа[28]. В таком контексте столкновение с другим участником движения было просто новой встречей, во время которой мы расплатились по старым забытым счетам, сохраненным в сознании, напоминающем жесткий диск с данными о наших действиях. Факт, что мы совершенно не помним этого человека, которого знали раньше, связан с возможностями нашей кратковременной памяти; в ней исчезают лица и имена людей, с которыми мы познакомились в этой жизни, всего лишь пару лет или пару десятков лет назад, и что уж говорить о безначальных временах. Помните ли вы, что вы делали, скажем, 5 лет назад в этот же самый день, в это же самое время? Забвение вызывает ощущение иррациональности определенных ситуаций, якобы несправедливо с нами случающихся. Вот, например, кто-то ожесточился на нас совершенно без повода. А может, мы просто не помним того матча с друзьями из соседнего двора 25 лет тому назад, когда мы чуть не сломали ногу защитнику из команды противника в неудержимой атаке на чужие ворота? Может, этот защитник сейчас и оказался тем не лучшим знакомым, у которого тоже слабая память, но с первой минуты, как он нас увидел, что-то шептало ему, что друзьями нам не стать. А может, этот матч состоялся несколько жизней назад? Конечно, сейчас у нас не может быть уверенности относительно прошлых жизней, но не является ли такое объяснение, по крайней мере, настолько же правдоподобным, как и утверждение, что все происходит по воле случая?[29] А при этом дается простое объяснение всяких так называемых несправедливых превратностей судьбы, которые без перспективы прошлых жизней кажутся незаслуженными, а значит, их труднее вынести.
Если бога нет, то все позволено, но это не означает, что этой свободой можно пользоваться беспечно и безнаказанно, неотвратимо приближаясь к полной анархии. Совсем наоборот, теперь за все отвечаем мы сами, а значит, в паре с абсолютной свободой идет абсолютная ответственность, потому что в конечном счете претензии можно предъявить только к самому себе. Буддийская свобода совсем не простая штука, как могло показаться на первый взгляд. Нелегко согласиться, что все наши страдания и нежелательные переживания — результат собственного глупого выбора в прошлом. Глупого, потому что мы не знаем закона причины и следствия либо забыли его. Ignorantia iuris nocet[30].
Хотя буддизм не апеллирует к каким-то трансцендентным ценностям типа абсолютного добра или Бога, тем не менее он способен очень просто обосновать хорошее поведение. Достаточно принять две вещи. Во-первых, наши действия направляются желанием к счастью, с чем трудно спорить (разве что у нас есть склонность к чересчур концептуальным рассуждениям, почтение к закону и т. д.). Во-вторых, закон кармы — совершенно простое правило, в общих чертах гласящее, что действия, причиняющие страдания другим, приводят к нашему собственному страданию, а действия, приносящие счастье, — к нашему собственному счастью. Проще говоря, следствие соответствует причине. Эти два условия вместе приводят к выводу: действовать во вред другим может лишь человек, который не понимает, что в дальнейшем это принесет неприятности ему самому. Если же мы способны посмотреть в будущее и увидеть, что последствия качественно не отличаются от причин, трудно вообразить ситуацию сознательного выбора негативных действий[31]. Парадоксальным образом оказывается, что ничто не толкает нас на поступки ради счастья других так сильно, как желание собственного счастья. Если его дают такие действия, какой смысл совершать другие? Это окупается всегда; таким образом в истинно тантрическом стиле буддизм преобразовывает эгоизм в альтруизм, который полностью переходит в совершенно спонтанные действия, не различающие счастье свое и других. Мы станем счастливыми, как только осчастливим многих людей, и в этом нет ничего странного — нас будет окружать масса благодарных коллег, охотно поддерживающих наши планы. Мы станем счастливыми тем быстрее, чем основательнее забудем о себе, посвящая свои действия благополучию других. Значит, счастливее всех тот, кто думает только о других. Не нужно мрачных видений посмертного суда или нравоучительных, нудных доводов, слушать которые приходится через силу. Понимание, что все существа, как и мы, стремятся к радости, а также умение отследить причинно-следственную связь, и есть ответ на вопрос, как вести себя в жизни. Даже не зная, как поступить, по совету Слонимского[32], — мы должны хотя бы вести себя прилично.
Такой подход освобождает буддизм от всяческих, обычно далеко идущих нормативных тенденций, плодом которых являются конфликты норм (неизбежные, когда их вводится слишком много). Несмотря на то, что Будда описал десять негативных действий, которых следует избегать[33], они не превратились в список непреложных запретов свыше. В основном эти действия ведут к негативным кармическим последствиям, и потому от них стоит воздерживаться. Но они не обязывают человека к чему-либо абсолютно и неизменно, как аксиома, догма или заповедь. Конкретная ситуация может потребовать выполнения одного из негативных действий как раз ради счастья. Приведу историю об одной из предыдущих жизней Будды, в которой он, будучи капитаном корабля, сознательно решился на убийство одного человека ради спасения пятисот пассажиров, которым угрожала опасность. У него было мало времени, и он не стоял перед дилеммой, которая обычно парализует специалистов по нравственности, профессионально занимающихся усложнением простых вещей: есть ли у нас моральное право пожертвовать одной жизнью во имя пятисот, если она бесценна, и т. д.? Вместо решения такие патетические вопросы обычно ведут к чрезмерному осложнению ситуации, когда мы вовсе не знаем, как себя вести; впрочем, мы и так обречены подчиняться правилу Слонимского. Следовательно, вместо драматичных вопросов — много сочувствия и простая арифметика, согласно которой 500 не равно 1.
Важно, что Будда сделал это без гнева, с доброй мотивацией спасти других. Именно мешающие эмоции[34] с точки зрения кармы являются причиной действий, толкающих не только других, но и нас самих к огромным трудностям. Среди них гнев — самый дорогостоящий, его взрыв актуализирует все факторы для появления полного негативного кармического эффекта. Факторы, определяющие кармический вес такого действия, — это намерение, которым мы руководствуемся; знание или осознание того, что мы делаем; само действие, выполненное лично или порученное кому-то; и наконец, состояние ума после завершения действия. В приступе гнева показатели всех этих факторов зашкаливают. Его вспышка приводит к тяжелым результатам: во-первых, возникает мотивация, худшая из возможных, — мы хотим кому-то навредить; во-вторых, мы знаем, что наше действие приведет к страданию, и подбираем наиболее болезненные средства; в-третьих, охотно и без промедления приступаем к реализации плана (расплющиваем человеку нос); в-четвертых, радуемся, когда «виновник» уже лежит в нокауте, и уверены, что так ему и надо. В случае действий, спровоцированных другими эмоциями, ситуация не содержит негативного четвертого компонента. Иногда у хорошей мотивации случаются промахи; нам не всегда хочется делать то, что мы делаем; нередко мы не знаем, что творим; а совершив какое-нибудь негативное действие, обычно не скачем от радости. Значит, кармический эффект негативной деятельности значительно слабее — срабатывают только три фактора. Поэтому стоит воздерживаться от гнева; по определению он указывает на то, что мы не владеем ситуацией, — отсюда появляется чувство, что нужно добавить немного дополнительной энергии с большей силой поражения. Злость — визитная карточка слабых людей, которые впадают в ярость, потому что не могут сделать того, что хотят.
Из истории о Будде следует еще один вывод — дорожным указателем для действия служит не жесткий моральный кодекс, а наивысшее счастье для наибольшего количества существ на самое длительное время. Это единственная точка отсчета, которая каждый раз требует от нас трезвой оценки ситуации и соответствующего действия, предполагающего, возможно, нарушение одного из десяти правил поведения. Кьеркегор верно заметил: судорожное цепляние за негибкий моральный кодекс освобождает от мышления и отнимает свободу — уже не нужно задумываться, что делать, потому что за нас решает список нравственных императивов. Но тогда сочувствие легко заменить равнодушным и бессмысленным исполнением правил. Буддизм хочет уберечься от этого, делая упор на разнообразие ситуаций: каждая отличается от других, а значит, является проверкой нашей мудрости и сочувствия; каждый раз по-новому взвешивая все за и против, мы действуем с перспективой внеличностного сочувствия, всегда направленного на сокращение страдания и увеличение счастья.
Поэтому буддизм вовсе не побуждает, к примеру, подставлять вторую щеку — это действие лишено сочувствия, с точки зрения кармы оно означает лишь, что мы позволяем кому-то делать глупости под влиянием злобы, а это приведет к чрезвычайно быстрому накоплению в его уме большого количества негативных впечатлений, которые созреют как его будущее страдание. Людей, которые хотят совершить что-нибудь глупое, нужно останавливать, и то, как мы это делаем, зависит от конкретной ситуации. Если мы заметили, что преступник в темной подворотне, настойчиво требующий у нас кошелек, не настроен на разговор о кармических последствиях запланированного им действия, а единственное, что он понимает, — это разбитый нос, то следует выслать ему это сообщение, раз он открыт только для такой информации. Главное — сделать это стоит только тогда, когда мы уверены, что действуем не из гнева, а из сочувствия. Сочувствие может принимать достаточно жесткие формы, если того требует происходящее; но чем более действенные средства хочется применить, тем лучше нужно осознавать ситуацию, ее последствия и собственную мотивацию. Такое осознавание появляется благодаря медитации, и если мы медитировали слишком мало, чтобы ясно видеть, что происходит, наши действия должны быть более мягкими — это соответствует старому правилу врачей primum non nocere[35].
Наши сегодняшние поступки — это наша прошлая реальность. Понимая это, мы получаем и большую свободу, потому что теперь начинаем сами решать, чему происходить. И все-таки мы накапливали карму со времен, не имеющих начала, и она дозревает сейчас в каждом очередном опыте. Пока не просветлены, мы всегда сталкиваемся с кармой, а значит, свобода, о которой сейчас идет речь, измеряется в сравнении с законом кармы. Куда мы ни пойдем, налево или направо, — всегда столкнемся с последствиями своих прошлых действий. В этом смысле кармы пока что избежать нельзя. Однако у нас есть некоторое пространство для свободы, потому что мы можем также решать, в какую сторону податься[36]. Чем больше мы знаем, чем больше способны предвидеть, тем больше вероятность, что мы выберем ситуацию, в которой созреет положительная карма. Пока негативная карма не начала созревать, нужно совсем чуть-чуть сообразительности, чтобы ее миновать, а полностью ее устраняет ориентированная на это буддийская медитация. С ходом буддийской практики количество трудностей сокращается, и естественным образом появляется все больше благоприятных обстоятельств.
С буддийской точки зрения ценность позитивной кармы заключается не в том, что она доставляет позитивные переживания; они преходящи, а следовательно, не могут служить постоянной точкой опоры. Ее ценность в том, что, оказавшись в хорошей ситуации, мы менее склонны причинять вред другим и делимся с ними добрым психологическим избытком, способствуя в меру возможностей увеличению счастья. Счастливый человек — тот, у кого есть, что предложить другим. Таким образом, оказывается, что хорошая карма имеет тенденцию к умножению, также стоит помнить, что подобная тенденция имеет место и в случае плохой кармы. Несчастливый человек — это, к сожалению, человек, который предлагает нечто совершенно непригодное для предложения.
Когда обстоятельства придавливают нас, обычно мы вынуждены сосредотачиваться только на борьбе за существование — жители пустыни, как правило, не занимаются, например, философией и не задаются вопросом о смысле жизни, потому что большую часть времени проводят в поисках воды. Только если жизнь становится настолько комфортабельной, что достаточно повернуть кран в ванной, появляется возможность задуматься над иной перспективой счастья, отличной от удобной ситуации в ванне с теплой водой, которая (и вода, и ситуация) должна когда-нибудь закончиться. И это еще одна причина, определяющая ценность позитивной кармы: в хороших условиях, которые являются ее плодом, в уме рождается столько расслабленности и пространства, что мы можем запросто начать думать о чем-то большем. Это нечто большее с буддийской точки зрения — узнавание природы ума (конечно же, для блага всех существ) или, если выразиться по-другому, свобода от кармы вообще, то есть свобода абсолютная, которой после ее достижения можно делиться с другими.
7. Пустота невыразимо полна, или О разнице между «рангтонг» и «шентонг»
Означенная пустота не является только лишь пустотой.
ТаранатхаО, буддийская философия! «Великие ты причинила пустоты в доме моем»[37]. Но я не собираюсь жаловаться по этому поводу. Совсем наоборот! Ибо сам дом (быть может, построенный из пустотелого кирпича) тоже должен быть большим, чтобы великие пустоты могли там поместиться. Во-первых, мы радуемся излишкам жилой площади. Во-вторых, речь не об одной пустоте, а о многих. Словно соглашаясь с поэтом, Чандракирти насчитывает в традиции Праджняпарамиты целых шестнадцать видов пустоты, и я вовсе не хочу вгонять вас в депрессию. В-третьих, пустоты великие. И это самое главное — у нас тут порядочный кусок пустоты, а не маленькие пустотки, которые настолько маленькие, что их вообще нет. Надеюсь, моя учительница по литературе простит такую интерпретацию. Стоит подчеркнуть затрагиваемые в этом стихотворении вопросы, потому что слишком часто пустоту ошибочно интерпретируют как небытие. А пустоте — вопреки обыденным ассоциациям — равно далеко до небытия, как и близко до полноты. Пустота — великое дело, и с этим согласны и буддийская философия, и польская поэзия.
В Тибете, где преобладают прекраснейшие горы, снег и пустота, последняя стала главным природным богатством, используемым для создания необычайной философии, которая извлекла все главные следствия из текстов авторства Асанги и Майтрейи, Манджушри и Нагарджуны, а также таких сутр, как Ланкаватара. Кристаллизации наиболее полной трактовки пустотности помог философский спор между тибетской буддийской школой, называемой Гелуг (главой которой является Далай-лама), и школой Карма Кагью (которую возглавляет Кармапа)[38]. Если кто-то называет себя «гелугпа», что означает «добродетельный», он наверняка может иметь больше склонностей к суровой дисциплине (монастыри Гелуг славятся этим) и к ортодоксальной трактовке пустоты, особенно когда главной практикой становится изучение текстов и ведение дебатов, а не медитация. Если же, наоборот, упор делается на медитативный опыт, который благодаря глубокому пониманию философии с течением времени становится более спонтанным, то и трактовка пустоты окажется гораздо менее профессорской и намного более радостной. Эти два подхода назвали соответственно рангтонг и шентонг.
Рангтонг дословно означает «лишенный самого себя» в смысле отсутствия сути, которая гарантировала бы существование. Этот подход нам уже знаком по беседам о столе с отломанными ножками. Но вы наверняка согласитесь, он суров и язвителен, особенно если мы ранее принимали крайне реалистичное отношение к миру, а буддийская философия должна была послужить противоядием этому. Если мы верим в абсолютную реальность вещей, то, даже соглашаясь с простой буддийской логикой и признавая, что невозможно найти сущность, мы испытываем неудовлетворенность, разочарование и ностальгию по реальности вещей. Мы сожалеем об отсутствии их честной сути, которую предполагали раньше. Тут очень подойдет понимание пустоты в соответствии с взглядом шентонг, благодаря которому оказывается, что мы не только не потеряли, а наоборот, нашли, и к тому же очень многое. Вместо того чтобы сокрушаться из-за утраты сущности вещи, которой вовсе никогда и не было, теперь можно радоваться реальности более богатой и многообразной. Она уже не ограничена внутренней сердцевиной, настойчиво заставляющей вещи постоянно быть одним и тем же. С этих пор ничто уже не будет таким же самым — пустота становится лекарством от скуки. Как же? А вот так:
Давайте посмотрим на явление с двух упомянутых перспектив. Вот это явление.
Кажется, это старая, скучная буква М, но именно так не позволяет ее представить ни позиция рангтонг, ни позиция шентонг. Начнем с точки зрения рангтонг и спросим в ее рамках, можем ли мы быть уверены, что это М. Если перевернуть книгу вверх ногами, окажется, что это W. Может быть, на самом деле я написал перевернутое W, а не М. Если бы эта вещь обладала сущностью, например, эмовостью, то благодаря своей внутренней детерминации всегда представала бы как М, перевернутая или не перевернутая. Никто бы сомнений не испытывал. Если же в явлении мы не можем найти ни эмовость, ни дубльвэвость, скорее всего, оно их лишено. Само в себе это ни М, ни W, оно становится ими в зависимости от положения книги. И все же жаль, что это не М, ведь на М начинается много милых слов, — скажет кто-то, расстроившись. Вместе с констатацией отсутствия сущности мы потеряли главное в этой вещи, а впоследствии и саму вещь, которая кажется теперь лишь туманным, неопределенным явлением — не то М, не то W. Эта вещь теперь — рангтонг, то есть пуста в том смысле, что лишена самой себя. Конечно, теперь мы можем внушать себе, что от нас ничего не зависело, но сейчас мы знаем, почему уже не важно, и никогда больше… Но наверняка останется чувство неудовлетворенности (как после покупки столоподобного товара), особенно если наш ум склонен к развлечениям и просто любит радоваться богатству мира. Суммируя, рангтонг означает фундаментальное отсутствие чего-то самого главного в вещи, ее сущности, делающей из нее вещь. Поэтому можно также сказать, что вещь сама себя (тиб. ранг) лишена, или пуста (тиб. тонг).
А теперь точка зрения шентонг.
Мы не только можем перевернуть книгу вверх ногами, но и повернуть против часовой стрелки на 90 градусов. Теперь это ни М, ни W, а греческая буква сигма — ∑. И теперь мы не огорчимся, что это не М само в себе, потому что, во-первых, это явление очень хорошо выступает в роли М, несмотря на то, что в нем нет эмовости, а во-вторых, именно поэтому может выступить также и в роли W, и именно поэтому может выступить в роли сигмы. Вместо одной вещи с сущностью у нас есть целых три вещи, правда, без сущности, но математика неумолима: 3 больше, чем 1. Именно потому, что явление не существует детерминированным изнутри, оно может быть настолько многообразным. Либо даже еще более многообразным, потому что если на М смотрит неграмотный, он увидит только четыре черточки, а другой неграмотный увидит две сломанные палочки, а для третьего это будет одна длинная черта, согнутая на четыре и т. д. А потому и грамотные, и неучи могут ругаться, и даже не только в собственных кругах — спор может возникнуть даже между обеими фракциями. Это метафизический спор, возникающий из-за попытки ответить на вопрос «Что это такое?», который, во-первых, предполагает какую-то вещь, а во-вторых, еще и ее существование. Более того, к примеру, художник — не важно, как у него с чтением, — когда смотрит на М, может увидеть модерновый шедевр с необычной композицией направленного напряжения. Математик-извращенец в свою очередь увидит в М две целующиеся единички (признаюсь, это наиболее интересная опция, хотя такая же ненадежная, как предыдущие). Что же это такое
Не слишком ли сложно? Может, просто пятно чернил на бумаге? Но я не соглашусь на простую интерпретацию — когда я писал М (в какой там уже раз), то имел в виду не зачерненное поле в такой форме, а как раз белое поле вокруг, на которое вы не обратили внимание. Речь идет не о контуре, а о том, что он означает, не смотрите вообще на чернила, смотрите на то, что вокруг них. Когда вы видите черное М на экране своего компьютера, можете ли вы, положа руку на сердце, признать, что видите именно М, а не что-то иное? Ведь пиксели, складывающиеся в эту форму, как раз и не светятся, свет от них не доходит до глаза, который видит белый свет, исходящий от остальных светящихся пикселей. То есть, мы видим то, чего нет?
Если вам еще не наскучило, и вы все еще хотите осилить злосчастную пластичность простого, казалось бы, явления, задавая вопрос «Что это такое?», обратите, пожалуйста, внимание, что уже постановка вопроса указывает на поражение, потому что это ограничивающий вопрос. Ограничивающий что? Еще один плохой вопрос, потому что дело вовсе не в каких-то «что», хотя нам будет все труднее говорить об этом, или лучше сказать «об этом» в кавычках. Приглядимся к вопросу еще раз с самого начала.
Когда наш взгляд упал на
у нас было переживание этого
Сильная привычка ума приказывает нам сразу же замкнуть переживание в некоторых рамках. Например, в форме буквы М нашего алфавита. Если такое замыкание произошло, мы автоматически исключаем возможность, что это перевернутое W. Правда, через минуту мы понимаем — это может быть перевернутое W, но даже тогда, решив считать это явление образованием, одновременно являющимся и М, и W, мы автоматически исключили сигму и другие возможности, о которых уже упоминали. Значит, каждая минута восприятия или осознавания на самом деле является осознаванием чего-то, но это что-то — ограничение потенциала, временно назовем его первичным, который мог бы выступать как буква того или иного алфавита, как композиция из черточек, неприличная цифра и т. д. Следовательно, под всяческими определениями скрывается не столько нечто, сколько «нечто» в кавычках, что может оказаться произвольным нечто, к которому хотел бы привести наш ум. Произвольным нечто оно может быть как раз потому, что само не является никаким нечто, а обгоняет и создает возможность для нечто. Первичный потенциал в нашем опыте всегда остается ограниченным до определенной вещи, а его богатство сокращается до одной-единственной опции. Если М, то уже не W, если сигма, то уже не М и т. д. Подспудно мы чувствуем что-то или скорее «что-то», что больше, чем просто М или просто W, или другие перечисленные варианты. Это «что-то» само в себе не является, скажем, М, но не является не только потому, что лишено эмовости (рангтонг), но и потому, что оно значительно богаче всякой эмовости, оно в значительной мере большее «что-то». Воззрение рангтонг гласило, что М пусто — лишено М, провозглашало отсутствие сущности, и на этом все закончилось. Воззрение шентонг говорит, что М пусто — лишено М, потому что мы имеем дело не с отсутствием чего-то, а со сверхполнотой, которую фактически чрезмерно исполняет отсутствие сущности и которую наш повседневный ум всегда сокращает до одной опции. Пустота в значении шентонг невыразимо полна, невыразимо, потому что выразить все богатство словами невозможно, ибо сами они являются ограничением до какой-то одной опции. Первичное богатство само в себе, с которым мы контактируем в нашем ограниченном способе восприятия, не является само в себе ни М, ни сигмой, ни чем-либо иным. М и сигма, как ограничения, являются чем-то иным (тиб. шен), чем богатство само в себе, и именно потому это богатство называется шентонг, то есть пустое в смысле «лишенное чего-то иного», лишенное того, что им самим не является. Именно поэтому пустота в понимании шентонг уже не может вызвать грусти, возникающей из-за утраты чего-то самого важного. Ведь самое важное как раз осталось, но это однозначно является не сущностью вещи, а богатством, кипящим возможностями. То, что отпало, — не столько сущность вещи (ведь ее и так никогда не было), а все иное (тиб. шен), что не было тем, чем явление является в самой глубинной глубине. Взгляд рангтонг говорит, что вещи не обладают сущностью, а взгляд шентонг восполняет это воззрение, убеждая, что отсутствие прежде всего является отсутствием внутреннего ограничения, что выявляет еще более глубокое, чем сущность, первичное богатство происходящего явления.
Поэтому можно сказать, что взгляд шентонг охватывает взгляд рангтонг и идет дальше. Пустота с отсутствием сущности — не просто пустота, не полная пустота. Это пустота (тонг) с добавлением «чего-то» иного (шен), чем является первичное богатство, делающее каждое явление пластичным.
Богатство + Пустота сущности = Шентонг.
Это первый способ понимания термина шентонг, который возможно выразить и таким уравнением.
Богатство явления — Предполагаемая сущность = Шентонг.
Термин шентонг можно рассмотреть по-другому, так, как мы уже намекали. Тогда пустота понимается как отсутствие всяких ограничений, в которые пытаются втиснуть явление, возникающее во всем своем богатстве. Пустота (тонг) здесь является отсутствием иного (шен), то есть отсутствием того, что не принадлежит явлению в самом глубоком его пласте.
Шентонг = Пустота как богатство явления — Все иное, что должно его ограничить.
Это второй способ понимания термина шентонг. А чем является ограничивающее иное? Тем, что тибетцы называли кунтаг, то есть полностью интеллектуальным, понятийным пониманием; мы можем называть его этикеткой или наклейкой, которую непросветленный ум накидывает на воспринимаемую реальность. Вернувшись к нашему
можно легко отследить наклейки и механизм их проецирования.
Почему же тогда во внешнем явлении мы видим, например, букву М? Почему так происходит? По чьей воле наше восприятие этого явления приобретает вид буквы М? Решает это содержимое жесткого диска нашего ума. С детства зная алфавит, мы видим сейчас одну из его букв. Если бы нам не посчастливилось попасть в школу или, что еще интереснее, мы оказались бы в китайской школе, то восприняли бы нечто иное — несколько черточек либо просто каракули (к тому же империалистические). Следовательно, при восприятии внешней реальности важнейшую роль играет внутренняя составляющая ума — если мы знаем алфавит, то видим букву М. Именно в этот момент напрашивается странный, но обоснованный вопрос: является ли то, что мы воспринимаем как внешнее, действительно внешним? На самом ли деле М перед нами — внешнее явление или проявляющийся вовне наш, так сказать, внутренний ум? Не похоже ли это, по сути, на мираж в пустыне, когда ум так переполнен мыслями о воде, что начинает ее видеть? Или на случай, когда мы так внимательно кого-то ждем, что каждый второй прохожий кажется именно тем человеком? Сколько мы видим перед собой М, столько мы смотрим на собственный ум, а точнее, на его внешнюю проекцию, его этикетку, которую он приклеил на переживание и явление и за которой явление тут же скрылось.
Непросветленный ум постоянно пытается ограничить воспринимаемое, натянуть на него свою проекцию, как носок на ногу. Сначала он пробует наложить накладку буквы М, но теперь мы знаем, что это накладка. Выкидываем ее и пробуем дальше. Если не М, то что? Четыре черточки. Но ведь и это накладка. Выкидываем. Что теперь? Пятно чернил. И это накладка, ее тоже можно откинуть. Если бы мы сумели встретиться с реальностью без всяких заслоняющих ее накладок, то увидели бы ее свободной от того, что на нее наклеивает непросветленный ум, увидели бы ее пустой (тонг), то есть лишенной всяких проекций, иных для нее (шен). А потому
Шентонг = Пустота как избавление от проекции.
* * *
Теперь попробуем сделать еще один шаг в понимании пустоты и соединим эту интерпретацию, приобретая понимание пустоты как полноты. Вот воспринимаемое явление
кажется столь пластичным (потому что выступает в произвольной форме М, W, сигмы и т. д.), следовательно, богато само в себе, что происходит в уме, потому что ведь это ум задает все его формы. Но в конечном итоге нет разницы между его динамичной пустотой и использованием этой пустоты умом. Это
мы сначала разбирали как чрезвычайно полную пустоту, а потом как богатство ума, который формирует это богатство в соответствии со своим содержанием. Первое объяснение проводилось со стороны явления, еще трактуемого как внешнее. Второе — со стороны воспринимающего субъекта. Оба объяснения встретились как раз в
Оно является невыразимо полной пустотой не больше, чем необычайно богатым умом. Пустота — вовсе не что-то, что сидит, спрятавшись под накладками, в которые ее пробовал замкнуть ум. Само слово накладка — здесь я наконец могу это признать — ошибочно. Ничто никуда не накладывается. Наш ум не встречает сначала некую внешнюю пустоту, на которую натягивает свои проекции, как носки. Мы отказываемся от носков, о которых говорили ранее, но отказываемся только сейчас, когда уже их поносили. Пустоту и работающий ум мы встречаем именно в том месте, в котором они неразделимы друг от друга. Без
мы бы не открыли пустоты и не открыли бы ума (притворяющегося внешним явлением). И ум, и пустота присутствуют в один и тот же момент в одной и той же точке восприятия. Обычно, объясняя переживание, мы начинаем с воспринимающего (субъект) и воспринимаемого (объект). Встречу двух этих факторов мы называем собственно переживанием или восприятием. Давайте попробуем, однако, по-другому. Начнем с переживания, из которого мы теперь можем абстрагировать восприятие предмета и сам предмет. Их нераздельность в свете приведенных выше выводов нас уже не должна удивлять. Наше
могло быть буквой алфавита только тогда, когда воспринималось как буква. Ее не могло быть самой в себе, поскольку объект лишен независимой постоянной сущности. Восприятие ее не является суммой пустоты и ума. А если ум и пустота неразделимы, то сейчас уже никто не отважится утверждать, что пустота — это только пустота и ничто иное. Пустота — это и пустота (тонг), и что-то иное (шен), что является ее сознанием или умом, позволяющим воспринимать создаваемые в ней явления.
Шентонг = Пустота + Сознание (способность воспринимать).
И это третье понимание термина шентонг. Реальность — пустое, динамичное явление, воспринимаемое умом. Ум пуст, потому что он не вещь[39], но обладает способностью воспринимать спонтанно создаваемые явления. Фактически мир снова оказывается умом. Наш ум не заканчивается на внутреннем своде черепа или под ребрами, но окружает нас везде! Это ум вместе со снящимся ему миром. И это вовсе не какая-то страшная истина, как казалось некоторым. Буддийская философия не отняла у нас мир. Ведь ничего не изменилось. Мир был умом и раньше, до того, как мы догадались, что он является конструкцией нашего ума. Все такое же, как прежде, только теперь мы знаем немножко больше о статусе мира, и к тому же поняли, насколько богат ум, который теперь уже открыто выступает в роли мира. Разве это не радостное известие? Достаточно посмотреть по сторонам, и вся та разнородность, которую мы видим, будет подтверждением необычайной силы, неограниченности и богатства нашего ума. Информация, что мир есть ум, — это вовсе не путь к депрессии бедняги, потерявшего все; как раз наоборот — это новость, укрепляющая в нас чувство собственного достоинства, а значит, оптимистичная. Трудно вообразить человека богаче, чем тот, кто знает, что мир — это ум. Буддийская философия не хочет лишить нас мира, заменяя его нереальной сказкой. Вовсе нет. Она, во-первых, показывает, насколько богат ум, который в совершенстве справляется с творением мира без помощи внешнего бога (можно ли тогда буддизм вообще назвать религией?). Во-вторых, она дает нам больше свободы от проблем и ограничений, казавшихся раньше такими реальными. А в-третьих, она дарит уверенность, ибо такой облегченный спектакль, каким теперь предстает реальность, более похожая на сон, чем на явь, легче поддается нашему вмешательству. Значительно проще формировать реальность и играть ею, когда она сильно связана с умом и не воспринимается отдельным независимым бытием, которое расположено где-то и в которое не так-то просто вмешаться. Согласно буддийскому взгляду, мы прекраснее, чем полагаем, у нас так много свободы, что радости избежать не удастся.
Воззрения рангтонг и шентонг в конечном итоге оказываются единодушными, потому что в обоих случаях вещи не имеют своей сути в смысле учреждающего их существование бытия. Но они — выражение разных темпераментов. Взгляд рангтонг соответствует уму, любящему держать дистанцию по отношению к явлениям, которыми он излишне не занимает себя, принимая их пустотность в смысле отсутствия фундаментального приданого. Взгляд шентонг подойдет уму, любящему играть с явлениями. Именно богатство пустоты будет совершенным оправданием лишенного серьезности отношения к ним, как и поводом, и стимулом для забавы. Ведь как можно серьезно смотреть на мир, если он не обладает сущностью, а значит, является сном, в который так легко вмешаться? В дополнение ко всему, в приснившемся мире трудно что-нибудь испортить — он же сон. Мир, как ум, пуст, но он происходит и происходит, хотя и пустой. А потому — гуляй душа! Или точнее, я хотел сказать, гуляй ум!
8. Пора на поезд, или О вневременном сознании
В соответствии с традицией этих учений, осуществление происходит здесь и сейчас. Также нужно понимать, что три времени не отдельны друг от друга, а едины.
Кармапа IX Вангчуг ДорджеСтоит на станции локомотив, за ним вагоны, в них купе, а в одном из них — мы. Сидим в стоящем на станции поезде и, глядя в окошко купе, видим на противоположной стороне перрона другой поезд, который тоже ждет сигнала к отправлению. Раздается свисток, наш поезд трогается, очень медленно, как вялая черепаха, а мы через окно сонно наблюдаем, как проскакивают очередные окна и вагоны стоящего напротив поезда. Но вдруг мы смотрим через дверь купе в окно коридора и понимаем, что обманулись: это не наш поезд тронулся, а соседний, а нам показалось, что едем мы. Ошибка обнаружилась, когда мы взглянули в другое окно. Пусть это железнодорожное воспоминание, наверняка имеющееся у каждого, послужит вступлением к обсуждению одного из самых фундаментальных для буддийской философии вопросов: какова так называемая природа Будды.
Открытие в себе чего-то, что сопротивляется ходу времени, которому не умеет сопротивляться тело, было бы необычайной удачей. Эта обладающая вечной гарантией находка называется природой Будды, которая должна быть в каждом сознающем и воспринимающем существе. Однако слово «вечный» сегодня анахронично и неприемлемо — кажется, будто наша недолгая жизнь прежде всего подтверждает существование времени. На вечность сегодня просто нет времени. Посему мы либо вовсе его не ищем (наиболее частый случай), либо, забывая, что темнее всего под фонарем, ищем далеко или на затуманенных территориях, куда нас отсылают волнующие и едва уловимые философские понятия вроде трансценденции.
Не забираясь в философские дебри, посмотрим на наше повседневное восприятие, на все его секунды по очереди, на самые маленькие фрагменты нашего опыта с момента рождения до настоящего: есть ли в них что-либо постоянное, что никогда не изменялось, не прекращалось все время, отделяя настоящий момент от нашего первого мгновения, более или менее дальнего? Получится ли в каждой минуте непрерывного восприятия, то есть жизни, найти элемент, не подверженный изменениям с ходом времени? Есть ли во всем, что мы видим, нечто, остающееся тем же самым, неизменным, несмотря на убегающие секунды? На первый взгляд кажется, что все всегда меняется: тело медленно, хотя и заметно, эволюционирует; значительно быстрее сменяют друг друга мысли и чувства, настроения и мечты, убеждения и предпочтения; еще быстрее преображаются картинки перед глазами, едва мы переводим взгляд или опускаем и поднимаем веки, еще стремительнее теснятся звуки, долетающие до нашего слуха. Собственно, это один огромный поток непостоянства. Правда, в нем есть малюсенький компонент, всегда один и тот же, идентичный каждую секунду, настолько очевидный, банальный и мелкий, что вовсе не привлекает внимания. Тибетцы не говорили, что темнее всего под фонарем; они утверждали, что трудно увидеть собственные ресницы, ведь они так близко. О каком же постоянном элементе идет речь? Об элементе сознания. Каждой секунде переживания каждой его составляющей сопутствовал акт поддержания сознания, акт осознавания, который позволял воспринимать все происходящее. Мы можем воспринимать, лишь имея сознание; иначе о восприятии вообще не могло бы быть и речи, потому что оно всегда предполагает воспринимающее сознание, всегда участвует в осознавании. Именно этот банальный, казалось бы, факт осознавания остается одним и тем же в каждом переживании. Мы наблюдаем, когда видение уже является частью сознания; чувствуем, когда ощущение является частью сознания; мышление тоже не происходит без участия сознания. Таким образом, в потоке изменяющихся впечатлений, удержать которые мы не способны, присутствует один неизменный компонент — способность осознавать. Компонент осознанности в переживании, хотя мы его и не заметили сразу, на самом деле очень значителен. Он больше, чем мы привыкли считать, потому что без этой способности отдавать себе отчет в происходящем не было бы ни мыслей, ни чувств, ни мечтаний, ни наблюдений — мы просто не смогли бы их осознать. Без акта поддержания сознания мы не смогли бы даже выявить, что мы — это мы, а значит, не смогли бы создать чувство собственной идентичности, которая опережает всякий опыт и заставляет думать о себе так охотно. Можно представить наше переживание без массы впечатлений, мыслей или чувств, потому что у каждого из них есть целые сонмы заместителей. Но нельзя представить себе переживания без способности осознавать, или без осознавания.
Пусть купе железнодорожного вагона, в котором мы сидим, будет нашим сознанием. Мы смотрим через окно, то есть воспринимаем мир. Окно купе, как и оно само, не двигается — меняются только бегущие за ним образы. Так и наше сознание не изменяется и не двигается — меняется только появляющееся в нем содержимое. Поезд никуда не едет, а иллюзию движения вызвали картинки, движущиеся за окном. Так и наше сознание не перемещается во времени; иллюзия времени, в котором мы якобы путешествуем и исчезаем, появляется из-за меняющегося содержимого сознания. Наше сознание не длится во времени — это время разыгрывается в нем. Время в нем, но для него самого времени нет! Время не обгоняет сознание и не охватывает его; следовательно, оно не может включить его в собрание изменчивых вещей, которые появляются, продолжаются и исчезают. Сознание, как условие временной игры, само вне времени. Именно поэтому — устоявшее перед разрушающим действием времени — оно может оставаться таким же и тем же.
Не важно, какая картинка появляется в окне, — это всегда будет то же самое окно в том же самом купе. Не важно, что мы осознаем и что воспринимаем, — сам акт осознавания будет таким же, а значит, и тем же самым, потому что в два последовательных мгновения переживания в нем нет ничего, что бы изменилось. Если в два момента переживания акты осознавания идентичны, то они являются одним и тем же актом осознавания, а эти два последовательных мгновения переживания являются двумя моментами одного и того же акта, включающего их в себя. То, что осознается, происходит в том же самом сознании и обрабатывается тем же самым актом осознавания. Оконная рама остается рамой для разных появляющихся образов. Наше сознание остается рамкой для разных переживаний, осознаваемых им.
То, как воспринимает сознание, можно, согласно буддийской философии, вкратце назвать «здесь и сейчас». Банальный, но фундаментальный факт — то, что осознается, происходит здесь, именно в этом, а не в каком-то другом сознании, и именно сейчас, ни раньше, ни позже. «Раньше» сознание тоже воспринимало что-то здесь и сейчас; «позже» сознание так же будет что-то воспринимать здесь и сейчас; воспоминания, хотя и касаются прошлого, разыгрываются здесь и сейчас; подобное же происходит с планами на будущее. Следовательно, в прошлом, настоящем и будущем сознание функционирует всегда идентично, все воспринимая здесь и сейчас. Здесь и сейчас — один и тот же акт сознания, охватывающий прошлое, настоящее и будущее; это не здесь и сейчас в настоящем, это вечное здесь и сейчас, потому что в каждый момент прошлого, настоящего и будущего, в каждое мгновение трех времен, как сказали бы буддийские философы, это неизменный способ восприятия, неподвижный и вневременный. С самого рождения до настоящей минуты здесь и сейчас сознание не изменилось ни на йоту — это один и тот же акт, растянувшийся на целую жизнь, включающий каждое единичное восприятие и придающий вкус постоянно присутствующей способности осознавать, делающей все возможным. Изменялось только то, что воспринималось здесь и сейчас, и из-за этой изменчивости родилась иллюзия времени, которое должно включать в себя и нас. Здесь и сейчас всегда то же самое здесь и сейчас, оно не переходит в практически идентичное, но очередное, а значит, другое здесь и сейчас. Здесь не может стать другим, очередным здесь, потому что оно здесь и нигде больше. Здесь не выходит из себя и не становится рядом, как следующее здесь. Точно так же сейчас не может стать очередным сейчас, потому что сейчас как сейчас не может перестать быть тем же самым сейчас — в какой момент сейчас должно перейти в следующее сейчас? Совершенно бессмысленно, чтобы сейчас вдруг стало очередным сейчас, потому что это означало бы, что именно в этот момент сейчас уже не является тем же сейчас, оно уже другое сейчас. Если здесь и сейчас, то навсегда и вне времени.
Сознание стоит на месте, как поезд на станции, а здесь и сейчас — окно, через которое мы смотрим; изменяются только появляющиеся в нем образы. Чем больше мы сосредотачиваемся на образах, тем больше время и его печальные последствия касаются нас. Чем больше мы сосредотачиваемся на самом факте осознания образов, тем больше с временного переходим на вечное (парамита), которое является ничем иным, как сознанием здесь и сейчас — в этом цель буддийской медитации.
Как время могло бы существовать? Его кажущаяся реальность не является реальным доводом: то, что кажется, — только кажется. Если бы время складывалось, например, из минут, оно состояло бы из огромного их количества, которые уже были, а сейчас их нет; из большого количества минут, которых еще нет, потому что это вопрос будущего; и из одного мгновения в настоящем, которое трудно ухватить, — потому что где оно начинается? Сейчас? И где кончится? Тоже сейчас? К тому же, если настоящее — это точка времени, находящаяся между прошлым и будущим, то непросто найти точку, находящуюся между двумя частями, которых уже и еще нет. В дополнение ко всему настоящее из перспективы прошлого является будущим, а из перспективы будущего является прошлым. Так есть настоящее или нет, ведь оно преходяще? Время, состоящее из трех частей, которых нет, — эвфемизм — не слишком реально. Стоит ли им заниматься? Времени нет, потому что это лишь непросветленный способ восприятия.
Непросветленное восприятие — удел сознания, которое, как видно, само в себе вне времени. С перспективы его вечности вопрос, как все началось, каково начало так называемой сансары или нашего непросветленного способа переживания, не имеет смысла. Он настолько же неуместен, как вопрос, на каком заводе собрали автомобиль, который нам снится. Есть только вечное сознание, переживающее вечно изменяющиеся содержания. Какое тут может быть начало?
Проще говоря, сознание — это то, что смотрит нашими глазами и слышит нашими ушами (разве что после чересчур интенсивной вечеринки у нас стало все наоборот). Сознание, всматривающееся во внешний мир либо во внутренний мир мыслей и чувств, словно пассажир, выглядывающий через окно поезда, никогда не смотрит на себя. Чтобы глаз увидел себя, необходимо зеркало, и его функции выполняет буддийская медитация. Она позволяет сознанию увидеть себя, позволяет оглянуться на купе в поезде, который никогда не отъедет от станции Здесь и Сейчас. Медитация позволяет сознанию оторваться от того, на что оно до сих пор смотрело, и взглянуть на себя. Сознание, осознающее не внешние изменяющиеся предметы или внутренние преходящие состояния, а самое себя, обретает переживание, качественно отличающееся от всего, пережитого до сих пор. Оно осознает, не осознавая ничего конкретного; осознает, даже если нет никаких форм, никакого предмета, который оно могло бы осознавать, — потому что заключено только в вечном акте здесь и сейчас. Если его объект сознания не изменится, время останавливается, перестает течь, потому что не происходит изменения предмета, которое вызывало иллюзию времени. Сознание и то, что оно осознает, суть единое и неразделимое целое. Объект (то есть сознание), субъект (то есть сознание) и действие, каким является узнавание первого вторым (то есть сознание), неотличимы друг от друга; они являются единством, лишенным какого-либо разделения. Это самый истинный момент восприятия, в котором наконец поймано что-то, что не изменяется, то есть момент вечности. Тогда можно сказать только знаменитое «Остановись, мгновенье!» не только потому, что оно так прекрасно, но и потому, что в этом переживании нет времени, а следовательно, постоянство и неизменность в данном случае — естественное состояние, очевидное для сознания; оно все-исполняющее, потому что непреходящее.
Во всем этом есть только одна закавыка, а именно, что сознание — не вещь. Наше сознание до сих пор смотрело только на вещи, только на объекты, которые могло осознавать. Ему трудно научиться и привыкнуть смотреть на что-то, что объектом не является. Само сознание не представляет собой подобный объект, потому что оно — лишь акт осознавания, и этот факт не облегчает наблюдение за ним. Поэтому, глядя внутрь себя, мы не находим никого, хотя у нас и остается сильное и справедливое впечатление, что там есть кто-то воспринимающий. Нелегко заметить что-то, что является не кем-то или чем-то, а только чистым сознанием, способностью к осознаванию, а не объектом типа мысли или образа, бывшим до сих пор всем, что наше сознание видело. Ознакомление с собственным сознанием требует тренировки, называемой медитацией. Тренировка позволяет освоиться с сознанием, или просто с природой Будды, говоря классическим языком. Именно потому, что каждое существо имеет сознание — способность переживать и воспринимать, все обладают природой Будды, как ее называют классические буддийские тексты.
Чтобы приблизить неуловимое, хотя и постоянно присутствующее сознание, или природу Будды, буддийская философия часто сравнивает его с пространством, и трудно представить себе лучший пример. Обычно мы недооцениваем пространство, воспринимая его как пустую территорию, окружающую предметы. Оно кажется нам менее реальным и важным, чем они. Но все как раз наоборот. Мы можем вообразить пространство без предметов, но трудно представить себе вещи без пространства. Во-первых, у них должно быть место, в котором они могли бы появиться, а во-вторых, пространство не только их окружает и дает место, но и буквально пронизывает их, предметы чуть ли не созданы в нем. Если вы с этим не согласны, попробуйте представить стол без пространства, то есть представьте себе стол без длины, ширины и высоты. Пространство вплетено в предметы значительно сильнее, чем кажется на первый взгляд. Хуже того или, точнее, лучше, пространство проникает и делает возможными даже непространственные (sic![40]): мысли и чувства, которые не обладают длиной, высотой и шириной, но размещаются у нас внутри, — не шастают по комнате, а крутятся в голове, то есть в пространстве, которое является местом, где они происходят, и без которого мы вообще не смогли бы их иметь и чувствовать. Удастся ли нам оторвать мысли и чувства от того осознающего пространства, в котором они происходят?
Так мы незаметно переходим от пространства к сознанию, что в философии совершенно естественно, а сознание охватывает и так называемый внешний мир[41]. Ведь где же он осознается, как не в пространстве нашего сознания? Имели бы мы без сознания вообще какое-нибудь понятие о нем и какое-либо его восприятие? Не является ли внешнее таковым лишь потому, что его осознает некое сознание в качестве внешнего? Ум — куда ни глянь! Это осознающее пространство буддийская философия называет пространством явлений, открытостью, в которой появляются все переживания, ведущие к разделению на объект и субъект, на нас самих и окружающий мир. Само разделение оказывается иллюзорным — чем больше мы изучали внешний мир и субъект, называемый «я», тем труднее было их отыскать, и единственное, что осталось в конце, — это пространственное, внеличностное сознание, охватывающее как наши представления о нас самих, так и условный внешний мир, от которого сознание невозможно оторвать. Путь открытия внеличностного сознания — это отказ от нескольких закостеневших представлений, касающихся воспринимаемого нами мира и того, кто его воспринимает. Обычно европейский ум возмущается, услышав, что нужно отбросить или растворить что-то, что кажется сущностно важным, а именно наше драгоценное эго. Но с точки зрения буддизма это лучший бизнес, какой только можно вообразить: мы отдаем то, чего никогда не было, — наше иллюзорное «я», а взамен получаем все: вневременное, всеохватывающее сознание, которое делает все возможным, в котором всегда разыгрывался сон с главным героем, то есть с нами, и с окружающим миром (иногда выступающим в роли гонящегося за нами тигра). Когда всеохватывающее сознание будет распознано, сну вовсе не нужно прекращаться, но он перестает вводить в заблуждение, потому что и он распознается как сон. Мы ничего не теряем, а находим значительно больше: абсолютную свободу от всяких приснившихся образов нас самих и мира.
В повседневном переживании мы постоянно пользуемся буддийским абсолютом, даже не зная об этом, несмотря на то, что именно наличие чистого основополагающего сознания делает возможным любое восприятие. Поэтому в Тибете говорят, что природа Будды — это точка выхода буддийской практики, цель которой — действительное распознавание абсолюта, постоянно присутствующего в нашем восприятии. Метод выполнения этого открытия — направить сознание на него самого, и это происходит во время каждой медитации. Это можно делать и в повседневной жизни, если стараться осознавать не только происходящее, но и сам факт, что мы это осознаем. Ибо только осознание, что мы осознаем, может привести к распознанию природы Будды, которая и является сознанием, сознающим себя, без разделения на то, что осознает, и то, что осознается. Таким образом, медитация распространяется и на повседневную жизнь, каждый миг которой становится шагом к распознанию природы Будды. Поэтому метод распознания природы Будды заключается в постоянных попытках покоиться в этой природе. В конечном итоге природа Будды — это основа буддийского пути, его метод и цель одновременно. Ведь мы начинаем и заканчиваем всегда тут, где мы есть, именно здесь и сейчас. Поезду вовсе не нужно никуда отъезжать, потому что эта станция конечная.
9. Главенство головного мозга, или Проблемы с секрецией
Одно лишь то, что ум и тело предстают одновременно, не гарантирует, что они являются основой и тем, что на ней основано.
Кармапа VII Чёдраг ГьямцоКажется, против буддийской философии, дающей сознанию такие привилегии, что оно превращается в целый мир, выступает простой факт, вроде бы обоснованный современной наукой, — сознание образуется в мозге. Так склонны считать некоторые. Этот важный вопрос обсуждался буддийской философией несколько веков назад в споре с материализмом, согласно которому материя порождает сознание. Некоторые из представленных аргументов до сих пор сохранили силу.
На протяжении истории Европа училась все больше ценить мозг. Поначалу он отвечал за облысение. Как утверждал Аристотель, «таким образом, принимая в соображение, что, если сам мозг содержит мало тепла, то покрывающая его кожа по необходимости содержит тепла меньше, и еще меньше — волосы, поскольку они отстоят от него дальше всего, — понятным становится, что у кого имеется семя, те лысеют именно в этом возрасте. По этой же причине лысеет только передняя часть головы и из всех животных только у человека: передняя часть потому, что здесь помещается мозг; из всех животных лысеет только человек, потому что он имеет наибольший и наиболее влажный мозг. Женщины не лысеют, так как по своей природе сходны с детьми: и те и другие не производят выделения семени. И евнух не становится лысым, так как он превращается в женщину»[42]. Я опущу рассуждения о женской природе, продемонстрированные древним мыслителем, как и галантные высказывания европейских женоненавистников (я хотел сказать философов). Важна информация, что мозг прежде всего несет ответственность за облысение, а это происходит потому, что «из всех частей [тела] мозг самый холодный»[43]. Определенные недостатки в теории отца европейской философии и логики со временем были ликвидированы. Много веков спустя Картезий закрепляет за мозгом более значительную роль, признавая, что мозг обеспечивает связь тела с душой при помощи шишковидной железы, которая и является соединителем между двумя гетерогенными сферами. Роль мозга постепенно эволюционирует от внутричерепного холодильника через соединительное звено с духовным миром до творца сознания, как о нем говорят в XX веке. Ученые, по счастью, не все, показывают картинки сечения мозга, сделанные суперсовременными томографами, сканерами и т. д., регистрирующими мозговую активность, которая на этих фотографиях отображается в виде цветных пятен в разных частях мозга. Указывая на пятна, они уверенно заявляют: «Это сознание!» Наконец-то все выяснилось: сознание — это избыток розового в передней доле мозга.
Так сознание становится выделением мозга, а он сам — железой внутренней секреции. Происходит физиологизация сознания — оно становится просто результатом физиологии тела. Но в этот момент ситуация перестает быть розовой, как на сечении мозга с томографа, а последствия такого подхода заводят слишком далеко, о чем редко думают поборники этого положения.
Однако, прежде чем мы займемся упомянутыми последствиями, давайте посмотрим, как так получилось, что мозг производит сознание. Итак, у нас есть предположение, что электрохимическая реакция в определенный момент превращается в процесс сознания либо порождает его. Допустим, что так и есть, и начнем ab ovo[44]. Когда яйцеклетка соединяется со сперматозоидом, это вовсе не встреча двух интеллектуалов, обе стороны равно не имеют мышления. Появившаяся из них зигота тоже не задумывается над своим зиготным существованием. Но при соответствующем усложнении зиготы вследствие умножения клеток раздается первый щелчок, и начинается сознательный процесс. Но что это за момент? До него у нас была чистая физиология: уже в меру сформировался мозг, в котором начинают появляться электрохимические явления, возникающие из-за разницы зарядов по обе стороны от мембраны нейронов. И вдруг в одно мгновение появляется сознание. Что же тогда отличает живой мозг, который еще не порождает сознание, от того, который его уже порождает? Материально они выглядят идентично. Где же фундаментальная разница, фундаментальная потому, что определяет нашу человечность, если принять древнее определение, что человек — это животное, одаренное разумом? В какой же момент электричество мозга становится сознанием? Как и когда дело доходит до порождения чего-то настолько качественно отличного от движения ионов, как процесс осознавания? Если присмотреться к работающему мозгу вблизи (как предлагал сделать Лейбниц) и обратить внимание на все разнообразие происходящих в нем физических процессов, заключающихся главным образом в миграции частиц, то мы увидели бы только эти процессы. Даже если не просто почувствовать, но и увидеть тепло, являющееся движением частиц (их движением тепло как раз и объясняется), то как движением объяснить мышление и ощущения или способность к восприятию как состояние ума? Поклонники редукционизма, сводящего сознание к процессу в мозге, верят, что это состояние не ума, а мозга, и готовы окончательно объяснить мышление движением частиц, мигрирующих через мембрану нейрона. Трудно представить, как можно увидеть, что перемещение и вступление в реакцию массы химических субстанций — нечто большее, чем их перемещение и реакции. Пусть даже и настолько разнообразные. Когда же происходит качественный скачок? В случае, например, смены свойств, происходящей при химическом синтезе, после которого полученная частица химического соединения демонстрирует совершенно другие свойства, чем создавшие ее элементы (а свойства эти, несмотря на то что они такие разные, легко объяснить физическими факторами). Одного переплетения нейронов с миллионами связей и сопряжений недостаточно для объяснения — это всего лишь сложная система на физическом уровне.
Физический процесс является причиной для следующего физического процесса — это очевидно. Точно так же процесс в сознании может быть причиной другого процесса в сознании[45] (если только заранее не допускается, что процесс в сознании — это простое проявление процесса в мозге). Насчет этого буддийская философия во главе с Дхармакирти не сомневается, но спрашивает, как материя может порождать сознание, или, говоря нашим языком, как физический процесс может стать причиной нефизического процесса.
Этот вопрос, на который действительно трудно ответить, особенно когда исследуются только физические процессы, не слишком занимает большинство нейропсихологов. Они, как правило, принимают рискованную предпосылку, приводящую к убеждению: не существует ничего, что называется дуализмом души и тела, а значит, и факта фундаментального различия между физическим и сознанием. Возможно, это разделение вовсе не простое и не такое уж очевидное, но, с другой стороны, поспешное согласие с тем, что ток — это мышление, фактически является предположением, которое позднее нужно доказывать, демонстрируя равенство электрической активности с процессом сознания. Таким образом, доказывается только то, что раньше было предпосылкой, которую трудно признать мощным научным основанием; а вот редукционистская тенденция очень мощна, она склоняет сделать единственный, маленький шажок от догадки до категоричного утверждения. Похоже, что редукционисты не слишком озабочены условиями для выполнения желанной для них редукции, они скорее склонны — потому что редукционизм ограничивает их до этой склонности — признавать, что такая редукция — вопрос времени. Они пестуют подобные ожидания, диктующие им характерную риторику, содержащую слова «у нас есть сильные основания, чтобы считать…», «результаты исследований столь обещающие, что можно с большой долей уверенности надеяться…», после чего делается тот самый шажок, который вообще-то еще предстоит сделать в недалеком будущем, но можно сделать его уже сейчас, ведь и так будущее его узаконит[46].
Конечно, если дотронуться до провода, подключенного к источнику тока, может показаться, будто провод только и ждал, как дать кому-нибудь пинка (а по нему, хитрецу, так и не скажешь!), но это будет необоснованной антропоморфизацией кабеля. Подобным же образом переоценивается роль деполяризационной волны, перемещающейся по мембране нейрона; единственное, о чем мы здесь можем говорить, — это миграция ионов через мембрану клетки, а это явление никак не похоже на воспринимаемую нами мысль. Если допустить, что нет никаких нематериальных факторов, отвечающих за наличие сознания, будет трудно, как говорят буддийские философы, отличить сознающее существо от так называемой неживой природы.
В нейропсихологических лабораториях пока что удается подтвердить только один факт: физическим процессам соответствуют процессы сознания. То, что их наблюдают одновременно, вовсе не означает, что один процесс является причиной другого, на что обращает внимание буддийская философия; возможно, у них просто есть общая причина. Утверждения об одновременности этих процессов недостаточно для суждения о том, что один является причиной другого. Тем не менее некоторые делают такой необоснованный вывод и безапелляционно утверждают: причиной процессов сознания являются исключительно процессы в мозге. Но факт, что раздражение некоторых участков мозга вызывает определенные переживания, вовсе не означает, что переживания могут появиться исключительно при помощи физического или электрического раздражителя и что так происходит всегда. В данном случае не исключено, что это так, но существует и другая возможность их появления. К тому же, если оба процесса скоррелированы, то, модифицируя один, мы модифицируем и другой, а значит, совершенно логично предположить, что вместе с появлением процесса сознания мозг реагирует определенным способом, и наоборот, вызывая процесс в мозге, мы стимулируем реакцию в виде процесса в сознании. Эта взаимозависимость, однако, не предопределяет, какой из двух процессов будет причиной, приводящей к другому процессу. Признавать процессы в мозге причиной процессов сознания — ошибка, заключающаяся в смешивании взаимозависимости и причинно-следственных отношений, а сама взаимозависимость, какой бы сильной она ни была, не может служить основанием для метафизических или, скорее, антиметафизических заключений. То, что два процесса всегда наблюдались вместе, еще ничего не говорит об их взаимоотношениях; наверняка можно утверждать лишь, что они до сих пор наблюдались вместе; изменения же одного из них, вызванные модификацией другого, говорят только об их тесной корреляции. Тот факт, что я всю жизнь смотрю телевизор сидя, не является основанием для вывода, что позиция тела — причина для просмотра телевизора.
Необыкновенная и великолепная аппаратура для исследования тела для кого-то становится гарантией правильности выводов, сделанных на основе исследований, проведенных на ней. К сожалению, точности выводов порой далеко до точности оборудования. Все более совершенные приборы для регистрации волн мозга и мониторинга его активности не дают основания для поспешных и неоднозначных выводов. А ведь все необычайные открытия, сделанные на современной аппаратуре, сохраняют свою ценность даже без предположения, что сознание порождается мозгом. Но эта версия событий будет лишена захватывающей простоты, которую придает редукция двух явлений до одного. Ученые упорно пытаются придерживаться редукции любой ценой, о которой не задумываются, потому что еще не столкнулись с необходимостью заплатить за свои действия. Редукция так искушает своей простотой, что к ней охотно прибегают, даже если на то нет достаточных предпосылок. Ее используют во имя радости употребления все более утонченных устройств для исследования мозга. Но если бы ученые располагали еще более изысканными методами непосредственного исследования сознания, скорее всего, они охотнее бы редуцировали до него все процессы мозга. Но это не так, и обольщающая своей простотой редукция души до материи кажется совершенно очевидной, пусть и необоснованной.
Однако вернемся к вопросу о статусе сознания, следующего из научных теорий о примате мозга, и проследим все вытекающие последствия. Если сознание есть результат физиологии мозга, который теперь считается железой, выделяющей мысли, нужно согласиться с тем, что мышление имеет истоки во многих факторах, воздействующих на организм. Воздух, его температура и прежде всего диета оказывают воздействие на работу внутренних органов (некоторые даже говорят, что мы становимся тем, что едим). Усваиваемые вещества модифицируют работу органов, могут стимулировать их рост, ускорять или замедлять их функции, оказывать благотворное, разрушительное или отравляющее влияние. Мозг — не исключение; он очень подвержен влиянию употребляемых нами веществ. То есть диета отчасти обусловливает мышление, которое является лишь выделением мозга, модифицированного пищеварительно. Вся философия была бы по большому счету диетическим творением, и это еще можно как-то проглотить, но любую научную теорию как мыслительный продукт секреции мозга нужно тогда снабдить оговоркой, что ученый, выдвинувший ее, наслаждался такими-то или такими-то блюдами. То же справедливо и для теории, что сознание порождается мозгом и является выделением, обусловленным физиологией мозга, а она зависит от питания. То есть эта теория — всего лишь производное от актуальной физиологии мозга данного ученого, который наверняка пришел бы к другим объяснениям-секрециям, стоит только поменять диету. Вся эта теория в буквальном смысле выработана и выделена из мозга, как и все остальные теории. Какой компонент питания отвечает за обсуждаемую здесь научную теорию? Лично я бы поставил на цветную капусту — сам я эту гадость не ем, и вот, пожалуйста, в голове моей нет ничего такого, что подтверждает, будто сознание порождается мозгом! А вот вкусная колбаска определенно вынуждает поставить на сознание, потому что нигде так не заметен триумф духа над материей, как у самого философского народа Европы, каким являются немцы, известные своими Frankfurter Würstchen[47], а тибетцы едят цампу и пьют с чаем столько животного жира, что таким количеством, кажется, можно убить всех противников буддийского идеализма.
Происхождение теории, ясное дело, не предопределяет, верна ли она или нет. Истинность теории гарантирует согласие с фактами, а не ее генезис. Если цветная капуста причастна к формулированию заключения, что сознание является продуктом мозга, и этот вывод соответствовал бы фактам, то тогда да здравствует истина и слава цветной капусте! Капустное происхождение не придает величия научной теории, но ведь в науке величие не главное, а кроме того, не одно великое открытие было сделано случайно, значит, и на это можно закрыть глаза. Правда, пока что нет согласия и уверенности, что такой вывод соответствует фактам, а во-вторых, он несет в себе другие неприятные последствия.
Каким, собственно, образом подверженная модификации физиология мозга может гарантировать неизменность и категоричность математических законов? Если все, что касается сознания, определяет физиология мозга, то почему вместе с возможностью ее изменения не должны меняться логика и математика? Если некая сложная сеть нейронов отвечает за выполняемые нами действия сложения, то вместе с изменением этой сети либо ее функционирования 2+2 могло бы равняться 5. Законы логики и математики становятся эпифеноменом физиологии мозга, и снова начинает пугать призрак цветной капусты. Имея единственную опору в работе мозга, логика и математика никогда не приобретут статус, на который всегда претендовали. Это наверняка не понравилось бы ученому, пользующемуся томографами и сканерами, созданными по законам математики и физики, согласно которым они функционируют и делают возможным исследование мозга.
Все прочие достижения культуры также становятся результатом секреции мозга. Искусство и литература не исключение. Они всего лишь результат деполяризации нейронной мембраны и химических изменений на синапсах. Литература как результат возбуждения ума с точки зрения физиологии не сильно отличалась бы от воспаления кожи при себорее (хотя в случае плохой литературы, очевидно, так и есть).
В дополнение ко всему, почему выделение сознания так разнится в случае каждого отдельного представителя человеческого рода? Все поджелудочные железы устроены одинаково, работают одинаково и выделяют одинаковый инсулин, и мозги устроены одинаково, работают по одному и тому же принципу, а выделяют разные мысли и чувства, отличные друг от друга. Все способны выделять гормоны, но не все способны выделить понимание формулы E = mc2. Неужели такого рода открытия были результатом дисфункции мозга?
С подобным обесцениванием математики, физики или литературы можно бы было согласиться, если они кому-то не нравятся, но есть еще одно последствие превращения мозга в железу, проглотить которое очень сложно. Это утрата свободы. Мозг, как образование из атомов, должен подчиняться законам физики, что означает: наше сознание и то, что мы думаем, подвержено естественному детерминизму. Законы физики не являются законами свободного волеизъявления, а сознание, как производное от законов физики, теперь определенно будет не областью свободного духа, а природной машинкой. Мы не можем влиять на выделение инсулина через островки Лангерханса[48], значит, не можем оказывать влияние и на выделение мыслей мозгом, потому что эти процессы в равной степени контролирует природа. И тогда нельзя винить беднягу Раскольникова: его желудок выделил сок, и он переварил пищу, а мозг выделил мысль, и он убил старушку — чистая физиология. Вместо «Преступления и наказания» имеем «Физиологию и наказание», хотя последнее не будет наказанием — как не наказывают диабетиков, так нельзя наказать «мозгарей», а кроме того, судья все равно никакого решения не принимал — выделил секрет из железы, и ничего более. То есть вместо «Преступления и наказания» у нас будет «Физиология и физиология» — захватывающее произведение заики.
Предположение, что сознание является продуктом мозга, равнозначно лишению нас свободы, а значит, наши поступки уже нельзя оценивать с позиций морали. Внешний вид собачки вызывает в мозгу ее хозяйки выделение чувства восторга, и она нежно гладит песика. В мозгу господина рядом внешний вид собачки вызывает выделение агрессии, и он пинает ее. Оба поступка тем не менее имеют общий выделительный знаменатель, отрицающий свободу, а посему их нельзя подразделить на хороший и плохой. Каково выделение, таковы поступки. Вот только понимает ли это собачка?
На месте юристов я бы начал подумывать о другой карьере, потому что некоторые нейропсихологи хотят лишить работы целый сектор судопроизводства. Правда, массовые увольнения противоречат трудовому законодательству, и остается вероятность легально уладить это дело.
В конце давайте еще раз вернемся к духу буддийской философии, которая в споре со сторонниками теории, будто сознание является производным от материи, указывала на далеко идущие и нежелательные последствия, и проверим, желали бы мы видеть мир, согласующийся с картиной сознания, воплощенного в мозге. Эту картину я хотел бы представить в форме моего первого литературного произведения [для тех, кто не знаком со специальной терминологией, в квадратных скобках я даю перевод слов ученого]:
Утро мозга
Ранее весеннее утро. Восходит солнце, поют птички, а легкий ветерок через открытое окно легко касается лица нейропсихолога, уверенного, что мозг порождает сознание. Он просыпается и обращается к лежащей рядом жене с такими словами:
— Сетеподобное образование генерирует непрерывный поток сигналов к таламусу и в кору головного мозга с целью создания системы геометрической связанности коры головного мозга [Доброе утро, любимая]. О! Векторное кодирование в виде образца уровней активации в пространстве, установленном шестью типами обонятельных рецепторов [Ты так вкусно пахнешь, дорогая]. Произведи раздражение моего чувственного человечка[49] [Прижмись ко мне]. Визуальная репрезентация объекта и реакция вентромедиальной префронтальной коры, миндалевидного тела и ствола головного мозга, а также направление сигналов в моноаминовые ядра, соматосенсорную кору, поясную извилину и т. д. [Я тебя люблю, золотце]. Ослабленные импульсы в двигательном человечке [Мне лень вставать]. Гиппокамп еще не получил всех сигналов, связанных с активностью сенсорной коры, которые должны были добраться через несколько цепей проекций с многочисленными синапсами, и обратных сигналов по этим путям не выслал. [Ничего не помню! Какой сегодня день?]. Высокий уровень метаболитов [Башка трещит с похмелья!].
И когда она подскакивает, чтобы принести ведерко простокваши, он сам встает, нежно встречая ее такими словами:
— Импульс уже бежит по пучкам нервных волокон белого вещества спинного мозга и при помощи двигательных нейронов в сером веществе спинного мозга дойдет до мышечных волокон с их миозином и актином. Не направляй импульсы активации аксонами моторных нейронов в синапсы двигательных нейронов [Давай я повкалываю, а ты наслаждайся бездействием].
Конец
И теперь вопрос на конкурс: почему женщина не выгнала его из постели? Ответ вы найдете в этой сноске[50]. Полное сведение сознания к физиологии достается слишком дорогой ценой. И цена вовсе не снижается из-за типичной отговорки, появляющейся тогда, когда нет ясного и простого ответа, что это довольно деликатная проблема. Сознание, создаваемое мозгом, пусть и самым сложным образом, в конечном счете сводится к миграции ионов через мембрану нейрона. Человек тем не менее не похож на животное, одаренное движением ионов, так же как живопись не является — несмотря на видимость — перемещением химических частиц краски. Мне только остается закончить призывом: пожалуйста, исследуйте мозг, ведь это необычайно интересно, но отрекитесь от цветной капусты!
10. Счастье, или Счастье
Не существует пути к счастью. Само счастье является путем.
БуддаНичто не делает человека более несчастным, чем запатентованные рецепты счастья; ничто так не затрудняет достижение счастья, как фантазии на его счет. Чаще всего окружающая реальность не подозревает о наших ожиданиях и потому их игнорирует. Может, не нужно ничего ожидать от реальности? Ведь если мы видим счастье как сумму внешних условий, то сразу же становимся их заложниками. С этих пор они будут определять, счастливы мы или нет. Но ведь это мы заранее решили, что определять будут они, поэтому и лишились свободы, заменив ее на зависимость от внешнего мира[51]. А без свободы нет и счастья — это абсолютно очевидно.
Значит, сначала свобода, а потом счастье. А свобода от чего? Собственно говоря, не от внешнего мира, а от ожиданий по отношению к внешнему миру. Ведь несчастье — это неисполнившиеся ожидания. Причиной неисполнившихся ожиданий являются эти ожидания. Имеющиеся ожидания взращивают привязанность к ним, обладающую огромным зарядом. Обычно мы считаем, что внешний мир виноват в том, что их не реализовал. Однако, не будь у нас ожиданий, не было бы и разочарования, а значит, не имело бы значения, что происходит во внешнем мире, раз мы ничего от него не ожидаем. Да только как ничего не ожидать? И не похож ли такой вариант на апатию? Поэтому давайте начнем с того, что ожидания бесполезны по трем причинам.
Причина первая: исполнившееся ожидание вовсе не приносит предполагаемой радости. Я сам убедился в этом еще ребенком. Первая дата в жизни, которую мне довелось запомнить, оказалась днем моего рождения. Обычно за месяц до этого знаменательного события я начинал наблюдать за родителями — не проявятся ли какие-нибудь знаки понимания, что приближается великий день. Но они вели себя как ни в чем не бывало: ходили на работу, смотрели телевизор, болтали о вещах, никак не связанных с моим днем рождения. Я начинал беспокоиться, не забыли ли они случайно о событии. На всякий случай я напоминал им об этом и предлагал лучший способ отметить праздник, каким могла бы стать, например, красная пожарная машина. Потом родители вновь подвергались слежке, которая ясно показывала: несмотря на недвусмысленные подсказки, о деле они забыли. За неделю до дня рождения ситуация становилась действительно нервной, и у меня не оставалось выхода — начинался систематический обыск квартиры в поисках ожидаемого пакета с ожидаемым содержимым. В конце концов он обнаруживался в неожиданном и недоступном месте — в шкафу на верхней полке, за постельным бельем. Будучи ребенком, родившимся во времена коммунизма, я осознавал, что качество игрушек, сделанных в нашей стране и за границей (то есть в Советском Союзе), оставляет желать лучшего. Поэтому в оставшиеся перед праздником дни я тайно тестировал игрушку, чтобы уберечь родителей от затруднительного положения, в которое могло бы превратиться подношение в подарок неходового товара. И наконец наступал великий день, я получал презент, а в нем… какая неожиданность! Пожарная машина! Какая радость… могла бы наступить, но сначала нужно чуть-чуть притвориться, показывая удивление, а потом уже и порадоваться, правда, не так сильно, как я ожидал.
Ожидание, как указ, заранее предопределяет, что нам причитается, и превращает это в реальность. Когда ожидание исполняется, оно становится просто исполнившейся реальностью и вовсе не радует так сильно, как, например, маленький солдатик, купленный отцом в веселом расположении духа, совершенно неожиданно по дороге домой. Несмотря на разницу в цене, сюрприз дает столько свежести и радости, что с ним не сравнимо ни одно исполнившееся ожидание. Ведь оно заранее предрекает нам желанный объект, но не позволяет радоваться ему полностью, потому что это остается делом будущего, а в момент получения часть радости автоматически отбрасывается как налог на ментальное приобретение этого имущества ранее. Не стоит ожидать или делать это по примеру Гераклита, утверждавшего, что нужно ожидать неожиданного.
Причина вторая: ожидания тренируют наш ум таким образом, что мы перестаем переживать счастье эффективно. Казалось бы, человек, имеющий четко намеченную цель (которая является представлением о счастье) и подстраивающий под нее свои поступки, твердо стоит на земле, а поскольку знает, чего хочет, имеет большие шансы достичь счастья. Однако если мы присмотримся, как функционирует ум, настроенный на видение будущего счастья, мы откроем, что видение исполнения желания, по сути, является наилучшим рецептом несчастья.
Предположим, что наше счастье выглядит стандартно — например, руководящая должность на работе. Получение ее было бы исполнением желания. Известно, что на пути продвижения по службе нужно пройти несколько ступеней и восхождение на высшую из них — дело не одного дня. Мы трезво оцениваем, что отведем на это лет 5, и появятся реальные шансы достичь намеченной цели, наше счастье станет доступным. Но что произошло, когда мы трезво оценивали ситуацию? Мы не только получили надежду на отсроченное на 5 лет счастье; вместе с ней в одном пакете нам достались ровно 5 лет несчастья, ведь то, что предшествует взлелеянному в мечтах состоянию счастья, по определению счастьем не является. Наш трезвый выбор одновременно оказался сроком приговора; мы принимаем два решения сразу — выбирая счастье в отдаленном будущем, мы также соглашаемся на несчастье в будущем ближайшем. Как я могу себя чувствовать профессионально реализовавшимся, если это станет возможно лишь лет через пять? Будет ли такой подход актом трезвой оценки ситуации, не говоря уже о том, что не существует никаких гарантий чего-либо, что может произойти спустя годы?
Давайте предположим оптимистично — чего там! — что через пять лет сходятся все необходимые условия и мы оказываемся в ситуации, о которой мечтали. Прежде чем в нее войти, посмотрим, что происходило с нашим умом во время, предшествующее великой минуте. Каждый из 1825 дней ум тренировался в утверждении «сегодня я несчастлив, но буду счастлив в будущем». Почти две тысячи повторений, не важно, осознанных или нет, этой оригинальной мантры достаточно результативно формирует способ восприятия мира. Это переживание на полсвистка, потому что часть ума застревает вместе с ожиданиями в светлом будущем, и он уже не может на сто процентов включиться в переживание того, что находится перед носом у его второй части. Тем более что в перспективе будущего счастья все, что ему предшествует, есть всего лишь преходящее состояние. И вот наступает желанный день исполнения мечтаний, но ум продолжает функционировать по той привычке, в которой утверждался 1852 дня: сегодня, как всегда до сих пор, я не могу быть счастливым, потому что буду счастливым в будущем. И несмотря на то, что желанное счастье перед нами как на ладони, мы переживаем его лишь наполовину, потому что давно укрепляли ум в таком половинчатом переживании. Если я буду счастливым не сегодня, а завтра, то вся предполагаемая радость будет бледнее, чем мы представляли; но она такая не сама в себе, а только в нашем способе ее переживать, в котором часть умственного потенциала выслана в будущее, в настоящем же оставлен дефицит восприятия. Тут появляется «мудрость» опытного человека, не один раз достигавшего цели, он авторитетно подтвердит, что путь к ней более увлекателен, чем ее достижение. Теперь можно начать высматривать следующую цель… Мы назначаем ее себе, чтобы жить ею некоторое время, игнорируя во имя нее то, что нам подсовывает реальность, а потом, после разочаровывающего достижения, начать думать о следующей, великой и достойной нас цели.
Свободные перерабатывающие силы ума в настоящем не используются, а в качестве предоплаты инвестируются в воображаемое будущее счастье. Но это совершенно безумная перспектива, потому что будущее счастье, поглощающее энергию ума, невозможно пережить — оно еще не наступило, но тем не менее ужасно занимает ум, который в связи с этим не может включиться в единственную ситуацию, имеющуюся в его распоряжении, то есть в ситуацию здесь и сейчас. Даже если будущее счастье наступит, оно будет переживаться здесь и сейчас. Но если здесь и сейчас мы не способны переживать то, что у нас перед носом, это гарантия, что и будущее счастье мы воспримем наполовину. Если мы не умеем быть счастливыми здесь и сейчас и не пробуем здесь и сейчас этому научиться независимо от того, что происходит, то и следующий момент переживем точно так же, как настоящий. Наше следующее здесь и сейчас будет прожито так же халтурно, как и теперешнее, несмотря на то, что есть только одно-единственное здесь и сейчас, как мы выяснили в предыдущей главе.
Выработка навыка без ожиданий извлекать пользу из того, что у нас перед носом, оправдывает себя, мы получаем двойную прибыль. Во-первых, даже мелкие повседневные радости, переживаемые на сто процентов, оказываются больше, чем великие радости, переживаемые наполовину (как солдатик и пожарная машина из моего детства), а значит, удовольствие от жизни оказывается значительнее и продолжительнее. А во-вторых, из всякой исполнившейся мечты мы будем способны выжать максимальную радость — потому что ум перестанет уставать от упорного цепляния за какое-то видение в течение нескольких лет. Тогда в момент его реализации у нас будет достаточно сил подпрыгнуть от радости и пережить ситуацию во всей ее свежести. Если мы действительно хотим на сто процентов пережить исполнение мечты, уже сейчас стоит учиться воспринимать каждый момент на сто процентов. Иначе все великие радости будут значительно меньшими, чем мы надеялись. Дело не в том, чтобы избавиться от мечтаний и планов на будущее, а в том, чтобы они не стали объектом наших упорных ожиданий, вынуждающих ум увечно переживать свои восприятия, а значит, отбирающих радость и у того, что происходит сейчас, и у того, что, вероятно, произойдет в будущем.
Причина третья: математика. Чем больше ожиданий, тем больше вероятность, что они не исполнятся, что ведет к страданию. Если у меня одно ожидание, то я не буду рафинированным страдальцем, потому что умею страдать только одним способом. Если у меня два ожидания, то уже можно выбирать: в понедельник страдаю из-за неисполнившегося ожидания № 1, во вторник — из-за неисполнившегося страдания № 2, а в среду — из-за неисполнения обоих. Когда же у меня десять ожиданий, я достигаю в страдании мастерства: полное разнообразие, каждый день что-то новенькое. В дополнение ко всему, и это необычайно важно, из математики счастья и страдания следует один простой и фундаментальный вывод: когда количество ожиданий равняется нулю, шансы у страдания ни больше ни меньше — тоже нулевые. И от третьей причины, по которой не нужно иметь ожиданий, можно перейти к самому счастью, которое теперь выглядит элементарно простым делом.
Счастье в значительной мере — просто отсутствие ожиданий. Когда мы откажемся от всяких претензий по отношению к реальности, мы отберем у нее всякую возможность разочаровать нас. Когда мы ничего не ожидаем, все, что мы получаем, становится подарком. И даже если порой подарок немного болезненный, то ведь — как сказал один датский лама — все, что не закончилось пулей в лоб, является развитием, а оно обычно происходит вне пределов безопасной зоны нашего комфорта. Мы же чересчур привязаны к комфорту: в конце концов, имеем же мы право ожидать какой-нибудь приличной ситуации в жизни. Но кто нам это право присудил? Да мы сами, и теперь dura lex sed lex[52]: мы имеем право ожидать, а значит, ничего не дождемся!
Конституция совершенно справедливо гласит, что у нас есть право на счастье, но не на ожидание счастья, а на счастье целиком, ведь счастье не зависит от ожиданий. От ожиданий зависит отсутствие счастья, и это прямо пропорциональная зависимость: чем больше ожиданий, тем больше не хватает счастья. Эта простая закономерность является ключом для всего. Достаточно лишь избавиться от ожиданий. Не нужно бороться с целым миром, вынуждая его уважать наши прихоти и серьезно относиться к нашим важным жизненным планам. Достаточно лишь начать тренировать ум избавляться от ожиданий. Счастье — это не дар небес, а дело тренировок и упражнений ума в том, как воспринимать мир. Если мы хотим быть счастливыми, стоит этому научиться. Счастье никто не даст, но можно научиться быть счастливым. Учеба начинается с самого ума, потому что это он, а не внешняя реальность умеет переживать счастье. Противоположный подход, то есть попытка вместо работы над своим умом провести в поисках счастья реконфигурацию мира, является путем кружным и ненадежным: мы выходим от стремящегося к счастью ума во внешний мир и в нем пытаемся что-то строить, чтобы в конечном итоге снова вернуться в ум и в нем, а не во внешней реальности, переживать вожделенное счастье. Так для чего нужны все эти путешествия туда и обратно? Шантидэва говорит: люди, ищущие счастье во внешнем мире, напоминают путника, который хочет весь мир обтянуть кожей, чтобы при ходьбе не ранить босых стоп. Может, проще надеть башмаки? Тогда не появится и мысли, стоит ли нам направиться туда или сюда — мы просто пойдем, куда понесут ноги. То, по чему мы ступаем, больше не имеет значения, внешние условия теперь не в счет, а взамен мы получаем свободу туриста с богатым опытом путешествий. Может ли со счастьем ума, не зависящего от внешних условий, сравниться счастье, для достижения которого необходима масса условий, а ведь они, в свою очередь, еще и должны сложиться в желаемую и ожидаемую ситуацию? Заметим, что сходящиеся условия рано или поздно расходятся, и тогда обусловленное ими счастье теряется и становится поводом для найденного обусловленного несчастья. Я вовсе не призываю к апатии или отсутствию планов — их можно иметь в любом количестве, тем большем, чем меньше мы к ним привязываемся и чем менее судорожно ожидаем их исполнения. Речь идет об умышленной экономии испытываемого счастья: если мое счастье зависит, например, от обладания новенькой моделью BMW, то, конечно, я могу стать счастливым только в одной ситуации — когда куплю ее. До покупки (если, конечно, я собираюсь таким путем приобрести автомобиль) или после утраты вследствие кражи или аварии я не буду счастливым (в скобках добавлю — забавно, что, несмотря на обладание страховкой, первой реакцией на кражу машины будет личная драма ее бывшего владельца). Если же мое счастье не зависит от обладания машиной, то я счастлив в трех ситуациях: до того, как ее купил, во время обладания ею и после утраты. К тому же во время обладания, как каждый владелец хорошего автомобиля, я тоже дополнительно радуюсь ему (не перебор ли уже со счастьем?). В каком же случае показатель умышленной экономии испытываемого счастья будет выше?
Буддизм, как мы видим, совершенно несправедливо обвиняют в пропаганде бездействия, которое якобы должно наступить вследствие отдаления от внешнего мира. Нирвана, понимаемая как угасание страдания, из-за такого отрицательного определения может неверно интерпретироваться как безопасное бесстрастное онемение. Однако угасание страдания оставляет много недосказанности, как и тезис о том, что свобода есть отсутствие принуждения. Это определение, конечно, верное, но оно ничего не говорит о положительной стороне явления. То есть дистанция по отношению к миру, конечно, есть, но она не путь в апатию. Как раз наоборот! Она позволяет легче отыскать необусловленное счастье самого ума и правильно воспринимать все, что предлагает нам мир. Как видно на автомобильном примере, во-первых, радости в этом намного больше, чем в ситуации, когда мир переживается без дистанции; во-вторых, по-прежнему можно ощущать все радости мира (с большей свободой, потому что нет привязанности к ним); в-третьих, дистанция дает удовольствие гурмана, который черпает радость не только из того, что ест, но и из понимания, что именно он ест. Благодаря этому он может наслаждаться обедом еще больше. В-четвертых, дистанция по отношению к внешним условиям — защитный фактор в ситуациях, которые на первый взгляд могут показаться не слишком приятными.
Ну, конечно, мы вот шутим, смеемся и говорим о счастье, а жизнь — не такая; она тяжелая, и «кто об этом не знает, тот жизни не нюхал, ему легко радоваться». Тибетцы в таких случаях обычно рассказывают такую историю. К ламе пришел человек и заявил, что оказался в большой беде — убежал его единственный конь, без которого он не мог пахать поле и обеспечивать семью. Когда человек закончил рассказ словами: «Это ужасно!», лама, усмехаясь под нос, ответил лишь: «Посмотрим…» На следующий день к ламе пришел тот же человек, но на этот раз принес радостную весть: «Мой конь вернулся и привел с собой дикую кобылицу. Разве не замечательно?!» Лама снова ответил только: «Посмотрим…» На третий день человек пришел в очередной раз в противоположном настроении: «Мой сын попробовал объездить кобылицу, но она его сбросила. Теперь сын, который был для меня, старика, помощником по хозяйству, лежит со сломанной ногой. Это ужасно!» Вы удивитесь, но лама снова сказал: «Посмотрим…» Когда они встретились в очередной раз, наш герой сиял: «Объявили мобилизацию, и все юноши должны были пойти на войну. Все, кроме моего сына со сломанной ногой. Вот это счастье!» Не нужно объяснять, что сказал лама, который еще много раз повторял «Посмотрим…», потому что эту историю можно продолжать бесконечно. Дело в том, что хорошие и плохие ситуации, хорошая или плохая жизнь являются таковыми только в непосредственной перспективе, которую мы постоянно и охотно меняем на ту единственную и теперь уже наверняка правильную. И, конечно, в момент ее принятия мы забываем, что это только очередная, одна из многих наших гениальных идей о реальности, одна из тысяч оценок, о которой мы забудем уже на следующий день, занятые формулированием очередного вывода, абсолютно соответствующего реальности. Мы никогда не знаем, не охраняет ли нас случившаяся неприятная ситуация (к примеру, тяжелая болезнь) от чего-то худшего, о чем мы не подозреваем, — например, от поездки в метро, которое любитель пиротехники взорвал вместе с собой, чтобы проинформировать мир о своей идеологии. Часто мы не в состоянии выбрать соответствующую точку зрения, позволяющую абсолютно черное увидеть белым или цветным. Мы всегда смотрим на события с некой перспективы, и та раскрашивает их определенным образом. Не имея возможности изменить происходящее, мы можем изменить перспективу его восприятия. Это наша внутренняя, неоспоримая свобода, которой, к сожалению, мы иногда забываем воспользоваться. Это мы решаем, на чем сфокусироваться в нашем восприятии. Если нас ругают, мы можем, конечно, сосредоточиться на содержании этого неразборчивого сообщения, но также способны в ходе брани подумать, как звучало бы верхнее «о» в часто повторяемом слове «олух», если бы наш собеседник взял пару занятий по постановке голоса и учился оперному пению. Таким образом, мы обретаем бесценную дистанцию по отношению к происходящему, которое уже не может быть таким жестким, как тогда, когда мы влипали в него по уши, все воспринимая совершенно серьезно. «Always look on the bright side of life!»[53]
Чем больше дистанция к происходящему, тем свободнее мы, тем больше мир напоминает сон, в котором можно все интереснее развлекаться, даже если он кажется кошмарным. Мы становимся зрителем в кинотеатре, который с удовольствием смотрит все категории фильмов. Это развлечение возможно, ведь мы знаем — просматриваемая нами ситуация есть иллюзия, она не может нами овладеть. Ребенка лучше водить только на «Утенка Дональда»; дети имеют склонность относиться ко всему слишком серьезно, и даже печальные превратности судьбы, происходящие с утенком, могут вызвать у них необычайно сильную реакцию в виде слез. Мы, взрослые, покатываемся со смеху, глядя «Техасскую резню бензопилой» или «Некроз», именно потому, что хорошо знаем — вся ситуация нереальна. Если это чувство перенести в повседневную жизнь, а этому способствует буддийская медитация, появляется свобода решать, как переживать события и на чем в них концентрироваться: на драме, к которой, несмотря на киношную иллюзорность, мы относимся серьезно, или на положительных сторонах, всегда предоставляющих повод шутить. Как сказал в фильме «Конец игры» Сэмюэл Беккет, имеющий голову на плечах: «Если попадешь в дерьмо по самую шею, остается только петь». Чем хуже ситуация, тем более необходимо чувство юмора. Если изменить мир в данный момент не получается, всегда можно изменить воспринимающий его ум. Вот так! Нужно только хотеть изменить ум, а это, к сожалению, не всегда входит в наши жизненные планы.
Таким образом, счастье — это дело ума. Также это вопрос learning by doing[54]. Достичь счастья проще всего, будучи счастливым, то есть избавившись от ожиданий. Это самый экономичный вариант: мы всегда делаем что-то, добиваясь другого, например, покупаем машину, чтобы быть счастливым. Но зачем делать и то и другое, если речь идет только о втором? Лучше сразу начать со второго; будем счастливыми, а потом можно подумать и о покупке машины. Если же мы несчастливы изначально, существует опасность, что новый красавец-автомобиль будет перевозить только наш несчастливый ум.
Избавиться от ожиданий поможет еще одно: глубокое понимание, что ожидания возникают из жесткой концепции будущего и из наших собственных оценок. Непросветленный ум неутомимо придумывает сценарии, с которыми сравнивает реальность и согласно которым ее оценивает. Это и есть один из главных источников страдания. Каждая очередная ситуация должна быть оценена, а позднее пережита в соответствии с оценками. Так мы принимаем за реальность суждения, вытекающие из наших концепций, а реальность продолжает оставаться не такой, какой по-нашему должна быть, — результат контраста между самой реальностью и ненужным добавлением в нее оценок и концепций. Нетрудно догадаться, что если бы не было оценок, не было бы и контраста, и возникающего из-за него чувства дискомфорта, несчастья, обманутых надежд.
Я убедился в этом во время одной поездки (они всегда познавательны). В тот раз я был в Индии и решил встретиться с Кармапой XVII Тринле Тхае Дордже, который живет в Калимпонге. Это красивый городок, расположенный на границе с Сиккимом, в предгорьях Гималаев; последняя часть пути к городу преодолевается на джипе, несколько часов взбирающемся по горному серпантину. Попав на стоянку джипов, я с сожалением убедился, что стал последним пассажиром в машине, готовой отъехать. Это означало, что несколько часов мне предстояло заключение на вызывающем клаустрофобию, самом плохом месте в хвосте между несколькими пассажирами, без доступа к свежему воздуху и без окна. Поскольку в джипе восемь пассажирских сидений, в Индии считается совершенно логичным продавать на них 11 билетов. В нашем салоне уже находилось 11 пассажиров — впереди на коленях у отца сидел малолетний сынишка. Вот так, в количестве 13 человек вместе со мной и водителем, мы тронулись в путь. Еще я вез с собой концепцию, что мне очень нужно сидеть не на моем месте, а на соседнем — тогда по крайней мере я мог бы дышать свежим воздухом через открытое окно. В сорокаградусную жару в переполненной машине сиденье у окна — настоящая роскошь, учитывая, что большинство жителей Индии к вопросу принятия душа по утрам относится без фанатизма. Когда я размышлял над своей плачевной участью, случилось то, что часто происходит, когда машина раз за разом совершает вираж на 180 градусов, перемешивая пищу в желудках пассажиров. Мальчик, сидевший перед нами, на очередном повороте изверг содержимое желудка через окно автомобиля. Уже через секунду это содержимое находилось внутри салона, поскольку вернулось через второе боковое окно прямо на пассажира, сидящего рядом со мной, на желанном для меня сиденье. Догадайтесь, кто в одно мгновение стал самым счастливым пассажиром джипа (подсказка: это был не мой сосед)? Я тотчас освободился от концепции, что сижу на плохом месте! Сколько радости появилось вместе с потерей идеи, не позволявшей мне расслабиться. У нас есть склонность постоянно думать, что наша ситуация могла бы быть лучше, что мы находимся в неподходящем месте в неподходящее время. Однако это исключительно наш вымысел, никак не связанный с реальностью. Мое место в джипе с самого начала было отличным, точно так же, как мое место в жизни, только я об этом не знал и потому ошибочно принимал его за камеру пыток. Какие концепции — такая реальность. Именно оценки постоянно портят жизнь, это наклеивание этикеток на каждое переживание. В то же время заключить реальность в любую из наших концепций невозможно — жизнь богаче любой оценки, которую мы могли бы состряпать на ее счет. Оказывается, чтобы переживать счастье, совсем не нужно что-то получить, а наоборот, нужно кое-что потерять, например, ненужный багаж представлений о том, какими вещи являются и какими они должны быть. Все оценки — как тяжелые чемоданы, с которыми мы силимся начать бег с препятствиями, называемый жизнью, и чем тяжелее чемоданы, тем проще представить, что произойдет на первом же барьере.
Свобода от ожиданий и оценок — совсем немало. Это не мини-версия счастья, потому что вместе с их потерей появится открытость и легкость, о которой мы раньше и не догадывались, выдумывая совершенно другие рецепты счастья. Мы считали, что через барьеры прыгают с чемоданами в руках, но это упражнение можно выполнять и без багажа. Если мы ничего не ожидаем и не оцениваем, все происходящее станет сюрпризом и поводом для шуток, потому что не появится ни одного негативного контраста между тем, что происходит, и тем, что должно произойти в соответствии с нашими концепциями и оценками. Тогда мир на самом деле становится космической шуткой пространства, и просто невозможно, чтобы стало хуже. Тем более, как говорят великие буддийские мастера, чем хуже, тем лучше! Убедительным подтверждением этому является их заразительный смех, особенно когда он принадлежит сидящему последние 20 лет в инвалидной коляске, например, одному из величайших лам Тибета Мипхаму Ринпоче, отцу Кармапы XVII.
Избавиться от ожиданий и оценок — все равно что выбросить балласт из воздушного шара, который, освободившись от груза, взмывает все выше. Пока нет этого опыта, нам свойственно культивировать своеобразный страх высоты: мы хватаемся за ожидания, оценки и концепции, не позволяющие оторваться от земли. Мы ходим по ней, как нам кажется, твердо, но цена этого — скука и ограниченный вид, несравнимый с панорамой, открывающейся с воздушного шара. Все дело в том, что мы способны управлять воздушным шаром. Независимость от концепций, ожиданий и оценок дает нам огромную свободу и пространство, в котором нас ничто не ограничивает, мы можем парить где заблагорассудится. Город, который мы теперь осматриваем, совсем не изменился, он абсолютно такой же, но теперь мы смотрим на него не с тротуара узкой улочки, окруженной стенами домов, подобных нашим концепциям, которые ограничивают перспективу так, что кажется: тут не пройти. Теперь видно и город, и открытое небо, и пространство вокруг; мы можем лететь, куда захотим. Это совершенно другой опыт, хотя переживаем мы все ту же реальность.
Воздушный шар — поясним этот подозрительный пример — есть буддийская медитация, позволяющая познать и трансформировать ум; подвешенная к нему корзина — буддийская философия, дающая опору; а теплый воздух, поднимающий вверх, — наша мотивация. Мотивация для буддизма — ключевой вопрос. Без нее философия — лишь сухой набор информации; он привносит в жизнь немного безмятежности, но не ведет к необусловленному счастью, которое буддизм называет Просветлением.
Вы уже наверняка догадались, счастье необходимо, чтобы было чем поделиться с другими. Нужно достичь его, чтобы делиться не только им самим, но и способом, методом его достижения. Это лучший подарок, какой только можно представить. Если мы сами погрузились в депрессию, нам нечего предложить тому, кто и сам чувствует себя не лучшим образом. Разве что сказать: твоя депрессия по сравнению с моей просто смешна, в таком случае для собственной депрессии это станет некоторым утешением — моя депрессия ценнее, нельзя отдать ее просто так. Некоторые мирятся со страданием, убежденные, что страдающий человек — это человек глубокий, а счастливый выглядит поверхностно, ему нельзя доверять, он не знает жизни. Трезво оценить ситуацию способен лишь пессимист, потому что пессимист — это хорошо информированный оптимист.
С буддийской точки зрения все выглядит иначе. Пессимизм возникает из-за недостаточной информированности о природе ума и природе явлений. Дефицит знания о собственном уме ведет к невозможности добыть в нем счастье, а недостаток знания о мире не позволяет радоваться. В результате среди предложений остается только пессимизм, которого вдоволь. Всеобщим дефицитом является счастье — состояние, которое увеличивается естественным образом, когда его достигаешь. Когда мы чувствуем прилив радости и не закрываемся в туалете, чтобы в одиночестве пережить ее, а приглашаем друзей, тогда вместо одного счастливого человека их образуется множество. Буддийский путь, следующий за этой естественной склонностью, ведет к радости, обретаемой для того, чтобы делиться ею с другими. По этой дороге к Просветлению идет Бодхисаттва, тот, кто хочет найти радость на благо всех существ. Идеал Бодхисаттвы математически самый выгодный. Ничто так не способствует счастью, как сосредоточение на счастье других. Если есть сто человек, и каждый настроен на помощь другим, то у каждого из этой сотни будет девяносто девять союзников; с такой помощью все легко и любая цель достижима. Если же каждый из этой сотни будет думать только о собственном счастье, он будет обречен на одиночество в сопровождении девяносто девяти эгоистов, любой ценой стремящихся реализовать свои единственно верные и самые главные жизненные планы. Ничего удивительного, что в такой ситуации трудно достичь чего-либо, даже приложив все силы. Как говорил Шантидэва, «все несчастье мира появляется из-за желания счастья для себя, а все счастье мира появляется благодаря желанию счастья другим».
Для нашего эгоистичного желания счастья нет ничего более выгодного, чем альтруизм; собственное счастье неотделимо от счастья других. Помните ли вы момент, когда в минутном порыве вам случилось подарить любимому человеку необычайно ценную вещь и его или ее радость была для вас более радостна, чем обладание вещью? Это один из самых истинных моментов жизненного опыта, когда мы спонтанно действуем на связи с окружающей реальностью и не отделяемся от нее, а значит, не отделяем нашей радости от радости других! Это момент, когда наше эго еще не успело выделиться из реальности, и вместо его ограниченности мы можем переживать совместную радость. Желаю нам как можно больше таких мгновений до тех пор, пока они не растянутся на 24 часа!
Примечания
1
В транскрипции Уайли этим терминам, которые для удобства читателя я записал фонетически, соответствует: bde bar gshegs pa, bde gshegs snying po, bde stong, bde ba, stong pa nyid.
(обратно)2
Карма Тринлепа, do ha skor gsum gyi ti ka sems kyi rnam thar ston pa’i me long, 4.4–6; цитата по: Kurtis R. Schaeffer, Dreaming the Great Brahmin. Tibetan Traditions of the Buddhist Poet-Saint Saraha, Oxford — New York, Oxford University Press 2005, стр. 21.
(обратно)3
Используя в книге формулировку «буддийская философия», я понимаю под ней главным образом тибетскую традицию Карма Кагью, а также элементы философии индийской Махаяны.
(обратно)4
Цитата на русском: Витгенштейн Л. О достоверности / перевод Ю. А. Асеева, М. С. Козловой // Вопр. философии. — 1991. — № 2. — С. 100. — Прим. переводчика.
(обратно)5
Такое определение соответствует буддийским учениям и прекрасно передает тибетский термин rnam rtog, означающий непросветленное мышление.
(обратно)6
Т. Де Квинси. Последние дни Иммануила Канта.
(обратно)7
В соответствии с буддийскими учениями, я понимаю, что все поступки людей, ведущие к страданию, а к ним с уверенностью можно отнести принуждение носить колготки, происходят из-за неведения, а не потому, что человеческая природа в каком-либо смысле плоха.
(обратно)8
Незамедлительно, тут же (англ.). — Прим. переводчика.
(обратно)9
Ратнакута-сутра. — Прим. переводчика.
(обратно)10
Г. К. Лихтенберг. Похвала сомнению. Черновики и другие записи.
(обратно)11
В транскрипции Уайли этим терминам соответствует: de bzhin nyid, de kho na nyid, de nyid.
(обратно)12
Всякое определение есть отрицание (лат.). — Прим. переводчика.
(обратно)13
Кстати, интересно, как становятся настоящим начальником. Наверное, нужно каким-то образом начать обладать начальниковостью. Не то чтобы я мечтал о продвижении по службе, нет, точно нет, абсолютно нет; это я так, просто размышляю…
(обратно)14
Цитата из стихотворения Яна Кохановского. — Прим. переводчика.
(обратно)15
В моем случае для того, чтобы отказаться от ошибочного отождествления с телом, вовсе не требуется столько философских выводов. Достаточно лишь эстетического переживания во время утреннего взгляда в зеркало, в результате чего даже в голову не придет отождествляться с чем-либо подобным. Я должен также признать, что для женщин эта ситуация будет более трудной.
(обратно)16
Если книгу читают дети, то прошу запомнить — мой дошкольный опыт говорит, что шпинат, смешанный с картошкой и сразу же запитый компотом, проглотить намного проще, чем просто шпинат. Помните также, дорогие дети, что воспитательницы в детском саду дают шпинат не потому, что они плохие, а потому, что действуют под влиянием неведения, ошибочно полагая, что шпинат хороший. Случаются, конечно, моменты неосознанной мести со стороны воспитательницы, которую саму в детстве мучили тем же самым способом, но о таких ужасах, дети, я не буду рассказывать. Помните, пожалуйста, даже с такой мотивацией поступок воспитательницы тоже вытекает из базового неведения и желания счастья (воспитательница думает, что, мучая детей шпинатом, сама станет счастливой), а это является самым основным желанием всех чувствующих существ.
(обратно)17
Лешек Колаковский, современный английский философ польского происхождения. — Прим. переводчика.
(обратно)18
Вытянутые прямоугольные шоколадки — бракованные отходы фабрик квадратного шоколада, экспортируемые в малоразвитые страны.
(обратно)19
Яблоко практично, поскольку само растет на дереве, как, впрочем, и само с дерева падает. Однако, оно нехорошее с точки зрения морали, потому что, падая непосредственно на человека, может вызвать страдание (при этом редкие случаи вдохновения физиков не могут служить оправданием).
(обратно)20
Я знаю, что эту уловку можно принять за промывку мозга, а потому предупреждаю, что остальная часть текста предназначена только для читателей с крепкими нервами и стабильной психикой.
(обратно)21
Употребление латинских названий может значительно усилить доверие к нам. А кроме того, Upupa epops звучит гордо, в отличие от обычного удода.
(обратно)22
Хочу искренне попросить прощения у всех Ковальски. Я абсолютно не предполагаю, что некий Ковальски опаздывает на работу. На самом деле это мне — пусть это останется между нами — довелось опоздать на работу, но я не хотел здесь упоминать свою фамилию, чтобы не оставлять письменных доказательств, которые мой шеф смог бы использовать против меня.
(обратно)23
Честно, справедливо (англ.). — Прим. переводчика.
(обратно)24
Следовательно (лат.). — Прим. переводчика.
(обратно)25
Житейская мудрость (фр.). — Прим. переводчика.
(обратно)26
Буддизм принимает существование индуистского пантеона, но ни одному из богов не приписывает роли творца мира, эта роль отводится уму.
(обратно)27
В переводах буддийских текстов слово вера, к сожалению, появляется довольно часто, что похоже на необоснованную западную кальку, поскольку тексты также говорят, что она возникает на пути познания обоснованных причин. Значит, здесь мы имеем дело с доверием, которое появляется из опыта и проверки того, что позднее принимается. Посему буддийские учения — это стоит подчеркнуть еще раз — являются предметом не веры, а доверия.
(обратно)28
Это убеждение, конечно же, связано с воззрением, что ум или сознание не может исчезнуть, о чем я еще напишу в следующих главах.
(обратно)29
Кстати, разве не удивительно, что все влюбленные через пару дней после первого свидания говорят, что «мы знакомы всего пару дней, а у меня впечатление, что я знал(а) тебя много лет»? Очень подозрительно, что они схоже смотрят на мир, имеют общие вкусы, одинаковое чувство юмора, подобный образ мышления — что за странная случайность, когда столько всего сходится!
(обратно)30
Незнание закона вредит (лат.). — Прим. переводчика.
(обратно)31
Даже мазохистом или садистом движет представление о счастье, правда понимаемом довольно специфично, или не понимаемом, но все же это представление о счастье. Попытка реализовать такое ложное представление приводит к страданию, которое вовсе не будет ожидаемым счастьем. Мазохист скорее всего рано или поздно встретит садиста, который на просьбу мазохиста ударить его с извращенной ухмылкой ответит: «Ну, нет! Не дождешься!» А потому даже мазохисты не счастливы и страдают. Подобное происходит и с садистом, у которого рука чешется, чтобы врезать мазохисту. Желая помучить мазохиста, он сам страдает, и на этом дело не закончится, потому что действия, приносящие страдания другим, превращаются в кармический багаж, из которого впоследствии будет распаковано собственное страдание.
(обратно)32
Антоний Слонимский — польский поэт, фельетонист, сатирик. — Прим. переводчика.
(обратно)33
Это три негативных действия тела: убийство, воровство, неподобающее сексуальное поведение (какое же поле для домыслов открывается в последнем случае!); четыре негативных действия речи: ложь, клевета (речь, которая разделяет людей), грубая речь, пустая болтовня; и три негативных действия ума: алчность, злонамеренность и ложные взгляды (кстати, самым худшим считается воззрение о том, что закона кармы не существует, поскольку он за короткое время приводит к совершению множества негативных действий).
(обратно)34
Обычно перечисляются три основные мешающие эмоции (неведение, гнев и привязанность) либо пять (три предыдущие плюс гордость и зависть). Конечно, в буддийских текстах можно найти еще много других классификаций.
(обратно)35
Прежде всего — не навреди (лат.). — Прим. переводчика.
(обратно)36
У меня нет намерения спорить здесь о теориях заговора, утверждающих, что даже наш выбор детерминирован, потому что в конкретных ситуациях мы принимаем решение с ощущением, что от него что-то зависит, а значит, эмпирически считаемся свободным человеком. Рассуждения, какие скрытые факторы какое решение опережали, не имеют большого смысла — мы и так руководствуемся тем, что должно наступить после таких решений, не говоря о том, что о скрытых факторах мы знаем совсем немногое, если вообще можем знать.
(обратно)37
Цитата из стихотворения Яна Кохановского. — Прим. переводчика.
(обратно)38
В споре также участвовала школа Джонанг, занимающая позицию, сходную со школой Карма Кагью.
(обратно)39
Об этом подробнее в следующей главе.
(обратно)40
Так! (лат.). — Прим. переводчика.
(обратно)41
Об этом мы уже говорили в главах «Рассуждения за едой, или Мир является лишь умом» и «Пустота невыразимо полна, или О разнице между рангтонг и шентонг».
(обратно)42
Цитата на русском: Аристотель. О происхождении животных / перевод В. П. Карпова. — Издательство Академии наук СССР. — 1940. — М.-Л. — Прим. переводчика.
(обратно)43
Аристотель. О сне и бодрствовании.
(обратно)44
Буквально «от яйца», с самого начала (лат.). — Прим. переводчика.
(обратно)45
А вообще, на этом предположении буддисты среди прочего основывают убежденность в реинкарнации.
(обратно)46
Такая тенденция отчетливо видна, к примеру, у Антонио Дамасио, который, представляя по пунктам свою теорию соотношения тела и ума, странным образом говорит почти исключительно о теле и мозге. Ни один из его пунктов не посвящен собственно уму, но уже в начале первого предложения своей презентации автор беспечно утверждает, что «ум возникает в мозге». См. А. Р. Домасио. В поисках Спинозы: радость, печаль и чувствующий мозг. Подобную тенденцию мы также наблюдаем у Черчлэнда: «Все указывает на то, что эта „недоступная природа“ явления сознания была написана алфавитом нейрональной активности, которая размещается в нашем мозге и всей нервной системе. […] Однако мы не способны распознать в этом непрерывном спектакле то, чем он на самом деле является — замечательным нейроинформационным балетом — поскольку не обладаем соответствующей концептуальной и теоретической базой, что позволило бы нам правильно оценить то, что у нас творится перед носом. А точнее, в черепе. Результатом этой неспособности является — в лучшем случае — распространенное убеждение в существовании таинственного дуализма души и тела…» [П. М. Черчлэнд. Механизм разума, жилище души. Философское путешествие вглубь мозга]. Что ж, хотя все указывает, мы никак не способны, как признает автор, распознать то, что сам автор уже знает, что сознание конкретно является — воспользуемся его чрезвычайно точным научным понятием — «нейроинформационным балетом» (метафоры, конечно, чисто случайно появляются там, где с успехом можно использовать точный язык, но нам не хотелось). Лучшим из лучших результатов этой неспособности была бы, очевидно, — в соответствии с намерением автора — убежденность в существовании таинственного материализма, который объяснит наше сознание с помощью «формального понятийного кодирования векторного и разветвленного параллельного преобразования информации в крупномасштабных возвратных нейронных сетях».
(обратно)47
Франкфуртские сосиски (нем.). — Прим. переводчика.
(обратно)48
Панкреатические островки, которые выделяют гормоны инсулин и глюкагон в кровь, чем регулируют углеводный обмен. — Прим. переводчика.
(обратно)49
Это не то, о чем вы подумали! Чувственный человечек (homunculus sensitivus) — это просто презентация в коре головного мозга нашего чувства осязания.
(обратно)50
Потому что она, глядя, как он работает на сканере CAT (computerized axial tomography), подумала, что хочет быть его кошечкой; он же, видя, как ловко она управляется со сканером PET (positron emission tomography), захотел стать ее любимым зверем.
(обратно)51
Впрочем, внешний мир сам является проекцией ума, как мы уже убедились, а сопротивление он оказывает лишь тогда, когда мы не знаем и не воспринимаем факта, что он является проекцией.
(обратно)52
Суров закон, но это закон (лат.). — Прим. переводчика.
(обратно)53
Всегда смотри на яркую сторону жизни (англ.). — Прим. переводчика.
(обратно)54
Обучение в действии, обучение на собственном опыте (англ.). — Прим. переводчика.
(обратно)


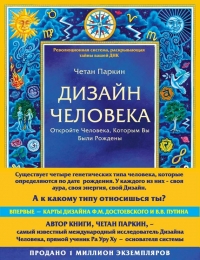

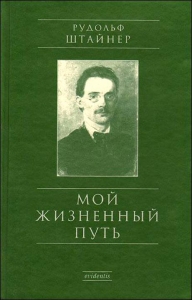






Комментарии к книге «Пустота – это радость, или Буддийская философия с прищуром третьего глаза», Артур Пшибыславски
Всего 0 комментариев